Кшиштоф Мейер Дмитрий Шостакович. Жизнь, творчество, время
© 1995 by Bastei Lübbe AG, Köln,
© Издательство «Композитор» (Санкт-Петербург),
© Оформление ООО «Издательство „АСТ“», 2019
* * *
Предисловие
Изучение жизни и творчества выдающегося современного композитора в принципе не должно вызывать больших затруднений: ведь эта музыка создается, можно сказать, на наших глазах, и даже если деятель искусства уже умер, то еще живы люди, которые находились с ним в непосредственном контакте, а доступ к первоисточникам вообще не составляет серьезной проблемы. Однако в случае с Дмитрием Шостаковичем дело обстоит совершенно иначе. С одной стороны, большую часть жизни он играл роль ведущего советского композитора, музыку которого исполняли, записывали и комментировали чрезвычайно часто. С другой же стороны, усиленная пропаганда его произведений десятилетиями определялась политической ситуацией, а информация, распространяемая о нем, была тенденциозной и даже лживой, в то время как доступ к документам — необычайно трудным, а нередко просто невозможным.
Своеобразие Шостаковича заключается еще и в том, что нелегко найти в истории музыки творца, в такой же степени обусловленного политическим, общественным и культурным контекстом. Он был композитором, столь крепко связанным с Россией, что трудно себе представить расцвет его таланта за границами его родины — в этом отношении он принципиально отличался от Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, для которых Запад был не менее подходящим местом для жизни и работы, при условии, что их музыка находила там своих слушателей. Каждое значительное произведение Шостаковича обычно было откликом на конкретные события, происходившие в стране, так что его не без оснований называли «летописцем эпохи». И дело не только в сочинениях «к случаю», вроде Второй симфонии, написанной к 10-й годовщине Октябрьской революции, или оратории о лесонасаждении в пустынях, появившейся в ответ на директиву Сталина о преобразовании природы. Гораздо существеннее эмоциональная программность многих других произведений — крайне трудно поддающаяся аналитическому описанию, хотя и отчетливо ощущаемая. С этой точки зрения Шостакович был композитором с глубокими корнями в русской традиции, проявившейся в творчестве многих композиторов, а особенно Мусоргского, Чайковского (программность которого часто носила откровенно эксгибиционистский характер) и Рахманинова. Русские любители музыки испокон веку отличались необыкновенно эмоциональным восприятием музыки, и нет ничего удивительного в том, что творчество Шостаковича, несмотря на свою сложность и несомненное новаторство, быстро нашло глубокое понимание у слушателей.
Однако программность музыки Шостаковича, декларируемая как им самим, так и многими музыковедами, и поныне не нашла удовлетворительного истолкования — примеров различного рода двусмысленностей можно привести немало. Так, знаменитая тема из первой части Ленинградской симфонии (официально названной «симфонией гнева и борьбы», «симфонией о людях Советского Союза» и ставшей музыкальным символом борьбы с фашизмом), которая обычно интерпретируется как картина наступления гитлеровских орд, в действительности основывается на мотивах из оперетты Легара «Веселая вдова». К трагичной Пятой симфонии Шостакович приделал пустое, помпезно оптимистическое завершение — и не потому, что был не способен сочинить более интересный финал, а, скорее всего, для того, чтобы со всей выразительностью показать слушателям сущность пропагандистского оптимизма, который был обязателен для искусства наимрачнейших лет Великого террора; официальная же критика, мало разбирающаяся в музыке, истолковала это как «положительное разрешение конфликта» и признала Пятую симфонию примером «оптимистической трагедии» в музыке. Источником дополнительных недоразумений стали высказывания композитора — зачастую противоречивые, сбивчивые и намеренно вводящие в заблуждение и при всем том служившие официальной критике почвой для интерпретации его музыки.
Тем временем любители музыки лучше или хуже, но прочитывали послание, содержащееся в произведениях Шостаковича. В эпоху, когда лишь немногие из советских писателей не продались преступной системе, когда кино, живопись и архитектура находились в полной зависимости от власти Сталина, музыка Шостаковича, по природе своей ускользающая от конкретного истолкования, заключала в себе некую область свободы. Для тысяч слушателей композитор стал не только символом большого искусства, но и прежде всего автором музыки, способной выражать ощущения измученных россиян. Следовательно, во времена Сталина он был одновременно официальным «номером первым» в музыкальной иерархии и творцом, произведения которого доставляли режиму беспрерывное беспокойство и воспринимались многими слушателями как протест против тирании, сеющей зло и насилие. В наибольшей мере это бунтарство прослушивалось в симфониях, и поэтому премьера каждой из них, начиная с Пятой, становилась чуть ли не национальным праздником.
Двукратное — в 1936 и 1948 годах — осуждение и попытки морального уничтожения композитора сделали из него героя в глазах угнетенного общества. Его верноподданническим и идеологически ортодоксальным высказываниям не придавалось большого значения, тем более что с 1930-х годов немногие художники и ученые сумели избежать необходимости делать подобные заявления. Гораздо большее внимание привлекало повседневное поведение Шостаковича: его беспримерная скромность и доброта, чувство товарищества по отношению к другим музыкантам, неустанная готовность помогать притесняемым и преследуемым. Было известно, что, хотя с конца 1940-х годов Шостакович был пригвожден к позорному столбу партийным мнением, он неоднократно пытался помочь родственникам арестованных, несмотря на то что его возможности были очень ограниченными. Необычность этой личности еще более подчеркивалась эксцентричным поведением и труднопредсказуемыми реакциями, порождавшими анекдоты, а с годами и легенды.
Исключительное положение Шостаковича в России имело огромное влияние на судьбу его музыки в Европе и особенно в Америке. Ее популярность в мире быстро достигла столь необычайных размеров, что превзошла популярность музыки других корифеев нашего столетия — Игоря Стравинского, Белы Бартока, Арнольда Шёнберга, Пауля Хиндемита и многих других. Особенно это проявилось во время Второй мировой войны, когда советская пропаганда вовсю использовала факт создания симфонии в осажденном Ленинграде: благодаря этой симфонии Шостакович стал для Сталина весьма удобным «экспонатом» при культурных контактах с союзниками. В США за сезон 1942/43 года Седьмая симфония была исполнена 62 раза и с 1943 года транслировалась радиостанциями. За право первого исполнения Восьмой симфонии «Си-би-эс» заплатила русским десять тысяч долларов. Развязанная Андреем Ждановым после войны травля Шостаковича содействовала дальнейшему росту популярности его музыки за рубежом. Так как во время холодной войны любые нападки государства на советских деятелей культуры повышали за границей интерес к их творчеству, на Западе Шостакович стал восприниматься в качестве некоего символа — как жертва террора и одновременно как художник, чей талант скован политическими барьерами. Но в Советском Союзе благодаря различным компромиссам и несомненному оппортунизму ему удавалось сохранять положение «ведущего композитора».
История создания этой книги очень давняя: потребовались многие годы, чтобы она смогла появиться в ее настоящем виде. Первоначальный вариант, вышедший в свет в Польше (Краков, 1973 и 1986) и в ГДР (Лейпциг, 1980), был безжалостно искромсан цензурой. К тому же он по необходимости носил фрагментарный характер, поскольку, как уже говорилось, и прочая существовавшая при жизни Шостаковича обширная, хотя и односторонняя и поверхностная, литература о личности и творчестве этого художника страдала неполнотой информации, а доступ к важным источникам оставался закрытым. Еще в 70-е годы облик Шостаковича воспринимался совершенно искаженно и у него на родине, и за рубежом. В Советском Союзе он изображался как коммунист, борец за мир и ведущий представитель социалистического реализма. На Западе же, напротив, он считался прежде всего жертвой политической системы, которая частично, а возможно, даже полностью загубила его огромный талант. Авторы повторяли один за другим невыносимые банальности, часть которых надолго прилипла к Шостаковичу и некоторым его творениям.
Ситуация претерпела изменение лишь после его смерти, с выходом в свет двух важных монографических работ — Софьи Хентовой в Советском Союзе и Соломона Волкова в Соединенных Штатах.
В основу двухтомной монографии Хентовой были положены многочисленные воспоминания современников Шостаковича и архивные источники, до которых автору удалось добраться (что в Советском Союзе никогда не было просто, так как даже документы, относящиеся к культуре, были там труднодоступны и считались чуть ли не государственной тайной). Потому-то так ценны содержащиеся в этой публикации многочисленные подробности, во многом по-новому освещающие биографию композитора. К сожалению, информация второстепенного значения рассматривается в книге наравне с фактами принципиальной важности, вдобавок монография изобилует неточностями, но прежде всего целиком лжива в политическом отношении, показывая Шостаковича исключительно как коммунистического композитора, верного партии.
Так называемые воспоминания Шостаковича, записанные Волковым, сыграли огромную роль, поскольку впервые широко показали втягивание композитора в машину тоталитарной системы и его зависимость от морально выродившегося музыкального окружения во главе с Тихоном Хренниковым. И даже если эта книга является апокрифом, то все равно трудно переоценить ее значение для биографии Шостаковича. Ее недостатком стали отсутствие общественно-политического контекста излагаемых высказываний и тенденциозное представление многих эпизодов из жизни композитора, обусловленное мемуарным типом повествования.
В своей книге я старался избежать изъянов, свойственных работам Хентовой и Волкова. Она является попыткой представить жизнь и творчество Шостаковича в историческом, политическом, общественном, а также музыкальном контексте. Отсюда многочисленные отступления и множество страниц, посвященных достаточно общим вопросам — хотя бы таким, как русский художественный авангард 1910–1920-х годов, без сомнения, повлиявший на эволюцию личности молодого Шостаковича.
Среди использованной литературы, список которой находится в прилагаемой библиографии, особенно две позиции имеют кардинальное значение для познания советской культуры, а также самого Шостаковича. Первая из них — «Утопия у власти» Михаила Геллера и Александра Некрича, обстоятельное, вдумчивое исследование коммунистической власти, содержащее также много чрезвычайно ценных сведений об искусстве, особенно о литературе. Другая же — история советской музыки, написанная Борисом Шварцем и изданная сначала в США, а позднее, в расширенном варианте, в ФРГ. В этом весьма тщательно документированном труде заключена бесценная информация, касающаяся генезиса и восприятия музыки Шостаковича, и в первую очередь с научной объективностью освещены происходившие в то время политико-идеологические процессы.
Настоящая монография представляет историю жизни Шостаковича преимущественно в хронологическом порядке. Однако принцип этот нарушается там, где исчерпывающее обсуждение конкретного вопроса требует экскурса в прошлое; так происходит, например, в разделе, посвященном пианистической деятельности Шостаковича, и при освещении его педагогической работы. Я отказался от завершающего резюме, поскольку считаю, что тема не исчерпана и, несомненно, найдутся авторы, которые захотят ее развить. Вместо этого я решился включить в книгу несколько личных воспоминаний о встречах с великим мастером и надеюсь, что они бросят дополнительный свет на эту необыкновенно захватывающую фигуру.
Нынешний вид представляемого читателю труда был бы невозможен без участия Дануты Гвиздалянки, чьи весьма ценные замечания как относительно общей конструкции книги, так и многих деталей были для меня неоценимой помощью и постоянным стимулом к работе. Я хотел бы выразить здесь сердечную благодарность моей несравненной спутнице жизни.
Хочу высказать мою искреннюю признательность редактору русского издания книги Алексею Вениаминовичу Вульфсону за его чрезвычайно полезные советы и вдумчивую, творческую работу над рукописью. Слова благодарности я обращаю также к Манаширу Абрамовичу Якубову и Ольге Викторовне Домбровской за любезное содействие в уточнении целого ряда спорных дат и фактов.
АвторГлава первая 1906–1919
История семьи. — Детство. — Первое соприкосновение с музыкой. — Октябрьская революция. — Начало профессионального обучения
О происхождении Дмитрия Шостаковича известно довольно много, главным образом относительно родни со стороны отца, вышедшей из Польши. Шостаковичи (в сохранившихся документах, охватывающих период более двухсот лет, встречается разное написание фамилии: Шостакович, Шостакевич, Шестакович и даже Шустакевич) жили в Вильно. Прадед композитора, Петр Шостакович, родился в 1808 году. По окончании обучения в Виленской медико-хирургической академии он участвовал в Ноябрьском восстании (1831), за что был сослан в Екатеринбург на Урале. Изгнание с ним разделила его жена Мария Юзефа Ясиньска, с которой он имел двух сыновей — Болеслава Артура и Владислава. В 1858 году Шостаковичи переехали в Казань, а затем в Томск. В доме говорили по-польски и поддерживали связь со многими поляками, в том числе с беглецом из одного из сибирских каторжных лагерей Г. Башкевичем.
Дед будущего композитора, Болеслав Шостакович, вступил в революционную организацию «Земля и воля» — одну из наиболее радикальных групп социалистов, руководимую поляком Павлом Маевским. Он принимал участие в Январском восстании 1863 года, а в 1864 году вместе с Варварой Шапошниковой, вдовой доктора Калистова, организовал побег из Москвы Ярослава Домбровского, ставшего впоследствии генералом, героем Парижской коммуны. Чтобы избежать возможных преследований, Шостакович выехал вместе с Варварой в Казань, где, однако, в 1866 году был арестован по подозрению в соучастии в покушении на царя Александра II, состоявшемся 4 апреля того же года. В действительности ни Болеслав, ни Варвара не принимали непосредственного участия в этой акции, однако укрывали заговорщиков, и среди них, между прочим, Якуба Поплавского[1]. В ходе следствия всплыло дело Домбровского, и Шостакович, осужденный вместе с девятнадцатью другими революционерами, был приговорен к пожизненной ссылке в Томскую губернию. Уже в изгнании он женился на Варваре. Через несколько лет оба получили разрешение переселиться в Томск, где в то время жил брат Болеслава — Владислав. Когда порядки в отношении ссыльных вновь ужесточились, Шостаковичи в 1872 году были вынуждены переехать в Нарым — небольшой городок в нескольких сотнях километров от Томска.
В 1875 году в Нарыме родился сын героического поляка, которому было дано русское имя Дмитрий; был он одним из семерых детей Шостаковичей[2]. Когда через два года репрессии снова ослабли, семья получила разрешение поселиться в Иркутске, а со временем дети даже добились возможности свободно выбирать место жительства. Таким образом Дмитрий, будущий отец композитора, переехал в Петербург, где в 1897 году поступил на естественное отделение университета. В скором времени он уже пользовался славой талантливого натуралиста, поддерживал тесные контакты со студентами великого ученого Дмитрия Менделеева, а по окончании учебы поступил на работу в петербургскую Главную палату мер и весов в качестве инженера-химика. Свободное владение польским языком он сохранил до самой смерти.
В 1902 году Дмитрий Болеславович Шостакович познакомился с молодой русской женщиной Софьей Васильевной Кокоулиной, которая тоже родилась в Сибири. Ее фамилия произошла от прозвища Какосбулес, что по-гречески означает «плохой советчик», поэтому, скорее всего, ее предок прибыл в Россию в XV веке вместе с группой греческих монахов, приглашенных Василием III для того, чтобы обеспечить правильное толкование религиозных книг. Однако со временем монахи проявили такое рвение в борьбе с разложением и деморализацией православной церкви, что в 1525 году были сосланы в Сибирь. Написание прозвища Какосбулес, подвергшись русификации, приобрело вид Какосвули, а позднее Кокоулин[3]. Софья, третья из шестерых детей Василия Яковлевича и Александры Петровны Кокоулиных[4], родилась 10 марта 1878 года в Бодайбо. Поскольку ее отец (родился в 1850 году в Киренске, умер в 1911 году в Бодайбо) был управляющим золотыми приисками на реке Лене в Якутии, Софья смогла получить образование в закрытом Иркутском институте благородных девиц, который в 1896 году, после шести лет обучения, окончила с наивысшими наградами. За исключительные успехи в учебе Софья во время визита Николая II была представлена царю, перед которым танцевала мазурку из оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), Как большинство детей из интеллигентных семей, она брала уроки игры на фортепиано. Занятия музыкой обнаружили столь большие способности девушки в этой области: в Иркутске она выступала как солистка, а кроме того, дирижировала церковным хором. Так что, когда в 1898 году Василий Кокоулин, не в силах примириться с неимоверной коррупцией среди администрации рудника и с невозможностью изменить нечеловеческие условия жизни горняков, потрясающе описанных позднее его дочерью Надеждой, отказался от должности и перебрался с семьей в Петербург[5], Софья поступила в консерваторию, подавая большие надежды как пианистка. Она училась в тот период, когда еще преподавала Есипова, а на эстраде концертировали Рахманинов и Скрябин. Однажды она даже аккомпанировала Шаляпину.
В 1903 году Дмитрий Болеславович и Софья Васильевна вступили в брак. Это поколение тоже выказывало революционные наклонности — факт, тем более заслуживающий быть подчеркнутым, что все жизнеописание будущего композитора свидетельствует о чем-то прямо противоположном: он не обнаруживал ни смелости, ни предприимчивости своих предков в борьбе с ненавистной системой власти. Родители Шостаковича проявляли интерес к народничеству; народники представляли радикальное политическое движение, главной целью которого была крестьянская демократия, понимаемая как российский путь к социализму.
В круг ближайших друзей Шостаковичей по-прежнему входили поляки, и прежде всего семья Лукашевичей — эмигрантов, уже давно проживавших в Петербурге[6]. Постоянным гостем в их доме была известная детская писательница Клавдия Лукашевич, крестная мать Дмитрия. Она сыграла впоследствии важную роль в жизни композитора, который, в свою очередь, после смерти Клавдии хлопотал о пенсии для ее осиротевших детей.
В 1903 году появилась на свет первая дочь Шостаковичей — Мария. Вторая дочь, Зоя, родилась в 1909-м, однако она была уже третьим ребенком, поскольку 12 (по новому стилю 25) сентября 1906 года родился единственный сын Шостаковичей. Ему было дано имя отца — Дмитрий. Дом, в котором появился на свет будущий композитор, стоял на небольшой тихой улице Подольской под номером 2, неподалеку от Технологического института. Однако вскоре Шостаковичи переехали на Николаевскую улицу (в советское время переименованную в улицу Марата) и поселились там на самом верхнем, пятом этаже дома № 9. Там и прошли первые годы жизни Дмитрия.
Музыка занимала важное место в семейной жизни Шостаковичей. До появления на свет первого ребенка госпожа Шостакович настойчиво и не без успеха продолжала заниматься игрой на фортепиано. Позднее семейные обязанности взяли верх, но она не оставляла музыки и не раз садилась за фортепиано, чтобы аккомпанировать мужу, который с увлечением пел песни Алябьева, Варламова или любимые цыганские романсы.
По столь зрелому произведению, каким является Первая симфония, написанная Шостаковичем в девятнадцатилетнем возрасте, можно было бы предположить, что воспитанный в музыкальной атмосфере Дмитрий уже с самых ранних лет проявлял феноменальную одаренность и — подобно Моцарту, Шопену или Прокофьеву — пробовал сочинять в пять или шесть лет. А между тем в детстве маленький Митя был обычным ребенком: мальчик не занимался музыкой, а играл вместе со своими товарищами по коммерческому училищу. «До тех пор, пока не начал учиться музыке, — вспоминал он впоследствии, — желания учиться не выражал. Интерес к музыке некоторый чувствовал. Когда у соседей собирался квартет, то я, припадая ухом к стене, слушал»[7].
Когда старшей сестре Дмитрия Марии исполнилось девять лет, мать начала учить ее игре на фортепиано. Девочка проявляла большие способности и вскоре уже играла сонатины Клементи и сочинения Шпиндлера. Затем ее приняли в музыкальную школу Гляссера, где за небольшую плату учили игре на фортепиано и основам теории музыки, готовя к поступлению в консерваторию. В дальнейшем Мария стала профессиональной пианисткой, преподавателем обязательного фортепиано в консерватории и в Ленинградском хореографическом училище. Зато Зоя, которая тоже начала учиться музыке на девятом году жизни, не выказывала к ней ни любви, ни способностей и позднее посвятила себя другой профессии — стала ветеринаром.
Маленький Митя тоже сел за рояль, как только ему исполнилось девять лет. Хотя мать и не желала, чтобы он избрал профессию музыканта, но хотела, чтобы, в соответствии с обычаями ее круга, все дети имели пусть самое элементарное музыкальное образование. «Софья Васильевна обучала его просто, как учили и ее в детстве, руководствуясь скорее инстинктом, нежели знаниями и системой, но, что интересно и примечательно, именно простая педагогика матери заложила основы будущего фортепианного мастерства Шостаковича»[8]. В том же году мальчик впервые посетил оперу, где видел «Сказку о царе Салтане» Римского-Корсакова, которая ему необыкновенно понравилась.
Уроки фортепиано начались летом, а уже в конце года оказалось, что у Мити абсолютный слух и превосходная память. Этим способностям сопутствовали большая техническая свобода и легкость чтения нот. Через несколько месяцев мальчик уже пробовал сочинять: под влиянием Первой мировой войны возникла поэма для фортепиано «Солдат». Об этом сочинении его автор рассказывал через много лет, что «это была очень длинная пьеса, полная иллюстративных деталей и словесных пояснений (например: „в этом месте солдат выстрелил“ и т. д.)». Поэма кончалась смертью солдата, что тоже нашло выражение в комментарии, написанном детской рукой над нотами.
1915 год был трудным военным годом. Хотя разыгрывающиеся вокруг события непосредственно не затрагивали семьи Шостаковичей, бытовые условия становились все более тяжелыми. Мать не могла теперь посвящать детям столько времени, как прежде, и маленького Митю, который с каждым днем все больше увлекался музыкой, часто предоставляли самому себе. Он часами просиживал за фортепиано в поисках новых, незнакомых созвучий, вслушиваясь в них и пробуя их записывать.
Наступил 1917 год. Одиннадцатилетний мальчик был слишком мал, чтобы понять значение революционных событий. Тем не менее он пережил несколько минут, которые запомнились ему на всю жизнь. Вместе с друзьями он проникал туда, куда не могли попасть взрослые, видел многое, хотя не все понимал, слышал из разных уст разнообразные мнения. Во время Февральской революции он случайно оказался на Невском проспекте, где проходила демонстрация рабочих. Он слышал скандирование революционных лозунгов, прерываемое залпами полицейских карабинов, на его глазах застрелили молодого рабочего; это первое столкновение со столь ужасной смертью было для него огромным потрясением. 3 апреля Митя стоял на площади перед Финляндским вокзалом, где рабочие, матросы и солдаты ожидали приезда Ленина из эмиграции, и слышал его выступление. Октябрьская революция сразу же нашла отражение в творчестве мальчика: он написал Гимн свободы, Траурный марш памяти жертв революции, Маленькую революционную симфонию.
С начала революции в доме Шостаковичей больше не было прислуги. Таким образом, мать либо готовила еду из того, что ей удавалось достать по карточкам, выстояв невообразимо длинную очередь, либо приносила съестное из какой-нибудь столовой. Несмотря на то что обычно пищи едва хватало для поддержания существования, Софья Васильевна так искусно импровизировала со скупыми запасами, что ей даже удавалось в дни рождения детей устраивать скромные приемы. Митя, казалось, не обращал на это особого внимания. Когда он возвращался из школы, то обычно сразу же бросал книжки в угол и начинал искать еду; если же в кладовой оказывалось пусто (а так бывало чаще всего), то он, не жалуясь, выходил во двор и играл с товарищами. На какое-то время положение изменилось к лучшему благодаря продаже семейного имения в Алуште. Это удалось осуществить тете Надежде, которая на вырученные от сделки деньги купила драгоценные камни, ставшие в период галопирующей инфляции значительно более надежным вложением капитала.
Митя посещал коммерческое училище. Ни с одним предметом он не испытывал затруднений и во всем, что делал, всегда хотел быть самым лучшим. Такая добросовестность требовала в то время исключительной стойкости, поскольку по дороге в училище дети неминуемо втягивались в водоворот уличных дискуссий, а иногда и беспорядков. В училище, которое посещал Митя, учились дети Троцкого и Керенского. Учащиеся постоянно дискутировали на тему текущих событий, а их реакция проявлялась подчас даже более бурно, чем у взрослых. Поэтому нет ничего удивительного в сказанных Шостаковичем позднее словах: «Октябрьскую революцию я встретил на улице»[9].
Вскоре после прихода большевиков к власти разразилась Гражданская война. В стране воцарился хаос. Деньги утратили всякую ценность, а продовольствие стало бесценным. Фабрики и заводы закрылись, транспорт остановился. Были ликвидированы суд и вся правовая система. Российские интеллигенты, потрясенные тем, что ход революции оказался непохожим на то, что они себе столько лет представляли, находили время от времени достаточно сил, чтобы выступить против растущей анархии. Забастовка государственных служащих, учителей, врачей и инженеров парализовала жизнь страны, так как многие протестующие начали выезжать в провинцию. Однако семья Шостаковичей заняла по отношению к новой власти лояльную позицию и не покинула город.
Несмотря на трудное время, в доме Шостаковичей часто музицировали. Родители играли вместе с друзьями, и хотя чаще всего это были только любители, они исполняли шедевры камерной музыки, открывая перед юным Дмитрием мир новых впечатлений и радостей. Постоянно занимался музыкой и сосед — инженер, неплохой виолончелист. Именно из его квартиры — прикладывая к стене ухо или выбегая в коридор — мальчик впервые в жизни услышал квартеты и трио Гайдна, Моцарта, Бетховена, Бородина и Чайковского. Еще и через сорок лет Шостакович будет вспоминать эти минуты, считая, что они сыграли большую роль в формировании его музыкальной личности.
В это же время Митя завязал знакомство с выдающимся художником Борисом Кустодиевым. Познакомились они через дочь художника Ирину, которая была соученицей Мити. Кустодиев много раз слышал игру и импровизации мальчика и поражался его способностям. Между двумя артистами — старым парализованным живописцем и робким юным музыкантом — установилась прочная духовная связь, не прерывавшаяся до самой смерти Кустодиева в 1927 году. Благодаря этой дружбе появились два портрета: один, часто воспроизводимый, — маленький Шостакович в блузе-матроске, держащий в руках ноты Шопена (на портрете дарственная надпись художника: «Моему маленькому другу Мите Шостаковичу»), и другой, менее известный рисунок, который изображает мальчика, играющего на рояле.
Талант Дмитрия развивался необыкновенно быстро. Мальчик делал большие успехи в игре на фортепиано, а количество его собственных сочинений росло с каждым днем. Мать относилась к его композиторским опытам с явным скептицизмом, но, видя несомненные пианистические способности сына, решила отдать его в музыкальную школу Гляссера, так же, как раньше старшую дочь. Дмитрию было в то время неполных десять лет.
Школа Гляссера размещалась на Владимирском проспекте, неподалеку от дома Шостаковичей. Ее руководитель, поляк Игнаций Гляссер, некогда друг Падеревского, был, как и сестры Гнесины, известным и пользующимся признанием педагогом. Представляя мальчугана, мать сказала Гляссеру:
— Я привела вам, кажется, необыкновенного мальчика.
На что Гляссер ответил:
— Какая же мать считает своего сына обыкновенным?[10]
Первый год Дмитрий учился в классе жены Гляссера и только в 1916 году перешел к нему самому. На переходном экзамене, который в этой школе имел форму концерта, он играл чуть ли не половину пьес из «Детского альбома» Чайковского. Гляссер включил в репертуар ученика сонаты Гайдна и Моцарта, а на следующий год — фуги Баха. Немного спустя мальчик уже играл все 48 прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира».
Учитель сразу заметил большие пианистические способности ученика и начал их усиленно развивать. «Гляссер был опытный, серьезный педагог, и его уроки принесли мне немалую пользу», — вспоминал позднее Шостакович[11]. Главный упор Гляссер делал на технику, не пренебрегая, впрочем, выразительной стороной. Зато к композиторским опытам Шостаковича педагог относился весьма скептически и, так же как и родители мальчика, видел в нем прежде всего пианиста. Однако талант будущего композитора развивался, по-видимому, настолько быстро, что Гляссер перестал поспевать за своим учеником, поскольку в автобиографии можно прочитать: «В феврале 1917 года мне стало скучно заниматься у Гляссера. Тогда мать решила меня и старшую сестру показать профессору Петроградской консерватории А. А. Розановой…»[12]
Розанова имела современные взгляды на музыкальное образование и, очевидно, первой по достоинству оценила композиторский талант мальчика. Она поняла, что необходимо посвятить ему гораздо больше внимания, чем другим ученикам, и долго колебалась относительно выбора методики для формирования этого незаурядного музыканта. Незадолго до поступления Дмитрия в консерваторию она отвела его к Григорию Бруни, который преподавал импровизацию.
«Бруни посадил меня за рояль и попросил сымпровизировать „Голубой вальс“. Моя импровизация его удовлетворила, затем он попросил сыграть что-нибудь восточное. Это у меня не вышло, но тем не менее Бруни нашел у меня „данные“ и взял меня к себе в ученики. Уроки заключались в следующем: Бруни, прохаживаясь по комнате, просил меня импровизировать и, неудовлетворенный, сгонял меня со стула и сам начинал импровизировать. Эти уроки длились весну и лето 1919 года. Потом я их бросил»[13].
Примерно в это же время на сцене Мариинского театра тринадцатилетний Шостакович увидел «Евгения Онегина». Правда, фрагменты оперы он знал благодаря домашнему музицированию, многие места прекрасно помнил, но только сейчас услышал произведение Чайковского в оригинальном звучании. Впечатление было настолько сильным, что он несколько недель ходил потрясенный и вскоре знал на память всю оперу!
Так как юный Шостакович продолжал сочинять с неослабевающим воодушевлением, родители, хотя и по-прежнему полные скептицизма, решили показать его замечательному пианисту и дирижеру, ученику Франца Листа Александру Ильичу Зилоти. Композитор писал впоследствии: «Отец и попросил его [Зилоти] послушать мою игру. Он согласился. И через несколько дней я, весь в волнении, играю для него. Шутка ли, ведь моя судьба решается. Кончил играть. Зилоти помолчал и говорит матери: „Карьеры себе мальчик не сделает. Музыкальных способностей нет. Но, конечно, если у него охота, что ж… пусть учится“. Плакал я тогда всю ночь… <…> Видя мое горе, повела меня мать к А. К. Глазунову»[14].
В те годы Глазунов занимал должность директора Петроградской консерватории. Для российской музыкальной общественности он был одним из величайших авторитетов. Подросток впервые в жизни встретил музыканта такого ранга. С огромным волнением он показал мастеру свои произведения, а потом сыграл на рояле. И эта встреча оказалась сверх всяких ожиданий удачной: Глазунов не только посоветовал юному Шостаковичу продолжать заниматься композицией, но даже выразил уверенность, что ему самое время поступать в консерваторию. Глазунов передал Дмитрия профессору Петрову, который взялся подготовить его к вступительным экзаменам по теории и сольфеджио. Вскоре Глазунов представил Шостаковича Максимилиану Штейнбергу, одному из профессоров композиции, который тоже признал, что мальчика следует принять в консерваторию, и даже обещал взять его в свой класс. Через месяц Шостакович сдал вступительные экзамены и осенью 1919 года стал тринадцатилетним (!) студентом Петроградской консерватории.
Глава вторая 1919–1924
Педагоги в консерватории. — Тяжелые условия жизни. — Работа в кино. — Обстановка в семье
Заниматься Шостакович начал с воодушевлением. Консерватория продолжала пользоваться репутацией лучшего музыкального учебного заведения в стране, хотя после революции она функционировала с большими затруднениями. Зимой здание не отапливалось, и это катастрофически сказывалось на состоянии инструментов, а профессора и студенты вынуждены были сидеть на занятиях в пальто, шапках и перчатках. Шостакович относился к наиболее прилежным и упорным слушателям, несмотря на то что условия, в которых ему приходилось жить, становились все хуже.
Деньги в тот период совершенно утратили ценность, и покупки производились путем обмена. На улицах можно было услышать: «Живем только благодаря нашему роялю» или: «А нас поддерживают портьеры из спальни и старые отцовские часы». Хотя Дмитрий Болеславович работал в торговле и занимал руководящий пост, заработанных им денег не хватало даже на основные продукты питания. Матери пришлось давать уроки фортепиано, за которые она получала хлеб. Родители часто отказывали себе в еде, чтобы больше осталось детям. И все же младший, Дмитрий, получил анемию. Нормы на продукты в то время достигли невероятно низкого уровня. К примеру, сахара жителям Петрограда полагалось всего четыре ложки в месяц! А суп в столовых, случалось, готовили из крыс. В биографии Шостаковича, написанной Виктором Серовым, читаем:
«Когда летом 1919 года Надежда приехала в Петроград, дети Шостаковичей встретили ее криками: „Мы голодные, тетя Надя, мы голодные!“ Надежда привезла с собой гречневую крупу, которая в Екатеринбурге была настоящим деликатесом, но, увидев ее, дети погрустнели: „Да мы все время только это и едим!“»[15]
Несмотря на столь трудные условия, Дмитрий, полный оптимизма и энтузиазма, целиком отдавался музыкальным занятиям. Он учился одновременно на отделениях композиции и фортепиано, работая с утра до ночи.
Традиции композиторского отделения в Петрограде были заложены Римским-Корсаковым. Максимилиан Штейнберг, его ученик, а впоследствии зять, принадлежал к тем, кто наиболее ревностно следовал этим традициям, применяя методы обучения, выработанные автором «Золотого петушка» и учителем таких композиторских знаменитостей, как Александр Глазунов, Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев. В преподавании композиции главный упор делался на «точные» дисциплины — гармонию, контрапункт и фугу, входившие в программу первых лет обучения; «свободная композиция» начиналась только на последних курсах. Однако Шостакович, хотя и много работавший над основами мастерства, с самого начала писал «свободные композиции» — свои первые помеченные опусом сочинения. Штейнберг не только учил Шостаковича теоретическим предметам, но и заботился о его общем музыкальном развитии. На групповых занятиях Митя много играл в четыре руки, анализировал произведения, изучал инструментовку. Штейнберг придавал особое значение гармоническому анализу, главным образом модуляции.
«Учился я с большим увлечением, я бы сказал — даже восторженно, — вспоминал Шостакович спустя годы. — Все, чему меня учил Штейнберг, я воспринимал с жадностью, впитывая, как губка, все его указания и советы. Штейнберг умело и чутко воспитывал в своих учениках хороший вкус. Ему я прежде всего обязан тем, что научился ценить и любить хорошую музыку. <…> М. О. Штейнберг внушил мне любовь к русской и зарубежной классике»[16].
Однако если в своих воспоминаниях Шостакович отзывается о Штейнберге положительно, то делает это, вероятно, благодаря врожденному такту и хорошему воспитанию, ибо Штейнберг был человеком несимпатичным, черствым и, как правило, предпочитающим менторский тон. Его взаимоотношения с Шостаковичем с годами становились все более сложными. С какого-то времени он вообще перестал понимать музыку своего бывшего ученика, а бывало (особенно в 30-е годы), не вполне лояльно вел себя по отношению к нему.
После первого года учебы Шостакович сменил профессора фортепиано, перейдя из класса Александры Розановой к Леониду Владимировичу Николаеву. Впрочем, этот шаг был сделан не без колебаний и внутреннего сопротивления, поскольку за три года обучения Шостакович очень привязался к Розановой и не хотел обидеть ее переходом в другой класс. Розанова издавна была связана с семейством Шостаковичей: некогда у нее училась Софья Васильевна, теперь, уже в течение нескольких лет, — Маруся, а через два года эту эстафету подхватила Зоя. Однако возможность общения с таким замечательным педагогом, каким был Николаев, предопределила решение Дмитрия, который получал шанс познакомиться с другим подходом к пианизму и проблемам интерпретации.
Николаев был утонченным джентльменом с безукоризненными манерами. Он внимательно наблюдал за успехами ученика как в игре на фортепиано, так и в композиции и не раз посвящал весь урок просмотру новых сочинений, высказывая ценные замечания. «Жаль, что он не преподавал композицию, — вспоминал позднее Шостакович. — Его советы в этой области всегда отличались тонким пониманием формы и стиля, безупречным вкусом»[17].
Между сорокадвухлетним педагогом и четырнадцатилетним учеником возникла глубокая симпатия. Николаев — ученик Танеева и Ипполитова-Иванова — получил в свое время всестороннее композиторское образование и имел в этой области честолюбивые стремления. К сожалению, все его творения, хотя и отмеченные железной логикой и безупречным мастерством, страдали академизмом и отсутствием индивидуальных черт. Правда, Николаев сумел объективно оценить собственное творчество, но это стало для него такой трагедией, что только спустя годы он смог посвятить себя фортепианному искусству. Заметив в Шостаковиче признаки незаурядной музыкальной индивидуальности, педагог стал питать к нему почти отцовские чувства.
У Николаева учились также будущие выдающиеся пианисты Мария Юдина и Владимир Софроницкий, и вся эта троица вызывала в консерватории необыкновенный интерес. Относительно редкостных композиторских способностей и феноменального слуха Шостаковича ходили легенды, однако особый интерес вызывала его личность. Исаак Бабель, познакомившийся с ним именно тогда, по воспоминаниям современника, рассказывал через пару лет, что как-то раз «встретил у своих друзей очень молодого человека, почти мальчика, и сразу, с первого же взгляда, почувствовал в нем личность необыкновенную, чем-то отмеченную, наделенную особым, возвышенным даром». Мемуарист продолжает: «Фамилия юноши не говорила Бабелю ничего: Шостакович. Исаак Эммануилович сказал мне, что всегда вспоминает об этой встрече с волнением: она лишний раз убедила его, что есть на свете люди, наделенные каким-то непонятным, неуловимым, но вполне реальным свойством эманации»[18].
Необычной личностью была и Мария Юдина — женщина эксцентричная, всю жизнь увлеченная религией. Она изумляла зрелостью и своеобразием исполнительского стиля, проявляла огромный интерес к современной музыке и поэтому кроме классики с увлечением играла произведения композиторов, в России еще совершенно не известных, — таких как Эрнст Кшенек, Пауль Хиндемит и Бела Барток. Зато Владимир Софроницкий (женившийся на дочери Скрябина) уже в годы учебы создал вокруг себя атмосферу такого поклонения, что его обожали даже больше, чем его собственного педагога (к сожалению, появившаяся у него позднее склонность к алкоголю и наркотикам не позволила полностью развернуться его таланту). Оба эти пианиста оказали несомненное влияние на пианистическое искусство своего соученика. В исполнении Софроницкого Шостакович слышал произведения Шумана, Скрябина и Листа, а Юдина ввела его в мир не только музыкального авангарда, но и музыки Баха и Бетховена, главным образом последнего периода. Игру же самого Дмитрия, принадлежавшего к числу наиболее многообещающих пианистов консерватории, уже в те годы отличал характерный, несколько сухой звук, типичный для всей его последующей исполнительской деятельности.
Шостакович никогда не был непосредственным учеником Александра Глазунова. Директор консерватории только внимательно наблюдал за развитием юноши, бывал на его экзаменах, а порой даже помогал ему материально. Глазунов подчас не вполне понимал музыку Шостаковича, но было общеизвестно, что в современной музыке он совсем не разбирался (к примеру, не выносил большинства сочинений Прокофьева и не терпел атональности). Однако он никогда не упускал случая узнать что-то новое, а о Шостаковиче, в котором Глазунов видел большой талант, он часто говаривал: «Это одна из лучших надежд нашего искусства». В экзаменационных актах можно найти следующие замечания, вписанные рукой Глазунова:
«Исключительно яркое, рано обрисовавшееся дарование. Достойно удивления и восхищения. Прекрасная техническая фактура, интересное, оригинальное содержание (5+)». «Яркое, выдающееся творческое дарование. В музыке много фантазии и изобретательности. Находится в периоде исканий. Переводится в класс свободного сочинения»[19].
Между директором консерватории и студентом, бывшим моложе его на сорок один год, завязались удивительные отношения, основанные не только на музыке, но и на склонности Глазунова к алкоголю. В тот период достать спиртные напитки было очень трудно, поскольку после революции, когда рухнули рыночные отношения, не хватало и водки. Люди пили спирт, формалин, одеколон и сами производили самогон, которым торговали из-под полы, хотя за это нелегальное занятие можно было поплатиться жизнью. Глазунов, который время от времени впадал в многодневные запои, полностью выключавшие его из всякой деятельности, узнал о том, что отец Шостаковича работает в учреждении, связанном с внутренней торговлей, и имеет возможность доставать алкоголь. И Митя, который часто улаживал различные дела по поручению Глазунова: носил письма в разные управления, ходил в филармонию, — поставлял ему также алкоголь от отца. Это было очень рискованно и грозило расстрелом, тем не менее Шостакович занимался этим довольно долго. Через много лет, когда отец композитора уже умер, а Глазунов находился за границей, эта история каким-то образом распространилась среди музыкантов. И в Союзе композиторов тут же нашлись люди, утверждавшие, что у Шостаковича никогда не было таланта и если бы он не подкупил Глазунова спиртом, то не смог бы получить диплом.
Алкоголизм Глазунова сказывался на занятиях: одетый в толстую шубу, с неизменной сигарой в руке, он часто попросту засыпал на уроке. Он всегда думал очень медленно, говорил тихо и невнятно, однако был необыкновенным педагогом и большим эрудитом, у которого студенты (если только имели желание) могли почерпнуть исключительно много полезного. Поражали его феноменальная музыкальная память и фантастический абсолютный слух. Замечательная память распространялась и на повседневные дела: он знал всех студентов, их работы, ход экзаменов и помнил все это даже спустя годы. Глазунов умел играть на многих инструментах и был хорошим дирижером. Ему посчастливилось лично знать не только классиков русской музыки во главе с Чайковским и Римским-Корсаковым, но и многих выдающихся творцов Запада, например, Ференца Листа, который однажды специально для него играл Бетховена. Все это чрезвычайно импонировало молодежи. Глазунов посвящал консерватории все свое время, жил ее делами, а педагогика была его призванием. Он один из немногих превосходно знал музыку Средневековья и Возрождения, искренне восхищался творчеством Орландо Лассо и Жоскена Депре и старался привить эту любовь своим воспитанникам, что было тем более необычным, поскольку в России вообще не признавали старинной музыки: Римский-Корсаков утверждал, что музыка начинается с Моцарта, известно также негативное мнение Чайковского о Бахе. Высказывания Глазунова всегда были скупыми, но необыкновенно образными. К примеру, структуру финала симфонии «Юпитер» Моцарта он сравнивал с композицией Кельнского собора. Еще он часто любил цитировать слова Антона Рубинштейна о рояле: «Вы думаете, это один инструмент? Это сто инструментов!»
Шостакович всегда отзывался о Глазунове с огромной любовью и уважением. В 1962 году, по случаю столетия Ленинградской консерватории, он писал:
«Все экзамены… проводились публично, обычно в переполненном Малом зале. <…>
Не могу забыть торжественную обстановку, в которой происходили экзамены. Переполненный зал, стол, покрытый скатертью, комиссия в составе авторитетнейших музыкантов во главе с Глазуновым. Для каждого из нас переходные экзамены были событием. <…>
На композиторском отделении обстановка была не менее творческой, чем на исполнительских факультетах. Мои товарищи и я проявляли очень большой интерес к изучению музыкальной литературы. Мы постоянно собирались, играли в 4 и 8 рук… <…> Во время экзамена передо мною и студентом Н. А. Малаховским были поставлены ноты — четырехручное переложение какой-то симфонии. Играли мы недостаточно четко и хорошо, очевидно вследствие волнения: в комиссии присутствовал А. К. Глазунов. Когда мы кончили, Александр Константинович спросил нас, знаем ли мы, что это за произведение. Мы смущенно признались, что не знаем. Тогда А. К. Глазунов сказал: „Какие вы счастливые, молодые люди! Как вам много еще предстоит узнать в будущем интересного и прекрасного! Это Вторая симфония Брамса“.
<…> А. К. Глазунов, обычно очень благожелательный на экзаменах у исполнителей и любивший часто ставить 5+, на экзаменах композиторов был строг, требователен и даже придирчив. Здесь он даже спорил, поставить ли студенту 3, 3- или 2+. Помню, как во время экзамена по фуге Глазунов задал мне свою тему, на которую надо было написать фугу со стретто. Я бился, бился, но со стретто у меня ничего не получилось, как я ни старался. Пришлось сдать фугу без стретто, за это я получил 5-. Хотя это не в моих правилах, но я все же пошел объясниться к Александру Константиновичу. Оказалось, что, переписывая тему, я допустил ошибку и одну ноту записал неправильно. Отсюда и пошли все неприятности. Дело в том, что с правильной нотой глазуновская тема давала возможность написать самые различные стретто… Без этой ноты же все возможности словно исчезали.
„Даже если вы и спутали эту ноту, молодой человек, — сказал Глазунов, — вы должны были сами понять, что это ошибка, и исправить ее“»[20].
Известному писателю Константину Федину случилось как-то раз услышать игру Шостаковича у общих знакомых, где присутствовал и Глазунов:
«Чудесно было находиться среди гостей, когда худенький мальчик, с тонкими поджатыми губами, с узким, чуть горбатым носиком, в очках, старомодно оправленных светящейся ниточкой металла, абсолютно бессловесный, злым букой переходил большую комнату и, приподнявшись на Цыпочки, садился за огромный рояль. Чудесно — ибо по какому-то непонятному закону противоречия худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта, с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения… Его музыка разговаривала, болтала, иногда весьма озорно. <…>
…И те, кто обладал способностью предчувствовать, уже могли… увидеть будущего Дмитрия Шостаковича. <…>
Его [Глазунова] спрашивали осторожно, будто на ощупь: — Какого вы мнения, Александр Константинович? Ведь как будто исключительным пианистом обещает быть молодой человек?
Он ответствовал очень тихо, подумывая и передыхая после каждого слова:
— Я… полагал бы… что… может… выработаться… музыкант…
Затем он сопел, пожевывал губами, наклонял голову к вопрошавшему и добавлял:
— Немного… суховат… Но техника… конечно… налицо»[21].
Тем временем условия жизни в Петрограде стали еще тяжелее. Для Шостаковича единственной возможностью продолжать занятия было добиться стипендии. Голод начинал приобретать в городе катастрофические размеры, а стипендиаты получали немного продовольствия. В консерватории список кандидатов на стипендию был очень длинным, во время непростых обсуждений каждый профессор сражался за своего студента, и, следовательно, получение такого пособия становилось почти недосягаемой целью. Иногда решение о распределении стипендий принимал сам Анатолий Луначарский[22]. И именно Глазунов пришел тогда на помощь Шостаковичу. Сначала он энергично боролся за него в консерватории, а потом обратился по этому делу к Максиму Горькому, которого связывали близкие отношения с Луначарским:
«Горький разговаривает с Глазуновым. Говорить надо о многом. Хлеба мало, его делят восьмушками.
Но Глазунов имеет лимит на консерваторию.
— Да, — говорит Глазунов, — нужен паек. Хотя наш претендент очень молод… Год рождения — тысяча девятьсот шестой.
— Скрипач, они рано выявляются, или пианист?
— Композитор.
— Сколько же ему лет?
— Пятнадцатый. Сын учительницы музыки. Аккомпанирует кинокартинам в театре „Селект“ на Караванной улице. Недавно загорелся под ним пол, а он играл, чтобы не получилось паники, но это неважно: он композитор. Он принес мне свои опусы.
— Нравится?
— Отвратительно! Это первая музыка, которую я не слышу, читая партитуру.
— Почему пришли?
— Мне не нравится, но дело не в этом, время принадлежит этому мальчику, а не мне. Мне не нравится. Что же, очень жаль… Но это и будет музыка, надо устроить академический паек.
— Записываю. Так сколько лет?
— Пятнадцатый.
— Фамилия?
— Шостакович»[23].
По вопросу стипендии обратилась к Луначарскому и Клавдия Лукашевич, а поскольку ответ народного комиссара был положительным, Митя смог продолжить учебу. Позднее благодаря поддержке Глазунова он получил стипендию из Бородинского фонда, в который поступали тантьемы от исполнения «Князя Игоря».
В 1922 году семью Шостаковичей постигла трагедия. На второй неделе февраля неожиданно заболел отец. Появились осложнения с системой кровообращения, началось воспаление легких. О больном заботился старый друг семьи хирург Иван Иванович Греков, но истощенный организм не выдержал. Под утро 24 февраля мать вошла в спальню детей и сказала: «Отца больше нет». Марусе было девятнадцать лет, Мите — неполных шестнадцать, Зое — тринадцать. Это произошло как раз в тот период, когда у Дмитрия Болеславовича появилась возможность получить лучшую, более высоко оплачиваемую работу.
Шостаковичи оказались на краю пропасти. Мать устроилась работать кассиром, Маруся начала давать частные уроки. На помощь родственников вряд ли можно было рассчитывать. Тетка Надежда, два года назад похоронившая мужа, математика Галли, повторно вышла замуж и в июле следующего года эмигрировала в Соединенные Штаты. Брат матери, Яков, никогда не интересовался родными; впрочем, он тоже вскоре (в 1925 году) заболел и умер, оставив трех дочерей без средств к существованию. Зато семье Шостаковичей время от времени помогал уже упомянутый хирург Греков, который еще при жизни отца одаривал Митю едой, отчего мальчик всегда в глубине души злился и смущался. Впоследствии помощь Грекова была гораздо более существенной, и благодаря ему Шостаковичи сумели выстоять в самые трудные минуты.
В начале 1923 года у Дмитрия неожиданно развился туберкулез бронхиальных и лимфатических желез. Юноше пришлось перенести операцию, после которой врачи предписали ему провести восстановительный период в Крыму. Это потребовало новых расходов. Мать продала рояль, влезла в долги, и тогда Митя и его старшая сестра смогли на месяц выехать в санаторий.
В это же время там отдыхал Кустодиев с женой, было также несколько музыкантов, благодаря чему юноша смог завязать новые знакомства.
«Быть может, впервые с раннего детства его мысли не были целиком поглощены музыкой. В санатории, в котором Шостакович проходил лечение, он встретил девушку. Таня Гливенко, дочь известного московского учителя литературы, приехала с сестрой в санаторий в Гаспре отдыхать после окончания учебного года. Она была еще школьницей, и ей исполнилось столько же лет, сколько Дмитрию <…>.
Таня, маленькая, тоненькая темноволосая девушка с округлым милым личиком, была веселой, общительной и всеми любимой. Ее всегда окружала молодежь. Шостакович присоединился к этой группе. Время летело незаметно: купались, играли в мяч, гуляли по округе. Вечерами встречались, чтобы послушать музицирующего Шостаковича. Как и другие молодые люди, Дмитрий не мог устоять перед прелестями Тани, но даже и не мечтал о том, что она ответит ему взаимностью. Болезненно несмелый и замкнутый, он боялся обратить на себя внимание. Из-за забинтованной шеи и больших круглых очков он чувствовал себя гадким утенком среди уверенных в себе ровесников. Однако через несколько дней произошло чудо: Митя убедился, что его чувства нашли ответ. Таня обращалась к нему с особым интересом и симпатией, а когда они встречались, ее лицо сияло от радости.
Много лет спустя, уже после смерти всемирно известного композитора, Татьяна Гливенко объяснила: „Как же можно было его не любить! Мы все его любили. Он был таким чистым и искренним, всегда думал о других — что сделать, чтобы другим было лучше, приятней и легче. Никогда не думал и не беспокоился о себе. Если существуют святые, он был одним из них. Таким он был, когда мы познакомились, и таким остался до конца жизни“»[24].
Тане Гливенко было посвящено новое сочинение — Трио для скрипки, виолончели и фортепиано.
По приезде из Крыма Дмитрий вернулся в консерваторию. Глазунов снова хлопотал о материальной помощи для юноши, и, кажется, именно при этом едва ли не единственный раз было замечено, как он вышел из себя. Когда он представлял на собрании кандидатов на стипендию, его помощник возразил: «Имя этого студента мне ничего не говорит». «Если вам ничего не говорит это имя, — возмутился Глазунов, — то зачем вы тут находитесь вместе с нами? Вам здесь нет места…»[25] Шостаковичу удалось получить помощь еще раз, однако в конце 1923 года он решил, что начнет зарабатывать. Он нашел работу тапера в немом кино, и это занятие на два ближайших года поглотило его.
Чтобы стать тапером, Шостакович должен был сдать квалификационный экзамен, заключавшийся в импровизации на рояле, к которой он имел природную склонность и которую всегда очень любил. Сначала он играл в кинотеатре «Светлая лента», а затем в «Сплендид-паласе» и «Пикадилли». Несмотря на пышные названия, эти кинотеатры находились в катастрофическом состоянии.
«Кинотеатр был старый, обшарпанный и смрадный, многие годы не видавший ни свежей краски, ни щетки, с облезшими стенами и кучами мусора в каждом углу. Три раза в день его заполняла толпа зрителей, вносивших снег на обуви и пальто. Люди жевали принесенные с собой в кинотеатр яблоки и лузгали семечки, сплевывая шелуху на пол. Духота, исходившая от сгрудившихся тел и влажной одежды, в сочетании с жаром двух маленьких печей приводила к тому, что под конец сеанса воздух был накален. А когда двери отворялись, чтобы выпустить зрителей и проветрить помещение перед следующим сеансом, по залу гулял сквозняк.
Митя сидел внизу, перед экраном, с мокрой от пота спиной. Близорукими глазами через очки в роговой оправе он внимательно следил за развитием действия, барабаня пальцами по расстроенному пианино»[26].
Деньги, заработанные в кино, были настолько мизерны, что их не хватало даже на покупку галош и перчаток. Не хватало и на квартплату, поэтому однажды жилище Шостаковичей посетил судебный исполнитель.
Работа по вечерам не давала Дмитрию возможности посещать театры и концерты. Позже он отмечал и другое: «Служба в кинотеатрах парализовала мое творчество. Сочинять я тогда совсем не мог, и лишь тогда, когда я совершенно бросил кино, я смог продолжать работать»[27]. Поскольку совмещать работу со службой оказалось Шостаковичу не по силам, через неполных два года он вынужден был отказаться от этих заработков.
Благодаря материальной помощи Надежды Шостаковичам удалось продержаться зиму 1923/24 года. Приблизительно в то же время мать начала обдумывать возможность выезда за границу — если не всей семьи, то по крайней мере детей. Весной она в письме к сестре поделилась идеей организации концертной поездки Мити по Америке. По ее замыслу, они вдвоем могли бы выехать в Соединенные Штаты весной следующего, 1925 года и остаться там до осени, после чего Митя вернулся бы к занятиям в консерватории. Она выражала наивную уверенность, что власти разрешат подобный выезд, если представить им подробный план поездки. Не разбираясь в реалиях американской жизни, она не только не знала, что летом там мертвый сезон, но еще и верила, что без особого труда уговорит какого-нибудь импресарио организовать концерты, едва лишь тот ознакомится с некоторым количеством рекомендательных писем, например от Глазунова.
Мыслью о выезде загорелась и Маруся, признававшаяся тете: «Не думаю ни о чем другом, кроме нашей поездки. Так сильно этого желаю, что, кажется, ни о чем еще в жизни так не мечтала. Ты должна только серьезно написать мне, смогу ли я найти работу, все равно какого характера. Может, в качестве музыканта? А может, я могла бы играть в кино или набрать учеников? Напиши обо всем этом, поскольку я и в самом деле хочу к тебе приехать, если, конечно, ты не против. Дядя Яша говорит, что мы поплывем из Петрограда в Лондон, а из Лондона — в Нью-Йорк…»[28]
Последующие письма также свидетельствуют об отсутствии перспектив улучшения жизни в России и о безнадежности ситуации.
Источником дополнительных волнений в семье была Зоя — младшая сестра Мити, девочка с исключительно трудным и взбалмошным характером, инфантильная и неуравновешенная, о чем, впрочем, она и сама признавалась в письмах к тете Надежде: «Все в доме работают, и только я ничего не делаю. Время от времени Маруся в приступе злости говорит, что я ничего не делаю и ем ее хлеб — и эти слова просто обжигают меня. С олимпийским спокойствием надеваю плащ и иду топиться в Неве. Но из этого никогда ничего не выходит: либо Нева замерзла, либо встречаю кого-нибудь по дороге и вынуждена все отложить. Теперь я открыла новый способ отражать удары судьбы: пишу стихи. Это очень легко и прекрасно успокаивает нервы»[29].
Ко всем несчастьям добавилось еще два происшествия. В ноябре 1924 года в подворотне дома, в котором проживали Шостаковичи, произошло нападение на мать, и она сильно пострадала. Хотя она звала на помощь, но только спустя долгое время Зоя услышала ее крики и сбежала вниз. А через месяц кто-то украл у нее из кассы сто рублей — сумму относительно небольшую по тем временам, однако Шостаковичам и такую трудно было вернуть, так что в результате этого обстоятельства Софью Васильевну вскоре выкинули с работы. Поскольку Митя по состоянию здоровья больше не играл в кино, семья какое-то время жила исключительно на деньги, зарабатываемые Марусей. А Зоя беспечно писала тете:
«Не могу понять, как русский может жить в Америке. Там нет ни настоящей жизни, ни настоящих людей. Все словно машины. У них нет нашей русской живости, нет искусства и талантов. Америкой владеет дух материализма. Что с того, что развита промышленность и царит благосостояние? Зачем все это, если там нет жизни? Я не выдержала бы там и недели. Мне тебя ужасно жаль, тетя Надя. Нет на свете лучше страны, чем наша Россия. Нет ничего лучше, чем Ленинград. Ведь в Америке нет поэзии. А вот у нас, например, приводят в порядок улицу и убрали знак остановки автобуса, так вбили в бочку деревянную палку и написали: „Остановка“. Разве это не восхитительно?»[30]
Глава третья 1919–1926
Коллеги по консерватории. — Занятия по фортепиано и композиции. — Первые концерты и сочинения. — Первая симфония. — Окончание консерватории. — Успех Первой симфонии
Энтузиазм, который молодой Шостакович проявлял на занятиях, его воодушевление, оптимизм и вера в себя были непобедимы. Несмотря на катастрофическую ситуацию, он учился и работал без передышки, а его композиторские достижения того периода и сейчас вызывают изумление. Уже сам факт одновременных занятий в классах фортепиано и композиции свидетельствовал не только о необыкновенном трудолюбии, но и — принимая во внимание тогдашние условия жизни — об огромной самоотверженности. Этим Шостакович заслужил уважение и соучеников и профессоров. А поскольку он не избегал знакомств (хотя врожденная застенчивость отнюдь не облегчала ему завязывания контактов), то относительно быстро оказался в центре внимания Довольно многочисленной группы коллег и друзей.
О Марии Юдиной и Владимире Софроницком разговор уже шел — впрочем, они не принадлежали к числу ближайших его друзей, тем более что как раз с Юдиной такие отношения было исключительно трудно сохранить. Среди пианистов самым близким был, несомненно, Иосиф Шварц, которому Шостакович посвятил свои Фантастические танцы, op. 5[31]. В круг приятелей Шостаковича входил также его ровесник Лео Арнштам, в то время студент по классу рояля, а впоследствии — известный кинорежиссер, с которым композитор будет сотрудничать на протяжении всей жизни.
Гораздо проще он находил общий язык с композиторами и музыковедами и именно среди них встретил людей, особенно преданных ему позднее. Одним из самых близких друзей Дмитрия в консерватории стал бывший на три года старше его Валериян Богданов-Березовский, вместе с которым он учился в классе Штейнберга. Богданов-Березовский был частым гостем в доме Шостаковичей и, как и Митя, принадлежал к группе молодых друзей и почитателей Кустодиева. Шостакович со своей стороны интересовался творчеством своего товарища и даже сыграл на одном из экзаменов его Вариации для фортепиано. Спустя годы Богданов-Березовский вспоминал:
«Мы познакомились в классе Максимилиана Осеевича Штейнберга на первом курсе, в ту зиму 1919–1920 годов, когда здание консерватории не отапливалось совсем, занятия шли перебойно и на уроках все сидели в пальто, галошах, перчатках или варежках, снимаемых лишь для того, чтобы написать грифелем на доске гармонизацию хоральной мелодии или сыграть модуляцию на ледяных клавишах. Класс, вначале многолюдный, быстро таял, но самый младший из учеников — спокойный, вежливый, ровный со всеми в обращении, скромный мальчик в очках — неукоснительно посещал занятия и по успеваемости шел далеко впереди всех.
Что уже тогда поражало в Шостаковиче? Быстрота и полнота усвоения всего, что относилось к музыке, — закономерностей голосоведения, принципов гармонизации, техники модулирования, специфики фактуры. В чтении с листа четырехручных переложений симфонических и камерных произведений… он безусловно опережал всех, так же как в диктанте на слух. По тонкости и точности восприятия звуков слух его уже тогда можно было уподобить совершенному акустическому прибору (впоследствии он еще более развился), а музыкальная память производила впечатление аппарата, мгновенно фотографирующего услышанное.
Однажды в ожидании начала урока мы встретились в коридоре, сели на подоконник и разговорились. Беседа увлекла обоих и по окончании занятий продолжалась на улице. Это было началом сближения, приведшего к очень тесной и крепкой многолетней дружбе. Я стал часто бывать в семье Шостаковичей. Мы вместе посещали симфонические концерты филармонии и камерные — в Кружке друзей камерной музыки, ходили в Театр оперы и балета — ГАТОБ, как он тогда назывался. Мы много, почти ежедневно, музицировали, делились друг с другом написанным, переиграли практически всю четырехручную литературу, которую возможно было достать. Гуляли по городу, нередко совершая длительные „пешие рейсы“ из консерватории на Николаевскую улицу (ныне улица Марата), где жил Шостакович, и обратно. Такие прогулки были отчасти вынужденными ввиду того, что трамваи, объявленные бесплатными, оказывались настолько переполнены, что попасть в них становилось возможно только на конечных пунктах.
Не забывали мы и сеансы немого кино, на экранах которого шли первые советские картины Гардина, Пудовкина, Эйзенштейна, Ивановского, Тимошенко и заграничные „боевики“ с участием тогдашних звезд — Эмиля Яннингса, Конрада Вейдта, Вернера Крауса, Осси Освальд, Присциллы Дин, Асты Нильсен.
Все это давало обильную пищу для обмена впечатлениями, для разговоров об искусстве, литературе, общественной жизни, социальных проблемах, человеческой психологии. Но нам мало было частых, почти каждодневных бесед. Живя в одном городе и постоянно общаясь друг с другом, мы еще переписывались»[32].
Из-за материальных затруднений Богданов-Березовский не смог завершить обучение у Штейнберга. Через некоторое время он оставил и занятия композицией, увлекся музыковедением и целиком отдался музыкальной критике.
Оба они дружили с поэтом Владимиром Курчавовым, который, к сожалению, очень рано умер от чахотки. Шостакович посвятил его памяти Две пьесы для струнного октета (сочинение 1924/25 года). В круг ленинградских друзей Шостаковича входил и одаренный композитор Виктор Клеменц, который дожил только до двадцати лет и, подобно Курчавову, умер от туберкулеза. Клеменц, Павел Фельдт, ставший впоследствии дирижером, и Дмитрий решили сочинить 24 фортепианные прелюдии во всех тональностях, то есть на каждого приходилось по восемь прелюдий. Бывший на семь лет старше Петр Рязанов тоже находился в близких отношениях с Шостаковичем, который получил от него множество ценных указаний в композиторских делах.
Осенью 1923 года Шостакович познакомился с композитором Виссарионом Шебалиным, с которым его связала многолетняя дружба. Шебалин приехал в Москву из Омска и начал учиться у Мясковского. Шостакович встретил Шебалина и некоторых других старших коллег в московской квартире Льва Оборина, впоследствии знаменитого пианиста; тогда Оборин был единственным студентом, имевшим собственную квартиру, поэтому именно у него собирались молодые пианисты и композиторы. Дружба Шостаковича с Шебалиным возникла очень быстро и оказалась в сложной жизни композитора одной из тех немногих привязанностей, которые продлились долгие годы. Несмотря на то что друзья жили в разных городах, они часто встречались. Писали друг другу письма, в которых делились впечатлениями от вновь услышанной музыки, и эта переписка частично сохранилась. Правда, письма Шебалина, кроме последнего, либо пропали, либо были уничтожены Шостаковичем, который вообще не копил писем, но зато Шебалин прилежно сберегал письма друга, так что их осталось более ста — любопытных документов, показывающих различные черты характера Дмитрия[33]. Поскольку в Москве интерес к новой музыке проявлялся так же сильно, как и в Петрограде, а профессора консерватории были гораздо прогрессивнее, Шостакович часто приезжал в столицу и в какой-то период даже подумывал о переезде туда, к чему его дополнительно склоняла дружба с Шебалиным, а затем и с Обориным. Посещая Москву, он обычно останавливался у Обориных, а Оборин, в свою очередь, был частым гостем Шостаковичей в Петрограде, где его, как и Шебалина, с радостью принимали мать и обе сестры Дмитрия.
Друзья Шостаковича единодушно подчеркивали незаурядность его личности и более всего его огромную скромность и страсть к музыке. Здесь уместно привести фрагменты воспоминаний Юрия Шапорина, который, будучи старше Шостаковича на девятнадцать лет, многие годы поддерживал с ним дружеские отношения.
«Именно от Глазунова я в первый раз и услышал о Шостаковиче. Обычно ленивый на слова, а тем более на излияния, Глазунов вдруг оживился и, мне показалось, посветлел лицом, когда заговорил о Шостаковиче… сказав о нем много теплых, ласковых и многообещающих слов.
Но познакомился я с молодым композитором позже, когда в один из ненастных октябрьских вечеров, если не ошибаюсь, 1924 года, Шостакович вместе со своим другом В. Богдановым-Березовским приехал ко мне на Канонерскую, 5.
Помню, меня несколько удивил пронзительный взгляд глаз Шостаковича, смотревших из-под очков, и угловато-резкие движения его корпуса и рук. Мы просидели допоздна, или, если хотите, до светла, беседуя на разные темы.
Не обошлось, разумеется, и без музыки. Шостакович много и охотно играл, поразив меня как необыкновенной памятью, так и технической сноровкой. Вместе с тем я обратил внимание на некоторую жесткость его туше. Увидев на пюпитре рояля Виолончельную сонату Рахманинова, Шостакович сыграл ее медленную часть… и доставил двум слушателям, да, кажется, и самому себе, истинную художественную радость»[34].
Благодаря этой огромной любви к фортепиано Дмитрий считал пианистические занятия такими же важными, как композицию. Ему посчастливилось работать под руководством двух превосходных учителей с колоссальным педагогическим опытом — а Петроград был в то время единственным городом России, в котором существовала настоящая пианистическая школа, поскольку в Москве Константин Игумнов только начал создавать свой класс, а Генрих Нейгауз приехал в столицу в 1922 году.
Если Розанова представляла относительно традиционный метод обучения, то Николаев был педагогом, для которого не существовало раз и навсегда установленных канонов преподавания. К каждому студенту он подходил индивидуально, с учетом его способностей, и лишь посредственным прививал собственный стиль исполнения. В Шостаковиче он видел не только будущего пианиста-виртуоза, но и композитора. Этим и объясняется то, что с Шостаковичем он довольно мало, по сравнению с другими студентами, занимался пианистической техникой, зато постоянно обращал внимание ученика на строение произведения и вопросы формы, в результате чего уроки фортепиано зачастую превращались в теоретические лекции. Кроме того, Николаев прививал своему ученику любовь к публичным выступлениям, так как считал, что пианист обязан любить эстраду. Поэтому он не только рекомендовал своим студентам как можно чаще выступать, но даже сам организовывал такие выступления.
Концертная жизнь в разоренном революцией Петрограде была довольно оживленной, и здесь часто выступали великолепные пианисты, российские и зарубежные. Любимицей публики была Вера Ивановна Скрябина, первая жена композитора; приводила в восторг слушателей игра Артура Шнабеля и Эгона Петри. В то время в городе на Неве выступал также Карло Цекки, в будущем великий итальянский дирижер. Несомненно, эти концерты оказывали значительное влияние на формирование пианистического искусства молодого Шостаковича, который в тот период еще видел свою будущность прежде всего в качестве концертирующего виртуоза.
Поскольку в подборе произведений Николаев всегда оставлял своим ученикам полную свободу, о специфике пианистических возможностей Дмитрия свидетельствовал его репертуар — очень богатый, хотя и не всесторонний. С наибольшим удовольствием он играл Бетховена (много раз исполнял «Аппассионату»), а вот Гайдн и Моцарт интересовали его гораздо меньше. Важное место в его программах занимали композиторы-романтики, особенно Шуман, Шопен и Лист, произведениями которого Шостакович щеголял с особым наслаждением. И, вопреки своим более поздним утверждениям, что музыка Листа ему чужда, в молодости он игрывал и «Годы странствий», и концертный этюд «Хоровод гномов», причем интерпретировал последний в совершенно не подходящей для романтической музыки манере, ибо уже тогда его игра отличалась известной сухостью звучания и сдержанностью красок. Поэтому вполне понятно, что он вообще никогда не учил и не исполнял сочинений Дебюсси: мир этих звуков в течение всей его жизни оставался для него совсем чужим. Довольно часто и охотно выступал Шостакович с собственными произведениями, хотя в то время его фортепианное творчество было еще весьма скромным.
28 июня 1923 года, заканчивая фортепианное отделение, он представил на дипломном экзамене Hammerklavier-sonate, op. 106, Бетховена и получил очень высокую оценку. А вскоре дал два публичных концерта — сольный и с оркестром. На сольном концерте были превосходно исполнены Прелюдия и фуга cis-moll из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха, Вальдштейновская соната Бетховена, Вариации C-dur Моцарта, Баллада As-dur Шопена, Юмореска Шумана, а также «Венеция и Неаполь» Листа. Меньший успех принесло Шостаковичу две недели спустя исполнение Концерта для фортепиано с оркестром Шумана, так как у него начиналось заболевание горла, а кроме того, Шуман не был ему столь же близок, как Бах и Бетховен.
В тот период в прессе начали появляться первые заметки о выступлениях Шостаковича-пианиста. В рецензии, опубликованной на страницах журнала «Жизнь искусства», мы читаем: «Потрясающее впечатление произвел концерт, который дал Д. Шостакович, молодой композитор и пианист. Он играл Баха (Прелюдию и фугу a-moll для органа в переложении Листа) и Бетховена („Аппассионату“), а потом свои собственные произведения. Исполнение отличалось уверенностью и художественной заботой о простоте, которые показали нам музыканта с глубоким ощущением и пониманием своего искусства»[35]. В рецензии Виктора Вальтера, помещенной в журнале «Театр», по отношению к Шостаковичу впервые было применено слово «гений»: «В игре Шостаковича поражает… радостно-спокойная уверенность гения. Мои слова относятся не только к исключительной игре Шостаковича, но и к его сочинениям. Богатство фантазии и удивительная убежденность, уверенность в своем творчестве (особенно в вариациях) — в 17 лет!»[36]
Между тем сразу по окончании фортепианного класса, по причинам, которые сегодня уже трудно установить, Шостаковича… вычеркнули из списка студентов. После выпускного экзамена он подал заявление с просьбой о продолжении фортепианных занятий в рамках так называемого академического курса (позднее — аспирантура), но ему не только не дали разрешения, но и попросту исключили из консерватории, мотивируя это его «явной незрелостью». Тем самым для него стали невозможными и композиторские занятия. Поначалу Шостакович впал в отчаяние. Тогда Николаев великодушно предложил учить его в дальнейшем частным образом, на дому, о чем, между прочим, можно узнать из письма, направленного к нему Софьей Васильевной: «Что же касается самых последних событий в связи с изгнанием Мити из консерватории, то оба мы совершенно не возражаем против постановления совета, что он и молод, и не зрел для „Академии“. Но я никак не могу примириться с тем фактом, как могла консерватория закрыть двери перед таким исключительно даровитым мальчиком в 17 лет, пробывшим в консерватории неполных 4 года, и этим самым лишить его возможности продолжать музыкальное образование, хорошо зная мое материальное положение. <…> Как я должна теперь себя чувствовать, взвалив на Вас ученика и не будучи в состоянии ничем, ничем Вам отплатить? Мне снова и снова приходится без конца благодарить Вас и жить надеждой, что когда-нибудь мы с Митюшей вернем Вам наш долг. Сам он расстроен случившимся, к сожалению, больше, чем я предполагала, и я никак не могу привести его в обычное настроение…»[37] Впрочем, уроки с Николаевым проходили крайне нерегулярно.
Этот факт замалчивается всеми биографами, ибо официально считалось, что обучение Шостаковича было чередой непрерывных успехов. Несомненно, воспрепятствование его дальнейшим пианистическим занятиям стало первой из причин, которые привели к тому, что позже Шостакович решил посвятить себя в первую очередь композиции.
Итак, осенью 1923 года Шостакович начал работать в кино, а над новыми произведениями трудился уже самостоятельно. В начале 1926 года он еще раз попытался продолжить обучение, в результате чего 20 апреля дирекция консерватории рекомендовала его — в то время уже автора Первой симфонии — на аспирантский курс композиции. Он приступил к занятиям 1 октября того же года. И вероятно, только благодаря этому дело дошло до публичного исполнения Первой симфонии, которую зачли как дипломную работу. Неоднократно описывая в то время свою биографию, Шостакович никогда больше не вспоминал о пианистической деятельности.
Тем не менее после окончания курса фортепиано семнадцатилетний виртуоз продолжал развивать исполнительскую технику и обогащал репертуар, представляя в своих все более частых выступлениях музыку русскую и зарубежную, старинную и современную, а также собственные произведения. Завязав связи с Кружком друзей камерной музыки, Шостакович неоднократно выступал в нем в качестве солиста и ансамблиста.
В его репертуар были включены новые сонаты Бетховена, многие фортепианные сочинения Шумана, Шопена (оба концерта, Польская фантазия — ор. 13, Рондо à; la krakowiak, Большой полонез — ор. 22), много произведений Листа, Концерт b-moll Чайковского, а также сочинения Лядова, Рахманинова и Прокофьева (Первый концерт). Шостакович ощущал себя пианистом и поэтому старался играть и выступать как можно больше.
Как-то раз он попробовал и дирижировать, проведя репетицию Первой симфонии Бетховена с оркестром консерватории.
«…Шостакович стал за пульт, потеребил шевелюру и манжеты своей закрытой серой курточки, обвел глазами притихших подростков с инструментами „на изготовку“ и поднял дирижерскую палочку. <…> Он не останавливал оркестра, не подавал реплик, сосредоточив все внимание на темповой и динамической стороне, очень отчетливо выявленной в жесте. Контрасты Adagio molto вступления и Allegro con brio первой темы были очень разительны, так же как и контрасты ударных акцентов аккордов (деревянные духовые, валторны, струнные pizzicato) и мгновенно следующего за ними протяженного piano во вступлении. В характере, приданном рисунку первой темы, помнится, были одновременно и энергичная устремленность и легкость; в „басовой“ побочной партии — подчеркнутая пластичность мягкого, лигированного произношения… Такого рода моменты… были находками импровизированного порядка, рождавшимися от интуитивно тонкого постижения характера данного „куска“… И это нравилось играющим». Автор этих воспоминаний Богданов-Березовский замечает: «Для Шостаковича это, по-видимому, был заинтересовавший его случай пробы если не сил, то впечатлений в новой для него области музицирования»[38]. Впрочем, впоследствии Шостаковича никогда не тянуло управлять оркестром, и, в отличие от Стравинского, Хиндемита и многих других композиторов нашего столетия, он не дирижировал ни своими, ни чужими произведениями. Только один раз он решился на публичное выступление — в 1964 году, на фестивале в Горьком, посвященном его творчеству. «Я дирижировал тогда Праздничной увертюрой и Первым виолончельным концертом, — рассказывал он автору этой книги. — Дирижировать Увертюрой — это пустяки, зато с Концертом было гораздо хуже. В партитуре столько смен метра… В какой-то момент от ужаса я совершенно потерялся, и до тех пор, пока Слава Ростропович не встал и не взмахнул смычком, музыканты играли кто в лес, кто по дрова. У меня уже тогда болела правая рука, поэтому дирижировал преимущественно левой. А в газетах писали, — рассмеялся он, — что я показал новую, интересную манеру дирижирования». Когда же после концерта кто-то задал ему вопрос: «Ведь правда, удовольствие дирижировать своей музыкой?» — последовал ответ: «Ни малейшего»[39].
Особенно впечатляет то, что интенсивные пианистические занятия были только частью напряженной работы Шостаковича, ибо в тот период он создал более десятка произведений, среди которых самые крупные — опера «Цыгане» по Пушкину и балет «Сказка о морской царевне». Как и многие другие начинающие композиторы, Шостакович присваивал своим партитурам номера опусов, с той, однако, разницей, что, в противоположность Беле Бартоку, Альбану Бергу и Паулю Хиндемиту, которые в молодости тоже старательно нумеровали свои сочинения, а достигнув зрелости, отказались от этого, Шостакович остался верен этому обычаю до конца жизни.
Первым произведением, написанным во время учебы, было Скерцо для оркестра fis-moll, op. 1. Шостаковичу было тогда тринадцать лет, и, как видно, он начал изучать композицию не с фортепианных миниатюр или камерных безделушек, а с симфонической музыки. Стиль его сочинения, посвященного Максимилиану Штейнбергу, очень четко вписывается в традиции петербургской школы, и в нем ясно прослушивается воздействие Римского-Корсакова и Бородина. Вместе с тем инструментовка столь впечатляюще богата и своеобразна в колористическом плане, что Скерцо звучит как создание зрелого и опытного композитора. В 40-х годах Шостакович использовал начальную тему Скерцо в качестве основы для фортепианной миниатюры «Заводная кукла», которая вошла в цикл фортепианных сочинений для детей.
Симфоническая музыка с самого начала пленила его, и поэтому вслед за первым Скерцо в 1922 году появилась Тема с вариациями B-dur, ор. 3, посвященная памяти профессора Николая Соколова, преподавателя фуги и контрапункта. Вариации эти, однако, достаточно школьные, и в них относительно слабо ощущается индивидуальность. Зато в Скерцо Es-dur, ор. 7, сочиненном в 1923–1924 годах и посвященном Петру Рязанову, молодой композитор показал поистине львиные когти. Партитура, без сомнения, свидетельствует о достигнутом мастерстве, и это касается не только инструментовки, но и ощущения формы, и ритмической изобретательности. Чувствуется знакомство с музыкой Стравинского (влияние «Петрушки» здесь очевидно!) и раннего Прокофьева, но гораздо важнее тот факт, что в Скерцо Es-dur уже выступают многие индивидуальные черты Шостаковича — пристрастие к эксцентричному юмору, гротеск и намеренное использование избитых оборотов. Произведение стало источником первых разногласий со Штейнбергом, который упрекнул Шостаковича в потугах на оригинальность и в растрачивании дарования. Педагог хотел видеть в нем продолжателя русской традиции, а не очередного — вслед за Стравинским и Прокофьевым — ее разрушителя, композитора с подозрительными модернистскими наклонностями.
Ни одно из этих трех произведений не было исполнено при жизни Шостаковича, который смог услышать в оркестровом звучании только главную тему второго Скерцо, когда через несколько лет использовал ее в музыкальном оформлении фильма «Новый Вавилон».
Богатство воображения и необыкновенная восприимчивость к оркестровым краскам проявились также в двух баснях Крылова, ор. 4, сочиненных в 1922 году для необычного состава: альта, хора альтов и оркестра. Эти произведения, особенно первая басня — «Стрекоза и Муравей», явно продолжают русскую вокальную традицию, и в них отчетливо слышны отголоски Мусоргского, частично Римского-Корсакова и молодого Стравинского. Шостакович ввел в басни много иллюстративных элементов, подчеркивающих их забавный смысл. И хотя вторая басня — «Осел и Соловей», — несомненно, уступает первой в оригинальности и зрелости, в целом необходимо признать и эту первую пробу шестнадцатилетнего композитора в области вокальной музыки выражением его незаурядного таланта.
Дмитрий писал также много камерной и фортепианной музыки. Одночастное Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, ор. 8, еще неровное в стилистическом отношении, включает в себя великолепный фрагмент, одна из тем которого в несколько измененном виде была позднее использована в первой части Первой симфонии. В свою очередь, материал для другой темы Трио композитор заимствовал из Сонаты для фортепиано, которую не закончил, признав ее недостойной внимания. Тогда же были созданы три пьесы для виолончели и фортепиано, но эта никогда не издававшаяся рукопись спустя несколько лет безвозвратно исчезла. В 1924 году Шостакович сочинил еще одну фортепианную сонату — в тональности h-moll, впоследствии уничтоженную. Зато сохранились пять из восьми прелюдий, ор. 2, а также три фантастических танца, ор. 5, — первое творение Шостаковича, до наших дней удержавшееся в репертуаре пианистов. К периоду учебы относится и Сюита для двух фортепиано fis-moll, op. 6, посвященная памяти отца и не раз исполнявшаяся Митей и его старшей сестрой Марусей. Список работ того периода дополняет инструментовка романса Римского-Корсакова «Я в гроте ждал тебя».
Некоторые из камерных и фортепианных произведений были исполнены на учебных концертах. Фантастические танцы несколько раз играли во время учебы сам автор и его однокашник Иосиф Шварц, а Трио петроградцы впервые услышали в декабре 1923 года. Однако настоящим композиторским дебютом Шостаковича стал его совместный концерт с Виссарионом Шебалиным, организованный в Малом зале Московской консерватории 20 марта 1925 года. В первой части программы значились сочинения Шебалина (Quasi-соната для фортепиано, романсы и Струнный квартет), а во второй — Трио, три фантастических танца, три пьесы для виолончели и фортепиано и Сюита для двух фортепиано Шостаковича. Один из присутствовавших на концерте вспоминал: «…и на меня, и на других слушателей музыка Шебалина произвела тогда гораздо более сильное впечатление, чем произведения его товарища»[40], признанные незрелыми и надуманными. Болезненно впечатлительный Шостакович тяжело переживал это. Расстроенный холодным приемом у слушателей, после концерта он стоял за кулисами со слезами на глазах. И тут к нему неожиданно подошел какой-то высокопоставленный военный, сказал несколько теплых слов и представился: Михаил Тухачевский. Вот так произошло знакомство молодого музыканта и уже знаменитого в те годы военачальника — знакомство, которое со временем переросло в дружбу, длившуюся вплоть до трагической смерти Тухачевского в 1937 году.
В 1923 году Митя стал подумывать о написании симфонии. Сочинять начал со второй части — Скерцо. Возникали разные эскизы и идеи, основная же работа над партитурой пришлась на период с середины октября 1924 года до мая 1925-го. Чтобы иметь возможность полностью посвятить себя творчеству, Шостакович в декабре отказался от работы в кинотеатре «Пикадилли». Сочинял с воодушевлением и в относительно короткий срок написал первую часть в клавире. Это был для него период особенно напряженной работы, когда одновременно с Первой симфонией создавались Две пьесы для струнного октета (закончены в июле 1925-го), к тому же Шостакович весьма деятельно участвовал в музыкальной и общественной жизни. К сожалению, уже во второй половине февраля ему пришлось вернуться к службе в кинотеатре, что серьезно мешало систематической работе над симфонией, а кроме того, финал доставил ему немало затруднений. Измучившись, он писал Богданову-Березовскому: «Финал не написан и не пишется. Выдохся с тремя частями. С горя сел за инструментовку первой части и наинструментовал порядочно. До репризы включительно. По-расписываю партии скерцо из симфонии. <…> Занятие во всяком случае бесполезное»[41].
Наконец вдохновение пришло. В письме Б. Яворскому от 9 мая 1925 года Шостакович сообщал: «Между прочим, финал я сочинил меньше чем в недельный срок. Написан он единым духом и напором. Хорошо вышло, по-моему, и по форме, хотя некоторые не одобряют, что у меня в экспозиции побочная партия начинается в A-dur’e, а потом уже идет в E-dur’e. Находят краткой разработку и чрезмерно большою разработку и коду. Репризы как таковой (пример: соната Листа h-moll, соната b-moll Глазунова и много других) у меня нету. Разработка кончается расширенно измененной главной партией, после которой идет в f-moll’e, весьма мрачно построенная, прерываемая фразкой литавр из 3-х нот и повтореньями этой фразки у флейт и кларнетов. Вся эта штука непосредственно переходит в коду, очень мажорно-торжественную. Фразка литавр получается очень выразительная:
должна звучать сухо и выразительно. На рояле выходит совсем не то, что следует выходить. Впрочем, все эти разглагольствования совсем напрасны, т. к. финала Вы совсем не знаете, а из слов трудно понять, что он в себе заключает»[42].
Произведение должно было стать дипломной работой, и девятнадцатилетний композитор работал над ним с особой страстью и самоотдачей. Написав три части, он показал их своим московским друзьям, которые с огромным интересом изучали еще неоконченную партитуру. Больше всех восторгался Шебалин. Позже, когда партитура была уже закончена, Митя показывал ее и другим музыкантам, чаще всего проигрывая ее в таких случаях на рояле. Одним из первых, кто получил возможность познакомиться с симфонией в законченном виде, был Юрий Шапорин; старший товарищ обратил внимание на большую зрелость быстрых частей. Подобного же мнения придерживался Максимилиан Штейнберг. Дирижер Ленинградской филармонии Николай Малько тоже ставил две первые части гораздо выше остальных. А Дариюс Мийо, в марте 1926 года посетивший Советский Союз, писал в своих воспоминаниях, что ему особенно запомнилась встреча в Ленинграде с «молодым музыкантом в больших очках», который показывал ему свою симфонию.
Это сочинение чрезвычайно ярко показало феноменальные способности юного автора. До наших дней симфония подкупает изобретательностью и необыкновенным владением композиторской техникой. Шостакович не только создал крупную симфоническую форму со свободой, свойственной опытному мастеру, но прежде всего заявил о собственном стиле, очень индивидуальном и весьма характерном. Естественно, в симфонии чувствуются различные влияния: русских классиков — в первой и четвертой частях, Скрябина — в крайних разделах медленной части, Прокофьева — в главной теме Скерцо, но все они не заслоняют поразительной однородности стиля и оригинальной инструментовки.
Четко обозначившаяся уже тогда индивидуальность Шостаковича проявляется прежде всего в сфере мелодики, деформированной тонально-модальной гармонии, а также в широком эмоциональном диапазоне — от специфического гротескового юмора Скерцо до полноводной лирики медленной части. Эта индивидуальность была заметна уже в Фантастических танцах и Скерцо Es-dur для оркестра, однако в симфонии она выразилась несравненно полнее.
Симфонию начинает мотив трубы с интересным контрапунктом фагота. Затем мотив переходит к кларнету, в свою очередь сопровождаемому струнными. Первая часть опирается на образцы классической сонатной формы, построенной на трех контрастирующих темах. Две первые из них вращаются вокруг главной тональности f-moll, третья же, по характеру близкая вальсу, излагается в тональности As-dur; вальс этот составляет яркий контраст с предыдущей, явно маршеобразной темой. В разработке звучание постепенно разрастается от сольных высказываний смычковых инструментов до драматичного, хотя и непродолжительного tutti. Выразительность первой части создают отчетливые драматические контрасты и конфликты, музыка впечатляет размахом и богатством оркестрового колорита.
Вторая часть симфонии — скерцо — отличается наибольшим своеобразием. Построенная по традиционной схеме трехчастной формы, она захватывает причудливым, гротескным и полным иронии юмором в крайних частях, в которых особого внимания заслуживает замечательное, необычное применение фортепиано. Рояль уже был небанальным способом использован в Скерцо Es-dur, и в дальнейшем Шостакович — подобно Стравинскому — будет часто вводить его в свои оркестровые партитуры. Средняя часть скерцо, свидетельствующая о большой мелодической изобретательности молодого композитора, благодаря чрезвычайно оригинальной мелодической линии, модальности и оркестровым краскам, представляет собой один из лучших фрагментов всего произведения, несмотря на явные переклички с русской классикой XIX века:
Перед концом скерцо обе темы соединяются, а в коде внезапно троекратно раздается аккорд a-moll, исполняемый в крайних регистрах фортепиано; это одна из находок, говорящих об эксцентричности воображения композитора, которая в консервативных кругах музыкантов уже вызывала подчас определенное сопротивление.
Для третьей части — Lento — характерны лиризм, неспешное развитие большого дыхания, широта фраз и мелодика такого типа, к которому Шостакович будет обращаться в основном в самые поздние годы. На протяжении почти всей части (за исключением среднего эпизода) появляется характерный нисходящий шестизвучный мотив, который сыграет важную роль в финале. Мелодия первой темы, широко развитая и очень певучая, поручена гобою, сопровождаемому смычковыми инструментами. В потоке этой лирической кантилены неуловимо нарастает напряжение, и в результате протяженного драматического развития возникает трагическая кульминация. Средний раздел — более декламационный, а его тема, также экспонируемая гобоем, напоминает доносящийся издали траурный марш:
В коде все темы и мотивы возвращаются, контрапунктически соединяясь и создавая завершение, полное необычайной красоты и таинственности.
Из тихих аккордов Lento возникает тремоло малого барабана — непосредственный переход к финалу. Часть эта начинается как бы нерешительно, после чего композитор вводит капризную виртуозную первую тему, излагаемую кларнетом и несколько напоминающую первую часть. Здесь снова важная роль доверена фортепиано. Вторая тема вырастает из первой и является ее дополнением. Мозаичный характер музыки постепенно сменяется подлинно симфоническим развитием, приводящим к драматической кульминации. Сразу после нее неожиданно вступают литавры соло и в динамике fortissimo воспроизводят в обращении лейтмотив третьей части. Затем наступает эпизод Largo, pianissimo, в котором первая тема финала проходит у виолончелей соло, а на ее фоне продолжает звучать упорно повторяемый основной мотив Lento. Это одна из самых вдохновенных страниц всего творчества Шостаковича, необыкновенно глубокая и полная трагической выразительности, изумляющая зрелостью и богатством замысла. После этого раздела наступает постепенное просветление настроения. Появляется тональность F-dur, первая тема провозглашается в патетическом tutti, а потом внезапно начинается полная жизни и оптимизма быстрая кода:
В мае симфония была готова, а 1 июля Шостакович закончил начисто переписывать последнюю, девяносто девятую страницу партитуры. Вскоре он показал ее своим ленинградским товарищам, которые, как и его московские Друзья, восторженно приняли новое произведение. Однако напряженная работа над симфонией подорвала здоровье Дмитрия. В доме не было денег на лечение, и поэтому мать заставила Шостаковича выехать на отдых в провинцию. Какое-то время он жил в Славянске, занимаясь окончательной отделкой своей новой партитуры.
В декабре 1925 года Шостакович представил партитуру и клавир экзаменационной комиссии. Штейнберг оценил симфонию как «проявление высочайшего таланта». Весной следующего года Шостакович вместе с Павлом Фельдтом сыграл ее на фортепиано для Глазунова, который был известен своей требовательностью к соблюдению правил голосоведения.
«Когда я показал Александру Константиновичу начало моей Первой симфонии (в четырехручном исполнении), он был недоволен неблагозвучными, с его точки зрения, гармониями во вступлении, после начальных фраз засурдиненной трубы. Он настоял на том, чтобы я исправил это место, и предложил свой вариант гармонии.
У меня:
Трактовка Глазунова:
Я, конечно, не смел спорить; мое уважение и любовь к Глазунову были слишком велики, а авторитет его был непререкаем. Но потом, уже перед исполнением симфонии в оркестре и перед печатанием партитуры, я все-таки восстановил свои гармонии, вызвав неудовольствие Александра Константиновича»[43].
Коллегия профессоров Ленинградской консерватории допустила симфонию к публичному исполнению. Произведением заинтересовался Николай Малько, который выразил готовность им продирижировать и даже написал Мясковскому письмо с рекомендацией исполнить это сочинение в столице.
Премьера первоначально планировалась на 10 мая 1926 года, но затем концерт перенесли на 12-е, поскольку 8 мая в Мариинском театре давали «Саломею» и там были заняты медные, необходимые для симфонии. Назавтра после премьеры Софья Васильевна обрисовала подготовку к концерту, репетиции и сам концерт в письме к Клавдии Лукашевич:
«Попробую описать наши переживания в связи с исполнением Митиной симфонии. Всю зиму мы жили в ожидании этого счастливого дня, и по мере его приближения наши мысли, разговоры и желания все больше концентрировались вокруг этого. Афиши появились на столбах за две недели до концерта. Митя считал дни и часы. Он находился в состоянии огромного возбуждения, размышляя над тем, правильно ли расписаны голоса, хорошо ли оркестровано произведение и вообще как все это будет звучать. Наконец наступило 10 мая, день первой оркестровой репетиции.
На службе я целый день почти ничего не слышала и не соображала, постоянно ждала телефонного звонка. Наконец около трех часов я услышала счастливый Митин голосок: „Все звучит, все в порядке!“ Оркестранты и те, кто присутствовал на репетиции, устроили Мите первую овацию. Я смогла прийти на вторую репетицию, 11 мая, и наслушалась похвал его таланту от всяческих музыкальных авторитетов. Глазунов сказал, что его особенно поразило Митино мастерство инструментовки — искусство, достигаемое только с годами опыта, а здесь изумляющее уже в первом произведении. И еще одна награда — аплодисменты и счастливая мордашка Митюши.
Наконец наступил день концерта — 12 мая. Волнение охватило нас с самого раннего утра. Митя не мог спать, не мог есть и пить. Страшно было на него смотреть. В половине девятого вечера мы оделись и отправились в филармонию. В девять зал был полон. Невозможно описать, что я почувствовала, когда Малько вышел на сцену и поднял дирижерскую палочку… Единственное могу сказать: иногда трудно пережить даже большое счастье…
Все прошло просто блестяще — великолепный оркестр и превосходное исполнение! Но самый большой успех выпал на долю Мити. Публика слушала с энтузиазмом, а Скерцо потребовали повторить. Потом Митю без конца вызывали на сцену. Когда наш милый молодой композитор, выглядевший совсем как мальчик, показался на сцене, бурные восторги публики перешли в неистовые аплодисменты. Он выходил на поклоны то один, то с Малько.
После концерта мы организовали дома праздник, на котором присутствовали почти исключительно представители музыкального мира — Малько, Николаев, Штейнберг; Глазунов не пришел (но был на концерте), так как страдает болезнью лимфатических желез и подъем на пятый этаж был бы для него слишком мучительным. Когда Митя приехал домой вместе с Малько, Николаев и Штейнберг приветствовали его, играя на рояле Фанфары Глазунова. Прием был очень скромный, но еда вкусная и в достаточном количестве, и гости разошлись в пятом часу утра.
Митя получил от Николаева три великолепно переплетенные книги о Скрябине с трогательным посвящением. Художник Костенко подарил ему гравюру, от приятелей он получил в подарок мороженицу, два персиковых торта, бутылку шампанского, две бутылки вина, апельсины и яблоки. Тетя Маруся прислала ему десять рублей. Михаил Михайлович Кучеров написал стихотворный тост, который был прочтен во время ужина»[44].
На концерте кроме симфонии Шостаковича состоялись Две другие премьеры: инструментального сочинения «Поступь Востока» Иосифа Шиллингера и кантаты «Двенадцать» Юлии Вейсберг. Достаточно холодный прием этих произведений еще более подчеркнул успех симфонии.
Сохранился дневник Николая Малько, в котором, между прочим, можно прочитать о репетициях: пьеса Шиллингера — «курьез — и только», в кантате Вейсберг «масса ошибок и неточностей… ироническое отношение оркестра и, конечно, отсутствие дисциплины <…> Симфония Шостаковича прелестно выходит. Сомнительна по музыке третья часть. <…> В оркестре поругивали, но ему [Шостаковичу] хлопали. <…> Третья и четвертая хуже. Жаль, что мало времени, можно было бы отделать эту симфонию»[45].
На одной из репетиций присутствовал Штейнберг, который тоже сделал в своем дневнике записи, связанные с исполнением: «Симфония Мити звучит хорошо. Сам Митя в неописуемом восторге от своей музыки и звучности, и я с трудом удерживал его от бурных проявлений жестами своих чувств»[46]. А ночью после концерта Штейнберг занес в дневник следующее: «Достопамятный концерт. Бурный успех Митиной симфонии, Scherzo бисировали… После концерта ужинали у Шостаковичей в обществе главным образом молодежи до 2-х часов. Возвращались с Малько и его женой, пешком до Садовой. Белая ночь, холодно, 2°»[47]. Николай Малько тоже записал этой ночью: «У меня ощущение, что я открыл новую страницу в истории симфонической музыки, нового большого композитора».
Митя же поделился своими впечатлениями в письме к одному из музыковедов: «Симфония моя вчера прошла великолепно. Чувствовался контакт между автором, дирижером, оркестром и слушателями. Успех был огромный. Полный был зал публики. Публика много хлопала, и я пять раз выходил кланяться. Все было удивительно хорошо… <…> Звучало все на редкость хорошо. <…> У меня сейчас прямо голова кружится: и от симфонии, и от исполнения (Малько великолепно играл), и от успеха, и от всего решительно…»[48]
Пресса сразу отнеслась к Первой симфонии со сдержанностью. Одобряли автора за зрелость, хотя и без восторженных похвал. Впрочем, попадались и очень положительные отзывы. «Новое произведение превзошло мои ожидания, — признавался критик Николай Малков. — Юный музыкант растет и крепнет, приобретая все большую уверенность в технике композиции. Углубляется и содержание его здорового и бодрого творчества. В Шостаковиче меня больше всего подкупает именно эта свежесть и цельность музыкальной мысли, ее молодой стремительный бег»[49]. «Симфония… светлая по настроениям, искрящаяся, юношеская („весенняя“ хочется назвать ее), она привлекает подкупающей искренностью, ароматной свежестью, бьющей через край талантливостью и одновременно — своим безупречным мастерством», — писал критик М. Гринберг[50]. «В этой Симфонии есть и редкое качество: лаконичность и вместе с тем договоренность, уменье взять мысль за характерные ее свойства и пластично ее показать. Но все же Симфония Шостаковича принадлежит к тем первым сочинениям, которым симпатизируешь за то, что они больше обещают, чем дают», — читаем мы в рецензии музыковеда Бориса Асафьева, который, впрочем, на премьеру не пришел[51].
Шостаковичу некогда было наслаждаться своим торжеством, ибо уже через месяц ему предстояло ответственное выступление в качестве пианиста. 12 июля в Харькове он впервые исполнил Концерт для фортепиано b-moll Чайковского, и на этом же концерте Малько с большим успехом дирижировал симфонией — вторым ее исполнением. Вскоре Шостакович снова смог ощутить успех своего детища: московская премьера Первой симфонии закончилась не меньшим триумфом.
Однако это сочинение не везде принималось с восторгом. Включив его в свой репертуар, Николай Малько не раз вынужден был убеждать филармонии в ценности произведения, поскольку фамилия автора еще никому ничего не говорила. Дирижируя в Кисловодске в 1927 году, Малько пригласил на репетиции Всеволода Мейерхольда, который нелестно отозвался о симфонии («Не очень понравилась, нет органичности или недостаточно органична»[52]). Прямо противоположного мнения придерживался присутствовавший там дирижер Самуил Самосуд, в будущем горячий пропагандист музыки Шостаковича. Когда в августе 1927 года Малько начал репетиции произведения с бакинским оркестром, музыканты, а затем и дирекция филармонии воспротивились исполнению нового, не известного им сочинения. В конце концов директор оркестра предложил в первом отделении играть Испанское каприччио Римского-Корсакова. «Я спрашиваю, кому это надо, — отвечает: „Шостаковичу надо“. Вчера, когда я сказал, что в Ленинграде скерцо повторяли… сказал: „Местный патриотизм“… Мите полезно было бы незамеченным все это видеть и слышать»[53].
За границей Симфония в первый раз прозвучала уже 5 мая 1927 года в Берлине под управлением Бруно Вальтера. Интерпретацию Симфонии этим великим дирижером слышал Альбан Берг, который по этому случаю написал Шостаковичу длинное поздравительное письмо. 2 ноября 1928 года Леопольд Стоковский представил Первую симфонию в Филадельфии, и тогда же Артур Родзинский дирижировал ею в Нью-Йорке. В марте 1931 года Симфонией впервые продирижировал сам Артуро Тосканини, о чем сообщил композитору в письме. Так произведение вошло в мировой симфонический репертуар и до сего дня остается в нем одним из наиболее часто исполняемых сочинений Шостаковича.
Глава четвертая 1906–1926
Русский художественный авангард. — Установление господства коммунистов над культурой
Годы детства, возмужания и учебы Дмитрия Шостаковича пришлись на необычный период в истории русской культуры и искусства. Никогда ни раньше, ни позже роль России в создании новых направлений во всех областях художественного творчества не была столь огромна, как в начале нашего столетия. Когда на рубеже веков в Европе начали рушиться старые эстетические каноны и стала клониться к закату великая эпоха искусства XIX века, зарождению авангарда в очень большой степени способствовали художники Востока. Многочисленные представители литературы, поэзии, театра, живописи, музыки и архитектуры приезжали из Москвы, Петербурга и других городов России в Германию, Францию и Италию, оказывая там огромное влияние своим творчеством.
В начале столетия пересечение русской границы еще не представляло трудности. Деятели искусств беспрепятственно выезжали и возвращались, и только Максим Горький и Илья Эренбург по политическим причинам вынуждены были эмигрировать. Зато Анна Ахматова регулярно посещала Францию, а Марина Цветаева — Германию. Без всяких проблем в 1910 году выехал из России Марк Шагал, в 1914-м — Игорь Стравинский, а в 1915-м — Михаил Ларионов. Вне зависимости от политической обстановки в России уже с 1896 года творил на Западе Василий Кандинский, сначала проживавший в Мюнхене — городе, собравшем особенно многочисленную группу русских художников (среди них Наталия Гончарова и Алексей Явленский, Михаил Ларионов и Казимир Малевич). Но главным средоточием русского присутствия был Париж. Там работали Кандинский, Шагал и Лев Бакст; наряду с Гончаровой трудились также кубистки Надежда Удальцова (1886–1961) и Любовь Попова (1889–1924). В течение двадцати лет (1909–1929) культурными событиями огромного значения были выступления Русского балета Сергея Дягилева, которые революционизировали европейский балет.
Русские участвовали в формировании многих течений западноевропейского искусства. Например, Кандинский во время своего второго периода пребывания на Западе создал вместе с художником Францем Марком группу «Синий всадник», объединявшую также поэтов и музыкантов, среди которых был, между прочим, Арнольд Шёнберг. В Мюнхене проводили совместные выставки Ларионов и Пикассо, Малевич и Брак, Гончарова и Клее. Особенно плодотворными были связи русских художников с кубистами, фовистами, а также итальянскими футуристами. Во время пребывания в Париже Анна Ахматова поддерживала дружеские отношения с Модильяни, а Илья Эренбург, Стравинский, Дягилев и Владимир Татлин находились в тесном контакте с Пикассо. Убежденные в своем величии, они верили в избранность русской культуры. «Мы, и только мы, русские, могли бы теперь создать великое, прекрасное, живое, подлинное искусство», — утверждал Александр Бенуа в начале века.
В России переломную роль в развитии искусства сыграл журнал «Мир искусства», вокруг которого объединились модернисты и деятели культуры, связанные с традициями славянского и восточного фольклора. Главой этой группы был именно Александр Бенуа, а входили в нее, в частности, Сергей Дягилев, Дмитрий Философов, Лев Бакст и Вальтер Нувель — замечательные умы, открытые миру и ищущие новых форм деятельности. Еще в конце минувшего столетия Дягилев так охарактеризовал ситуацию в России на страницах «Мира искусства»: «Вот страна, которая — если речь идет об искусстве — не имеет ни прошлого, ни истории: все заключается в настоящем или, скорее, в будущем — близком и полном обещаний»[54]. Хотя позже журнал утратил свою остроту и начал поддаваться чужим влияниям, он все же успел вызвать брожение в творческой среде и оказать огромное влияние на целое поколение, прививая творческие импульсы фовистам и зарождая русский кубизм. Через несколько лет, характеризуя «Мир искусства», Александр Бенуа писал: «Это не журнал, не общество, не выставки в отдельности. Это все вместе взятое, а вернее, некий коллектив, который старался разными средствами воздействовать на общество, пробудить в нем желаемое отношение к искусству…»[55] И еще на последней выставке, организованной «Миром искусства» в 1906 году, появились имена, которым вскоре суждено было сыграть огромную роль в развитии изящных искусств. Это были прежде всего московские художники, последователи школы Серова и Коровина — уже упомянутые Ларионов (1881–1964) и Гончарова (1881–1962), а также Павел Кузнецов (1878–1968) из Саратова и двое армян — Мартирос Сарьян (1880–1972) и Георгий Якулов (1884–1928); они представляли объединение «Голубая роза», в котором культивировалась тенденция максимального упрощения формы в пользу повышенной роли колористических эффектов и подчеркнутого контура.
Московский авангард концентрировался вокруг Владимира Издебского — художника мюнхенской школы, что объясняло его контакты с Кандинским (который, впрочем, вскоре, а именно в 1914 году, вернулся на родину). Платформой начинаний московской художественной молодежи была группа «Бубновый валет», в которой сотрудничали как фовисты, так и радикальные примитивисты. Возглавил эту группу будущий основатель супрематизма Казимир Малевич (1875–1935), россиянин польского происхождения, который после обучения в Киеве перебрался в Москву. Руководителем другого крыла авангарда стал Владимир Татлин (1885–1953), выставивший свои конструкции на нашумевшей выставке футуристов, организованной в феврале 1915 года в Петрограде.
Следовало бы вспомнить и о конструктивистско-инженерных исканиях скульпторов. В 1920 году двоюродные братья Наум Габо (Певзнер) и Антон Певзнер выступили с манифестом русского конструктивизма в скульптуре. Александр Родченко (1891–1956) и Владимир Стенберг (1899–1951) работали над геометризацией форм в скульптуре, что привело их — по определению Родченко — к «беспредметному искусству». Шостакович имел случай встретиться с их новаторскими идеями, когда писал музыку к «Клопу», поставленному Мейерхольдом со сценическим оформлением Родченко.
В литературе и поэзии новаторские течения не проявлялись, быть может, так эффектно, как в изобразительном искусстве, к тому же они получили свое развитие несколько позднее, однако их результаты были столь же значительны. До середины 20-х годов русская литература расцветала в таких условиях, которые вряд ли когда-либо могли повториться. Поиски в области формы, языковые и тематические эксперименты Андрея Белого (1880–1934), Велимира Хлебникова (1885–1922) и Евгения Замятина (1884–1937) принесли свои плоды в прозе Бориса Пильняка (1894–1938), Исаака Бабеля (1894–1940), в символизме Вячеслава Иванова (1866–1949), в поэзии Осипа Мандельштама (1891–1938), а также в лирике Анны Ахматовой (1889–1966), Николая Гумилева (1886–1921), Бориса Пастернака (1890–1960) и Марины Цветаевой (1892–1941).
В области театрального искусства эта необыкновенная эпоха породила великого мастера Камерного театра Александра Таирова (1885–1950), энтузиаста экспериментов Сергея Эйзенштейна (1898–1948) и Всеволода Пудовкина (1893–1953), а в первую очередь глашатая Октября Всеволода Мейерхольда (1874–1940), который разовьет в Шостаковиче стремление к поискам, проявившееся прежде всего в «Носе». Лев Кулешов (1899–1970) и Дзига Вертов (1896–1954) предприняли первые поиски в области нового искусства — кинематографа.
Интересной особенностью авангарда того времени не только в России, но и в остальных европейских странах было своеобразное взаимодействие искусств. Особенно сильны были связи между живописью и поэзией. Поэты вдохновляли художников, излагали их программы, защищали их художественную правду. В свою очередь художники становились поэтами (стихотворчеством занимался, к примеру, Кандинский), а музыканты рисовали (известно изобразительное творчество Шёнберга). Композитор Ефим Голышев участвовал в берлинском движении дадаистов, был одним из тех, кто подписал их манифест 1919 года. Шумовые композиции футуриста Луиджи Руссоло предвосхитили конкретную музыку, тенденции, родственные музыкальным, проявились и в орфизме. Без кубистской живописи, наверное, иначе воспринималась бы поэзия Гийома Аполлинера или Макса Жакоба. В области синтетических искусств — балета и других разновидностей театра — сотрудничество композиторов, сценографов, режиссеров и литераторов приносило особенно впечатляющие результаты, а их значение, как правило, выходило далеко за пределы отдельных постановок. Исключительно важными были связи кубистов, а позже дадаистов с труппами Русского и Шведского балета. Весьма тесно сотрудничали между собой русские авангардисты — деятели театрального и изобразительного искусств: без воздействия конструктивизма невозможны были бы концепции Мейерхольда и Таирова или киноискусство Эйзенштейна.
Бунтари от искусства в начале XX века выработали определенный образ действий, типичный для авангарда и в дальнейшем. Характерными его чертами были бескомпромиссность и боевитость, граничащая с агрессивностью, а также склонность к шумной саморекламе. Провозглашались манифесты, издавались журналы, книги и брошюры. Иногда между представителями отдельных течений возникали открытые конфликты, как, например, между супрематистами и конструктивистами или между кубистами и сюрреалистами. Для некоторых второстепенных авангардистов скандал был подчас единственной возможностью заявить о своем присутствии в искусстве.
В отличие от художников композиторы работали, как правило, в одиночку, не образовывали творческих объединений и не публиковали манифестов. Существовали, правда, две композиторские школы — петербургская и московская, но их характер был типично академическим. Взамен этого появились отдельные личности, наделенные большим талантом и стремлением к поискам, среди которых наиболее ярко засияли три имени.
Первым из них был Александр Скрябин (1872–1915) — новатор главным образом в сфере гармонии и оркестровки. Его творчество зрелого периода было насыщено мистикой, ибо он верил, что целью музыки является очищение и облагораживание человечества путем доведения слушателей до состояния экстаза, а выражением такой позиции стали прежде всего симфонические произведения — «Божественная поэма» (1903), «Поэма экстаза» (1907) и «Прометей» (1909–1910). Скрябин мечтал о синтезе музыки с игрой света, а для этого ему необходим был специальный инструмент, так называемый clavier a lumière. Все свое творчество он считал лишь подготовкой к мистерии «Предварительное действо» — пантеистическому синтезу музыки, танца и света, к которой он успел написать только фрагмент. После продолжительного пребывания за границей Скрябин в 1910 году вернулся в Москву, где стал одной из наиболее противоречивых личностей в музыкальном мире, но преждевременная смерть оборвала его необычные начинания.
Второй личностью был Игорь Стравинский (1882–1971), едва ли не величайший творец музыки нашего столетия, чье значение можно приравнять лишь к роли, которую в живописи сыграл Пабло Пикассо. Стравинский был учеником Римского-Корсакова, а затем продолжателем петербургской традиции. Он начал с обращения к русской народной музыке, использовал также городской и ярмарочный фольклор, что особенно проявляется в балете «Петрушка». В 1913 году в Париже, на премьере «Весны священной» — произведения революционного, порывающего с эстетикой прошлого столетия произведения, в котором мелодия и гармония уступили свою доминирующую роль ритму, — шокированная публика буквально доходила до рукоприкладства, протестуя против произведения, которое открыло новую эпоху. В то время Стравинского признали символом авангарда в музыке, и он действительно в течение еще нескольких лет представлял этот авангард, после чего демонстративно вернулся к традициям.
Третьим выдающимся выразителем новых тенденций в русской музыке был другой воспитанник петербургской школы — Сергей Прокофьев (1891–1953). Свой творческий путь он начал как новатор столь радикальный, что его ранние произведения (Скифская сюита, Второй фортепианный концерт) вызвали возмущение и громкие протесты, доходящие даже до скандалов, но в позднейших исканиях он не пошел так далеко, как Стравинский. Будучи великолепным пианистом, он сочинил много фортепианной музыки, создав простой и решительный стиль, суровый и словно бы настойчиво отрекающийся от традиций великого романтического пианизма. Закончив в 1914 году учебу, он жил в России, однако после революции на долгие годы покинул родину, так как не видел там условий для своего развития.
В дореволюционной России появилось еще несколько композиторов, которые хотя и не получили международной известности, но сумели сыграть важную роль в процессе нахождения новых средств музыкальной выразительности. К ним относится петербуржец Иван Вышнеградский (1883–1979), ученик Николая Соколова (у которого Шостакович изучал контрапункт), один из творцов микротоновой музыки, к которой он пришел независимо от чеха Алоиса Хабы, считающегося создателем четвертитоновой системы. Вышнеградский сочинял главным образом для фортепиано, и парижская фирма «Плейель» сконструировала для него специально настроенный инструмент. Избранному им направлению он сохранил верность на всю жизнь.
Незаурядным представителем авангарда был также Николай Рославец (1881–1944), воспитанник московской школы. Уже в 1910-х годах он стал известен как автор сочинений, радикально порывающих с традицией, не связанных с тональной системой и близких идеям Шёнберга. Рославец пользовался богатейшей палитрой нетрадиционных средств, главным образом в области гармонии, а его диссонансы предвосхищали самые смелые достижения Хиндемита и Кшенека. В более поздние годы он обратится к шёнберговской додекафонии.
Необычным композитором был Ефим Голышев (1897–1970), один из первых представителей двенадцатитоновой техники, к которой (что совершенно поразительно) пришел независимо от Нововенской школы: Шёнберг сформулировал основы додекафонии в 1920-е годы, а Голышев уже в 1914 году делал первые шаги в этом направлении. После выезда в Германию Голышев еще некоторое время продолжал деятельность, начатую в России, но приход Гитлера к власти вынудил его к новой эмиграции, что послужило причиной распыления и постепенного предания забвению его трудов. К додекафонии приблизился и петербуржец Николай Обухов (1892–1954), учившийся, как позднее Шостакович, у Максимилиана Штейнберга. Он не только выработал собственную технику применения полного двенадцатитонового звукоряда, но и придумал оригинальную музыкальную нотацию. Из Петербурга вышли также Артур Лурье (1892–1966), частный ученик Глазунова, один из наиболее новаторских умов в своем кругу, соавтор манифеста петербургских футуристов «Мы и Запад», и Иосиф Шиллингер (1895–1943), сочинявший в соответствии с математическими законами.
Новатором европейского масштаба был Владимир Ребиков (1866–1920), который начинал как эклектик, но со временем пришел к небывалым открытиям, сегодня, к сожалению, забытым. Ребиков считал, что коль скоро музыка выражает человека, то этот факт оправдывает применение любых средств, даже самой диссонирующей гармонии. В своем фортепианном цикле «Меломимики» он приблизился к экстравагантности Эрика Сати. Ему принадлежат также вокальные миниатюры, представляющие своего рода музыкальный мини-театр. В конце жизни Ребиков экспериментировал с заполненными звуковыми комплексами, в результате чего в том же 1912 году он одновременно с американцем Генри Кауэллом, признанным сегодня первооткрывателем в этой области, изобрел кластеры, причем русский экспериментатор в написанном тогда же Гимне солнцу для фортепиано использовал не только кластеры, но и собственную нетрадиционную нотацию.
Самым молодым представителем русского авангарда был Александр Мосолов (1900–1973), один из интереснейших и наиболее талантливых композиторов раннего послереволюционного периода. В сочинениях Мосолова исключительно последовательно проводятся футуристические идеи 1910-х годов, провозглашающие необходимость принятия искусством явлений, присущих зарождающейся технической цивилизации, признания ритма машин пением нового времени и применения в музыке шумов наравне со звуками. Мосолов представлял направление, называемое урбанизмом или конструктивизмом и как бы стирающее границы между искусством и жизнью. Предметом большого интереса и вместе с тем поводом для страстных споров стал его музыкальный эпизод «Завод» из неосуществленного балета «Сталь», который явился как бы гимном в честь индустриальной современности с чертами футуристической утопии. В подобном же духе были написаны его «Газетные объявления» — четыре песни по объявлениям в газете «Известия». В их текстах содержались: рекомендация применения пиявок, объявление о розыске пропавшей собаки, уведомление об изменении фамилии и, наконец, предложение услуг по уничтожению крыс. В том же направлении проходила в те годы деятельность некоторых западных композиторов, например, Ханса Эйслера — автора цикла песен «Газетные вырезки», или Дариюса Мийо, который озвучил каталог сельскохозяйственных машин.
Авангардистские течения в искусстве имели исключительно элитарный характер. Ведь их создавали одиночки либо малочисленные группы, которые противостояли консервативным, академическим направлениям, признанным широкими общественными кругами. А кроме того, российское общество все мучительнее переживало политические потрясения, утрачивая способность спокойно наслаждаться выставками, концертами и чтением.
Почти каждая неделя приносила известия о новых событиях. Напомним важнейшие из них. В конце 1916 года всеобщее недовольство, вызванное неудачами на фронте и ростом цен, возросло еще больше из-за уменьшения поставок продовольствия в Петроград и Москву. Правительство не понимало причин этих трудностей и не было в состоянии принять надлежащие меры. 23 февраля 1917 года в Петрограде дело дошло даже до серьезных волнений, участники которых требовали хлеба. Три дня спустя войска открыли по демонстрантам огонь, но часть солдат быстро присоединилась к протестующим рабочим. 27 февраля на стороне противников правительства были уже десятки тысяч солдат, 28 февраля был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта Николай II отрекся от престола, и было образовано Временное правительство, а месяц спустя в Петроград прибыл торжественно встреченный Ленин. И хотя всех — в том числе самих большевиков — безмерно поразило резкое выступление Ленина, призывавшего к захвату власти, тем не менее Временное правительство было уверено, что охотников управлять Россией не найдется, а потому слова Ленина не были приняты всерьез. 3–4 июля произошли вооруженные выступления рабочих и кронштадтских моряков против Временного правительства и ужесточения воинской дисциплины. В конце августа неудачей закончилась попытка переворота, предпринятая генералом Корниловым. В стране останавливались фабрики, сокращалось поступление продовольствия, обесценивались деньги — и все это на фоне продолжавшейся войны. И в этой ситуации, когда все политические партии призывали к терпеливому ожиданию победы в войне и к последующему созыву Учредительного собрания, которое покончит с хаосом, большевики обещали людям мир, землю и хлеб и без особого труда добились поддержки значительной части населения. В начале сентября эту поддержку они получили в Петроградском совете, председателем которого был выбран Троцкий, а во второй половине октября захватили власть во всем городе. Временное правительство было низложено; позже, когда холостой выстрел с «Авроры» подал Петропавловской крепости сигнал открыть артиллерийский огонь, был взят Зимний дворец. Для управления страной был образован Совет народных комиссаров. Так во второй раз за 1917 год парализованная власть пала от первого же удара. Разница состояла лишь в том, что в феврале царскую власть смел стихийный взрыв недовольства, а в октябре Временное правительство было низвергнуто партией, во главе которой стоял человек, убежденный в том, что осуществляет предопределение истории и что ему одному известно, каким путем должен идти русский народ.
Ленин и его сподвижники начали с уничтожения прежних государственных структур. Собственно, началось это еще перед революцией, с развала армии в октябре 1917 года. Вскоре после революции были ликвидированы судебный аппарат и законодательная система; их место заняли так называемые революционные трибуналы, которые судили, руководствуясь «пролетарской совестью и революционным сознанием», что означало обыкновенный самосуд. Грабежи и убийства стали в столице делом обыденным. Возмущенный хроникер этих случаев — Максим Горький на страницах журнала «Новая жизнь» вплоть до его закрытия в июле 1918 года неустанно приводил примеры беззакония и клеймил «народных комиссаров», демонстрирующих свою «преданность народу», «не стесняясь — как не стесняется никакое правительство — расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ним, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага»[56].
Очень скоро в сфере интересов новой власти оказалась культура. Еще перед революционным взрывом по инициативе Александра Богданова была создана культурно-просветительная организация Пролеткульт (Пролетарская культура). Богданов проповедовал теорию о существовании самостоятельной рабочей культуры, которая, в отличие от культуры буржуазной, основанной на индивидуальных достижениях, базируется на коллективных действиях. Следовательно, пролетариат должен подвергнуть проверке все предшествующие достижения культуры и науки, чтобы создать новую, «всеобщую организационную науку», которая позволила бы стройно и целостно организовать всю жизнь человечества[57]. После Февральской революции представители Пролеткульта заявили, что они являются «независимой рабочей организацией», открыли в Москве Пролетарский университет, писали для рабочих стихи, издавали книги и брошюры, писали картины. Хотя Богданов был соратником Ленина, вождь большевиков с самого начала занял по отношению к Пролеткульту позицию неприятия и даже враждебности, утверждая, что рабочий класс имеет только одну организацию — партию, руководящую «не только политикой, но также экономикой и культурой»[58]. Поэтому в 1919 году Пролетарский университет был закрыт, а сам Пролеткульт, подчиненный Центральному совету профсоюзов, просуществовал до 1932 года, испытывая все большие трудности.
Уже через неделю после революции Всероссийский центральный исполнительный комитет пригласил в Смольный представителей петроградской творческой интеллигенции. Кроме двух членов партии пришли только Маяковский, Мейерхольд и Блок. За два месяца до того Маяковский провозгласил лозунг: «Да здравствует искусство, свободное от политики», Мейерхольд же в феврале 1917 года с большой пышностью поставил «Бал-маскарад» в Императорском Александринском театре. О их надеждах Таиров позднее говорил: «Как мы рассуждали? Революция разрушает старые формы жизни. А мы разрушаем старые формы искусства. Следовательно, мы — революционеры и можем идти в ногу с революцией»[59]. Однако проницательный Евгений Замятин впоследствии утверждал, перефразируя один из декретов Французской революции, что эти революционеры от искусства часто были «„юркими авторами, знающими, когда надеть красный колпак и когда его скинуть“, когда петь сретение царя и когда молот и серп». Он отмечал также, что, за исключением Маяковского, «наиюрчайшими оказались футуристы: не медля ни минуты — они объявили, что придворная школа — это, конечно, они»[60].
На встрече в Смольном только Блок сразу понял ситуацию. «А когда начались Красная Армия и социалистическое строительство… я больше не мог»[61], — отметил он позднее в дневнике. 18 апреля 1921 года он записал и такую мысль: «Жизнь изменилась… вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в другую сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы»[62], а во время своего последнего публичного выступления по случаю 84-й годовщины смерти Пушкина сказал: «Но покой и волю тоже отнимают… Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю… а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл»[63]. 7 августа 1921 года Блок умер на сороковом году жизни. Смерть поэта приобрела значение символа — символа попранной веры российской интеллигенции в революцию; началось крушение всех надежд.
Об опасности, угрожающей культуре и свободе творчества, предостерегал Замятин — писатель, последовательно защищавший свободу искусства. В 1920 году он писал: «Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс»[64]. В том же направлении шли мысли Виктора Шкловского, который заметил: «Искусство должно двигаться органически, как сердце в груди, а его регулируют, как поезд»[65]. Этой позиции придерживался и Малевич: «Все социальные и экономические взаимоотношения насилуют искусство… Написать портрет какого-нибудь социалиста или какого-нибудь императора, построить ли замок для купца или избенку для рабочего, — исходная точка искусства не меняется от этой разницы… Давно пора наконец понять, что проблемы искусства и проблемы желудка далеки одна от другой»[66].
Примечательно то, что, несмотря на ужасающие условия жизни, нарастающий большевистский террор и первые попытки коммунистов обуздать культуру, искусство продолжало развиваться. Творческие импульсы начала века непрестанно приносили плоды, и, как писал Андрей Белый, «в самые тяжкие дни России она стала похожа на соловьиный сад, — поэтов народилось как никогда раньше: жить сил не хватает, а все запели»[67]. Какое-то время творчество еще развивалось более или менее свободно, однако вскоре художественная жизнь была поставлена в столь жесткие рамки, что это быстро привело к трагическим последствиям.
Первыми результаты действий новой власти почувствовали на себе художники и литераторы. В апреле 1918 года при Народном комиссариате просвещения был создан отдел изобразительных искусств, руководителем которого назначили художника Давида Штеренберга. В состав коллегии, образованной при этом отделе, вошли писатели-футуристы Владимир Маяковский и Осип Брик, а также архитекторы Лев Руднев и Владимир Щуко. В подотдел вошел передовой отряд авангарда: Кандинский и Малевич, которые после начала Первой мировой войны вернулись в Россию, а также Павел Кузнецов, Илья Машков, Роберт Фальк, Ольга Розанова и Надежда Удальцова. В художественных школах вначале преподавали самые великие: в Петербурге — Татлин, в Москве — Кандинский, в Витебске — Шагал, а позднее Малевич, но продолжалось это недолго. Постоянные структурные и кадровые перемены в системе народного образования, непрекращающиеся дискуссии и споры привели к тому, что вся энергия тратилась на организационные цели, творчеству уделялось все меньше времени и о художественных задачах забывали. Власти умело разжигали художественный антагонизм, зародившийся еще перед революцией.
Некоторые представители авангарда, преимущественно придерживавшиеся левых убеждений, были готовы сотрудничать с советской властью, и именно они начали постепенно задавать тон художественной жизни, тем более что в 20-х годах партия еще предоставляла возможность для реализации смелых идей. Сравнительно выгодные условия были созданы архитекторам, хотя волна конструктивистского авангарда, поднявшаяся сразу перед революцией, лишь короткое время имела шанс на официальное признание. К тому же масштаб начинаний был настолько велик, что только немногие из них удалось реализовать. Так, не осуществлены были ни памятник III Интернационалу по проекту Татлина (1919–1920), ни «архитектоны» и «планиты» Малевича (1922–1928), ни проект здания «Ленинградской правды» Ладовского (1923), ни заказанные у Ле Корбюзье и Гропиуса проекты Дворца советов. Когда же в 30-е годы утвердилась доктрина социалистического реализма, со всеми модернистскими архитектурными направлениями было покончено.
Революция, с одной стороны, уничтожила традиционные художественные формы, а с другой — внедрила в жизнь новые. В живописи, например, родился продуктивизм. Выразителем и теоретиком этой формы был Николай Тарабукин (1889–1956), который в изданной в 1923 году брошюре «От мольберта к машине» провозгласил такое кредо: «…смерть живописи, смерть станковых форм еще не означает смерти искусства вообще. Искусство не как определенная форма, а как творческая субстанция продолжает жить»; прежние формы искусства должны быть похоронены, а их место займут новые, которые «носят название „производственного мастерства“»[68]. Некий Алексей Ган выразился в 1922 году еще яснее: «Социально-политический строй, обусловленный новой экономической структурой, вызывает новые формы и средства выражения. Возникающую культуру труда и интеллекта будет выражать интеллектуально-материальное производство. Первый лозунг конструктивизма — долой спекулятивную деятельность в художественном труде! Мы… объявляем непримиримую войну искусству»[69]. Тем временем среди деятелей искусства, сотрудничавших с новой властью, все громче звучал голос традиционалистов, продолжателей реалистической живописи XIX века. Уже в 1921 году возникло объединение под названием Новое общество живописцев (НОЖ), которое обвиняло авангардизм в «лабораторном» характере поисков, отчуждении искусства от жизни и использовании языка «чужого и непонятного массам». В этом же году образовалось объединение «Бытие», в которое вошли представители традиционного и умеренно новаторского (Кончаловский) течений.
Влияние новых условий на литературу проявилось в возникновении объединений «Октябрь» и Леф (Левый фронт искусств). Последнее, образованное в 1922 году и просуществовавшее в течение семи лет, объединяло левых конструктивистов, среди которых особой активностью отличались Владимир Маяковский, Сергей Третьяков, Николай Асеев, а в определенный период и Борис Пастернак. Леф издавал журнал с тем же названием (1923–1925; 1927–1928 как «Новый Леф»), редактируемый Маяковским. Лефовцы пытались соединить футуристические идеи с темами, подсказанными новым временем, и все их новшества должны были служить революции. Мимолетному влиянию футуризма подвергся и Шостакович, о чем свидетельствует, в частности, его Вторая симфония, первоначально названная «Посвящение Октябрю». Социалистические традиции в семье Шостаковича несомненно способствовали появлению у него симпатии к левым группировкам в творческой среде, но позднее конфликты с властями будут постепенно подтачивать эти симпатии.
Музыкальная жизнь после революции была все еще очень богатой. Правда, и в этой среде зазвучали голоса представителей левых, но контакты с искусством Запада продолжали оставаться оживленными, полным ходом шли поиски в области звука, а власти не имели ни случая, ни повода этому противодействовать.
В 20-е годы Россию посещали знаменитейшие композиторы и исполнители, новая музыка звучала на симфонических концертах и в оперных театрах. В России побывали Дариюс Мийо и Бела Барток, Пауль Хиндемит, Альфредо Казелла и Альбан Берг. Исполнялись произведения Арнольда Шёнберга и Эрнста Кшенека, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. В 1924 году, когда приехал Отто Клемперер, великому дирижеру даже предложили художественное руководство московским Большим театром. На сцене Мариинского театра (переименованного в Государственный академический театр оперы и балета) в 1925 году был поставлен «Дальний звон» Франца Шрекера, а год спустя — «Пульчинелла» Стравинского и «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. 1927 год принес премьеры «Воццека» Берга, «Байки про Лису» Стравинского и «Прыжка через тень» Кшенека.
В 1923 году Георгий Римский-Корсаков, внук великого композитора, основал в Петроградской консерватории Товарищество четвертитоновой музыки. 13 апреля и 25 мая 1925 года состоялись первые концерты товарищества, на которых исполнялись произведения Георгия Римского-Корсакова, Николая Малаховского, Алоиса Хабы и некоторых других композиторов. Присутствовавший на концертах Анатолий Луначарский сказал: «Переход к четвертитоновой системе есть одно из важнейших явлений, так сказать, в формальном развитии нашей музыки»[70]. В 1924 году в Москве возникла Ассоциация современной музыки — ACM; ленинградский филиал ассоциации образовался спустя неполных два года. Организаторы ассоциации, вокруг которой сосредоточилась деятельность лучших новаторов того времени, стремились к максимальному сближению с западноевропейским авангардом. Именно при посредстве ACM в Советском Союзе в 20-е годы стали известны сочинения Шёнберга, Берга, Кшенека, Шрекера: благодаря этой организации любые, даже самые смелые эксперименты незамедлительно получали возможность обнародования и проверки публичным исполнением. Ассоциация учредила журнал «Современная музыка», на страницах которого выступали самые горячие энтузиасты новых течений, проходили бурные дискуссии. К асмовцам принадлежали, в частности, музыковед, критик и композитор Борис Асафьев, композиторы Владимир Щербачев, Анатолий Александров и Александр Житомирский; непосредственный контакт с Ассоциацией современной музыки поддерживали Николай Мясковский и Юрий Шапорин, сблизился с ACM и Шостакович. В лоне ассоциации существовали разные направления; так что, пока Шостакович вскоре после окончания учебы писал свои экспериментальные партитуры, москвичи развивали «урбанистическое» течение, и именно в то же время сильно нашумел вышеупомянутый «Завод» Мосолова.
Левые тенденции в музыкальной среде появились относительно рано, хотя им поначалу не придавалось особого значения. Тем не менее в 1917–1932 годах возникло несколько групп, и некоторые из них сыграли принципиально важную роль в дальнейшем развитии советской музыки. В 1923 году образовалась Ассоциация пролетарских музыкантов — АПМ, которая ставила перед собой цель создания музыки, предназначенной в первую очередь для широких масс и отвечающей требованиям революционной идеологии. Главной задачей АПМ считала культивирование вокальной музыки и формирование нового жанра песни — массовой песни на актуальную тематику. Ассоциация боролась с любыми проявлениями новаторства и отрицала необходимость овладения композиторским мастерством. В состав АПМ входили музыканты, имена которых сегодня мало что говорят: Александр Кастальский, Сергей Потоцкий, Дмитрий Васильев-Буглай, Григорий Лобачев. К ассоциации примыкал крайне левый Производственный коллектив студентов научно-композиторского факультета — Проколл, основанный в 1925 году при Московской консерватории. В Проколл входили многие музыканты, но, за исключением Дмитрия Кабалевского и Арама Хачатуряна, никто из них не сыграл сколь-нибудь значимой роли в «большой музыке»; они ограничивались написанием массовых песен и обработкой фольклора — среди них Виктор Белый, преждевременно ушедший из жизни Александр Давиденко, Борис Шехтер и Мариан Коваль, снискавший себе известность нападками на Шостаковича в 1948 году. В 1928 году Проколл слился с АПМ, переименованной к тому времени в Российскую ассоциацию пролетарских музыкантов — РАПМ. Шостакович имел случай сблизиться с РАПМ, когда сочинял музыку к пропагандистским фильмам, кроме того, спустя годы он инструментовал два хора Давиденко.
Независимо от АПМ и Проколла продолжали творить композиторы, придерживавшиеся неоромантических традиций русской классики XIX века, но в своем большинстве это были второразрядные мастера, среди которых лишь Глазунов и Глиэр обеспечили себе место в истории музыки.
Партия постепенно, но последовательно усиливала свое влияние на культурную жизнь и художественное творчество. Поначалу все ограничивалось отдельными высказываниями и небольшим давлением, которое со временем набирало силу. Наличие партийного билета начало давать право выступать от имени партии, пролетариата и даже истории. Левые художники и партийные деятели притязали на управление искусством, выражением чего стала, между прочим, организация пролетарскими писателями газеты с весьма красноречивым названием «На посту».
Всех творческих работников, которые не связали свою судьбу с пролетарским движением и просто хотели спокойно жить, Лев Троцкий в 1923 году окрестил «попутчиками». По его мнению, «попутчики» не были врагами народа, но представляли неоднозначную мировоззренческую позицию. Быстро и без колебаний к «попутчикам» причислили Максима Горького, поскольку он жил за границей, и даже Маяковского. Более того, ведущий журналист «Правды» Л. Сосновский безжалостно заклеймил Маяковского только за то, что тот осмелился предъявить иск «одному из наших старейших товарищей И. Скворцову-Степанову», который, как руководитель издательства, «отказался заплатить гонорар за какую-то футуристическую чушь, опубликованную в театральном журнале». Сосновский озаглавил свою статью так: «Довольно „маяковщины“», а закончил ее недвусмысленной угрозой: «Мы постараемся прекратить ваши неуместные и слишком дорогие для республики шутки»[71]. И это было не первое предостережение в адрес «попутчиков». Вскоре напомнили историю расстрела поэта Николая Гумилева[72]. Людям умственного труда начали открыто угрожать изгнанием и «карающим мечом диктатуры».
Следующий этап расширения влияния партии на искусство определила резолюция Центрального комитета от 27 февраля 1922 года «О борьбе с мелкобуржуазной идеологией в области литературно-издательской»[73]. Резолюция четко определяла, какие литературные произведения можно публиковать, а какие не следует. В частности, было рекомендовано печатать работы молодых писателей, входивших в образовавшуюся после революции литературную группу «Серапионовы братья», но при условии «неучастия последних в реакционных изданиях». А то, какие издания являются реакционными, решала партия.
В середине 20-х годов протестующие голоса стали затихать и все реже появлялись в печати. Ведущий литературный критик П. Коган уведомлял:
«Революции надолго приходится забывать о цели средства, изгнать мечты о свободе для того, чтобы не ослаблять дисциплины. „Прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное“ — вот что пока принесла революция нового: вместо золоченого — железное ярмо. Кто не понимает, что это единственный путь к свободе, тот вообще ничего не понимает в совершающихся событиях»[74]. Коган с уважением отмечал «исключительный интерес, который проявляет современная беллетристика к чека и чекистам. Чекист — символ почти нечеловеческой решимости, существо, не имеющее права ни на какие человеческие чувства, вроде жалости, любви, сомнений. Это — стальное орудие в руках истории»[75]. И в качестве такового орудия он должен выполнить свой долг перед историей: заставить народ быть счастливым.
В 1925 году, когда после смерти Ленина Сталин постепенно начал занимать положение вождя, искусству стало уделяться еще больше внимания и была провозглашена генеральная линия действий в области культуры. Московский комитет партии провел совещание, посвященное свободе мышления, — последнюю встречу, на которой представители интеллигенции могли высказать свои взгляды и тут же узнать точку зрения властей. Через несколько месяцев отдел труда Центрального комитета партии провел совещание, посвященное политике в области художественной литературы. Единства взглядов не было, так как некоторые писатели уже разобрались в смысле происходивших событий. Пастернак заявил, что страна переживает не культурную революцию, а «культурную реакцию»[76]. Осип Мандельштам, по воспоминаниям его жены, понял, что петля на шее литературы отныне будет затягиваться все туже. Нашлись, однако, и такие, чьи убеждения оказались в полном согласии со сложившейся ситуацией. Пролетарские писатели, близкие к объединению «Октябрь», требовали применения к «попутчикам» политики «большой дубинки» и жаждали, по выражению Ленина, «морально изнасиловать» их. Маяковский призывал дать бой Михаилу Булгакову, автору поставленной в МХАТе пьесы «Дни Турбиных»: «Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть — и пискнул. А дальше мы не дадим»[77]. Еще в середине 20-х годов Маяковский полностью отождествлял себя с теми, кто дает или не дает писателям «пискнуть», — бывший бунтарь стал гонителем ереси.
В музыкальной среде также происходило нечто подобное. Группа Проколл считала, что все творчество композиторов прошлого, таких как Чайковский или Шопен, стало ненужным и даже вредит воспитанию нового, большевистского слушателя. Высказывались предложения о закрытии Большого театра в Москве, быть может, под влиянием ленинских слов, сказанных им в 1917 году: «Не годится содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне»[78]. Считали, что нужно ограничиться сочинением массовых песен для солдат, матросов и рабочих. Члены РАПМ и Проколла всеми способами боролись с каждой прогрессивной тенденцией в искусстве, используя в этих целях свое влияние в партии.
Художественная жизнь подвергалась все большему опустошению. Авангардизм закончился, наиболее значительные деятели искусства выехали на Запад (в то время это еще было возможно), и только некоторые решили остаться в стране и работать в новых условиях. Когда разразилась революция, эмигрировал Рахманинов, а через год — Прокофьев, Обухов и Вышнеградский. В 1920 году Россия лишилась писателя Ивана Бунина и дирижера Сергея Кусевицкого, много сделавшего для новой музыки. На следующий год родину оставил Кандинский, в 1922-м — Артур Лурье, Наум Габо и Антон Певзнер, в 1923-м — Марк Шагал, в 1924-м — Вячеслав Иванов. В последующие годы выехать за границу становилось все труднее, тем не менее в 1926 году повезло Александру Бенуа, в 1928-м — Александру Глазунову и Николаю Малько, а в 1929-м — Иосифу Шиллингеру. Два года спустя список эмигрантов закрыл Евгений Замятин, автор книги «Мы», в которой тоталитарная система власти была показана в жанре, удивительно схожем с романами «О дивный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла; разрешение на выезд Замятин получил только благодаря личному ходатайству Горького перед Сталиным. Список эмигрировавших музыкантов можно пополнить именами композиторов, представлявших консервативные течения, — таких как Александр Гречанинов, Сергей Ляпунов, Николай и Александр Черепнины и Николай Метнер, а также исполнителей — дирижеров Александра Зилоти и Исая Добровейна, пианиста Владимира Горовица, скрипачей Яши Хейфеца и Натана Мильштейна, виолончелиста Григория Пятигорского и многих, многих других. Время необыкновенных успехов, экспериментов и поисков пришло к концу. У Шостаковича, как и у других художников его поколения, начало творческого пути совпало с периодом формирования новой культуры после Октябрьской России.
Глава пятая 1926–1930
Пианистическая деятельность. — Участие в I Конкурсе имени Шопена
Учась в консерватории, Шостакович внимательно следил за всеми новыми течениями в искусстве. Ассоциация современной музыки организовывала в Ленинграде много концертов авангардной музыки, и их программы импонировали ему разнообразием и размахом. «Я был довольно сильно увлечен такими композиторами, как Стравинский, Прокофьев, а из западных — Хиндемит, Кшенек, о которых мне говорили в консерватории, что это вообще не серьезная музыка»[79]. Однако чрезмерно авангардизмом Шостакович не увлекался: был для этого еще слишком молод, а под влиянием педагогов больше стремился к совершенствованию композиторской техники, чем к открытию новых выразительных средств. Сохранившиеся со времени учебы его произведения действительно показывают явную индивидуальность, но одновременно свидетельствуют о сильной связи их автора с традицией, главным образом русской.
Получив диплом, Шостакович стал аспирантом Ленинградской консерватории, что означало возможность дальнейших, уже самостоятельных занятий. Его тяжелое материальное положение не изменилось к лучшему, но внезапно помощь пришла с самой неожиданной стороны: значительную финансовую поддержку оказал молодому композитору командующий Ленинградским военным округом Б. Шапошников, действовавший по поручению Михаила Тухачевского. Получив эту материальную помощь, которая освободила его от забот, связанных с содержанием семьи, Шостакович мог продолжать творческую работу.
Однако наступил момент, когда нужно было решать, в каком направлении будет развиваться его дальнейшая композиторская и пианистическая деятельность. По окончании учебы собственное творчество стало казаться Шостаковичу незрелым, малооригинальным, и даже триумф Первой симфонии не придавал ему веры в свои способности. Как нужно творить дальше? На этот вопрос он пока не находил ответа.
Наступил кризис, продлившийся почти год — до конца 1926 года, о чем впоследствии Шостакович вспоминал так:
«Не могу сейчас вспомнить почему, но в какой-то короткий период после окончания консерватории я был внезапно охвачен сомнением в своем композиторском призвании. Я решительно не мог сочинять и в припадке „разочарования“ уничтожил почти все свои рукописи. Сейчас я очень жалею об этом, так как среди сожженных рукописей была, в частности, опера „Цыгане“ на стихи Пушкина. <…> Встала проблема: кем быть — пианистом или композитором?»[80]
Развитие композиторской техники и совершенствование музыкального языка, выработанного в ходе учебы, не привлекали Шостаковича. Успех Первой симфонии заставлял подозревать, что сочинение дается ему чересчур легко. Он опасался, что, используя академическую технику, легко может стать эклектиком, и поэтому вообще перестал сочинять.
Зато много времени он посвящал игре на рояле. Любопытство Шостаковича возбуждала прежде всего новейшая музыка, но в свой репертуар он включал главным образом классические произведения. Важное место в его программах занимала музыка Бетховена, Шумана и Листа, интересовал его и Шопен. В этом отношении он напоминал выдающегося немецкого пианиста Артура Шнабеля, который тоже некоторое время занимался композицией, осуществляя смелые поиски, даже под влиянием Арнольда Шёнберга, исполнял же прежде всего классические произведения. Шостакович намеревался овладеть так называемым великим репертуаром пианиста. В его программу уже входили фортепианные концерты Шумана и Чайковского, сонаты Бетховена и Листа, этюды Шопена… Впрочем, иногда он играл и современные произведения. Так, в конце 1926 года участвовал в первом исполнении в Советском Союзе «Свадебки» Стравинского — вместе с двумя пианистками, Марией Юдиной и Аллой Маслаковец, композитором Гавриилом Поповым и музыкантами Ленинградской филармонии. Через три года разучил Первый фортепианный концерт Сергея Прокофьева и впервые исполнил его 3 февраля 1929 года в Ленинграде с филармоническим оркестром под управлением Георгия Шейдлера; при этом он самовольно внес в прокофьевскую партитуру некоторые поправки, касающиеся инструментовки.
В начале декабря 1926 года Болеслав Яворский, музыковед польского происхождения, живший в Москве, написал Николаеву:
«Дорогой Леонид Владимирович, в феврале или марте в Варшаве состоится международный пианистический конкурс Шопеновский (до 27 лет включительно для участвующих). Я бы хотел, чтобы среди русских пианистов участвовали Софроницкий и Шостакович. Им нужно показать себя международной критике. <…> Буду очень благодарен Вам, если… получу Ваше согласие, чтобы официально выставить их кандидатуры»[81].
Через два дня Яворский сообщил Николаеву, что в Москве на конкурс выдвинуты три кандидата: Владимир Софроницкий и Дмитрий Шостакович из Ленинграда, а также Владимир Горовиц от Украины. Горовиц не изъявил желания участвовать в варшавском конкурсе, а вскоре список кандидатов снова подвергся изменениям.
Все это случилось в тот момент, когда Шостакович счастливо преодолел творческий кризис и к концу 1926 года относительно быстро написал очень нетрадиционную фортепианную сонату, которую в первый раз исполнил 2 декабря в Ленинграде. Предложение участвовать в конкурсе было для него чрезвычайно заманчивым, но времени на подготовку программы оставалось очень мало — всего месяц. Однако Шостакович сразу решился: хотя он и выступал уже шесть лет, ему еще не приходилось мериться силами с пианистами из других стран. Поэтому с момента объявления конкурса он постоянно встречался с профессором Николаевым, отшлифовывая программу. Николаев старался не навязывать ему интерпретацию, но это не всегда было возможно, так как Шостакович трактовал Шопена скорее как композитор, чем как пианист; кроме того, ему недоставало техники, мягкого певучего звучания и музыкальной зрелости.
«…В пятницу 14 января 1927 года он выступил с этой программой в Москве, в Большом зале консерватории. Играли пять кандидатов: три москвича — Л. Оборин, Г. Гинзбург, Ю. Брюшков и два ленинградца — Д. Шостакович и И. Шварц. <…> Судя по отзывам, Шостакович, видимо, уступал москвичам в техническом совершенстве и законченности интерпретации. У него не было той виртуозной свободы, которой уже тогда отличалась, например, игра Григория Гинзбурга. Пианист Ан. Дроздов, рецензировавший концерт в журнале „Музыка и революция“, считал, что с чисто технической стороны Шостакович еще не успел доработать программу. Общий же план исполнения не вызывал возражений. Газета „Известия“ дала Шостаковичу лаконичную, сдержанную, но ободряющую характеристику: „Шостакович — умный, последовательный музыкант, ясно осознающий и раскрывающий структуру исполняемого“. Газета выражала уверенность в успешных итогах конкурса»[82]. 16 января советские пианисты пересекли польскую границу и прибыли в Варшаву.
«На вокзале нас встретили тов. Попов и Григорович из Полпредства и доставили нас в Hotel Victoria, — писал Шостакович в письме к Болеславу Яворскому. — Кое-как успев переодеться, побежали в Шопеновскую школу и стали тянуть жребий. Гинзбург вытащил № 1. Мы тогда взъерепенились и попросили поменять, т. к. конкурс должен был начаться на другой день в 12 ч[асов] дня. Гинзбург с кем-то поменялся и стал 22-м. Оборин вытянул № 11, Брюшков — № 19 и я № 30»[83].
В I Конкурсе имени Шопена приняли участие 32 кандидата, которые в первом туре исполняли сольную программу, а во втором — две части из предложенного Концерта для фортепиано (оркестром управлял Эмиль Млынарский). Жюри состояло исключительно из поляков, и только в последних прослушиваниях участвовал немецкий пианист Альфред Хён[84].
У Шостаковича уже во время жеребьевки побаливал живот. Праздничный день открытия конкурса оказался для него чрезвычайно неприятным, о чем он позднее сообщал Яворскому:
«Утром я просыпаюсь с большой болью в животе. Но, несмотря на это, пошел на открытие конкурса. Во время чьей-то зажигательной речи боли до такой степени усилились, что я побежал домой, разделся и лег. Боли — crescendo. <…> Часа 2 я пролежал и стал одеваться с твердым намерением послать за касторкой. Когда я натянул брюки, послышался стук в дверь и вошел Попов. Вы только подумайте! Никому из моих дорогих товарищей в голову не пришло справиться, что со мной, а Попов прибежал. <…> Привел он меня в Полпредство, в квартиру тов. Кенига, председателя Месткома. Я страдаю невероятно. Меня Кениги (с женой) сейчас же уложили в постель и послали за доктором. Приходит доктор, щупает живот, смотрит язык, считает пульс, мерит температуру и объявляет: Аппендицит! Так-с. Он (доктор) уходит, попутно прописав порошки. А живот все же здорово болит. Через полчаса приносят порошки и через 3 мин[уты] после приема меня вырывает. Тов. Кениг говорит, что это хорошо и сейчас же полегчает. Дал выпить воды — и опять рвота. Рвало меня раз 6–7. Но легче не делалось. Чем дальше, тем хуже. Наконец приходит доктор вторично. <…> Вдруг я начинаю плакать. Плачу-плачу без конца. Все меня успокаивают и т. д. Попов мне ставит на живот компресс, и я малость успокаиваюсь. Я это происшествие до сих пор не могу вспоминать без величайшего умиления. До чего трогательно ко мне отнеслись! Затем меня приходят навещать мои дорогие товарищи. Как они пришли, я опять в рев».
Первым из русских выступил Лев Оборин. Илья Эренбург вспоминал: «Варшава исправно восторгалась. Оборин чуть не погиб, удушенный толпами сумасбродных поклонниц»[85]. Шостакович же об этом так рассказывал Яворскому: «Дальше все пошло как по маслу. На другой день появилась рецензия в „Курьере поранном“, где Оборин был назван героем дня. В этот же день играл Брюшков. Играл „великолепно“. На 3-й день играл Гинзбург, и рецензия — „Брюшков — герой дня“. Сегодня играл я, и рецензия — „Гинзбург — герой дня“. Что будет завтра — не знаю».
Несмотря на плохое самочувствие, Шостакович выкладывался без остатка. В его игре не было слышно никаких технических погрешностей, и потому критики писали: «О технике уже не приходится говорить, она на высоте!»[86] Шостакович и сам был доволен своей игрой.
«Начал я с полонеза (здесь все им кончают). После него хлопали изрядно. Пришлось раскланяться. Хлопали и после каждого ноктюрна. Хлопали подолгу, так что приходилось вставать и кланяться. После fis-moll’ной прелюдии здорово хлопали; после b-moll’ной тоже. <…> Один мой знакомый сообщил мне, что Шпинальский (играл передо мной) играл эту прелюдию 51 сек[унду]. Я же сыграл ее в 47. В As-dur’ном этюде захлопали после арпеджий, и захлопали основательно. Мне кажется, что мне удалось произвести этим этюдом должное впечатление. После cis-moll’ного я встал и раскланивался дважды. После баллады здорово хлопали. <…> Собой я доволен. Я играл, забыв все на свете, как говорится, со вдохновением».
В итоге Шостаковичу присудили только почетный диплом. Пальма первенства досталась Оборину, а остальные места получили Станислав Шпинальский, Ружа Эткин и Григорий Гинзбург; Хенрик Штомпка завоевал награду Польского радио за лучшее исполнение мазурок. Почетные дипломы получили также Юрий Брюшков из СССР, Якуб Гимпель, Леопольд Мюнцер, Эдвард Пражмовский и Болеслав Войтович из Польши, Вильгельм Момбартс из Бельгии и Тео ван дер Пасс из Голландии.
Итак, конкурс оказался в значительной степени победой русских. Кароль Шимановский писал: «Что касается русских пианистов, недавно выступавших у нас Варшаве, Лодзи, Кракове, Львове, Познани и Вильне, то они просто положили нашу музыкальную общественность к своим ногам. Пришли, поиграли и победили… Это нельзя назвать успехом или даже фурором. Это было победное шествие, полнейший триумф!»[87]
В письме к матери Шостакович подвел итоги конкурса:
«Дорогая моя мамочка. Вот конкурс и окончился… Нисколько не огорчен, так как дело все же сделано. Программу я играл очень удачно и имел большой успех и был назначен в числе 8 человек для игры концерта с оркестром. Концерт я играл исключительно удачно… Встретили меня бурной овацией, проводили еще бурней. Все поздравляли и говорили, что на первую премию есть два кандидата: Оборин и я. Кроме того, о советских пианистах говорили и писали, что они идут лучше всех. И уж если кому и отдать все 4 премии, так это нам. Тем не менее жюри „с болью в сердце“ решило отдать первую премию русскому и таковую присудили Леве; распределение других премий вызвало полное недоумение публики. Я же получил почетный диплом. Малишевский, кот[орый] читал перечень наград, забыл прочесть мою фамилию. Тогда в публике раздались голоса: „Шостакович, Шостакович“ и раздаются аплодисменты. Тогда Малишевский читает мою фамилию, и публика закатывает мне бурную овацию, довольно демонстративную. Ты не огорчайся. Сейчас сидит антрепренер, кот[орый] ведет со мной переговоры о концертах. Уеду я в Берлин на той неделе, в субботу 5-го концертирую в Варшаве. Крепко целую. Ваш Митя»[88].
В январе 1927 года Ярослав Ивашкевич сообщал жене о встрече с музыкантами из России: «Итак, вчера у нас было то самое чаепитие. Должны были собраться в полшестого. Я пригласил жену Ярошевича (Зофью Гуляницкую, пианистку. — К. М.), Шпинальского, Олека (Ляндау. — К. М.), Романа (Ясиньского, пианиста. — К. М.), Артура Таубе, Стефана Шписса, Штомпку — все пришли, а русских нет. Не пришли. И только когда все успели разойтись, остались лишь Олек и Артур Таубе, как в полвосьмого раздается звонок и вваливаются эти сопляки. Двое из них очень милые, особенно Брюшков… Очаровательный Оборин, ему девятнадцать лет, потом ужасный и антипатичный Гинзбург (лучший пианист из них всех) и маленький двадцатилетний петербургский студент, Шостакович. Их невозможно было оторвать от рояля, но, к сожалению, играли они только фокстроты и показывали разные штучки. Только Шостакович сыграл свою Сонату, огромную махину в прокофьевском стиле. Посидели часа полтора и ушли, так как спешили еще на прием к Влодзю Четвертыньскому. <…> Вчера вечером я был на концерте Оборина и Шостаковича, который по моему совету им устроил Тадзё Винярский. Оборин играл очень хорошо, Шостакович хуже (у него был приступ аппендицита), но ты и представить не можешь, сколько там было народу. В такой жаре и в таком скопище людей, которые ни на миг не могли установить абсолютную тишину, я поражаюсь, что они вообще могли играть. Варшава на них помешалась — их разрывают на части; невозможно перекинуться с ними тремя словами: они окружены стеной молодых, пожилых и совсем старых женщин, которые затискивают их в угол и уже там откручивают им головы и кое-что другое (?)»[89].Через много лет, вспоминая о пребывании русских музыкантов в Польше, Ивашкевич признавался: «Для меня Шостакович с давних пор остался композитором той „огромной махины“, какой была его Первая соната, которую по просьбе моего тестя он дважды исполнил у нас, расстроив при этом струну нижнего D нашего старого „Бехштейна“»[90].
К сожалению, болезнь все чаще напоминала о себе Шостаковичу, поэтому варшавское выступление после конкурса, а также концерт в Берлине в начале февраля (с программой из собственных произведений) выглядели слабее и практически не нашли отклика в прессе. Сразу же после них Шостакович вернулся на родину и вынужден был немедленно лечь в больницу. Оперировал и лечил его Иван Греков.
Неудача на конкурсе не сломила Шостаковича, и он решил продолжать концертировать. Однако, вернувшись в Ленинград, он занялся в первую очередь сочинением, и хотя игра на фортепиано и публичные выступления продолжали увлекать его, он находил для них все меньше времени. В 1927 году он еще не раз выступал с концертами. 23 ноября им был исполнен Концерт для двух фортепиано Моцарта (вместе с Гавриилом Поповым), прошли также несколько его сольных концертов в филармониях Москвы и Ленинграда. Со следующего года количество концертов стало уменьшаться, и наконец Шостакович решил, что посвятит себя исключительно сочинительству и исполнению своих произведений. Последний сольный концерт, в программу которого вошли чужие произведения, он дал в 1930 году в Ростове-на-Дону. Позднее Шостакович время от времени исполнял чужую камерную музыку, в частности Сонату для виолончели Рахманинова с Виктором Кубацким, но это были лишь единичные эпизоды. Однако иногда он, видимо, жалел, что променял карьеру пианиста на композиторство, потому что в 1956 году признался: «По правде сказать, мне следовало бы быть и тем и другим. <…>…Я, к сожалению, забросил игру на фортепиано»[91]. Однако эстрада всегда стоила ему больших нервов, а волнения мешали выступать, о чем он писал в 1955 году одному из своих учеников: «Много концертирую, и без особого удовольствия. К эстраде я до сих пор не привык. <…> Как доживу до 50 лет, то прекращаю концертную деятельность»[92]. В действительности он выступал как пианист и после пятидесятилетнего возраста, пока ему позволяло здоровье.
Сохранилось много граммофонных записей Шостаковича с почти всей его фортепианной и камерной музыкой. Это любопытный документ, свидетельствующий о том, что игра на фортепиано была для него только побочной формой культивирования музыки. Техникой он владел в такой степени, что у слушателя создается впечатление, будто Шостакович не имел с ней никаких проблем. В то же время звук всегда был плоским и сухим, темп — слишком быстрым, игра — торопливой и нервной, лишенной певучести, — интерпретация, типичная для многих композиторов.
Глава шестая 1926–1927
Асафьев и Соллертинский. — Творческие эксперименты: Соната и «Афоризмы» для фортепиано, Вторая симфония
В середине 20-х годов Шостакович познакомился с несколькими музыкантами, которым суждено было сыграть большую роль в формировании его личности. Прежде всего это знакомство с Болеславом Яворским и Борисом Асафьевым и дружба с Иваном Соллертинским — тремя выдающимися музыковедами, повлиявшими на его дальнейшее развитие.
С Болеславом Яворским, замечательным теоретиком, пианистом и педагогом польского происхождения, Шостакович познакомился в марте 1925 года в Москве. Чуть ли не с самого начала между двумя музыкантами протянулись нити глубокой взаимной симпатии. Будучи старше почти на тридцать лет, Яворский взял на себя роль опекуна молодого композитора, по-отцовски давая ему советы и стараясь помочь ему в налаживании творческих контактов. Их дружеские отношения сохранились до самой смерти Яворского в 1942 году. Благодаря Яворскому Шостакович лично познакомился с Асафьевым.
Петербуржец Борис Асафьев (1884–1949), который был на двадцать два года старше Шостаковича, отличался необыкновенной интеллектуальной одаренностью. Он получил разностороннее образование, изучая композицию у Лядова и историко-философские дисциплины в университете. После революции Асафьев очень активно участвовал в музыкальной жизни, с одной стороны, создавая музыку к спектаклям Большого драматического театра в Петрограде, а с другой — занимаясь научной работой в Институте истории искусств, где возглавлял музыкальный отдел. В молодости он был страстным энтузиастом авангарда и потому в 20-е годы всеми силами способствовал введению современной западной музыки в советский концертный репертуар, а в 1929 году опубликовал первую монографию о творчестве Стравинского. Дружба с Прокофьевым, который был его соучеником, имела для него особое значение. Композитор посвятил ему свою знаменитую Классическую симфонию, а Асафьев при каждом удобном случае пропагандировал музыку своего друга: так, в статье, опубликованной в 1927 году в газете «Жизнь искусства» (№ 7), он назвал Прокофьева одним из крупнейших художников современности.
Первой встречи с Асафьевым Шостаковичу было нелегко добиться. Молодой композитор, который хотел показать старшему коллеге свою только что законченную Первую симфонию, много раз звонил ему по телефону, Асафьев же отделывался от него, ссылаясь на большую занятость. «Я всегда боюсь занятых людей», — жаловался Шостакович в письме к Яворскому. Когда же в конце концов встреча состоялась, чрезмерно впечатлительный Шостакович почувствовал разочарование. Он писал Оборину: «По тому, как он меня встретил, ясно было, что он ничего хорошего не ждет. Почему-то на свете есть люди, которые меня и моего производства не знают, а если знают, то очень мало, но тем не менее в музыкальном отношении считают меня если [не] ничем, то очень малой величиной. К числу таких принадлежал Асафьев. Встретил он меня страшно любезно. Напоил чаем. Поговорил об упадке интереса к музыке. Потом усадил меня за рояль и сказал: „Я очень часто не сразу разбираюсь в музыкальных произведениях, и если я вам ничего не скажу, то вы не смущайтесь. Когда-нибудь, при случае, я изложу вам или кому-нибудь свое мнение“»[93]. После встречи композитор запаниковал, опасаясь, что Асафьев в разговоре с Малько отзовется о симфонии отрицательно и дирижер откажется от запланированного исполнения.
Однако когда Шостакович начал посещать лекции Асафьева в консерватории, он изменил мнение об этом музыканте и с тех пор восхищался его эрудицией и интеллектом. Во время последующих встреч их отношения укреплялись и становились все теплее. Асафьев хотел помочь Шостаковичу начать педагогическую деятельность в консерватории, и действительно, через короткое время, с осени 1926 года, композитор приступил к занятиям по чтению с листа.
Однажды Асафьев был членом экзаменационной комиссии, перед которой Шостакович играл Вариации Богданова-Березовского. Дмитрий показывал свои произведения в ленинградской ACM, куда входил автор «Книги о Стравинском», в то время довольно критически отнесшийся к Скерцо для струнного октета, но зато с похвалой отозвавшийся о Первой симфонии. Для молодого композитора Асафьев был в ту пору большим авторитетом, тем более что поощрял Шостаковича к изучению произведений Шёнберга, Кшенека, Стравинского и французской «Шестерки».
Хорошие отношения между двумя музыкантами прекратились после того, как Асафьев не появился на премьере Первой симфонии. Рассерженный юноша писал в письме к музыковеду Сергею Протопопову, с которым поддерживал дружеские отношения: «А Асафьев все-таки не пришел. Не прийти слушать мою симфонию из-за отношений с Вейсберг и т. д…. У меня с Асафьевым все кончено»[94]. Можно только удивляться импульсивности и незрелости Шостаковича, который из-за столь ничтожной причины решил порвать отношения с человеком намного старше себя, выдающимся музыковедом и неоспоримым авторитетом в музыкальных кругах.
Дальнейший ход событий покажет, что Асафьев не всегда будет лоялен по отношению к Шостаковичу как в мелочах, так и в серьезных вопросах. Он не удосужился, например, передать композитору поздравительное письмо от Альбана Берга после исполнения Первой симфонии Бруно Вальтером. Что еще хуже, являясь циничным оппортунистом, он будет, в зависимости от политической ситуации, публично пересматривать свои взгляды, в том числе и на музыку Шостаковича. Однако в 20-е годы влияние Асафьева на Шостаковича было еще очень сильно. Есть определенная его заслуга в появлении наиболее радикальных в звуковом отношении произведений молодого композитора — фортепианной сюиты «Афоризмы» и его первой оперы «Нос». Асафьев воспринял их с энтузиазмом, хотя и не был еще убежден в значительности таланта их автора — столь же высоко, если не выше, оценивал он Гавриила Попова, которого считал самой большой надеждой русской музыки и даже какое-то время активно содействовал тому, чтобы именно Попов стал предводителем композиторской молодежи.
С годами пути Асафьева и Шостаковича расходились все больше. Этому, несомненно, способствовал и тот факт, что Асафьев, который и сам был композитором, создавал музыку эклектичную, лишенную каких-либо индивидуальных черт, неспособную пробудить в Шостаковиче интерес. Хотя в середине 40-х годов Асафьев и посвятил Восьмой симфонии Шостаковича статью, в которой назвал автора симфонии «одним из крупнейших мастеров советской музыки» и даже «гением»[95], однако под конец жизни, чтобы не противоречить тогдашней культурной политике властей, ученый, которому перевалило за шестьдесят, публично отрекся от своих убеждений, поставил под вопрос ценность музыки Шостаковича, подверг критике Прокофьева, заклеймил Шёнберга, Кшенека и Хиндемита, а также объявил огромной ошибкой публикацию собственной «Книги о Стравинском». Шостакович ощутил тогда такую обиду, что не избавился от этого чувства до конца жизни. Через много лет после смерти Асафьева он признался молодому композитору Эдисону Денисову: «Я встречал в жизни много хороших людей и много плохих, но большего мерзавца, чем Асафьев, — никогда»[96]. Из принципа никогда никого не критиковавший публично, в статье по случаю своего пятидесятилетия Шостакович позволил себе написать о многом говорящие слова: «В дальнейшем наши пути с Асафьевым разошлись. Я имел не раз случай убедиться в неустойчивости его позиций в вопросах искусства…»[97]
Вторым человеком, с которым Шостакович познакомился в тот период и которому суждено было сыграть большую роль в его жизни, был музыковед Иван Соллертинский (1902–1944). Впервые они встретились в 1921 году. Соллертинский уже тогда имел репутацию большого эрудита, исключительного знатока музыки и полиглота: он бегло говорил на нескольких языках и диалектах, в том числе староперсидском и санскрите. Свой дневник — чтобы никто из посторонних не смог его прочитать — он вел на старо-португальском. Шостакович, застенчивый и с трудом вступавший в контакт с людьми, с первого раза не сумел завязать с ним знакомство: «…когда в 1921 году один мой друг познакомил меня с Соллертинским, то я поскорее стушевался, так как чувствовал, что мне очень трудно будет вести знакомство со столь необыкновенным человеком».
Во второй раз они встретились только через пять лет, во время экзамена в аспирантуру.
«Большое число ленинградских студентов пришли сдавать экзамен по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами, — вспоминал спустя годы Шостакович. — В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Соллертинский.
Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Соллертинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его:
— Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?
Он ответил:
— Нет, совсем не трудный.
— А что у вас спрашивали?
— Вопросы были самые простые: зарождение материализма в Древней Греции; поэзия Софокла как выразителя материалистических тенденций; английские философы XVII столетия и еще что-то.
Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху?»
Когда им довелось встретиться в третий раз на приеме у Николая Малько, Шостакович «был совершенно поражен тем, что И. И. Соллертинский оказался необыкновенно веселым, простым, блестяще остроумным и совершенно „земным“ человеком». Продолжая свои воспоминания, композитор писал: «Гостеприимный хозяин не скоро отпустил гостей, и мы с Иваном Ивановичем шли домой пешком. В Ленинграде мы жили близко друг от друга. Нам было по пути. Долгий путь показался совсем коротким, так как идти было с Иваном Ивановичем легко и незаметно: столь интересно он говорил о самых разнообразных явлениях жизни и искусства. В процессе беседы выяснилось, что я не знаю ни одного иностранного языка, а Иван Иванович не умеет играть на рояле. Таким образом, уже на другой день Иван Иванович дал мне первый урок немецкого языка, а я дал ему урок игры на рояле. Впрочем, эти уроки весьма быстро кончились, и кончились плачевно: я не выучился немецкому языку, а Иван Иванович не выучился игре на рояле…»[98] Тотчас же по возвращении домой с приема у Малько Шостакович объявил матери: «Я нашел друга. Удивительного. Он придет завтра».
«С этого дня Соллертинский стал завсегдатаем нашего дома, — вспоминала сестра композитора Зоя. — Приходил с утра и оставался допоздна. Нескладный. Очень бедный. Веселый. Язвительный. Он восхищал нас, но и удивлял, даже пугал едким остроумием: мы не привыкли судить людей беспощадно. Худо было тому, кто попадался ему на язык»[99]. А первая жена Соллертинского, Ирина Францевна Дерзаева, так описывала необычную дружбу двух музыкантов: «Не было дня, чтобы они не встречались. Мы жили тогда на Пушкинской улице, в большой коммунальной квартире: Соллертинский был совершенно равнодушен к быту, удобствам, как и Шостакович. Обычно они уединялись и вели нескончаемый разговор. Шостакович музицировал. Крепчайший горький чай требовался в неограниченном количестве. Когда встречи не удавались, Шостакович обычно звонил по телефону. Называли они друг друга с забавной уважительностью — на ты, но по имени-отчеству: Ван Ваныч, Дми Дмитрич. Они были влюблены друг в друга, не скрывая обоюдного восхищения. Соллертинский не уставал повторять: „Шостакович — гений, это оценят“»[100]. Кроме ежедневных встреч друзья вели переписку. Впрочем, письма писал главным образом Шостакович, а Соллертинский не всегда на них отвечал, чем часто обижал друга.
В 20-е годы Соллертинский начал публиковать свои первые музыковедческие работы — об опере Кшенека «Джонни наигрывает», о «Кавалере розы» Р. Штрауса, о современной музыке, а в основном о западном авангарде. Вскоре он стал заведующим репертуарной частью Ленинградской филармонии, где уже укоренилась традиция исполнения музыки XX века; именно в эти годы были, между прочим, исполнены «Песни Гурре» Шёнберга и Фортепианный концерт Кшенека с участием Марии Юдиной.
Начиная с 1930 года Соллертинский публиковал статьи о большинстве вновь созданных Шостаковичем произведений и часто выступал о них на дискуссиях. О нем самом он писал:
«Шостакович как творческий тип полярно далек от романтически-дилетантского мифа о художнике, работающем лишь в моменты „озарений“, „наития“ и „божественного безумия“. Он прежде всего настоящий профессионал, владеющий техникой любого жанра. Он склонен порою даже полемически подчеркивать „ремесленность“ музыкальной профессии. Он работает помногу, быстро, нередко без черновиков, без клавираусцуга, сразу вписывая задуманное в партитуру. Подобно натренированному шахматисту во время сеанса одновременной игры на нескольких досках, Шостакович умеет работать сразу над несколькими музыкальными заданиями, иногда совершенно различного психологического диапазона»[101].
Музыкальные пристрастия Соллертинского распространялись как на серьезную, так и на легкую музыку. Он принадлежал к первым в Советском Союзе знатокам творчества Густава Малера и до такой степени внушил Шостаковичу интерес к его музыке, что вскоре Малер стал для молодого композитора одним из крупнейших музыкальных увлечений всей его жизни. Немногих творцов музыки Шостакович почитал с таким же пылом. Помню, как в 1974 году он признался мне: «Если кто-нибудь сказал бы мне, что мне остался всего час жизни, я хотел бы послушать еще раз последнюю часть „Песни о земле“». Соллертинский пробудил в Шостаковиче интерес не только к Брамсу и Брукнеру, но также Иоганну Штраусу-сыну и Жаку Оффенбаху: будущий автор оперетты «Москва, Черемушки» раньше не представлял себе, как серьезный музыкант может восхищаться легкой музыкой.
Осенью 1931 года Шостакович познакомился с режиссером Исааком Давыдовичем Гликманом, который вскоре подружился с ним и с Соллертинским. Столь же большую радость доставляли ему только встречи с Виссарионом Шебалиным и Львом Обориным — в силу обстоятельств довольно редкие, поскольку оба музыканта жили в Москве.
В конце 1926 года Шостакович неожиданно преодолел кризис и очень быстро сочинил одночастную фортепианную Сонату. С первого взгляда казалось, что это произведение вышло из-под пера совершенно другого композитора. Соната стала свидетельством коренной перемены, произошедшей в Шостаковиче в то время, доказательством полного отказа от музыкального языка, выработанного в ходе учебы.
Впервые он порвал и с тональностью, и со стереотипными формальными схемами. Связь этого произведения с традиционной формой сонаты чисто символическая — сочинение представляет собой скорее нетрадиционную по звучанию фантазию, состоящую из чередования различных тем и мотивов. Композитор отошел в Сонате от классически-романтической традиции большого пианистического искусства, трактуя фортепиано чуть ли не как ударный инструмент.
Один из первых эпизодов особенно четко выявляет пристрастие к жесткому звучанию, диссонантности и моторности, типичной, впрочем, для всего произведения, за исключением короткого импрессионистского фрагмента Lento. Хотя некоторые фрагменты обнаруживают (впрочем, достаточно опосредованно) связь с появившейся почти на десять лет раньше Третьей фортепианной сонатой Прокофьева, Шостакович все же оказывается более радикальным в отношении звучности, чем большинство представителей тогдашнего авангарда:
Сочинение это исключительно трудное для исполнения и свидетельствующее о том, что уже в те годы пианистическая техника автора была весьма развитой и зрелой.
Шостакович исполнял Сонату публично всего несколько раз. После декабрьской премьеры в Ленинграде он дважды сыграл ее в январе 1927 года для московской публики: первый раз — в консерватории и второй — в Зале имени Бетховена в Большом театре. После одного из этих выступлений, когда слушатели аплодировали ему без особого энтузиазма, он сказал со сцены тихим, застенчивым голосом: «В целях лучшего усвоения этой музыки я сыграю ее еще раз», — после чего повторил Сонату целиком[102]. Следующие выступления состоялись после закрытия Шопеновского конкурса: 1 февраля — в Варшаве, через два дня — в Берлине и, судя по всему, последний раз — 14 сентября 1935 года в Ленинграде на авторском концерте. О более поздних авторских исполнениях Сонаты ничего не известно, а другие музыканты пока не проявляли интереса к произведению, за исключением румынского композитора и пианиста Михаила Жоры (1891–1971), который во второй половине 30-х годов несколько раз исполнял Сонату в своей стране — впрочем, также без особого успеха.
Произведение в основном раздражало слушателей, и только немногие были способны понять эту сложную музыку. Леонид Николаев сказал с горькой иронией: «Разве это Соната для фортепиано? Нет, это „Соната“ для метронома в сопровождении фортепиано!»[103] В 1935 году видный музыковед Михаил Друскин определил Сонату как «крупную творческую неудачу композитора», отметив, что в ней встречаются элементы прокофьевской динамики с «ударно-шумовой трактовкой фортепиано (прообраз: Piano Rag Music Стравинского, фокстрот „Adieu, New York“ Орика, сюита „1922“ Гиндемита)»[104]. Один из немногих положительных отзывов содержится в рецензии Виссариона Шебалина, который констатировал: «Блестящее и увлекательное фортепианное изложение выгодно отличает сонату талантливого ленинградского автора от многих quasi-фортепианных сочинений, к сожалению, столь частых в последние годы. Некоторая сухость мелодики, гармоническая жесткость и неопределенность формы преодолеваются разнообразием динамики и юношеским задором, находящим свое выражение в контрастной смене движений и в буйном разбеге быстрых частей сонаты»[105].
Шостакович имел возможность показать Сонату Прокофьеву. Это случилось во время их первой встречи, 23 февраля 1927 года в Ленинграде. Живший в то время за границей создатель Классической симфонии впервые за много лет приехал на родину и впечатление об этой встрече записал в дневнике так: «…Шостакович, совсем молодой человек, не только композитор, но и пианист. Играет он бойко, наизусть, передав мне ноты на диван. Его Соната начинается бодрым двухголосием, несколько баховского типа, вторая часть сонаты, непрерывно следующая после первой, написана в мягких гармониях с мелодией посередине. Она приятна, но расплывчата и длинновата. Анданте переходит в быстрый финал, непропорционально короткий по сравнению с предыдущим. Но все это настолько живей и интереснее Шиллингера, что я радостно начинаю хвалить Шостаковича. Асафьев смеется, что Шостакович оттого мне понравился, что первая часть его Сонаты написана под моим влиянием»[106]. В написанных позже воспоминаниях Прокофьева читаем: «Молодые ленинградские композиторы показали мне свои сочинения. Из них особого внимания заслуживали Соната Шостаковича и Септет Гавриила Попова»[107]. Сам же Шостакович никогда не вспоминал об этой встрече, словно у него не осталось от нее никакого впечатления.
Первоначально в нотах сочинения стоял заголовок: «Октябрьская соната», но через три года композитор отказался от этого названия. Соната довольно быстро была предана забвению, однако критики еще долгие годы навешивали на нее ярлык «формалистического экспериментаторства».
Следующее произведение, созданное уже по возвращении с Конкурса имени Шопена, также предназначалось для фортепиано. Над циклом «Афоризмы» Шостакович интенсивно работал с 25 февраля по 7 апреля, сочинив десять необычных миниатюр с названиями, продолжавших звуковые эксперименты Сонаты. Фантазия композитора в «Афоризмах», кажется, не имеет границ. Новаторским было уже само музыкальное повествование, сконцентрированное до веберновских размеров — например, четвертая часть (Элегия) умещается в восьми тактах и длится всего 46 секунд! Ноктюрн записан в бестактовой нотации. В Похоронном марше появляются фортепианные флажолеты, получаемые путем беззвучного нажатия клавиши во время звучания ранее взятого и удерживаемого аккорда. Трехголосный канон записан на трех отдельных нотных станах, а начинающий его атональный пятизвучный мотив становится исходным пунктом для типично пуантилистского развития — сходство со стилем Веберна в этой миниатюре совершенно очевидно. Заголовки не соответствуют музыке: Похоронный марш звучит гротесково и должен исполняться в быстром темпе, Ноктюрн не имеет ничего общего с традицией XIX века, Этюд пародирует «Школу беглости» Черни. Название «Афоризмы» предложил Болеслав Яворский. Дружеские отношения с этим выдающимся польским музыковедом постоянно крепли, и в знак благодарности композитор подарил Яворскому рукопись сочинения.
Впервые Шостакович сыграл «Афоризмы» осенью 1927 года в Ленинграде, на организованном ACM концерте, на котором он, кроме того, аккомпанировал певице Лидии Вырлан. Новое сочинение встретило еще большее непонимание, чем Соната, и это даже привело к разрыву отношений между Шостаковичем и Штейнбергом, уже не признававшим тех направлений, которые интересовали его ученика. Зато Борис Асафьев оказался горячим поклонником обоих сочинений. «Мне больше нравятся его [Шостаковича] фортепианные вещи последнего периода, где звучит ищущая, беспокойная мысль», — писал критик[108].
К сожалению, это был, пожалуй, единственный авторитетный голос, положительно оценивший эксперименты молодого композитора.
Сам же он на аспирантском экзамене в 1928 году так охарактеризовал свое произведение: «В сочинениях камерно-инструментальных меня интересовала задача отыскания нового стиля фортепианного изложения, что мне удалось отчасти в „Афоризмах“, где стиль исключительно полифонический, малоголосный»[109]. Несмотря на то что «Афоризмы» были напечатаны, они не удержались в репертуаре, как явление, слишком радикальное для российских музыкантов 20-х годов.
В конце марта Шостакович получил первый официальный заказ от государственного учреждения. Агитотдел Музсектора государственного издательства, руководимый композитором Львом Владимировичем Шульгиным (1890–1968), обратился к Шостаковичу с предложением написать симфоническое произведение к приближающейся десятой годовщине Октябрьской революции. В качестве основы ему было послано стихотворение поэта-комсомольца Александра Безыменского. В письме к Протопопову композитор жаловался на высокопарность и поверхностность поэзии, типичной для литераторов, связанных с группой «Октябрь»: «…получил стихи Безыменского, которые меня очень расстроили. Очень плохие стихи»[110]. Однако, решившись на выполнение заказа, он приступил к работе немедленно, в первых числах августа. Новое сочинение сначала получило название «Посвящение Октябрю», позднее Шостакович стал считать его своей Второй симфонией. Хор выступает только в заключительном фрагменте этого небольшого произведения, длящегося в целом около двадцати минут.
В этой симфонии Шостакович продолжает эксперименты, начатые в Сонате и «Афоризмах», между прочим, используя фабричный гудок, который, кстати, вполне могли заменить инструменты симфонического оркестра. Особенно интересно начало симфонии. У самых низких струнных проходит музыкальная мысль (собственно говоря, атематическая), затем ее поочередно подхватывают другие инструменты. Начальное движение четвертями сгущается благодаря включению все более мелких длительностей: восьмых, триолей восьмыми, шестнадцатых, вплоть до секстолей шестнадцатыми, что создает впечатление сплошного шума. Из обманчивого хаоса как бы случайных созвучий выделяется тема трубы, атональная, тоже выстроенная из не связанных между собой звуков. С первого такта чувствуются зачатки драмы. Напряжение нарастает медленно, но неумолимо, подводя к первой кульминации, послекоторой начинается новый эпизод — гротесковое скерцо, имеющее общие черты с некоторыми фрагментами Первой симфонии (пример 7).
В следующем эпизоде композитор вводит тринадцатиголосное фугато, свидетельствующее о новом отношении к полифонии. Цель Шостаковича — не выделение отдельных голосов в многоголосной имитации, а постепенное уплотнение фактуры, которая в результате дает необыкновенный эффект звучания: последний фрагмент фугато слушатель воспринимает как вибрирующее звуковое пятно — можно сказать, подвижный кластер, столь часто применяемый в музыке 50-х и 60-х годов нашего столетия.
Шостакович одним из первых применил такой тип линеарности. Примеры подобного многоголосия имеются еще в нескольких более поздних его произведениях.
Последний, четвертый, эпизод Второй симфонии оказывается неожиданно простым, даже примитивным, и в определенной степени плакатным. Музыкальный материал никак не вяжется с предыдущими фрагментами, и потому финал создает впечатление искусственно прицепленного. Хор трактуется в речитативном плане, в некоторые моменты он вообще не поет, а только скандирует агитационное стихотворение Безыменского. Намеренно упрощенная фактура финала превратила симфонию в род пропагандистской кантаты, однозначной в своей программности. Это, несомненно, стилистический эксперимент, основанный на соединении крайне конструктивистской инструментальной техники с простой, почти примитивной вокальной фактурой, попытка примирения двух прямо противоположных эстетических позиций. Тем не менее нельзя отказать некоторым-фрагментам последнего эпизода в силе выражения, о чем свидетельствует, например, первое вступление басов;
Когда произведение было закончено, Николай Малько предложил Шостаковичу послать Вторую симфонию на конкурс, объявленный по случаю 10-й годовщины революции. Композитор согласился, явно рассчитывая на победу, потому что стремление быть всегда самым лучшим все более его охватывало. После триумфального приема Первой симфонии он постоянно жаждал большого успеха, а при каждой неудаче испытывал безграничное отчаяние. Однако результаты конкурса разочаровали его. Жюри первой премии вообще не присудило, а две другие разделило между Шостаковичем и известным в то время дирижером Владимиром Александровичем Дранишниковым (1893–1939), который представил Трагическую поэму под псевдонимом Я. Фихер. Реакция Шостаковича была неожиданной: он обиделся на Малько и послал ему длинное письмо, обвиняя его в том, что тот якобы обещал ему первую премию, а затем обманул. Инцидент послужил причиной временного охлаждения в отношениях между обоими музыкантами, тем не менее Малько, несмотря на несколько других неприятных инцидентов, глубоко верил в большой талант Шостаковича и в течение всей своей жизни пропагандировал его музыку.
27 октября Малько начал репетиции Второй симфонии, которую должен был исполнить на юбилейном торжественном концерте вместе с «Симфоническим монументом» Михаила Гнесина и сюитой «Большевики» Владимира Дешевова. Шостакович присутствовал на всех репетициях (они проходили по два раза в день), вносил в партитуру мелкие поправки, спорил с музыкантами о нюансах исполнения. Премьера вначале планировалась на 6 ноября, но позднее власти решили объединить концерт с торжественным собранием и перенести его на 5 ноября. Празднество почтили своим присутствием Михаил Калинин и Валериан Куйбышев, Анатолий Луначарский и Георгий Чичерин[111]. Собрание началось в девять часов вечера, продолжалось два часа, и только потом начался концерт. «Мою пьесу начали играть в 11 ¾, — писал Шостакович в письме к Шульгину. — Оркестр страшно утомился от ожидания. Публика тоже. Несмотря на это обстоятельство, „Октябрю“ прошло блестяще. И хор, и оркестр, и дирижер были на высоте положения. Успех внешне был весьма солидный. Меня вызывали 4 раза. После этого еще много хлопали, но я больше не выходил»[112]. На следующий день «Посвящение Октябрю» было повторено на очередном торжественном собрании, но прошло уже с меньшим успехом. Третье исполнение состоялось тоже в Ленинграде. На этом концерте Шостакович выступил еще и в качестве пианиста и, несмотря на протесты Малько, в кошмарно быстром темпе сыграл Концерт для фортепиано с оркестром b-moll Чайковского. 4 декабря в Москве новую симфонию исполнил выдающийся армянский дирижер Константин Сараджев (1877–1954), всегда с удовольствием включавший в свои программы современную музыку.
Все исполнения Второй симфонии были встречены критикой благожелательно. Отмечалось стилистическое единство фортепианной Сонаты и «Посвящения Октябрю», в сложности фактуры усматривали дух нового времени. Симфония очень понравилась Луначарскому, молодым композитором заинтересовался Сергей Киров, возглавлявший в то время ленинградскую партийную организацию. Однако произведение не закрепилось в репертуаре, а за границей не вызвало никакого интереса, поскольку для западных музыкантов и меломанов было неприемлемо его пропагандистски-плакатное звучание. В середине 30-х годов, когда в Советском Союзе кардинально изменилась культурная политика, Вторая симфония была признана проявлением крайнего формализма и «антихудожественным произведением». На эстраду она вернулась только в 1966 году, когда ее несколько раз исполнили в Ленинграде, Москве и Риге. Однако к тому времени композитор уже достаточно далеко отошел от исканий подобного рода и его не интересовали ни сонористические эксперименты, ни наивная программность, а Вторую симфонию, как и некоторые другие произведения того времени, он склонен был считать не вполне удавшимися (об этом после его смерти неоднократно говорил его сын Максим). Тем не менее «Посвящение Октябрю» и по сей день остается необычайно интересным документом своего времени.
Глава седьмая 1927–1930
«Нос» — создание и сценическая судьба оперы
Соната для фортепиано, «Афоризмы» и Вторая симфония стали для Шостаковича областью поисков, проб и экспериментов. Однако его амбиции простирались значительно дальше. Он хотел создать индивидуальный современный музыкальный язык, а также попробовать свои силы в крупной форме, прежде всего в опере. В этих стремлениях его поддерживал Асафьев. Вдохновляюще воздействовали на него и спектакли «Воццек» Берга, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева и «Прыжок через тень» Кшенека, которые он видел на сцене Мариинского театра.
Шостакович мечтал об опере на современную тему, опирающейся на советскую литературу молодого поколения. В поисках основы для либретто он просмотрел много книг, но не нашел ничего, что удовлетворяло бы его. Попытки склонить к сотрудничеству нескольких молодых писателей не увенчались успехом. И тогда он обратился к русской классике. А поскольку будущее сочинение представлялось ему только в облике комической или сатирической оперы, Шостакович надеялся, что найдет подходящую тему у Салтыкова-Щедрина или Чехова, своих любимых писателей. Однако в конце концов ему стало ясно, что лучше всего для этой цели подойдет одно из произведений Гоголя, которыми он зачитывался с давних пор.
Оперы на гоголевские сюжеты уже стали в России традицией. «Женитьбу» и «Сорочинскую ярмарку» начал писать Мусоргский. Чайковский сочинил «Черевички» по повести «Ночь перед Рождеством». Римский-Корсаков поставил «Майскую ночь» и еще одну «Ночь перед Рождеством». Украинский композитор Николай Лысенко написал «Тараса Бульбу». Шостакович же решил использовать повесть «Нос» из цикла петербургских повестей — сатиру из эпохи Николая I.
С просьбой о написании либретто он обратился к популярному в те годы писателю Евгению Замятину — автору, вызывавшему многочисленные споры и пользовавшемуся репутацией независимого художника, выступающего против любого соглашательства. Замятин набросал несколько сцен, но они разочаровали Шостаковича, который использовал, да и то не без некоторых оговорок, только монолог Ковалева. Поэтому композитор предложил сотрудничество Александру Прейсу и Георгию Ионину, двум очень талантливым молодым литераторам, в наши дни совершенно забытым. В 20-х годах Прейс зарабатывал себе на жизнь, трудясь в должности с громким названием «представитель по делам недвижимого имущества» (что на нормальном языке означало ночного сторожа) на конфетной фабрике, которая до революции принадлежала Георгию Ландрину. Прейс умер в 1944 году.
У Ионина тоже была нетипичная биография. Свою «карьеру» он начал как простой уличный воришка. Отправленный в школу для малолетних преступников имени Федора Достоевского (!), он так пристрастился к чтению, что это увлечение не только помогло ему выбраться из низов общества, но даже способствовало тому, что через несколько лет он стал знатоком русской литературы, замечательным стилистом. На основе гоголевского наброска он написал в стиле великого писателя комедию «Владимир третьей степени», с большим успехом шедшую в Ленинграде. Умер Ионин совсем молодым, но перед смертью сумел осуществить мечту своей жизни — стал театральным режиссером.
Поскольку, по мнению композитора, повесть содержала слишком мало текста, либреттисты дополнили ее фрагментами из «Старосветских помещиков», «Мертвых душ», «Тараса Бульбы» и «Женитьбы» Гоголя, а кроме того, включили в «Нос» еще и песенку Смердякова из «Братьев Карамазовых» Достоевского. В результате получилось 12 картин, сгруппированных в три акта в соответствии с принципами традиционной драматургии. В первом акте происходит завязка интриги: майор Ковалев теряет нос и начинает его поиски. Во втором акте ситуация усложняется, но главным образом продолжаются безнадежные поиски носа. В третьем акте кульминацией является сцена погони за носом, а выяснение того, что все события были только фантастическим анекдотом, приводит к развязке. Картины, каждая из которых является самостоятельной сценкой, соединены между собой как бы в подражание технике монтажа кинокадров, что дополнительно подчеркивает эксцентричность фабулы. Кадровость словесного и музыкального действия, с одной стороны, обусловливалась увлеченностью Шостаковича современной западной оперой (такое же строение имеет «Воццек» Берга), а с другой стороны, могла быть результатом его работы в немом кино, где нанизывание отдельных эпизодов было единственно возможным способом развития действия.
Работа над партитурой «Носа» продвигалась в невероятном темпе. Первый акт Шостакович начал писать летом 1927 года и закончил его через месяц. Второй акт был сочинен после некоторого перерыва, но зато в течение всего двух недель! Однако третий уже вызвал некоторые трудности, а тем временем Ленинградский Малый оперный театр решил включить это произведение в репертуар ближайшего сезона. За музыкальную сторону отвечал знаменитый дирижер Самуил Самосуд, который, будучи не в состоянии дождаться последней части оперы, сетовал на «этих молодых непунктуальных композиторов».
И вот однажды, по рассказу Софьи Васильевны, «Митя увидел необычный сон. Снилось ему, что уже назначен день премьеры его оперы и он должен присутствовать в театре на генеральной репетиции спектакля. Но, как назло, Митя, человек аккуратный и пунктуальный с юношеских лет, почему-то опаздывает в театр. В сильном волнении, предвидя справедливые нарекания Самосуда… торопится в театр, он едет в трамвае, автобусе, но всюду происходят неожиданные задержки. Наконец — театр. Молодой автор… вбегает в вестибюль, в зрительный зал и в удивлении застывает в последних рядах партера. На сцене уже идет третий акт спектакля. Самосуд дирижирует оркестром, и автор явственно слышит музыку последнего акта оперы, видит и слышит хор, певцов… Спектакль закончен, закрывается занавес, в зале раздаются аплодисменты, публика вызывает на сцену автора, дирижера, артистов…
Молодой композитор просыпается в необычайном возбуждении. Он бежит к матери, рассказывает о только что услышанной музыке третьего акта „Носа“, которую ему никак не удавалось написать. А затем садится за рояль…
Через несколько дней Шостакович приходит в театр и передает Самосуду клавир третьего акта»[113].
Летом 1928 года, сразу же после окончания произведения, Шостакович составил из оперы семичастную сюиту для тенора, баритона и оркестра, первое исполнение которой, принятое публикой с огромным интересом, а критикой — доброжелательно, состоялось 25 ноября того же года в Москве, под управлением Николая Малько.
«Нос» — гениальное творение воображения двадцатидвухлетнего композитора. Почти каждая страница партитуры содержит в высшей степени оригинальные и новаторские идеи, отмеченные печатью его индивидуальности. Поскольку для гоголевского повествования не годилось традиционное пение, а тем более распевная кантилена, в «Носе» почти беспрерывно звучит речитатив. Композитор хотел музыкой подчеркнуть смысл произведения Гоголя, разоблачающего зло с помощью ошеломляющего гротеска, сатиры и горького, ироничного юмора. Вот почему звучание оперы отличается исключительной остротой, а развитие действия выглядит таким рваным. «„Нос“ — это остроумнейшее разоблачение „механизма“ обывательской „утки“, — писал Соллертинский. — Зародившийся из ничего вздорный слух, пустяковый анекдот распухает до пределов фантастического мыльного пузыря и затем лопается с треском, оставляя, как и следовало ожидать, пустое место»[114]. Богданов-Березовский добавлял, что Шостаковича привлек в повести Гоголя «ряд необычайных, до трагизма вскрывающих смешное и жалкое в обывательской психологии положений…»[115]. Да, невероятная история потери носа была предлогом, чтобы на примере майора Ковалева показать жалкий склад мещанского ума: майор больше всего боится осуждения обществом, от которого он зависит, и домами, в которых он бывает, а отчаянные поиски потерянной части тела вскрывают его трусость и ничтожество.
Сарказм и ирония гоголевского повествования нашли в партитуре оперы отражение в необычных выразительных средствах. Партию Носа в некоторых фрагментах следует исполнять с зажатым носом, в партии майора Ковалева постоянно возникают распевы на аккордовых тонах. Эффект конского топота достигнут соединением звучания челесты и ударных инструментов, пьяную икоту имитируют арфа, скрипка соло и группа деревянных духовых, а бритье майора Ковалева иллюстрируют флажолеты контрабасов. Причудливость, яркая характеристичность, деформация традиционных средств — вот основные черты стилистики «Носа». К ним прибавляется сложность музыкального языка: обилие политональных наслоений и даже демонстративный разрыв со всякой тональностью, сложные ритмы и метр, а также чрезвычайно богатая полифония; особенно характерны две фуги — одна битональная (в c-moll и e-moll), а другая атональная. Но важнее всего симфонический характер инструментального пласта. Своеобразный речитативный стиль вокальных партий и чрезмерная самостоятельность следующих один за другим эпизодов стали причиной того, что роль оркестра в «Носе» значительно большая, чем в традиционной опере с вокальной кантиленой и выраженной драматургической взаимосвязью сцен. Однако оркестр в «Носе» количественно невелик, и его звучание отличается прозрачностью, причем постоянное варьирование инструментального состава способствует быстрому течению действия. К самым интересным фрагментам оперы относится оркестровый антракт перед второй картиной, написанный только для ударных инструментов — нечто совершенно новое для того времени: Шостакович первым, за три года до «Ионизации» Эдгара Вареза, сочинил произведение для одних ударных (пример 9).
Некоторые фрагменты первого и второго актов (примеры 10, 11) могли бы навести на мысль, что Шостаковичу уже были известны произведения Шёнберга и Веберна, хотя музыку Веберна он, скорее всего, тогда еще не имел случая ни слышать, ни видеть в партитуре.
В контексте этого необычайного новаторства тем более непонятными кажутся звучащие время от времени банальные на первый взгляд реплики, вульгарные затасканные мотивы и гармонии, словно бы какие-то реминисценции. Появляются гротескные марши, комические галопы, веселая полька, вокальный фрагмент в сопровождении балалайки, а все вместе составляет неповторимую звуковую атмосферу. Этот кажущийся стилистический разнобой вызван, разумеется, не недостатком композиторского мастерства, а является результатом изобретательности двадцатидвухлетнего композитора, который по-юношески упрямо и свежо хотел как можно шире показать в опере диапазон своих огромных возможностей.
Еще в феврале 1928 года, когда готовы были только два акта, Шостакович начал хлопоты о постановке оперы. В то время он приобрел нового художественного чичероне — Всеволода Мейерхольда, с которым познакомился в начале 1928 года. Мейерхольд, весьма заинтересованный в сотрудничестве с молодежью, захотел пригласить Шостаковича в свой театр. Знакомство развивалось так быстро, что вскоре молодой композитор на какое-то время перебрался в столицу, где поселился у великого режиссера на Новинском бульваре. Он работал в качестве заведующего музыкальной частью в Театре имени Мейерхольда и трудился над партитурой «Носа». При этом чуть было не случилось так, что опера безвозвратно пропала. «В январе 1928 года я сидел у Мейерхольда на Новинском; из семьи никого дома не было, — рассказывал театральный критик Александр Февральский. — Приходит домработница и говорит: „Всеволод Эмильевич, в квартире Голейзовского пожар“ (балетмейстер К. Я. Голейзовский жил в другой части того же дома). Оказалось, почему-то еще никаких мер не было принято. Мейерхольд… позвонил в пожарную охрану, а потом снял с полки большую папку и вручил ее мне со словами: „Это партитура Шостаковича, держите ее и не выпускайте из рук“. И только после этого он стал собирать свои вещи. К счастью, пожар был скоро погашен»[116].
Мейерхольд был очень заинтересован в постановке «Носа» и зимой 1928 года предложил оперу Большому театру в Москве. В то же самое время Самосуд выразил готовность поставить оперу в Ленинградском Малом оперном театре. Дирекция Большого театра планировала включить в репертуар следующего сезона несколько новых произведений, и речь все чаще шла о двух вещах — о «Носе» и о балете Прокофьева «Стальной скок», которые должен был ставить Мейерхольд. Уже планировался состав исполнителей, обсуждался характер спектакля, но режиссер все еще был занят другими спектаклями, а дирекция его не поторапливала — и в результате все сорвалось. В ленинградском же театре премьеру «Носа» наметили уже на 1929 год, хотя произведение и вызывало много сомнений. Однако к энтузиастам «Носа» относился драматург Адриан Пиотровский, который имел решающий голос в вопросах репертуара. Для работы над оперой пригласили дирижера Самуила Самосуда, режиссера Николая Смолича и художника Владимира Дмитриева. Певцы, не понимавшие столь необычной музыки, вначале пренебрежительно пожимали плечами, но довольно скоро начали догадываться об исключительной ценности произведения. А для театра постановка «Носа» значила больше, чем просто введение в репертуар новой оперы. В начале 20-х годов основную часть спектаклей Малого оперного составляли оперетты (особенно охотно ставили Легара и Оффенбаха), а более серьезной музыки исполнялось немного — «Севильский цирюльник», «Золотой петушок», «Снегурочка» и несколько других опер. Однако Самосуд был убежден в необходимости включения в репертуар сочинений современных композиторов, а Шостаковича хотел навсегда связать с театром и сделать его «своим» композитором, рассчитывая на то, что молодой автор будет и дальше поставлять ему сценические произведения. Шостакович быстро заразился театральной бациллой, и в период работы над «Носом» его очень часто видели на репетициях и представлениях других опер.
В начале 1929 года подготовка к показу «Носа» на сцене шла уже полным ходом, но неожиданно премьеру пришлось отложить, так как Асафьев привез из Германии партитуру комической оперы «Бедный Колумб»; это было впервые исполненное в прошлом году в Касселе произведение Эрвина Дресселя (1909–1972), с которым театр подписал соглашение раньше. В эти годы зарубежные контакты играли в советской культурной политике очень важную роль, и еще действовала магия Запада. Итак, коллектив театра занялся «Колумбом». Тогда начиналась мода на политическое и идеологическое «облагонамеривание» опер — наиболее известным результатом этой тенденции было переименование в 30-е годы «Жизни за царя» Глинки в «Ивана Сусанина». Подобные же попытки предпринимались и в отношении других произведений: «Тоска» должна была стать спектаклем «В борьбе за Коммуну», необходимость идеологического выправления видели в операх Верди, Мейербера и других авторов. В связи с этим Малый театр решил осовременить содержание «Колумба» путем добавления эпилога «Что представляет собой современная Америка». С этой целью Шостаковичу заказали два оркестровых фрагмента — увертюру и финал, исполнение которых должно было сочетаться с показом пропагандистского мультипликационного фильма. И в такой спорной версии был продемонстрирован «Бедный Колумб», премьера которого, однако, не вызвала особого отклика. После этого труппа смогла вернуться к репетициям «Носа».
Вокруг неизвестной еще оперы создалась атмосфера сенсации. В марте 1929 года Захар Любинский[117] опубликовал в журнале «Рабочий и театр» статью, сообщавшую о будущей премьере, а вскоре после этого несколько фрагментов были исполнены специально для представителей музыкальной общественности. 16 июня «Нос» был целиком показан в концертном исполнении, чего, впрочем, композитор вовсе не жаждал, поскольку боялся, что это спровоцирует лавину недоброжелательных отзывов, которые могут повредить готовившейся театральной постановке. И действительно, рамповцы стали пытаться любым способом сорвать премьеру. Они оперировали доводами о сложности и недоступности музыки, произвольно оценивали гротеск как «гримасу, уродливую и нездоровую», а композитору грозили, что «если он не поймет ложности своего пути, если не постарается осмыслить творящейся у него „под носом“ живой действительности, то творчество его неизбежно зайдет в тупик»[118]. Но Самосуд, не обращая ни на что внимания, продолжал готовить оперу, тщательно отделывая детали. Времени у него оставалось еще относительно много: первое исполнение назначили на январь следующего года.
14 января, за четыре дня до премьеры, в Московско-Нарвском доме культуры показали три фрагмента произведения, организовав при этом дискуссию с исполнителями. С лекцией выступил Соллертинский, слово взяли художник спектакля Дмитриев и сам композитор, который, как бы желая избежать возможных упреков в сложности оперы, обратился к слушателям — специально приглашенным рабочим нескольких заводов: «Я живу в СССР, активно работаю и рассчитываю, конечно, на рабочего и крестьянского зрителя»[119]. Чтобы подогреть интерес к приближавшейся премьере, журнал «Рабочий и театр» поместил обширную статью о Шостаковиче, представив его как наиболее талантливого ленинградского композитора, который сочиняет, опираясь на творения «современного музыкального Запада» — Шёнберга, Кшенека, Хиндемита и Берга. При этом добавлялось, что Шостакович, без сомнения, «идеологически заявил себя наиболее советским из современных композиторов» и не трактует свое творчество как «средство закрепления личных творческих переживаний», а является музыкантом, «наиболее способным обратить советское музыкальное искусство на путь звукового отражения того коллективного пафоса, которым охвачено строительство новой советской культуры»[120]. Автор этих странно звучащих сегодня слов (а для той поры это довольно типичный текст, соединяющий идеологию и политику с искусством без особой заботы о смысле и фактах) подписался инициалами Н. М.
Премьера «Носа» 18 января 1930 года ожидалась как сенсация. В театр прибыли представители почти всего музыкального мира, а дискуссия, разгоревшаяся после представления, превзошла все ожидания.
«Рабочий и театр» в целых четырех очередных номерах отвел чрезвычайно много места для рецензий и заметок, касающихся «Носа». Первым выступил Моисей Янковский. Он увидел новаторство оперы в необычности строения и формы, в отступлении от традиционного музыкального языка, а также в исключительно развитой иллюстративности оркестровки. Однако он отметил, что «Нос» «почти не вскрывает ее [гоголевскую тему] как социальную сатиру …Композитор бесспорно был увлечен сексуальной подоплекой, фактически приведшей Гоголя к написанию „Носа“. <…> [„Нос“] только крупное экспериментальное явление, стоящее в стороне от путей советской оперы и самого композитора»[121].
На защиту Шостаковича встал большой энтузиаст «Носа» Иван Соллертинский. В своей уже цитированной выше статье он назвал оперу «дальнобойным орудием», предсказывая, что она явится началом разрыва с традиционными схемами и проложит новые пути развития оперного жанра: «…Шостакович покончил со старой оперной формой… он указал… на необходимость создания нового музыкального языка… он дал интереснейшие опыты музыки, основанной только на ритме и тембре (антракт для ударных) и тем самым открыл возможности для так наз[ываемой] „производственной музыки“… он динамизировал обычно малоподвижную оперную сцену… он — быть может, впервые в русской опере — заставил своих героев заговорить не условными ариями и кантиленами, а живым языком, омузыкалив прозаическую бытовую речь…»[122]
Ответом на выступление Соллертинского была очередная статья критика Николая Малкова, который утверждал, что «Нос» — это уже прошлое, не способное заинтересовать современного слушателя, а сама музыка — неровная, эклектичная, со следами сильного влияния Прокофьева, Кшенека и Берга[123]. Еще более острой репликой на статью Соллертинского стало выступление критика С. Греса. Его рецензия носила заголовок «Ручная бомба анархиста», причем анархистом был Шостакович, а бомбой — его опера. «В целом „Нос“ — это еще явление разрушительное, это талантливая „буза“, молодое озорство, гонящее в шею оперную рутину, — писал ожесточенный зоил. — И если уж понадобились артиллерийские сравнения, то, конечно, „Нос“ — не орудие, да еще дальнобойное, а ручная бомба анархиста, наводящая панику по всему фронту музыкально-театральной реакции и тем самым расчищающая путь советской оперной стройке»[124]. Задолго до премьеры Даниэль Житомирский в пылу полемики вопил: «…что может быть интересного или поучительного для заполняющего оперные ярусы вузовца, металлиста, текстильщика в том, что в течение нескольких часов множество людей мечется по сцене в поисках… утерянного носа»[125]. И наконец, Лев Лебединский в брошюре «Новые задачи композиторов» писал: «Может ли нелепый, бредовый анекдот, — хотя бы сценически оформленный, сопровождающийся специально написанной музыкой, еще более подчеркивающей, выпячивающей все отрицательные стороны этого анекдота, — привлечь внимание передового трудящегося?.. Конечно, нет»[126]. Критик В. Музалевский признал оперу искусственной, вычурной, предназначенной для узкого круга знатоков, а один из наиболее авторитетных историков театра А. Гвоздев констатировал, что «Нос» вообще нельзя считать советской оперой.
Композитор с ужасом читал все эти высказывания. Чрезмерное волнение и переутомление привели его в конце концов к кризису, о котором он сообщал Смоличу:
«Дорогой Николай Васильевич!
Неожиданно со мной случился сердечный припадок, и я не мог Вас проводить. Простите меня. Так мы расстались с Вами не попрощавшись. Что же мне Вам написать на прощание? Лишний раз благодарить Вас за „Нос“? Считаю лишним. Я уж Вам неоднократно говорил, что Ваша работа для меня событие на всю жизнь. С Вашей стороны была проявлена масса таланта, энергии и героизма. Очень тяжело переживаю статьи Музалевского и Гвоздева. До премьеры я узнал, что „Нос“ пройдет 10 раз. После премьеры узнал — 20 раз и после этих статей узнаю — дай Бог, чтобы три раза прошел. Статьи сделают свое дело и читавший их смотреть „Нос“ не пойдет. Недельку буду „переживать“ это, 2 месяца — злорадство „друзей и знакомых“, что „Нос“ провалился, а потом успокоюсь и снова начну работать, не знаю только над чем. Больше всего хотелось бы над „Карасем“»[127]. («Карась» был второй оперой, запланированной Шостаковичем, по либретто Николая Олейникова.)
Негативные высказывания об опере, а также острые нападки на композитора в печати не прекращались, и в середине апреля доведенный до отчаяния Шостакович написал письмо в дирекцию театра на имя Захара Любинского:
«Дорогой Захар Исаакович!
Настоящее мое письмо, вероятно, удивит Вас. В самом деле, чрезвычайно странную просьбу имеет к Вам автор оперы „Нос“. Автор оперы „Нос“ обращается к Вам со следующей просьбой: я Вас прошу сделать немедленное распоряжение о немедленном снятии оперы „Нос“. <…> Безусловно, мне очень неприятно просить Вас об этом, но, подумавши, решил это сделать. „Нос“ провалился. В то же время „Нос“ сделал свое дело — „Нос“ может уйти. Я убежден в том, что „Нос“ — это одно из удачнейших моих сочинений. Постановка в б. Михайловском театре меня в этом еще больше убедила. Путь „Носа“ — правильный путь. Но если „Нос“ не воспринимается так, как бы мне этого хотелось, то „Нос“ надлежит снять. <…> Если же у Вас могут возникнуть сомнения в правильности моей просьбы, то сообщите мне об этом. Я тогда или приду к Вам, или напишу более подробно. Я еще раз приношу мою громадную благодарность Вам за то, что „Нос“ увидел свет рампы, благодарен на всю жизнь. А теперь прошу Вас эту оперу снять.
С приветом. Д. Шостакович.
P. S. <…> Прошу Вас держать мое письмо и мою просьбу в совершенном секрете»[128].
Разумеется, Любинский не обратил внимания на просьбу Шостаковича, и опера ставилась до самого конца сезона. Она прошла четырнадцать раз, превысив количество спектаклей «Севильского цирюльника» и «Золотого петушка». Позднее другое премьеры на какое-то время вытеснили «Нос» из репертуара Малого театра, а в 1931 году он был показан еще два раза. Однако тот факт, что этот необычайно трудный спектакль всегда требовал много репетиций, а также интриги и зависть рапмовцев и неблагожелательное общественное мнение, сложившееся об опере, в конце концов привели к тому, что она была снята с репертуара. На одном из последних представлений присутствовал Сергей Киров. И хотя «Нос» ему не понравился, он, по воспоминаниям Самосуда, «говорил… о необходимости не бояться творческого риска, если ставишь перед собой большую цель. Говорил и о том, как важно помнить всю широту интересов и требований наших зрителей. А когда послышался голос, что, быть может, вообще нет смысла показывать экспериментальные работы не подготовленному в массе слушателю… прозвучал его ответ: „Пролетариат — понятие широкое, от простого рабочего до Маркса…“»[129].
В 1934 году Соллертинский опубликовал статью «Гоголь в русской опере», в которой много места уделил Шостаковичу. О «Носе» он отзывался спокойно, уже без того полемического пыла, что был три года назад, и даже как будто с меньшим энтузиазмом. Напротив, Борис Асафьев в то же время писал: «Судьба талантливой оперы „Нос“ глубоко печальна. Когда юноша-композитор осмелился раскрыть музыкой подлинную гоголевскую жизнь… то вместо тщательной оценки его… просто обвинили в формализме. Очевидно, если бы Шостакович рассказал эту новеллу Гоголя идиллически наивным музыкальным языком „Майской ночи“ Римского-Корсакова — он не был бы формалистом…»[130]
Последующие годы «Нос» оставался в забвении. По общему мнению советских критиков, он представлял собой лишь антологию музыкальных экспериментов. Первый биограф композитора Иван Мартынов писал в 1946 году, что «Нос» был «крайней точкой формалистических устремлений композитора (и, быть может, ярчайшим воплощением принципов „современничества“ вообще)… Сценическая эксцентриада, отказ от привычных оперных жанров, нарочитая алогичность музыкального мышления — таковы черты первой оперы Шостаковича»[131]. Должно было пройти немало времени, чтобы это гениальное произведение смогли понять и оценить в полной мере.
В 1962 году партитуру оперы издало венское издательство Universal Edition (еще в 30-е годы договор с ним подписала от имени композитора Софья Васильевна). Вскоре после этого опера пережила возрождение: ее поставили в Дюссельдорфе, Флоренции, Риме и Восточном Берлине. Но настоящего триумфа «Нос» достиг только в постановке Московского театра камерной оперы под управлением Геннадия Рождественского, незадолго до смерти композитора — в 1974 году. Эту постановку показали также во время «Варшавской осени» в 1976 году. До этого в Польше были представлены только фрагменты в концертном исполнении — также на фестивале современной музыки «Варшавская осень» в 1964 году. Большим симфоническим оркестром польского радио дирижировал Ян Кренц.
Глава восьмая 1928–1931
Музыка для драматического театра и кино. — Третья симфония. — Балеты «Золотой век» и «Болт». — Отношения между композитором и советской властью
Между июнем 1928 года — временем окончания партитуры «Носа» — и январем 1930-го, когда состоялась премьера оперы, Шостакович создал девять произведений, в том числе симфонию и многоактный балет. Легкость, с которой он сочинял, становилась все более поразительной. Почти без подготовки возникали партитуры — причем иногда очень сложные, — которым предшествовали лишь скупые наброски. Шостаковичу были незнакомы трудности с материалом: муза щедро одаривала его идеями, и ему оставалось только их записывать. Это искусство вызывало уважение у многих музыкантов, и отсюда появились легенды о феноменальной памяти Шостаковича и поистине моцартовской легкости его пера — легенды, впрочем, страдавшие некоторыми преувеличениями.
Осенью 1928 года произошел забавный случай. На одном из приемов у Николая Малько кто-то поставил пластинку с записью фокстрота «Чай вдвоем» (известного также под названием «Таити-трот») из мюзикла «Нет-нет, Нанетт» Винсента Юманса (1898–1946). В 20-х годах этот фокстрот пользовался в России большой популярностью и, между прочим, исполнялся в спектаклях Мейерхольда, вводившего в свои постановки джаз-оркестр, и поэтому Шостакович, несомненно, знал его. Он критически отозвался о качестве исполнения, и Малько сказал: «Тебе не нравится? Если ты, Митенька, столь гениален, как говорят, то пойди, пожалуйста, в другую комнату, запиши по памяти этот номерок, оркеструй, а я его сыграю. Даю тебе на это час».
Шостакович посерьезнел, попросил проиграть пластинку еще раз, после чего приступил к работе и через сорок пять минут выполнил задание. Аранжировка несколько расходилась с оригиналом, так как композитор обработал шлягер в довольно свободной манере, зато инструментовка была совершенно блестящей.
О необычайной памяти Шостаковича свидетельствует и другой случай. Как-то раз группа московских композиторов приехала в Ленинград, чтобы познакомиться с работами своих коллег. Во время встречи была показана не исполнявшаяся прежде симфоническая сюита москвича Владимира Фере. Вечером Шостакович пригласил гостей в кинотеатр, в котором иногда играл на фортепиано, и, к изумлению присутствовавших, полностью воспроизвел услышанное произведение[132].
Многие видели в Шостаковиче главного представителя ультраавангардной музыки. Между тем после окончания «Носа» его поиски пошли в другом направлении. По примеру французских композиторов, преимущественно из группы «Шести», он заинтересовался выразительными возможностями сатиры и юмора. Сатирические элементы появлялись в его произведениях и раньше, присутствовали в «Носе», но если до тех пор он писал сложно, то теперь начал сочинять гораздо проще. Он в определенной степени стал опираться на привычки слушателей — на общеизвестные звуковые структуры, которые, будучи подвергнуты деформации, давали комический эффект. Используя очень простые созвучия, Шостакович модифицировал их таким способом, что они звучали как пародия на музыку прошлого. В его сочинениях теперь нередко появлялись банальные обороты, стали звучать польки, вальсы, галопы и прочие образчики легкого жанра. Впрочем, в то время это было модно и встречалось как в произведениях французских композиторов — преимущественно Дариюса Мийо и Франсиса Пуленка, так и у молодого Прокофьева и Хиндемита, а больше всего в некоторых неоклассических произведениях Стравинского (например, в Октете). Но шостаковичская разновидность юмора с самого начала была своеобразной, особенно в сфере гармонии и оркестровки; она переходила в гротеск либо пародию, а заезженность иных оборотов просто шокировала. Это увлечение экстравагантностью было не только результатом влияния эстетики некоторых западных композиторов. По-видимому, сказалась также специфика музыкального сопровождения, которое Шостакович исполнял в качестве тапера в немом кино. И наоборот: в музыкальных иллюстрациях, которые он вскоре начал писать для немых, а позднее и для звуковых фильмов, проявлялись элементы музыки, имеющей самостоятельное значение.
Первым сочинением, в котором Шостакович приблизился к развлекательному жанру, была упомянутая аранжировка фокстрота «Таити-трот». После первого исполнения Соллертинский в рецензии назвал ее «гениальной по оркестровке»[133], что не было большим преувеличением, так как оркестровая изобретательность композитора действительно представляется в этом произведении безграничной. Николай Малько исполнил пьесу в одном концерте с сюитой из оперы «Нос» и другим, тоже незаурядным сочинением — обработкой двух клавесинных сонат Доменико Скарлатти для духового оркестра (!).
Соединение бытовой музыки со звуковыми экспериментами характерно прежде всего для первых кинематографических и театральных работ Шостаковича. Молодому композитору очень хотелось попробовать свои силы в этой области; он был уверен, что может многое здесь сделать, и поэтому усиленно хлопотал о получении первых заказов. Шостакович не предполагал, что впоследствии они станут для него проклятием, когда он будет вынужден зарабатывать себе на хлеб сочинением музыки для фильмов, нередко лишенных какой-либо художественной ценности и лишь восхваляющих тоталитарный режим.
Пока он, однако, почувствовал себя счастливым, когда в начале 1929 года Мейерхольд предложил ему написать музыку к своему новому спектаклю по пьесе «Клоп» Маяковского. Сначала Мейерхольд хотел, чтобы музыку написал Прокофьев, и даже послал ему телеграмму с предложением о сотрудничестве, однако автор Классической симфонии, проживавший в то время в Париже, был слишком занят сочинением балета «Блудный сын» для Дягилева. Тогда Мейерхольд решил обратиться с подобным же предложением к Шостаковичу.
В конце 20-х годов имя Шостаковича еще не было широко известно. Выдающийся артист Театра имени Мейерхольда Игорь Владимирович Ильинский забеспокоился, когда услышал, что режиссер хочет поручить сочинение музыки к «Клопу» молодому и неизвестному композитору. Но Мейерхольд категорически заявил:
«Музыку будет писать один совсем еще молодой и очень талантливый пианист и начинающий композитор. Я в него очень верю. Он еще себя покажет»[134].
Для Шостаковича это была возможность познакомиться с известным поэтом.
«Я начал увлекаться поэзией Маяковского с раннего возраста, — вспоминал он впоследствии, безусловно немного идеализируя образ и значение Маяковского. — Есть такая книжка „Все сочиненное Владимиром Маяковским“. Она была издана на плохой бумаге в 1919 году. С нее и началось мое знакомство с поэтом. Я был тогда очень молод, мне едва минуло тринадцать лет, но у меня были приятели — молодые литераторы, поклонники Маяковского, и они охотно разъясняли мне наиболее сложные места из понравившейся мне книги. <…>
Я пытался писать музыку на стихи Маяковского, но это оказалось очень трудным, как-то не получалось… В моих ушах и сейчас звучит чтение Маяковского, и мне бы хотелось, чтобы в музыке нашли себе место интонации Маяковского, читающего свои стихи»[135].
Между тем «Клоп» не понравился Шостаковичу: он не уловил смысла этой едкой сатиры. Однако авторитет Мейерхольда развеял его сомнения.
Прежде чем приступить к работе, Шостакович обратился к Маяковскому с просьбой о встрече, рассчитывая на указания и пожелания. Он с волнением ожидал встречи, так как хорошо помнил публичные выступления поэта, язык которого был острым и ядовитым, а общение с аудиторией носило иронично-снисходительный характер. На самом деле «он оказался приятным, внимательным человеком, любил больше слушать, чем говорить. Казалось бы, что он должен был говорить, а я слушать, но выходило все наоборот»[136].
«…Первая из них [бесед) произвела на меня довольно странное впечатление. Маяковский спросил меня: „Вы любите пожарные оркестры?“ Я сказал, что иногда люблю, иногда нет. А Маяковский ответил, что он больше любит музыку пожарных и что следует написать к „Клопу“ такую музыку, которую играет оркестр пожарных.
Это задание меня вначале изрядно огорошило, но потом я понял, что за ним скрыта более сложная мысль. <…> Ему просто казалось, что музыка пожарного оркестра будет наибольшим образом соответствовать содержанию первой части комедии, и для того чтобы долго не распространяться о желаемом характере музыки, Маяковский просто воспользовался кратким термином „пожарный оркестр“. Я его понял.
Ко второй части „Клопа“ Маяковский хотел, чтобы музыка была в другом роде.
Мне нравилось в Маяковском, что он не любил пышных фраз. Говоря о моей музыке к „Клопу“ во второй части пьесы, он просил, чтобы она была простой, „простой, как мычание“… Мы говорили не о музыке будущего вообще, а о музыке к определенному месту спектакля, например: открывается зоосад — оркестр играет торжественный марш»[137].
Музыку к «Клопу» Шостакович сочинял быстро, готовые фрагменты показывал Мейерхольду, который внимательно слушал и делал замечания. Особенно ему понравились эпизоды, написанные для трио баянистов.
Партитура состоит из двадцати трех номеров и является одним из самых ярких проявлений шостаковичского гротеска, юмора и пародии. Музыка искрится остроумием, поражает смелостью необычных инструментальных соединений (флексатон[138], саксофоны!), в ней звучат его любимые в то время танцы — фокстрот, галоп, вальс, а также несколько маршей.
«…После одной из репетиций, — вспоминал Игорь Ильинский, — Мейерхольд подвел меня к молодому человеку в очках, худенькому и тщедушному. „Познакомьтесь: Шостакович. Пойдем послушаем его музыку к ‘Клопу’“. Молодой человек что-то застенчиво пролепетал. Но его скромность и некоторая неуклюжесть были в то же время по-своему изящны и привлекательны. Когда мы подошли к роялю, он пытался собравшимся что-то сказать о своей музыке… но и тут у него ничего не получалось, кроме невнятного бормотания и скороговорки, которые неожиданно обращались в паузы, столь длинные, что слушающий невольно силился облегчить положение оратора догадками о том, какая мысль таится за паузой… Затем Дмитрий Дмитриевич сыграл эти небольшие музыкальные куски. И Маяковский и Мейерхольд были в восторге»[139].
13 февраля 1929 года состоялась премьера «Клопа». Это было большое художественное событие, одно из важнейших достижений Мейерхольда, и первая настоящая работа Шостаковича для театра. В те годы Театр Мейерхольда находился на подъеме; впереди была череда замечательных постановок: «Баня» Маяковского, «Последний решительный» Вишневского, «Дон Жуан» Мольера и «Дама с камелиями» Дюма. К сожалению, дальнейшее сотрудничество между молодым композитором и великими новаторами поэзии и театра не состоялось. После премьеры «Клопа» Шостакович только раз мимоходом встретился с Маяковским — в марте 1930 года в Ленинграде. С Мейерхольдом же у него сложились дружеские отношения. Режиссер пытался уговорить композитора написать оперу по «Герою нашего времени» Лермонтова, но безуспешно. Предложил ему сочинить музыку к «Бане» Маяковского, однако пьеса Шостаковича не заинтересовала и он не нашел в ней места для своей музыки. В 1934 году Мейерхольд выразил желание, чтобы Шостакович написал музыку к спектаклю «33 обморока» по Чехову; в конце концов это сделал другой музыкант. Тем не менее композитор не переставал интересоваться и восхищаться театром великого режиссера. Сохранилось письмо Мейерхольда от 13 сентября 1936 года, которое он послал Шостаковичу в связи со статьей в «Правде», разгромившей «Леди Макбет»:
«Дорогой друг! Будьте мужественны! Будьте бодры! Не отдавайте себя во власть Вашей печали!
Штидри[140] сообщил мне, что скоро в Ленинграде будет исполняться Ваша новая симфония. Все силы приложу к тому, чтобы быть в Ленинграде на этом концерте. Я уверен, что, прослушав свое новое сочинение, Вы снова броситесь в бой за новую монументальную музыку, и в новой работе сплин Ваш испепелится»[141].
Великолепная музыка к «Клопу» многие годы оставалась забытой. И только осенью 1980 года был найден экземпляр партитуры, произведение было исполнено, и оказалось, что юношеская работа Шостаковича не утратила своей оригинальности.
В тот самый период, когда рождалась музыка к «Клопу», Шостакович писал свою первую музыку для тогда еще немого кино — к фильму «Новый Вавилон», ставшему началом его многолетнего содружества с выдающимися режиссерами Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом, которые были ненамного старше его. Это были последние годы производства немых фильмов ленинградской студией «Совкино», объединившей много превосходных режиссеров и актеров. Художественный руководитель студии Адриан Пиотровский выступил с инициативой замены таперов симфоническим оркестром, который бы исполнял во время демонстрации фильма специально сочиненную музыку. В 1928 году началась подготовка к показу трех фильмов, которые должны были сопровождаться такими специально написанными звуковыми иллюстрациями: «Новый Вавилон», «Золотой клюв» и «Обломок империи». Музыку к первому фильму попросили написать Шостаковича. Предложение его очень заинтересовало, но, прежде чем согласиться, он изъявил желание посмотреть готовые фрагменты, чтобы узнать характер фильма. Это оказалась трагическая история двух влюбленных — парижской продавщицы Луизы из магазина «Новый Вавилон» и солдата Жана, участвовавших в событиях Парижской коммуны по разные стороны баррикады.
Впоследствии Козинцев вспоминал:
«Когда в 1928 году Дмитрий Дмитриевич пришел по нашему приглашению на киностудию… у него было почти детское лицо. Одет он был так, как художники тогда не одевались: белое шелковое кашне, мягкая серая шляпа; он носил с собой большой кожаный портфель.
В его комнате стояла простая мебель, книги на этажерке, в большинстве русские классики. Говорил он обычными фразами, несколько запинаясь, часто вспоминал наизусть цитату из Чехова или из Гоголя и сам радовался: как это здорово, хорошо сказано»[142].
Посмотрев фрагменты фильма и получив сценарий, Шостакович приступил к работе. Музыка, которую он сочинил, была неоднородной: отрывки, напоминающие его поздние симфонии, соседствовали с галопами и канканами, мелодия «Марсельезы» переходила в парафразу канкана из «Орфея в аду» Оффенбаха. Казалось, Шостаковича распирает от избытка идей. Рождалась огромная партитура, трудная для исполнения, своего рода «киносимфония», в которую автор вложил не только много энтузиазма и сердца, но и весь свой опыт, приобретенный при создании первых двух симфоний и оперы «Нос». И как всегда, удивляли легкость и быстрота работы: в начале февраля, то есть через два месяца, музыка была готова.
В феврале режиссеры и композитор отправились в Москву, чтобы показать работу комиссии, принимавшей решения о распространении фильмов. Результаты приемки были отрицательными. Фильм раскритиковали, режиссеров упрекнули за чрезмерные затраты и идейную расплывчатость, после чего велено было все переработать. Вот так не только Козинцеву и Траубергу, но и Шостаковичу пришлось вернуться к уже готовому фильму — а времени оставалось в обрез, потому что официальная премьера должна была состояться 18 марта. Возвратившись из Москвы 27 февраля, молодые режиссеры и композитор работали буквально день и ночь. В довершение всего Шостакович заболел гриппом, который сопровождался сильными головными болями и высокой температурой, доходившей до сорока градусов. Однако работу свою он не прерывал, переделывая сцену за сценой и пересылая в киностудию фрагменты партитуры. За несколько дней до премьеры возникли новые затруднения: неопытные оркестранты и дирижер попытались отказаться исполнять сочинение, обвинив композитора в незнании оркестровки (!) и гармонии, и вообще относились к нему с нескрываемой иронией. Во время дополнительных репетиций Шостакович и Козинцев столкнулись со стеной непонимания и даже враждебности.
Премьера фильма состоялась в назначенный срок, но потерпела фиаско. Музыку исполняли еще на двух последующих сеансах, после чего ее заменили традиционными шлягерами, использовавшимися для каждого фильма. Некоторые кинотеатры вообще не проявили интереса к партитуре Шостаковича. Вскоре «Новый Вавилон», подвергнутый острой критике, был тоже предан забвению. И только после смерти композитора дирижер Геннадий Рождественский разыскал его первую кинопартитуру. Исправив ошибки в оркестровых голосах, он составил оркестровую сюиту, которую исполнил в 1976 году. И так же, как в случае с «Клопом», музыка к «Новому Вавилону» поразила своим новаторством, свежестью фантазии и размахом.
До 1931 года композитор участвовал в создании еще двух фильмов — «Одна» Козинцева и Трауберга и «Златые горы» Сергея Юткевича. Музыка к «Одной» была продолжением экспериментов, начатых при работе над «Новым Вавилоном» и «Клопом»; поначалу фильм должен был быть немым, но во время съемок появилась возможность его озвучивания. Музыка же к «Златым горам» имела особое значение из-за своего par excellence симфонического развития. Шостакович использовал в ней инструменты, редко применяемые в симфоническом оркестре (например, орган) или вообще не встречающиеся в так называемой серьезной музыке (губная гармоника или гавайская гитара). Безусловно, такой выбор был продиктован содержанием фильма, и тем не менее обращает на себя внимание оригинальность звучания, особенно в развернутой фуге для органа с оркестром. С точки зрения связи музыкального развития с кинодействием «Златые горы» также многие годы оставались непревзойденным образцом.
Опыт, приобретенный во время сочинения музыки к «Клопу» и «Новому Вавилону», композитор решил использовать в новой симфонии. Его интересовало перенесение на почву большой симфонической формы таких стилистических элементов, как юмор, гротеск, пародия, комизм и сарказм. Кроме того, он хотел попробовать необычную для симфонического произведения форму, заимствованную прямо из киномузыки. В своих воспоминаниях Шебалин упоминает, что однажды Шостакович сказал ему: «Интересно было бы написать симфонию, где бы ни одна тема не повторялась…»[143] Свою идею он вскоре осуществил в новой симфонии, названной Первомайской.
Это сочинение было в равной мере и продолжением «Посвящения Октябрю», и полной его противоположностью. Сходство касалось прежде всего общего принципа построения формы — одночастной с хором в последнем фрагменте, поскольку в Третьей симфонии финал тоже вокально-инструментальный. И, как и во Второй симфонии, хоровой эпизод не вытекает органично из предшествующей музыки, а, наоборот, создает впечатление еще более небрежной «привязки». Использованное стихотворение молодого в то время поэта Семена Кирсанова (1906–1972), типичный продукт тогдашней пропаганды, также отличается исключительно низким художественным уровнем. Однако между этими двумя сочинениями есть существенная разница. Во Второй симфонии Шостакович смело экспериментировал, используя сложные полифонические средства, и, за исключением финального эпизода, отошел от тональности. В Третьей же симфонии, полностью тональной, юмор, гротеск и насмешка служат средством пародирования маршей и галопов, а намерением композитора, несомненно, было создание музыки простой, даже родственной современным массовым песням (в хоровом эпизоде).
Первомайская симфония оказалась произведением не совсем удачным, хотя ее первая половина изобилует поразительными идеями в области гармонии и инструментовки и блистает остроумием. Таинственное вступление кларнета соло, капризная гармония марша, исполняемого трубой и струнными pizzicato, а затем постепенно разгоняющийся квазигалоп обещают произведение просто очаровательное. Скерцозность музыки, естественность контрастов между плутовским юмором и слегка завуалированным шутовством внешне серьезных тем вводят слушателя в очень оригинальный звуковой мир. Музыка продолжительное время развивается на одном дыхании, напряжение усиливается, и наконец в кульминационный момент неожиданно появляется парафраза наибанальнейшего в мире марша, исполняемого валторнами и малым барабаном, к которым вскоре присоединяется труба, распевающая веселые мотивы. Позже звучит еще интригующее andante, но в какой-то момент слушателю начинает казаться, что композитор как бы затерялся в вызванной им самим стихии комизма и пародии. Развитие затягивается, в очередном быстром эпизоде уже не ощущается непосредственности, характерной для начала произведения, не все пародии отличаются хорошим вкусом, а помпезный хоровой финал уже совершенно бессодержателен и лишен даже той примитивной, но по-своему убедительной силы, какая, несмотря ни на что, чувствовалась в финале Второй симфонии. Было ли это результатом спешки, временной потери изобретательности, или, может быть, композитор намеренно написал банальное окончание, сознавая наивность выбранной им актуальной тематики (первомайские митинги уже в то время относились к главным пропагандистским мероприятиям в Советской России)? Найти ответ на этот вопрос сегодня, вероятно, невозможно, однако кажется поразительным тот факт, что столь примитивные финальные эпизоды вышли из-под пера композитора, который успел удивить мир своей необыкновенной Первой симфонией и создать не менее гениальную оперу «Нос».
Третья симфония, сочиненная в течение двух месяцев второй половины 1929 года, очень быстро дождалась первого исполнения: впервые она прозвучала в Московско-Нарвском доме культуры в Ленинграде 21 января 1930 года, через три дня после бурной премьеры «Носа». Оркестром Ленинградской филармонии и хором Академической капеллы руководил известный дирижер старшего поколения Александр Гаук (1893–1963). На следующий день симфонию повторили в Большом зале филармонии. Премьера была встречена с большим интересом, появилось несколько положительных рецензий. Партитура была напечатана через два года.
Когда в 1931 году Леопольд Стоковский посетил Советский Союз, Шостаковичу представился случай лично познакомиться с великим дирижером, в репертуаре которого с ноября 1928 года значилась его Первая симфония. Шостакович подарил Стоковскому экземпляр партитуры Третьей симфонии, и 14 декабря 1932 года Стоковский продирижировал ее первым исполнением в США. Как в тот день, так и на концерте в январе 1933 года в Чикаго под управлением Фредерика Стока симфония исполнялась без заключительного хорового эпизода. Несмотря на это, реакция прессы была уничтожающей. После исполнения в нью-йоркском Карнеги-холле критик Лоренс Гилмен назвал произведение «бездушной тривиальной музыкой». Джералд Абрахам в книге о советской музыке определил Первомайскую симфонию как «странную смесь обычнейшего дурного вкуса и сбившегося с пути таланта»[144]. И напрасно Леопольд Стоковский пытался защитить симфонию, объясняя, что ее радикализм (и не только музыкальный) вытекает из «большевистской программы» и этим же вызваны эпизоды, «напоминающие марш Советской Армии» или «шум заводского цеха»[145].
Скорее негативная оценка Первомайской симфонии содержится в переписке Мясковского и Прокофьева. После нью-йоркского исполнения Прокофьев сообщал: «Слышал я в Нью-Йорке Третью Шостаковича, но она до некоторой степени разочаровала меня: фрагментарна, да и для упорного двухголосия мелодическая линия не так уж интересна»[146]. Мясковский же в феврале 1934 года констатировал: «…это очень трудное в исполнительском смысле сочинение и, кроме того, в конце очень неважный хор. Все же там есть интересные штуки»[147]. В том же духе Прокофьев писал Асафьеву: «…как всегда, есть интересные выдумки, но вся вещь плохо держится вместе, угловата, не текуча; много двухголосицы, а двухголосица оправдывается лишь тогда, когда есть склонность к мелодичности, и это как раз слабая сторона Шостаковича»[148]. Однако сам Асафьев через два года, давая оценку советской музыке 20-х годов, выразил мнение, что Первомайская симфония — «едва ли не единичная попытка рождения симфонизма из динамики революционного ораторства, ораторской атмосферы, ораторских интонаций»[149].
В Советском Союзе Третья симфония была исполнена всего два раза. В середине 30-х годов ее, как и Вторую симфонию, осудили за абстракционизм, формализм и бездушное экспериментаторство. Критическое мнение об этом, в сущности, неизвестном сочинении держалось очень долго, причем к обеим симфониям предъявлялись одинаковые претензии, словно они были похожи как близнецы. Только в середине 60-х годов молодой дирижер Игорь Блажков открыл обоим произведениям путь на эстраду. Вскоре Вторую и Третью симфонии включили в свой репертуар Кирилл Кондрашин и Евгений Светланов. Однако это не имело большого значения: по существу, Первомайская симфония была для ее создателя лишь определенным этапом в развитии симфонической программности, а не художественным достижением, соразмерным его таланту.
Следующим сочинением Шостаковича был первый из трех его балетов — «Золотой век». Начатый осенью 1929 года, он был закончен в начале следующего года. Ленинградский академический театр оперы и балета заказал композитору написать музыку на либретто «Динамиада» известного в те годы кинорежиссера Александра Ивановского, который победил в конкурсе на сценарий балета на современную тему (этот конкурс был одним из мероприятий, проводившихся с целью реформы советского балета). Предполагалось, что Шостаковича заинтересует спортивная тематика либретто. Композитор очень обрадовался лестному предложению, но его беспокоили примитивность и наивность сюжета. Действие балета происходит в некоем неназванном городе Западной Европы, где организована промышленная выставка «Золотой век». Среди ее посетителей находятся две футбольные команды — из фашистской Германии и из Советского Союза. В течение трех актов (пяти картин) показываются приключения советских футболистов во враждебном окружении, несправедливом и чуждом им по мировоззрению, причем в соответствии с духом времени оба мира — и коммунистический и капиталистический — представлены тенденциозно и неверно. Поначалу Шостакович восставал против такого либретто, но затем поддался на уговоры Смолича и Соллертинского, уступил и принялся за работу. Написание трехактного балета заняло у него всего несколько месяцев. Партитура содержит тридцать семь номеров, среди которых — уже упомянутая обработка фокстрота «Таити-трот».
«Золотой век» подхватил лучшие идеи Первомайской симфонии. Произведение насыщено гротеском и пародией, музыка блещет остроумием, а композитор владеет оркестром с еще большей виртуозностью, нежели прежде. «Музыка в театре должна не „сопровождать“, а активно воздействовать. Не соблюдать этого закона — значит загнать музыку на задний план, не учитывая того обстоятельства, что музыка обладает громадной силой воздействия… Я считал необходимым писать музыку не только такую, под которую удобно танцевать, но одраматизировать самую музыкальную сущность. Дать музыке настоящую симфоническую напряженность и драматическое развитие»[150].
Премьера готовилась долго, ее несколько раз откладывали. В июле 1930 года оркестр Ленинградского театра оперы и балета даже опубликовал письмо с протестом против постоянного перенесения даты представления. Во время репетиций композитор внимательно следил за работой оркестра, который из-за сложности музыки не делал заметных успехов. Время от времени дирижер, танцовщики и даже оркестранты предлагали сделать некоторые упрощения, не Шостакович не соглашался ни на какие компромиссы и не принимал никаких критических замечаний — настолько он был убежден в достоинствах своего сочинения. Это, разумеется, не прибавило ему симпатий исполнителей, которые с иронией взирали на самоуверенного юношу. На него снова посыпались упреки в том, что произведение трудное и плохо инструментовано. Знаменитый певец Иван Ершов критиковал спектакль, вопрошая Ивановского: «Что вы такое делаете? Неужели вам непонятно, что балет — это сказка, фантастика? Разве под такую музыку можно танцевать?»
Премьера состоялась только 26 октября 1930 года. Хореографию осуществили Василий Вайнонен, Леонид Якобсон и Владимир Чеснаков, сценографию — Валентина Ходасевич, оркестром руководил Александр Гаук. Среди танцоров была молодая Галина Уланова, исполнявшая роль западной комсомолки. Успех «Золотого века» был большим: создателям спектакля устроили бурную овацию, несколько номеров пришлось бисировать, о чем счастливый композитор писал Захару Любинскому:
«Дорогой Захар Исаакович!
Вчера и позавчера состоялась премьера „Золотого века“. Воспользовавшись этим событием, я решил написать Вам письмо и послать Вам свой привет. Коротко говоря, спектакль удался. Все мы, его авторы, имели большой успех. Рецензий еще не было, но это и не столь важно. Важно то, что и вчера, и позавчера публика оценила наши труды. Очень мне жалко, что не было творцов и „акушеров“ этого спектакля. Спектакль до такой степени удался, что 6-го ноября его будут показывать (вторую картину второго акта и финал третьего акта) на торжественном заседании Ленинградского совета. Наибольшим успехом пользовались второй и третий акты. Первый почему-то не „дошел“. <…> А в общем, приезжайте поскорее и посмотрите сами. При будущей встрече расскажу Вам поподробнее»[151].
Тем временем критика оценила спектакль чрезвычайно отрицательно. Авторов ругали за буржуазный стиль фрагментов, напоминающих ревю, и за пестроту хореографического языка[152]. Музыку признали неподходящей для танца.
Для Шостаковича это было ударом. Легко поддающийся настроению, еще несколько дней назад убежденный, будто действительно «не так важно», что «рецензий еще не было», он вылил на Смолича поток жалоб:
«26-го и 27-го октября состоялись премьеры моего балета „Золотой век“. Работа над этой постановкой меня научила очень многому. Я лишний раз убедился, что во всяком музыкальном спектакле главную, [а не] служебную роль играет музыка, и если постановкой спектакля этого не учитывается, то спектакль не удается. Когда я бывал на репетициях „Золотого века“ и когда я бывал на спектаклях, то с чувством глубокой радости и удовлетворения вспоминал Вашу работу над „Носом“, где моя музыка была преподнесена слушателю так, что она должна была только выигрывать от сочетания со сценой. Особенно ярко мне вспомнилось одно, может быть даже незначительное, обстоятельство. На первой оркестровой репетиции сцены у дилижанса, вскоре после выхода торговки, есть два glissando у тромбона. Вы немедленно это обстоятельство учли и заставили двоих полицейских „обыграть“ это glissando. Когда я вспоминаю весь спектакль в целом, то вспоминаю массу таких подробностей. От которых и получалось необходимое сочетание музыки и сцены, каковое и дает в целом музыкальный спектакль. Не вышло этого в „Золотом веке“. Сцена сама по себе, музыка сама по себе. Провалился спектакль или не провалился, это покажет будущее. Первые два спектакля сошли с прохладным успехом. В моих же глазах спектакль провалился. В этом я виню, как ни странно, в первую очередь Вас. Не забывайте, что я говорю о провале с моей точки зрения, а не о провале общем. Может быть, Вы помните историю зарождения этого балета? Напомню: я руками и ногами отбивался от предложенного мне либретто. Вначале Вы меня в этом поддержали. Потом переменили тактику и решили, что этот балет надо писать. <…> Я думал: раз Смолич говорит, что из этого может выйти что-нибудь хорошее, — принялся за работу. Затем Вы уехали из Ленинграда. Началась всякая ерунда. Так или иначе, балет я написал, и он пойдет в трех городах: в Ленинграде уже идет, скоро будет премьера в Киеве и Одессе…
При всяких заседаниях и разборах моего балета я не могу его с пеной у рта защищать, так как сам знаю, что „Золотой век“, по причине художественного содержания, есть произведение антихудожественное. И в том, что я написал антихудожественное произведение, виноваты Вы, Любинский, Соллертинский, Городинский и другие. За музыкальную часть „Золотого века“ я отвечаю: она, на мой взгляд, на редкость удачна (в сравнении с многим, что я делал), но теперь я буду сочинять вещи на сюжеты, которые будут меня по-настоящему волновать. А такие провалы (с моей точки зрения), каким является „Золотой век“, переживать нелегко»[153].
До постановки «Золотого века» в других городах дело не дошло. В Ленинграде балет продержался в репертуаре один сезон, после чего был предан забвению. Композитор составил из партитуры четырехчастную сюиту, которая быстро проложила себе дорогу на концертную эстраду. Особую популярность приобрела Полька, которая подверглась многочисленным транскрипциям (две из них сделал сам композитор: одну — для фортепиано, а другую — для струнного квартета). Балет вернулся на сцену только в 80-х годах, когда его поставил Большой театр, внеся в либретто существенные изменения. Однако это была единичная попытка, и после этого никто уже не интересовался возрождением «Золотого века».
Между тем Шостакович получил предложение от того же самого театра на следующий многоактный балет, на сей раз на производственную тему. Трудно допустить, что подобная тема «по-настоящему его заинтересовала», но, несмотря на провал «Золотого века», он приступил к работе. Партийная пропаганда как раз занималась прославлением первого пятилетнего плана, призывая к борьбе со всем, что могло помешать его выполнению. Уже появилось понятие «враг народа», относившееся к любому, кто осмеливался иметь взгляд на развитие Советского Союза, отличающийся от официального. Федор Лопухов[154] призывал: «Включить театр в борьбу против тех, кто стоял на пути индустриализации страны! Показать на сцене рабочий люд, который никогда не появлялся в балетном спектакле, цех завода, клуб, развлечения комсомольцев! Кто отказался бы от такой возможности, отвечавшей насущным потребностям советского искусства той поры?»[155]
Либретто для нового балета Шостаковича создал писатель-дилетант Виктор Смирнов, в то время директор театра МХАТ-2, имевший за плечами службу в армии, короткую карьеру дипломата, контакты с Уолтом Диснеем и, наконец, работу по организации культурной жизни. Произведение носило название «Болт», а его темой была наивная интрига вокруг саботажа на заводе. В новом цехе завода работают секретарь комсомольской организации Ольга, бригадир Борис, делопроизводитель Козелков, который вместо работы мечтает о фокстротах, и несколько рабочих-пьяниц. Пьяниц, с которыми солидаризируется поп, руководство завода выгоняет с работы. Поэтому они замышляют саботаж, который, однако, удается предотвратить, а виновных — арестовать. По этому случаю рабочие и красноармейцы устраивают в цехе торжественный концерт.
Во многих отношениях содержание балета приближается к пьесе Александра Безыменского «Выстрел», к которой в 1929 году Шостакович писал музыку. Уже во время работы над партитурой балета «Болт» Соллертинский предостерегал друга об опасности схематизма, в который легко впасть при написании музыки на столь банальный и небалетный сюжет, обращал его внимание на отсутствие обязательной для музыкального развития подлинно драматической интриги. Композитор всеми средствами пытался скрыть недостатки либретто, но это была невыполнимая задача. Премьера (8 апреля 1931 года) закончилась полным фиаско. Критика обвинила авторов в вульгарности, равнодушии к великим идеям, формализме и тому подобных «грехах». Спектакль был снят сразу после премьеры. Из музыки «Болта» в репертуаре удержалась только составленная Александром Гауком оркестровая сюита, которая в то время даже приобрела относительную популярность. Сам же балет никогда уже не возвращался на сцену.
Неудача «Болта» повлекла за собой усиление нападок на композитора. Начали говорить о том, что он не способен писать для сцены. Его музыки не понимали, он неоднократно сталкивался с явным неприятием со стороны оркестра и дирижеров. В прессе появились отрицательные оценки его последующих сочинений, упреки в элитарности. «Нос» после шестнадцати представлений сошел с репертуара. Такая же судьба постигла оба балета. Вторая симфония тоже исчезла с эстрады филармонии. Фортепианных вещей не играл никто, кроме самого автора. О более ранних опусах, в том числе об Октете, совершенно забыли. Таким образом, Шостакович остался автором одного произведения — Первой симфонии, которую, кстати, чаще исполняли за границей, чем у него на родине. Николай Малько, горячий пропагандист его творчества, эмигрировал из Советского Союза в феврале 1929 года. С тех пор только Александр Гаук и армянский дирижер Константин Сараджев время от времени дирижировали Первой симфонией и сюитами из обоих балетов.
Шостакович оказался в трудной ситуации: он начал терять авторитет, приобретенный в музыкальных кругах вскоре после окончания учебы. До сих пор ему не удавалось повторить успеха Первой симфонии. Дерзновеннейшее произведение — «Нос» не только не упрочило его позиций, но даже создало ему в некоторых кругах репутацию сомнительного экспериментатора, чуть ли не выходящего за грань искусства. Дошло до того, что была организована кампания написания рабочими писем, полных возмущения подобной оперой. А между тем все его поведение свидетельствовало о том, что для него было чрезвычайно важно завоевать положение ведущего композитора. Шостакович хотел, чтобы его не только исполняли, но и повсюду узнавали. Принимая заказ на произведение по случаю десятой годовщины революции, он решился таким образом вступить в сотрудничество с властью. Настоящего ее обличья он знать не мог, так как в 20-х годах в России все еще существовали определенная терпимость и свобода высказываний, хотя деятелям культуры, сотрудничавшим с партией, явно оказывалось покровительство. А поскольку на первом исполнении Второй симфонии появились представители Центрального комитета, на премьеру «Носа» пришел Киров, и наконец, поскольку Шостаковичу предложили сочинить два пропагандистских балета, то установилась определенная система зависимости между властями и молодым композитором.
В своем окружении Шостакович встречал людей, в разной степени связанных с политикой, в том числе известных артистов, открыто сотрудничавших с новой властью. Знакомство с Маяковским и Мейерхольдом, с ведущими деятелями советского кино, дружеские отношения с маршалом Тухачевским включали его в круг тех лиц, за которыми внимательно наблюдали люди Кремля. А будущее показало, что уже в конце 20-х годов в нем увидели кандидата на роль официального композитора, творящего под диктовку и по указке власти.
Рассчитывал ли автор «Носа» на то, что вопреки всему сможет сохранить независимость? Отдавал ли себе отчет в том, к каким результатам приведет сотрудничество с властью в тоталитарном обществе? Вероятно, в период сочинения Первомайской симфонии и «Золотого века» он еще полностью не осознавал последствий такого поведения, без особого сопротивления приспосабливался к указаниям своих хозяев, но по мере взросления ему все тяжелее было соглашаться с грубыми требованиями чиновников, все труднее становилось сохранять независимость. Однако, однажды начав сотрудничать, почти невозможно было выпутаться из этой ситуации, и Шостакович оказался навсегда втянутым в адскую машину советской коммунистической системы.
Внимательный анализ некоторых событий конца 20-х годов отчетливо показывает, что процесс добровольного обречения себя на сотрудничество с властью и зависимость от нее иногда вызывали в Шостаковиче внутренние сомнения и душевный разлад. Состояние «и хочется, и колется» проявлялось прежде всего в непоследовательности высказываний и поведения, а также в самом творчестве. Эти маневры, сегодня кажущиеся очевидными, в то время не были такими уж легко различимыми. Вспомним, что Сонату для фортепиано Шостакович поначалу снабдил названием «Октябрьская» (что, впрочем, не сыграло ни малейшей роли в принятии произведения публикой и критиками), а через несколько лет убрал этот подзаголовок. В свою очередь, Вторую симфонию он первоначально назвал «Посвящением Октябрю», словно не желая сопоставлять ее с превосходной Первой. Третья симфония в написанном сперва клавире называлась просто «Майской», а свое окончательное название обрела перед самым исполнением. Однако знаменателен тот факт, что если Вторая симфония была создана по заказу, то Третья появилась по собственной инициативе Шостаковича.
Его выступления бывали парадоксальными и неожиданными. На встрече перед премьерой «Носа» он сказал, что сочинял оперу, думая прежде всего о слушателях рабочего и крестьянского происхождения. В Третьей симфонии он старался «передать лишь общее настроение праздника международной солидарности пролетариата»[156]. Комментируя партитуру «Золотого века», Шостакович усиленно подчеркивал превосходство советского искусства над западным, явно копируя агрессивную пропаганду начала 30-х годов. «Сопоставление двух культур являлось моей главной задачей при сочинении „Золотого века“. Эта задача выполнялась так: западноевропейские танцы носят характер нездоровой эротики, что столь характерно для современной буржуазной культуры, советские же танцы я считал необходимым насытить элементами здоровой физкультуры и спорта. Иначе я не мыслю развитие советского танца»[157].
Еще более примечательным был ответ Шостаковича на вопрос анкеты о популярной музыке, помещенной в 1930 году в журнале «Пролетарский музыкант», — ответ, имевший определенную связь с атаками, которые предпринял против композитора РАПМ, провозгласив, в частности, вредность фокстрота «Таити-трот» для советской культуры. Шостакович заявил:
«Предлагаю следующие меры борьбы с „легким жанром“: 1. Обратиться в органы, контролирующие издание и исполнение музыкальной продукции… с требованием издания соответствующего постановления, категорически запрещающего издание и исполнение „легкого жанра“.
<…>
4. <…>
Для борьбы с легким жанром передовой музыкальной общественности нужно позвать себе на помощь партию, комсомол, профсоюзы, радио, клубный актив и музыкальное затейничество.
<…>
P. S. Считаю своей политической ошибкой разрешение, данное мною дирижеру Малько на переложение моей инструментовки „Таити-трота“, ибо „Таити-трот“ (номер из балета „Золотой век“), исполняемый без соответствующего окружения, показывающего отношение автора к мате риалу, может создать ошибочное впечатление о том, что я являюсь сторонником „легкого жанра“. Соответствующее запрещение мною послано дирижеру Малько за границу 3 месяца тому назад»[158].
Читая высказывания Шостаковича, нельзя забывать о политическом контексте, в котором они появились. Ибо были они опубликованы в период, когда борьба с такого рода легкой музыкой стала почти обязанностью, а ее культивирование грозило серьезными последствиями.
Этот процесс начался в 1927 году, когда впервые были опубликованы политические директивы о «борьбе с фокстротами, джазом и чарльстоном». В одном из своих выступлений Анатолий Луначарский заявил: «Западно-европейское искусство — это шумный наркотик джазбандового характера»[159]. Через год он снова выступил против фокстрота и танго, подчеркивая «бесчеловечность» их ритма и заявляя, что «по фокстротной линии буржуазия идет к прямой противоположности музыке — античеловеческому шуму»[160]. В 1930 году на анкету журнала «Пролетарский музыкант» кроме Шостаковича ответило много известных музыкантов, единодушно подчеркивавших необходимость борьбы с легкой музыкой во имя новой, социалистической культуры. Генрих Нейгауз писал, что «легкий жанр в музыке — это… то же, что и порнография в литературе», в связи с чем необходимо объявить ей «беспощадную войну». Константин Игумнов подчеркивал, что легкая музыка «разлагает психику слушателя. Поэтому борьба с этой вредной продукцией совершенно необходима». Ректор Московской консерватории Болеслав Пшибышевский отмечал, что легкая музыка является «одним из наиболее опасных и живучих еще источников враждебной рабочему классу нэпманской идеологии». Выступил также председатель Уголовно-судебной коллегии Верховного суда СССР, подтвердивший исключительное значение борьбы с «классово-враждебной пролетариату музыкой». Этой анкете предшествовало подписанное тридцатью тремя деятелями культуры открытое письмо, одно из наиболее гнусных среди тех, появление которых было организовано в то время. В письме, озаглавленном «За оздоровление авторских обществ», Николай Чемберджи, Александр Давиденко, Зара Левина, Семен Корев, Виссарион Шебалин (sic!), Борис Шехтер и Александр Веприк среди всего прочего требовали сокращения выплат гонораров авторам цыганской музыки, полного очищения среды от «фокстротчиков» (авторов фокстротов) и «церковников» (композиторов церковной музыки), ревизии в области политики гонораров и обеспечения композиторам «правильного идеологического руководства». Эта борьба с «фокстротчиками» была, впрочем. лишь малой частью кампании против Товарищества московских авторов (обвиненного в «пропаганде легкой музыки» и «распространении контрреволюционной литературы»), которая повлекла за собой арест руководителя товарищества Пересленцева и многих джазовых музыкантов.
Искоренение легкой музыки было одним из первых шагов идеологического наступления. В это время РАПМ вошла в тесное сотрудничество с НКВД и беспардонно травила представителей новой музыки. Одним из первых подвергся преследованиям Рославец, которого лишили возможности работать и принудили к публичному покаянию. Вскоре появились и следующие жертвы террора. Здесь уместно вспомнить о статье Д. Житомирского, в которой, между прочим, говорилось о «контрреволюционности „Стального скока“» Прокофьева и о возглавлении Мейерхольдом «всех буржуазных группировок» в области музыки[161].
В свете этой сложной политической ситуации нетрудно понять чувство страха и осторожности, подсказавшее Шостаковичу ответы на вопросы корреспондента «Нью-Йорк таймс», где можно прочитать о том, что «нет музыки без идеологии, а композиторы всегда сознательно или неосознанно выражали своей музыкой политические концепции», что «мы являемся музыкантами-революционерами» и что «Ленин говорил, что музыка — это средство сплочения широких масс»[162].
Занять подобную двусмысленную позицию заставляло Шостаковича не только болезненное честолюбие, но и страх перед лицом ухудшения политической, общественной и культурной обстановки. Он прельщался надеждой, что благодаря такому поведению создаст себе возможность относительно свободно творить и к тому же получит общественное признание. Это действительно был период, когда новаторские музыкальные течения еще вызывали интерес, но авангардным композиторам, не склонным к сотрудничеству с властью, становилось все труднее заниматься своим делом. Правда, молодые российские авторы пока еще могли беспрепятственно исполнять свои произведения за границей, в том числе на очередных фестивалях Международного общества современной музыки[163], однако на родине их искусство играло все меньшую роль. Трудности при организации исполнений, уничтожающая, злобная критика, отсутствие заинтересованности у издателей — все это приводило к тому, что некоторые из этих композиторов либо меняли профессию (например, Самуил Фейнберг посвятил себя главным образом пианистическому искусству, а Сергей Протопопов — музыковедению), либо пробовали идти на компромисс, приспосабливаясь к официальной политике партии, что давало плачевные художественные результаты. Уместно вспомнить о судьбе трех подававших большие надежды композиторов — Николая Рославца, Александра Мосолова и Гавриила Попова. Первые двое еще при жизни были совершенно забыты и попросту перестали сочинять. А Гавриил Попов начал писать так эклектично и традиционно, что в позднейших его симфониях, сюитах и ораториях не осталось и следа от его несомненного таланта.
Итак, Шостакович попытался найти место в музыкальной жизни, решившись на политический компромисс. И в этом он был не одинок: многие его старшие коллеги поступали так же. Николай Мясковский в 1931 году сочинил Двенадцатую симфонию — «Колхозную», что, принимая во внимание драматический ход коллективизации, свидетельствовало об очень далеко зашедшем соглашательстве. В том же году Шебалин написал симфонию, которую назвал «Ленин».
Положение в музыкальной жизни на рубеже 20–30-х годов становилось все более угрожающим. РАПП сеяла страх среди советских литераторов, а агрессивная РАПМ была уже прямым инструментом культурной политики партии. Сосредоточивая в своих рядах полных дилетантов, эта ассоциация оказывала решающее влияние чуть ли не на всю музыкальную жизнь. В нападках на новаторов РАПМ усердствовала сверх меры, далеко переходя границы официальной пропаганды. Грозила создаться ситуация, при которой любая музыка, отличающаяся от политико-пропагандистской песни, утратила бы право на существование. Шостакович вместе с несколькими другими музыкантами пытался сдерживать засилье рапмовской халтуры и дилетантизма. В журнале «Рабочий и театр» он даже позволил себе остро атаковать рапмовцев, назвав шарлатанами их главных идеологов — музыковедов Юрия Келдыша и Льва Лебединского. А когда Шебалин публично похвалил хоровое произведение Александра Давиденко «Подъем вагона»[164], рассерженный Шостакович написал другу письмо: «Для чего ты пишешь такое г…? …Без всякого удовольствия, но с гневом прочел обе твои беззубые речи по поводу беззубого произведения „Подъем вагона“»[165]. При этом он как будто забыл, что в какой-то степени его собственное творчество тоже опасно эволюционирует в направлении, провозглашаемом РАПМ; об этом ему напомнил Шебалин, критикуя поверхностность и неоднородность Второй и Третьей симфоний и балета «Болт».
Чтобы избежать упреков в замыкании на проблемах собственного творчества (ведь рапмовцы уже называли его «попутчиком»), автор «Носа» на некоторое время связался с Ленинградским театром рабочей молодежи (ТРАМ), которым руководил очень талантливый режиссер Михаил Соколовский. Это был ловкий дипломатический шаг. Хотя идеология ТРАМа провозглашала необходимость укрепления связей с новым советским зрителем, происходившим в основном из рабочего класса, но в действительности этот театр, близкий к творческим установкам Брехта и Пискатора, был одним из немногих оставшихся в Ленинграде центров художественного подъема.
Видя, что все больше втягивается в двусмысленную ситуацию, отчаявшийся Шостакович опубликовал в журнале «Рабочий и театр» статью под названием «Декларация обязанностей композитора», которая свидетельствовала об испытываемом им разочаровании, недовольстве и ощущении бесперспективности. Он писал довольно путано и хаотично:
«С начала 1929 г. по конец 1931 г., всего три года, я работаю только в качестве „прикладного“ композитора. Писал музыку к драматургическим спектаклям и для кино. Сделал в этой области очень много: „Новый Вавилон“ (ФЭКСы), „Клоп“ (театр Мейерхольда), „Выстрел“, „Целина“, „Правь, Британия“ (Ленинградский ТРАМ), „Одна“ (ФЭКСы), „Златые горы“ (Юткевич), „Условно убитый“ (Мюзик-холл). Имею договоры на „Гамлета“ (Театр им. Вахтангова, реж. Акимов), „Твердеет бетон“ (моск. кинофабрика, реж. Мачерет) и „Негр“ (оперетка, текст Гусмана и Мариенгофа).
За это время мною, помимо вышеперечисленных работ, написаны два балета („Золотой век“ и „Болт“) и Первомайская симфония.
Единственно, что может, по моему мнению, претендовать на „занятие места“ в развитии советской музыкальной культуры, — это только Первомайская симфония, несмотря на ряд недостатков этого сочинения. Я не хочу сказать, что все остальное, мною написанное, никуда не годится. Но все остальное связано с театром и не имеет самостоятельного хождения.
Ни для кого не секрет, что к 14-й годовщине Октябрьской революции на музыкальном фронте положение катастрофическое. За положение на музыкальном фронте отвечаем мы, композиторы. И я глубоко убежден, что именно поголовное бегство композиторов в театр и создало такое тяжелое положение.
…Во всех театрах (драматических) имеется куцый оркестр, в который композитор вынужден впихивать свои, часто удачные, мысли. <…> Поэтому музыка звучит убого, плохо.
<…> В области звукового кино дело обстоит не лучше. <…> При записи убеждаешься, что вся работа пошла прахом: экран хрипит, икает и издает различные звуки, сводящие на нет и работу первоклассного оркестра и композитора.
<…> Вся работа во всех драматических театрах и звуковых кино издавна заштампована (исключаю лишь из этого списка работу в ТРАМе). Музыка там играет роль акцента „отчаяния“ или „восторга“. Имеются определенные „стандартные“ номера в музыке: удар в барабан при входе нового героя, „бодрый“ и „зарядный“ танец положительных героев, фокстрот для „разложения“ и „бодрая“ музыка для благополучного финала. Вот „материал“ для творчества композитора. Нельзя, преступно перед советской музыкой, за которую мы несем ответственность перед партией и правительством рабочего класса, сводить роль музыки к голому приспособлению под вкус и творческий метод театра, часто плохой и позорный („Условно убитый“ в Мюзик-холле). Получается настоящая композиторская обезличка. „Легкость“ и штампованность работы в театре развращает, теряется высокое качество. <…>
Полная стопроцентная импотентность наших музыкальных театров создать советский музыкальный спектакль доказала мне с совершенной очевидностью, что таковой должен создаваться вне стен и вне связи с театром, ибо театр состоит из руководства и работников, у которых выработались за последнее время две „четких установки“: 1) музыка в опере или балете должна способствовать приятному пищеварению и 2) тенору создавать благоприятные условия для эффектной ноты… <…>
Что касается советского музыкального спектакля… то все эти спектакли создавались в полной связи с театром. А результат — позорный. <…> Это сочинение [„Нос“] писалось вне всякой связи с театром, и получилась работа, имеющая полное право претендовать на звание „высокого искусства“. <…>
<…> Театр должен лишь принимать (или не принимать) и ставить оперы и балеты, в готовом виде приносимые театру на рассмотрение. Так было с „Носом“, и театр, обладая превосходным исполнительским аппаратом, создал замечательный спектакль. <…>
Суммирую.
За ведущую роль музыки в музыкальном театре! Долой композиторскую обезличку! Дальше от драматического театра и звукового кино! Дальше от музыкального театра в деле создания советского музыкального спектакля!
Заканчиваю эту статью фактом из моей биографии: с тяжелым сердцем заверяю театр им. Вахтангова, что музыку к „Гамлету“ я напишу. Что касается „Негра“ и „Твердеет бетон“, то я договоры на днях расторгаю и возвращаю аванс. Я не в силах больше „обезличиваться“ и штамповаться. Таким образом я расчищаю себе дорогу большой симфонии, посвященной 15-летию Октябрьской революции. И заявляю всем моим будущим „заказчикам“ из драматического театра и звукового кино, что с этим фронтом музыки на ближайшие пять лет я порываю»[166].
Статья Шостаковича подействовала как палка, воткнутая в муравейник, и спровоцировала ряд полемических выступлений. Моисей Янковский, который беспощадно расправился с оперой «Нос» и балетом «Болт», опубликовал злобную статью «Кто против — единогласно»:
«Эти шатания за последнее время приобрели систематический характер. Кто в этом виноват? Прежде всего сам композитор. Прежде всего тот, кто не сумел достаточно ответственно относиться к собственному своему творчеству. <…> Не зная задач советского театра и шатаясь в поисках собственных путей, вы пытаетесь теперь, вместо честного признания собственных ошибок, переложить вину на того „злого дядю“, который обезличивает музыку в театре и не хочет придать ей роль гегемона. <…> Декларация обязанностей композитора — серьезный срыв композитора Шостаковича»[167].
В таком же духе высказались многие композиторы и представители театров. Шостаковичу предъявили очень опасное по тем временам обвинение в отрыве от масс и музыкальной действительности.
А жизнь все драматичнее показывала, чем может обернуться даже самое незначительное несогласие. Во второй половине 20-х годов положение Сталина неоспоримо упрочилось. Последние попытки противостояния тирану закончились поражением оппозиционеров: Зиновьева и Бухарина отстранили от власти, а Троцкого выслали из СССР. Когда в декабре 1929 года торжественно праздновалось пятидесятилетие вождя, культ его личности был уже фактом. Начались первые процессы и смертные приговоры — огромными группами судили техников, инженеров и профессоров. Ненавидимый старой художественной элитой и совершенно павший духом «певец революции» и член РАПП Владимир Маяковский в июне 1930 года покончил жизнь самоубийством.
Введенная Лениным новая экономическая политика (нэп), заключавшаяся в возврате к мелкой торговле и частному производству, в 1929 году была окончательно свернута. Через два года были отменены все просветительские реформы, принятые после революции. И, что было самым существенным, в конце 1929 года началась принудительная коллективизация деревни, отчуждение земли у крестьян. В течение девяти недель были взорваны основы жизни свыше ста тридцати миллионов человек, что привело к окончательному разрушению сельского хозяйства. Процесс «раскулачивания», означавший лишение зажиточных крестьян их имущества и высылку их вместе с семьями в условиях, исключающих возможность выживания, был первым актом геноцида, осуществляемым в масштабах, которые трудно себе представить. Несчастных людей убивали или приговаривали к голодной смерти — а Максим Горький на страницах «Правды» услужливо комментировал: «Если враг не сдается — его уничтожают»[168]. В результате принудительной коллективизации погибли миллионы людей, а страной завладел голод, размеры которого превышали разруху послереволюционных лет. А когда в конце февраля стало очевидно, что государство стоит на пороге катастрофы, в «Правде» появилась статья Сталина под заголовком «Головокружение от успехов»…[169]
Глава девятая 1931–1936
Брак с Ниной Варзар. — Увлечение Михаилом Зощенко. — «Леди Макбет Мценского уезда»: всемирный успех оперы
Первая любовь к москвичке Татьяне Гливенко стала для Шостаковича источником сильных переживаний. Какое-то время Таня полагала, что взаимное чувство приведет их к браку, но, поскольку Дмитрий никак не мог сделать решающего шага, в конце концов она вышла замуж за другого человека. С тех пор они виделись только от случая к случаю, хотя еще долго эти встречи приносили обоим волнение.
В 1927 году, отдыхая в Детском Селе после окончания работы над Второй симфонией, Шостакович заметил трех девушек, играющих в теннис. Это были сестры Нина, Ирина и Людмила Варзар. Немного погодя Шостакович присоединился к игре, а вечером все вместе со страстью предались игре в покер. Произошел обмен адресами, и по возвращении в Ленинград композитор начал бывать у Варзаров. Традиции этой семьи, главой которой был известный юрист Василий Васильевич Варзар, напоминали уклад жизни Шостаковичей, к тому же Софья Михайловна Варзар, в девичестве Домбровская, была родственницей генерала Ярослава Домбровского, которому в 1864 году Болеслав Шостакович помог бежать из ссылки, и знала отца Дмитрия. Это был один из тех домов, в которых ценили в первую очередь знания и культурные традиции. Мать по образованию была астрономом, все три дочери имели за плечами престижные гимназии и учились: Ирина и Людмила — в Академии художеств, а Нина — математике и физике в университете. Кроме того, Нина какое-то время обучалась игре на фортепиано. Молодой композитор вскоре привел с собой к Варзарам Соллертинского, и круг друзей расширился.
Шостакович обращал на Нину все более пристальное внимание. Различие в профессии не составляло для них преграды. Нина, как и Дмитрий, увлекалась спортом. Правда, если он был всего лишь страстным болельщиком футбола, то она бегала на лыжах и занималась альпинизмом. У них оказались и другие общие интересы. Поэтому можно было предположить, что эти отношения закончатся скорым браком.
Период, в который Дмитрий начал регулярно появляться в доме Варзаров, был для него исключительно тяжелым. Только что состоялась премьера «Носа», почти сразу после этого начались неприятности, связанные с «Золотым веком», да и материальное положение молодого композитора оставалось непростым, поскольку музыка к «Клопу» и «Новому Вавилону» не приносила ему достаточного дохода. Как в случае с Таней Гливенко, так и теперь с Ниной Варзар принятие решения о женитьбе давалось Шостаковичу с большим трудом. Источником дополнительных переживаний были плохие отношения, с самого начала сложившиеся между его матерью и Варзарами. Вдобавок ко всему родители Нины не скрывали своего убеждения, что дочь должна выйти замуж только после окончания университета, а кроме того, им вообще не слишком был по вкусу ее возможный брак с молодым и хотя и подающим большие надежды, но все еще абсолютно не устроенным в бытовом отношении музыкантом. Его чрезвычайная нервозность, склонность к перемене настроений и неумение владеть собственными реакциями не облегчали ситуации. Шостакович несколько раз совсем уже было решался на брак, но его охватывал страх. Дошло даже до того, что он начал подумывать о возвращении к Тане и добился от нее согласия приехать в Ленинград, невзирая на то, что она была уже замужем. Эти душевные сомнения ужасно мучили его. Наконец во втором полугодии 1931 года он принял окончательное решение, и была назначена дата свадьбы.
И тут случилось нечто непредвиденное: он не явился на собственную свадьбу! Забился куда-то так основательно, что самые близкие друзья не могли его найти! И появился только через несколько дней, совершенно подавленный. К счастью, нервный кризис, хотя и тяжелый, длился недолго, и Шостакович, который в то время уже далеко продвинулся в работе над другой оперой — «Леди Макбет Мценского уезда», занялся циклом романсов на любовную японскую лирику, начатым еще в 1928 году. К трем уже существовавшим романсам он дописал следующие — «Первый и последний раз», «Безнадежная любовь» и «Смерть», раскрывающие душевное состояние влюбленного юноши. Это было едва ли не первое сочинение, в музыке которого нашли отражение его личные переживания (в последующем творчестве Шостаковича подобное явление встречается довольно часто).
В конце концов любовь к Нине победила затруднения и сомнения, молодые люди счастливо помирились и 13 мая 1932 года, никому ничего не сказав, поехали в Детское Село, где и поженились. Свидетелем на свадьбе был Соллертинский. Нина вошла в дом Шостаковичей.
Обе семьи по-прежнему не могли прийти к согласию. Варзары настаивали, чтобы молодожены поселились отдельно. Для Дмитрия это стало источником огромного напряжения, поскольку они с матерью были необыкновенно сильно связаны в эмоциональном плане. Помимо того, сразу найти новое жилье было невозможно. Ничего удивительного, что все эти переживания оставили след на его личности. Маруся писала тете Надежде, что после свадьбы «Дмитрий стал гораздо спокойнее. <…> Но домашние трудности в сочетании с затруднениями в работе сильно изменили его характер; из мягкого спокойного юноши получился мрачный интроверт, нетерпеливый и резкий со своими близкими, редко разговаривающий с матерью и сестрами. <…> Вежливый и приятный [с чужими], но также требовательный и очень упрямый, Дмитрий всегда замкнут в себе и почти высокомерен, а завязать с ним близкие отношения очень трудно из-за его сдержанности»[170].
Кроме того, у него все острее проявлялись прямо-таки болезненная неспособность заводить знакомства, различные комплексы и страх перед необходимостью найти свое место в профессиональном окружении и вообще среди людей. Мужественно перенося несчастья, Шостакович терзал себя по мелочам. Он все чаще поддавался настроениям, впадал в меланхолию и страдал от головной боли. Маруся писала в другом письме к тетке: «Правду сказать, у него очень трудный характер — он суров с нами, едва отзывается, а вместе с тем необыкновенно привязан к маме. Но для его близких его характер просто невыносим…»[171]
Среди людей, с которыми Шостакович все же сумел сблизиться в тот период, находилась еще одна замечательная личность — Михаил Зощенко, популярнейший русский юморист 30-х годов. Они познакомились в доме у Замятина, во время игры в покер. Все трое со страстью предавались этой азартной игре, а Шостакович посвятил картам бессчетное количество дней и ночей. Он распалялся от игры и так хотел выиграть, что, когда карта ему не шла, мог сорваться с места, выбежать в другую комнату и плакать, как ребенок.
Зощенко был необыкновенно сильной личностью и при этом отличался эксцентричностью и непредсказуемостью реакций. Полный всевозможных фобий, подверженный депрессии и меланхолии, он вел себя как одержимый, что, впрочем, было модным в тогдашней артистической среде. Его манера обращения, не лишенная некоторой язвительности, и несвязная речь произвели столь сильное впечатление на молодого композитора, что под более или менее осознаваемым влиянием Зощенко он довольно быстро стал вести себя подобным же образом, и эти привычки — хотя трудно в такое поверить — остались у него навсегда. Шостакович хорошо понимал и был способен прочувствовать этот непреодолимый страх перед женщинами, нищими и водой, потому что и с ним самим было нечто подобное. Уже в конце жизни он жаловался: «Я всего боюсь. Боюсь переступить через лужу — мне кажется, что это большая яма»[172]. А поскольку великий сатирик восхищал его, несмотря на свой исключительно трудный характер, между обоими художниками протянулась нить понимания. Зощенко не был знатоком музыки. Шостакович же, достаточно начитанный и в прозе, и в поэзии, понимал и высоко ценил его творчество.
Они проводили вместе много времени, чаще всего в доме композитора, разговаривая на самые удивительные темы, обсуждая проблемы смерти и самоубийства, которыми буквально упивались. Случались встречи и другого рода. Когда вскоре после свадьбы между Шостаковичами начались первые недоразумения, бывало, что композитор звонил Зощенко по телефону и просил о срочной встрече и разговоре, не терпящем отлагательств. В таких случаях писатель, не прерывая работы, занимался своим делом, а взволнованный гость молча мерил шагами его кабинет. Через какое-то время он внезапно произносил: «Михаил Михайлович, спасибо за разговор, спасибо за разговор…», после чего исчезал так же неожиданно, как и появлялся. Шостакович любил рассказывать об этом несколько по-другому: когда Зощенко пригласил наконец его к себе домой, то все время молчал и с явным нетерпением ждал той минуты, когда гость покинет его квартиру.
В начале 40-х годов Зощенко поделился своими впечатлениями о композиторе с армянской писательницей Мариэттой Шагинян:
«Мариэтта, исполняю Вашу просьбу — пишу Вам о Шостаковиче. <…> Вам казалось, что он — „хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок“.
Это так. Но если б это было только так, то огромного искусства (как у него) не получилось бы. Он именно то, что Вы говорите, плюс к тому — жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый…
Вот в таком сочетании надо его увидеть. И тогда в какой-то мере можно понять его искусство.
В нем — огромные противоречия. В нем — одно зачеркивает другое. Это — конфликт в высшей степени. <…>
Я очень люблю Дм. Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15–16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я и не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши „токи“ не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренно, конечно). И хотя мы встречались часто, но нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить.
Мне было с ним так же трудно, как с Улановой.
Мое солнце не светило для них.
Не приближение, а „отталкивание“ происходило. И это было удивительно и для меня, и для них <…>
О моей литературе Дм. Дм. много раз заговаривал. И всегда очень верно… Его мнение мне всегда было дороже, чем мнение профессионального критика. Впрочем, Д. Д. очень любит юмор, и по этой причине к моим работам он относится пристрастно <…>
Мариэтта! Это очень хорошо, что Вам так понравился Шостакович. Это — мудрый человек. И, конечно, очень чистый»[173].
История помолвки и свадьбы с Ниной Варзар совпала с периодом необычайной творческой активности Шостаковича. С 1930 года им все больше завладевали мысли о сочинении новой оперы. Когда «Карась» окончательно исчез из его планов, новым импульсом стало для него чтение очерка Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», изданного в конце 20-х годов с иллюстрациями умершего в 1927 году Бориса Кустодиева. Шостаковича заинтересовала тема и всколыхнула неожиданная встреча с творчеством Кустодиева, любимого художника, с которым он был знаком в юности.
Содержание очерка Лескова составляет драма молодой женщины Катерины. Разочаровавшись в своих чувствах к мужу, она изменяет ему с простым работником Сергеем. После этого убивает тестя, мешающего ее роману, а затем, при участии любовника, — мужа и, наконец, малолетнего племянника. Преступников изобличают и приговаривают к каторге. По дороге в Сибирь Сергей изменяет Катерине с другой каторжницей — Сонеткой. Катерина во время переправы через Волгу бросается в воду, увлекая Сонетку за собой. Обе тонут. Проза Лескова, приправленная горьким реализмом, ярко рисует образ Катерины, ее отчаяние и страсть к Сергею. Лесков был великолепным знатоком русского быта, благодаря чему очерк содержит превосходные жанровые сцены. В нем выступают характерные типы бородатых косматых мужиков, поп, купец и полицмейстер, красочно обрисована свадьба, а криминальная сюжетная линия заставляет вспомнить некоторые произведения Достоевского и других русских писателей XIX века.
Замысел оперы начал выкристаллизовываться довольно быстро, и вскоре Шостакович обратился к Александру Прейсу с просьбой о написании либретто. Прейс, который приобрел опыт во время работы над «Носом», решил на этот раз ближе придерживаться подлинника. Зато он отказался от описательного характера прозы Лескова, стремясь придать опере больше динамизма.
В середине октября 1930 года Шостакович сочинил первую массовую сцену, вошедшую в первый акт оперы. Поскольку он придавал особенно важную роль оркестру, который должен был исполнять имеющие самостоятельное значение инструментальные антракты между картинами, то следующим был написан довольно большой оркестровый фрагмент, помещенный в опере между второй и третьей картинами.
Однако из-за занятости Шостаковича различными делами работа продвигалась медленно. В начале следующего года композитор даже стал подумывать о другой опере — впрочем, от этого замысла он быстро отказался. Весной 1931 года работа над «Леди Макбет» стала невозможной из-за необходимости готовить премьеру второго балета, писать очередную музыку для ТРАМа (на этот раз для пьесы Адриана Пиотровского «Правь, Британия!»), сочинять звуковую дорожку к фильму «Златые горы» и музыку к ревю «Условно убитый». Кроме того, именно в это время Шостакович влюбился в Нину Варзар, в результате чего переживал постоянный душевный подъем и вместе с тем разлад.
К опере он вернулся только осенью. Стремясь найти необходимый покой, он в сентябре выехал в Грузию и там два месяца напряженно работал. Восхитительная природа, поездки в Гудауту, Батуми и Тбилиси, встречи со знакомыми, в том числе с другом студенческих лет Андреем Баланчивадзе, приводили его в отличное настроение. 5 ноября Шостакович закончил первый акт, тут же сыграл его Баланчивадзе на рояле, потом упаковал вещи и вернулся в Ленинград. 6 ноября на экраны кинотеатров вышел фильм «Златые горы», а 19-го Шостакович начал сочинять второй акт «Леди Макбет». Тогда же он вернулся к работе над романсами на стихи японских поэтов, которые закончил в апреле следующего года. 8 марта в Москве были написаны последние такты второго акта оперы, после чего всю готовую на тот момент партитуру Шостакович показал Борису Мордвинову, режиссеру Московского музыкального театра имени В. И. Немировича-Данченко. В начале апреля он принялся за третий акт. 13 мая состоялась свадьба, а дальше работа опять продолжалась нерегулярно: ей препятствовали подготовка премьеры «Гамлета», к которому Шостакович сочинил музыку, и заботы, связанные с созданием Союза советских композиторов. Только летом, когда супруги отправились в Крым, в Гаспру, он смог интенсивно работать над оставшейся частью оперы. Третий акт был закончен 15 августа в Гаспре, однако в сентябре и октябре Шостаковича настолько поглотила киномузыка (на этот раз к фильму «Встречный»), что вернуться к «Леди Макбет» он сумел только в конце октября. И когда год подошел к концу, он смог наконец написать в партитуре: «Конец четвертого акта. Конец оперы. 17 декабря 1932. Д. Шостакович. Ленинград». На титульной стороне вписал посвящение: «Нине Васильевне Варзар»[174]. (Перерыв после окончания этого огромного произведения не был долгим: уже после двухнедельной передышки Шостакович приступил к следующему крупному сочинению — Двадцати четырем прелюдиям для фортепиано.)
Первое публичное высказывание композитора о новой опере появилось уже в октябре, когда были готовы только три акта. Как это уже случалось, статья была поверхностной и малоинтересной, за исключением двух отрывков, бросающих свет на концепцию произведения. Во-первых, Шостакович сообщал: «„Леди Макбет“ является первой частью задуманной мною трилогии, посвященной положению женщины в разные эпохи в России»[175]; можно только жалеть, что дальнейшие события помешали композитору в реализации такого намерения, тем более что в ноябре 1934 года Александр Прейс начал делать наброски следующего либретто на основе прозы Салтыкова-Щедрина и Чехова. Во-вторых, Шостакович характеризовал стиль музыки: «Музыкальный материал „Леди Макбет“ сильно отличается от моей предыдущей оперной работы — оперы „Нос“. Мое глубокое убеждение, что в опере должны петь. И все вокальные партии в „Леди Макбет“ певучи, кантиленны. Оркестр в некоторых патетических местах разрастается до огромного. Вводится военный оркестр и различные добавочные инструменты». Шостакович представлял читателю также свою интерпретацию очерка Лескова — спорную и противоречащую духу литературного оригинала, согласно которой отрицательными героями являются безжалостные и бездушные притеснители молодой женщины: «…„Леди Макбет“ можно назвать трагико-сатирической оперой. Несмотря на то, что Екатерина Львовна является убийцей своих мужа и свекра, я все-таки ей симпатизирую. Я старался придать всему быту, ее окружающему, мрачный сатирический характер. Слово „сатирический“ я отнюдь не понимаю как „смешной, зубоскальский“. Наоборот, в „Леди Макбет“ я старался создать оперу — разоблачающую сатиру… заставляющую ненавидеть весь страшный произвол и издевательство купеческого быта»[176].
Итак, композитор решил развить и углубить средства, служащие для передачи комизма и гротеска и уже использовавшиеся в Третьей симфонии и обоих балетах. Однако если такой тип выразительности мог годиться для любовных и бытовых сцен, то заключительные сцены с каторжниками требовали совсем иной музыки. Поэтому в последнем акте в музыкальном языке Шостаковича появился новый элемент — впервые с такой силой у него прозвучала нота великого пессимизма, которая будет доминировать в его творчестве многие годы. В четвертом акте оперы он обратился к традиции Мусоргского, а именно «Хованщины», в которой героем выступает уже не отдельная личность, а русский народ (пример 12).
Таким образом, «Леди Макбет» — произведение неоднородное в стилистическом плане: три первых юмористически-гротескных акта явно контрастируют с драматическим последним.
Сообщение об опере пробудило огромный интерес. В родном городе композитора «Леди Макбет» была включена в репертуарный план Ленинградского государственного академического Малого оперного театра (так называемого МАЛЕГОТа), в Москве решение о постановке оперы в Театре имени Немировича-Данченко было принято сразу после встречи Шостаковича с Мордвиновым. Владимир Немирович-Данченко с восторгом отнесся к новому произведению, а один из артистов его театра описал следующий эпизод:
«Вспоминаю первую встречу с оперой. В фойе театра Д. Шостакович играл нам. Среди слушателей были нарком просвещения Андрей Сергеевич Бубнов[177], Владимир Иванович Немирович-Данченко и мы, участники будущего спектакля. Помню глубокое волнение, охватившее нас, когда отзвучала последняя нота и композитор снял руки с клавиатуры. Наступила тишина. Ее нарушил Бубнов: „Какая мощь! Какая шекспировская силища и глубина!“ Вл. И. Немирович-Данченко, взволнованно обнимая композитора, добавил: „…Вы еще сами не знаете, мой молодой друг, какой геркулесовой силой обладает ваше произведение…“»[178]
Примерно в то же самое время в московской квартире виолончелиста и дирижера Большого театра Льва Кубацкого Шостакович показал всю оперу артистам Большого театра. Он хотел, чтобы как можно больше музыкантов смогли понять его новое произведение. После этой встречи дирекция Большого театра запланировала московскую премьеру «Леди Макбет» на начало 1935 года. Тем временем Немирович-Данченко решил, что его театр начнет работу над оперой как можно скорее. Таким образом, появилась возможность постановки оперы обоими столичными театрами.
Это был период чрезвычайно благожелательного отношения к «Леди Макбет». Именно тогда наступило относительное ослабление давления партии на культуру, ощущавшееся и в музыкальной жизни. Такая ситуация возникла после опубликования 23 апреля 1932 года партийной резолюции «О перестройке литературно-художественных организаций». Решением сверху были ликвидированы все пролетарские культурные организации литераторов, художников, архитекторов и музыкантов, в том числе Проколл и РАПМ. Прекратила свое существование и ACM. Решение властей оказалось совершенно неожиданным. До момента опубликования резолюции руководители пролетарских организаций контролировали всю советскую культуру — 23 апреля у них внезапно отняли власть. Вот как излагает эти события Исаак Бабель: «Сталин все решил сам. <…> За две недели до этого он принял у себя и выслушал всех этих Авербахов (Леопольд Авербах был председателем пролетарской организации литераторов РАПП. — К. М.), Безыменских и им подобных. Потом постановил: не будет от них пользы, и на заседании Политбюро внезапно представил свою резолюцию. Никто даже глазом не моргнул»[179]. И даже если Бабель упрощает проблему, то остается фактом, что Сталин лично принял решение о роспуске чрезмерно усердствующих и вредных для культуры пролетарских организаций, поняв, что они выполнили свою задачу.
Российская интеллигенция приняла это решение с облегчением. Деятели культуры перевели дух. Появилась надежда на более свободное развитие культуры, и хотя быстро выяснилось, что она была тщетной, в первые месяцы явно повеяло свежим ветром и с музыкального горизонта на какое-то время исчез призрак диктатуры неучей. Преисполненный воодушевления и наивной веры Юрий Шапорин восклицал: «Событие действительно историческое. Это перелом! И еще какой — вот увидите!»[180] Шостакович утверждал: «РАПМ никак не занималась вопросом воспитания попутчиков — была только ругань, абстрактность, демагогия в высказываниях, наклеивание ярлычков и кличек на попутчиков и их произведения»[181]. Вместо ликвидированных группировок начали создаваться новые — Союз советских писателей, Союз советских композиторов и подобные им общегосударственные объединения в других областях творчества. В начале августа 1932 года было образовано Ленинградское отделение Союза советских композиторов, в руководство которого вошли, в частности, Асафьев, Штейнберг, Шапорин и Шостакович. На одном из собраний Шостакович призывал «устранить примат массовой песни», а также «бороться с левацким вульгаризаторством» и «самым голым шарлатанством, оставшимся нам в наследство от РАПМ»[182]. Сочинение камерной и сольной музыки перестало быть подозрительным занятием, программы концертов стали интереснее. О новой опере Шостаковича тоже можно было говорить с энтузиазмом, не опасаясь нападок со стороны рапмовцев, как правило, отрицавших все передовое в музыке. И МАЛЕГОТ без всяких затруднений смог начать репетиции «Леди Макбет» уже в марте 1933 года, то есть через каких-нибудь три месяца после окончания партитуры.
Среди главных участников постановки композитор нашел преданных ему людей; в первую очередь это были три создателя спектакля «Нос»: дирижер Самуил Самосуд, режиссер Николай Смолич и художник Владимир Дмитриев. С первых репетиций Шостакович участвовал во всех приготовлениях и старался помочь певцам, дирижерам и оркестровым музыкантам. Вносил мелкие поправки, исправлял ошибки в партиях, с огромным волнением воспринимал замечания исполнителей — совсем так же, как во время подготовки к премьере Первой симфонии, хотя, по своему обыкновению, не соглашался ни на какие изменения в партитуре. Дирекция театра пригласила его в комиссию по подбору солистов, и Шостакович внимательно изучал вокальные возможности множества певцов. Ему неизменно сопутствовал Соллертинский, который вместе с композитором и Самосудом имел право принятия окончательного решения по многим вопросам. Певцы с увлечением принялись за разучивание своих партий, и их воодушевление с течением времени увеличивалось. Когда в октябре начались первые сценические репетиции, артисты уже великолепно владели партиями, которые не представляли для них большого затруднения.
В московском театре репетиции тоже начались весной 1933 года, однако не все там шло так же гладко, как в Ленинграде. Прежде всего возникли организационные проблемы. К примеру, оркестр едва насчитывал сорок музыкантов, в то время как композитор предусматривал около ста; хуже того, оркестровая яма вмещала не больше шестидесяти музыкантов, так что нужно было не только дополнительно пригласить много инструменталистов, но и как-то разместить их. Хор тоже был явно мал. Некоторые певцы предъявляли претензии к своим партиям, ссылаясь на их мнимую невокальность и на прочие трудности. К счастью, члены оркестра, которым дирижировал Григорий Столяров, а также режиссер Борис Мордвинов отнеслись к произведению с энтузиазмом и постепенно передали его певцам. На одну из первых репетиций пришел Николай Мясковский, который сразу поделился впечатлениями с Прокофьевым: «…ошеломляюще здорово, хотя и мучительно временами. Оркестров ка тоже необыкновенная, хотя так же, как у Франсе, крикливая (трубы верещат беспрерывно)»[183]. Напряженная работа позволяла питать надежду, что премьера «Леди Макбет» состоится в том же году — и дирекция театра запланировала ее на 15 декабря.
Осенью в Ленинграде прошли закрытые спектакли для музыкантов, представителей прессы и радио, а также партийных функционеров, занимавшихся культурной политикой. Хотя немного спустя Александр Острецов выступил с негативной оценкой оперы[184], это не изменило общего доброжелательного отношения властей к новому произведению. Восторженную статью о «Леди Макбет» опубликовал на страницах «Известий» Валериан Богданов-Березовский[185]. Самуил Самосуд, как бы желая раз и навсегда прекратить возможные споры, категорически заявил:
«Со времени создания „Пиковой дамы“ П. И. Чайковского в русской музыке, по моему мнению, не появлялась опера более новая для своей эпохи, более волнующая и воздействующая, чем „Леди Макбет“ Д. Шостаковича. По своему высокому драматизму, по эмоциональной силе и виртуозности музыкального языка — это лучшее, что за последние полстолетия создано в русской оперной литературе. Да и в новой западноевропейской опере нелегко подыскать что-либо равное. „Воццек“ Альбана Берга, несомненно, эмоционально сильное произведение, но и там драматизм достигается порою ценой несколько традиционной сентиментальности, а огромная драматическая выразительность и эмоциональность „Леди Макбет“ совершенно чисты от всякого поверхностного, привычного для аудитории сентиментализма. Но опера его не только существом своим драматична, она вместе с тем по-моцартовски „концертно“ виртуозна во всех своих элементах. <…> Я называю „Леди Макбет“ оперой гениальной и уверен, что будущее оправдает эту характеристику. И нельзя не гордиться, что в 1934 году в советском музыкальном театре появляется опера, превышающая все, что сейчас могло бы быть создано в опере капиталистического мира. И в этом отношении наша культура по справедливости не только „догнала“, но и „перегнала“ самые передовые капиталистические страны»[186].
По стечению обстоятельств обе премьеры прошли почти одновременно: ленинградская — 22 января 1934 года, московская — на два дня позднее, с измененным названием «Катерина Измайлова», что обусловливалось концепцией создателей спектакля, которые сделали упор на образе главной героини. Премьер ждали с нетерпением, поскольку благодаря газетным статьям и кадрам кинохроники о «Леди Макбет» было уже многое известно[187]. Но даже и без такой рекламы интерес любителей музыки был бы большим, ведь имя Шостаковича уже пользовалось в то время заметной популярностью. Хотя его музыка все еще относительно редко появлялась в концертных программах, у многих были живы в памяти споры о премьерах трех симфоний, двух балетов и «Носа». Эти дискуссии обеспечили композитору репутацию enfant terrible советской музыки, а противоречивые мнения о его творчестве — от крайне негативных до апологетических — создали ситуацию, при которой каждое исполнение его произведений, а особенно в Ленинграде, ожидалось с большим интересом. Поэтому нет ничего удивительного, что в обоих театрах билеты были распроданы на много дней вперед и, по общему убеждению, премьеры должны были стать значительным художественным событием.
В родном городе Шостаковича, где показа оперы ожидали с особым нетерпением, публика заполонила театр задолго до начала спектакля. С первых тактов слушатели внимали музыке с огромным волнением, нараставшим по мере развития действия. Аплодисменты становились все неистовее с каждым актом, и когда представление закончилось, исполнителей и композитора встретили нескончаемые овации. Казалось, композитор был удивлен и даже смущен таким восторженным приемом: он скромно и почти застенчиво выходил на сцену снова и снова, вызываемый не только публикой, но и счастливым Самосудом и певцами. Этот триумф превышал все его прежние успехи. Через два дня такой же прием был устроен «Леди Макбет» в Москве. С этого момента Шостакович вошел в круг корифеев современной советской музыки и был признан одним из наиболее значительных ее творцов.
Константин Станиславский, поздравляя Немировича-Данченко с огромным успехом оперы Шостаковича, писал: «Если он гений, это отрадно!»[188] Пианист Александр Гольденвейзер выразился так: «Настоящая человеческая драма. Шостакович гениально одарен…»[189] Опера увлекла и Максима Горького, который видел московскую премьеру, и его «восхитила… сцена в полицейском участке и все последнее действие. Это действие особенно тронуло писателя, и он утирал набежавшие слезы»[190]. Следует также вспомнить, что после ленинградской премьеры Михаил Тухачевский сказал Самосуду: «Эта музыкальная трагедия станет первой советской классической оперой»[191].
Постановки сильно отличались друг от друга. В противоположность ленинградцам, москвичи позволили себе определенные изменения в партитуре: сократили некоторые эпизоды, переделали финал второго акта, а в сцене в полицейском участке даже заменили нигилиста служкой. Композитор, в принципе не допускавший никаких изменений, вероятно, не посмел противиться воле Владимира Ивановича Немировича-Данченко, который на заключительном этапе подготовки сам занялся режиссурой спектакля. И если ленинградская постановка подчеркивала сатирическую сторону оперы, то в Москве высвечивали трагизм образа Катерины, особенно в последнем акте. Столь разные интерпретации «Леди Макбет» стали причиной бурной полемики между создателями обоих спектаклей и между музыкальными критиками. Друзья композитора в целом ставили на первое место ленинградскую постановку. Адриан Пиотровский критиковал московскую концепцию за чрезмерное, по его мнению, подчеркивание бытовой стороны очерка Лескова, а Немировичу-Данченко, в свою очередь, трудно было согласиться с многими чертами ленинградской постановки. Он записал в своем дневнике:
«У Столярова нет такого спокойствия мастера, как у Самосуда… В этом разница между нами и Ленинградом. Второе — не в пользу Ленинграда: у нас трагедия, в Ленинграде — лирическая опера, у нас — насыщенность сильных переживаний, там — осторожность, боязнь преувеличить, потрепать нервы. Да и не то: просто не чувствуют сильных переживаний. Кто-то сострил: в Москве „Катерина Измайлова“, а играют „Леди Макбет“, в Ленинграде же „Леди Макбет“, а играют „Катерину Измайлову“…»[192]
В декабре 1935 года, когда опера продержалась в репертуаре обоих театров уже почти два года, Шостакович сказал:
«Я часто задумываюсь также над тем, чья постановка „Катерины Измайловой“ — Немировича-Данченко или Смолича — более мне близка. Я в чрезвычайном затруднении, ибо оказывается, что обе они мне чрезвычайно близки, но разными своими сторонами. Большой талант Немировича-Данченко, который внес в этот оперный спектакль всю драматическую культуру мхатовской системы, привел в отдельных местах к буквально потрясшим меня результатам. Но одновременно я чувствую, что в отдельных местах Владимир Иванович исходит больше от повести Лескова, чем из либретто оперы. В постановке же Смолича вложено глубокое знание природы оперного спектакля. Музыкальная культура его постановки находится на большой высоте»[193].
Насколько требователен был Шостакович по отношению к исполнителям, свидетельствует тот факт, что уже сразу поcле премьеры он хотел, чтобы постановщики исправили некоторые недоделки, которые, по его мнению, выявились в инсценировке. В конце февраля, то есть через месяц после премьеры, он писал Смоличу:
«Дорогой Николай Васильевич! Вчера сошел 10-й спектакль „Леди Макбет“. Спектакль идет хорошо. Публика слушает очень внимательно и начинает бежать за галошами только после падения занавеса. Почти не кашляют. В общем, происходит ряд приятных вещей, которые радуют мое авторское сердце и лишний раз наполняют меня большой благодарностью к Вам и Вашей работе над „Леди Макбет“. Забыл еще упомянуть, что все десять спектаклей прошли с аншлагами по повышенным ценам. Это меня тоже радует, ибо если не будет ходить публика, то спектакль снимут с репертуара и я буду лишен возможности слушать свое детище. Иногда бывает очень большой успех вплоть до вызовов автора. Но, в среднем, в конце поднимают занавес с 2-х до 5 раз. Соколова работает изумительно. Чем дальше, тем лучше.
В целом необходимо сказать, что в Вашей постановке „Леди Макбет“ „донесена“ до зрителя. Есть напряжение, есть интерес и есть симпатии к Екатерине Львовне. Но есть и некоторые недостатки, которые очень досадны на высоком уровне спектакля. Первый недостаток — это все, что следует за убийством Зиновия Борисовича. Каждый раз, когда Сергей начинает уволакивать „труп“, то в зале громкий смех. Что-то необходимо сделать, доделать или переделать. И второе — Сонетка. Мне кажется, что все исполнительницы (Вельтер, Головина и Лелива) делают Сонетку женщиной-вампиром, виконтессой-кокотессой или великосветской кокоткой. <…> Сонетка, по моему замыслу, должна быть простой кокетливой девчонкой, без налета „демонизма“. Вот эти моменты меня не устраивают. Было бы хорошо, если бы при случае Вы помогли устранить эти ляпсусы…»[194]
Неожиданно многочисленные рецензии не жалели похвал композитору и исполнителям. Февральский номер газеты «Советское искусство» посвятил опере несколько страниц, поместив высказывания наиболее крупных критиков под общим заголовком «Победа музыкального театра». В Ленинграде опера шла в среднем каждый третий день, и композитор присутствовал на всех представлениях. Через пять месяцев МАЛЕГОТ мог гордиться уже тридцатью шестью спектаклями. Через год было официально подтверждено: «Леди Макбет» открыла «пути для создания новой, подлинно советской реалистической оперы»[195].
После триумфального приема произведения в Ленинграде и Москве оперой заинтересовались многие театры за границей. Весной 1934 года в Ленинграде прошел музыкальный фестиваль, на котором прозвучало несколько сочинений Шостаковича, в том числе «Леди Макбет». Два выдающихся дирижера — Артур Родзинский из США и Герберт Сандберг из Швеции — приехали специально для того, чтобы познакомиться с оперой. Находившийся в то время в Ленинграде Артур Рубинштейн писал:
«Все говорили о грандиозном успехе оперы „Леди Макбет Мценского уезда“ молодого Шостаковича, который показал большой талант уже в своей Первой симфонии. Мой гид… достал мне билет на эту оперу в дни моего приезда. Я действительно был потрясен жестокой драмой, почерпнутой из русского рассказа под тем же названием и оправленной в музыку большой красоты и силы выражения.
[На следующий день] мне позвонил Артур Родзинский, дирижер… симфонического оркестра Лос-Анджелеса. <…> Когда я рассказал ему, с каким восторгом воспринял оперу Шостаковича, он взволнованно сообщил:
— Я именно потому и приехал! В Нью-Йорке много о ней говорят, поэтому я мечтаю о том, чтобы быть первым, кто ее там покажет. Вы мне поможете? — спросил он. — Сходим на нее вместе, а потом вы могли бы представить меня нужному человеку. Я хотел бы только получить партитуру. А поскольку я не знаю русского, умоляю, будьте моим переводчиком.
Я пообещал сделать все, что в моих силах. <…> Во второй раз опера понравилась мне еще больше, особенно при виде восхищения Родзинского. Он так хотел достать партитуру, что не давал мне покоя до тех пор, пока я ее ему не раздобыл. По-видимому, русские поняли, что и для них важно, чтобы оперу представил человек, обладающий славой Родзинского»[196].
В октябре 1934 года Шостакович получил приглашение в Соединенные Штаты в связи с подготовкой к постановке «Леди Макбет» в Кливленде, однако до выезда дело не дошло. Тем временем последующие месяцы оказались дальнейшей полосой успехов его оперы. Уже в конце этого года Артур Родзинский продирижировал фрагментами произведения на концерте в Нью-Йорке. В январе 1935 года, тоже в Соединенных Штатах, прошло исполнение фрагментов оперы под управлением Артуро Тосканини. В мае Альберт Коутс исполнил отрывки из «Леди Макбет» по лондонской Би-би-си. Но прежде всего 1935 год принес беспрецедентную для современной музыки серию постановок оперы во всем мире. В январе состоялись премьеры в Буэнос-Айресе, Цюрихе и Кливленде, где спектакль под управлением Родзинского имел прямо-таки сенсационный успех. 5 февраля Родзинский дирижировал «Леди Макбет» в нью-йоркской «Метрополитен-опера». 5 апреля опера была поставлена в Филадельфии под управлением Александра Смолленса. Вскоре состоялась премьера в Любляне. 14 ноября «Леди Макбет» прозвучала в Братиславе, а через два дня Герберт Сандберг дирижировал первым ее исполнением в Стокгольме. 26 декабря состоялась новая московская премьера оперы, вновь под названием «Катерина Измайлова», но на этот раз в Большом театре (в режиссуре Николая Смолича и под управлением Александра Мелик-Пашаева), и, таким образом, в столице произведение представляли одновременно два театра. В начале 1936 года оперу поставили в Копенгагене, где за первый сезон она прошла целых семнадцать раз. 16 июня 1937 года произведение пережило свою премьеру в Загребе.
С огромным интересом отнесся к «Леди Макбет» Ромен Роллан. Во время поездки по Советскому Союзу в 1935 году он выразил желание встретиться с Шостаковичем. Встреча должна была проходить в доме Максима Горького. Автор «Матери» в то время был уже всецело предан советской власти и Сталину, с его помощью совершалось духовное порабощение народа. Ромен Роллан тоже публиковал наивные или лживые высказывания о Советском Союзе. Поэтому композитор сказался больным, и встреча не состоялась.
Успех «Леди Макбет» обернулся повышением интереса к музыке Шостаковича. В ноябре 1933 года Первой симфонией дирижировал Николай Малько в Лондоне, в феврале 1934 года — Леопольд Стоковский в Филадельфии, в октябре 1935 года — Отто Клемперер в Нью-Йорке. В декабре 1934 года появилась одна из первых грамзаписей музыки Шостаковича: в Англии была издана сюита из «Золотого века». Композитор приобрел популярность.
Уже тогда было отмечено интересное явление: исполнители и публика принимали музыку Шостаковича с энтузиазмом, зато критики часто не признавали ее значения и отказывали ей в какой-либо ценности. После американской премьеры «Леди Макбет» появился целый ряд исключительно негативных рецензий, похожих на прежние оценки Первомайской симфонии. Уильям Хендерсон писал на страницах «Нью-Йорк сан», что «Шостакович, несомненно, главный создатель порнографической музыки в истории оперы». Он назвал произведение «будуарной оперой» и добавил, что «в некоторые моменты ее иллюстративность просто непристойна. Если такая музыка называется искусством, то остается только рвать волосы на голове»[197]. Один из ведущих и наиболее влиятельных американских критиков Оулин Даунз заявил в «Нью-Йорк таймс», что «самое горячее одобрение вызывают… самые низкопробные и кричащие эффекты» и остается общее впечатление «беспорядочного набора дешевых приемов и расхожих оборотов, лишенных оригинальности и творческой силы, соединенных с коммунистически окрашенным либретто — наивным и гонящимся за сенсацией»[198].
Композиторы отнеслись к «Леди Макбет» по-разному. После посещения американской премьеры Игорь Стравинский заявил: «Дмитрий Шостакович — молодой талантливый композитор. Я знаком с некоторыми его хорошими произведениями, но в „Леди Макбет“ отвратительное либретто, музыкальный дух этого произведения направлен в прошлое, а музыка идет от Мусоргского…»[199] Со своей стороны, Бенджамин Бриттен спустя много лет вспоминал, с каким восторгом слушал в молодости концертное исполнение оперы в Лондоне, и признавался, что это было для него «началом глубокого почитания творений Шостаковича»[200]. Жорж Орик, Франсис Пуленк и Альфредо Казелла также восприняли оперу с воодушевлением, о чем Орик писал в статье по случаю шестидесятилетия Шостаковича[201].
«Леди Макбет Мценского уезда» принесла своему создателю мировую славу. С 1934 года его музыка все чаще исполнялась, записывалась, издавалась и нередко становилась предметом горячих дискуссий. Через восемь лет после премьеры Первой симфонии Шостакович занял место в передовом отряде творцов музыки XX столетия.
Глава десятая 1932–1936
Культурная политика после 1932 года. — Позиция Шостаковича. — «Песня о встречном». — Поиски в области оперы: «Сказка о попе». — Фортепианная музыка: 24 прелюдии и Концерт. — Соната для виолончели и фортепиано. — Балет «Светлый ручей». — Поездка в Турцию
Известная либерализация культурной жизни, которую принесло партийное постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», длилась недолго. Очень быстро оказалось, что со стороны властей это был точно рассчитанный шаг, имевший целью установить в недалеком будущем еще более жесткий контроль над художественным творчеством. Об отношении властей к искусству и художественным ценностям как к подручному инструменту свидетельствует множество фактов, и среди них одно весьма красноречивое решение, принятое в начале 30-х годов, в период лихорадочных поисков средств на крупные промышленные капиталовложения в рамках первых пятилетних планов. Сталин постановил тогда продать часть сокровищ Эрмитажа, и таким образом Россия лишилась многих полотен Рембрандта и Рафаэля (в том числе знаменитого изображения святого Георгия, 1506 год). Продали и «Благовещение» Ван Эйка (за полмиллиона долларов). В результате и сегодня большинство этих шедевров находится в американских музеях.
Политика, направленная на полное подчинение искусства потребностям идеологии, была особенно очевидна в области литературы. В 1932 году Сталин часто встречался с Горьким и другими писателями. Во время одной такой встречи он назвал их почетным именем «инженеров человеческих душ». О литературе он начал авторитетно высказываться лишь с того момента, когда после самоубийства затравленного окружением и властями Маяковского отметил в резолюции, адресованной Ежову[202]: «Маяковский был и останется лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Для поддержки своей политики диктатор нуждался в писателе, который, с одной стороны, пользовался бы в обществе огромным моральным авторитетом, а с другой — безусловно повиновался бы его планам. Для этой роли лучше всех подходил Горький.
В конце 20-х годов, когда великий писатель еще жил на Капри, вокруг него началась тонкая игра. Он стал получать из России бессчетное количество писем и телеграмм от частных лиц и общественных организаций, от литераторов, рабочих и пионеров — с призывами вернуться на родину. Поток призывов умело направлялся председателем ОГПУ Генрихом Ягодой[203] и постепенно достиг таких размеров, что Горький решился приехать в Россию. Несомненно, важную роль в принятии этого решения сыграла и грызущая его тоска по родине, а также искушение занять ведущее место среди русской культурной элиты. В дальнейшем, до 1933 года, он делил свое время между Москвой и Капри, куда возвращался из-за слабого здоровья. Он получил от государства великолепный дом в столице и две роскошные дачи: одну под Москвой, другую в Крыму.
Горького действительно ждали. Его авторитет выдающегося художника, большого гуманиста, защитника угнетенных был очень велик. Однако официальное положение первого писателя России довольно быстро изменило образ его действий. Горький по-прежнему клеймил социальную несправедливость, голод, нужду и отсутствие правопорядка — но уже только на Западе. То, что происходило в его стране, он отныне лишь хвалил и поддерживал. Когда в ноябре 1930 года было сфабриковано обвинение против инженеров и техников в заговоре с целью свержения советской власти, писатель уже в первый день двухмесячного процесса публично осудил невинных людей. Через две недели «Правда» и «Известия» опубликовали его статью «Гуманистам», в которой он особенно резко нападал на «профессора Альберта Эйнштейна и господина Томаса Манна» за то, что они подписали протест немецкой Лиги защиты прав человека против «казни сорока восьми преступников, организаторов пищевого голода в Союзе Советов». Да, это был уже не тот Горький, который в 1918 году негодовал из-за произвола народных комиссаров, и не тот, который в 1922 году, навлекая на себя гнев Ленина, метал громы и молнии по поводу смертной казни, грозившей эсерам[204]. Теперь, в 1930 году, сорок восемь человек, ответственных за пищевую промышленность, были расстреляны, вероятно, вообще без суда, а Горький заявлял: «Неописуемая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна…»[205] В скором будущем он поддержит процесс против меньшевиков, особенно язвительно насмехаясь над одним из осужденных, своим прежним другом, историком и журналистом Николаем Сухановым. В письмах к друзьям на Западе, в статьях и публичных выступлениях он опровергал существование террора и лагерей принудительного труда, называл «пошленькой сказкой» мнение «о том, что в Союзе Советов единоличная диктатура»[206].
Летом 1934 года состоялся I Всесоюзный съезд писателей, на котором автор «Матери» обнародовал доктрину социалистического реализма, обязательную с этих пор для всех деятелей литературы, а вскоре распространенную и на другие виды искусства. Во время съезда писатели старались превзойти друг друга в доносах и марании отечественной литературы, излагали хвастливые отчеты о ходе коллективизации, с восторгом описывали пребывание на Беломорском канале (где находился один из первых лагерей принудительного труда), а кульминационным пунктом их выступлений было славление Сталина, «могучего гения рабочего класса», «любимейшего вождя всех эпох и народов». Почти все они принесли присягу на верность партии; мужество воздержаться от этого нашли в себе лишь некоторые: Михаил Булгаков, Осип Мандельштам и Анна Ахматова. Горький закончил съезд словами: «Да здравствует партия Ленина — вождь пролетариата, да здравствует вождь партии Иосиф Сталин!»[207]— вступив в самый позорный период своей жизни. В его дальнейших высказываниях звучали требования следовать «руководящей единой идее, которой нет нигде в мире, — идее, крепко оформленной» Сталиным[208]. Однажды он заявил, что «работой чекистов в лагерях наглядно демонстрируется гуманизм пролетариата», и «лет этак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет… вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях»[209]. Пожалуй, самым ярким проявлением морального падения Горького было его обращение «Ударницам на стройке канала Москва — Волга», где он писал женщинам, умиравшим от каторжной работы: «Ваша работа еще раз показывает миру, как прекрасно действует на человека труд, осмысленный великой правдой большевизма, как чудесно организует женщин дело Ленина — Сталина»[210].
Вслед за Союзом писателей другие творческие объединения (кроме Союза композиторов, съезд которого, чреватый серьезными последствиями, состоялся только после войны) тоже провели свои съезды и принесли присягу на верность Сталину. В январе 1935 года собрались деятели кино, и среди них известные режиссеры Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, которые еще в 1928 году обратились к властям с просьбой «проводить твердую идеологическую диктатуру» в области кино[211]. Теперь они также воздали почести идеологической диктатуре, похоронив тем самым возможность развития советского кино, история которого была столь блистательно начата произведениями самих Эйзенштейна, Пудовкина и Козинцева.
Конец 1934 года открыл одну из мрачнейших страниц в истории России. 1 декабря в Ленинграде был убит Сергей Киров. Хотя и по сей день не ясны все подробности злодеяния, относительно вины Сталина нет ни малейших сомнений. Диктатору потребовались покушение и смерть всеми уважаемого революционера, чтобы использовать этот факт для усиления своей абсолютной власти. Убийство Кирова послужило оправданием террора, проводимого с невиданным размахом. Ответственность за это возложили на бывших коммунистов-оппозиционеров; во время одного из процессов Андрей Вышинский[212] процитировал относящееся к 1933 году высказывание Сталина о неизбежном «сопротивлении последних остатков умирающих классов», о том, что «могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных оппозиционных элементов из троцкистов и правых уклонистов»[213]. Ранее считалось (и это мнение разделял Киров), что уничтожение оппозиции и введение социализма влекут за собой затухание классовой борьбы. Однако в начале 30-х годов Сталин решил, что истребление классового врага должно привести к усилению сопротивления, так как ему понадобилось идеологическое обоснование дальнейшей борьбы. А поскольку политических сил, способных представлять побежденные классы, не хватало, то противника необходимо было сотворить. Врагами могли быть агенты буржуазных правительств, особенно фашистских: ведь в соответствии с тогдашней пропагандой Советскому Союзу угрожало «капиталистическое окружение». Целью убийства Кирова было доказать, что враг начинает прибегать к крайним методам, а невыясненные обстоятельства и множество фальсифицированных улик должны были устранить возможные подозрения, возникшие в общественном мнении относительно подлинной причины убийства.
Это преступление послужило сигналом к массовым репрессиям и бесчисленным смертным приговорам. Сперва тысячи, а затем буквально миллионы людей были осуждены за участие в различных ответвлениях заговора, главнейшим пунктом которого было убийство Кирова. С декабря 1934 года по всей стране начались массовые аресты, высылки и так называемые «ликвидации» невинных людей, надолго ставшие страшной повседневностью; беззаконие тоталитарной системы коснулось всего общества. Среди миллионов невинно казненных (в первые месяцы после убийства Кирова в одном только Ленинграде арестовали от тридцати до сорока тысяч человек) были рабочие, крестьяне, инженеры, артисты и ученые. Ко всему этому прибавились неизбежные последствия коллективизации: голод поглотил сотни тысяч жертв; индустриализация же страны, осуществление которой руками заключенных должно было символизировать беспримерный прогресс, подорвала и без того слабую экономику.
В преследованиях интеллигенции проявлялась ужасная логика. На людей образованных, склонных к анализу происходящего, начали смотреть косо, и они перестали чувствовать себя в безопасности, потому что сталинизм боялся любой оппозиции, даже потенциальной. Талант сам по себе был чем-то вроде источника неравенства, а ведь перед тираном все должны были быть равны. Кроме того, началось уничтожение тех областей науки, которые трудно было согласовать с официальной идеологией, — например генетику. Еще до убийства Кирова, в 1929 году, посадили в тюрьму группу историков. Через год, в августе 1930-го, прошел закрытый процесс группы бактериологов во главе с профессором Каратыгиным. Ученых, обвиненных в организации падежа лошадей (!), приговорили к расстрелу. В ноябре того же года состоялся процесс группы инженеров (так называемый процесс Промпартии), которых обвинили в заговоре с целью свержения советской власти. Через три года подобный процесс был возбужден против семи английских инженеров, находившихся в Советском Союзе. Одна за другой проводились чистки среди физиологов, авиаконструкторов и т. д. В 1934 году человекоубийство было санкционировано законом: новый «закон об измене родине» предусматривал только одну меру наказания — смертную казнь и одновременно коллективную ответственность членов семьи, причем согласно закону с 8 апреля 1935 года смертную казнь можно было применять с двенадцатилетнего возраста.
Тем временем пропаганда провозгласила «поворот к человеку» и объявила человека «ценнейшим капиталом». Было заявлено, что Советский Союз достиг цели, то есть построил социализм. В июле 1935 года на Красной площади в Москве прошло грандиозное зрелище — парад физкультурников наподобие праздников, которые организовывались в гитлеровской Германии. На стенах домов виднелись надписи: «Жить стало лучше, жить стало веселее», а пять тысяч пионеров несли вытканный из свежих цветов лозунг «Поздравляем лучшего друга пионеров товарища Сталина». С 1935 года Сталин изображался самым большим другом детей, и газеты публиковали бесчисленные фотографии диктатора с дочерью Светланой, а также с другими девочками, дарившими ему цветы. Особенно популярен был снимок Сталина с черноглазой девочкой Гелей Маркизовой, сделанный в январе 1936 года в Кремле. Этот снимок многие годы радовал глаза советских людей, хотя отца Гели расстреляли как врага народа, а мать арестовали. Кульминацией пропагандистского лицемерия стала принятая 5 декабря 1936 года конституция, названная сталинской и объявленная самой прогрессивной в мире.
Как жил Шостакович в первые годы Большого террора? Как композитор он переживал череду успехов, связанных с постановками «Леди Макбет», а выплаты за ее исполнение позволили ему снять новую квартиру в Дмитровском переулке. Это был для него и период интенсивной работы. Правда, ее результаты оказались не такими значительными, как несколько лет назад, но ведь после огромных усилий, которых потребовало написание оперы, естественно было ожидать некоторого спада и временной невозможности творить в полную силу своего таланта.
Когда вокруг стали раздаваться соглашательские идеологические декларации видных представителей литературы и искусства, Шостакович пытался сохранять независимость, о чем свидетельствуют несколько публичных высказываний композитора. Окружавшие его деятели культуры все больше подчинялись учению социалистического реализма, он же в конце 1934 года заявлял:
«Мы как будто отказались в принципе от царивших в рапмовскую пору тенденций изымать из концертных программ почти все, что носит марку „Современный музыкальный Запад“. Однако удельный вес этой музыки в нашем концертном репертуаре и поныне ничтожен. Между тем нам есть чему поучиться у таких, скажем, мастеров современного Запада, как Шёнберг, Кшенек, Хиндемит, Альбан Берг»[214].
Когда в феврале 1935 года Союз композиторов организовал трехдневную конференцию по проблемам советской симфонической музыки, на которой раздавались голоса, резко осуждавшие творчество Шёнберга, Веберна, Мийо, Онеггера и Стравинского, Шостакович противопоставил им свое мнение: «Мы, к сожалению, очень плохо знаем западный симфонизм. <…>…Я считаю, что… Союз советских композиторов должен организовать семинар. Нам нужно глубже и серьезнее познакомиться с музыкальной культурой Запада, ибо там много интересного и поучительного»[215]. Сохранять такую достойную уважения позицию в течение продолжительного времени было очень трудно, тем не менее в публичных выступлениях композитора за 1932–1936 годы немного можно найти суждений, поддерживающих агрессивную партийную идеологию. Есть, правда, статья, с радостью приветствующая появление партийного решения «О перестройке литературно-художественных организаций», однако в тот период почти каждый передовой деятель культуры в Советском Союзе чувствовал удовлетворение по поводу роспуска пролетарских организаций. Из уст Шостаковича не раздавались дифирамбы в честь «великого вождя», не вылетали аргументы в пользу социалистического реализма. И даже если в некоторых статьях можно прочесть слова: «Нашу эпоху я воспринимаю как эпоху героическую, бодрую, исключительно жизнерадостную»[216] или: «Композитор сможет стать подлинным певцом нашей великой эпохи»[217], то подобные формулировки были ему тогда мало свойственны.
Зато в дискуссии о советской симфонической музыке Шостакович высказал действительно поразительное мнение:
«Я знаю, что у нас много талантливых композиторов, и в Москве и в других городах нашего Союза, но вряд ли мы можем указать на такого, о котором мы могли бы сказать безусловно: да, это ведущий, на его творчество мы можем ориентироваться, как, скажем, советская литература ориентируется на творчество и критическую деятельность такого гигантского мастера, как Максим Горький. Наша советская музыка такого композитора не имеет»[218].
Было ли это лишь общей констатацией, которой Шостакович не придавал большого значения, или выражением предчувствия, что роль, которую играет в литературе Горький, в музыке вскоре предстоит играть ему самому? И даже что такая роль ему прямо принадлежит? Это трудно исключить, если принять во внимание его почти болезненные амбиции — друзья и знакомые неоднократно слышали от Шостаковича: «Я еще буду великим композитором»[219]. Но так или иначе, будущее показало, что он не уклонился от принятия ведущей роли, навязанной ему сверху, и сумел ее сыграть.
Если рассмотреть произведения, созданные одновременно с «Леди Макбет» (Шостакович был способен тогда работать над несколькими сочинениями сразу) и в первые годы после премьеры оперы, то обращает на себя внимание относительно слабая их связь с событиями, происходившими в стране. Ранее, когда террор еще не приобрел таких угрожающих размеров, Шостакович сочинял программно-коммунистические симфонии и балеты. Теперь он сосредоточился на фортепианной и камерной музыке — появились 24 прелюдии, Фортепианный концерт, Соната для виолончели и фортепиано… К современной ситуации имели отношение только балет «Светлый ручей» и кинофильмы, к которым Шостакович писал музыку, — «Златые горы», «Встречный» и «Юность Максима».
Особенно прогремел в те годы фильм «Встречный» режиссеров Фридриха Эрмлера и Сергея Юткевича. Это был типично пропагандистский фильм о работе в новом, социалистическом государстве, о мощи и красоте машины и о ее связи с человеком — фильм, призванный прославлять человеческий труд и самоотверженность. Шостакович одним из первых употребил в нем звуковые эффекты, иллюстрирующие то, что происходит на экране. Для этого он ввел в партитуру шумы, использовал «волны Мартено», применил стук машин, заводские гудки, свистки и все, что могло изобразить ритм труда и действия рабочего. Однако широкий отклик нашли не эти эксперименты, а «Песня о встречном», которая быстро приобрела невероятную популярность. Исполняемая в сопровождении фортепиано, она оказывается скромной, приятной мелодией, в фильме же звучит ее помпезный вариант для хора и большого симфонического оркестра.
С созданием «Песни о встречном» связана одна неясная история. Люди старшего поколения помнили очень похожую мелодию, звучавшую еще в конце прошлого столетия, которая была сочинена А. Чернявским. Когда на экранах появился фильм «Встречный» и песня Шостаковича начала быстро завоевывать популярность, Чернявский обвинил его в плагиате. Разразился скандал, и дело пришлось разбирать другим музыкантам. Спор разрешился полюбовно, но вопрос так и остался не выясненным до конца. Почему? Довольно неожиданный ответ дают воспоминания дружившего с Шостаковичем Абрама Ашкенази, композитора легкой музыки:
«Ко мне пришел старый композитор Александр Николаевич Чернявский (настоящая его фамилия Цимбал) — автор известных русских песен „У калитки“, „У колодца“, показал свой песенный сборник, изданный в 1895 году, и заявил, что Шостакович заимствовал у него мелодию „Песни о встречном“. Я пришел в ужас. Была создана комиссия под председательством Штейнберга. Она установила близость обеих песен. Чтобы выручить Шостаковича, назначили новую комиссию, в которую вошли А. М. Житомирский, М. М. Чернов, Р. И. Мервольф, П. Б. Рязанов (он был душой комиссии и стойким сторонником авторства Шостаковича). Возглавлял комиссию М. А. Юдин. Споров было много. Я уговорил Чернявского объясниться с Шостаковичем. Пошли к нему на улицу Марата; предварительно я Шостаковичу позвонил. Чернявский, запыхавшись, поднялся на пятый этаж. Шостакович признал:
— Да, да, сходство есть, так получилось. Так что вы хотите?
— Как что я хочу? — воскликнул Чернявский. — Ведь вы получили гонорар. Я хочу денег.
Шостакович возразил:
— Что вы, что вы! Ведь так придет один, другой, третий. Чернявский встал и ушел не простившись. Я пошел за ним. На улице он вдруг сказал мне:
— Знаете, Шостакович произвел на меня такое хорошее впечатление, что я намерен это дело прекратить»[220].
Довольно скоро общественность была проинформирована о существовании нескольких пробных вариантов песни, которые должны были свидетельствовать о кропотливой работе композитора (впоследствии их опубликовал Лев Данилевич в своей монографии о Шостаковиче). Как ни странно, Шостакович по окончании работы обычно уничтожал все наброски, и те, которые сохранились, принадлежат к редкостям. В 1977 году Сергей Юткевич вспоминал, впрочем, не очень ясно, что «Дмитрий Дмитриевич угадал (?) песню сразу, он не предлагал варианты, он пришел и сыграл ее целиком — ту единственную, которая и была нам нужна»[221].
Так или иначе, песня сделала беспримерную карьеру. Уже во время празднования 15-летия Революции ее пели тысячи демонстрантов на Красной площади. Когда фильм показали в Чехословакии, Польше, Соединенных Штатах и даже Японии, она приобрела популярность и за пределами России. В 1938 году эту мелодию опубликовали в Англии под названием «Привет жизни» в переводе Нэнси Буш. Через три года ее напечатали во Франции как «Песню молодых рабочих». Когда в 1945 году была образована Организация Объединенных Наций, в июле этого года песня с новым текстом была исполнена в Сан-Франциско как гимн ООН. В Швейцарии она стала свадебной песней. А сам Шостакович использовал ее еще раз в 50-х годах, работая над опереттой «Москва, Черемушки».
Опера давно привлекала Шостаковича. Еще будучи студентом, он написал уничтоженных позднее «Цыган», а работа над «Леди Макбет» усилила его желание создавать новые сценические произведения, среди которых трилогия о женской доле была лишь малой частью его планов. Однако он понимал важность либретто в таких предприятиях, и, очевидно, именно отсутствие подходящего литературного материала не раз заставляло его отказываться от реализации своих намерений. «Культура либреттиста, — сказал он однажды, — у нас еще очень слаба, и я считаю, что это обстоятельство является сильной помехой на путях создания советской оперы. Поэтому, на мой взгляд, следует подумать о подготовке музыкальных драматургов, в частности ввести в консерватории преподавание музыкальной драматургии. Если это будет сделано, мы будем иметь нужное количество культурных советских либреттистов. Тогда кустарничество, схематизм и приспособленчество будут выбиты из оперного либретто и пути к созданию советской оперы будут значительно облегчены»[222].
Летом 1934 года Шостакович выехал на отдых в Поленово на Оке, где собирался работать над оперой-фарсом. Он даже делился с друзьями подробностями этого замысла, что было достаточно необычно: он не любил говорить о неоконченных партитурах. Ленинградскому Малому оперному театру он сообщил, что содержание уже обдумано и осталось только определить детали. Это должен был быть музыкальный фарс, в конце превращающийся в трагедию. В Поленове, где композитор провел около двух месяцев, он приступил к написанию партитуры, но работа застряла на начальном этапе, и в августе Шостакович неожиданно объявил, что, собственно говоря, эта опера его уже не интересует.
Однако его не оставляло намерение сочинить сатирическое сценическое произведение. Поскольку театры не проявили заинтересованности в спектакле такого рода, Шостакович обратился к друзьям из числа работников кино. Среди них оказался Михаил Цехановский, автор анимационных фильмов и к тому же неплохой музыкант-любитель, который как раз планировал создать рисованный фильм-оперу по «Сказке о попе и о работнике его Балде» Пушкина. Ему хотелось сделать не столько сказку для детей, сколько язвительную сатиру для взрослых. Шостакович сообщил прессе: «Меня давно занимает мысль о написании новаторской оперы для звукового кино, где доминировать будет работа композитора»[223].
Наброски будущей оперы привели Цехановского в восторг, и он записал в своем дневнике: «Его (Шостаковича) участие меня подстегивает»[224]. Осенью 1934 года, когда композитор целиком посвятил себя новой партитуре, Цехановский записал: «Замечательный мальчик. Очень внимательный, очень талантливый… Его почитают чуть ли не гением. Работает с необычайной быстротой, но нисколько не снижая качества. Настоящий художник. Настоящий мастер. Теперь дело за мной. Я должен дать вещь по качеству не хуже его музыки».
18 сентября 1934 года Шостакович предоставил постановщикам партитуру сцены на базаре, а на следующий день начались репетиции с известным ленинградским кукольником Евгением Деммени, который должен был озвучивать попа. Через три дня приступили к записи музыки. 5 октября Шостакович передал семь фрагментов: «Базар», «Сон Поповны», «Поп-митрополит», «Песенка Балды», «Колыбельная», «Танец Попа с Чертом» и «Танец мертвецов». И это была лишь малая часть партитуры. 30 октября в своей ленинградской квартире Шостакович сыграл Цехановскому на рояле диалог Балды с чертями, который произвел на режиссера огромное впечатление:
«Играл крепко, четко. Казалось, его пальцы выколачивают из инструмента драгоценные камни. Переворачивая ноты, почти рвал бумагу — так хотелось ему держать темп, и, кончив, тяжело дышал, как от бега… Он отнесся к работе, как вдохновенный первоклассный художник. Все это на меня подействовало как удар плетки. Я не могу сейчас сделать что-нибудь среднее, серое. Экран должен сверкать — не уступать музыке в темпе и в красках…»
К началу ноября было готово пятнадцать фрагментов. Музыка отличалась необычным, гротесково-ярмарочным характером, прямо идущим от Стравинского. Темы сопровождались простой, почти банальной гармонией. Поначалу Шостакович сочинял «Сказку о попе» для большого симфонического оркестра. Однако Цехановскому не понравилось, что «большая часть музыки имеет филармонический характер». Поэтому композитор пошел на некоторый компромисс и сократил состав оркестра, но сохранил его симфоническое звучание. Кроме обычных инструментов симфонического оркестра в партитуре нашли себе место балалайка, саксофон и гитара. Нетипичные фактурные соединения, парадоксальное использование инструментальных регистров, изобретательные сочетания инструментов с голосом создали необыкновенно острую и сатирическую атмосферу.
Тем временем работа над фильмом продвигалась медленно. Рисовальщики не поспевали за стремительно работающим композитором. На киностудии нарастал скептицизм по поводу столь нетрадиционного произведения, пытались даже остановить работу режиссера. Лишенный дара убеждения, непрактичный Цехановский попал в безвыходное положение; в какой-то момент ему даже показалось, что они с композитором «в самом начале пошли по неправильному пути». Несмотря на это, Шостакович заявил, что причисляет «Сказку о попе» к лучшим своим сочинениям. Однако киностудия критически отнеслась к работе Цехановского, и до премьеры дело не дошло. Фильм сгорел во время войны, каким-то чудом сохранилось только около шестидесяти метров пленки со сценой на базаре. Партитуру Цехановский отдал композитору, чтобы тот мог при желании ее использовать. Но Шостакович никогда к ней не возвращался, и лишь осенью 1935 года, по случаю восемнадцатой годовщины Октябрьской революции, была однажды исполнена оркестровая сюита из «Сказки о попе», принятая вполне доброжелательно. Произведение осталось практически неизвестным. Только в 1979 году Геннадий Рождественский обнаружил партитуру и исполнил несколько фрагментов в концертном варианте, а также записал их на пластинку[225].
Еще до «Сказки» Шостакович начал сочинять другую оперу — «Большая молния» на либретто Николая Асеева. Однако, по всей видимости, довольно схематичный литературный материал, близкий по фабуле к «Золотому веку», вынудил его прекратить работу. Девять готовых фрагментов «Большой молнии» после смерти композитора нашел Геннадий Рождественский и восемь из них исполнил в Ленинграде в 1981 году.
Шостакович продолжал лелеять оперные планы, а Самуил Самосуд, руководивший Малым оперным театром и дирижировавший всеми спектаклями «Леди Макбет», начиная с премьеры, не оставлял надежды получить его новое сочинение в этом жанре. Композитор вынашивал замысел «Поднятой целины» по Шолохову, причем либреттистом должен был стать сам писатель. Независимо от этого Шостакович попросил Александра Прейса подготовить либретто по «Матери» Горького. Для обсуждения оперных вопросов он встречался в Москве с Всеволодом Ивановым и с Владимиром Немировичем-Данченко. Существовал также проект, чтобы либретто для него написал Михаил Булгаков. Но все эти планы остались нереализованными, и только в начале 40-х годов появился довольно большой фрагмент сатирической оперы «Игроки» по Гоголю.
Наряду с этим Шостакович поддерживал контакты с более молодыми композиторами, делясь с ними своим опытом в области музыкального театра. Его советами пользовался, в частности, Никита Богословский при работе над оперой «Ревизор» по комедии Гоголя. В 1935 году Шостакович хлопотал о постановке другой оперы Богословского — «Аристократы», написанной по пьесе Николая Погодина. За советом к нему обращался Валерий Желобинский. И, наконец, Иван Дзержинский, который сочинял в то время «Тихий Дон» по Шолохову. Шостакович помогал ему даже в инструментовке, и в знак благодарности за оказанную помощь Дзержинский посвятил ему свое сочинение.
Параллельно с настойчивыми попытками создать оперу Шостакович неожиданно вернулся к фортепианной музыке. В тот период он уже перестал публично исполнять свои ранние произведения, которые (главным образом Соната и «Афоризмы») не вызывали особого интереса у слушателей, а у критиков получили клеймо «нежизнеспособных экспериментов». Поэтому Шостакович решил обогатить свой репертуар новыми сочинениями. Через тринадцать дней после окончания «Леди Макбет» он начал работать над циклом 24 прелюдий для фортепиано — миниатюр во всех тональностях квинтового круга.
Идея этого нового произведения коренным образом отличает его от прежней фортепианной музыки Шостаковича. Стилистически композитор делает крутой поворот, сознательно ориентируясь на творчество Шопена, Скрябина, Малера, Рахманинова и Прокофьева. Вытекающее из этого стилистическое многообразие создает особенный эффект: миниатюры, близкие к легкой музыке, соседствуют с драматическими, гротесковые — с лирическими пьесами. Иногда, как, например, в Прелюдии As-dur, типичный для Шостаковича юмор граничит с банальностью — конечно, намеренной: «…когда публика во время исполнения моих произведений смеется или просто улыбается, мне это доставляет удовольствие»[226]. Прелюдии создавались очень быстро: каждая из них требовала всего нескольких часов труда. Некоторые из-за этого производят впечатление наскоро набросанных на бумаге случайных мыслей, но другие представляют собой ценный вклад в жанр фортепианной миниатюры — например, лирическая Прелюдия cis-moll или глубоко драматическая es-moll. В последней Прелюдии, d-moll, Шостакович открыто обращается к музыке Прокофьева, перефразируя его Гавот 1918 года.
Первые восемь прелюдий композитор впервые показал 17 января 1933 года в Большом зале Ленинградской филармонии. К этому времени у него были готовы девять прелюдий (причем восьмую он закончил только за шесть дней до концерта). Весь цикл он сыграл 24 мая в Москве, когда уже интенсивно работал над Фортепианным концертом. Критика приняла прелюдии доброжелательно, и некоторые пианисты (среди них Генрих Нейгауз) немедленно включили отдельные пьесы в свой репертуар. Артур Рубинштейн приложил много усилий для распространения этих миниатюр, хотя его из-за них не раз беспощадно освистывали.
Однако цикл так и не вошел в широкий концертный репертуар. Возможно, причиной тому поверхностность музыкальных мыслей и явная эклектичность. Зато в концертной жизни получили права гражданства многочисленные обработки и переработки, в частности принадлежащие русскому скрипачу Дмитрию Цыганову, который переложил для скрипки и фортепиано 19 прелюдий и благодаря этому обогатил скрипичную литературу выигрышными салонными миниатюрами. Леопольд Стоковский оркестровал Прелюдию es-moll и часто ставил ее в свои американские концертные программы. Эту же пьесу инструментовал и сам автор и включил ее в музыку к фильму «Зоя», сочиненную во время войны. Кроме того, в 60-е годы югославский композитор Милко Келемен инструментовал восемь прелюдий для камерного оркестра.
Через четыре дня после завершения прелюдий, 6 марта, Шостакович начал сочинять Фортепианный концерт. В июле произведение было готово, а 15 октября автор представил его ленинградской публике и имел большой успех.
Хотя новое сочинение и явилось стилистическим продолжением прелюдий, оно оказалось гораздо более индивидуальным. Оригинален уже сам инструментальный состав: солирующий рояль, струнный оркестр и труба — то ли солирующая, то ли аккомпанирующая, выступающая только время от времени, да к тому же с причудливыми, пародийно звучащими мотивами. Стиль Концерта приближается к неоклассицизму, в тот период становившемуся все более модным направлением западной музыки. Сходство с Фортепианным концертом и Каприччио Стравинского не столь велико, хотя пианист во многих фрагментах исполняет похожие «пальцевые импровизации», особенно в крайних частях. Первая часть (Allegretto) написана в традиционной сонатной форме с двумя контрастирующими темами: первой очень серьезной, в духе Рахманинова, и второй танцевальной. Лирическое Lento, напоминающее медленный вальс, представляет собой явную аналогию со средней частью Концерта для фортепиано с оркестром G-dur Равеля. Следующая часть — лишь короткая интерлюдия; она связывает Lento с финальным Allegro con brio, где безраздельно господствует юмор, приправленный забавными цитатами из Сонаты D-dur Гайдна и из рондо «Ярость по поводу потерянного гроша» Бетховена. Лишь в немногих более ранних произведениях Шостаковича можно найти столько разнородных стилистических элементов, и редкое его сочинение содержит столько пародийности, иронии и вместе с тем банального тематизма.
Впрочем, цитата из Бетховена появилась самой последней. После завершения произведения композитор показал его своему другу Льву Оборину.
«— Как же так? Концерт без каденции? — спросил недовольный пианист, просмотрев партитуру.
— Послушай, — сказал Дмитрий. — Это не такой концерт, как у Чайковского или Рахманинова, с пассажами по всей клавиатуре, чтобы показать, что ты умеешь играть гаммы. Этот сделан из совсем другого теста.
Но разочарование друга было столь велико, что наконец Дмитрий сказал:
— Ну так и быть, напишу каденцию.
В каденции он использовал тему из бетховенского рондо, известного под названием „Ярость по поводу потерянного гроша“, которую подал в своей ироничной трактовке. Концерт приводит к захватывающей коде с охотничьим сигналом трубы, разносящимся над аккордами C-dur у рояля и оркестра»[227].
Премьера Концерта, исполненного Шостаковичем с прямо-таки невероятной виртуозностью (причем финал был сыгран в ошеломляющем темпе и исключительно некрасивым, сухим звуком), прошла с огромным успехом. Оборин, восхищенный новой работой друга, быстро освоил сольную партию Концерта и исполнил его через два месяца после премьеры. Сам автор вскоре после октябрьской премьеры начал представлять Концерт во многих городах Советского Союза. А на Западе уже через год его сыграл в Филадельфии молодой Юджин Лист. Со временем Первый концерт Шостаковича вошел в репертуар бесчисленного количества пианистов и остался одним из наиболее часто исполняемых его произведений.
О новом концерте быстро узнал живший тогда в Париже Прокофьев. Во время пребывания за границей автор Классической симфонии постоянно хлопотал об исполнении сочинений своих соотечественников, пропагандировал творчество Мясковского, Хачатуряна, Мосолова и Шебалина. У Шостаковича его особенно интересовали Первая симфония, Струнный октет и Соната для фортепиано, своими замечаниями об этих произведениях он делился в письмах к Мясковскому. Теперь он решил организовать исполнение Концерта в Париже и неоднократно обращался к Мясковскому с просьбой о содействии, но тот был не в состоянии помочь: «С Концертом… трудно что-нибудь сделать: он [Шостакович] его постоянно играет, а другой экземпляр в печати. Все же Атовмьян[228] обещал уловить момент между исполнениями и снять с Концерта копию… А не мог бы Париж выписать автора? Тогда дело сильно облегчилось бы»[229]. После длительного ожидания Прокофьев снова пишет Мясковскому: «…я никак не могу добиться, можно ли получить Шостаковича для исполнения его Концерта в Париже в конце апреля. <…> Я писал об этом Атовмьяну еще в декабре и повторял несколько раз — и как в стену горох!»[230] Дальнейшие усилия тоже не принесли результатов, поскольку Шостакович оставлял впечатление полной незаинтересованности выступлением в Париже. Похоже, заграничные поездки совершенно его не привлекали, хотя нельзя забывать и о том, что в 1934 году выезды советских граждан за рубеж, и так уже очень ограниченные, могли стать поводом для преследований со стороны властей. «Насчет Шостаковича я тоже ничего не могу добиться — он в славе и легкомыслен», — жаловался Мясковский. Таким образом, с Концертом Шостаковича Прокофьев познакомился только по возвращении на родину, в доме писателя Алексея Толстого, и, прослушав его, лаконично констатировал: «Стилистически пестро»[231].
Тем временем в репертуаре композитора появилось еще одно новое произведение — Соната для виолончели и фортепиано, результат дружбы с виолончелистом Виктором Кубацким. Написанное в течение одного месяца классическое по форме и стилистически консервативное, но при этом полное лиризма и очень мелодичное сочинение завоевало большую симпатию музыкантов. 29 марта 1935 года Николай Мясковский записал в своем дневнике: «Смотрел виолончельную сонату Шостаковича — превосходно»[232]. К Сонате сразу обратились многие виолончелисты, так что при ее исполнениях композитор каждый раз аккомпанировал другому солисту. Соната стала первым большим камерным произведением Шостаковича, которое быстро проложило себе дорогу на концертные эстрады мира. Среди первых ее исполнителей на Западе были Григорий Пятигорский и Пьер Фурнье. Четырехчастная Соната d-moll стилистически уже не имеет ничего общего с экспериментальным «Носом» и «кровожадными» фортепианными сочинениями прежних лет. Эволюция Шостаковича зашла так далеко, что можно подумать, будто последние три произведения вообще принадлежат перу другого композитора.
Подобная стилистическая переменчивость будет характерна для Шостаковича в течение многих последующих лет. Очередным крутым поворотом оказался новый балет — «Светлый ручей», созданный на рубеже 1934–1935 годов. Получив предложение от МАЛЕГОТа, Шостакович еще раз поддался искушению сочинять на банальное пропагандистское либретто. На этот раз действие происходит в кубанском колхозе с прелестным названием «Светлый ручей», где живет студент-агроном с женой. Он — веселый и темпераментный, она — спокойная и сентиментальная. В колхоз приезжает группа столичных артистов. Студент влюбляется в одну из танцовщиц и договаривается с ней о ночном свидании, на которое, однако, приходит, переодевшись, его собственная жена, о чем агроном конечно же не догадывается. На следующий день он встречает двух одинаково одетых танцовщиц в масках. После снятия масок оказывается, что одна из танцовщиц — его жена, благодаря чему студент убеждается, что она не менее привлекательна, чем другие женщины.
По мнению Шостаковича, музыка «Светлого ручья» «весела, легка, развлекательна и, главное, танцевальна»; он «намеренно старался найти здесь ясный, простой язык, одинаково доступный для зрителя и для исполнителя»[233]. Но, к сожалению, ему не удалось создать музыку стилистически однородную или столь же органично связанную с танцем, как в двух предыдущих балетах. Необыкновенная легкость сочинения на сей раз оказалась пагубной. Соллертинский раскритиковал новое сочинение друга за поверхностность, склонность к дешевым эффектам, механическое перенесение фрагментов из предыдущих балетов (Шостакович использовал здесь несколько отрывков из «Болта»), Мясковский в письмах к Прокофьеву тоже негативно отзывался о «Светлом ручье». Тем не менее премьера, состоявшаяся 4 июня 1935 года в Ленинграде, была принята с восторгом, а Москва впервые показала новый балет уже 30 ноября в Большом театре. Эти постановки имели значительный успех у публики и заняли почетное место в репертуаре обоих театров.
В апреле 1935 года группа советских артистов выехала в турне по Турции. В тот период Сталин старался наладить отношения с этой страной и ее президентом Кемалем Ататюрком. Поездка была большим культурным событием: в первый раз после революции официально посылали за границу такую большую группу деятелей культуры. В делегацию входили самые талантливые представители почти всех областей музыки, и среди них выдающиеся певцы Валерия Барсова, Мария Максакова, Александр Пирогов, солисты балета Наталия Дудинская и Асаф Мессерер, пианист Лев Оборин и скрипач Давид Ойстрах. В составе делегации был и Шостакович, которому выпала двойная роль — пианиста и композитора.
Советских артистов встретили с наивысшими почестями, их трижды принимал Ататюрк. Музыкальная жизнь Турции находилась в зачаточном состоянии (вскоре ее организацией начал заниматься Пауль Хиндемит), но для русских устраивались бесконечные приемы, всем мужчинам подарили золотые портсигары, а женщинам — браслеты. Шостакович неожиданно получил еще один подарок, правда, из рук советского консула, — только что вышедшую грамзапись своей Первой симфонии под управлением Артуро Тосканини. Турне длилось около месяца, музыканты дали концерты в трех городах — Анкаре, Измире и Стамбуле. Их выступления вызывали всеобщее одобрение, причем участие Шостаковича во всех концертах было настолько большим, что турецкий успех советских музыкантов можно в значительной мере считать его личной заслугой (об этом много говорили и писали в газетах).
Через короткое время композитор начал новую серию выступлений в Советском Союзе, главным образом как камерный исполнитель, но наряду с этим солировал в собственном Фортепианном концерте. В нем пробудилась энергия пианиста-виртуоза. Он стал готовить произведения и других композиторов, включил в свой постоянный репертуар Виолончельную сонату Рахманинова, которую прежде играл с Виктором Кубацким, решил разучить ряд фортепианных произведений своих коллег. И, как ни парадоксально это звучит, несмотря на все более трагичное положение в стране, первые два года после премьеры «Леди Макбет», несомненно, принадлежали к самым спокойным периодам в жизни Шостаковича.
Глава одиннадцатая 1935–1937
«Сумбур вместо музыки». — Официальное осуждение Шостаковича. — Большой террор. — Четвертая симфония
После возвращения из Турции Шостакович был полон энергии и воодушевления, но посвящал себя в основном исполнительству. Уйма разных дел заставила его на некоторое время отложить творческую работу. В течение всего 1935 года он не сочинил почти ничего — лишь 5 фрагментов для оркестра, имевших типично «лабораторное» значение, и несколько начальных страниц новой, Четвертой симфонии.
Тем временем популярность его музыки продолжала расти. «Леди Макбет» не сходила с оперных сцен Ленинграда и Москвы. До конца 1935 года в Ленинграде ее исполнили 83 раза, а в Москве — даже 97. За границей к этой партитуре обращались все новые и новые театры. «Светлый ручей», хотя и раскритикованный, встречал горячий прием у публики, поэтому после ленинградской премьеры его поставил Большой театр. Тем не менее музыка Шостаковича постоянно порождала страстные споры и дискуссии. Борис Асафьев подчеркивал сложность стиля композитора, другие не слишком способны были понять характерную для него в те годы стилистическую неоднородность, выражавшуюся в почти одновременном создании столь различных произведений, как «Нос» и «Золотой век», «Леди Макбет» и Фортепианный концерт. Его творчество вызывало не только разногласия, но и зависть. Шостакович уже давно имел репутацию enfant terrible советской музыки. Успех, которым пользовались его сочинения, превосходил воображение и испытывал терпение коллег, а достаточно эксцентричное поведение, без сомнения, не прибавляло ему друзей.
У Шостаковича было много планов. В нем зрела концепция новой симфонии, которая должна была стать переломной в процессе осовременивания музыкального языка. «Я не боюсь трудностей. Быть может, проще и удобнее ходить проторенными дорожками, но это скучно, неинтересно и бесполезно», — заявил он[234]. Тем временем в музыкальной жизни начали происходить явные перемены. Власти то и дело призывали творить искусство с помощью выразительных средств, доступных широким массам, все чаще раздавались произвольные обвинения в формализме. Золотой период русского авангарда неотвратимо уходил в историю.
22 октября 1935 года в Ленинградском Малом оперном театре состоялась премьера оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон» по еще неоконченному роману Михаила Шолохова. Писатель стоял на пороге литературной и партийной карьеры, был в милости у самого Сталина, и показ его оперы выходил далеко за рамки обычного культурного события. Об этом свидетельствовал хотя бы такой весьма знаменательный факт: 17 января 1936 года на спектакле «Тихий Дон» в Большом театре появился сам вождь в сопровождении Молотова и некоторых других высокопоставленных персон. После представления Сталин вызвал в свою ложу композитора, дирижера и режиссера, чтобы авторитетно высказаться по поводу сочинения Дзержинского и советской оперы вообще. Он сделал ряд положительных замечаний о музыке Дзержинского, которая явно пришлась ему по вкусу. Но чтобы не слишком переусердствовать с похвалами, он обратил также внимание на пробелы в мастерстве композитора (так!) и указал на некоторые недостатки постановки, а потом порекомендовал Дзержинскому продолжать «учиться»[235]. Содержание этой беседы было опубликовано чуть ли не во всех советских газетах.
28 января 1936 года Шостакович писал Соллертинскому:
«26-го я приехал в Москву. Вечером пошел к Гисину[236]. <…> …Пока я у него сидел, позвонил зам. директора ГАБТа Леонтьев и потребовал меня сейчас же в филиал. Шла „Леди Макбет“. На спектакле присутствовал товарищ Сталин и тт. Молотов, Микоян и Жданов. Спектакль прошел хорошо. После конца вызывали автора (публика вызывала), я выходил раскланиваться и жалел, что этого не сделал после 3 акта. Со скорбной душой вновь зашел я к Гисину, забрал портфель и поехал на вокзал»[237].
Письмо к другу содержит только упоминание о факте, что в театре присутствовали Сталин и несколько его приближенных, но ни слова не говорится об атмосфере, царившей на спектакле. Между тем сохранились гораздо более драматические воспоминания об этом вечере (хотя и отличающиеся в деталях от рассказа Шостаковича), которые принадлежат американскому певцу польско-русского происхождения Сергею Радамскому:
«Сталин, Жданов и Микоян сидели в правительственной ложе, с правой стороны оркестровой ямы, вблизи от медных духовых и ударных. Ложа была бронирована стальным листом, чтобы предупредить возможное покушение из ямы. Шостакович, Мейерхольд, Ахматели и я (как гость Шостаковича) сидели напротив этой ложи, так что могли в нее заглянуть. Однако Сталина видно не было. Он сидел за небольшой шторой, которая не заслоняла ему вид на сцену, но ограждала от любопытства публики. Каждый раз, когда ударные или медь играли fortissimo, мы видели, как Жданов и Микоян вздрагивали и со смехом оборачивались к Сталину.
Мы думали, что во время антракта Шостакович будет приглашен в ложу Сталина. Но поскольку этого не произошло даже во время второго антракта, мы начали волноваться. Шостакович, который видел, как вся троица напротив смеялась и веселилась, спрятался в глубине нашей ложи и заслонил лицо руками. Он был в состоянии крайнего напряжения.
К его изумлению, наибольшее веселье вызвала любовная сцена из второго акта. Посреди сцены лежал соломенный матрас, на котором, мягко выражаясь, почти натурально занимались любовью. В Ленинграде эту сцену поставили гораздо деликатнее, на большом расстоянии виднелись только тени, а иллюстративная музыка в совершенстве позволяла представить развитие действия. <…>
После второго акта Шостакович хотел отправиться домой, но тут пришел директор театра и сказал, что, поскольку Сталин еще не высказался насчет произведения, то уходить из театра было бы крайне неблагоразумно. После третьего акта Сталин наверняка пригласит композитора к себе.
Четвертый акт содержит самую мелодичную во всей опере музыку, продолжающую традицию народных песен, которые пели в царское время скованные цепями каторжники, сквозь холод и снег бредущие в ссылку. Занавес опустился; Шостаковича не вызвали на сцену, а Сталин и два его приспешника покинули театр, не выразив охоты встретиться с композитором.
Критик „Известий“ рассказал нам позже, что когда он спросил Сталина, понравилась ли ему музыка, то услышал в ответ: „Это сумбур, а не музыка!“»[238]
Композитор оставался в Москве лишь сутки, а затем уехал в Архангельск, где вместе с Виктором Кубацким должен был выступить в нескольких концертах. Это было 28 января. Еще на железнодорожной станции Шостакович купил свежий номер «Правды» и увидел в нем небольшую статью под названием «Сумбур вместо музыки. Об опере „Леди Макбет Мценского уезда“». Он начал читать, сначала с недоумением, а потом с ужасом:
«Вместе с общим культурным ростом в нашей стране выросла и потребность в хорошей музыке. Никогда и нигде композиторы не имели перед собой такой благодарной аудитории. Народные массы ждут хороших песен, но также и хороших инструментальных произведений, хороших опер.
Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой, выросшей культурно советской публике оперу Шостаковича „Леди Макбет Мценского уезда“. Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу, создает ей громкую славу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты.
Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой „музыкой“ трудно, запомнить ее невозможно.
Так в течение почти всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию. Выразительность, которой требует слушатель, заменена бешеным ритмом. Музыкальный шум должен выразить страсть.
Это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная „шиворот-навыворот“ — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это — перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт „мейерхольдовщины“ в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо.
Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное „новаторство“ ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы.
Автору „Леди Макбет Мценского уезда“ пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать „страсть“ своим героям.
В то время как наша критика — в том числе и музыкальная — клянется именем социалистического реализма, сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличье представлены все — и купцы и народ. Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то „жертвы“ буржуазного общества. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет.
И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И „любовь“ размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все „проблемы“. В таком же грубо-натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене.
Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта. Это воспевание купеческой похотливости некоторые критики называют сатирой. Ни о какой сатире здесь и речи не может быть. Всеми средствами и музыкальной и драматической выразительности автор старается привлечь симпатии публики к грубым и вульгарным стремлениям и поступкам купчихи Катерины Измайловой.
„Леди Макбет“ имеет успех у буржуазной публики за границей. Не потому ли похваливает ее буржуазная публика, что опера эта сумбурна и абсолютно аполитична? Не потому ли, что она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории своей дергающейся, крикливой, неврастенической музыкой?
Наши театры приложили немало труда, чтобы тщательно поставить оперу Шостаковича. Актеры обнаружили значительный талант в преодолении шума, крика и скрежета оркестра. Драматической игрой они старались возместить мелодийное убожество оперы. К сожалению, от этого еще ярче выступили ее грубо-натуралистические черты. Талантливая игра заслуживает признательности, затраченные усилия — сожаления».
Статья не была подписана, а это означало, что она выражает мнение партии и правительства, Вероятнее всего, она вышла из-под пера Давида Заславского, журналиста, специализировавшегося на подобных пасквилях[239]. В прессе того времени появлялись такие статьи, уничтожавшие ученых, инженеров, писателей и поэтов; они всегда возвещали о преследованиях, грозили арестом, ссылкой или расстрелом.
Свидетелем ситуации, в которой Шостакович увидел статью в «Правде», оказался Абрам Ашкенази: «В Архангельске был мороз тридцать градусов. Шостакович стал в очередь за газетой. Долго стоял. Купил, тут же развернул газету и, когда увидел статью „Сумбур…“, зашатался, а из очереди закричали: „Что, браток, с утра набрался?“»[240] Кубацкий пробовал утешить Шостаковича, показывая пальцем те места в тексте, где композитору не отказывали в таланте, однако обоим было ясно, что это не имеет большого значения. Новость распространилась с быстротой молнии. «В Радиокомитете его [Шостаковича] встретил председатель бранью: „Негодяй. Вон. Чтобы я тебя не видел“. Шостакович выбежал и забежал в какой-то подъезд, совсем растерялся»[241].
Однако осуждение со стороны официальных деятелей вызывало и диаметрально противоположную реакцию, в чем Шостакович вскоре смог убедиться на своем концерте. «Когда я вышел на сцену, — писал он Атовмьяну, — поднялся такой шум, что мне показалось, что, видимо, обрушился потолок, и я невольно посмотрел в сторону зала. Я увидел, что публика стоя, а не сидя, бурными аплодисментами приветствовала меня. Я даже опешил и быстро подошел к роялю, поклонился (притом несколько раз) и еле-еле дождался, чтобы публика утихла. Концерт свой я играл спокойно и, кажется, неплохо»[242].
Соллертинский, который в качестве трубадура «формализма» испытывал особенно сильный нажим со стороны властей, обратился к Шостаковичу с вопросом, как ему себя вести в этой чрезвычайно трудной для него ситуации. «Делай что хочешь», — ответил ему создатель «Леди Макбет». Тогда Соллертинский выступил с публичной самокритикой, отрекаясь от былых восторгов по поводу оперы Шостаковича.
Не прошло и нескольких дней, как Шостаковича настиг очередной удар: 6 февраля на страницах той же газеты появилась редакционная статья под названием «Балетная фальшь», направленная против «Светлого ручья». По тону и упрекам, брошенным произведению, она напоминала предыдущую публикацию.
5 и 7 февраля в ленинградском отделении Союза композиторов прошло собрание, на котором ораторы состязались в нападках на «Леди Макбет» и Шостаковича. Выступали ведущие представители музыкальной жизни, в том числе Максимилиан Штейнберг. Профессор Ленинградской консерватории высказался довольно путано. С одной стороны, он подчеркнул: «Драма Шостаковича — это моя личная драма» и хвалил Первую симфонию. С другой стороны, он не упустил случая припомнить: «Меня очень огорчило выступление Шостаковича в печати, в котором он заявлял, что в консерватории ему только „мешали сочинять“», а напоследок добавил: «Когда Шостакович пришел ко мне с „Афоризмами“, я ему сказал, что ничего в них не понимаю, что они мне чужды. После этого он перестал ко мне приходить». Под конец Штейнберг заявил, что ему непонятно, почему молодой композитор выбрал для либретто оперы произведение, в котором «действуют не люди, а сплошь звери».
Критически высказался и Иван Дзержинский, хотя его опера «Тихий Дон», заслужившая недавно похвалу Сталина, создавалась при значительной помощи Шостаковича, который давал ему различные советы относительно инструментовки, а затем помог завязать контакты с Ленинградским Малым оперным театром и тем самым содействовал постановке этого произведения. Дзержинский из благодарности посвятил ему оперу, но в изданной позднее партитуре снял посвящение. В памяти собравшихся он запечатлелся своими исключительно грубыми нападками на Шостаковича.
Нежданным противником оказался также Борис Асафьев, еще не так давно хваливший «Леди Макбет». Правда, на собрание он не явился, но прислал письмо, в котором, признавая, что Шостакович обладает «моцартовской легкостью», одновременно вспоминал об «уродливой — гротескной — „игре масок“» в опере «Нос», которая привела Шостаковича к следующей опере, представляющей «грубо-натуралистический показ проявления взаимного издевательства» героев[243]. Другие выступавшие критиковали Фортепианный концерт и прелюдии, а нашлись и такие, которые вообще начали ставить под сомнение приемлемость музыки Шостаковича для советской культуры.
В середине января в Москве прошло аналогичное собрание, описанное Сергеем Радамским:
«Собралось более четырехсот композиторов, критиков, режиссеров и других людей театра. Отсутствие Шостаковича было многозначительным, поскольку он пребывал тогда в Москве и его тоже ждали. Получив приглашение от секретаря Союза композиторов Григория Шнеерсона, я был проинструктирован, что моей задачей будет рассказать о фиаско, которое потерпела постановка оперы в нью-йоркском театре „Метрополитен“ под управлением Артура Родзинского. <…> Меня посадили в первый ряд около композитора Шебалина… который решил не выступать.
Композиторы, дирижеры и критики, хвалившие оперу после того, как она была поставлена Немировичем-Данченко, сейчас по очереди выходили на трибуну, чтобы отречься от своего прежнего мнения. Критики отказывались от положительных оценок, а все остальные признавали себя виноватыми в том, что совершили ошибку, на которую только „великий вождь“ Сталин открыл им глаза. Когда Евгений Браудо, один из ведущих историков советской музыки, вышел на подиум, чтобы подхватить эти песни, Шебалин и я опустили головы — так нам было стыдно за него.
Передо мной предполагался еще один выступающий, композитор Книппер. Было общеизвестно, что он завидовал успеху Шостаковича, поэтому никто не ожидал, что он станет его хвалить. Но никто не мог предвидеть и того, что он обвинит Шостаковича в антинародной позиции: это было самое тяжкое обвинение, которое в то время можно было выдвинуть. Однако Книппер это сделал, а в подтверждение рассказал о происшествии, которое имело место, когда однажды ленинградских композиторов попросили выступить перед моряками. Все приехали вовремя, кроме Дмитрия, который появился с пятнадцатиминутным опозданием и вдобавок не вполне трезвым. В этот момент по залу прошел глухой шум. Книппер сделал короткую паузу, после чего добавил:
— Но ведь мы пришли сюда не для того, чтобы вбить последний гвоздь в гроб Шостаковича…
Услышав это, я выкрикнул:
— Подлец! <…>
В зале заволновались, кто-то крикнул: „Хватит!“ Протестующие голоса так усилились, что Книппер уже не мог продолжать. Поэтому председательствующий объявил перерыв, а на сцену поднялся присутствовавший на собрании представитель Центрального комитета Коммунистической партии и устроил спешное совещание. <…> Через несколько минут Шнеерсон сообщил мне, что очень сожалеет… но я не смогу выступить в дискуссии»[244].
Шостакович не появился на собрании, хотя он действительно находился тогда в Москве. Искал поддержки у друзей — встречался с Шебалиным, Обориным, Татьяной Гливенко. Но прежде всего он подал прошение Сталину с просьбой принять его, рассчитывая на возможность разговора и прояснения ситуации. Соллертинскому он сообщал: «Тихо живу в Москве. Безвыходно сижу дома. Ожидаю звонка. Надежды на то, что буду принят, у меня немного. Но все-таки надеюсь»[245]. Однако ответа от вождя он так и не дождался. Не получил ответа и Максим Горький, который в связи с нападками на Шостаковича написал Сталину:
«Т[оварищ] Кольцов сообщил мне, что первыми вопросами Мальро[246] были вопросы о Шагинян, о Шостаковиче. Основная цель этого моего письма — тоже откровенно рассказать Вам о моем отношении к вопросам этим. <…>
<…> Шостакович — молодой, лет 25, человек, бесспорно талантливый, но очень самоуверенный и весьма нервный. Статья в „Правде“ ударила его точно кирпичом по голове, парень совершенно подавлен. <…> „Сумбур“, а — почему? В чем и как это выражено — „сумбур“? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья „Правды“, разрешило стае бездарных людей, халтуристов всячески травить Шостаковича. Выраженное „Правдой“ отношение к нему никак нельзя назвать „бережным“, а он вполне заслуживает именно бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов»[247].
Кроме Горького в защиту Шостаковича обратились к Сталину — тоже безуспешно — Михаил Булгаков и Лео Арнштам.
Тем временем Шостакович навестил Тухачевского. Маршал только что вернулся из поездки в Лондон и Париж, и в газетах почти каждый день пели ему дифирамбы. Будучи страстным меломаном и почитателем искусства, Тухачевский хорошо знал «Леди Макбет» и неоднократно отзывался о ней с восторгом. Он пообещал помочь Шостаковичу по мере своих возможностей — как вскоре оказалось, очень небольших. «Они надолго удалились вдвоем в кабинет. Не знаю, о чем там разговаривали, но из кабинета Шостакович вышел обновленным человеком. <…> Михаил Николаевич… не отрывал восхищенного взгляда от друга, в которого верил и которому сумел внушить веру в самого себя»[248].
Шостакович, никогда прежде не интересовавшийся рецензиями и статьями о своей музыке, теперь старательно собирал все выступления, касавшиеся «Леди Макбет». Еще из Архангельска он послал своему другу Исааку Гликману телеграмму с просьбой собирать газетные вырезки. Позже он в хронологическом порядке вклеил их в альбом, а некоторые места даже подчеркнул карандашом. До наших дней сохранился этот печальный документ — альбом, который содержит девяносто страниц, заклеенных рецензиями, высказываниями и критическими статьями по преимуществу с уничтожающими оценками его шедевра.
Разумеется, оба оперных театра сняли с афиши «Леди Макбет» и «Светлый ручей», хотя это произошло не сразу, что доказывают многочисленные публикации на эту тему. В Москве состоялись еще три спектакля «Леди Макбет» — 31 января, 4 и 10 февраля. В Ленинграде оперу показали еще пять раз: 28 января, 5, 10 и 16 февраля, а в последний раз — 7 марта. Однако с того момента «Леди Макбет Мценского уезда» существовала только как символ вырождения и формализма в музыке.
Шостаковича ждало в этот период много неприятностей от людей, в порядочность которых он верил. Многие, до недавнего времени числившиеся его друзьями, теперь обходили его за версту. Приятным исключением была позиция Прокофьева, который в эти дни сказал: «У нас иногда называют формализмом то, чего не понимают с первого прослушивания»[249]. Были и такие, кто хотел ему помочь, но Шостакович считал это бесполезным. Левон Атовмьян вспоминал:
«Я ему сообщил, что был в ЦК партии и добился проведения в Большом театре концерта из произведений Д. Шостаковича и согласовал даже программу, в которую были намечены следующие сочинения: Фортепианный концерт и целиком последний, четвертый акт „Леди Макбет“.
— А зачем нужно устраивать этот концерт? — возразил Шостакович. — Разве не ясен тебе его исход? Публика, конечно, будет аплодировать — ведь у нас считается „хорошим тоном“ быть в оппозиции, — а потом появится еще одна статья под каким-нибудь заголовком „Неисправимый формалист“. Ты что — этого добиваешься? Не надо быть Дон Кихотом»[250].
Вскоре на Шостаковича наклеили ярлык «врага народа», а от такого обвинения до ареста и физической расправы мог оставаться всего один шаг. Жизнь предоставляла сколько угодно подобных примеров, и ближайшие месяцы принесли усиление террора, в значительно большей степени распространившегося на художественную интеллигенцию.
В 1936 году при невыясненных до конца обстоятельствах умер тяжело болевший Максим Горький, который был всецело предан властям[251]. Когда двумя годами раньше убили его сына, Сталин прислал ему циничное соболезнующее письмо. Секретарь писателя Крючков (кстати, агент ОГПУ) был арестован по обвинению в причастности к убийству Горького и казнен. В 1938 году убили великого поэта Осипа Мандельштама. В том же году погиб в заключении поэт Борис Корнилов, автор слов популярной «Песни о встречном». В том же году был арестован и казнен автор «Повести непогашенной луны» Борис Пильняк. Писателя Исаака Бабеля заключили в тюрьму в 1939 году, а смертный приговор над ним привели в исполнение в 1940 году. Тогда же расстреляли Всеволода Мейерхольда, а его жену зверски закололи в собственном доме. У Анны Ахматовой отняли второго мужа и сына; психически надломившаяся Марина Цветаева в 1941 году покончила с собой. Из музыкантов был заключен в тюрьму и, возможно, убит директор Московской консерватории Болеслав Пшибышевский (сын Станислава), репрессиям подверглись также композиторы Николай Жиляев, Александр Мосолов и Николай Попов, музыковед Дмитрий Гачев, органист Николай Выгодский, пианистка Мария Гринберг, а немного позднее Генрих Нейгауз и многие, многие другие.
В Ленинграде царило убеждение, что Шостаковичу тоже не удастся избежать ареста. Сам он был к этому готов. Фраза из статьи в «Правде»: «Это игра… которая может кончиться очень плохо» — звучала как несомненная угроза. Но поводов для опасений было гораздо больше. Среди ближайших родственников Шостаковича были эмигранты, и прежде всего сестра матери, которая в 1923 году выехала на Запад. Долгое время Шостаковичи состояли с ней в переписке, а ведь получение письма из-за границы грозило десятью годами ссылки. Небезопасными могли оказаться и давние дружеские контакты с эмигрантом Евгением Замятиным, соавтором либретто «Носа». Впрочем, семьи композитора уже коснулись репрессии. Тестя отправили в лагерь под Караганду. Арестовали мужа старшей сестры, физика Всеволода Фредерикса, барона, происходившего из прибалтийского дворянства, а ее саму выслали в Сибирь; Марии пришлось отречься от мужа ради спасения собственной жизни, чем была очень возмущена мать.
Ход событий становился все более драматическим. 13 июня 1937 года в прессе появилось сообщение о расстреле группы высших военачальников, и среди них Михаила Тухачевского. Вскоре начались аресты и преследования всех, кто имел какое-то отношение к казненным. Так погиб Николай Жиляев, друживший и с Тухачевским, и с Шостаковичем. Однажды Шостакович тоже получил повестку в Ленинградское управление НКВД. Первый допрос состоялся в субботу. Офицер по фамилии Закревский пытался убедить композитора, что тот входит в террористическую группу, готовящую покушение на Сталина, и требовал выдать имена остальных заговорщиков. Многочасовой допрос закончился приказом повторно прибыть в понедельник и зловещим обещанием, что если подозреваемый не предоставит сведений об остальных «террористах», то будет тут же арестован.
— Самым страшным было то, — рассказывал Шостакович автору этой книги, — что надо еще было прожить воскресенье.
В понедельник допрос не состоялся: Закревский был уже расстрелян…
Поскольку НКВД приезжал к своим жертвам ночью, с этого времени и в течение долгих месяцев Шостакович ложился спать одетым, а на случай ареста всегда имел наготове небольшой чемоданчик. Он не спал. Лежал и ждал, вслушиваясь в темноту. Он был совершенно подавлен, его начали посещать мысли о самоубийстве, которые с большими или меньшими перерывами преследовали его в следующие десятилетия. Длительное ожидание худшего оставило прочные следы в его психике, и панический страх перед потерей свободы сопровождал его до самой смерти. Этот страх то уменьшался, то набирал силу, но не исчезал никогда. Теперь Шостакович видел в себе человека, втянутого в политику, поскольку формализм и впрямь считался преступлением против народа. Он искал забвения в алкоголе, причем все в большей степени.
Это ужасное время вспоминал впоследствии Давид Ойстрах:
«Мы с женой пережили 37-й год, когда вся Москва по ночам ждала арестов. В многоэтажном доме, где мы жили, в подъезде в конце концов только моя квартира и квартира напротив, через площадку, оставались нетронутыми. Все остальные жильцы были арестованы. Я ждал ареста каждую ночь, и у меня для этого случая были приготовлены теплое белье и еда на несколько дней. Вы не можете себе представить, что пережили мы, слушая по ночам приближающийся шум автомобилей и стук парадных дверей. В народе эти черные машины называли „маруси“. Однажды „маруся“ остановилась у нашего парадного входа… К кому? К нам — или к соседям? Больше никого нет. Вот хлопнула дверь внизу, потом заработал лифт, наконец на нашей площадке остановился. Мы замерли, прислушиваясь к шагам. К кому пойдут? Позвонили в квартиру напротив… С тех пор я не боец…»[252]
Трудно себе представить, в каком аду пришлось жить людям в Советском Союзе. В Европе об этом было известно немногое: там в основном следили за развитием событий в Третьем рейхе, а из СССР доходили только отрывочные и ложные сведения. Дезинформацию распространяла чрезвычайно вероломная пропаганда, которой были склонны верить даже те, кто посещал Советский Союз. Создавались полуправдивые легенды, повторяемые (из лучших побуждений?) выдающимися западными интеллектуалами. Андре Мальро воспевал строительство Беломорского канала, возникшего — о чем он, быть может, не знал — благодаря усилиям сотен тысяч заключенных, посылаемых на принудительную работу, большинство из которых погибли вследствие нечеловеческих условий. Джордж Бернард Шоу уверял, что голода в России нет. Еще дальше пошел Лион Фейхтвангер, который в книге «Москва 1937» описал свою встречу со Сталиным, подчеркнув его гениальность и восхваляя достоинства его характера, благодаря чему получил возможность оказаться в качестве наблюдателя на суде над Радеком[253], а затем изобразил ход политических процессов в Москве, утверждая при этом, что они необходимы и содействуют развитию демократии. Наконец, можно лишь с крайним изумлением читать сегодня слова Луи Арагона, который в августовском номере «Commune» за 1936 год писал о сталинской конституции:
«Разве в огромной сокровищнице человеческой культуры новая сталинская конституция не занимает первого места, перед величественными творениями фантазии Шекспира, Рембо, Гёте и Пушкина? Это великолепные страницы о труде и радости 160 миллионов людей, воодушевленные большевистским гением, плод мудрости партии и ее руководителя, товарища Сталина, философа марксистского типа, которому не достаточно просто истолкования мира».
Несмотря на безумство террора, в Советском Союзе все же встречались люди, которые сумели сохранить духовную независимость и не боялись преследований. Композитор Альфред Шнитке рассказывал писателю Николаю Самвеляну:
«Однажды Сталин заявил, что хочет послушать Концерт для фортепиано d-moll Моцарта. Трудно себе представить, как ему удалось объяснить, о каком произведении идет речь, но факт остается фактом — каким-то способом он дал это понять своим приближенным. Оказалось, однако, что у нас нет грамзаписи этого концерта, а ведь вождь требовал именно пластинку. Разумеется, последовал ответ:
— Сейчас сделаем, товарищ Сталин!
Исполнители приказа мигом помчались удовлетворять желание „отца народов“ — а пластинки нет!
Записи-то они не нашли, зато узнали, что этот Концерт исполняет пианистка Мария Юдина. Вызвали ее, организовали ночную запись. Дали ей неповторимую возможность выбрать дирижера. Она отклонила несколько кандидатур, не помню уже, кого в конце концов выбрала. Несложно понять, что все трудности были преодолены и утром была изготовлена пластинка в единственном экземпляре. Вождь мог вволю общаться с бессмертным искусством, за что велел выплатить пианистке гонорар в количестве скольких-то там тысяч рублей. В ответ он получил от нее письмо, в котором Юдина благодарила за оказанную ей честь, но деньги просила направить на восстановление одной из церквей, разрушенных в приступе атеистической истерии. При этом она добавила, что будет молиться за Иосифа Виссарионовича, чтобы ему были отпущены его грехи. Человек, передавший Сталину это письмо, уже имел при себе приказ о ликвидации Марии Юдиной. Однако он явно поспешил. Нужно помнить, что Сталин любил разные игры и был опытным игроком. Он не умертвил ни Булгакова, ни Платонова, ни Пастернака, хотя прекрасно отдавал себе отчет в их таланте, уровне культуры и степени противостояния. Он был нелюдим, жил в изоляции, чувствуя себя порой словно голый на морозе. Думаю, что иногда его забавляли такие перебои в этом запрограммированном одиночестве, как письмо Юдиной. К тому же Сталину, вероятно, нравилось, чтобы кто-нибудь за него молился: известно, что он учился в духовной семинарии. Он сохранил несколько мистический способ мышления, жаждал перевоплотиться в образ Богочеловека. Впрочем, вся страна принимала участие в колоссальных ритуальных обрядах, носивших название торжественных собраний, посвященных роли и значению тов. Сталина. <…> Это была смесь египетского культа бога-фараона и персидского деспотизма <…> А тех, кто отваживался на дерзость, Сталин, как подобает уверенному в себе диктатору, иногда умел помиловать. <…> Сталин прочитал письмо Юдиной, спрятал его в карман и не сказал ни слова. К разговору на эту тему он никогда больше не возвращался. Ей была дарована жизнь, но запрещены всякие выступления. А когда Сталин умер, в его кабинете нашли ту самую пластинку, записанную той ночью по специальному срочному заказу»[254].
Можно сколько угодно гадать, почему Шостаковича не арестовали, но ответить на этот вопрос, по-видимому, невозможно. Без сомнения, Сталин лично принял решение оставить его на свободе, невзирая на близкие отношения с такими уже осужденными «врагами народа», как Мейерхольд и Тухачевский. Реакция тирана всегда была непредсказуемой, и он часто играл со своими жертвами, как кот с мышью. Доказательством тому — знаменательная история первого ареста Мандельштама: когда поэта приговорили к трехлетней ссылке, Сталин лично позвонил по телефону Борису Пастернаку (дружившему с Мандельштамом), заверяя его, что изо всех сил хлопочет о помиловании его коллеги.
Охваченный паническим страхом, Шостакович не решился на какую-нибудь оппозицию против Сталина. Однако можно только восхищаться его самоотверженностью, поскольку он, несмотря ни на что, сумел вернуться к творческой работе и нашел в себе достаточно сил, чтобы непосредственно после этих трагических событий без остатка отдаться музыке. Он говорил тогда Гликману: «Если мне отрубят обе руки, я буду все равно писать музыку, держа перо в зубах»[255]. Его поглотила работа над новой симфонией, начатой в набросках еще в прошлом году, а задуманной за несколько лет до того. Но в основном творческий замысел был реализован после январских статей. Композитор работал над партитурой без передышки и 20 мая 1936 года закончил огромное, длящееся целый час произведение. Это одно из самых потрясающих и трагических сочинений Шостаковича, отражение его тогдашнего психологического состояния.
Четвертая симфония колоссальна. Ее инструментальный состав соответствует двум симфоническим оркестрам. Только экспозиция тем первой части занимает 476 тактов и длится дольше, чем Седьмой струнный квартет Шостаковича; ее объем равен первым двум частям его Девятой симфонии. Вся эта огромная часть создана по принципам сонатной формы, так же как и следующее за ней Скерцо. Только финал имеет строение, непохожее на классические образцы. Его открывает мрачный траурный марш, далее возникает как бы второе скерцо, масштабное и пронизанное симфоническим развитием, и наконец появляется конгломерат юмористических эпизодов — гротескных галопов, маршей, вальсов и полек. Трагическая кода, длящаяся почти десять минут, перекликается с начальным траурным маршем и навязчиво повторяет тонику до (симфония написана в тональности c-moll).
В партитуре обнаруживаются все типичные стилистические черты музыки молодого Шостаковича. Она содержит много фрагментов, привлекающих своей изобретательностью. К таким моментам относятся драматическая кульминация главной темы в экспозиции первой части и ошеломляющее фугато струнных инструментов в разработке, создающее общее впечатление шума с чуть ли не кластерным звучанием, в чем видно сходство с некоторыми эпизодами Второй симфонии. Превосходно также окончание первой части, оперирующее резкими sforzato при значительном участии ударных. Скерцо насыщено полифонией, а его разработка — это строгая фуга. В последней части привлекает своим размахом второй эпизод (allegro), забавляют гротескные фрагменты, продолжающие специфический юмор «Носа», отдельных моментов Второй и Третьей симфоний и трех балетов. Очень жаль, что в таком облике они появились у Шостаковича в последний раз.
Хотя он и в дальнейшем будет часто писать музыку веселую, безмятежную и даже юмористическую, но уже никогда не решится на такое озорство, беспечность и эксцентричность. Наиболее существенно, однако, то, что во всем произведении, независимо от количества забавных эпизодов в финале, чувствуются этот трудно определимый словами трагический тон, накал страсти и глубина, составляющие творческую индивидуальность композитора.
В Четвертой симфонии Шостакович выразил также свою огромную любовь к музыке Густава Малера. В период ее написания он живо интересовался творчеством австрийского симфониста. Некоторые фрагменты Четвертой — например, финальный траурный марш или эпизод, предшествующий коде, — созданы под сильным влиянием автора «Песни о земле».
Осенью 1936 года в Советский Союз приехал Отто Клемперер. Будучи в Ленинграде, он навестил в том числе и Шостаковича. В этой встрече участвовали Фриц Штидри, Иван Соллертинский и Исаак Гликман, который обратил внимание на выражение лица Клемперера, когда Шостакович играл на рояле Четвертую симфонию: «Клемперер был восхищен симфонией и попросил передать ему право зарубежной премьеры. Он рассказывал, с каким успехом объездил всю Америку с программой, в которую входили балетные сюиты и Фортепианный концерт Шостаковича»[256]. Его возражения вызвал только чересчур большой, по его мнению, состав оркестра и особенно шесть флейт, которыми он не располагает в концертных поездках. Однако Шостакович был непреклонен и только и сказал, усмехнувшись: «Что написано пером, того не вырубишь топором».
Первое исполнение Четвертой симфонии было намечено в Ленинграде в том же 1936 году. Когда началась подготовка, Фриц Штидри, который тремя годами ранее дирижировал премьерой Фортепианного концерта, заявил, что с такой партитурой в жизни еще не сталкивался. Один из скрипачей впоследствии вспоминал:
«Ознакомление с партитурой началось с проигрывания не всем оркестром, а только струнной группой. В зале сидел худенький молодой человек, еще не имевший в наших глазах большого симфонического авторитета. <…> Низко склонившись над партитурой и водя по ней пальцем, Фриц Штидри то и дело нетерпеливо спрашивал у автора, проверяя текст: „Верно? Так?“ Оркестр останавливался, следовал быстрый ответ: „Верно! Верно!“»[257]
Проигрывание фрагментов никому не могло дать представления о произведении. Исаак Гликман вспоминал: «Дмитрий Дмитриевич приглашал меня на репетиции Четвертой симфонии… <…> Не знаю, как Дмитрий Дмитриевич, но я чувствовал, что атмосфера в зале была настороженной. Дело в том, что в музыкальных и, главным образом, в околомузыкальных кругах распространились слухи о том, что Шостакович, не вняв критике, написал дьявольски сложную симфонию, напичканную формализмом.
И вот в один прекрасный день на репетицию явились секретарь Союза композиторов В. Е. Иохельсон и еще одно начальственное лицо из Смольного, после чего директор филармонии И. М. Рензин — по профессии пианист — попросил Дмитрия Дмитриевича пожаловать в директорский кабинет. Они поднялись по внутренней винтовой лестнице наверх, а я остался в зале. Минут через 15–20 Дмитрий Дмитриевич зашел за мной, и мы отправились пешком на Кировский проспект, № 14.
Я был смущен и встревожен продолжительным молчанием моего опечаленного спутника, но в конце концов он ровным, почти без интонаций голосом сказал, что симфония исполняться не будет, что она снята по настоятельной рекомендации Рензина, не пожелавшего использовать административные меры и упросившего автора самому отказаться от исполнения симфонии.
Прошло с тех пор немалое количество лет, и возникла легенда о Четвертой симфонии… Суть ее состоит в том, что Шостакович, якобы убедившись, что Фриц Штидри не справляется с симфонией, решил ее снять»[258].
Ни в том году, ни в течение многих последующих лет симфония так и не была исполнена. Композитор доверил рукопись Александру Гауку. Во время блокады Ленинграда пропал чемодан, в котором хранились рукописи Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Шостаковича, хотя некоторые позднейшие высказывания Гаука позволяют усомниться в правдивости этих сведений[259]. Еще немного — и произведение перестало бы существовать. Но сохранились оркестровые голоса, а в 1946 году было опубликовано четырехручное переложение симфонии — недоступное, впрочем, широким кругам любителей музыки. Долгие годы Четвертая симфония оставалась загадкой для музыкального мира, дожидаясь своего открытия.
Глава двенадцатая 1937
Пятая симфония: сотрудничество с Мравинским и очередной триумф
18 апреля 1937 года Шостакович записал первые такты новой, Пятой симфонии. Он находился тогда в Крыму, в Гаспре. Это место было ему особенно дорого: здесь еще мальчиком он жил вместе с Борисом Кустодиевым, здесь пережил юношескую любовь к Татьяне Гливенко. Весной, когда в Ленинграде непрерывно шли дожди, в Гаспре светило солнце, было сухо и тепло. На первом этаже небольшого дома композитор нашел великолепные условия для работы, и новое произведение родилось чрезвычайно быстро. Как он вспоминал позже, третья часть (Largo) была сочинена за три дня, а некоторые темы явились ему во сне[260]. Уезжая из Крыма 2 июня, Шостакович увозил с собой уже три готовые части. На обратном пути он заехал в Москву, где встретился с Николаем Жиляевым и сыграл ему еще неоконченную симфонию.
Николай Сергеевич Жиляев, один из представителей московского авангарда, был на двадцать пять лет старше Шостаковича. Они познакомились в доме Тухачевского и подружились. Жиляев в какой-то мере заменил Шостаковичу учителя, поскольку Штейнберг не понимал его произведений, созданных после окончания консерватории, а молодой композитор продолжал ощущать потребность в советах и обмене мнениями. Июньская встреча с Жиляевым стала последней: в следующем году его, как человека, близко связанного с Тухачевским, обвинили в пособничестве изменникам родины и вскоре казнили.
В Ленинграде Шостаковича ожидали трагические известия. Только что арестовали мужа сестры Марии, ее саму отправили в лагерь, а тещу насильно переселили в Караганду, поблизости от места ссылки ее мужа. Семейная драма, а затем необходимость включиться в организационную работу, связанную с собранием ленинградского отделения Союза композиторов, явились причиной того, что лишь в июле Шостакович смог уделить время новой симфонии. 20 июля партитура была уже готова.
На собрании ленинградских композиторов постановили, что Пятую симфонию следует представить к оценке и лишь после этого принимать решение, годится ли она для публичного исполнения. Однако прослушивание состоялось только ранней осенью, когда Шостакович вместе с Никитой Богословским исполнили симфонию в четыре руки в помещении Союза композиторов. Уже в фортепианном варианте сочинение привело в восторг всех собравшихся, которые, предвидя огромное воздействие этой музыки, способствовали тому, чтобы новую симфонию рекомендовали к исполнению. Премьера должна была состояться в рамках декады советской музыки, организованной в честь двадцатой годовщины Октябрьской революции. В это время Фриц Штидри уже выехал за границу, поэтому Пятую симфонию доверили молодому, еще не слишком известному дирижеру Евгению Мравинскому.
Мравинский, родившийся 4 июня 1903 года в Петербурге, с детства соприкасался с музыкой. Его мать занималась пением как любитель, зато тетка была известной русской певицей, выступавшей на сцене Мариинского театра под именем Евгении Мравиной. Еще ребенком он восхищался музыкой Чайковского, а позднее Вагнера. Закончив в 1920 году среднюю школу, Мравинский поступил в университет. Однако работа в качестве оперного статиста не позволила ему продолжать учебу. С 1921 года он работал пианистом-аккомпаниатором в хореографическом училище. Впервые он пробовал поступить в консерваторию в 1923 году, в класс контрабаса, но не был принят. Через год он попытал счастья вторично, сдав приемные экзамены на теоретико-композиторский факультет. На этот раз его зачислили в класс профессора Михаила Чернова, у которого Мравинский занимался два года. Затем он учился у Христофора Кушнарева и — до 1932 года — у Владимира Щербачева. Уже будучи автором нескольких интересных произведений, он в 1927 году записался в класс дирижирования Николая Малько, который не увидел в молодом музыканте особых способностей и поэтому учил его без энтузиазма. В 1929 году Малько уехал за границу, и руководство дирижерским классом принял на себя Александр Гаук. Только в нем Евгений нашел понимание; с тех пор его развитие становилось все более быстрым и многообещающим. 23 мая 1930 года, на третьем году обучения, Мравинский завоевал большой успех, продирижировав на учебном концерте фрагментами из балета «Раймонда» Александра Глазунова. Вскоре он обратил на себя всеобщее внимание интересной интерпретацией Хаффнеровской серенады Моцарта.
Весной 1931 года Мравинский окончил консерваторию, а уже летом в первый раз встал перед оркестром Ленинградской академической филармонии. Его выступления встретили превосходный прием у публики и критиков, которые предсказывали ему великолепное будущее. В 1932–1938 годах он занимал должность дирижера в Академическом театре оперы и балета. Проводимые им балетные спектакли «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Асафьева и опера «Мазепа» Чайковского стали крупными музыкальными событиями. Работая в оперном театре, Мравинский не порывал связей с симфоническим оркестром. Он неустанно обогащал свой репертуар произведениями русской и мировой классики, часто дирижировал сочинениями советских композиторов.
В 1937 году Мравинскому было тридцать четыре года. Замкнутый, не всегда уверенный в своих возможностях, он на этот раз взялся за работу над новой симфонией Шостаковича без внутренних колебаний. В 1966 году он вспоминал: «До сих пор не могу понять, как это я осмелился принять такое предложение без особых колебаний и раздумий. Если бы мне сделали его сейчас, то я бы долго размышлял, сомневался и, может быть, в конце концов не решился. Ведь на карту была поставлена не только моя репутация, но и — что гораздо важнее — судьба нового, никому еще не известного произведения…»[261]
В действительности же — и тем значительнее заслуга Мравинского — на карту было поставлено нечто большее: судьба самого автора симфонии. Ситуация, в которой оказался Шостакович после разгромных статей «Правды», была всем хорошо известна, так же как и то, что его музыка с тех пор ни разу не исполнялась в Ленинградской филармонии.
В этот период филармония находилась на перепутье: ее покинул маститый Штидри, что сразу сказалось и на уровне игры оркестра, и на репертуаре. Вновь назначенный директор, молодой композитор Михаил Чулаки, с энтузиазмом взялся за дело. Одним из его первых шагов было привлечение Соллертинского в качестве художественного консультанта, а также приглашение трех способнейших молодых дирижеров: Евгения Мравинского, Николая Рабиновича и Карла Элиасберга.
С сентября 1937 года Шостакович был всецело поглощен подготовкой премьеры своей новой симфонии. Он отложил работу над музыкой к кинофильму «Волочаевские дни», не принимал других предложений. Отказал даже Мейерхольду, который предложил ему написать музыку к спектаклю «Одна жизнь» Евгения Габриловича, хотя эта пьеса вызвала у него огромный интерес: «К сожалению, я никак не могу найти в себе силы для написания музыки к Вашему спектаклю. У меня чрезвычайно много работы»[262].
Шостакович постоянно бывал в филармонии. Он встречался с Мравинским, проигрывал ему симфонию, а дирижер стремился как можно глубже понять замысел композитора. «…Я поначалу ничего не мог добиться, даже указаний о темпах. Тогда мне пришлось пойти на хитрость. Во время работы за роялем с автором я нарочно брал явно неверные темпы. Дмитрий Дмитриевич сердился, останавливал меня и указывал нужный темп. Вскоре он „раскусил“ мою тактику и стал сам кое-что показывать»[263].
«Наиболее близко я узнал Мравинского во время нашей совместной работы над моей Пятой симфонией, — писал композитор. — Должен сознаться, что сначала меня несколько испугал метод Мравинского. Мне показалось, что он слишком много копается в мелочах, слишком много внимания уделяет частностям, и мне показалось, что это повредит общему плану, общему замыслу. О каждом такте, о каждой музыкальной мысли Мравинский учинял мне форменный допрос, требуя от него ответа на все возникавшие у него сомнения. Но уже на пятый день нашей совместной работы я понял, что такой метод является, безусловно, правильным. Я стал серьезнее относиться к своей работе, наблюдая, как серьезно работает Мравинский. Я понял, что дирижер не должен петь подобно соловью. Талант должен прежде всего сочетаться с долгой и кропотливой работой»[264].
Репетиции заняли пять дней. 16 ноября, на открытии декады, Шостакович исполнил Фортепианный концерт, которым продирижировал Николай Рабинович. Премьера Пятой симфонии была назначена на 21 ноября. В программу этого вечера вошел также Концерт для фортепиано с оркестром Арама Хачатуряна с Львом Обориным в качестве солиста. Валериан Богданов-Березовский так описал это памятное событие:
«Зал был переполнен и возбужден. Ожидание премьеры создавало атмосферу сенсационности. <…>
Помнится, Мравинский вышел в тот вечер на эстраду стремительной, уверенной походкой, с совершенно непроницаемым лицом. Он стал за пульт столь спокойно и властно, что в оркестре и публике воцарилось доверие к „звуковому слову“, которое он должен был произнести. С первых же звуков доверие полностью оправдалось. Элемент сенсационности, ощущавшийся в ожидании, исчез. Все поняли: родилось большое, философски глубокое, выстраданное произведение огромной воздействующей силы…»[265]
Успех был ошеломляющим. «Во время финала многие слушатели один за другим начали непроизвольно подниматься со своих мест. <…> Музыка какой-то поистине электрической силой заставила к концу встать весь зал. Головокружительный грохот оваций сотряс колонны белого филармонического зала, и Мравинский поднял партитуру высоко над головой, как бы указывая, что не ему, дирижеру, принадлежит эта буря рукоплесканий и криков и не оркестру, а музыке — музыке! — создателю Пятой симфонии — Шостаковичу»[266]. Автора без конца заставляли выходить на сцену. Овации длились более получаса, публика не покидала зал, таким необычным образом выражая солидарность с художником, все еще очерняемым прессой и официально не реабилитированным со времен злобных нападок в «Правде». Но этот энтузиазм заключал в себе и нечто иное: русские, которые так часто воспринимают музыку программно и ищут в ней внемузыкальное содержание, увидели в драматической силе Пятой симфонии повествование о них самих — о их жизни и трагедии последних лет.
Жена Шапорина записала в своем дневнике: «Публика вся встала и устроила бешеную овацию — демонстративную на всю ту травлю, которой подвергся бедный Митя. Все повторяли одну и ту же фразу: ответил, и хорошо ответил. Д. Д. вышел бледный-бледный, закусив губы. Я думаю, он мог бы расплакаться»[267].
Поскольку аплодисменты не прекращались, начали гасить свет, чтобы заставить публику покинуть зал. Тогда жена Виссариона Шебалина, отгородив композитора от многочисленных поклонников, вывела его из филармонии через служебный подъезд, откуда они с Шебалиным на пойманной машине отправились домой.
Известие о небывалом триумфе Пятой симфонии с быстротой молнии долетело до Москвы. С. Шатилов, один из чиновников, ведавших вопросами культуры, представил это событие председателю Комитета по делам искусств Платону Керженцеву как мнимый и ничтожный успех, не имеющий серьезного значения, который устроили композитору его московские друзья, специально для этого приехавшие в Ленинград. Донесение это могло иметь роковые последствия, поскольку Керженцев был известен как исключительно ревностный проводник культурной политики Жданова[268]. Годом раньше именно его старания привели к тому, что Шостакович принял драматическое решение об изъятии Четвертой симфонии, и именно он в январе 1938 года подписал приказ о ликвидации Театра Мейерхольда. Керженцев отдал также распоряжение уничтожить рукопись балета «Болт».
Однако судьба произведения еще не была предопределена. Окончательное решение относительно последующих исполнений оставалось за ленинградской партийной организацией. С этой целью был организован специальный концерт, в его программе наряду с Пятой симфонией стояли массовые песни. С вступительной лекцией выступил музыковед Леонид Энтелис, который назвал произведение «оптимистической трагедией». К счастью для Шостаковича, решение партийного актива оказалось положительным, благодаря чему стала возможной концертная жизнь Пятой симфонии. Ее первое исполнение в Москве под управлением Александра Гаука закончилось не меньшим триумфом, чем в Ленинграде.
Успех Пятой симфонии затмил даже успех Первой симфонии одиннадцать лет назад. В печати появилось много рецензий и музыковедческих статей, а также отзывов людей, не имеющих отношения к музыке. По поводу Пятой симфонии высказывались писатели Алексей Толстой и Александр Фадеев, поэт Сергей Городецкий и даже летчик Михаил Громов. В течение нескольких месяцев после премьеры произведения о нем было опубликовано более двадцати статей.
Среди музыкантов Пятая симфония приобрела много энтузиастов. Замечательный певец Иван Ершов, которому было уже почти семьдесят лет и который не так давно резко критиковал балет «Золотой век», пришел после концерта за кулисы и опустился на колени перед вконец смутившимся Шостаковичем. На одном из приемов, состоявшемся вскоре после премьеры симфонии, Алексей Толстой произнес в присутствии композитора знаменательный тост: «За того из нас, кого уже можно назвать гением»[269]. Как о гениальном произведении отозвался о симфонии Генрих Нейгауз. А Мравинский добавил: «5-я симфония Д. Шостаковича — это самое выдающееся симфоническое произведение из всех, созданных за последние 20 лет. Я считаю, что эта симфония — явление мирового значения»[270].
Приятной неожиданностью для композитора было письмо, полученное от Сергея Прокофьева, который, между прочим, писал: «Слушал наконец Вашу 5-ю, правда, в довольно мрачном окружении: дело происходило в Сокольниках, вдали гудели паровозы, в парке наигрывала гармошка и дико кусались комары… Многие места симфонии мне чрезвычайно понравились, хотя стало ясно, что ее хвалят совсем не за то, за что надо хвалить; то же, за что надо хвалить, вероятно, не замечают. Но во всяком случае хорошо, что хвалят, ибо после всего того „вчерашнего холодного“, чем кормят нас товарищи композиторы, радостно появление настоящей свежей вещи. А как следует разберутся позднее»[271].
Мнение Прокофьева подтверждала хотя бы такая оценка Георгия Хубова:
«Шостакович в своей Пятой симфонии впервые выступил как сознательный художник-реалист… Шостакович в своей пятой симфонии впервые попытался серьезно и глубоко поставить большую идейную задачу философского порядка. Наконец, Шостакович в своей Пятой симфонии впервые обратился как художник к широкой аудитории… стремясь говорить выразительно-простым и ясным языком.
Все это, вместе взятое, и определило особую значительность Пятой симфонии Шостаковича — не только в творческом пути композитора… но и во всем советском симфоническом творчестве»[272].
А Дмитрий Кабалевский охарактеризовал Пятую симфонию так: «Он [Шостакович] в ней преодолел те „соблазны“, которым так охотно поддавался в своих предыдущих сочинениях. <…> …Его 5-я симфония насыщена настоящими, живыми эмоциями. <…> Он сумел развить лучшие стороны своего дарования… Язык 5-й симфонии прост, ярок и оригинален. <…> По прослушании этой симфонии Шостаковича можно смело утверждать: композитор как настоящий большой советский художник преодолевает свои ошибки, находит свой новый путь…»[273]
Это суждение впоследствии постоянно повторялось в Советском Союзе.
Если после статьи «Сумбур вместо музыки» все и каждый считали уместным (независимо от того, принуждали их к этому или нет) смешивать с грязью «Леди Макбет», то теперь началось столь же поголовное восхваление Пятой симфонии, и не только от избытка энтузиазма, но зачастую исключительно из-за того, что ее положительно оценили партийные власти[274]. Поэтому стоит процитировать здесь композитора оперетт и массовых песен Исаака Дунаевского, исполнявшего в то время обязанности председателя ленинградского отделения Союза композиторов, который прислал в правление официальное письмо, двусмысленное по содержанию:
«…Я вынужден сказать, что вокруг этого произведения происходят нездоровые явления ажиотажа, даже в известной степени психоза, который в наших условиях может сослужить плохую службу и произведению, и автору, его написавшему.
…Барабанным треском и боем всех трубачей и барабанщиков, шествующих впереди автора и его произведения, заглушается… законное чувство сомнения или отрицательной критики, которое может вызвать даже самое талантливое произведение.
…Безмерное и безапелляционное присвоение титула гениальности — все это кружит голову, у значительной части нашей музыкальной общественности создает нездоровый „бум“ и мешает советской общественности разбираться в подлинной ценности и подлинном качестве того или иного произведения.
Блестящее мастерство Пятой симфонии… не исключает того, что в этом произведении, являющемся несомненно переломным для творчества Шостаковича, далеко еще не намечены здоровые пути, по которым должна развиваться советская симфоническая музыка.
За трескотней и шумихой мы можем прозевать самое главное — здоровое влияние на автора и воспитание его в духе стоящих перед советской музыкой задач… Так уже было в творчестве Шостаковича, так может повториться вновь»[275].
За границей произведение впервые было исполнено 29 апреля следующего года в Париже. «Какая искренняя и полная свежести музыка», — писала газета «Юманите». «Пятая симфония оставляет впечатление величия и простоты», — отзывалась «Франс суар».
Новое произведение быстро вошло в репертуар многих симфонических оркестров и знаменитейших дирижеров. В течение полугола один только Леопольд Стоковский продирижировал им более десяти раз. Симфонию везде принимали одинаково — аплодисментам не было конца.
По-видимому, наиболее объективная и верная оценка Пятой симфонии появилась в бостонской газете «Крисчен сайенс монитор». Там можно, в частности, прочесть: «Шостакович звучал по-славянски в гораздо большей степени, чем нам когда-либо приходилось слышать до сих пор. Он, казалось, встал рядом с Мусоргским, Чайковским и Бородиным. Напряженные эмоции пронизывают эту партитуру, особенно первую и третью части. В третьей, медленной части композитор, как и в первой, казалось, особенно сильно ощущает национальные и расовые связи, соединяющие его с предшественниками… Скерцо предстало перед нами как выражение народного веселья и радости, грубоватое в своем юморе, но захватывающее ритмическим блеском. Финал — наименее впечатляющая часть из-за известной примитивности материала. Однако и здесь конструкция прочна, а бурное тематическое построение напоминает о традициях Чайковского»[276].
Итак, Пятая симфония — своего рода компромисс, на который пошел Шостакович после нападок на его более ранние сочинения. Однако этот компромисс не дал отрицательного результата. Автор удивительным образом сумел совместить упрощение музыкального языка с сохранением своей яркой индивидуальности. Несомненно одно: в противоположность «Леди Макбет Мценского уезда» или Четвертой симфонии, не говоря уже о самых ранних сочинениях. Пятая симфония не является произведением новаторским. Шостакович провел в ней явный отбор средств, используя их очень экономно, с опорой на традиционные образцы формы. Гротеск, столь типичный для его ранних опусов, можно заметить в Пятой симфонии разве что в нескольких фрагментах первой части и скерцо.
Первая часть выдержана в медленном темпе. Шостакович построил ее в соответствии с общими принципами классической сонатной формы, добавив, однако, драматическую основную тему, которая сопутствует двум другим темам, контрастирующим между собой (пример 16):
При всей традиционности построения, художник создал собственную концепцию драматургического развития, основывающуюся на длительном нарастании напряжения вплоть до мощной кульминации на грани разработки и репризы. Внушает уважение великолепное ощущение законов музыкального развития. Шостакович безошибочно ведет внимание слушателя через экспозицию трех различных тем, показывающую его большое полифоническое мастерство. В свою очередь, разработка изумляет богатством звукового колорита; присоединение все новых и новых инструментов и убыстрение темпа действенно усиливают напряжение, ослабляемое только в коде всей части. В репризе происходит наложение двух тем, каждая из которых при этом имитируется, что в партитуре выглядит сложно, но при прослушивании поражает простотой (пример 17):
С точки зрения экономии средств и мастерства их применения Пятая симфония стоит несравненно выше четырех ее предшественниц.
Большой простотой отличается и скерцо. Так же как в Первой симфонии, оно построено из несложных, дышащих юмором тем. Трехчастная форма подобна традиционной форме классического менуэта и скерцо, но у Шостаковича эта трехчастность является лишь общей схемой: внутри нее умещается целая гамма разнородных тем, музыкальных мыслей и не связанных между собой мотивов, которые делают форму гораздо более сложной и нетрадиционной. За небольшими исключениями, оркестр трактуется как камерный, и композитор использует его колористические достоинства, выдвигая на первый план то те, то другие комбинации инструментов. Особенно интересно звучит сочетание скрипки соло, арфы и виолончелей пиццикато, которые вводят забавную тему трио (пример 18):
Наиболее традиционна третья часть симфонии. Композитор сочинил здесь музыку par excellence постромантическую, обращенную к симфонизму Малера и даже Сибелиуса. Пафос этой части является, несомненно, чем-то новым для Шостаковича, но, к сожалению, некоторые длинноты несколько ослабляют впечатление, которое эта очень красивая музыка производит на слушателя. Финал отчасти продолжает первую часть. Уже в начальных тактах появляется главная тема — мрачная, намеренно грубоватая, но полная внутренней силы. Эта часть сначала катится словно лавина, механическое движение восьмыми подкрепляет впечатление непрестанного развития, обрывающегося только после первой кульминации. Как это часто бывает у Шостаковича, вторая тема (финал содержит несомненные аналогии с сонатной формой) не контрастирует с первой, а ярче выражает настроение предыдущей музыки.
Короткая связка — эпизодическое соло ударных — вводит слушателя в новый, совершенно иной звуковой мир: спокойный, все время выдерживаемый в динамике pianissimo, несколько таинственный. Этот раздел подготавливает репризу и коду, где напряжение снова нарастает вплоть до завершающей кульминации, в которой еще раз появляется главная тема — на этот раз патетически представленная в тональности D-dur. Кода звучит словно дополнительный фрагмент, стилистически не слишком связанный со всей симфонией. Помпезные аккорды, увенчивающие произведение, хотя и выдержаны в мажорной тональности, но звучат душераздирающе и отнюдь не приносят «оптимистической развязки».
В статье, которую Шостакович опубликовал вскоре после премьеры, чтобы на всякий случай защитить свое сочинение от обвинений в пессимизме — качестве, крайне отрицательно расценивавшемся в тогдашней советской музыке, он пишет:
«…Финал симфонии разрешает трагедийно-напряженные моменты первых частей в жизнерадостном, оптимистическом плане»[277]. Вслед за композитором критики подчеркивали появление наполненного радостью и воодушевлением завершения, и, таким образом, для каждого, кто поддавался внушению идеологической фразеологии, кода симфонии представлялась оптимистическим выходом из трагической атмосферы всего произведения. И только писатель Александр Фадеев позволил себе сделать вывод, явно противоречащий всеобщему мнению: «…конец звучит не как выход (и, тем более, не как торжество или победа), а как наказание или месть кому-то. Страшная сила эмоционального воздействия, но сила трагическая. Вызывает чувства тяжелые»[278].
Первое исполнение Пятой симфонии Евгением Мравинским имело для Шостаковича огромное значение. Между начинающим дирижером и уже известным композитором завязалась прочная многолетняя дружба. В 1938 году Мравинский получил главную награду Всесоюзного конкурса дирижеров[279], после чего стал руководителем оркестра Ленинградской филармонии. Оба эти события положили начало его большой карьере, которая вскоре принесла ему славу одного из выдающихся дирижеров Европы. Почти с самого момента знакомства Мравинский сделался горячим почитателем и пропагандистом Шостаковича. Замечательный музыкант станет в будущем первым исполнителем почти всех симфонических произведений друга, а его трактовки — образцами интерпретации музыки советского симфониста.
Пятая симфония еще при жизни композитора была причислена к советской музыкальной классике и до сего дня не утратила своей ценности. Она сразу встала наравне с величайшими симфониями XX века и достигла необычайной популярности на всех континентах. Для Шостаковича это было, впрочем, только началом нового этапа, обещавшего вскоре принести новые шедевры.
Глава тринадцатая 1937–1948
Шостакович-педагог
Весной 1937 года Шостаковичу предложили работать в Ленинградской консерватории. Это произошло в тот момент, когда его музыка исчезла из концертных программ, а в связи с критической оценкой его творчества в 1936 году существенно сократилось число заказов. Композитору необходимо было найти работу, которая помогла бы ему содержать семью. Тем временем консерватория постепенно теряла старое поколение педагогов, и ей потребовались новые, молодые, талантливые кадры. Поддавшись уговорам Максимилиана Штейнберга, директор Борис Иванович Загурский обратился к Шостаковичу. Подобные приглашения на преподавательскую работу он послал также Ивану Соллертинскому и Владимиру Софроницкому. Все трое музыкантов охотно приняли предложение.
Шостакович начал занятия с двумя студентами — Георгием Свиридовым и Орестом Евлаховым. Они перешли к нему из класса профессора Рязанова, которому по причине почтенного возраста трудно стало регулярно приезжать из Тбилиси. Занятия проходили на третьем этаже старинного здания консерватории, в аудитории № 36 — той самой, где некогда преподавал Римский-Корсаков и где много лет назад юный Шостакович показывал свои сочинения Штейнбергу. Вначале Шостакович вел занятия по инструментовке. Считая преподавание композиции делом очень ответственным, он приступил к этому предмету лишь на следующий год. На первых порах ему выделили двух ассистентов — В. Копанского и И. Финкельштейна, который в дальнейшем стал несравненным партнером Шостаковича по музицированию в четыре руки.
Как пишет первый биограф композитора Иван Мартынов, Шостакович никогда не считал преподавательскую работу своим призванием. Тем не менее он с самого начала относился к ней со свойственной ему ответственностью, посвящая много времени музыкальному, а также общему воспитанию своих студентов. Он всегда требовал от них железной дисциплины, владения профессиональным мастерством, широкого и основательного знания музыкальной литературы. И постоянно твердил: «Каждый композитор должен уметь играть на фортепиано». К любому своему студенту он искал индивидуальный подход.
Один из его учеников, Револь Бунин, впоследствии так вспоминал первую встречу со своим профессором:
«Подробно расспросив, сколько мне лет, когда начал сочинять, у кого занимался, прошел ли курс полифонии и т. д., он устроил мне небольшой экзамен. Помнится, я должен был сыграть с листа отрывок из симфонии Гайдна (по партитуре), ответить, чем отличается пассакалья от чаконы, назвать известные мне случаи зеркальной репризы в симфонических allegri и примеры употребления натуральных валторн и труб в редких строях (Н, Fis). Шостакович поинтересовался, много ли я читал, люблю ли Чехова и Лескова… Затем я сыграл две части симфониетты, над которой тогда работал.
„А чем отличается симфониетта от симфонии?“ — спросил Дмитрий Дмитриевич. Я сказал, что симфониетта — это небольшая симфония. „А вам известен размер симфонии и где хранится ее, так сказать, эталон?“ Я пояснил, что симфониетта — произведение для малого симфонического оркестра, без тромбонов. „Значит, Пятая симфония Бетховена — это симфония, а, скажем, его же Восьмая — нет?“ — хитро заметил учитель и добавил: „Симфония — это роман или драма Шекспира“. Шостакович любил подобные образные сравнения, рассчитанные на работу мысли студента. „Будете писать симфонию“.
Он бегло (как мне показалось) просмотрел рукопись и сразу начал подробный критический разбор. „А если эти такты выбросить, ведь правда, будет лучше? Запомните, если без какого-нибудь эпизода можно обойтись, значит, он лишний. Старайтесь писать лаконично и избегать общих мест. Оставляйте только то, что абсолютно необходимо для развития вашей музыкальной мысли“»[280].
Известный азербайджанский композитор Кара Караев, один из первых учеников Шостаковича, так описал характерный образ его мышления: «Я пропустил подряд несколько уроков: мучительно не выходила вторая часть Второй симфонии. <…> С Дмитрием Дмитриевичем повстречался на лестнице в консерватории. На вопрос, куда я запропастился, честно ответил: „Не могу найти тему для второй части“. — „Чего не можете найти? Тему? — удивленно переспросил он и добавил недовольно: — Не тему надо искать, а писать вторую часть надо!“»[281] Шостакович вообще не желал слышать, что кто-то делает наброски, пишет фрагменты, пробует и т. п. Принесенное сочинение должно было быть готовым и переписанным начисто, причем он всегда обращал внимание на все исполнительские нюансы — динамику, артикуляцию. Никогда не спешил подсказать студенту наилучшее решение, заставляя его думать и искать, — таков был один из характерных для Шостаковича методов обучения.
Все студенты подчеркивали его чрезвычайную педантичность. На занятия он приходил с точностью до минуты и всегда ждал студентов. Когда они наконец являлись, вскакивал со стула и подходил поздороваться. Шостакович ни к кому не обращался на «ты», ко всем относился с одинаковой любезностью, хотя и соблюдал определенную дистанцию. Несколько раз что-то неожиданно мешало ему прийти на занятия в консерваторию, и в таких случаях он каждого студента ставил об этом в известность отдельной телеграммой.
Вначале проводились индивидуальные занятия, а затем все собирались, чтобы вместе играть на рояле. В четыре руки исполнялись симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Брукнера и Чайковского. Шостакович требовал большого совершенства в чтении с листа. На пюпитре часто лежали партитуры симфонических поэм Р. Штрауса, симфонии Малера, «Отелло» Верди и сочинения Прокофьева. Специально для студентов Шостакович сделал четырехручное переложение Симфонии псалмов Стравинского, чтобы познакомить их с произведением, которое высоко ценил. Иногда демонстрировал собственные сочинения. Рассказывая о проблемах сатирической оперы, играл фрагменты из «Носа». О «Леди Макбет» никогда не вспоминал. Позже, во время войны, показывал студентам начатую и недоконченную оперу «Игроки» по Гоголю, а также Фортепианное трио и Второй струнный квартет. «Мы слушали в немом восторге, — вспоминал Бунин, — а Дмитрий Дмитриевич, окончив играть, все время повторял: „Ну что же вы, критикуйте, критикуйте“…»[282] А Оресту Евлахову запомнилось, как учитель «неоднократно… говорил о себе, что если у него самого что-либо не выходит в музыке, он открывает партитуры Чайковского и ищет там ответа на многие технологические вопросы»[283]. Иногда Шостакович приглашал студентов на репетиции своих произведений. Так было с Шестой симфонией, когда молодые композиторы получили возможность следить такт за тактом по рукописи и одновременно слушать новое сочинение. Заботился он и о том, чтобы его ученики завязывали знакомства с композиторами, исполнителями, критиками: представил их Мравинскому, Соллертинскому, Шебалину…
Общие занятия проходили разнообразно. Иногда они заключались в прослушивании музыки либо игре в четыре руки. Шостакович постоянно подчеркивал, что не существует «плохих» жанров, и поэтому знакомил своих питомцев с польками и вальсами Иоганна Штрауса, с музыкой Оффенбаха. Обсуждались вопросы популярной, танцевальной музыки, массовых песен. Бывали и совершенно нетипичные уроки.
«Однажды он [Шостакович] сказал ученикам: „Напишите здесь в классе, по памяти, экспозицию первой части Пятой симфонии Бетховена“. — „В клавире?“ — спросил кто-то. „Нет, в партитуре. Я тоже буду писать“. И, взяв нотную бумагу, Шостакович вместе со студентами принялся за работу»[284].
Юрий Левитин вспоминает другой случай:
«…Как-то раз Дмитрий Дмитриевич собрал всех студентов класса, выбрал стихотворение (кажется, из Гейне) и предложил всем, не подходя к роялю, возможно скорее сочинить романс. Он сам тоже принял участие в этом состязании. Каждый из нас старался написать музыку как можно замысловатее, „глубже“, „умнее“, не сомневаясь, что Шостакович, конечно, побьет нас и в этой области.
Нужно ли говорить, что первым закончил работу наш учитель! Но каково было изумление учеников, когда оказалось, что романс им был написан без всяких претензий на „глубину“ и „сложность“, почти стилизованным языком. Он был изящен, прост — и только»[285].
Как вспоминал Кара Караев, однажды один из студентов принес струнный квартет, в разработке которого отсутствовали темы экспозиции. «На вопрос Дмитрия Дмитриевича, чем объяснить такую странность, автор довольно самоуверенно заявил, что его тематический материал вообще не поддается разработке. Это заявление немало озадачило всех нас, а Дмитрия Дмитриевича, по-моему, рассердило. Молча взяв лист партитурной бумаги и точно подсчитав, сколько тактов занимала „странная разработка“, он наметил модуляционный план и с молниеносной быстротой заново написал великолепную разработку тем экспозиции, сохранив весь первоначально корявый тональный план автора, который теперь уже отнюдь не был корявым. Присутствовавшие просто ахнули от восторга, ибо на наших глазах, буквально за несколько минут, была создана прекрасная музыка»[286].
На нежелание трудиться и леность Шостакович реагировал коротко: «Ну что ж, можно и так». Юрий Левитин вспоминал, что, просматривая неудачные работы, Шостакович курил одну папиросу за другой. Студенты шутили, что по количеству окурков можно судить об уровне их сочинений. Случалось, впрочем, что он никак или почти никак не выражал своего мнения, и только по блеску его холодного взгляда угадывалось невысказанное суждение о произведении.
Шостакович заботился о своих воспитанниках не только в музыкальном плане: он помогал им материально, живо интересовался их проблемами. Об этом свидетельствуют хотя бы его действия во время болезни Ореста Евлахова. В начале 1940 года этот студент серьезно заболел, и ему грозила тяжелая инвалидность. По инициативе Шостаковича в Куйбышевской больнице был собран консилиум. Врачи решили, что здоровье Евлахова может поправить только не менее чем полугодовое пребывание в Крыму, однако у студента не было на это денег. Тогда Шостакович сказал больному, что за успехи в учебе консерватория выделила ему пособие на лечение в размере пятисот рублей. Учитель сам принес в больницу необходимые для заполнения бумаги, вручил Евлахову наличные, и тот расписался в их получении. Лишь спустя многие месяцы выяснилось, что все это придумал Шостакович и что никто в консерватории денег ему не давал. Учитель не хотел ставить ученика в неудобное положение и оказал ему материальную помощь, не раскрывая ее действительного источника.
Из класса Шостаковича вышло много талантливых композиторов: Георгий Свиридов, Кара Караев, Борис Чайковский, Юрий Левитин, Револь Бунин, Герман Галынин, Галина Уствольская и другие. Среди них был и очень одаренный Вениамин Флейшман, который погиб в первые месяцы войны. Его оперу «Скрипка Ротшильда» Шостакович закончил и оркестровал в 1944 году, отдав таким образом дань памяти своего студента.
23 мая 1939 года Шостакович получил звание профессора. Педагогическую деятельность в своей alma mater он вел до 1948 года, одновременно с 1943 года преподавая композицию в Московской консерватории. После 1948 года, когда в результате борьбы с так называемыми «формалистами» Шостаковича уволили из обоих учебных заведений, он больше никогда не возвращался к педагогической работе. Лишь в 60-х годах в течение короткого времени он проводил занятия с аспирантами в родном Ленинграде.
Глава четырнадцатая 1938–1941
В поисках простоты: Первый струнный квартет, Шестая симфония. — Оркестровка «Бориса Годунова». — Фортепианный квинтет
«Целый год после сдачи 5-й симфонии я почти ничего не делал, — рассказывал Шостакович в 1938 году. — Написал лишь квартет, состоящий из четырех маленьких частей. Начал писать его без особых мыслей и чувств, думал, что ничего не получится. Ведь квартет — один из труднейших музыкальных жанров. Первую страницу я написал в виде своеобразного упражнения в квартетной форме, не думая когда-либо его закончить и выпустить. <…> Но потом работа над квартетом меня очень увлекла, и я написал его чрезвычайно быстро.
Не следует искать особой глубины в этом моем первом квартетном опусе. По настроению он — радостный, веселый, лирический. Я бы назвал его „весенним“»[287].
Так родился Первый струнный квартет, C-dur, названный советскими критиками «лирическим интермеццо после Пятой симфонии». Действительно, после монументальной, трагической симфонии это скорее quartettino — лаконичное, шестнадцатиминутное произведение, столь просто и ясно построенное, столь «беспроблемное», что кажется, будто это сочинение начинающего композитора, который лишь подступает к свободному оперированию музыкальным материалом. Но если глубже вникнуть в партитуру, то обнаруживаются детали, которые могли выйти только из-под пера зрелого мастера.
Читая письмо Шостаковича к Ивану Соллертинскому, можно засомневаться в том, что композитор был очень доволен своим новым творением: «Закончил я также свой квартет, начало коего я тебе играл. В процессе сочинения перестроился на ходу. 1-я часть стала последней, последняя первой. Всех частей 4. Вышло не ахти как. Но, впрочем, и трудно сочинять хорошо. Это надо уметь»[288]. Между тем это скромное произведение положило начало внушительной цепи из пятнадцати сочинений этого жанра, составившей один из важнейших разделов камерной музыки XX века.
Первое исполнение, прошедшее 10 октября 1938 года в Ленинграде, было доверено Квартету имени Глазунова. 16 ноября произведение исполнялось в Москве, на этот раз в интерпретации Квартета имени Бетховена в составе: Дмитрий Цыганов, Василий Ширинский, Валим Борисовский и Сергей Ширинский. Наряду с Мравинским этот коллектив сыграл большую роль в творческой биографии Шостаковича, явившись первым исполнителем почти всех его последующих камерных сочинений. Несмотря на сомнения композитора, Первый квартет был принят превосходно. С похвалой отзывались о доступности и простоте произведения, а известный пианист и педагог Генрих Нейгауз писал: «Новый квартет оставляет в душе слушателя радостное впечатление полной гармонии всего произведения. Совершенством формы и замысла, мудрой лаконичностью музыкальные образы квартета вызывают в памяти пушкинский стих»[289].
В тот период Первый струнный квартет был единственным «серьезным» сочинением Шостаковича. Все его остальные работы имели лишь побочное значение, поскольку композитор вынужден был писать музыку к многочисленным кинофильмам, в основном пропагандистского характера.
С одной стороны, он, несомненно, делал это ради денег: даже после триумфа Пятой симфонии количество исполнений его произведений было ничтожным и не обеспечивало достаточных доходов, а семья тем временем росла. 30 мая 1936 года на свет появилась дочь Галина, а два года спустя, 10 мая, родился сын Максим. Квартира на Кировском проспекте, где они проживали, стала слишком тесной, нужно было подыскивать новое, более просторное жилье. После многих хлопот подходящая квартира была найдена на Большой Пушкарской улице, 23, но она оказалась в таком состоянии, что на время ремонта Шостаковичам пришлось переехать в гостиницу, а все это, конечно, требовало финансовых затрат.
С другой стороны, власти ожидали от композитора не столько очередных симфоний, сколько произведений, воспевающих строительство новой, коммунистической действительности. Таким образом, с момента завершения Пятой симфонии до германо-советской войны Шостакович посвящал огромное количество времени сочинению киномузыки, художественный уровень которой находился значительно ниже его возможностей и которую нельзя было даже сравнить с дерзновенной музыкой к «Новому Вавилону». Это была череда фильмов, не имеющих большого значения для истории советского кинематографа: «Волочаевские дни» (1937) братьев Васильевых, «Выборгская сторона» (1938) Григория Козинцева и Леонида Трауберга, «Друзья» (1938) Лео Арнштама, «Человек с ружьем» (1938) Сергея Юткевича, двухсерийный фильм «Великий гражданин» (1938–1939) Фридриха Эрмлера, а также две вещи чисто развлекательного характера — «Сказка о глупом мышонке» (1939) М. Цехановского и «Приключения Корзинкиной» (1941) К. Минца. Кроме музыки к фильмам появилась также Вторая сюита для джаз-оркестра (1938), призванная обогатить репертуар недавно созданного государственного коллектива. Трехчастная сюита, которая вопреки названию не имела ничего общего с джазом (ее части — Скерцо, Колыбельная, Серенада), была исполнена вместе с массовыми песнями и произведениями Рахманинова (в соответствующей инструментовке) и Кнушевицкого на концерте в Колонном зале Дома союзов в Москве; событие это прошло незамеченным, о сюите быстро забыли.
В том же году Шостакович возвестил общественности, что приступает к созданию вокально-инструментальной симфонии, посвященной памяти Ленина. Вероятно, это был очередной блеф, как и заявленная шесть лет назад поэма «От Карла Маркса до наших дней». Композитор не раз говорил о сочинениях, которых вовсе не собирался писать, чтобы таким способом выкроить себе немного времени для спокойной работы над чем-нибудь другим. По этой причине он анонсировал, например, оперы «Молодая гвардия» и «Тихий Дон» или симфонию о Гагарине. Теперь он опубликовал в «Литературной газете» статью под названием «Моя работа над Ленинской симфонией», содержащую, между прочим, такие патетические фразы:
«Воплотить в искусстве исполинский образ вождя — невероятно трудная творческая задача. Я хорошо это сознаю. И когда я говорю о сюжете своей симфонии, я разумею не исторические события, не биографические факты, связанные с именем Владимира Ильича, а лишь общую тему, общую идею произведения.
Я давно и упорно думаю над тем, как передать эту тему средствами музыки. Симфония задумана мной как произведение, исполняемое оркестром с участием хора и певцов-солистов. Я тщательно изучаю поэзию и литературу, посвященную Владимиру Ильичу. Надо создать текст симфонии, который будут петь. Этот текст главным образом составится из стихов поэмы Маяковского о Ленине. Кроме того, я хочу использовать лучшие из народных сказов и песен об Ильиче, из стихов, которые сложили о нем поэты братских советских народов. <…> Внутреннее художественное единство текста заключается прежде всего в том чувстве любви, которым дышит каждое слово народов о Ленине. Литературно-музыкальную целостность должна сохранить и музыка симфонии — единая по замыслу и средствам выражения. Для симфонии будут использованы не только слова народных песен о Ленине, но и их мелодии»[290].
Мнимая работа над этим сочинением длилась до 1940 года, а тем временем Шостакович был занят Шестой симфонией. Никаких подробных сведений о ее возникновении не сохранилось; известно только, что композитор писал ее весной, летом и осенью 1939 года и потратил на это больше времени, чем обычно.
Концепция Шестой симфонии довольно неожиданна. Вместо традиционного четырехчастного цикла с чередованием быстрых и медленных частей появилась своеобразная трехчастная композиция, в которой развитая медленная первая часть (Largo) длится почти двадцать минут, а остальные части, все более быстрые (Allegro и Presto), занимают немногим более пяти минут каждая.
Largo — пример в высшей степени оригинальной трактовки формы, содержащей элементы сонатности и трехчастности. Наиболее существенно, однако, то, что первая тема, собственно говоря, не имеет четко определенного облика; сложенная из трех разных мотивов, она каждый раз предстает как новое их сочетание. Средний, разработочный эпизод заполняют речитативы флейты, вызывающие длительное напряжение и ожидание, разрешающееся только в репризе. Музыкальный язык первой части очень традиционен. Некоторые ее эпизоды словно бы живьем перенесены из какой-то постромантической симфонии (Брукнера, Малера…), другие выдержаны в русских традициях. Много общего имеет эта часть с Largo из Пятой симфонии, хотя не может сравниться с ним по силе выражения.
Скерцо не только захватывает своим юмором, но и впечатляет искусной полифонией и необычным оркестровым колоритом, начиная со звучания по преимуществу камерного (в начале и в репризе) и кончая свирепым tutti в главной кульминации. Несмотря на неизменный метр, ритмика здесь очень капризна, что заставляет вспомнить некоторые партитуры Стравинского.
Столь же лаконичное финальное Presto зиждется на трех несколько банальных темах, похожих одна на другую, и напоминает гротесковые эпизоды некоторых более ранних произведений Шостаковича, прежде всего балетов. Эта часть содержит элементы сонатной формы, с отчетливой кульминацией перед репризой. Кода, развивающаяся по принципу crescendo, близка к жанру легкой музыки.
Партитуру Шестой симфонии композитор доверил Евгению Мравинскому, который исполнил ее в этом же году, 5 ноября. Публика приняла сочинение с энтузиазмом, после одного из первых исполнений слушатели заставили дирижера повторить финал. Тем временем многие критики оценивали новую симфонию как «своеобразное туловище без головы» и писали о противоречивости ее концепции. В Москве постановили организовать специальное собрание, посвященное этому произведению, о чем Шебалин телеграммой известил Шостаковича. Но композитор не согласился приехать и ответил письмом: «Ужасно меня огорчила твоя последняя телеграмма. Очевидно, если решили сделать „прослушивание“, то мое дело дрянь»[291]. А в письме от 7 декабря 1939 года он поделился с Шебалиным своими заботами: «Атовмьян писал мне, что все (sic!) композиторы возмущены моей симфонией. Что ж делать: не угодил я, очевидно. Как ни стараюсь не очень огорчаться этим обстоятельством, однако все же слегка кошки скребут душу. Возраст, нервы, все это сказывается»[292].
Мравинский, глубоко убежденный в ценности новой симфонии, сразу включил ее в свой постоянный репертуар и исполнял неоднократно. За границей первым представил Шестую Леопольд Стоковский, который уже в 1940 году исполнил ее несколько раз, а при случае так отозвался о ней: «С каждой новой симфонией Шостакович проявляет себя как растущий мастер, беспрерывно развивающий свою творческую фантазию и музыкальное самосознание. В Шестой симфонии он достиг новых глубин — особенно в первой части. Тут встречаются гармонические последовательности и мелодические обороты замечательной выразительности, очень оригинальные по звучанию. При первом прослушивании они звучат странно и даже непонятно, их значение как бы скрыто от нас. Но после того как эта музыка прослушана в третий, в четвертый раз, становится ясной и ее необыкновенная глубина выразительности…»[293]
Вскоре в Соединенных Штатах появилась грамзапись симфонии, которую, впрочем, Шостакович оценил крайне негативно, выразив огорчение по этому поводу в письме к Соллертинскому.
Сегодня Шестая действительно представляется одной из «малых» симфоний Шостаковича, являясь, тем не менее, эффектным, увлекательным и мастерски написанным сочинением. С годами она приобрела большую популярность, и сейчас ее можно встретить в концертных программах известнейших оркестров и дирижеров всего мира. Многие идеи из нее Шостакович использовал в следующих произведениях, и прежде всего в Девятой симфонии.
Вскоре после завершения Шестой симфонии, еще в 1939 году, Шостакович взялся за необычную работу — новую оркестровку «Бориса Годунова» Мусоргского. Как известно, кроме двух вариантов оперы, написанных и инструментованных ее создателем, существует ее редакция, выполненная Римским-Корсаковым. Она имела целью «исправить» многие музыкальные «неправильности» и затушевать кажущуюся скудость оригинальной оркестровки. Первоначально, в 1896 году, Римский-Корсаков переработал «Бориса» и заново инструментовал его, сделав много купюр и дописав фрагменты для заполнения пробелов, появившихся вследствие этих сокращений. В 1906 году он дополнил и несколько изменил свою редакцию. Обе эти версии лишили оперу ее изначальной оригинальности и суровости, делая ее более академичной и традиционной благодаря стиранию и сглаживанию свойственных Мусоргскому музыкальных шероховатостей.
Шостакович писал о своей новой работе:
«Я благоговею перед Мусоргским, считаю его величайшим русским композитором. Как можно глубже вникнуть в первоначальный творческий замысел гениального композитора, раскрыть этот замысел и донести его до слушателей — такова была задача. <…> Я стремился достигнуть большего симфонического развития оперы, дать оркестру роль бо льшую, чем только сопровождение певцов. <…> Жестоко ошибаются те, кто думает, что я в этой оркестровке не оставил камня на камне. Работал я над новой редакцией следующим образом. Передо мной лежали партитуры Мусоргского и Римского-Корсакова, но я не смотрел в них. Я заглядывал лишь в клавир Мусоргского и делал оркестровку целыми актами. Затем уже сравнивал написанное мною с партитурами двух композиторов. И если находил, что у них то или иное место сделано лучше, а у меня получилось хуже, немедленно восстанавливал лучшее.
Над редактированием оперы „Борис Годунов“ я работал с огромным волнением. За партитурой буквально просиживал дни и ночи. Пожалуй, за последние годы это была одна из моих самых увлекательных работ»[294].
Шостакович обсуждал с Виссарионом Шебалиным некоторые детали инструментовки, обращался к нему за советом относительно специфики звучания оперного оркестра, а в одном из писем делился с ним своими сомнениями насчет эпизода из сцены под Кромами, оригинальная тональность которого казалась ему неудобной.
Работа была закончена в апреле 1941 года. По поводу постановки новой редакции «Бориса» Шостакович имел ряд бесед с Самуилом Самосудом в Большом театре и с дирекцией Ленинградского театра имени Кирова, где оперой должен был дирижировать Арий Пазовский. С Самосудом Шостакович поддерживал постоянный контакт и в процессе работы делился с ним своими сомнениями, так же как и с Шебалиным. Впрочем, этот дирижер считал, что инструментовка Римского-Корсакова гораздо лучше, чем у Мусоргского, и был не уверен в целесообразности новой оркестровки, причем свою позицию он не раз выражал в разговорах с Шостаковичем. Многие солисты Большого тоже не видели смысла в переменах, так как их вполне устраивал привычный вариант Римского-Корсакова. Режиссер Николай Смолич (который в свое время поставил в Ленинграде «Леди Макбет») предложил внести многочисленные изменения в словесный текст, но композитор на это не согласился. Уже через две недели после своего завершения партитура оказалась у Самосуда в Большом театре, где ее без ведома композитора изменили, переиначили, сократили и перекроили, в то время как Кировский театр решил приступить к репетициям, выделив на постановку огромную сумму в шестьдесят тысяч рублей. Обратились к Шостаковичу, чтобы он помог получить партитуру, однако Самосуд не собирался ее отдавать, не позволяя тем самым ленинградцам приступить к работе. Вскоре началась война, и новая редакция «Бориса» так и не увидела света рампы.
Позднее, во время войны, Шостакович и Самосуд встретились в Куйбышеве, и идея исполнить «Бориса Годунова» в новой оркестровке возникла вновь. Когда Большой театр вернулся из эвакуации, по этому поводу обратились к самому Сталину, который с удовольствием посещал оперный театр, а о композиторе даже как-то раз сказал: «А Шостакович, кажется, приличный человек»[295]. Но после истории с «Леди Макбет» трудно было предположить, что вождь согласится на его инструментовку. И действительно, по личному пожеланию Сталина опера была поставлена в редакции Римского-Корсакова.
В 1949 году Кировский театр вернулся к обработке Шостаковича. Однако это произошло в период особенно острых нападок на его творчество. В театр тут же явилась специальная комиссия, которая устроила дирекции нагоняй, и все опять рухнуло.
Шостакович уже потерял надежду увидеть «Бориса Годунова» в своей обработке, но в конце 50-х годов к нему приехали представители Кировского театра, чтобы в третий раз попытаться поставить оперу в его редакции. Композитор вначале не мог разыскать рукопись, затерявшуюся среди старых бумаг, а когда наконец нашел, то передал ее ленинградскому театру не без некоторых колебаний. Опасения насчет недопонимания его замысла быстро подтвердились: на сей раз раздались голоса о неисполнимости партитуры. В ноябре 1959 года опера все же была поставлена, однако, хотя критики отмечали достоинства новой редакции, она не удержалась на сцене, и вскоре театр вернулся к редакции Римского-Корсакова. В последнее время наблюдается возрастание интереса к оригинальной версии Мусоргского.
Еще перед началом войны появился превосходный Фортепианный квинтет g-moll. Первый скрипач Квартета имени Бетховена Дмитрий Цыганов вспоминал: «После выдающегося успеха Первого квартета Шостаковича мы просили его написать фортепианный квинтет. Ответ Дмитрия Дмитриевича был радостен для нас: „…напишу квинтет непременно и обязательно вместе с вами сыграю его…“ Это было в 1939 году, а годом спустя состоялась поистине триумфальная премьера…»[296]
Основные достоинства нового произведения — стилистическое единство и превосходное ощущение колористических возможностей ансамбля. Квинтет выделяется также редким мастерством формы и богатством изобретения. Именно в этом сочинении впервые сплавлены все особенности шостаковичского музыкального языка — впрочем, как и в Шестой симфонии, очень традиционного. Композитор обращается здесь к баховской полифонии, но в то же время модальность и тип мелодической линии роднят произведение с русской классикой. В пятичастном Квинтете части первая и вторая, а также четвертая и пятая связаны между собой как Прелюдия и Фуга, Интермеццо и Финал. Обособленная средняя часть — Скерцо.
23 ноября 1940 года Квартет имени Бетховена при участии автора исполнил Квинтет в Москве, в Малом зале консерватории. Это стало одним из величайших триумфов Шостаковича. Так же как и после премьеры Пятой симфонии, аплодисментам не было конца, а композитора и исполнителей вызывали на сцену бессчетное множество раз. После концерта Шостакович долго не мог успокоиться, в одиночестве гулял по Москве и только через два часа вернулся домой. Это был один из немногих случаев, когда его новое сочинение чуть ли не единодушно признавалось критиками и коллегами. Тем больший интерес представляет поэтому критический отзыв Сергея Прокофьева, высказанный им в Союзе композиторов в Москве. Как это обычно бывает, когда один композитор оценивает другого, собственные музыкальные пристрастия Прокофьева столь сильно повлияли на его мнение, что личность критикующего оно отразило гораздо отчетливее, чем сам предмет критики. Создатель Классической симфонии сказал: «…Если бы Шостаковичу было шестьдесят лет, — то для человека, умудренного годами, эта привычка взвешивать каждую ноту была бы, может быть, замечательным достоинством; но сейчас она грозит перейти в недостаток. Поэтому мне жаль, что в квинтете недостает устремлений и порывов, хотя в целом я считаю его замечательным произведением».
Явно более близкой Прокофьеву была вторая часть — Фуга, которую он считал «самой лучшей и самой интересной частью квинтета. <…> Потому что Бах так многообразно писал фуги и другие композиторы прибавили к этому так много своего, что за последнее время казалось уже совершенно невозможным написать фугу, которая звучала бы ново и интересно. Я видел за границей людей, которые принимали самые отчаянные меры, чтобы создать фугу, более или менее оригинальную по звучанию. Редко кому это удавалось — у Хиндемита в сонатах есть кое-что интересное в этом направлении. Надо отдать честь Шостаковичу — в его фуге, по общему впечатлению, необычайно много нового…».
О других частях Прокофьев выражался сдержаннее: «Меня немного огорчило в первой части пользование баховскими и добаховскими оборотами. Это не ново, и мне кажется, в качестве основной фигуры надо было взять что-то другое; тут есть какая-то небрежность в подходе: „Бах так писал, это хорошо, значит — возьму эту фигуру“. Было бы лучше обойти это и поставить себе цель сочинить другую фигуру. Тогда первая часть стала бы гораздо более оригинальной по материалу». В четвертой части «генделевский прием, использованный здесь, — длительная, бесконечная мелодия на пиццикато в басу, — был бы очень хорошим изобретением во времена Генделя. <…> …Шостакович при своем колоссальном изобретательстве, так широко проявившемся в квинтете, мог бы избежать здесь этого приема. И когда в какой-то момент четвертой части генделевский бас вдруг умолкает — сразу начинается хорошая музыка, потому что начинается настоящий Шостакович…»[297]
Сегодня, через несколько десятилетий, Фортепианный квинтет остается не только одним из наиболее выдающихся сочинений Шостаковича, но и едва ли не важнейшим произведением этого жанра в музыке нашего столетия. И уже несущественны ни неоклассицизм первой части, ни барочные элементы Интермеццо — осталась лишь восхитительная музыка, совершенная в своих классических пропорциях и очень типичная для индивидуального языка своего творца.
16 марта 1941 года Совет народных комиссаров СССР опубликовал постановление о присуждении ежегодных Сталинских премий за лучшие музыкальные произведения. Среди первых лауреатов оказались Николай Мясковский (за Двадцать первую симфонию), Юрий Шапорин (за кантату «На поле Куликовом») и Дмитрий Шостакович (за Фортепианный квинтет). Величина награды была по тем временам просто ошеломляющей — сто тысяч рублей. Шостакович решил все деньги употребить на помощь нуждавшимся родным и знакомым. Получив тридцать седьмое письмо с просьбой о поддержке, он пришел на занятия со студентами Удрученный и объявил: «Деньги кончились». У него осталась только золотая медаль с изображением Сталина, которую он много лет спустя, когда в эпоху Хрущева название «Сталинская премия» изменилось на «Государственная», вынужден был в соответствующем учреждении поменять на другую, позолоченную.
Глава пятнадцатая 1941–1942
Начало войны. — Пребывание в осажденном Ленинграде. — Седьмая симфония
На рассвете 22 июня 1941 года первые гитлеровские отряды перешли советскую границу. Начало Великой Отечественной войны застало Шостаковича в должности председателя государственной экзаменационной комиссии на фортепианном факультете Ленинградской консерватории. Работа не прерывалась, несмотря на то что лихорадочная подготовка к обороне охватила все население города. Шостакович вместе с другими профессорами почти ежедневно принимал участие в рытье окопов. 8 августа над Ленинградом появились первые немецкие самолеты — начались бомбардировки, а позднее и артиллерийские обстрелы. Два с половиной года, до февраля 1944 года, городу не давал покоя неприятельский огонь.
Объявили мобилизацию. Автор «Леди Макбет» со свойственным ему упорством и решительностью добивался того, чтобы и его записали в войска. «В начале войны — 22 или 23 июня — я подал заявление о приеме меня добровольцем в Красную Армию, — сообщал он в статье, опубликованной еще во время войны. — Мне сказали, чтобы я подождал. Второй раз я подал заявление сразу же после речи товарища Сталина, в которой он говорил о народном ополчении. Мне было сказано: мы вас примем, а пока идите и работайте там, где работаете. Я работал в консерватории. Мы кончали наш сезон. Я принимал студентов, писал дипломы, до первого июля у нас были занятия. В отпуск я не пошел, дневал и ночевал в консерватории.
В третий раз я пошел в народное ополчение, потому что думал, что обо мне забыли. В народное ополчение было подано очень много заявлений. <…>
Я был зачислен заведующим музыкальной частью в театре народного ополчения. <…>
Заведовать музыкальной частью в театре было трудно, потому что она состояла только из баянов. Я снова стал проситься в Красную Армию. Меня принял комиссар. Выслушав мой рапорт, он сказал, что взять меня в армию очень трудно. Он выразил уверенность, что я должен ограничить свою деятельность писанием музыки. Затем я был отчислен из театра народного ополчения, и меня, вопреки моей воле, хотели эвакуировать из Ленинграда. Я считал, что в Ленинграде я был бы гораздо полезнее. Об этом у меня был серьезный разговор с руководителями ленинградских организаций. Они сказали, что я должен уехать, но я не спешил уезжать из города, где царило боевое настроение»[298].
Шостакович возобновлял свои старания до тех пор, пока наконец его не включили в пожарную группу противовоздушной обороны. Сохранилось несколько фотографий, запечатлевших его в пожарной каске и грубом комбинезоне. Он должен был гасить загоревшиеся дома и таким образом участвовал в обороне города. Шостакович выполнял и многие другие задания. Сначала он вместе с актером Николаем Черкасовым работал в Ленинградском театре народного ополчения, где составлял программы и организовывал первые концерты для солдат. Позже он занимался изданием песен. Какое-то время жил в здании консерватории, которое охранял.
Шостаковича не взяли в армию, как и большинство известных советских композиторов, которых эвакуировали на Кавказ, а потом в Алма-Ату и Новосибирск. Талант был делом государственной важности, поэтому в мирный период власти, нуждавшиеся в искусстве для распространения своей идеологии и ведения пропаганды, держали «своих» артистов под особым надзором, а во время войны проявляли повышенную заботу о их безопасности, чтобы обеспечить их дальнейшую работу на благо советской державы. Тотальная мобилизация не коснулась Прокофьева, Мясковского, Шапорина, режиссера Эйзенштейна и многих других. Шостаковича тоже отправили бы на восток, если бы не его сопротивление и непоколебимая воля остаться в Ленинграде.
19 июля Шостакович начал работу над новой симфонией, прославляющей мужество страны и посвященной героической борьбе. Было совершенно естественно, что, выбирая музыкальный жанр, он остановился на симфонии.
«Мне хотелось создать произведение… о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом… <…> Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме и красоте. <…> Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию»[299], — заявил композитор после завершения произведения.
Образ художника, обороняющего баррикады и в боевом воодушевлении сочиняющего симфонию, идеально отвечал душевному настрою россиян, которые видели в Шостаковиче гения своего народа. В то же время этот образ был превосходным оружием в руках коммунистической пропаганды. Возникновение Седьмой симфонии, получившей название «Ленинградской», быстро обросло легендами, в значительной степени искажающими факты. Достаточно вспомнить, что за время войны ленинградскими композиторами были созданы 192 (!) музыкальных произведения (не считая песен), в том числе 9 симфоний, 8 опер, 16 кантат и 5 балетов! — но говорят только о Седьмой Шостаковича.
Поначалу симфония задумывалась как одночастная. После главной темы и наступающей затем кульминации Шостакович хотел ввести хор[300] (позже он поместил в этом месте что-то вроде инструментального реквиема по погибшим в борьбе). Однако в процессе работы он пришел к классической четырехчастной схеме. По первоначальному замыслу каждая часть должна была иметь название: первая — «Война», вторая — «Воспоминание», третья — «Родные просторы», четвертая — «Победа»[301], но потом композитор отказался от этого намерения.
Музыкальный язык симфонии значительно упрощен, чему трудно удивляться: ведь она была призвана передать идею борьбы и победы над врагом самым широким кругам слушателей[302]. В то же время это наиболее развернутое симфоническое произведение Шостаковича. Из предыдущих сочинений самой длинной была часовая Четвертая симфония, время же звучания «Ленинградской» составляет целых 75 минут (пример 19).
Первая часть единственная в этом цикле отступает от общепринятых норм. «Мне лично пришлось при создании 1-й части моей 7-й симфонии отказаться от обычной сонатной разработки и дать вместо нее новый средний эпизод, изложенный в вариационном развитии. Такая форма, насколько мне известно, не часто встречается в симфонической музыке; замысел ее родился у меня под воздействием программы…»[303]
Действительно, после классически представленных двух контрастирующих тем вместо разработки появляется новая мысль — так называемый «эпизод нашествия». Согласно толкованию критиков, он должен служить музыкальным изображением надвигающейся гитлеровской лавины.
Эта карикатурная, откровенно гротескная тема долгое время была самой популярной мелодией из всех когда-либо написанных Шостаковичем. Следует добавить, что фрагмент из ее середины в 1943 году использовал Бела Барток в четвертой части своего Концерта для оркестра.
Первая часть сильнее всего воздействовала на слушателей. Ее драматическое развитие не имело себе равных во всей истории музыки, а введение в определенный момент дополнительного ансамбля медных духовых инструментов, которые в сумме дают гигантский состав из восьми валторн, шести труб, шести тромбонов и тубы, увеличивало звучность до неслыханных размеров.
После завершения первой части работа над партитурой протекала исключительно быстро, легкость пера снова дала о себе знать.
Послушаем самого Шостаковича: «Вторая часть — это лирическое, очень нежное интермеццо. Она не содержит программы или каких-либо „конкретных образов“, как первая часть. В ней есть немного юмора (я не могу без него!). Шекспир прекрасно знал цену юмору в трагедии, знал, что нельзя все время держать аудиторию в напряжении»[304].
Закончив скерцо, Шостакович решил показать самым близким друзьям первую половину произведения.
«Среда, 17 сентября.
Сегодня вечером с Ю. Кочуровым, Г. Поповым и А. Пейсиным ездили на улицу Скороходова, — вспоминал Богданов-Березовский. — По дороге обменивались предположениями о характере произведения, создание которого протекало в необычных условиях. <…> Говорили о необычайности и ответственности самой темы симфонии, посвященной Великой Отечественной войне (пример 20).
Громадные листы партитуры, раскрытые на письменном столе, указывали на грандиозность оркестрового состава…
Шостакович играл нервно, с подъемом. Казалось, что из рояля он стремился извлечь все оттенки оркестровой звучности. Впечатление было колоссальное. Удивительный пример синхронной, даже, можно сказать, „мгновенной“ творческой реакции на переживаемые события, переданный в сложной и крупной форме без тени какого бы то ни было „снижения жанра“. Напротив, симфония по содержанию и по форме — новаторская, в особенности первая часть с ее большим тематическим самостоятельным эпизодом между экспозицией и разработкой. <…>
Внезапно с улицы донеслись резкие звуки сирены, и по окончании исполнения первой части автор занялся „эвакуацией“ жены и детей в бомбоубежище, но предложил не прерывать музицирования. Под глухие разрывы зениток была проиграна вторая часть, были показаны наброски третьей, затем было повторено по общему настоянию все ранее проигранное.
Возвращаясь, мы видели из трамвая зарево — след разрушительной „работы“ воздушных фашистских варваров. Переполненные впечатлениями от симфонии, пафосом благородного созидательного творческого труда, мы особенно остро ощутили взаимоисключающую противоположность двух систем, столкнувшихся в смертельной схватке»[305].
Шостакович работал не отрываясь.
«29 сентября закончил третью часть. Настроение было довольно необычное. Три большие части (52 минуты музыки) были написаны очень быстро. Я думал, что быстрая моя работа может отразиться на качестве, боялся, что на симфонии лежит печать спешки, что она видна, эта спешка. Но товарищи, которые слушали симфонию, хорошо говорили о ней.
Отлично помню даты. Первая часть была закончена 3 сентября, вторая часть — 17-го, третья часть — 29 сентября. Работал я и в ночное, и в дневное время. Случалось, что во время работы били зенитки и падали бомбы. Я все-таки не прекращал писать.
25 сентября в Ленинграде я отпраздновал день своего рождения. Мне исполнилось 35 лет. Особенно много я работал в этот день. И то, что было написано тогда, говорят, особенно волнует»[306].
Оборона Ленинграда продолжалась. Было ясно, что блокада продлится еще долгие месяцы. Шли усиленные бои, начался голод, жизнь в осажденном городе становилась все более опасной. «Домашние хозяйки, дети, старики вели себя мужественно, — писал Шостакович. — Я всю жизнь буду помнить ленинградских женщин, которые самоотверженно боролись с зажигательными бомбами и вообще проявляли героизм во всем. Женщины Ленинграда вели себя замечательно»[307]. Композитор по-прежнему не хотел покидать свой город. Однако в начале октября его вместе с семьей все же эвакуировали сначала в Москву, а потом в Куйбышев, где 27 декабря он закончил партитуру.
Началась подготовка к премьере Седьмой симфонии. Честь первого исполнения выпала оркестру Большого театра, тоже эвакуированного в Куйбышев. Но в этом сочинении был использован такой огромный состав инструментов, что для комплектования оркестра оказалось необходимым отозвать с фронта музыкантов-солдат. Во главе коллектива встал Самуил Самосуд, который разучивал симфонию, пользуясь советами самого композитора, поскольку сложная партитура представляла особенные затруднения для исполнителей, за время войны отвыкших от игры. Были приложены всяческие старания, чтобы исполнение нового произведения Шостаковича состоялось.
Эта премьера стала не только триумфом Шостаковича, но и крупным событием политического значения. С самого начала «Ленинградскую» симфонию воспринимали как символ победы, а ее оптимистическое звучание наполняло верой сердца слушателей.
«Здесь 5 III была сыграна моя 7-я симфония. Опять скорблю, что ты ее не слыхал, — писал Шостакович Шебалину в письме от 19 марта 1942 года. — Ну, авось это еще не потеряно. Мне очень хотелось бы знать твое мнение по поводу симфонии. Вообще ты даже не представляешь себе, до чего ты мне нужен в качестве собеседника. Ужасно хочется с тобой повидаться»[308].
Успех возрастал с каждым исполнением, и, несмотря на военную разруху, началось победное шествие симфонии по Советскому Союзу, а затем и по всему миру.
22 марта оркестр Большого театра и Самосуд приехали в Москву. К этому времени немецкие войска уже захватили Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику… Невзирая на это, московский концерт стал огромным событием, и зал с трудом мог вместить пришедших.
«Вспоминаю первое исполнение Седьмой симфонии в Москве, — пишет один из советских музыковедов. — <…> Перед началом четвертой (в действительности третьей. — К. М.) части возле дирижера неожиданно появился дежурный противовоздушной обороны. Он поднял руку и спокойно, чтобы не вызвать паники, объявил воздушную тревогу. В те дни гитлеровские бомбардировщики часто пытались прорваться к Москве. Тревога была объявлена, но ни один человек не покинул своего места. <…> Симфонию исполнили до конца. Ее мощный финал, возвещающий победу над врагом, создал незабываемую волнующую атмосферу. Бурные овации превратились в стихийную демонстрацию патриотических чувств и восхищения талантом нашего великого современника»[309].
Концерт транслировался по радио. После этого в Москву из разных стран стали поступать просьбы выслать партитуру.
«Как-то раз Александра Михайловна Коллонтай, советский посол [в Швеции], слушая ночью радио, поймала в эфире незнакомую музыку и догадалась: новая симфония Шостаковича.
Депеша в Советский Союз… В ответ снятая на микропленку партитура летит в Иран, далее в Ирак, Египет, через всю Африку и пароходом… через Атлантику в Нью-Йорк. Здесь ее уже ждут знаменитые дирижеры: Тосканини, Стоковский, Кусевицкий… Из Соединенных Штатов копия партитуры доставлена в Лондон, а оттуда самолетом в Стокгольм… Первым исполнителем в Швеции был симфонический оркестр… Гетеборга. Неизменное впечатление: слушатели были потрясены»[310].
Однако самое первое заграничное исполнение «Ленинградской» симфонии состоялось в Соединенных Штатах.
Уже в январе 1941 года, то есть за год до окончания произведения — и даже за много месяцев до того, как была написана первая нота! — Сергей Кусевицкий послал в Москву телеграмму с просьбой о получении права на американское исполнение будущей симфонии Шостаковича. Он аргументировал это тем, что принадлежит к числу дирижеров, чаще всего исполнявших музыку композитора. А при первых упоминаниях в прессе о том, что в осажденном Ленинграде Шостакович действительно сочиняет новую симфонию, все новые и новые дирижеры стали добиваться права на премьеру. Во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей в Москве (ВОКС) хлынули письма и телеграммы от прославленных мастеров дирижерского искусства, каждый из которых мотивировал свое право на эту привилегию заслугами в популяризации музыки великого россиянина в США.
Юджин Орманди, в то время художественный руководитель Филадельфийского оркестра, уже 16 сентября 1941 года писал: «Принимая во внимание тот факт, что наш оркестр традиционно давал [американские] премьеры симфоний Шостаковича в прошлом, прошу Вашего любезного содействия, чтобы связать меня через дипломатические каналы и попросить его передать мне партитуру и оркестровые голоса по возможности скорее»[311].
12 февраля 1942 года Леопольд Стоковский написал послу СССР в Соединенных Штатах:
«Я слышал, что Шостакович закончил Седьмую симфонию и что она скоро будет исполнена в Ленинграде. После этого я хотел бы как можно скорей сыграть ее в Нью-Йорке, транслировать ее по радио, записать на пластинки и использовать симфонию для большой музыкальной кинокартины в Голливуде. Я уже написал в „Am-Rus“ в Нью-Йорке и просил зарезервировать для меня симфонию для всех четырех видов представления ее публике. Я хочу Вам сказать, что исполнение нового произведения Вашего великого соотечественника будет для меня и для американских слушателей огромным музыкальным наслаждением»[312].
Артур Родзинский 17 февраля 1942 года послал советскому послу аналогичное письмо:
«Как Вы, вероятно, знаете или легко можете выяснить, я являюсь исключительным чемпионом музыки Шостаковича в этой стране. Я недавно записал на пластинках „Columbia“ его Первую симфонию, я был также первым исполнителем два года тому назад его Пятой симфонии, которую собираюсь записать на пластинки на следующей неделе.
Но наиболее внушительным представлением в прошлом была постановка в США пять лет тому назад оперы „Леди Макбет Мценского уезда“… Премьера оперы с Кливлендским оркестром состоялась в Кливленде, после чего мы дали с сенсационным успехом представление в „Метрополитен-опера“ в Нью-Йорке. <…> Я знаю, как сильно Вы любите музыку и какое большое значение Вы придаете обмену духовными ценностями. Успешное исполнение Седьмой симфонии может стать эквивалентом минимум нескольких транспортов с вооружением, с той, однако, разницей, что она могла бы достигнуть своего назначения безопасно и более эффективно»[313].
С подобными письмами обратились в советское посольство еще несколько дирижеров.
Тем временем честь премьерного исполнения Седьмой симфонии в Соединенных Штатах выпала на долю Артуро Тосканини, который 19 июля 1942 года в Нью-Йорке представил «Ленинградскую» с оркестром Эй-би-си. Затем посыпались следующие исполнения, и хотя в это трудно поверить, но за сезон 1942/43 года Седьмая симфония была сыграна на американском континенте 62 раза! Ею дирижировали Сергей Кусевицкий и Леопольд Стоковский, Артур Родзинский и Димитриос Митропулос, Юджин Орманди и Фредерик Сток, Пьер Монте, Карлос Чавес и многие другие. О том, насколько популярным и знаменитым стал Шостакович в Соединенных Штатах, свидетельствует и такой факт: когда в 1943 году Виктор Серов обратился к Рахманинову по поводу статьи, которую он хотел написать к семидесятилетию композитора, тот с горечью ответил: «Да что тут писать! Обо всех русских композиторах уже забыли, существует только один: Шостакович».
А Шостакович мечтал о том, чтобы Седьмую симфонию исполнили в Ленинграде. Все находившиеся там музыканты и любители музыки тоже желали как можно скорее ее услышать. Поэтому партитура была выслана специальным самолетом, который благополучно пересек линию блокады и проник в город. Организацию концерта доверили Карлу Элиасбергу, дирижеру оркестра радио, и он начат комплектовать коллектив. Многие музыканты были вызваны с передовой, чтобы участвовать в репетициях, хотя блокада сжимала город, а люди умирали с голоду и гибли под снарядами.
Концерт был назначен на 9 августа. В этот день гитлеровцы в очередной раз пытались захватить город, но, несмотря на непрерывные бои, их армия не продвинулась ни на шаг.
«Последние приготовления к концерту совершила армия… Кто-то раздобыл для дирижера накрахмаленный воротничок к вечерней рубашке: с фраком было не так трудно, как с картофелем.
Музыканты пришли в военной форме, но переоделись в гардеробе. На вешалках повисли шинели, воинские ремни, у стен застыли… винтовки и пистолеты. Рядом лежали футляры инструментов…
Люди стягивались группами и поодиночке. Протоптанными тропками сходились с самых отдаленных концов города, далеко обходя таблички с надписью: „При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна“. Проходили другой, безопасной стороной улицы и смотрели, как обваливается штукатурка и карнизы, сыплется щебень с домов, разбиваемых снарядами. Шли осторожно, прислушиваясь к голосам фронтовой артиллерии, следя за близкими разрывами, опасаясь, как бы случайно волна обстрела не накрыла район той самой улицы, по которой они спешили на концерт в белоколонный Большой зал»[314].
Концерт транслировался всеми советскими радиостанциями. Присутствовавший на нем Богданов-Березовский писал: «Исполнение… прошло бурно и оживленно, как митинг, подъемно и торжественно, как народное празднество»[315].
Седьмую симфонию исполняли также в Новосибирске, Ташкенте, Ереване, Алма-Ате и в других городах, всегда под управлением лучших советских дирижеров. «Но наиболее близко мне как автору, — писал композитор, — прозвучала она в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского»[316]. «Это один из лучших дирижеров, каких я когда-либо имел случай встретить, — заявил Шостакович после первого исполнения симфонии Мравинским, состоявшегося 9 июля 1942 года в Новосибирске, — точный, превосходно чувствующий намерения композитора, обладающий необыкновенным даром работать обстоятельно и умно. Он всегда знает, чего хочет, действует без излишней поспешности, при этом очень методичен и на каждой репетиции добивается больших результатов»[317].
Вероятно, ни одна симфония нашего столетия не вызывала такой волны интереса и энтузиазма. Шостаковича провозгласили гением, Бетховеном XX века, поставили на первое место среди живущих композиторов. Популярность и признание, которые он получил благодаря «Ленинградской» симфонии, не имели прецедента в современной музыке. «Симфония о людях Советского Союза», «Шостакович говорит не только от имени Великой России, но и от имени всего человечества», «Симфония гнева и борьбы», «„Героическая“ наших дней» — так звучали заголовки восторженных статей, публикуемых в разных странах света. Известнейшие музыканты, говоря о ней, использовали только превосходные степени. Один из крупнейших дирижеров первой половины нашего столетия, американец русского происхождения Сергей Кусевицкий сказал: «Со времен Бетховена не было композитора, который мог говорить с массами с такой силой убеждения»[318].
В родной стране Шостаковича признали величайшим советским композитором, он вновь получил Сталинскую премию I степени (за 1942 год). И хотя здесь жил и творил и другой замечательный художник, в недалеком прошлом признанный во всем мире новатор — Сергей Прокофьев, однако с этих пор пальма первенства будет принадлежать создателю «Ленинградской» симфонии.
В первый послевоенный сезон это произведение было сыграно почти во всех крупных европейских городах: в Париже, Белграде, Риме, Осло, Вене, Софии, Будапеште, Копенгагене, Бухаресте, Кракове, Загребе и многих других. Зимой 1946/47 года оно впервые прозвучало в Берлине.
Верно ли, что «Ленинградская» симфония — шедевр, затмевающий все творения Шостаковича? Подобное утверждение не выдерживает сегодня никакой критики. Свою беспримерную популярность симфония приобрела благодаря необычным условиям, в которых создавалась. Она должна была стать и стала символом будущей победы, художественно-политическим событием. Программность и несложный музыкальный язык помогали в понимании произведения, и оно действительно захватывало и волновало широчайшие массы. Вместе с тем у многих профессиональных музыкантов и музыкальных критиков на западе Седьмая симфония вызывала критические замечания. Сегодня в «Ленинградской» раздражают некоторые растянутые эпизоды, особенно в третьей части, а также избитые обороты в среднем разделе финала. Несомненно, Седьмая симфония — доказательство необыкновенного таланта, но если мерить ценность произведений по успеху «Ленинградской», то какой же оценки могут дождаться Первая и Пятая симфонии, а из поздних сочинений — Десятая и Тринадцатая симфонии, Первый скрипичный и Второй виолончельный концерты? «Леди Макбет» наверняка превосходит Седьмую оригинальностью музыкального языка, а следующая, Восьмая, симфония — исключительной глубиной выражения. Однако зачастую случается так, что наибольшую популярность приобретают отнюдь не самые лучшие произведения. В сравнении с другими сочинениями Шостаковича Седьмая в наши дни исполняется относительно редко. Но еще очень многие любители музыки продолжают связывать имя композитора в первую очередь с «Ленинградской» симфонией.
Глава шестнадцатая 1942–1944
Интенсивная работа в Москве: «Игроки», Шесть романсов на слова английских поэтов, Вторая соната для фортепиано, Восьмая симфония. — Конкурс на новый советский гимн. — Смерть Соллертинского. — Фортепианное трио. — Второй струнный квартет
1 апреля 1942 года Шостакович писал Шебалину: «Дорогой Роня. Пишу тебе из Москвы, где я живу уже дней 10. Скоро поеду обратно в Куйбышев. Здесь дважды была исполнена моя 7-я симфония (29-го и 30-го [марта]) и будет исполняться еще два раза (5-го и 6-го [апреля]). Кроме того она один раз исполнялась в Куйбышеве. Исполнялась она С. А. Самосудом, очень хорошо.
В Москве я провожу время хорошо. Звонил несколько раз к тебе на квартиру. Никто не отвечал. Вчера заходил, звонил, стучал, но тщетно. Грустно поплелся обратно.
В моей жизни сейчас происходят весьма важные события, о которых ты очевидно догадываешься, если читаешь газеты (речь идет об успехе Седьмой симфонии. — К. М.). Очень мне не хватает твоего общества, т. к. в полном одиночестве все это трудно переживать. За несколько часов до моего вылета в Москву, в Куйбышев прибыли моя мама, сестра Маруся и племянник Митя. Кроме них уже после моего вылета прибыли тесть и теща. Ужасно выглядит тесть. Мама выглядит очень плохо. Остальные довольно сносно. Теперь передо мной задача. Надо их как следует подкормить и подлечить»[319].
Жизнь Шостаковича не была свободна от забот, однако ни повседневные хлопоты, ни ошеломляющий успех Седьмой симфонии не отвлекали его от дальнейшего творчества. Годы войны отмечены даже особенной интенсивностью работы, и каждый год приносил выдающиеся произведения.
После окончания «Ленинградской» симфонии появились: неоконченная опера «Игроки» по Гоголю, Вторая соната для фортепиано, Восьмая симфония. Второй струнный квартет, Фортепианное трио и наконец Девятая симфония. Серию этих замечательных сочинений замыкает созданный в 1946 году Третий струнный квартет. Кроме этого, Шостакович написал много разных сопутствующих произведений, второстепенных по своему значению. Среди них, например, песня для хора в сопровождении фортепиано «Клятва наркому», Марш для духового оркестра, два сочинения для Ансамбля песни и пляски при Центральном клубе НКВД, сюита «Родной Ленинград» для хора и оркестра — музыка к спектаклю «Отчизна». К этому типу сочинений принадлежит также инструментовка «Интернационала», еще одно произведение для Ансамбля НКВД — (к спектаклю «Русская река») и единственная в тот период киномузыка — к фильму «Зоя».
Творческий темперамент композитора был в то время невероятно активным. Трудно поверить, но на следующий день после завершения огромной Седьмой симфонии, создание которой потребовало колоссальной творческой энергии, Шостакович начал сочинять новую оперу. Он не раз собирался вернуться к этому жанру. Известны его неосуществленные оперные планы конца 30-х годов — «Волочаевские дни», «Маскарад», «Катюша Маслова». К «Волочаевским дням» появилось даже несколько набросков в духе старинных русских народных песен — вокальные отрывки, фрагмент клавира, хор «Ветер-ветер носит все живое». Теперь, на переломе 1941–1942 годов, композитор занялся малоизвестной пьесой Гоголя «Игроки».
Новую оперу он решил писать прямо по тексту пьесы без каких-либо сокращений. Идея эта не была совершенно новой: семьдесят четыре года назад именно так действовал Мусоргский при сочинении «Женитьбы», тоже по Гоголю. Впрочем, либреттист и друг композитора Александр Прейс остался в осажденном Ленинграде, и вскоре его жизнь оборвалась, а в Куйбышеве не было никого, кто мог бы справиться со сложной задачей составления либретто.
Над новой огромной партитурой Шостакович работал без отдыха, посвящая «Игрокам» каждую свободную минуту. Поразительно, насколько эта музыка отличалась от только что законченной Седьмой симфонии. После патетического, наполненного драматизмом языка «Ленинградской» в «Игроках» появляется гротеск, причудливый и в общем-то горький юмор. Сквозь иронию и безмятежность то и дело проглядывает саркастическая гримаса, а немногочисленные лирические моменты пропитаны русской хандрой, а модальная гармония и несимметричная мелодическая линия подчеркивают это настроение. Уже вступление к первой арии Ихарева превосходно отражает характер этой музыки:
В «Игроках» действует немного героев: из девяти персонажей, выступающих у Гоголя, Шостакович успел использовать в сочиненном фрагменте всего шесть, причем только мужских. Содержание лишено столь характерного для большинства опер элемента, каким является любовная интрига. «Игроки» — это история о шулерах, соревнующихся в мошенничестве. Действие разыгрывается в маленьком провинциальном русском городке, в одном помещении. Неудивительно, что главная роль принадлежит музыкальной стороне произведения, и особенно инструментальной. Оркестровый состав относительно большой: тройная группа деревянных духовых, большой симфонический состав меди, расширенная ударная группа и струнные, а кроме того, рояль, две арфы и инструмент совершенно необычный — балалайка-бас. Каждая картина в музыкальном отношении отличается от остальных: есть ансамблевые сцены и лирический монолог, фуга и речитатив в неаполитанском стиле, фрагменты с развитием по преимуществу симфоническим и камерный монолог Гаврюши в сопровождении лишь тубы и балалайки — один из самых характерных эпизодов оперы (пример 22).
Создавалась музыка, соразмерная гению Шостаковича. Ее простота была на этот раз необыкновенно утонченной. Композитор неожиданно обратился к элементам своего языка 1936 года. Но идея перенесения в оперу всего гоголевского текста привела к тому, что произведение невероятно разрослось. «Выходит опера часов на пять, а может, тетралогия, как у Вагнера», — сказал композитор одному из друзей[320]. Однако работу не прекращал. В ноябре 1942 года он сообщал Шебалину: «Пишу понемногу нереальную оперу „Игроки“. Нереальной я [ее] зову по причинам ее нереальности: уже написано музыки на 30 (sic!) минут, а это является примерно одной седьмой всей оперы. Слишком длинно. Однако занимаюсь этим делом не без увлечения и удовольствия»[321].
К концу 1942 года было готово уже 50 минут оперы. И тогда Шостакович прервал работу посреди такта, на словах Утешительного: «И хозяева, и гости…» и никогда больше не возвращался к этой партитуре. Через какое-то время он передал рукопись своей студентке, композитору Галине Уствольской, которая хранила ее до начала 70-х годов. Шебалину же он написал: «Работу, которую я тебе показывал, будучи в Москве („Игроки“), прекратил ввиду полной бессмысленности этого предприятия»[322]. В конце жизни Шостакович, не имея, впрочем, намерения продолжить работу над оперой, забрал партитуру от Уствольской. Несколько фрагментов он использовал в своем последнем сочинении — Сонате для альта и фортепиано, скерцо которой основано на вступлении и монологе Гаврюши. Таким образом, это поразительно оригинальное произведение осталось неизвестным. Только после смерти Шостаковича Геннадий Рождественский исполнил существующий фрагмент «Игроков» в концертном варианте 18 сентября 1978 года в Ленинграде. Оркестр Ленинградской филармонии, в то время уже носившей имя Шостаковича, и солисты Московского камерного оперного театра первыми представили это необычное творение.
В 1942 году появились и другие интересные сочинения. Прежде всего следует упомянуть Шесть романсов на стихи английских поэтов и на народные слова. После Японских песен и Романсов на стихи Пушкина это был только третий вокальный цикл — самые ценные произведения в этом жанре появятся значительно позднее. Новый цикл возник не сразу. Еще в мае ко дню рождения сына Максима Шостакович написал романс «Сыну» на стихи Уолтера Ралея. Осенью он вернулся к английской поэзии и создал целую серию романсов на слова Роберта Бёрнса («В полях, под снегом и дождем», «Макферсон перед казнью» и «Дженни»), Вильяма Шекспира (Сонет 66) и народные («Королевский поход»). В результате возник вокальный цикл с драматургией, приближающейся к симфонической. Кульминационным пунктом стал шекспировский Сонет 66, простой и в то же время величественный, напоминающий драматическую песнь «О Дельвиг, Дельвиг!» из Четырнадцатой симфонии.
Годом позже, отдавая романсы в печать, Шостакович вписал в рукопись каждого из них посвящение своим близким: Левону Атовмьяну, жене, Исааку Гликману, своему ученику Георгию Свиридову, Ивану Соллертинекому и Виссариону Шебалину. Премьера всего цикла в июне 1943 года вызвала большой интерес, а в последующие годы произведение неоднократно звучало в Великобритании и Соединенных Штатах. Еще весной 1943 года Шостакович оркестровал его, а через много лет, в 1971 году, сделал новую версию — для камерного оркестра.
11 октября 1942 года в Ташкенте умер Леонид Николаев. После девятилетнего перерыва Шостакович возвратился к фортепианному творчеству и посвятил памяти Николаева сочиненную в первые месяцы 1943 года Вторую сонату для фортепиано, h-moll. Трехчастное произведение значительно отличается от безмятежных и гротескных Прелюдий, ор. 34. Вторая соната — глубоко драматичная музыка, полная виртуозного размаха, в чем-то родственная так называемым «военным» сонатам Прокофьева. Ее сочинение давалось Шостаковичу нелегко — возможно, сказался его отход от фортепианного творчества в последние годы. Только маршеобразная тема первой части, близкая «теме нашествия» из Седьмой симфонии, возникла сразу; остальные эпизоды рождались с трудом. Сохранился необычный для Шостаковича черновик произведения, весь в перечеркиваниях и поправках, с недоконченной фугой, на основе которого можно проследить затруднения в творческом процессе. Создавалось очень интересное, хотя и неоднородное произведение, три части которого несколько различаются музыкальным языком. Первая перекликается с драматизмом некоторых симфоний, вторая — явно неоклассическая и холодная по экспрессии, третья представляет собой развитую лирическую чакону[323]. Первый публичный показ произведения состоялся в Москве на авторском концерте Шостаковича, который исполнил тогда сонату, аккомпанировал певцу Ефрему Флаксу романсы и сыграл партию рояля в Квинтете. Новая соната разочаровала многих музыкантов, и только Мария Юдина отнеслась к ней с восхищением.
В дневнике Мариэтты Шагинян сохранилось интересное высказывание Шостаковича, записанное ею весной 1943 года и относящееся к тому периоду:
«Привожу выписки из того, что он говорил: „Внешне у меня сейчас все плохо, трудно жить, не устроен, нет необходимых вещей, сковородка одна, много ли на ней наготовишь, горшочков нет для детей. А внутренно — как будто хорошо. Но за последнее время не работаю, это мучительно. У меня, когда я не работаю, непрерывно болит голова, вот и сейчас болит. Это не значит, что ничего не делаю, наоборот — очень много делаю, читаю множество рукописей, должен давать на все ответы, но это — не то, что мне надо. Не пишу музыку. Соната — это мелочь, экспромт. Кажется, у меня сейчас действительно пауза… Это я вам одной говорю, вы смотрите никому больше не рассказывайте, вам первой говорю — у меня сейчас какое-то отвращение к собственной музыке, не хочу ее слушать. Для музыканта слушать свою музыку в исполнении — это знаете какое огромное счастье? <…> В данное время я не люблю оперу, она мне кажется бутафорией. Оперу просто не люблю, а балет очень не люблю. Меня тянет к симфонии, хочу писать восьмую симфонию. <…>“
<…> Америка: „…я бы хотел поехать как турист. А ехать как музыкант очень трудно. <…> Вот вы поехали и сразу увидели интересных людей — жокея, ветеринара. <…> А я лишен этого. Я совершенно не могу общаться с людьми, не вижу их, нет путей к ним. Не знаю, отчего это происходит“. Тут я сказала ему о его большом эгоизме, о недоброте — внутренней. <…> Шостакович в разговоре о хиромантии смотрел наши ладони… <…> „Я ведь не выдумываю, я по книгам все разбираю, строго научно. Вот вы говорите — недобрый, а я очень добр… Я о себе не думаю как об эгоисте“»[324].
Пауза в творчестве, столь мучительная для композитора, продолжалась недолго. Уже в феврале — марте 1943 года он написал Вторую сонату, в мае обработал для голоса и оркестра восемь английских и американских народных песен, а в июле начал партитуру Восьмой симфонии.
В те годы легкость сочинения не оставляла его ни на минуту. В течение чуть более двух месяцев он сочинил новую симфонию: первые такты написал 2 июля, 3 августа в Москве закончил длящуюся около получаса первую часть, а 9 сентября партитура этого огромного, более чем часового произведения была уже готова.
Восьмая симфония создавалась через несколько месяцев после драматической обороны Сталинграда. Шостакович тогда находился в Москве, а в начале августа выехал в Иваново. Там располагалась старинная усадьба, в то время принадлежавшая Союзу композиторов, благодаря чему выдающиеся деятели искусства имели хорошие условия для спокойной работы вдали от бурного водоворота военных событий. Хотя вследствие переделок и ремонта усадьба почти не годилась для использования, в числе других там жили тогда Арам Хачатурян, Рейнгольд Глиэр, Вано Мурадели и молодой композитор Николай Пейко, все с семьями. Шостакович целыми часами просиживал взаперти в деревянном домике вблизи от усадьбы и только после пяти часов вечера появлялся и отрывал всех от их занятий, говоря на ломаном английском: «It is time to play volley-ball».
Известие о его новой симфонии вызвало невероятный интерес. За право ее первого исполнения за границей радиостанция «Columbia» заплатила десять тысяч долларов. Принимая во внимание тот факт, что шла война, это составляло астрономическую сумму.
Сообщая первые сведения о симфонии, композитор, как обычно, употребил ничего не значащие слова, не имеющие никакого отношения к сочиненной музыке:
«Она отражает мои мысли и переживания, общее хорошее творческое состояние, на котором не могли не сказаться радостные вести, связанные с победами Красной Армии. Это мое новое сочинение является своеобразной попыткой взглянуть в будущее, в послевоенную эпоху. <…> Идейно-философскую концепцию моего нового произведения я могу выразить очень кратко, всего двумя словами: жизнь прекрасна. Все темное, мрачное сгинет, уйдет, восторжествует прекрасное»[325].
Иван Соллертинский писал в письме музыковеду Михаилу Друскину: «8-я симфония несравненно интереснее 7-й»[326]. И время подтвердило мнение Соллертинского. Более того, это произведение следовало бы причислить к высшим достижениям не только Шостаковича, но и всего симфонизма нашего столетия.
Музыка Восьмой симфонии является одним из наиболее личных высказываний художника, потрясающим документом явной вовлеченности композитора в дела войны, протеста против зла и насилия. Внешне беспрограммная, она оставляет впечатление глубоко связанной с вопросами, выходящими за пределы чисто композиторских проблем. Известный французский музыкальный критик Антуан Голеа сказал о Шостаковиче в связи с Восьмой симфонией: «Живет в XX веке музыкант, быть может, единственный, кто еще продолжает стремиться… к выражению актуальнейшей, жгучей человеческой драмы с помощью музыкальных средств. Романтизм Шостаковича, его воодушевление, гнев и энтузиазм выражают всеобщие чувства, а в его гигантских симфонических фресках звучит рыдание боли и песнь надежды целого народа и всего человечества»[327].
Восьмая симфония содержит мощный заряд экспрессии и напряжения. Масштабная, длящаяся примерно 25 минут первая часть развивается на чрезвычайно долгом дыхании, однако в ней не чувствуется никаких длиннот, нет ничего излишнего или нецелесообразного. С формальной точки зрения здесь имеется поразительная аналогия с первой частью Пятой симфонии. Даже вступительный лейтмотив Восьмой (пример 23) — это как будто вариация на начало более раннего произведения.
Но если в Пятой симфонии присутствовал некоторый элемент классического совершенства и сохранялись идеальные пропорции, то в Восьмой выразительная сторона преобладает над формальной. Упрощенный подчас до абсолютного минимума звуковой язык воздействует с необыкновенной силой. В истории симфонии подобное явление возникало, пожалуй, только у Чайковского и Малера, хотя и с применением совершенно других средств.
В первой части Восьмой симфонии трагизм достигает небывалого размаха. Музыка проникает в слушателя, вызывая ощущение страдания, боли, отчаяния, а душераздирающая кульминация перед репризой долго подготавливается и отличается необыкновенной силой воздействия.
В последующих двух частях композитор возвращается к гротеску и карикатуре. Первая из них — марш, который может ассоциироваться с музыкой Прокофьева, хотя это подобие чисто внешнее. С явно программной целью Шостакович использовал в нем тему, являющуюся пародийным парафразом немецкого фокстрота «Розамунда». Эта же тема в конце части искусно наложена на главную, первую музыкальную мысль, в результате чего возникает интересный полифонический эпизод, подготавливающий завершение. Особенно любопытен тональный аспект этой части. С первого взгляда композитор опирается на тональность Des-dur, но в действительности он использует собственные лады, имеющие мало общего с функциональной системой мажоро-минора.
Третья часть, токката, — как бы второе скерцо, великолепное, полное внутренней силы. Простое по форме, очень несложное в музыкальном плане, оно является одним из лучших примеров часто встречающейся у Шостаковича музыки, необыкновенно сильно воздействующей на слушателя и при этом созданной при помощи крайне простых средств. Моторное остинатное движение четвертями в токкате непрерывно продолжается на протяжении всей части; на этом фоне возникает обособленный мотив, выполняющий роль темы (пример 24):
Средний раздел токкаты содержит чуть ли не единственный во всем произведении юмористический эпизод, после которого музыка вновь возвращается к начальной мысли. Звучание оркестра набирает все большую силу, количество участвующих инструментов постоянно возрастает, и в конце части наступает кульминационный пункт всей симфонии. После него музыка непосредственно переходит в пассакалью.
Восьмую симфонию сразу назвали «Поэмой страдания». Эти слова в первую очередь следовало бы отнести к пассакалье, необыкновенно трагичной и волнующей. Здесь двенадцать раз проходит басовая тема, на фоне которой сплетаются все новые и новые мысли, а музыкальный материал ткется с помощью всевозможных искусных полифонических приемов; это еще одно проявление огромного мастерства композитора в использовании многоголосия.
Пассакалья переходит в пятую часть пасторального характера. Этот финал построен из целого ряда небольших эпизодов и различных тем, что придает ему несколько мозаичный характер. Он имеет интересную форму, соединяющую элементы рондо. И сонаты С вплетенной в разработку фугой, весьма напоминающей никому в то время не известную фугу из скерцо Четвертой симфонии. В пасторали много превосходных моментов, необычно красочных для Шостаковича, вводящих в произведение настроение безмятежности. В противоположность многим другим сочинениям. Восьмая симфония кончается pianissimo. Кода, исполняемая струнными инструментами и солирующей флейтой, как бы ставит знак вопроса, и, таким образом, произведение не имеет однозначного оптимистического звучания Ленинградской.
Первыми исполнителями нового произведения были Евгений Мравинский и Государственный симфонический оркестр СССР. Однако замечательный дирижер не сразу оценил достоинства этого незаурядного, колоссального сочинения и вначале вообще не был в нем уверен. Шостакович участвовал во всех репетициях и — небывалое дело! — поддавшись на уговоры друга, сделал ряд исправлений, касающихся инструментовки и агогики. После нескольких репетиций он неожиданно вписал в партитуру посвящение: Евгению Мравинскому. Дальнейшая работа над симфонией протекала гораздо лучше, и под конец дирижер выказывал уже большую увлеченность, а его энтузиазм передался оркестру, хотя некоторым музыкантам произведение продолжало казаться слишком тяжелым и запутанным. О степени сложности и тщательности работы над Восьмой симфонией убедительно свидетельствует тот факт, что предварительная дирижерская подготовка и работа с оркестром заняли почти столько же времени, сколько и сочинение произведения.
Первое исполнение Восьмой симфонии состоялось 4 ноября 1943 года в Москве. Принята она была значительно холоднее, чем «Ленинградская». На следующий день после концерта в газетах появились лишь единичные рецензии; было заметно, что большинству слушателей новое сочинение оказалось не по силам. Соллертинский писал жене: «Впечатление огромное, но музыка значительно труднее и острее, чем в 5-й или 7-й, и потому она вряд ли будет популярной. Успех больше относился к имени и популярности Шостаковича, нежели к самой симфонии. Есть у нее и яростные враги, которых возглавляет Ю. А. Шапорин»[328].
Даже Прокофьев отзывался о Восьмой симфонии критически: «8-я симфония — я не скажу разочаровала меня, но как-то не очаровала в той мере, на которую я рассчитывал. Мелодический профиль ее не интересен. Что касается ее формы, то симфония очень длинна. По мере развития музыки, слушатель начинает требовать экстренных мер для преодоления своего утомления. К началу четвертой, медленной части слушатель уже утомлен, поэтому четвертая часть и не может быть в полной мере воспринята. Если бы симфония не имела четвертой части (пассакальи), а прямо перешла бы в заключительную часть, с ее превосходной кодой, если бы отсутствовала также вторая часть, которая не нова и грубовата, а были бы только первая, третья и пятая, — я уверен, что споров об этой симфонии было бы гораздо меньше»[329].
Только немногие, и среди них Соллертинский, были уверены в ее огромных достоинствах. «Для того, кто вникает в партитуру, — писал Иван Мартынов, — она скажет бесконечно много. Это — замечательнейший художественный документ, повествующий о трудных и тяжелых временах. Трагическая тема современности раскрыта в ней глубоко и правдиво»[330]. Борис Асафьев сказал, что Восьмая симфония — это эпическая «песня трагедийного содержания о безграничной выносливости человеческого сердца»[331]. В то же время все подчеркивали сложность этого сочинения.
Дирижеры Советского Союза не спешили выказывать особый интерес к новой партитуре, которая вышла из печати только в 1946 году. Тем временем за границей ожидали сенсации, подобной той, которую за два года до того вызвала «Ленинградская» симфония. На Западе Восьмая впервые прозвучала 2 апреля 1944 года в Нью-Йорке под управлением Артура Родзинского, причем концерт транслировался 134 радиостанциями США и 99 радиостанциями Латинской Америки. По приблизительным подсчетам, симфонию прослушали тогда более 25 миллионов людей. «Филармонией и Си-би-эс это произведение рекламировалось как шедевр, но критика не поддержала это мнение, — вспоминала Галина Родзинская. — Эрнест Ньюмен писал в лондонской „Таймс“, что это последнее советское симфоническое произведение „в преобладающей своей части едва ли не третьесортное“… Генри Саймон выразил мнение, что это „ослабление напряжения после мощной Седьмой“. Оулин Даунз (который ранее резко критиковал „Ленинградскую“ симфонию. — К. М.) считал, что композитор „пишет слишком быстро и слишком длинные сочинения“, подобное же мнение выразил Вёрджил Томсон: „Музыкальный материал, достаточный для двадцатипятиминутного сочинения, растянут здесь на целый час“»[332].
Однако вскоре состоялись следующие исполнения: 21 и 22 апреля 1944 года в Бостоне под управлением Сергея Кусевицкого, 26 мая в Мексике (дирижировал Карлос Чавес), 23 июля в Лондоне (Генри Вуд), а после войны Восьмую симфонию играли в Париже, Вене, Будапеште, Брюсселе, Амстердаме и Осло. С ошеломительным успехом прошло двукратное исполнение симфонии в присутствии автора на фестивале «Пражская весна» в 1947 году. Мравинский поставил условие, что выступит в Праге только в том случае, если в программу будет включено именно это произведение.
Наряду с Симфонией в трех частях Стравинского, Концертом для оркестра Бартока, Литургической симфонией Онеггера, Пятой симфонией Прокофьева и «Уцелевшим из Варшавы» Шёнберга Восьмая симфония Шостаковича вошла в список наиболее выдающихся произведений, тематически связанных с трагедией Второй мировой войны. И хотя ее путь к концертному репертуару был долгим и пришелся на неблагоприятный период, теперь она причислена к бесспорным шедеврам симфонизма нашего столетия.
Композитор был особенно привязан к этому своему творению. В 1956 году он писал: «Очень жалею, что вот уже много лет не исполняется у нас Восьмая симфония, в которую я вложил много мыслей и чувств. В этом произведении была попытка выразить переживания народа, отразить страшную трагедию войны. Написанная летом 1943 года, Восьмая симфония является откликом на события того трудного времени; как мне кажется, это вполне закономерно»[333].
А в 70-х годах великий пианист Святослав Рихтер сказал: «Дмитрий Шостакович — гениальный композитор — прошел через жизнь всех нас и оставил глубокий след. Он принес нам много счастья и радости, хотя сила его трагизма часто сокрушала нас. Невозможно полностью оценить и понять все, что связано с таким большим явлением, как Шостакович. Лично для меня решающим, главным произведением в его творчестве явилась Восьмая симфония»[334].
Неслыханная скорость, с которой создавалась Восьмая симфония, тем более впечатляла, что в начале работы над ней Шостакович вынужден был заниматься еще и другими делами: его обязали участвовать во всесоюзном композиторском конкурсе на новый гимн Советского Союза. До тех пор гимном СССР была песня французского происхождения — «Интернационал». И Сталин решил, что новый гимн должен выйти из-под пера советского композитора.
В конкурсе приняли участие 40 поэтов и 165 композиторов, председателем жюри был назначен Климент Ворошилов. Некоторые композиторы прислали по нескольку произведений (например, Арам Хачатурян представил семь песен, Шостакович — два сочинения), и в сумме их набралось около пятисот. Каждое допущенное произведение показывалось в Большом театре, в зале имени Бетховена, в соответствии со следующей процедурой: сначала его исполнял Краснознаменный хор Красной армии под управлением своего художественного руководителя генерала Александра Александрова, затем оркестр под управлением Александра Мелик-Пашаева представлял инструментальный вариант, и наконец гимн исполнялся хором и оркестром. Каждый день прослушивали 10–15 произведений. Иногда на прослушиваниях внезапно появлялся Сталин. Однажды он передал неожиданный и странный приказ: Шостакович и Хачатурян должны сочинить еще один гимн — совместный.
Сочетать столь различные творческие темпераменты было так же трудно, как и бессмысленно в художественном отношении. И хотя оба композитора, дружившие много лет, виделись в то время довольно часто, эти встречи (кончавшиеся обычно распитием порядочного количества алкогольных напитков) не имели ничего общего с работой над коллективным гимном. Однако время шло, и музыка должна была быть написана. Тогда они договорились, что каждый напишет свою мелодию, а при первом удобном случае они решат, что делать дальше, и попробуют соединить обе мелодии воедино. Композиторы встречались еще несколько раз, показывая друг другу то, что сделали, и таким образом появился своеобразный эскиз гимна, первую часть которого написал Хачатурян, а вторую — Шостакович.
Оставалась еще проблема инструментовки совместно сочиненной музыки. Зная болезненную чувствительность Хачатуряна, в принципе не переносившего какой-либо критики, Шостакович не хотел брать эту работу на себя. Хачатурян тоже не жаждал оркестровать не полностью принадлежавшую ему музыку. Тогда Шостакович взял спичку, зажал ее в кулаке и велел Хачатуряну отгадать, в какой руке он ее держит. И поскольку тот отгадал, проигравший — то есть Шостакович — должен был заняться инструментовкой.
Сталин решил, что в финал выходят пять гимнов: Александрова, Шостаковича, Хачатуряна, грузинского композитора Ионы Туския и общий гимн Хачатуряна — Шостаковича. Окончательное прослушивание этих пяти сочинений состоялось в течение одной ночи, снова в Большом театре, в присутствии Сталина и почти всего Политбюро.
Первым выступил Александров, продирижировав своей обработкой популярного произведения под названием «Песня о партии», особенно любимого Сталиным, который как-то раз даже сказал Александрову, что это «песня как военный корабль», и сам дал ей новое название «Гимн партии большевиков». Затем были исполнены по три варианта гимнов Шостаковича, Хачатуряна, совместного гимна и гимна Туския. Когда прослушивание закончилось, композиторов и обоих дирижеров — Александрова и Мелик-Пашаева — вызвали для разговора со Сталиным.
Через особый вход их провели в специальное помещение, на пороге которого стоял сильно взволнованный генерал Власик, отвечавший за охрану Сталина. Ни у кого не хватало мужества войти первым, и тогда Шостакович, сделав вид, что ничего особенного не происходит, переступил порог комнаты и поздоровался со Сталиным и почти двадцатью членами Центрального комитета, безошибочно назвав каждого по имени-отчеству.
Сталин стоял отдельно, поодаль от других. Первым делом он выразил свое мнение по поводу гимна, очень тихо и медленно произнося слова. Атмосфера становилась все более напряженной, и Сталин вдруг даже начал критиковать инструментовку произведения Александрова. Автор «песни как военный корабль» мог ожидать всего, но только не такой реакции. Поскольку инструментовка ему не принадлежала (как и большинство участников конкурса, он имел о ней весьма слабое понятие), он начал жаловаться: «„Да, Иосиф Виссарионович, вы совершенно правы, мне вот некогда было, и я поручил Кнушевицкому, а он схалтурил, безобразно отнесся, надо переделать…“ Вдруг взрывается Шостакович, прерывает его: „Александр Васильевич! Замолчите немедленно! Сейчас же замолчите! Как вам не стыдно? Кто же за вашу музыку будет отвечать, как не вы сами, как вы можете так говорить о человеке, которого здесь нет и который является вашим подчиненным по армии. Сейчас же замолчите!“ И тут наступила долгая пауза. Во времена Сталина, чтобы кто-то мог прервать другого, да еще держать такие гневные и долгие речи, — неслыханно. Все замерли… А Сталин после паузы сказал: „А что, профессор, нехорошо получилось…“ и вопрос был закрыт. Дали инструментовать Рогаль-Левицкому…»[335]
Затем Сталин стал выпытывать у композиторов, чей гимн они считают лучшим. Шостакович назвал Туския, однако Сталину больше пришлось по вкусу общее творение Шостаковича и Хачатуряна. При этом он добавил, что полагает необходимым внести кое-какие поправки в припев. Его внимание привлекли мелочи, которые можно было исправить в течение нескольких минут. На вопрос: «Трех месяцев вам хватит?» Шостакович предусмотрительно ответил: «Достаточно пяти дней». Но такой ответ явно встревожил Сталина, который, очевидно, считал, что над столь ответственным заданием следует работать гораздо дольше. В результате государственным гимном стала песня Александрова, а Хачатурян, для которого было очень важно победить на конкурсе, еще долго припоминал Шостаковичу его промах.
Автографы всех произведений были переданы в Государственный центральный музей музыкальной культуры. Свой гимн, написанный на слова Михаила Голодного, Шостакович неоднократно использовал. В последний раз он парафразировал его мелодию в сочинении, написанном в 1960 году по заказу властей города Новороссийска: эта запись в исполнении курантов и оркестра вмонтирована там в часы, стоящие на площади Героев перед Огнем вечной славы.
А гимн Александрова еще раз стал причиной для беспокойства: когда наступили времена хрущевской оттепели, уже неудобно было петь: «Нас вырастил Сталин…» После долгих дискуссий и споров решили изменить текст, заменив Сталина Лениным. Таким вот образом «военный корабль» оставался официальным советским гимном вплоть до конца существования СССР. В годы войны Александров сочинил другую популярную в то время песню — «Священная война». Сталин с удовольствием называл ее «песней-танком», но сегодня редко кто о ней вспоминает.
Наступил предпоследний год войны — 1944-й. Шостакович несколько месяцев работал над партитурой оперы «Скрипка Ротшильда» Вениамина Флейшмана, который незадолго до начала советско-германской войны учился в его классе композиции. Над оперой «Скрипка Ротшильда» по Чехову Флейшман работал с 1939 года до июня 1941-го. После немецкого вторжения он ушел добровольцем на фронт и, вероятно, уже в первые недели войны погиб. Оперу он не закончил, другие его произведения пропали. Поэтому Шостакович решил докончить и инструментовать «Скрипку Ротшильда». Он завершил партитуру 5 февраля, и в тот же день в Новосибирске состоялось исполнение Восьмой симфонии со вступительным словом Ивана Соллертинского. Через несколько дней, в ночь с 10 на 11 февраля, этот самый близкий друг композитора неожиданно умер от сердечного приступа. Для всех его смерть стала величайшей неожиданностью: деятельный и отличавшийся крепким здоровьем Соллертинский никогда ни на что не жаловался. Советская культура и наука понесли огромную утрату.
Обычно замкнутый и скупой на слова Шостакович, получив известие о смерти Соллертинского, написал их общему другу Исааку Гликману:
«Дорогой Исаак Давыдович. Прими мои самые горячие соболезнования по поводу кончины нашего с тобой самого близкого и дорогого друга Ивана Ивановича Соллертинского. Иван Иванович скончался 11-го февраля 1944 года. Мы с тобой его больше никогда не увидим. Нет слов, чтобы выразить все горе, которое терзает все мое существо. Пусть послужат увековечением его памяти наша любовь к нему и вера в его гениальный талант и феноменальную любовь к тому искусству, которому он отдал свою прекрасную жизнь — к музыке. Нету больше Ивана Ивановича. Это очень трудно пережить»[336].
В письме к вдове читаем:
«Дорогая Ольга Пантелеймоновна!
Невозможно словами выразить все то горе, которое охватило меня при известии о смерти Ивана Ивановича. Иван Иванович был моим самым близким и дорогим другом. Всем своим развитием я обязан ему. И жить без него мне будет невыносимо трудно. Время разлучило нас. За последние годы мы мало с ним виделись и мало общались. Но всегда мне радостно было сознание, что на свете живет Иван Иванович с его замечательным умом, ясным кругозором и неисчерпаемой энергией. Кончина его — это жестокий удар для меня.
Мы с Иваном Ивановичем много говорили обо всем. Говорили и о неизбежном, что нас ожидает в конце жизни, т. е. о смерти. Мы оба боялись ее и не желали. Мы любили жизнь. Но знали, что рано или поздно с ней придется расстаться. Иван Иванович ужасно рано ушел от нас. Смерть вырвала его из жизни. Он умер, я остался. Говоря о смерти, мы всегда вспоминали наших близких и родных людей. Мы с волнением думали о наших детях, женах, родителях и всегда давали друг другу торжественное обещание в случае смерти одного из нас всеми возможными средствами помогать осиротевшим нашим родным. Дорогая Ольга Пантелеймоновна, если Вам будет трудно, если Вам будет тяжело, умоляю Вас, во имя священной для меня памяти об Иване Ивановиче, сообщайте мне об этом, и если я смогу чем-нибудь помочь, то приложу к этому все усилия.
Если Вам не будет очень трудно, то напишите мне, отчего скончался Иван Иванович. Телеграмма о его смерти была в высшей степени краткой. А мне так важно знать, что с ним случилось. Крепко жму Вашу руку. Целую осиротевших детей. Ваш Д. Шостакович»[337].
После смерти Николая Рубинштейна Чайковский сочинил Фортепианное трио, посвященное его памяти. Много лет спустя Рахманинов написал Трио памяти Чайковского. В свою очередь Антон Аренский сочинил Фортепианное трио, посвященное умершему виолончелисту Карлу Давыдову. И Шостакович тоже почтил память друга своим Фортепианным трио. Уже довольно давно он вынашивал идею написать произведение в этом жанре. Еще в декабре 1943 года он разговаривал об этом с Соллертинским и делал наброски нового сочинения. Теперь, через четыре дня после смерти друга, он вернулся к этому произведению, но работу начал совершенно заново: старым замыслам не нашлось места в новой партитуре.
Над Трио Шостакович работал относительно долго, полгода. Весной была создана только первая часть, а остальные три — летом, снова во время отдыха в Доме творчества под Ивановом.
Трио — это своеобразная камерная параллель к Восьмой симфонии. И хотя оно не столь масштабно, а чувства скрыты в нем глубже, оно также принадлежит к самым трагическим творениям композитора.
Шостакович закончил новую партитуру 13 августа 1944 года, и ею тут же заинтересовались известнейшие музыканты. Давид Ойстрах, Святослав Кнушевицкий и Лев Оборин хотели как можно скорее исполнить это сочинение. Но композитор лишил их первенства и снова доверил первое исполнение членам Квартета имени Бетховена. Цыганов и Сергей Ширинский при участии автора сыграли Трио 14 ноября 1944 года в уже освобожденном Ленинграде. 28 ноября концерт был повторен в Москве.
На том же концерте состоялась премьера Второго струнного квартета. Создавался он одновременно с Трио, тоже под Ивановом.
В сентябре Шостакович писал Шебалину: «…Беспокоит меня молниеносность, с которой я сочиняю. Без сомнения, это не хорошо. Сочинять с такой скоростью, как это делаю я, нельзя. Это весьма серьезный процесс, „нельзя его гнать галёпом“ (как сказала одна моя знакомая балерина)… Сочиняю я с адской скоростью и не могу остановиться. <…> Утомительно, не слишком приятно и, по окончании, полное отсутствие уверенности в том, что ты с пользой провел время. Но дурная привычка берет свое, и я сочиняю по-прежнему слишком скоро».
В том же письме он писал: «Дорогой Роня. На днях я вспомнил, что прошло ровно 20 лет, как мы с тобой знакомы. <…> Сегодня закончил 2-ю часть квартета, который уже здесь начал сочинять. Начал без перерыва 3-ю часть (предпоследнюю). Квартет хочу посвятить тебе в ознаменование вышеупомянутого юбилея. „Дареному коню в зубы не смотрят“, но мне хотелось бы угодить тебе этим opus’ом»[338].
Второй струнный квартет, произведение спокойное и бесконфликтное, по своему строению приближается к сюите, а его части снабжены названиями: Увертюра, Речитатив и Романс, Вальс, Тема с вариациями.
Прекрасный прием обоих камерных произведений был продолжением полосы успехов, сопутствовавших Шостаковичу с 1941 года. В 1945 году ему в третий раз присудили Сталинскую премию (в данном случае II степени) — за Трио. В следующем году появилась первая советская монография о композиторе — небольшая работа музыковеда Ивана Мартынова, посвященная жизни и творчеству Шостаковича с самого начала до Восьмой симфонии включительно. Впрочем, это была не первая публикация о нем. Уже в 1942 году Николай Слонимский посвятил ему обширный очерк, изданный в Соединенных Штатах. Затем Виктор Серов издал в Америке книгу, написанную на основе бесед с Надеждой Васильевной Галли-Шохат, сестрой матери композитора, проживавшей в США с 1923 года. В 1945 году парижское издательство «Edition Romance» выпустило книгу об авторе «Ленинградской» симфонии, написанную Маргаритой Сальберг-Вачнадзе.
Глава семнадцатая 1944–1946
Девятая симфония. — Третий струнный квартет. — Переезд в Москву
В конце 1944 года кто-то из музыкантов выразил убеждение, что Шостакович вскоре создаст симфонию, посвященную победе Советского Союза, и добавил, что уверен в этом так же, как в самой победе. Когда другой музыкант прямо спросил композитора, имеет ли он намерение написать произведение, воспевающее будущую победу, то услышал: «Да, я уже думаю о следующей, Девятой симфонии. Я хотел бы использовать в ней не только оркестр, но и хор, и певцов-солистов, если бы нашел подходящую литературу и текст и, кроме того, не опасался, что меня могут заподозрить в желании вызвать нескромные аналогии»[339]. Таким образом, музыкальная литература должна была обогатиться невиданной дотоле симфонической трилогией, две первые части которой — Седьмая и Восьмая симфонии — подводили бы к монументальной и торжественной Девятой симфонии.
Зимой 1944/45 года стало известно, что Шостакович приступил к сочинению нового симфонического произведения. Некоторым из его друзей удалось даже услышать первые такты только что начатой партитуры — победный мажор в темпе энергичного allegro. На различных встречах автор доверительно рассказывал слушателям о своей новой работе, прибавляя, что пишет с большим воодушевлением. Чрезвычайно быстро, чуть ли не за несколько дней, он закончил экспозицию первой части, через неделю — разработку. И внезапно прекратил сочинять. Никто тогда не понял причины этого шага. Любые намеки на Девятую симфонию в разговорах Шостакович игнорировал, а его неприступность и скрытность не позволяли выпытать то, о чем сам он не хотел говорить. Только однажды, через полтора года, он неожиданно поведал, что начал писать другой вариант Девятой симфонии, но и этот быстро показался ему негодным.
Тем временем летом в советской прессе появилась информация ТАСС о скорой премьере Девятой симфонии Шостаковича, «посвященной торжеству нашей великой Победы».
В первый раз советские музыканты познакомились с новым произведением за несколько недель до официальной премьеры. Шостакович сыграл его в четыре руки со Святославом Рихтером в Комитете по делам искусств на Неглинной улице. Немногочисленные слушатели остро раскритиковали новую симфонию. «Мы приготовились слушать новую монументальную оркестровую фреску, — вспоминал позднее критик Давид Рабинович. — Но прозвучало нечто совсем иное, в первые мгновения поразившее своей неожиданностью»[340].
Премьера Девятой симфонии 3 ноября 1945 года в Ленинграде вызвала еще большее удивление. Вместо великого по размерам и содержанию произведения, обещанного ТАСС, слушатели услышали миниатюрную симфонию-скерцо, которая вся целиком длилась меньше, чем первая часть Седьмой или Восьмой. К тому же неожиданным был ее классический стиль, подобный многим фрагментам Концерта для фортепиано, и внезапное возвращение к столь типичному для Шостаковича гротеску, который в последний раз появлялся три года назад в неизвестной тогда неоконченной опере «Игроки».
Девятая симфония создавалась в необыкновенно быстром темпе: подобно Первому квартету, она была сочинена за несколько дней. Первую часть композитор закончил в Москве, после чего выехал в Иваново, где 12 августа завершил вторую часть, 20-го — третью, 21-го — четвертую и 30 августа 1945 года — финал.
Одним из очевидцев работы над Девятой симфонией был Даниэль Житомирский, который в августе того года находился под Ивановом:
«В эти дни, кроме Прокофьева, Глиэра, Кабалевского, я постоянно видел Шостаковича. Август был на редкость погожий и располагал к летним досугам. Но Шостакович в них почти не втягивался. У него явная антипатия к любым видам пассивной созерцательности, вообще к незаполненному, „нейтральному“ протеканию времени. Он не любит поэтому ни медлительных прогулок с разглядыванием облаков, ни тем более досужих, случайных бесед. Участие в каком-нибудь активном процессе — единственная мыслимая для него форма существования. <…> В разговоре он предельно лаконичен; его реплики отрывисты, афористичны, часто с ироническим подтекстом. Он как бы все время торопится „перейти к делу“. Иногда соглашался поиграть в четыре руки. Сильнейшим четырехручным ансамблем были Шостакович и Кабалевский. В их отличном исполнении мне довелось прослушать несколько симфоний Гайдна, Бетховена, Брукнера… Работа над Девятой симфонией шла — по крайней мере для постороннего взгляда — как бы „между прочим“; не заметно было у автора ни особой озабоченности, ни погруженности в себя. Между тем процесс сочинения протекал с необычайной интенсивностью.
За свой рабочий столик Шостакович присаживался обычно по утрам на два-три часа. При этом не стремился ни к особой изоляции, ни к тишине (доска на вбитых в землю палках устроена была коллективными усилиями друзей в маленьком палисаднике около дома, у самой дороги). Композитор делал вначале схематические эскизы каждой части (фиксируя лишь ведущие два-три голоса), а затем сразу набело записывал данную часть в виде партитуры. Ювелирно отточенное произведение создавалось с удивительной легкостью и быстротой»[341].
По воспоминанию Житомирского можно заключить, что Шостакович писал не только с молниеносной скоростью, но и почти сразу начисто. Между тем, как и всегда перед началом большой партитуры, он долго обдумывал облик будущего произведения. Свидетельство тому — два листка нотной бумаги, сохранившиеся в коллекции автографов писателя Алексея Крученых. В фортепианном изложении, без обозначений инструментов записаны фрагменты будущей симфонии: первоначальные варианты четвертой части, начало финала, а также наброски к третьей части, которая, впрочем, должна была быть другой. Сохранившийся автограф, один из очень немногих в этом роде, проливает любопытный свет на творческий процесс.
Девятая симфония, особенно в первой части, наиболее приближается к раннеклассической модели, хотя композитор оперирует в ней вполне собственным, индивидуальным гармоническим языком.
Небольшая первая часть, длящаяся около 5 минут (первые части обеих предыдущих симфоний длились свыше 25 минут!), сразу создает атмосферу простоты и юмора. Капризная первая тема, несколько родственная теме финала Шестой симфонии, полна легкости и безмятежности. Отчетливая тональность — Es-dur — выступает почти в чистом виде, хотя композитор в высшей степени оригинальным образом слегка «загрязняет» ее посторонними звуками. Еще более радостный характер отличает вторую тему, не столько контрастирующую, сколько дополняющую первую музыкальную мысль. По классическому образцу экспозиция обеих тем повторяется, после чего начинается разработка, лишенная столь обычного для Шостаковича драматизма и генеральной кульминации, по-гайдновски наполненная искусной мотивно-тематической работой, изысканная и одновременно простая, поражающая своим совершенством. Лаконичная реприза повторяет экспозицию с небольшими изменениями; на этот раз обе темы звучат в основной тональности произведения — Es-dur.
Большой простотой отличается и лирическая, чрезвычайно красивая вторая часть (Moderato), очень камерная фактура которой иногда выдвигает на первый план всего лишь несколько инструментов. Например, вся первая тема поручена исключительно кларнету, который сопровождают только несколько звуков, исполняемых виолончелями и контрабасами pizzicato unisono (пример 26).
Эта необыкновенно тонкая, интимная музыка, изобилующая гармоническими и тембровыми нюансами, играет роль интермеццо между первой частью и третьей — скерцо.
Три остальные части исполняются без перерыва. Здесь Шостакович повторяет конструктивную идею предыдущей симфонии, хотя и с помощью диаметрально противоположных средств. Бравурное небольшое скерцо близко аналогичной части Шестой симфонии. В свою очередь, неожиданно появляющееся короткое драматическое Largo принадлежит словно бы другому миру, не имеющему ничего общего с легкостью и безмятежностью предыдущих частей. Сольный речитатив фагота и драматические эпизоды медных инструментов нарушают классическую гармонию произведения, напоминая скорее некоторые фрагменты первой части Восьмой. Это Largo, длящееся всего несколько минут, переходит в сатирический финал, который является явным продолжением скерцо; это веселая, безоблачная музыка, мастерская в полифоническом отношении и захватывающая благодаря совершенно неожиданному инструментальному составу.
Было очевидно, что первыми исполнителями новой симфонии станут Евгений Мравинский и ленинградский оркестр. Во время репетиций композитор сильно волновался. По воспоминаниям Раисы Глезер, которыми она поделилась с автором данной книги, эксцентрично-гротескная музыка была причиной того, что Шостакович, не обращая ни на кого и ни на что внимания, нервно ходил по пустому залу филармонии, выкрикивая: «цирк, цирк», как будто хотел этим словом объяснить дирижеру характер своей вещи. Мравинский же методично и не спеша углублялся в произведение, почти не обращая внимания на реакцию друга. Но Девятая не стала для него такой же близкой, как Пятая или Восьмая. Через десять дней после премьеры он еще раз продирижировал ею в Москве и больше никогда к ней не возвращался. Зато Девятой симфонией заинтересовались другие дирижеры, многие из них включили ее в свой репертуар, так что она быстро стала одним из самых популярных произведений Шостаковича.
Реакция критиков и музыкантов на Девятую симфонию была разной, но чаще негативной. Израиль Нестьев писал, что Шостакович создал произведение, вызывающее недоумение, далекое от «тех идей и эмоций, которыми были охвачены его современники», и выражал беспокойство, что «глубокий мыслитель-гуманист еще не переборол в себе иронического скептика и стилизатора»[342]. Девятую симфонию критиковали и впоследствии, демагогически обвиняя композитора в непонимании проблем, которые ставит перед художником современность, в искажении действительности, в безыдейности и аполитичности.
На Западе реакция критики тоже была чрезвычайно острой. После американской премьеры писали: «Никто не ожидал, что Девятая симфония будет так отличаться от прежних произведений Шостаковича, никто не ожидал также, что она будет такой банальной, неубедительной и неинтересной»[343].
Композитор словно бы предвидел такую реакцию. Если перед премьерой «Ленинградской» симфонии он нервно повторял: «Она не понравится, она не понравится!», то перед первым исполнением Девятой сказал: «Музыканты будут ее играть с удовольствием, а критики — разносить»[344]. Дирижер Гавриил Юдин описывал другой разговор с композитором: «Как-то в начале февраля 1946 года я встретил Дмитрия Дмитриевича и сказал: „На моей улице — праздник: я буду третьим по порядку дирижером, который исполнит твою новую Девятую симфонию! После Мравинского и Гаука!“ Он откликнулся сначала невеселой шуткой: „Да, понимаешь, Восьмая у меня была псевдотрагической, а вот эта, Девятая, — псевдокомическая!“»[345]
Право первого исполнения Девятой симфонии в США получил Сергей Кусевицкий. Партитура, которую ему передали, по какой-то случайности не имела обозначений метронома, и поэтому, когда он сделал пробную запись на пластинку и послал ее Шостаковичу, композитор категорически потребовал изменить многие темпы. Кусевицкий, уже сжившийся со своей интерпретацией, вынужден был заново изучить партитуру и сделать повторную запись.
Еще в ноябре 1945 года великий дирижер писал Элен Блэк, директору музыкальной корпорации «Ат-Rus»: «Я очень надеюсь, что Вы увидите Шостаковича и еще раз передадите ему от моего имени приглашение приехать в Бостон продирижировать американской премьерой своей Девятой симфонии. Если он пожелает, я сам продирижирую программу целиком из его сочинений, включая его Фортепианный концерт с автором в качестве солиста; или пусть он приедет как мой гость на концерт, посвященный его творчеству. Но прежде всего и самое главное, передайте, пожалуйста, как я был счастлив получить его письмо и с каким нетерпением оркестр и я ждем первого исполнения в Америке его Девятой симфонии»[346].
Концерт состоялся 25 июля 1946 года в Тенглвуде, и, как нетрудно догадаться, Шостакович в Америку не поехал. Сегодня можно только строить догадки: то ли он не имел желания тратить силы и время на такую дальнюю и обременительную, хотя и необыкновенно интересную поездку, то ли хотел остаться дома, чтобы не прерывать работу. Сообщалось, будто Шостакович сказал, что его визит в США станет возможным только тогда, когда отношения между обеими странами полностью нормализуются. Несомненно, однако, что заграничная поездка советского гражданина, даже ведущего композитора, не была тогда вопросом его личных желаний и возможностей. Подобные дела решались властями, а Кремль с поразительной последовательностью противился любым контактам своих граждан с жителями других стран, особенно капиталистических. Свидетельством привилегированного положения Шостаковича была уже возможность получать письма из-за границы: для простого гражданина, как говорилось выше, такое письмо могло означать многолетнюю ссылку.
Вскоре после американской премьеры Девятую симфонию исполнил в Великобритании Малколм Сарджент, в Чехословакии — Рафал Кубелик, в Австрии — Йозеф Крипс, а во Франции — Манюэль Розенталь. За исключением Вены и Праги, где произведение прошло с огромным успехом, оно почти повсеместно подвергалось резкой критике, настолько загадочной представлялась эта миниатюрная симфония-скерцо после двух предшествующих ей драматических фресок. Тем не менее со временем она приобрела такую популярность, что теперь ее исполняют гораздо чаще, чем обе предыдущие симфонии.
В 1946 году высшим достижением Шостаковича стал Третий струнный квартет, впервые исполненный 16 декабря в Москве. Он принес композитору очередной триумф. Выдающийся советский пианист и педагог Константин Игумнов написал после премьеры: «Этот человек чувствует и видит жизнь в тысячу раз глубже, чем мы — все другие музыканты, вместе взятые»[347]. Через четыре года, 22 апреля 1950 года, в письме к Эдисону Денисову Шостакович назвал Третий квартет одним из своих самых удачных сочинений. Это произведение стало последним звеном в великолепной цепи композиций, тематически более или менее связанных с войной, злом и насилием. Другими звеньями этой цепи были «Ленинградская» симфония, Вторая соната для фортепиано, Восьмая симфония и Трио.
В июле следующего, 1947 года Шостакович приступает к созданию монументального Концерта для скрипки с оркестром, работа над которым затягивается до марта 1948-го…
Интенсивной работе над новыми произведениями Шостаковичу не мешали ни необходимость освоиться с переменами в собственной жизни, ни исключительно трудные условия, в которых находилась тогда вся советская культура. После окончания войны все в музыкальном мире нужно было организовывать заново. Оркестры возвращались в свои родные места, начинались регулярная концертная деятельность и учеба в консерваториях.
Поначалу Шостакович намеревался вернуться в Ленинград. Однако положение первого советского композитора, а также все более широкий размах общественной деятельности не позволили ему сделать это. Поддавшись уговорам Виссариона Шебалина, он решил переехать в Москву, где поселился на одной из центральных улиц — улице Кирова. Через несколько лет он получил квартиру на Можайском шоссе (в доме № 23), позднее переименованном в Кутузовский проспект. Квартира № 87 в большом каменном доме была бы почти идеальной, если бы не интенсивное уличное движение, звуки которого были слышны и в кабинете, и в спальне. Тем не менее просторное помещение позволяло не только сочинять, но и организовывать домашние камерные концерты, которые со временем стали традицией. Но летние месяцы начиная с 1946 года Шостакович всегда проводил в Комарове под Ленинградом. Там находился деревянный двухэтажный дом, в котором жили мать композитора и родители его жены. Шостакович не любил первого этажа и поэтому устроил себе рабочий кабинет на веранде второго этажа. Здесь, в тишине окружающего дом леса, он охотнее всего работал, здесь написал «Песнь о лесах», Десятую и Одиннадцатую симфонии.
Таким образом, связь с родным городом не была прервана. Тем более что уже в феврале 1947 года Шостакович занял место Владимира Щербачева, избранного сразу после войны председателем ленинградского правления Союза композиторов СССР. С тех пор Шостакович много сил и энергии отдавал делам этой организации, постоянно приезжая из Москвы. Во главе Ленинградской филармонии по-прежнему был Евгений Мравинский, всегда готовый заняться новыми произведениями друга. Не прервались контакты и с консерваторией. Шостакович возобновил работу в ней уже в 1945 году, несмотря на то что двумя годами ранее, еще во время войны, по приглашению Шебалина, занимавшего пост ректора столичной консерватории, стал ее профессором. Частые приезды в Ленинград объяснялись и тем, что там жила его родня.
Глава восемнадцатая 1946–1948
Борьба с «космополитами» и «формалистами». — Совещание в ЦК ВКП(б). — Постановление «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели». — I съезд Союза композиторов: «суд» над Шостаковичем
В первые послевоенные годы в Советском Союзе наблюдалось усиленное вмешательство партии в дела культуры и науки. Никогда со времен I съезда советских писателей в 1934 году и кампании 1936 года против оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» искусству не уделялось так много места в официальных документах и средствах массовой информации, как в 1946 году.
28 июня 1946 года была основана газета «Культура и жизнь», выпускавшаяся каждые десять дней Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Она стала трибуной острых выступлений против всяких идеологических отклонений, причем особенно жесткому контролю подвергались работа историков и творчество литераторов. Поскольку от литературы требовали актуальной тематики и пропагандистского звучания, то нет ничего удивительного, что важнейшими книгами того периода были признаны, к примеру, «Цемент» Федора Гладкова или «Железный поток» Александра Серафимовича. Исключительно большое значение придавалось «Молодой гвардии» Александра Фадеева — романе о героях-комсомольцах, которые в горняцком городе Краснодоне организовали движение сопротивления немцам. Однако ее автор, в то время бывший уже членом ЦК ВКП(б) и генеральным секретарем Союза советских писателей, забыл подчеркнуть руководящую роль партии в организации подпольной борьбы и поэтому стал в 1947 году объектом резких нападок культурных «вершителей». Под влиянием критики Фадеев переработал роман, но в новом варианте он оказался значительно хуже.
Во главе идеологического наступления, проводившегося с 1946 года, встал секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, а после его смерти в 1948 году эту задачу взял на себя Михаил Суслов. В своих выступлениях Жданов сурово требовал полной ликвидации влияний западной культуры. Он осуждал любые отступления от принципов культурной политики, обозначенной партией, при этом сущность таких уклонов истолковывалась совершенно произвольно, в зависимости от потребностей, создаваемых текущим моментом. Нападки на деятелей культуры носили официальный характер, и о них объявлялось в специальных партийных постановлениях. Первым из них было датированное 26 августа 1946 года постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Вслед за ним, 4 сентября, появилось постановление «О кинофильме „Большая жизнь“». В 1948 году вышло постановление «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели», направленное против музыкантов. В конце того же года было опубликовано очередное, самое резкое и ставшее одним из главных проявлений бушевавшего в то время антисемитизма постановление «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Этот печальный список замыкают два документа, относящиеся к 1951 году, — статьи в «Правде» «Неудачная опера» (об опере Г. Жуковского «От всего сердца») и «Об опере К. Данькевича „Богдан Хмельницкий“».
В 1946 году объектом нападок Жданова стал Михаил Зощенко, сатирические произведения которого пользовались необычайной популярностью, а затем — великая поэтесса Анна Ахматова, предмет любви и почитания русской интеллигенции. На страницах чуть ли не всех советских газет появились бесчисленные статьи с осуждением этих художников. Жданов публично назвал Ахматову «взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и молельней», а Зощенко — «беспринципным и бессовестным литературным хулиганом». Кампания продолжалась несколько месяцев, Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей и запретили публикацию их сочинений, практически лишив обоих возможности заниматься литературным трудом.
Однако апогей борьбы с «космополитами и формалистами» наступил только через три года после этих событий. В первой половине 1949 года атаки на деятелей культуры велись уже во всех областях творчества: в литературе, музыке, театре, изобразительном искусстве и кинематографии.
28 января 1949 года в «Правде» появился отклик на партийное постановление, касавшееся театральных критиков. Наряду с явными антисемитскими акцентами статья содержала такие обвинения, которые в свете советского законодательства могли быть истолкованы как тяжкое умышленное преступление. Вскоре на собрании московских писателей Константин Симонов публично «разоблачил» «заговорщицкий характер антисоветской деятельности космополитов без родины», а сами обвиняемые приписывали себе всевозможные прегрешения, признаваясь даже в участии в тайной антисоветской деятельности. По этому случаю Симонов раскрыл настоящие фамилии писателей, печатавшихся под псевдонимами, чтобы развеять всякие сомнения в их еврейском происхождении.
В музыкальной сфере кульминация событий наступила в первой половине 1948 года, а предлогом для массированной атаки на композиторов стала опера Вано Мурадели «Великая дружба». В музыкальном отношении опера не представляла большой ценности (впрочем, как и все творчество этого грузинского композитора), однако она имела явный идеологический подтекст, и это сулило надежды на ее успех: содержанием либретто была борьба с «врагами народа» в Закавказье, а одним из главных героев выступал грузинский комиссар Серго Орджоникидзе, эффективно «очищающий» родину от «вражеских элементов».
Премьера «Великой дружбы» состоялась 28 сентября 1947 года в Сталино (ныне Донецк). В результате усиленных стараний местной партийной организации постановка оперы была рекомендована двенадцати другим советским театрам, при этом выражалось пожелание, чтобы день премьеры совпал с торжественным празднованием тридцатилетия Октября. Таким образом, четыре следующие постановки были подготовлены к 7 ноября, а одна из них, особенно пышная, состоялась в московском Большом театре, где для этой цели выделили гигантскую сумму в 600 тысяч рублей.
Однако успех спектакля был столь же ошеломляющим, сколь и кратковременным. Вскоре после премьеры состоялось закрытое для широкой публики представление, на котором присутствовал Жданов, а вероятнее всего, и сам Сталин, которому случалось посещать Большой театр. Власти оценили «Великую дружбу» крайне негативно. Во-первых, были замечены важные политические упущения в изображении национальных конфликтов в Закавказье. Во-вторых, Сталину пришлась не по вкусу музыка, которую он раскритиковал за отсутствие (по его мнению) народного характера, и уже окончательно его возмутила лезгинка — распространенный на Кавказе народный танец, использованный Мурадели в опере. (Сталин имел определенные музыкальные пристрастия; к примеру, было известно, что его любимая песня — грузинская народная мелодия «Сулико».) Последняя премьера оперы прошла 14 декабря 1947 года в Алма-Ате, после чего события стали развиваться с молниеносной быстротой. Первым делом состоялась драматическая встреча Жданова с Мурадели и директором Большого театра Яковом Леонтьевым. Мурадели покаялся, а Леонтьев через несколько дней умер от сердечного приступа. В январе 1948 года Жданов отдал распоряжение организовать совещание московских композиторов, чтобы после трехдневных заседаний многозначительно заявить: «Центральный комитет… учтет итоги дискуссии и сделает соответствующие выводы»[348].
Январское совещание имело особый характер. Главной его целью была, разумеется, не критика создателей и постановщиков оперы «Великая дружба», а составление списка композиторов, представляющих формалистическое направление. Сталин поручил Жданову выявить самых «антинародных» деятелей музыкального искусства, а тот постарался, чтобы составлением «черного списка» занялись сами композиторы.
Спустя годы это собрание вспоминал композитор Никита Богословский:
«За каждым столиком сидело четыре человека — три музыкальных деятеля, а четвертого, как правило, никто не знал. Все заседание эти самые „четвертые“ что-то строчили в своих тетрадках… Я сидел с Самосудом и Соловьевым-Седым. Прокофьев Сергей Сергеевич опоздал и сел где-то впереди. Он был в пимах, с огромным толстым портфелем и со значком Лондонского королевского общества. Было душно, он выглядел уставшим… Сел, закрыл глаза и, наверное, задремал. Сидевший рядом Шкирятов (заместитель председателя Комиссии партийного контроля. — К. М.) вдруг громко, на весь зал сказал: „Прокофьеву не нравится речь Андрея Александровича [Жданова]. Он заснул“. Прокофьев открыл глаза и спросил: „А вы, собственно, кто такой?“ Шкирятов показал на свой портрет, висящий на стене, и говорит: „Вот это я“. Прокофьев очень удивился: „Ну и что?“ Тогда встал Попов, секретарь ЦК, который вел это собрание, и сказал: „Товарищ Прокофьев, вы тут шумите, а если вам не нравится речь Андрея Александровича, — можете уйти!“ Прокофьев встал и ушел…»[349]
Жданов перечислил имена композиторов, на которых, по его мнению, лежала наибольшая вина за плачевное состояние советской музыки: Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Хачатурян, Попов, Кабалевский и Шебалин. После этого он прервал чтение своего доклада и обратился к залу:
— Кого вам угодно будет присоединить к этим товарищам? Из зала послышался голос:
— Шапорина!
Таким образом в «черном списке» Жданова оказался (правда, временно) и Шапорин.
«Обвиняемые» не выказали особой склонности к публичному самобичеванию. Виссарион Шебалин на совещании почти не касался своего творчества и при этом осмелился защищать своих коллег (особенно Шостаковича) от нападок. Гавриил Попов вообще отказался от выступления.
Шостакович выходил на трибуну дважды. Первый раз он говорил весьма лаконично, отметил некоторые недостатки в работе композиторов (прежде всего консервативного направления). Очевидно, такое поведение было сочтено неудовлетворительным, и в последний день работы совещания Шостаковичу пришлось выступить вторично. На сей раз он покритиковал и «формалистов» (больше всего Мурадели), хотя наряду с этим дал высокую оценку таланту Прокофьева, Мясковского и Хачатуряна. Говоря о своем творчестве, он лишь в общей форме признал наличие в нем «неудач и серьезных срывов».
Зато один из наиболее агрессивных участников совещания композитор Владимир Захаров выступил в таком тоне:
«Весь народ сейчас занят выполнением пятилетки. Мы читаем в газетах о героических делах, которые совершаются на заводах, на колхозных полях и так далее. Спросите вы у этих людей: действительно ли они так любят 8-ю и 9-ю симфонии Шостаковича, как об этом пишут в прессе? <…>
<…>
<…> Для того чтобы вести народ, надо разговаривать с народом на языке, который понятен народу».
И далее: «…в Ленинграде, когда люди умирали на заводах, около станков, эти люди просили завести им пластинки с народными песнями, а не с 7-й симфонией Шостаковича»[350].
Дело дошло даже до таких исключительно грубых выпадов: «У нас еще идут споры о том, хороша 8-я симфония Шостаковича или плоха. По-моему, происходит что-то непонятное. Я считаю, что с точки зрения народа 8-я симфония — это вообще не музыкальное произведение, это „произведение“, которое к музыкальному искусству не имеет никакого отношения».
Вот еще образец захаровской демагогии:
«…8-я, 9-я, 7-я симфонии Шостаковича будто бы за границей рассматриваются как гениальные произведения. Но давайте спросим, кем рассматриваются? За границей есть много людей. Помимо реакционеров, против которых мы боремся, помимо бандитов, империалистов и так далее, там есть и народы.
Интересно, у кого же эти сочинения там пользуются успехом? У народов? Я могу на это ответить совершенно категорически — нет и не может быть»[351].
Ситуация складывалась угрожающая. Перепуганные композиторы обвиняли друг друга, множились доносы и интриги, фальсифицировались факты. Почти каждый всеми доступными ему способами боролся за то, чтобы его имя не оказалось в известном списке. Вписываниям и вычеркиваниям не было конца, но два имени, с самого начала открывавшие перечень, — Шостакович и Прокофьев — так и остались на переднем плане. В такой чрезвычайно подлой форме дала о себе знать многолетняя зависть к международной славе обоих творцов музыки. Наконец список представителей «антинародного формалистического направления» был окончательно укомплектован: в нем значились почти все первоначально названные Ждановым композиторы, лишь имя Кабалевского было вычеркнуто в результате не выясненных по сей день обстоятельств.
10 февраля 1948 года было опубликовано чреватое последствиями партийное постановление «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели», отредактированное по поручению Жданова Асафьевым. Постановление начиналось критикой произведения Мурадели, которое признавалось немелодичным, модернистским, оторванным от традиций, антихудожественным и формалистическим, а далее появлялись слова, касавшиеся советской музыки вообще:
«Еще в 1936 году, в связи с появлением оперы Д. Шостаковича „Леди Макбет Мценского уезда“, в органе ЦК ВКП(б) „Правда“ были подвергнуты острой критике антинародные, формалистические извращения в творчестве Д. Шостаковича и разоблачен вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки. „Правда“, выступавшая тогда по указанию ЦК ВКП(б), ясно сформулировала требования, которые предъявляет к своим композиторам советский народ.
<…> Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам. Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением „прогресса“ и „новаторства“ в развитии музыкальной формы, отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик. <…>
<…> Творчество многих воспитанников консерваторий является слепым подражанием музыке Д. Шостаковича, С. Прокофьева и др.
ЦК ВКП(б) констатирует совершенно нетерпимое состояние советской музыкальной критики. Руководящее положение среди критиков занимают противники русской реалистической музыки, сторонники упадочной, формалистической музыки. Каждое очередное произведение Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Шебалина эти критики объявляют „новым завоеванием советской музыки“ и славословят в этой музыке субъективизм, конструктивизм, крайний индивидуализм, профессиональное усложнение языка, т. е. именно то, что должно быть подвергнуто критике. <…>
<…>
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Осудить формалистическое направление в советской музыке, как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки.
2. Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК и Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных в настоящем постановлении ЦК недостатков и обеспечения развития советской музыки в реалистическом направлении.
3. Призвать советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, и, отбросив со своего пути все, что ослабляет нашу музыку и мешает ее развитию, обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и приведет к созданию во всех областях музыкального творчества полноценных, высококачественных произведений, достойных советского народа.
4. Одобрить организационные мероприятия соответствующих партийных и советских органов, направленные на улучшение музыкального дела»[352].
Нетрудно было предвидеть результаты этого выступления. По всей стране начали организовываться собрания и конференции, поддерживавшие постановление от 10 февраля. Документ «обсуждался» везде: на фабриках и заводах, в колхозах и учреждениях, причем, если верить тогдашней прессе, повсюду рабочие с энтузиазмом говорили о постановлении, потому что миллионы простых людей объединяло общее возмущение Шостаковичем, Прокофьевым и другими «формалистами». Много лет спустя сын Шостаковича, Максим, вспоминал: «…мне было 10 лет. В 1948 году, когда после речи Жданова травили отца, в музыкальной школе, на экзамене меня заставляли его ругать»[353].
Создавшейся ситуации прибавлял пикантности тот факт, что одним из самых активных пропагандистов постановления был сам Мурадели. Он участвовал в собраниях всех доступных ему организаций, прохаживался среди людей, каялся и, как бывший формалист, торжественно заявлял, что с этих пор уже никогда не собьется с пути реализма. Если выпадала возможность, он тут же садился к роялю или пианино и наигрывал фрагменты своих будущих реалистических произведений, а на встречах в консерваториях предостерегал молодых композиторов от модернизма, давал советы и поучения.
Почти сразу после опубликования постановления было созвано очередное собрание в Москве, в Союзе композиторов. На этот раз оно длилось неделю, с 17 по 26 февраля. Произошла реорганизация структуры союза: прежнюю форму правления, называемую оргкомитетом, ликвидировали и во главе союза поставили тридцатипятилетнего композитора Тихона Хренникова, который прославился тем, что в своей опере «В бурю» первым вывел на сцену образ Ленина.
Галина Вишневская, жена Мстислава Ростроповича, вспоминает: «В зале, битком набитом народом, где яблоку негде было упасть, Шостакович сидел один — в пустом ряду. Уж у нас так повелось: никто не сядет рядом. Как публичная казнь. Да и была публичная казнь — с той лишь разницей, что там убивают, а здесь великодушно оставляют жить — оплеванным. Но за это великодушие ты обязан сидеть, слушать все, что выплевывают тебе в лицо, и каяться — да не про себя, а вылезай на трибуну и кайся вслух, публично предавай свои идеалы. Да еще и благодари за это партию, и правительство, и лично товарища Сталина»[354].
Важнейшим элементом февральских заседаний были выступления тех композиторов, которых постановление обвиняло в формализме. Самокритикой вынуждены были заниматься также все музыковеды, исполнители и рецензенты, деятельность которых оказалась каким-либо образом связана с Шостаковичем, Прокофьевым и остальными композиторами из «черного списка». Это было нелегко. Например, Гавриила Попова, который во время выступления признался в предъявленных ему обвинениях, неоднократно прерывали из президиума собрания, требуя еще большей самокритичности и готовности к борьбе с врагами советской культуры.
Сергей Прокофьев вообще не появился на собрании и лишь прислал открытое письмо, зачитанное во время прений: «…Элементы формализма были свойственны моей музыке еще лет 15–20 тому назад. Зараза произошла, по-видимому, от соприкосновения с рядом западных течений. После разоблачения „Правдой“… формалистических ошибок в опере Шостаковича я много размышлял о творческих приемах моей музыки и пришел к заключению о неправильности такого пути. <…> Наличие формализма в некоторых моих сочинениях объясняется… недостаточно ясным осознанием того, что это не совсем нужно нашему народу. <…>
В атональности, которая часто близко связана с формализмом, я тоже повинен… <…>
…Хочется высказать мою благодарность партии за ее указания, помогающие мне в поисках музыкального языка, понятного и близкого нашему народу…»[355]
Наконец слово дали Шостаковичу. Он встал и пошел через весь зал с последнего ряда. По пути, воспользовавшись замешательством композитора, ему в руку всунули листок с готовым выступлением — оставалось только прочесть незнакомую ему речь, из которой вытекало, что все его творчество было чередой ошибок и заблуждений. «После известной разгромной статьи 1936 года („Сумбур вместо музыки“) он все время стремился исправиться, развивать свое творчество „в ином направлении“. „Казалось“, что „порочные черты своей музыки он уже начал преодолевать“. Однако этого не случилось. Он „опять уклонился в сторону формализма и начал говорить языком, непонятным народу“. Сейчас ему снова ясно, что „партия права“. Правда, в своей Поэме о Родине[356] он как будто делал все, что требуется, но произведение опять „оказалось неудачным“. И вот теперь он будет снова „упорно трудиться“. Глубоко благодарит за „отеческую заботу“ партии о художниках»[357].
Кульминационным моментом февральского обсуждения речи Жданова было выступление Хренникова, который остро критиковал многих советских и зарубежных композиторов — Хиндемита, Берга, Кшенека, Мессиана и даже Жоливе и Бриттена представил как буржуазных формалистов. Особенно резко он осудил музыку Стравинского, назвав его балеты «Петрушка» и «Весна священная», а также Симфонию псалмов декадентскими произведениями. Критикуя творчество молодого Прокофьева, Хренников сказал о его балете «Шут», что «музыкальный язык этого произведения близок… балетам Стравинского». Признаки вырождения были обнаружены им в Оде на окончание войны Прокофьева, а именно в ее инструментальном составе (!), включающем 16 контрабасов, 8 арф и 4 рояля. Хренников назвал форматистической также кантату Прокофьева «Расцветай, могучий край» (написанную в ознаменование 30-й годовщины Октябрьской революции), и Шестую симфонию, и последние фортепианные сонаты. Хачатуряна он осудил за использование 24 труб в Симфонии-поэме (тоже созданной в честь Октябрьской революции), так же критически отозвался о большинстве произведений Мясковского, в том числе о Патетической увертюре и о кантате «Кремль ночью».
Особенно резким нападкам по очевидным причинам подверглась «Великая дружба» Мурадели. Однако главной мишенью нападок Хренникова был Шостакович. О его музыке было сказано следующее: «Своеобразная зашифрованность, абстрактность музыкального языка часто скрывала за собой образы и эмоции, чуждые советскому реалистическому искусству, экспрессионистическую взвинченность, нервозность, обращение к миру уродливых, отталкивающих, патологических явлений». Хренников заявил, что влияние формализма отчетливо заметно среди молодых композиторов, особенно студентов Московской консерватории, и это, очевидно, связано с тем фактом, что в ней обучают такие «формалисты», как Шостакович и Мясковский, а Шебалин даже занимает пост директора. «Такие студенты консерватории, как Галынин, Чугаев, Борис Чайковский (ученики Шостаковича. — К. М.), красноречиво демонстрируют в своем творчестве губительное влияние формализма»[358].
С 19 по 25 апреля проходил I Всесоюзный съезд композиторов СССР. Открытый двумя вступительными докладами — отсутствующего в зале Бориса Асафьева (текст был зачитан композитором Владимиром Власовым) и Тихона Хренникова, он стал поворотным пунктом в истории музыкальной культуры Советского Союза и оказал серьезное влияние на музыку остальных стран так называемой народной демократии. На съезде выступили около ста композиторов и музыковедов из разных республик и представители других творческих союзов. В президиуме съезда заняли место несколько десятков человек, и среди них композиторы (преимущественно авторы массовых песен), в том числе В. Соловьев-Седой, И. Дунаевский, М. Коваль, И. Дзержинский, а также музыковеды, в частности Б. Ярустовский, о котором в то время шутили, что он лучший чекист среди музыковедов и лучший музыковед среди чекистов. Вначале Василий Соловьев-Седой предложил выбрать «почетный президиум» съезда, в состав которого должно было войти все Политбюро ВКП(б) во главе со Сталиным. Разумеется, предложение было принято единогласно, а аплодисменты после его утверждения длились несколько минут.
В течение семи дней участники съезда состязались в произнесении заезженных фраз на тему об исторической роли партии, Сталина, Жданова и постановления об опере «Великая дружба». С трибуны раздавались нескончаемые обвинения в адрес упомянутых в постановлении композиторов и всех тех, чья деятельность каким-либо образом была с ними связана. Постепенно количество «формалистов» росло, поскольку вслед за постановлением от 10 февраля во всех союзных республиках вышли постановления, обличающие местных композиторов.
«Виновных» стали допускать на трибуну лишь с четвертого дня съезда, когда перед его участниками предстал Мурадели. На следующий день выступил Хачатурян, а Шостаковичу предоставили слово на шестой день. В своем выступлении, которого все ожидали с огромным напряжением, автор «Ленинградской» симфонии, в частности, сказал:
«Прежде всего я должен извиниться перед делегатами Съезда, что я не являюсь хорошим оратором. Однако я считаю невозможным в дни, когда все мои товарищи напряженно работают над тем, чтобы найти конкретные пути выполнения указаний, данных нам Центральным комитетом, не принять в этом посильного участия.
<…>…Как бы мне ни было тяжело услышать осуждение моей музыки, а тем более осуждение ее со стороны Центрального комитета, я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего и что я должен искать и найти конкретные творческие пути, которые привели бы меня к советскому реалистическому народному искусству.
Я понимаю, что это путь для меня нелегкий, что начать писать по-новому мне не так-то уж просто, и может быть это произойдет не так быстро, как этого хотелось бы мне и, вероятно, многим моим товарищам. Но не искать эти новые пути мне невозможно, потому что я — советский художник, я воспитан в советской стране, я должен искать и хочу найти путь к сердцу народа»[359].
Подводя итог дискуссии, Хренников заявил: «Сегодняшнее выступление Д. Д. Шостаковича показывает, что Дмитрий Дмитриевич очень хорошо и по-настоящему проникновенно продумал свою будущую деятельность в области музыки. (Голоса: Правильно, правильно! Аплодисменты.) Это выступление резко отличается, скажем, от того письма, которое прислал в президиум В. Я. Шебалин (Голоса: Правильно! Аплодисменты) и которое заполнено общими декларативными фразами»[360].
I Всесоюзный съезд композиторов закончился принятием текста письма Сталину со словами признательности за заботу о развитии музыкальной культуры. В руководство Союза композиторов были единогласно выбраны Борис Асафьев — на должность председателя и Тихон Хренников — на должность генерального секретаря. После смерти Асафьева в январе следующего года место председателя уже никогда никем не занималось, и Хренников фактически встал во главе организации и оставался на этом посту до конца существования Советского Союза. Он умел приспосабливаться к любой политической ситуации и был равно хорош и в последние годы сталинского террора, и в период хрущевской оттепели, и в бездушную эпоху Брежнева, и во время перестройки Горбачева. Сменялись только его заместители и подчиненные, обычно привлекавшиеся к ответственности за практическое выполнение указаний своего начальника. Композитор Богословский заметил в 1990 году: «Недавно я подсчитал, кто из деятелей всего мира и разных эпох дольше занимал руководящее положение. 1. Людовик XIV… — 72 года. 2. Австрийский император Франц Иосиф — 68 лет. 3. Английская королева Виктория — 64 года. 4. Японский император Хирохито — 62 года. 5. И наконец, наш Тихон Хренников — 42 года. Нет в нашей стране человека, который занимал бы руководящий пост так долго»[361].
После съезда на страницах газет появился целый ряд критических статей, посвященных советской музыке в свете постановления от 10 февраля. Больше всего писали о Прокофьеве и Шостаковиче.
Композитор Мариан Коваль опубликовал в трех номерах «Советской музыки» политический донос, содержавший сокрушительную критику творчества Шостаковича в целом, начиная с его юношеских Фантастических танцев. По мнению Коваля, уже в Первой симфонии, хотя и свидетельствующей о несомненных способностях автора, обнаруживалось пагубное влияние «Петрушки» Стравинского. Бессмысленные диссонансы и какофония остро проявились в Первой сонате для фортепиано, в «Афоризмах» и особенно в опере «Нос». Вся ненависть Коваля выплеснулась в оценке «Леди Макбет» и никому не известной, изъятой композитором Четвертой симфонии. О Пятой симфонии Коваль писал, что «искренность и правдивость смогла ослабить формалистические путы, владеющие композитором», но что симфония «была некритически перехвалена». Раздел о Шестой симфонии назывался «Назад, к формализму», ее первая часть была охарактеризована как «дорога никуда», скерцо — как производящее «впечатление отлично сделанных шумовых пустоцветов», а третья часть — как «симфоническая клоунада» и «откровенный галоп — канкан, переложенный с джаз-оркестра на симфонический». (В 1940 году тот же Мариан Коваль оценивал симфонию очень положительно.) В «Ленинградской» симфонии удачной ему показалась только первая часть. «…Приходится признать, — продолжал критик, — что Чайковский не в самом сильном своем произведении — увертюре „1812 год“ — по основам своего творческого метода стоит на более верных позициях, чем Шостакович в 7-й симфонии. А если эту симфонию сравнить с „Героической“ Бетховена, то порочные основы творческого метода Шостаковича становятся особенно явственными». Восьмую симфонию автор статьи считал произведением, стоящим на крайне низком идейном уровне. А что касается Девятой симфонии (которая для Асафьева с недавних пор сделалась «оскорбительной»[362]), то еще на собрании московских композиторов она послужила Ковалю поводом для такого высказывания: «Каким же карликом показал себя Шостакович среди величия победных дней!» Несмотря на такое отношение к достижениям Шостаковича, критик завершил свою статью пожеланием композитору «поскорее открыть новую главу в его творческом пути»[363].
Из всего бесчисленного количества опубликованных в то время пасквилей и доносов хочется еще процитировать слова поэтессы Веры Инбер: «Я очень люблю музыку, но я не могу себе представить такое душевное состояние, при котором мне захотелось бы слушать произведения Шостаковича»[364].
Осенью 1948 года Шостаковича лишили звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий, причем довольно своеобразным способом. Приехав в Ленинград, композитор прочел на доске объявлений в консерватории, что он уволен за «низкий профессиональный уровень». В Москве же ему попросту не выдали на проходной ключ от аудитории.
С этого времени у Шостаковича наступило характерное раздвоение. С одной стороны, он замкнулся в себе и почти ни с кем не поддерживал дружеских контактов. Некоторых его друзей уже не было в живых, другие были арестованы, а кое-кто отдалился сам. С другой стороны, он, как никогда прежде, держался на виду. Выступал на собраниях, поспешно и нервно зачитывая подсунутые ему тексты, которые он не только не писал, но и не видел прежде. Не читая, подписывал обращения и политические воззвания. События 1948 года оставили его таким невозмутимым, что можно было подумать, будто он был лишь пассивным их наблюдателем. Он не реагировал ни на исчезновение из концертной жизни почти всех его произведений, ни на бесконечные «письма трудящихся», осуждающие в прессе его музыку, ни даже на то, что дети в школе должны были узнавать об «огромном ущербе», который Шостакович нанес советскому искусству.
И только позднее, для себя, «в стол», он сочинил оригинальное произведение для голоса, хора и фортепиано под названием «Антиформалистический раёк»[365]. В нем он высмеивал Сталина и раболепных организаторов антиформалистской кампании 1948 года: Жданова, Асафьева и еще нескольких, которые в этом сочинении выступают под именами Единицына, Двойкина и Тройкина. В «Райке» есть поэтому и цитата из песни «Сулико», и неправильно акцентированная фамилия Римского-Корсакова — так, как ее произносил Шепилов[366]. Во введении к партитуре упомянут один из преследователей Шостаковича, музыковед Павел Апостолов (в партитуре Опостылов). Есть в этом своеобразном документе тех страшных лет и «музыкальный чекист» Борис Ярустовский, и много других намеков, цитат и аналогий.
Глава девятнадцатая 1948–1949
На распутье: Еврейские песни. — Поездка в Америку на Конгресс деятелей науки и культуры. — «Песнь о лесах» и дальнейшие компромиссы с властью
Совершенно случайно летом 1948 года родилось одно из наиболее волнующих произведений Шостаковича. Проходя однажды мимо книжного магазина, композитор заметил на витрине выпущенную год назад тетрадь еврейских песен, собранных И. Добрушиным и А. Юдицким. Он купил книгу, решив, что найдет в ней неизвестный ему еврейский музыкальный фольклор. На самом же деле сборник содержал стихи, переведенные с еврейского языка на русский. Эта поэзия очень взволновала Шостаковича, а поскольку после нападок на его творчество он не имел никаких конкретных планов, то принялся за сочинение песен. Цикл, названный «Из еврейской народной поэзии», предназначен для сопрано, альта, тенора и фортепиано. Пять песен исполняются соло с аккомпанементом, четыре — дуэтами и две — терцетами. Этот цикл принадлежит к прекраснейшим и одновременно к интимнейшим страницам творчества Шостаковича, хотя входящие в него произведения поразительным образом различаются по своим достоинствам.
Ознакомление с автографом проливает некоторый свет на историю создания произведения. Шостакович вписал в ноты дату окончания каждой песни, и отсюда известно, что восемь первых песен он сочинил в августе 1948 года. Поэзия, посвященная давним временам, представляет жанровые сцены из жизни бедных еврейских семей, и ее общая атмосфера — глубоко угнетающая. Необыкновенно драматичная вокальная лирика Шостаковича подхватывает традиции Мусоргского.
Ощущение трагизма особенно сильно пронизывает музыку четырех песен: это «Плач об умершем младенце», «Колыбельная», «Перед долгой разлукой» и «Зима». В восьмой песне — «Зима» — выступают все трое певцов, и, собственно говоря, она замыкает цикл как с музыкальной, так и с драматургической точки зрения.
В день рождения Шостаковича, 25 сентября 1948 года, восемь песен были исполнены у него дома, в присутствии нескольких друзей, в том числе Мстислава Ростроповича и Натальи и Моисея Вайнберг. Музыка потрясла слушателей. Всем стало ясно, что новое творение является выражением протеста против бушевавшей уже несколько месяцев волны преследования евреев. Было совершенно очевидно, что в ближайшее время произведение не имеет ни малейшего шанса на публичное исполнение.
А между тем через два месяца Шостакович вернулся к работе над циклом и написал еще три песни, ценность которых не идет ни в какое сравнение с предыдущими. Это относится в основном к песне «Хорошая жизнь», довольно банальному романсу, текст которого — о чудо! — воспевает труд на колхозных полях, но и две остальные не представляют собой ничего интересного.
Таким образом, в одиннадцатичастном цикле, завершенном 24 октября, есть заметная трещина. Неужели, дописывая «положительную развязку драмы», композитор думал, что благодаря этому удастся обеспечить публичный показ произведения и благожелательную оценку критики? Сегодня уже нельзя ответить на этот вопрос, хотя Шостакович явно находился в то время на распутье между верностью совести художника и невозможностью пренебречь очередными требованиями, которые предъявляла к нему власть. Зато остается фактом, что произведение семь лет ожидало премьеры. Волна антисемитизма в Советском Союзе была в то время так сильна, что перед первым исполнением никому еще не известного произведения композитора засыпали письмами и угрозами. 3 марта 1954 года молодой Эдисон Денисов записал:
«Был у Дмитрия Дмитриевича. Он очень огорчался, когда узнал о кампании против его Еврейских песен. Он получил две анонимки, очень вульгарные: „Продался жидам!“ Сказал, что, хотя анонимок никогда не читает, эти все же прочел, потому что они были короткие и напечатаны на машинке. И добавил: „Я всегда старался философски относиться к таким инцидентам, однако никогда не думал, что это меня до такой степени возмутит“»[367].
Композитор наверняка отдавал себе отчет в больших достоинствах произведения. Но оно появилось в ту пору, когда почти над всем его творчеством был поставлен знак вопроса. Однажды Шостакович уже находился в подобной ситуации, когда после критики «Леди Макбет» в 1936 году закончил удивительную Четвертую симфонию. Тогда он решил не исполнять ее публично. Вот и теперь, несмотря на компромисс с официальной эстетикой в виде трех последних песен, он спрятал новый цикл в ящик стола. Там уже несколько месяцев лежала партитура Скрипичного концерта, а через год к ним прибавился великолепный Четвертый квартет…
В 1948 году, кроме Еврейских песен, не было сочинено ни одного крупного произведения. Удрученный критикой, Шостакович не мог работать с былой страстью и, подобно Хачатуряну и Прокофьеву, почти совсем изолировался от музыкальной жизни. Закончил только музыку к двум фильмам — «Молодая гвардия» и «Встреча на Эльбе», явившуюся большим компромиссом с требованиями февральского постановления. Фильмы были приняты очень доброжелательно, что означало первый шаг к обретению прежнего положения. О Шостаковиче вновь заговорили. Этому способствовал и Евгений Мравинский, которому трудно было согласиться с критикой, обрушившейся на друга. Он безгранично верил в талант композитора и был не в состоянии понять осуждение таких замечательных, по его мнению, произведений, как Шестая и Восьмая симфонии. На апрельском съезде Союза композиторов Мравинский выразил обеспокоенность тем, что изменение направления развития советской музыки осуществляется чересчур механически. 7 декабря 1948 года он включил в концертную программу Пятую симфонию Шостаковича, чтобы выразить свое убеждение, что это сочинение не утратило свежести и актуальности и продолжает оставаться классическим образцом советской музыки. Богданов-Березовский пишет в книге о Мравинском, что для композитора это стало огромной моральной поддержкой: ведь в том году его музыка почти совсем не исполнялась.
Между тем в марте 1949 года в Соединенных Штатах должен был состояться Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира, на который пригласили представителей науки и культуры со всего света, в том числе делегацию из Советского Союза в составе семи человек. Музыкальную общественность должен был олицетворять Шостакович. Однако он не собирался ехать, и ни Министерство культуры, ни тогдашний министр иностранных дел Вячеслав Молотов не могли склонить его к поездке.
Тогда в доме Шостаковичей неожиданно зазвонил телефон и композитору сообщили, что вскоре ему лично позвонит Сталин. Это звучало настолько неправдоподобно, что поначалу Шостакович решил, будто это очередной розыгрыш композитора Никиты Богословского, известного своими эксцентричными выдумками. Нина позвонила Арнштаму и своей подруге, вдове художника Петра Вильямса, которая жила в том же доме на Кутузовском проспекте, что и Шостаковичи. Та немедленно пришла к ним. Когда через некоторое время зазвонил телефон, обе женщины побежали в спальню, чтобы подслушать разговор с другого аппарата. И они действительно услышали голос Сталина.
Вождь бесцеремонно спросил, почему Шостакович не хочет ехать в Америку. Композитор оправдывался плохим состоянием здоровья.
— Вас осмотрит доктор, — оборвал его Сталин.
Тогда Шостакович сказал, что не может ехать в Америку, чтобы не попасть в очень неловкое положение: уже год он и его коллеги — Прокофьев, Хачатурян, Шебалин и другие — находятся в «черном списке», а исполнение их музыки запрещено.
— Кто запретил? — прикинулся удивленным Сталин.
— Главрепертком (Главный репертуарный комитет), — ответил композитор и перечислил имена всех музыкантов, попавших в список, а также запрещенные произведения.
Сталин заявил, что впервые слышит о таких указаниях, и добавил:
— Мы займемся этим делом, товарищ Шостакович, и призовем к порядку товарищей цензоров.
Вскоре после этого разговора к Шостаковичу явилась целая бригада кремлевских врачей, которые действительно нашли у него ослабление организма. О результатах обследования сообщили секретарю Сталина Поскребышеву с просьбой передать эту информацию Сталину. Но Поскребышев отказался, и Шостаковичу, признанному совершенно здоровым, пришлось отправиться в поездку.
Курьезным следствием этой циничной игры является подписанное Сталиным постановление Совета министров от 16 марта 1949 года, № 3179р, состоящее из двух пунктов. В первом признано необоснованным распоряжение Главреперткома от 14 февраля 1948 года о «запрещении исполнения и снятии с репертуара ряда произведений советских композиторов», во втором предписывается «объявление выговора Главреперткому» за вышеупомянутое распоряжение.
Интерес Сталина к особе композитора не закончился на этом эпизоде. Вскоре у Шостаковича снова зазвонил телефон: на сей раз его соединили с Берией, а свидетелем разговора был Левон Атовмьян.
«Берия… сообщил, что по указанию Сталина композитору предоставляется новая, большая квартира, зимняя благоустроенная дача, автомобиль и деньги в размере 100 000 рублей. Шостакович начал было возражать: „Позвольте, у меня есть машина, с которой я сейчас с трудом справляюсь из-за бензина“. — „Откуда у вас машина?“ — „Мне выдали ее по наряду В. Молотова“. — „Но Молотов не подарил вам машину, а, видимо, продал ее“. — „Ну конечно, я за машину заплатил деньги“. — „Ну вот видите, а Сталин приказал не продать, а подарить машину вам“. Был спор и по поводу денег. Шостакович заявил, что он в состоянии заработать на жизнь и потому деньги ему не нужны, на что Берия возразил: „Но это же подарок! Если Сталин подарил бы мне свой старый костюм, я ни за что бы не отказался и поблагодарил бы его за этот подарок. Да и кроме того, деньги вам потребуются для переезда, обзаведения и на другие расходы“. <…>
Долго Нина Васильевна ездила… смотреть предлагаемые дачи, но были они весьма неудачные, к тому же летние. После долгих и мучительных поисков Нина Васильевна остановилась на даче в Валентиновке (недалеко от Болшева), благо здесь имелась просторная веранда, которую можно было утеплить. Правда, на благоустройство, в частности на утепление и постройку колодца, Шостаковичу действительно пришлось потратить 100 000 рублей, хотя… вместо обещанной он получил значительно меньшую сумму»[368].
Таким образом композитор вошел в состав делегации, в которой наряду с ним оказались писатели Александр Фадеев и Петр Павленко, режиссеры Сергей Герасимов и Михаил Чиаурели и два представителя науки — академики Александр Опарин (известный биохимик) и Николай Рожанский. Это был уже четвертый выезд Шостаковича за границу — свидетельство его необычайно привилегированного положения в государстве, функционеры которого считали своей обязанностью сделать невозможными какие-либо контакты своих граждан с внешним миром[369]. Подробный отчет об этой поездке Шостакович представил на страницах «Советской музыки» (1949, № 5), красочно описав заседания конгресса и вспоминая о многих приключениях, которые произошли во время пути и в самой Америке.
Делегаты вылетели с аэродрома «Внуково» 20 марта. Тогда еще не было прямого воздушного сообщения между Советским Союзом и Соединенными Штатами, поэтому пришлось путешествовать несколько дней, делая остановки в Берлине, Франкфурте-на-Майне и в Исландии. Первую однодневную остановку в Берлине заполнили встречи с немецкими артистами, в которых, впрочем, Шостакович не принимал живого участия. По его утверждению, он целый день плохо чувствовал себя из-за утомительного перелета. Тем не менее похоже, что пребывание в Берлине принадлежало к приятным, а возможно, даже самым приятным моментам всей поездки. Такое мнение кажется вполне понятным по крайней мере по двум соображениям: во-первых, в Берлине делегация находилась в секторе, занятом советскими войсками, и читатели «Советской музыки» не могли сомневаться относительно замечательных условий, господствовавших в этой части Германии; во-вторых, для необыкновенно впечатлительного и нервного композитора контакт с Западом действительно мог стать шокирующим и неприятным. Достаточно вспомнить, что, когда советская группа прибыла в западную зону, ее окружила толпа журналистов, довольно бесцеремонно требовавших интервью. «Как только наш самолет опустился на землю [во Франкфурте-на-Майне], — писал композитор, — на нас набросились репортеры и фотографы. <…>…Я совершенно не выношу этой фамильярности, когда к вам подходит незнакомый человек, больно хлопает вас по плечу и орет: „Hello, Shosty! Кого вы предпочитаете — блондинок или брюнеток?“» Подобные инциденты происходили с советской делегацией и во время пребывания в Соединенных Штатах.
В нью-йоркском аэропорту «Ла Гуардия» прибывших из Москвы встретили Норман Мейлер и Аарон Копленд, а затем русских разместили на окраинах города, вдали от центра, что, разумеется, затрудняло им контакты с другими делегациями.
Конгресс проходил с 25 по 27 марта. Организованный в Нью-Йорке под патронатом Национального совета искусств, наук и профессий, он привлек многих представителей науки, культуры и искусства. На второй день заседания Шостакович прочел восьмитысячной аудитории, собравшейся на секции музыки, поэзии, изобразительного искусства и хореографии, доклад о роли музыки в советском обществе и о ее воспитательном значении. В сокращенном виде доклад был опубликован 28 марта в «Нью-Йорк таймс». Выступление изобиловало лозунгами и нападками на Запад и Америку, но возникает предположение, что композитор даже не знал его содержания. Он обратился к слушателям по-русски, благодаря за приглашение, после чего лектор прочитал английский перевод доклада, а «докладчику» оставалось только нервно наблюдать за реакцией публики. Вызывающий тон этого заявления приводил в изумление. Речь шла об американских поджигателях войны, о холодной войне, о прогрессивной роли Советского Союза, о благодарности, которую композитор испытывает к партии за ее заботу о развитии советской музыки и за постановление 1948 года. Стравинский был осужден за измену родине и переход в реакционный лагерь модернистов. О Прокофьеве было сказано, что ему продолжает грозить опасность возвращения к формализму, если он не подчинится директивам партии.
После окончания речи Шостаковичу устроили бурную овацию. Энтузиазм собравшихся отчасти явился выражением симпатии к личности композитора, поскольку события 1948 года были в Америке известны и широко обсуждались. Однако в немалой степени он был обусловлен тем, что в зале находились в основном противники политики правительств Запада, а особенно Америки. Они выступали против атомного оружия, деятельности комиссии Маккарти и многих других явлений, которые наблюдали в своих странах. Незнакомые с ситуацией в государствах Восточного блока и в то же время не слишком склонные избавиться от иллюзий по поводу коммунистической утопии, они принимали декларацию советской пропаганды как подкрепление своей позиции. Малоуспешными были попытки показать им ошибочность столь наивных представлений о коммунистическом мире, предпринимавшиеся теми, кто видел, что на самом деле происходит в СССР. Во время конгресса это пробовал сделать русский эмигрант, композитор Николай Набоков.
«В десять часов утра было назначено заседание, на котором должен был выступить и Дмитрий Шостакович, — вспоминал позднее Набоков. — Я хотел идти только туда, и никуда больше. Вопрос, который я намеревался задать Шостаковичу, был простым и прямым, но для него весьма затруднительным. Я заранее знал, как он должен будет мне ответить, но этот прием помог бы прояснить, насколько он лишен свободы действий. <…> Мне казалось, это был единственный способ обнажить механизм русского коммунизма.
<…> Русские прибыли прямо к открытию заседания председательствующим, музыкальным критиком „Нью-Йорк таймс“ Оулином Даунзом. Четыре или пять человек окружили хрупкую фигуру Шостаковича, глядящего перед собой близорукими глазами. Публика и президиум встали, сердечно приветствуя русских. Шостакович и его спутник из КГБ заняли место слева от Даунза.
Заседание длилось долго и отличалось необыкновенным многословием.
Когда Шостакович, выступавший последним, закончил свою речь, я смог наконец задать свой вопрос:
— В таком-то номере „Правды“ появилась неподписанная редакционная статья. Она касалась музыки композиторов Пауля Хиндемита, Арнольда Шёнберга и Игоря Стравинского. В этой статье все трое названы мракобесами, декадентами, буржуазными формалистами и лакеями империалистического капитализма. По этой причине исполнение их музыки в Советском Союзе запрещено. Разделяете ли вы лично это официальное мнение, напечатанное в „Правде“?
На лицах русских появилось замешательство. Сидящий рядом с Даунзом явственно пробормотал:
— Провокация.
Переводчик из КГБ что-то шепнул на ухо Шостаковичу, тот встал, взял микрофон и сказал по-русски:
— Я полностью разделяю мнение, опубликованное в „Правде“»[370].
Советская делегация участвовала также в нескольких концертах. Еще перед началом конгресса Шостакович появился на концерте Леопольда Стоковского. В программу входила, между прочим, Трагическая увертюра Анджея Пануфника, горячо пропагандируемого Стоковским в Америке. В антракте делегация СССР была приглашена в артистическую, где Шостакович снова встретился с великим дирижером спустя почти двадцать лет. Однако они ограничились обычным обменом любезностями, несмотря на то что Стоковский с давних пор был верным почитателем музыки Шостаковича и дирижировал всеми его симфониями, кроме Второй и Четвертой.
Композитор посетил также камерный концерт, посвященный творчеству Бартока, и услышал его Первый, Четвертый и Шестой струнные квартеты. Он написал об этом в типичной для него лаконичной манере: «Мне не понравился четвертый квартет и очень понравился шестой. Это — отличное сочинение первоклассного мастера»[371].
Закрытие конгресса проходило в огромном зале Медисон-сквер-гарден. Там разместились восемнадцать тысяч участников, в то время как перед зданием две тысячи человек устроили демонстрацию протеста против конгресса. Шостакович был встречен горячими аплодисментами. Ему вручили подписанный двадцатью четырьмя выдающимися американскими музыкантами документ, в котором были такие слова: «Музыка — международный язык, и Ваше пребывание символизирует то, что она объединяет всех людей. Мы рады Вашему визиту еще и потому, что связываем с ним надежду на то, что подобный культурный обмен будет способствовать взаимопониманию наших народов и служить делу мира»[372]. Конгресс закончился поздно вечером, после чего Шостакович исполнил на рояле скерцо из Пятой симфонии, вновь вызвав бурю восторга у собравшихся.
Концертные организации запланировали проведение двух концертов, посвященных его творчеству: камерного в Вашингтоне и симфонического в Нью-Йорке. Однако они не состоялись, так как сразу же после упомянутой демонстрации советская делегация получила от американских властей предписание безотлагательно покинуть территорию США[373].
Реакция советской прессы была резкой. Несмотря на то что конгресс, по общему мнению, имел несомненный успех, газеты писали вместе с тем о терроризме в Соединенных Штатах и о преследовании правительством США всех, кто выступает в защиту мира. Впрочем, эти обвинения были в какой-то мере небеспочвенными: процветавший в то время «маккартизм» послужил тому, что советская делегация действительно не имела причин восхищаться американским гостеприимством.
На обратном пути не обошлось без приключений. В результате поломки самолета пришлось два дня ждать в Исландии следующего самолета, который из-за плохих метеорологических условий вместо Франкфурта полетел в Стокгольм. В Швеции неожиданных гостей встретили чрезвычайно приветливо. С особенной теплотой вспоминал Шостакович встречу со шведскими композиторами. «Я попал в довольно неловкое положение, когда меня спросили: „Кто ваш любимый шведский композитор?“ Я хотел было назвать Свендсена, но потом вспомнил, что он норвежец. Пришлось честно признаться, что не знаком со шведской музыкой. На другой день я нашел в своем номере несколько пластинок произведений шведских композиторов, которые я с интересом прослушал». В частных разговорах Шостакович обычно описывал этот эпизод еще более красочно: «Меня спросили, кто мой любимый шведский композитор. Так как я ни одного из них не знал, то ответил, что всех их безумно люблю».
В 1949 году были созданы два новых произведения: оратория «Песнь о лесах» и музыка к кинофильму «Падение Берлина», едва ли не самое яркое отражение эстетики периода культа личности. Оба произведения глубоко связаны с традицией, в них сильно чувствуется влияние фольклора, но и здесь дает о себе знать индивидуальность Шостаковича. Некоторые фрагменты «Песни о лесах» заставляют вспомнить лучшие страницы его симфоний; например, начало третьей части оратории («Мы не забыли горькой доли») ассоциируется с началом Пятой и Восьмой симфоний. Особого внимания заслуживает превосходная фуга из последней, седьмой части («Слава»), Композитор создал в ней интересный сплав строгой, классической полифонической формы и мелодико-гармонического материала, близкого русскому фольклору. Эта фуга, строфическая тема которой опирается на оригинальный метр ⅞, — свидетельство громадных познаний о возможностях контрапункта, доказательство мастерства в оперировании большим вокально-инструментальным аппаратом. Но в «Песни о лесах» есть и малоиндивидуальные, художественно неубедительные моменты, например, банальная ария тенора «Будущая прогулка» или написанный в стиле массовой песни хор «Сталинградцы выходят вперед». В крайних частях особенно слышен помпезный, поверхностный пафос, присущий почти всем вокально-инструментальным произведениям тех лет, созданным в Советском Союзе и в так называемых странах народной демократии. Однако эта черта была желательна и даже ожидаема от культурных диссидентов, поэтому Шостакович намеренно пошел навстречу официальным требованиям.
В «Песни о лесах» и музыке к «Падению Берлина» Шостакович использовал типично пропагандистскую и совершенно бессодержательную поэзию Евгения Долматовского. Последний делал свою карьеру, производя до невозможности конъюнктурную продукцию. С Шостаковичем его сблизил случай: однажды ночью в 1948 году они ехали в одном купе спального вагона из Москвы в Ленинград. Непонятно каким образом композитор дал себя окрутить молодому карьеристу, и вскоре появились оба упомянутых сочинения, а в дальнейшем и несколько других, всегда второстепенных и малоинтересных.
Оба произведения давали композитору возможность хотя бы частично реабилитироваться. Но, для того чтобы это произошло, творения Шостаковича должны были быть представлены специальной комиссии Союза композиторов на так называемом прослушивании. Поэтому Шостакович однажды сыграл ораторию своим коллегам. Как нетрудно было предвидеть, критики, помнившие недавнее партийное постановление, не слишком спешили с позитивной оценкой. Тем не менее тон высказываний был скорее благоприятным, хотя всячески подчеркивались слабые стороны произведения. Композитор Николай Пейко, присутствовавший на прослушивании, рассказал автору этой книги о его ходе. После исполнения оратории Шостакович остался возле рояля, ожидая решения, а собравшиеся все дискутировали и дискутировали. Когда наконец было установлено, что «Песнь о лесах» — это существенное достижение автора на пути к преодолению формалистических тенденций, композитор Владимир Фере предложил:
— Может быть, в связи с положительными изменениями в стиле Шостаковича возобновить трансляцию по радио некоторых его произведений?
Хренников тут же возразил:
— Нет! Не будем забывать, что Шостакович принадлежит к группе формалистов, а одним из свойств формалистов является то, что они, вместо того чтобы обращаться к народу, глядят только на собственный пупок!
В этот момент Шостакович, словно бы нечаянно, расстегнул нижние пуговицы рубашки и какое-то время пристально всматривался в свой живот.
Положительная оценка «Песни о лесах» позволила допустить ее к исполнению. Это произведение и созданная годом позже оратория Прокофьева «На страже мира» стали в дальнейшем образцом ораториально-кантатного творчества для других композиторов и открыли в советской музыке период небывалого развития этого жанра. Среди воспеваемых композиторами тем преобладали: борьба за мир, Октябрьская революция, величие Сталина, героизм военных лет, работа в колхозах и т. п. Возникло бесчисленное количество сочинений, концертная жизнь которых чаще всего заканчивалась после нескольких исполнений. Это направление процветало до середины 50-х годов, хотя и позднее еще появлялись произведения в таком роде. К последним принадлежала Патетическая оратория Георгия Свиридова, написанная в 1959 году на стихи Маяковского. Шостакович с досадой вспоминал о своем бывшем ученике: «Я написал „Песнь о лесах“… под нажимом, но его-то никто не заставлял писать Патетическую ораторию»[374].
Премьера нового произведения Шостаковича прошла 15 декабря 1949 года в Ленинграде, оркестром и хором Ленинградской филармонии дирижировал Евгений Мравинский. Уже после концерта разгорелась страстная дискуссия: одни музыканты утверждали, что это не «настоящий Шостакович», и осуждали чрезмерный, по их мнению, отход от прежнего стиля, в то время как другие хвалили простоту оратории и ее ясное, логичное построение. Присутствовавший в зале Шебалин прошептал одному из своих соседей: «Бедный Митя, должно быть, очень напуган (чтобы сочинить такое. — К. М.)!» По рассказам Гликмана, Шостакович не выносил «Песнь о лесах»; как-то раз он сказал своей ученице Эльмире Назировой: «Я сел ночью и в течение нескольких часов накатал что-то „левой рукой“. Когда принес написанное, к моему удивлению и ужасу, мне жали руки и дали денег»[375].
На III пленуме Союза советских композиторов Хренников заявил: «Мы с большим интересом ожидали исполнения оратории Д. Шостаковича „Песнь о лесах“, посвященной великому сталинскому плану преобразования природы нашей страны. Исполнение этого первого крупного вокального произведения Шостаковича убедило в том, что автору удалось простыми музыкальными средствами воплотить основную идею произведения. Оратория Шостаковича отличается оптимизмом, светлым восприятием мира, утверждением радости созидательного социалистического труда. Это произведение — свидетельство глубокой творческой перестройки композитора, его решительного перехода на новый, реалистический путь. Шостакович приблизился к источникам русской классической и народной музыки. Однако при всей значительности этого произведения следует сказать и о его недостатках, выраженных, прежде всего, в некоторой скованности мелодической песенной линии, излишнем лаконизме в развитии музыкальных образов»[376].
А вскоре и сам Шостакович, в очередной раз публично произнося слова, которые были ему абсолютно чужды, но которые очень хотела услышать из уст своего ведущего композитора власть, так охарактеризовал позицию художника в своей стране:
«Партия воспитала в советских людях собственные, советские критерии оценки вещей и явлений. Задачи художественного творчества стали благородными и сложными, как никогда прежде. Только великие произведения искусства могут должным образом воссоздать деяния сталинской эпохи и величие нашего времени. Отсюда все более высокие требования, которые предъявляет искусству наш народ. Недаром такой широкий отклик нашли указания партии относительно ошибок писателей и композиторов. Для нашего восприимчивого и любящего музыку народа эти указания стали самым верным критерием оценки. Советские критерии оценки искусства стали еще глубже и применяются еще более целенаправленно и неукоснительно. Наше искусство начало приносить все более замечательные плоды.
Я имел случай глубоко почувствовать огромную разницу между советским человеком и дельцами капиталистического мира, между страной социализма и страной „долларовой демократии“. Во время моего пребывания в Америке я был несказанно горд тем, что представляю великий народ и самое прогрессивное искусство на свете. Советское искусство отличается высоким идейным уровнем, оно проникнуто глубоким гуманизмом. Неисчерпаем его оптимизм, благородны его цели, совершенной должна быть художественная форма.
Великая Октябрьская социалистическая революция заставила деятелей искусства пересмотреть свое творчество, отказаться от многих старых воззрений. Большевистская партия считала одной из главных задач социализма создание изобилия культурных ценностей и призывала представителей искусства приумножать духовное богатство народа, жить его жизнью. Таким образом созданы великолепные условия для того, чтобы художник выражал в своих произведениях самую возвышенную идею современности. <…>
Выполняя задачу обогащения народа ценными произведениями искусства, которые он заслужил и которых ждет, советские художники пользуются постоянной помощью партии. Именно партия и великий Сталин указали нам, композиторам, что отклонение от дороги служения народу приводит художника к идейному и творческому краху»[377].
Глава двадцатая 1950–1954
Баховские торжества. — Прелюдии и фуги. — Смерть Сталина. — Десятая симфония
В 1950 году весь музыкальный мир отмечал 200-ю годовщину смерти Иоганна Себастьяна Баха. С особым размахом этот праздник проходил в недавно образованной Германской Демократической Республике, главные торжества в Лейпциге длились с 23 июля по 11 августа. Им предшествовал Международный баховский конкурс молодых пианистов, скрипачей, певцов, клавесинистов и органистов. В рамках празднеств было организовано много концертов, состоялись также конгресс музыковедов и торжественное перенесение останков великого кантора в подземелье церкви Святого Фомы.
Лейпцигские празднества проходили под явным влиянием атмосферы холодной войны, царившей тогда в Европе, и потому были явлением не столько художественным, сколько политическим. В них приняли участие высшие партийные и государственные власти ГДР во главе с Вильгельмом Пиком, Отто Гротеволем и Вальтером Ульбрихтом. Выступление президента Пика изобиловало невыносимо шаблонными фразами о «Бахе — глашатае мира», о «гуманистической позиции народов Советского Союза», о «фашистских варварах, пытавшихся стереть память о великих русских композиторах», об упадке культуры в Западной Германии.
В этой тяжелой атмосфере агрессии и беззастенчивой пропаганды Дмитрий Шостакович оказался в качестве одного из членов советской делегации, состоявшей из 27 человек. Его второе посещение ГДР было значительно более продолжительным. Он был членом жюри конкурса, принимал участие во всех торжествах и концертах и, как обычно, проявлял живой интерес к творчеству современных композиторов. Он также выступил с докладом, посвященным Баху и напечатанным позднее в нескольких немецких журналах, сказав, в частности, следующее:
«Музыкальный гений Баха мне особенно близок. Мимо него невозможно пройти равнодушно; его музыку я всегда слушаю с большой пользой и огромным интересом. Многие его произведения я слышал множество раз. И всякий раз открываю в них новые прекрасные места. В моей жизни Бах занимает важное место. Каждый день я играю одно из его произведений. Это моя насущная потребность, и постоянный контакт с музыкой Баха дает мне чрезвычайно много»[378].
Во время фестиваля Кирилл Кондрашин исполнил Первую симфонию Шостаковича, а затем обстоятельства неожиданно повернулись так, что композитору пришлось выступить в качестве пианиста.
Для завершения фестиваля был намечен Концерт для трех фортепиано Баха в исполнении Марии Юдиной, Татьяны Николаевой (новоиспеченного лауреата первой премии лейпцигского конкурса) и Павла Серебрякова под управлением Кондрашина. Однако перед самым концертом Юдина поранила палец и не смогла играть. Шостакович согласился принять участие в концерте, хотя прежде никогда не исполнял это произведение, а в Лейпциге у него не нашлось ни минуты на подготовку. Позднее Кондрашин вспоминал:
«На сцене рояли стояли хвостами в публику со снятыми крышками, а оркестр располагался сзади полукругом. Предварительные фортепианные и оркестровые репетиции прошли благополучно, но на генеральной произошла маленькая заминка: в третьей части каждый пианист по очереди играет сольную инвенцию, после которой следует интерлюдия оркестра. Дмитрий Дмитриевич в своей слегка запнулся, но повторил два такта и закончил благополучно.
Вечером перед концертом, отозвав меня в сторонку, он сказал:
— Кирилл Петрович, я ошибся в своем соло на репетиции и очень волнуюсь. Разрешите, Павлуша Серебряков сыграет обе инвенции — и мою, и свою. Ведь все равно рояли стоят хвостами в публику и никто не видит, кто из солистов играет.
Я, конечно, согласился. На концерте П. А. Серебряков отлично сыграл за Дмитрия Дмитриевича инвенцию, но в своей собственной запутался и даже на мгновение остановился. После концерта я увидел Дмитрия Дмитриевича, стоящего в углу, нервно протирающего очки.
— Что с вами, Дмитрий Дмитриевич? — испугался я.
— Какая обидная накладка. Как мне неловко!
— Но вы-то тут при чем?
— Ну как же! Ведь я подвел товарища, которому пришлось волноваться за оба сольных места, а публика-то даже не знает, что он выручал меня!»[379]
В разговоре с немецкими коллегами Шостакович не скрывал своего восхищения «Хорошо темперированным клавиром» Баха и намекнул, что стоило бы отважиться на попытку продолжить, как он сказал, «эту фантастическую традицию». Немецкие композиторы выразили сомнение, что в XX веке написание аналогичного цикла прелюдий и фуг вообще возможно, не предполагая, что в недалеком будущем это выпадет как раз на долю Шостаковича. Ибо он уже тогда решил создать какое-нибудь произведение в честь великого кантора.
Вначале он планировал сочинить полифонические упражнения для совершенствования композиторского мастерства, по типу подобных же работ Римского-Корсакова и Чайковского. Но вскоре он изменил свое намерение и решил написать 24 прелюдии и фуги для фортепиано, и именно по образцу «Хорошо темперированного клавира». Вернувшись на родину, в период с октября 1950-го по февраль 1951 года Шостакович сочинил огромный двухчастный цикл (в каждой части по 12 прелюдий и фуг), написанный, по его собственному объяснению, не как циклическое произведение, а как серия произведений, тематически между собой не связанных.
Прием Прелюдий и фуг оказался отнюдь не единодушным. Впервые Шостакович сыграл их на двух заседаниях симфонической секции Союза композиторов 31 марта и 5 апреля 1951 года. Сохранились два воспоминания очевидцев этого события. Александр Яцковский, находившийся в то время в Москве член польской правительственной делегации, много лет спустя описывал дело так: Г. Хубов «…спросил, не хотел бы я услышать, как Шостакович играет свой новый цикл — 24 прелюдии и фуги. <…> Мы с ним договорились, его знали, а потому и меня пропустили в зал. Публики не было, поскольку трудно считать публикой партийно-союзную комиссию.
Вышел Шостакович, бледный. Сел за рояль и взглянул на Хубова. Тот кивнул головой. Шостакович начал. Я чувствовал напряжение во всем его поведении, а не только в игре. <…> Потом наступил перерыв. Композитор уселся в первом ряду. Один, совершенно один. Никто к нему не подошел. Поведение зала скорее соответствовало суду над преступником, чем премьере произведения великого музыканта. Я чувствовал себя ужасно. Зал молчал, Хубов сидел неподвижно, искоса глядя на других, более важных персон. Что они скажут? Как насупят брови?
<…> После второй части началось обсуждение, а скорее, суд. Он — одинокий в первом ряду, вершители судеб — где-то в середине зала, остальные слушатели — в его конце. Началось с удивления: это должен был быть наш, современный Бах, то есть музыка для народа. А вместо этого мы слышим произведение авангардистское, сложное. „Для кого это, товарищ Шостакович?“
Другие выступления были подобны этому — критические, сдержанные, с лицемерными вздохами: „Не того мы от вас ждали…“ Наконец попросила слова полная пожилая женщина. „Кто это?“ — спросил я у Хубова. Юдина! Смело, страстно она начала защищать произведение: „Это гордость для нас, — сказала она, — иметь возможность играть эти чудесные прелюдии. Их будут исполнять пианисты всего мира“. Ее поддержала Татьяна Николаева.
Я вышел униженный, это было страшно, несмотря на этих мужественных, отважных женщин. На Хубова я смотреть не мог»[380].
Даниэль Житомирский поделился своими впечатлениями в письмах к жене: «Вчера в Союзе композиторов Шостакович в первый раз играл свои новые Прелюдии и фуги, то есть первую половину цикла. Естественно, зал был переполнен. Царила напряженная атмосфера. Его игра была исключительно плохой (позже он мне сказал по телефону, что его мучили ужасные боли в желудке), зато сама музыка отчасти складывалась из великолепных произведений. Кое-что в этой музыке было неясно, кое-что другое опять-таки так плохо сыграно, что трудно было составить о ней какое-то мнение» (письмо от 1 апреля 1951 года). И через неделю: «Вчера в том же зале Шостакович исполнил вторую половину своего цикла. Он был в наилучшей форме, и его игра тоже была очень ровной. Снова целый океан замечательной музыки. Когда он закончил, зал устроил ему овацию. Однако „начальство“ продолжало кривить физиономию, хотя среди фуг были даже и такие, темы которых (как я узнал позднее) опираются на подлинные русские народные мелодии…» (письмо от 6 апреля)[381].
16 мая завязалась острая дискуссия, в которой приняли участие композиторы, музыканты-исполнители, критики и музыковеды. Большинство из них предъявляли автору обвинения в возврате к формализму и декадентству, а некоторые фуги (например, Des-dur) прямо называли обыкновенной какофонией. Композитора обвиняли также в отходе от современной тематики («Зачем повторять „Хорошо темперированный клавир“?»). Среди резко критикующих оказались Мариан Коваль, а также Кабалевский, Нестьев, Скребков и некоторые другие. Лишь немногие защищали новый опус Шостаковича — прежде всего его ученики (Свиридов, Левитин) и пианисты (Юдина, Николаева). Споры длились еще много месяцев и затихли только тогда, когда Татьяна Николаева, которая с воодушевлением разучивала Прелюдии и фуги еще во время их создания, завоевала большой успех, впервые исполнив весь цикл в двух концертах.
В 24 прелюдиях и фугах композитор реализовал идею пересадки баховской фуги на почву собственного музыкального языка — начиная с почти чистой стилизации (Прелюдия cis-moll) и вплоть до тотального хроматизма, где тональность оказывается уже чисто условной (Фуга Des-dur).
Не все произведения сборника имеют одинаковую ценность и не во всех в равной мере сохраняются черты стиля Шостаковича. Некоторые из них, к примеру Прелюдии C-dur и Fis-dur, представляют собой образцы архаизации, понимаемой поверхностно и неубедительно; однако таких менее удачных сочинений немного и они не умаляют значения целого. В сборнике есть пьесы глубоко драматические и полные пессимизма (потрясающая Прелюдия b-moll или Фуга h-moll), пьесы, отличающиеся специфическим шостаковинским юмором (Прелюдия H-dur, Фуга B-dur), гротескные (Прелюдия fis-moll, Фуга As-dur), лирические (Прелюдия f-moll, Фуга g-moll), спокойные (Прелюдия F-dur, Фуга A-dur), близкие к русской традиции (Прелюдия c-moll, Фуга d-moll) и опирающиеся на интересные собственные лады Шостаковича (Фуги As-dur и Es-dur). Им свойственны также большие пианистические достоинства — сразу чувствуется, что их создавал виртуоз.
В цикле явно заметна удивительная стилистическая непоследовательность. Иногда рядом с откровенно традиционными миниатюрами (Прелюдия Fis-dur) появляются произведения очень новаторские и нетрадиционные (Фуга Des-dur). Отдельные пьесы весьма характерны для стиля раннего Шостаковича (например, Прелюдия fis-moll), другие же приближаются к непосредственно предшествующим сочинениям (например, к «Песни о лесах»), где оригинальность композиторской мысли не столь очевидна (Фуга C-dur). Богатый инструментальный колорит (Прелюдия E-dur) сочетается с сухой, «графической» полифонией (Фуга a-moll), ощущается то непосредственное обращение к баховской фактуре (Прелюдия cis-moll), то к миру драм Мусоргского (Прелюдия es-moll).
Однако прежде всего полифонический сборник Шостаковича — это произведение, глубоко связанное с русской традицией. Национальное начало уже неоднократно проявлялось в его музыке, а здесь оно особенно ярко заявляет о себе благодаря специфическому применению модальности. Прелюдии и фуги создает не традиционная для западноевропейской музыки мажоро-минорная гармония, а лады, встречающиеся в русской народной и духовной музыке, с помощью которых в XIX веке добивались таких замечательных эффектов представители «Могучей кучки», в особенности Модест Мусоргский. Стремление Шостаковича к тесным связям с традицией легко объяснимо, если принять во внимание период, когда создавалось это, несомненно, самое значительное после 1948 года произведение. Любые смелые поиски грозили резкой критикой, с которой, впрочем, и так встретились некоторые прелюдии и фуги, отличающиеся необычным языком и менее связанные с прошлым.
Новое сочинение выдержало испытание временем, вошло в репертуар многих пианистов, как советских, так и зарубежных. Оно имело огромное значение и для самого Шостаковича, композиторская работа которого после 1948 года ограничивалась почти исключительно выполнением навязанных ему и губительных для его искусства требований, бесспорно, тормозивших его творческое развитие в течение ряда лет. С момента принятия постановления об опере «Великая дружба» из-под его пера выходили такие произведения, как «Песнь о лесах», песни на малосодержательные стихи Долматовского, а в основном музыка к пропагандистским кинофильмам — «Мичурин», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Белинский», «Незабываемый 1919 год». Кирилл Кондрашин вспоминал, что вскоре после событий 1948 года Шостакович, которого коллеги спросили, над чем он сейчас работает, с горечью ответил: «Я сейчас для фильма пишу музыку. Неприятно, что приходится это делать. Я вам это советую делать только в случае крайней нищеты, крайней нищеты»[382].
И только для себя, порой без всяких надежд на исполнение, композитор создавал творения, имеющие непреходящую ценность. Наряду с уже упоминавшимися Еврейскими песнями и Скрипичным концертом можно назвать прекрасный Четвертый струнный квартет (1949), так же, как и эти два сочинения, опирающийся на мелодику еврейской музыки, и два романса на слова Лермонтова (1950; впервые исполнены только после смерти автора). В дальнейшем список произведений, написанных «в стол», пополнили родственные Прелюдиям и фугам Четыре монолога на слова Пушкина и одно из лучших камерных сочинений Шостаковича — Пятый струнный квартет (оба произведения появились в 1952 году). Для окружающих же Шостакович был прежде всего композитором, вовлеченным в политические дела и использующим музыкальный язык, который, по мнению многих музыкантов, лишь в незначительной степени был связан с его прежними, лучшими работами.
Наступил 1953 год. Он не обещал никаких перемен к лучшему, так что ближайшее будущее Шостаковича, как и ряда других советских музыкантов, не располагало к оптимизму. Террор, бушевавший по всей стране, достигал размаха, напоминающего вторую половину 1930-х годов. Еще 13 января 1948 года сотрудники Министерства госбезопасности Убили в Минске великого еврейского актера Соломона Михоэлса. Чтобы придать его смерти видимость несчастного случая, тело подложили под колеса грузовика, а затем привезли в Москву, где организовали торжественные похороны. Зять Михоэлса, находившийся с Шостаковичем в дружеских отношениях композитор Моисей Вайнберг, был арестован. Шостакович писал письма к Берии, хлопотал об освобождении талантливого коллеги, но безуспешно.
В рамках идеологического образования композиторов были введены обязательные курсы, посвященные «научной деятельности» Сталина. Через много лет друг композитора Исаак Гликман вспоминал:
«…К нему был направлен домой для „инструктажа“ педагог. <…> Я как раз жил у Дмитрия Дмитриевича, когда он не без волнения ожидал прихода наставника.
В назначенный час раздался звонок и в кабинете появился человек почтенного возраста, старавшийся, как мне показалось, расположить к себе неофита Шостаковича. Однако беседа на общие темы не клеилась. Разговор о погоде быстро исчерпал себя. <…>
Дмитрий Дмитриевич с подчеркнуто серьезной миной на лице приготовился слушать наставления и рекомендации непрошеного гостя, который в полной мере осознавал всю важность возложенной на него миссии. <…> Конечно, Шостакович — композитор знаменитый, но он совершил большие идейно-творческие ошибки. Для того чтобы ошибки не повторялись, необходимо поднять его идеологический уровень, чему он — наставник — будет всячески споспешествовать. Визитер внимательно оглядел кабинет, похвалил его устройство и затем в мягкой форме, даже с виноватой улыбкой выразил удивление по поводу того, что не видит на стенах кабинета портрета „товарища Сталина“. <…> Удивление прозвучало как упрек. Дмитрий Дмитриевич смутился, начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретет портрет „товарища Сталина“. <…>
„Ну, вот и хорошо. А теперь приступим к делу“, — сказал умиротворенный наставник. <…>
По окончании визита мы обсуждали неожиданную ситуацию. Дело в том, что Шостаковичу было вменено в обязанность время от времени показывать наставнику конспекты изучаемых им трудов»[383].
В начале года с большим размахом была развязана антисемитская провокация, известная как «дело врачей», которая, вероятнее всего, должна была стать началом чисток среди членов правительства. По всей стране прокатилась волна собраний с осуждением кремлевских «врачей-убийц». В этой антисемитской истерии особенно деятельное участие приняли писатели, ученые и другие представители культуры. «Литературная газета», редактором которой был известный писатель Константин Симонов, опубликовала кровожадную статью под названием «Убийцы в белых халатах». На собрании Президиума Академии наук СССР почтенные академики требовали смертной казни для всех арестованных. В стране повсеместно оскорбляли евреев и при удобном случае били их. Больные не хотели лечиться у врачей-евреев. заявляя, что они — отравители, некоторые писали доносы; многих врачей еврейского происхождения уволили из больниц. Сталин лично занимался «делом врачей». Драма должна была разыгрываться в несколько этапов. Первый — судебный процесс, полное признание осужденными своей вины и вынесение приговора. Следующий этап — публичная казнь через повешение на Лобном месте на Красной площади в Москве. Кульминационной частью должны были стать еврейские погромы и депортация евреев по всей стране.
«И вот наступило то памятное утро, памятное и для Шостаковича.
С шумом отворились двери в квартиру, послышались быстрые шаги: кто-то приблизился к кабинету и вошел без стука. Шостакович, писавший партитуру, застыл в испуге. Все знали, что его нетрудно испугать или взволновать и что он не выносил, когда прерывали его работу. Со страхом он смотрел на дверь: уж не милиция ли? Многие годы это было его первым вопросом, первой мыслью. Его не отпускал ужас 1936–1937 годов, когда забирали множество людей, чаще всего среди ночи. Наконец он понял, что особа, так испугавшая его своим вторжением, — не кто иной, как его дочь Галина. Он с упреком посмотрел на семнадцатилетнюю девушку.
— В чем дело? — спросил он более или менее приветливо, заметив, что она запыхалась.
— Сталин умер… я сейчас слышала… у дома люди говорили, которые снег убирают… и уроков сегодня не будет, — выпалила дочь, все еще с трудом переводя дух после стремительного подъема на пятый этаж, и стряхнула с шапки снег.
Шостакович молча смотрел на нее. Ему понадобилось много времени, чтобы вполне осознать эту новость, хотя она и не была такой уж неожиданной. В течение пяти дней по радио и в газетах публиковались официальные медицинские бюллетени о состоянии здоровья тяжело больного семидесятичетырехлетнего тирана. Этим утром, 6 марта 1953 года, в 4 часа 7 минут московское радио сообщило о его смерти, наступившей накануне вечером в 21 час 50 минут. Шостакович не слышал этого сообщения. Теперь, зажигая папиросу и не в силах унять дрожь в пальцах, он беззвучно спросил, словно бы сразу не понял:
— Так ты говоришь, Сталин умер?
— Да! — почти выкрикнула Галина.
Она подошла к отцу и обняла его. Дочь знала, как должна была взволновать его эта новость. Знала и то, как сильно отец боялся Сталина. Мать рассказывала ей, что тогда, в 1937 году, он каждый день ждал ареста.
— Значит, теперь все изменится? — спросила Галина с детским любопытством.
Шостакович покачал головой и чуть слышно сказал:
— Будем надеяться»[384].
Но вновь (и за многие годы это уже стало правилом) личные ощущения композитора резко разошлись с его официальной позицией. В апрельском номере «Советской музыки» появился раздел «Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества» с публикацией высказываний нескольких композиторов, в том числе Шостаковича. В его статье под названием «Следовать мудрым указаниям партии Ленина-Сталина», в частности, говорилось: «Пройдут тысячелетия, сотрутся в памяти людей многие события быстротекущей жизни, но имя Сталина, дело Сталина будут жить вечно. Сталин, как и Ленин, бессмертен. <…> Иосиф Виссарионович любил и замечательно хорошо знал музыку». Такое поведение было очень характерным для композитора, о чем позже вспоминал Мстислав Ростропович: «…Шостакович… выступил — „да, партия, правительство меня учат“. А мне сам говорил: „Вы понимаете, это невозможно дышать, невозможно жить здесь“»[385].
Вскоре после этих событий Шостакович вернулся к симфонизму. Чтобы до конца понять значительность этого факта, следует уяснить, какую роль играл в его творчестве жанр симфонии. Когда в 1936 году была ошельмована и на долгие годы исчезла из репертуара «Леди Макбет», это означало для композитора окончательное расставание с оперой, хотя и «Нос», и «Леди Макбет» доказывали, что он был прямо-таки создан для этого жанра. С тех пор главным и важнейшим средством высказывания стала для него симфония. Подобно Малеру, он понимал ее как «целый мир». Начиная с Пятой, очередные произведения появлялись с двухлетней периодичностью. Будучи прирожденным драматургом, композитор переносил театральные элементы на почву симфонической музыки, потому что логические и часто весьма сложные конструкции его симфоний были лишь средствами, служащими выражению глубоко эмоционального и трагического содержания. Для музыкальной культуры Запада сочинения Шостаковича были только замечательным явлением русского симфонизма XX века, имеющим прочные корни в традициях национальной школы. Русскому же слушателю, привыкшему к программно-эмоциональному восприятию музыки, симфонии Шостаковича говорили значительно больше. А для композитора внешние обстоятельства, пусть даже с виду идеально соответствующие содержанию музыки, служили лишь поводом, поскольку в действительности внемузыкальная программа его симфоний была гораздо более универсальной.
Во времена военной трагедии и попрания человеческого достоинства симфонии Шостаковича служили символом правды и независимого мышления. Композитор, как никакой другой деятель искусства, стал совестью поколений, живущих в аду сталинизма. Много раз униженный, обвиненный во всех возможных грехах, включая очернение своей родины (в 1930-х годах одна из киевских газет сообщала: «В наш город приехал известный враг народа, композитор Шостакович»), он своей музыкой передавал страдание, произвол, насилие, гнев, борьбу добра со злом, надежду. После 1948 года создавать симфонии стало слишком рискованным, поэтому мир его чувств нашел свое отражение в произведениях других жанров — в Скрипичном концерте, Еврейских песнях, Четвертом квартете, в некоторых прелюдиях и фугах.
Таким образом, возвращение к опальному жанру через восемь лет явилось очень значительным шагом. Новая симфония, хотя и лишенная литературной программы, должна была стать произведением исключительного эмоционального накала, почти театральным в драматургическом плане. Она оказалась своеобразным — и в творчестве Шостаковича уже последним — сведением счетов со сталинизмом, подчас на грани иллюстративности, как это происходит во второй части, которая, по словам композитора, была призвана служить музыкальным портретом преступного тирана.
Поначалу произведение давалось композитору нелегко. 27 июня он сообщал своему бывшему ученику Кара Караеву: «Пытаюсь писать симфонию. Хотя мне и никто не мешает работать, однако работа идет посредственно. Когда „творческая потенция“ находится на высоком уровне, тогда ничего не мешает сочинять. А когда на среднем или на нижнем, то ни Дома творчества, ни прочие удобства не могут помочь. <…> Пока с трудом дотягиваю первую часть, а уж как дальше пойдет, не знаю»[386].
Первую часть Шостакович закончил только 5 августа, после чего продолжал работу, хотя по-прежнему не был удовлетворен ее результатами. В течение двадцати с небольшим Дней он завершил следующую часть — Скерцо и тем не менее написал И. Гликману: «Мало двигаю вперед симфонию, хотя вчера закончил вторую часть, коей недоволен»[387]. В написанном на следующий день письме к своей бывшей ученице Эльмире Назировой Шостакович жаловался: «Вероятно, мои силы, включая мои композиторские способности, на исходе. Ничего не поделаешь. Таков закон жизни, такова судьба…»[388]
Первые две части новой симфонии рождались в тишине и покое на даче в Комарове, вторая половина произведения — после перерыва — создавалась в Москве.
Начальная часть (Moderato) построена на трех разных темах, первая из которых выполняет роль ведущей (примеры 27, 28, 29):
Постоянное оперирование темными красками создает настроение пессимистическое и подавленное; это один из наиболее типичных примеров трагизма, игравшего с тех пор в музыке Шостаковича все большую роль. Длительно развертывающиеся темы, нарастание напряжения на протяжении всей разработки вплоть до генеральной кульминации — все это, как и в Восьмой симфонии, становится подытоживанием его прежнего композиторского опыта.
За развитой, длящейся свыше двадцати минут первой частью, построенной на трех разных темах, следует самое короткое из всех скерцо Шостаковича (около четырех минут), основанное на захватывающих ритмах, которое заставляет вспомнить «Чудесного мандарина» Бартока. Первая тема является парафразой одной из тем «Бориса Годунова» Мусоргского.
Вторая тема не вносит контраста, а служит как бы продолжением первой. В целом, с небольшими исключениями, композитор пользуется всем оркестровым аппаратом в динамике fortissimo. Оригинальная гармония, опирающаяся на собственные лады Шостаковича, интересные ритмические сдвиги, «агрессивная» оркестровка, необычайная внутренняя энергия — все это создает музыку волнующую и глубоко индивидуальную.
В одной из тем третьей части композитор применяет мотив, образованный из звуков D-Es-C-H, которые составляют музыкальные инициалы его имени в немецком написании — D. Sch. Позже он еще не раз использует этот мотив, главным образом в автобиографическом Восьмом струнном квартете. В третьей части Десятой симфонии появляется и другая характерная, исполняемая валторной соло тема Е-А-E-D-A, или E-l(a)-mi-r(e)-a, — в ней зашифровано имя бывшей ученицы Шостаковича Эльмиры Назировой, которой композитор в тот период оказывал большое внимание[389]. По характеру эта часть близка первой, в частности благодаря цитированию начальной темы Moderato, только она, пожалуй, более сжата и более прозрачна по звучанию.
Пессимистическое настроение рассеивается лишь в финале. Шостакович создал здесь музыку безмятежную, простую и полную юмора, тематика которой явно обращена к классическому русскому симфонизму (прежде всего Бородина). Оптимистический финал близок по характеру к завершению Девятой симфонии и становится как бы развязкой всех конфликтов предыдущих частей.
Еще до окончания Десятой композитор сообщил о работе над ней Евгению Мравинскому, для которого факт рождения новой симфонии, первой после известных событий 1948 года, был одновременно неожиданным и радостным. 29 сентября знаменитый дирижер приехал в Москву, чтобы встретиться с композитором и поговорить о еще незаконченном произведении. В своих заметках он день за днем описывал процесс постепенного изучения партитуры, выражаясь о ней не иначе как в превосходных степенях. А когда 17 декабря 1953 года прошла премьера этого сочинения, ленинградские слушатели стали свидетелями не только ошеломляющего успеха ведущего советского композитора, но и исполнительского мастерства Евгения Мравинского и филармонического оркестра с берегов Невы.
Вскоре после ленинградской премьеры Десятая симфония прозвучала в Москве. Предусмотрительности Мравинского Шостакович был обязан тем, что это произведение не встретило немедленного официального осуждения.
«…Перед премьерой в Москве, — рассказывал Мравинский, — которая должна была состояться 28 декабря, в канун 1954 года, стало ясно, что готовится шельмование и этого сочинения, как якобы пессимистического, чуждого реализму, что может произойти дезинформация руководящих инстанций. Что предпринять?
<…>
И тогда я решился. Попросил о приеме у тогдашнего министра культуры Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко. Мне ответили, что в предновогодние дни он очень занят, проходит какое-то важное совещание. Я настаивал. И в конце концов он назначил мне день и час. Я подготовил 16 вопросов, 16 „почему?“, которые должны были доказать несправедливость по отношению к ряду сочинений и композиторов.
Пономаренко записал все вопросы в блокнот и спросил: „Чего вы хотите?“
Я ответил: „Прошу вас прийти на концерт и послушать симфонию“.
В день премьеры звонит мне в гостиницу заведующий Большим залом консерватории и говорит: „Союз композиторов просит 300 билетов“. И назвал некоторые имена тех, кто просили: это были недруги Шостаковича. Я сказал: „Немедленно продайте все билеты через кассу публике“.
Министр пришел на премьеру. А на следующий день к нему явилась делегация композиторов убеждать в том, что возродился формализм. Пономаренко сказал: „Я слушал эту симфонию, и она мне понравилась“.
Композиторы, не отличавшиеся принципиальностью и привыкшие следовать за начальством, ретировались»[390].
Однако разногласий по поводу симфонии избежать не удалось. В печати появились многочисленные рецензии — от самых положительных до в высшей степени критических. Пожалуй, только «Леди Макбет Мценского уезда» была в свое время причиной столь же горячих споров и обсуждений.
На страницах «Советской музыки» выступали как композиторы и критики, так и любители музыки. С энтузиазмом высказался о симфонии Арам Хачатурян. Интересный текст опубликовал Андрей Волконский, в ту пору еще студент третьего курса Московской консерватории, а в 1960-е годы один из представителей советского авангарда. Первую, и к тому же положительную, музыковедческую работу о Десятой симфонии поместил Борис Ярустовский. Нашлось там место и для скандального в своей тенденциозности «слова слушательницы» З. Акимовой, которая, остро критикуя произведение, задавалась вопросом: а нужна ли вообще такая музыка простым людям?
Позднее споры нашли свое продолжение в дискуссии на тему нового произведения, организованной в Большом зале Центрального дома композиторов. В ней приняли участие композиторы, критики, музыканты-инструменталисты и любители музыки. Зал едва вмещал всех заинтересованных. Обсуждения проходили необычайно бурно, заседания продолжались целых три дня — 29 и 30 марта и 5 апреля 1954 года. Стоит проследить их ход, чтобы познакомиться с высказываниями, диапазон которых простирался от восторженных похвал до грубейших выпадов.
Вначале выступил сам композитор, пытаясь оценить собственное произведение:
«Над Десятой симфонией я работал летом прошлого года, закончил ее осенью. Как и другие свои сочинения, я писал ее быстро. Это, пожалуй, не достоинство, а скорее недостаток, потому что многое при такой быстрой работе не удается сделать хорошо. Как только сочинение написано, творческий пыл проходит; и, когда видишь недостатки сочинения, иногда крупные и существенные, начинаешь думать, что неплохо было бы избежать их в следующих работах, а написанное — с плеч долой.
Я советую всем, и в первую очередь себе, — не торопиться; лучше подольше сочинять и в процессе работы исправлять все недостатки.
Симфония состоит из четырех частей. Критически оценивая первую часть симфонии, я вижу, что мне не удалось сделать то, о чем я давно мечтаю: написать настоящее симфоническое аллегро. Оно не вышло у меня в этой симфонии, как не выходило и в предыдущих симфонических сочинениях. Но буду надеяться, что в будущем такое аллегро мне удастся написать. В первой части моей симфонии больше медленных темпов, больше лирических моментов, нежели героико-драматических и трагических (как в первых частях симфоний Бетховена, Чайковского, Бородина и ряда других композиторов).
Вторая часть, как мне кажется, в общем отвечает замыслу и занимает в цикле место, какое ей полагается. Но пожалуй, часть эта слишком коротка, особенно если учесть, что и первая, и третья, и четвертая части довольно длинные. Таким образом, получилось некоторое нарушение циклической конструкции. Видимо, не хватает еще одной части, которая вместе с небольшой второй частью, возможно, уравновесила бы конструкцию всего произведения.
Что касается третьей части симфонии, то тут, думается, замысел более или менее удался, хотя и в ней есть некоторые длинноты, а кое-где, напротив, какие-то куцые места. Для меня было бы очень полезно и ценно услышать на этот счет замечания товарищей.
В финале несколько длинновато вступление, хотя, когда я в последний раз слушал это вступление, мне показалось, что оно выполняет свою смысловую и композиционную функцию и более или менее уравновешивает всю часть.
Авторы часто любят про себя говорить: я пытался, я пробовал и т. д. Но я, пожалуй, воздержусь говорить в таком роде. Мне было бы гораздо интереснее узнать, что чувствуют слушатели, услышать их замечания. Одно только скажу: в этом сочинении мне хотелось передать человеческие чувства и страсти»[391].
После Шостаковича первым выступил Лев Данилевич. Он высказался положительно, подчеркнув глубину выражения и тематики симфонии. Покритиковал слишком односторонний, по его мнению, характер первой части и менее убедительный финал, но при этом отметил мастерство композитора и реализм музыки.
Следующие ораторы уже остро критиковали Шостаковича.
«После Восьмой и Девятой симфоний все ждали от Д. Шостаковича коренного поворота, — заявил в своем пространном выступлении музыковед Юлий Кремлев. — Такой поворот как будто произошел в „Песни о лесах“. Но теперь видно, что этот поворот был непрочным и несерьезным. Я должен откровенно сознаться, что был обманут „Песнью о лесах“. Я искренно радовался этому произведению (хотя и находил в нем недостатки); я от всей души надеялся, что музыка Д. Шостаковича пойдет иными, чем ранее, путями. Но последующие его произведения опровергли радужные надежды». По мнению Кремлева, в Десятой симфонии меньше резкостей, «эпатирующих» диссонансов в сравнении с Восьмой симфонией, меньше «судорожных» ритмов, композитор в значительной мере освободился от своих связей с экспрессионизмом, но все это не свидетельствует о его возвращении к реализму. А далее Кремлев старался подробно обосновать, почему Десятая симфония имеет так мало общего с реалистическим искусством.
Другой музыковед, Виктор Ванслов, высказывался еще более критически. В первую очередь он предъявлял произведению в целом обвинения в одностороннем трагизме, мрачности красок и образов, в излишнем пессимизме. «Глубокий психологизм симфоний Д. Шостаковича сводится преимущественно к выражению различных оттенков человеческого страдания, ужаса, мрака или образов гротескных, карикатурных.
<…> В симфониях Д. Шостаковича почти нет героики, нет образов природы, любви.
<…>
Мир не таков, каким его показывает нам Д. Шостакович. В Десятой симфонии Д. Шостаковича дается ошибочное решение коренных проблем жизни».
Композитор Иван Дзержинский, который в 1930-е годы поддерживал с Шостаковичем дружеские отношения, поставил знак вопроса не только над Десятой симфонией, но и над ее автором.
«Когда здесь говорят о Д. Шостаковиче, который, дескать, благодаря яркой индивидуальности сумел на протяжении многих лет, преодолевая трудности, сохранить „свое лицо“, то, мне кажется, при этом забывают о многих других композиторах, которые тоже сохранили и сохраняют „свое лицо“ по сей день, двигаясь вперед; это В. Соловьев-Седой, Д. Кабалевский, А. Хачатурян, А. Баланчивадзе, Т. Хренников и другие». Дзержинский сравнивает Шостаковича со Скрябиным. Он выразил мнение, что Скрябин как симфонист был узок и глубоко субъективен, его симфоническое творчество существует только само для себя, а все мысли, чувства и образы концентрируются вокруг собственного «я». Поэтому Скрябин «не создал школы и не продвинул русский симфонизм ни на один шаг». «Конечно, Скрябин — большой художник, — продолжал Дзержинский, — и он занял свое место в истории русской музыки. Но его творчество, никуда не ведущее, есть „уникум“. В этом отношении есть нечто общее между Д. Шостаковичем и Скрябиным. Д. Шостакович — тоже одаренный композитор и большой мастер. Он займет в истории советского симфонизма свое место. Однако творчество Д. Шостаковича не прокладывает новых путей. Непонятно, откуда вышел симфонизм Д. Шостаковича. Это тоже „вещь в себе“, вещь талантливая, интересная, но тем не менее „круг замкнут“. Забыты скрябинисты, а Скрябин остался. Останется и Д. Шостакович. Но „маленькие Шостаковичи“ исчезнут — о них быстро забудут».
В ответ на эти три негативных выступления последовал ряд полемических, положительных отзывов. Такими были высказывания Дмитрия Кабалевского, Николая Пейко, Георгия Свиридова, Моисея Вайнберга, Кара Караева и других. Особенно убедительно говорил Кабалевский, подчеркивая внутреннее единство всех элементов новой симфонии. Это свое мнение он впоследствии расширил в дискуссии на тему советского симфонизма: «Критикуя Д. Шостаковича, мы зачастую делаем две серьезные ошибки. Во-первых, мы склонны забывать о его глубокой самобытности и хотим, чтобы он сочинял музыку так, как сочиняли бы мы ее сами. Во-вторых, мы хотим, чтобы в каждом произведении он отразил все стороны жизни, все ее богатство и многообразие. Даже такой гигантский гений, как Бетховен, в каждой своей симфонии воплощал разные стороны жизни»[392].
Много сердечных слов в адрес Десятой симфонии сказал композитор Моисей Вайнберг. Между прочим, он выступил против утверждения, что музыка Шостаковича существует сама для себя, и добавил, что, по его мнению, только в одной Стране Советов живут десятки тысяч поклонников этого композитора. Он признал также, что не видит ничего плохого в том, чтобы молодое композиторское поколение находилось в сфере влияния автора Десятой симфонии. Среди защитников произведения оказались также музыковед Даниэль Житомирский и несколько учеников Шостаковича. Все они придерживались позиции, что это произведение «нашего времени» и большой шаг на пути к реализму.
Как среди положительных, так и среди отрицательных выступлений были резко субъективные суждения. Так, например, дирижер Гавриил Юдин заявил, что не только Десятая симфония, но и вообще все когда-либо написанное Шостаковичем абсолютно гениально и не подлежит критике. Заодно он не жалел обидных слов в адрес тех, кто критиковал новое сочинение. Это выступление, как и некоторые другие, особенно негативные, встретило решительный протест у участников встречи. Заключительное слово досталось на долю главного редактора «Советской музыки» Георгия Хубова, который на третий день закрыл бурную дискуссию.
Споры о произведении не затихали, однако, в течение всего 1954 года. Их следующий этап пришелся на заседания VIII Всесоюзного пленума Союза советских композиторов. Вышла даже специальная брошюра, которая содержала около двадцати статей, посвященных новой симфонии. В конце концов ее признали явлением выдающимся, имеющим решающее влияние на развитие советского симфонизма.
Суматоха, вызванная Десятой симфонией, имела большое значение для советской музыкальной жизни 1950-х годов: ведь обсуждалось первое возникшее после 1948 года произведение, которое нарушало требования, определенные в постановлении об опере «Великая дружба» и на съезде Союза композиторов. Окончательная положительная оценка Десятой симфонии свидетельствовала о том, что в советской музыкальной и культурной жизни постепенно начали происходить определенные изменения. Дальнейшим их этапом станут заседания XX съезда КПСС и постановление ее Центрального комитета от 1958 года.
Тем временем на Западе, и особенно в Соединенных Штатах, Десятая симфония сразу была признана одним из значительнейших симфонических произведений нашей эпохи. Она быстро приобрела популярность, какой до сих пор пользовались лишь некоторые сочинения Шостаковича (к примеру, Первая, Пятая, Седьмая симфонии), с триумфом прошла почти по всем европейским странам. Крупнейшие дирижеры — Митропулос, Стоковский, Орманди — включили ее в свой репертуар. И по сей день она является одной из наиболее показательных партитур Шостаковича, ни на йоту не утратившей своей свежести.
Глава двадцать первая 1953–1955
Кремлевский «триумвират» и начало десталинизации. — Улучшение положения Шостаковича. — Исполнение Четвертого струнного квартета. — Пятый струнный квартет. — Скрипичный концерт. — Смерть жены. — Смерть матери
Симптомы определенных перемен, вызванных смертью Сталина, начали появляться относительно быстро. Заметные сперва только для внимательных наблюдателей, они постепенно становились все более явными, причем во многих областях политической, государственной и культурной жизни. Прежде всего сюда нужно отнести события, происшедшие сразу после похорон Сталина, а также периоды оттепели после XX и XXII съездов КПСС, каждый раз пробуждавшие новые надежды на демократию — к сожалению, обычно преждевременные. Но, несмотря на решающее влияние консервативных сил на все сферы жизни в СССР, процесс десталинизации был необратимым.
15 марта 1953 года Верховный Совет утвердил новых государственных руководителей — впервые за много лет не одного человека, а группу лиц. Руководство принял «триумвират» — Маленков, Берия и Молотов. В программе их правительства провозглашалось обязательство «неослабно заботиться о благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и духовных потребностей»[393]. Было объявлено о существенном снижении цен на продовольственные товары с целью добиться поддержки общества, которое к концу жизни Сталина находилось в состоянии постоянного напряжения.
4 апреля без каких-либо комментариев было опубликовано коммюнике Министерства внутренних дел, информирующее о том, что дело «врачей-убийц» — это провокация, состряпанная руководством прежнего Министерства государственной безопасности. Через неделю после реабилитации «врачей-отравителей» партия приняла постановление, осуждающее органы госбезопасности, до тех пор стоявшие над партией и государством. Эти документы имели огромное политическое значение, и во многих семьях арестованных «врагов народа» появилась надежда на пересмотр обвинений и приговоров по делам их родных и близких. К властям хлынули сотни тысяч прошений о рассмотрении апелляций, и эта работа действительно начала проводиться, но только выборочно и в очень медленном темпе. К тому же амнистия, объявленная декретом Верховного Совета в конце марта 1953 года и касавшаяся приговоров за последние пять лет, не относилась к политическим заключенным.
10 июля 1953 года в печати появилось сообщение об аресте Берии. Это известие означало падение «триумвирата» и рост влияния Хрущева, организатора заговора. В декабре 1953 года состоялся официальный процесс Берии, которого признали агентом Интеллидженс сервис. Одновременно с ним судили и приговорили к смертной казни нескольких высших функционеров госбезопасности, в том числе бывших министров и их заместителей. В следующем году расстреляли инициаторов провокационного «дела врачей».
В культурной жизни и в искусстве некоторое оживление вызвало издание поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин на том свете», получившей известность еще до выхода из печати. Широкий общественный отклик встретила статья В. Померанцева «Об искренности в искусстве», опубликованная в журнале «Новый мир» (1953, № 12). Появилась повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», название которой стало символом всего процесса десталинизации. По сравнению с предыдущими годами оживились международные контакты представителей советской культуры и науки. В 1954 году группа советских философов впервые приняла участие во Всемирном философском конгрессе. В декабре 1954 года в Москве первый раз за 20 лет состоялся съезд Союза писателей, на котором произошла смена разложившегося и закоснелого правления. Но хотя из этих фактов можно было бы сделать вывод, что отныне жизнь в Советском Союзе будет быстро изменяться к лучшему, эти первые ласточки оттепели чаще всего бывали эффективно торпедированы, а пробивавшимся росткам законности еще долго пришлось ждать более благоприятной ситуации.
В искусстве все так же продолжали господствовать каноны социалистического реализма, а борьба с формализмом оставалась обязанностью деятелей культуры, о чем свидетельствует хотя бы ход дискуссии о Десятой симфонии Шостаковича. Тем не менее важную роль сыграла в тот период статья Арама Хачатуряна «О творческой смелости и вдохновении», опубликованная на страницах «Советской музыки» в ноябре 1953 года. Автор «Гаянэ» писал о необходимости отказа от «учрежденческой опеки», навязанной композиторам сверху, причем его высказывание было опубликовано почти одновременно с аналогичным выступлением Ильи Эренбурга «О работе писателя». В своей статье Хачатурян чрезвычайно осторожно взвешивал каждое слово и каждую мысль, заверяя, что ничто не может отвлечь советских художников от дальнейшего развития реалистического, народного искусства. Но общий тон статьи говорил о появлении элементов определенной либерализации — процессе, инициированном, впрочем, некоторыми партийными деятелями. Несомненно, в Кремле отдавали себе отчет в том, что искусство находится в полном застое, к которому привели применявшиеся Ждановым методы, и поэтому на пост министра культуры был назначен Георгий Александров, некогда противник этих методов. И хотя он продержался недолго, ему удалось намного улучшить атмосферу в среде деятелей театра, музыки, кинематографа и литературы.
Статья Хачатуряна возбудила большие споры. Через несколько месяцев журнал «Советская музыка» (1954, № 4) опубликовал дискуссию о затронутых в ней проблемах, в рамках которой Хачатурян продолжал развивать свои мысли, озаглавив новую статью так: «Правда о советской музыке и советском композиторе». В дискуссии выступили разные музыканты, в том числе Шостакович. Он прямо написал тогда: «Надо надеяться, что в 1954 году улучшится работа Союза советских композиторов, все еще страдающая бюрократическими пороками. Ненужная заседательская суетня, процветающая в Союзе, часто подменяет живые творческие споры вокруг интересных (пусть дискуссионных!) произведений»[394]. Шостакович процитировал также недавнюю статью в «Правде» (от 27 ноября 1953 года), где говорилось о «праве художника на самостоятельность, на смелость, на поиски нового», и утверждалось: «Одна из самых страшных бед для искусства — нивелировка, подгонка под один образец, хотя бы и лучший. Такой подход к работе над произведением стирает индивидуальности, порождает шаблоны, подражательство, тормозит развитие творческой мысли, лишает искусство радости исканий».
Как нетрудно догадаться, в дискуссии приняли участие и музыканты с противоположными, консервативными взглядами. Одним из них был Иван Дзержинский, чья карьера началась в 1935 году после премьеры «Тихого Дона», некогда столь хвалимого Сталиным. Статья Дзержинского «Бороться за реалистическое искусство» была атакой на «клику» формалистов во главе с Шостаковичем, которого автор подверг особенно острой критике за несколько последних сочинений — совершенно в духе пасквиля Мариана Коваля в 1948 году.
Тем временем позиции Шостаковича явно укреплялись. Уже после американской поездки 1949 года и премьеры «Песни о лесах» его положение было настолько хорошим, что в музыкальную жизнь смогли вернуться некоторые из тех произведений, относительно которых официальная критика не имела больших возражений, в том числе Первая, Пятая и Седьмая симфонии и Фортепианный квинтет. Конформистские политические высказывания, музыка к пропагандистским фильмам, Сталинская премия за «Песнь о лесах», а позднее пребывание на баховских празднествах в Лейпциге положили начало процессу постепенной реабилитации.
Однако полоса уступок и компромиссов Шостаковича тянулась еще много следующих лет. В 1950 году, после визита в Германскую Демократическую Республику, он выехал в Польшу в качестве участника II Конгресса мира. В марте 1952 года он в третий раз посетил ГДР, где вместе с Давидом Ойстрахом и Львом Обориным принял участие в торжествах по случаю 125-й годовщины со дня смерти Бетховена. И в этом же году выступил с докладом на Всемирном конгрессе защитников мира в Вене.
В 1950-е годы существенно увеличился и объем общественной деятельности Шостаковича. Еще в 1945 году он стал членом Советского комитета защитников мира. Баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР, много времени посвящал работе в секретариате Союза композиторов. А с течением лет список его общественных обязанностей продолжал постоянно расти. Вовлечение в навязанную сверху общественную деятельность приносило ощутимые результаты — не только заграничные поездки, но в первую очередь возможность показать миру не исполнявшиеся прежде произведения, написанные в 1948–1949 годах.
В декабре 1953 года московские любители музыки впервые услышали Четвертый струнный квартет — сочинение, принадлежащее к наивысшим достижениям композитора в области камерной музыки. В отличие от предшествующего этот квартет отличается лирически-интимным настроением, в нем отсутствуют острые конфликты и столь характерные для Шостаковича внезапные столкновения. Лаконичная первая часть выполняет роль вступления, в котором заслуживает внимания необычная фактура — постепенное наслаивание голосов при постоянном использовании открытых струн, что производит впечатление увеличивающего количества инструментов. Вторая часть, отмеченная беспредельной печалью, лишенной, впрочем, драматического оттенка, — это музыка чрезвычайно простая и выразительная. В третьей части композитор создал одно из своих лучших скерцо, в котором от начала до конца преобладает моторное движение, появляются интересные модальные лады. Все целое венчает развитый финал, в котором связи с русской классикой, и особенно с Мусоргским, особенно сильны.
Четвертый квартет был написан в 1949 году: три первые части летом, а четвертая — в последние дни декабря. Первое исполнение, осуществленное Квартетом имени Бетховена, состоялось в камерной обстановке — дома у композитора, в день его рождения, 25 сентября 1950 года; тогда это сочинение услышали лишь несколько друзей Шостаковича. В 1952 году к Четвертому квартету проявил интерес и Давид Ойстрах. Однако только в декабре следующего года Квартет имени Бетховена представил произведение московской публике.
К тому времени уже существовал следующий, Пятый квартет, сочиненный осенью 1952 года и посвященный Квартету имени Бетховена по случаю тридцатилетия коллектива. Это трехчастное произведение имеет характер по преимуществу симфонический. Шостакович создал своего рода симфонию для четырех инструментов; размеры сочинения, широкое развитие, драматические кульминации напоминают аналогичные черты некоторых предшествующих оркестровых опусов композитора. Написанный непосредственно перед Десятой симфонией, Квартет принадлежит к наиболее сложным произведениям того периода, а его фактурная новизна заявляет о том, что отныне Шостакович становится одним из крупнейших композиторов, обогативших этот жанр в нашем столетии. Премьера Пятого квартета состоялась за три недели до премьеры Четвертого, в ноябре 1953 года. Публика тепло приняла оба сочинения, хотя надлежащую оценку они получили лишь через несколько лет.
Итак, конец 1953 года принес сразу три премьеры: 13 ноября Квартет имени Бетховена представил Пятый струнный квартет, 3 декабря прошла премьера Четвертого квартета, а 17 декабря впервые прозвучала Десятая симфония. Пресловутая дискуссия по Десятой симфонии, описанная ранее и состоявшаяся весной следующего года, окончилась несомненной победой композитора. Результатом официального признания реализма Десятой симфонии было присвоение Шостаковичу (одновременно с Хачатуряном и Шапориным) звания народного артиста СССР, в тот период самого почетного звания, которым государство удостаивало деятелей искусства. В том же году Всемирный совет мира присудил ему Международную премию мира (наряду с Чарли Чаплином). В 1955 году Шостакович стал членом-корреспондентом Германской академии искусств в Западном Берлине.
Триумфом Шостаковича стала и премьера Еврейских песен 15 января 1955 года в Ленинграде — событие в такой же мере художественное, сколь и политическое, если принять во внимание волну антисемитизма, недавно прокатившуюся по всей стране. Не меньшей сенсацией было открытие Скрипичного концерта, исполненного 29 октября 1955 года Давидом Ойстрахом вместе с Евгением Мравинским.
Вначале концерт носил номер опуса 77, но в изданной в 1956 году партитуре произведение обозначено как опус 99. Собственно говоря, это концертная симфония для скрипки и оркестра, которая состоит из четырех развитых частей, снабженных названиями: Ноктюрн, Скерцо, Пассакалья и Бурлеска. Между двумя последними частями Шостакович поместил каденцию скорее созерцательного, нежели виртуозного характера. Лирическая первая часть звучит камерно. Задача солиста здесь — показать красивый звук, создать интимное настроение. Идущее в очень быстром темпе Скерцо ставит перед исполнителем огромные технические трудности. В этой части Шостакович впадает в свойственный ему гротескный тон; сонатная форма необычным способом соединяется с трехчастной, в придачу в репризе появляется сложное фугато. Пассакалья исполнена трагической выразительности, граничащей с пафосом. Трагизм этой музыки имеет немного аналогий в предыдущем творчестве Шостаковича и напоминает некоторые страницы Восьмой симфонии и Третьего квартета. Последняя часть — веселая Бурлеска, в которой явно присутствуют отголоски русской народной музыки.
Как это часто бывало, Шостакович сочинял концерт с мыслью о конкретном исполнителе. Давид Ойстрах познакомился с произведением сразу после его возникновения, весной 1948 года. Подготовка исполнения не была простой. Скрипач столкнулся с множеством необычных и сложных интерпретационных проблем. Первая часть казалась ему чересчур развернутой, вторая — слишком камерной, не убеждали его и некоторые детали инструментовки финала. Однако с каждым днем его энтузиазм рос, превратившись в конце концов в горячую любовь к этому сочинению.
В 1948 году из-за огульного осуждения Шостаковича премьера концерта не смогла состояться. Целых семь лет он лежал в столе и, вероятно, покоился бы там еще дольше, если бы не поездка Ойстраха в Соединенные Штаты и требование американского импресарио, чтобы великий скрипач приехал с произведением, сведения о существовании которого уже несколько лет проникали за границу. А поскольку период холодной войны постепенно становился достоянием истории и Советский Союз был заинтересован в расширении контактов с Западом, в том числе в культурной области, стала возможной премьера концерта в Ленинграде, а позднее — после американского успеха произведения — и его издание. Помешенный на партитуре новый номер опуса должен был создавать впечатление, что в результате осмысления событий 1948 года композитор написал новый вариант сочинения. В действительности оно оставалось тем же самым, и единственной переменой стала новая инструментовка начала финала, подсказанная Ойстрахом. Это была обоюдная игра: композитор дал понять, что переработал концерт, а критики (среди них и Кабалевский!) подчеркнули присутствие в нем совершенно новых, весьма положительных элементов стилистики Шостаковича. (Похожая вещь произошла с Торжественной увертюрой, сочиненной в 1947 году, но впервые исполненной лишь в 1954 году в качестве нового произведения, обозначенного, в соответствии с нумерацией сочинений того периода, как опус 96.)
Но поначалу Концерт исполнялся только в городе на Неве, а единственной серьезной рецензией на него была короткая статья Марины Сабининой, помещенная на последних страницах «Советской музыки». Всеобщее молчание было столь красноречивым, что наконец сам Ойстрах, почти никогда не бравшийся за перо, опубликовал в «Советской музыке» прекрасную статью под названием «Воплощение большого замысла». В противоположность выжидательной позиции советских критиков, исполнение Концерта в нью-йоркском Карнеги-холле 29 декабря под превосходным управлением Димитриоса Митропулоса было признано сенсацией. Подчеркивалась не только огромная ценность произведения, но и политическое значение того факта, что наконец-то стал возможным показ сочинения, так долго скрываемого композитором. В Москве Концерт был представлен только в следующем году — Давид Ойстрах исполнил его 4 и 5 февраля.
В связи с определенным смягчением административного давления на музыкальную общественность Мравинский смог включить в репертуар ленинградского оркестра и еще недавно осуждаемую Шестую симфонию. С этим произведением он выехал в начале 1955 года в турне по Чехословакии. Исполнение 21 мая в Праге увенчалось большим успехом исполнителей и симфонии. Осенью следующего года, то есть уже после XX съезда КПСС, Самосуд исполнил с оркестром Московской филармонии Восьмую симфонию — в первый раз с 1947 года.
К сожалению, несмотря на возрождение Шестой и Восьмой симфоний, а вскоре и Фортепианного концерта, несмотря на первые исполнения не известных ранее сочинений, несмотря на все большее увеличение творческой свободы, новые произведения композитора пока что не достигали уровня его прежних творений. Хотя он неустанно работал, музыка, выходившая из-под его пера, была довольно схематичной. Это касается Концертино для двух фортепиано (1953), 5 романсов на слова Долматовского (1954) и Испанских песен (1956). Из других работ того периода следует упомянуть музыку к кинофильмам «Песня великих рек», «Овод» и «Первый эшелон». И даже они сильно уступали по уровню более ранней киномузыке. На этом фоне выделялись только Пятый квартет и Десятая симфония.
Шостакович прекрасно отдавал себе отчет в возникшем кризисе, о чем свидетельствуют, между прочим, его письма к Кара Караеву: «Голова моя плохо работает, и я ничего не сочиняю <…> За последнее время я больше всего стал жалеть время. Деньги можно заработать, взять взаймы, украсть. А время пропадает бесследно и навсегда» (4 июля 1955). «Я веду бурную жизнь. Много концертирую, и без особого удовольствия. <…> Я долго, давно ничего не сочиняю. Это меня очень огорчает. Фактически после Десятой симфонии я больше ничего не сочинил» (4 октября 1955). «У меня новостей мало. А хороших еще меньше. Самое грустное это то, что я после Десятой симфонии больше почти ничего не сочинил. Уже скоро начну чувствовать себя Россини. Как известно, этот композитор в 40 лет написал свое последнее произведение. После чего дожил до 70, не написав ни одной ноты. Слабое утешение для меня. Завтра у меня собирается комиссия для прослушивания моей оперы „Леди Макбет“. Означенная комиссия должна решить вопрос о том, можно или нельзя ставить эту оперу. В Ленинграде… настаивают на постановке. <…> Я жду завтрашнего дня с волнением и любопытством» (11 марта 1956)[395]. А сочиняя нетрудный Второй фортепианный концерт, он писал композитору Эдисону Денисову, с которым тогда был в дружеских отношениях: «Сочиняю плохо. Закончил фортепианный концерт, не имеющий никакой художественно-идейной ценности» (12 февраля 1957)[396].
Личная жизнь композитора тоже не была свободна от забот и огорчений. Брак Шостаковичей уже давно переживал глубокий кризис. Впрочем, союз с Ниной Васильевной нечасто приносил композитору покой и гармонию, поскольку с самого начала в нем хватало напряженности и конфликтов. В 1934 году, еще перед рождением Гали, Шостакович вступил в мимолетные отношения с молодой переводчицей Еленой Константиновской. Разлад между супругами был недолгим, но настолько сильным, что какое-то время они жили отдельно — Нина Васильевна осталась в Ленинграде, а Шостакович переехал в Москву к Шебалиным. В 1940-х годах Шостаковича связывала горячая взаимная симпатия с его ученицей Галиной Уствольской. В свою очередь, Нина Васильевна завязала отношения с астрофизиком Артемом Алиханьяном, с которым проводила научные исследования в Институте физики в Ереване и в лаборатории на кавказской горе Арагац, из-за чего в начале 50-х годов довольно часто покидала мужа.
Летом 1954 года композитор, как обычно, отдыхал в Комарове. Он был измучен напряженным концертным сезоном. Дочь Галя только что сдала вступительные экзамены в университет.
От матери она унаследовала любовь к науке и хотела заниматься биологией. Восемнадцатилетнюю девушку все чаще видели в сопровождении Евгения Чуковского, сына известного писателя. С замужеством, однако, решено было подождать до конца учебы.
Осенью Нина Васильевна выехала в Сочи, а оттуда на Арагац. Супруги должны были встретиться в декабре в Ереване, чтобы вернуться оттуда в Москву для встречи Нового года.
Ожидая приезда мужа, госпожа Шостакович купила два билета на концерт Александра Вертинского. «В тот вечер, — вспоминала ее приятельница Тина Асатиани, — Нина Васильевна была очень весела. На следующий день ее положили на операционный стол с диагнозом „раковая опухоль“… Я позвонила Д. Д. Шостаковичу — он был на концерте — и передала о тяжелом состоянии жены… <…> К утру, когда он приехал с дочерью, Нина Васильевна была без сознания. Дмитрий Дмитриевич все беспокоился, что окно открыто и она может простудиться, и никто не решался сказать ему, что она уже умерла»[397]. Это произошло в самом начале декабря. Нине Васильевне недавно исполнилось 45 лет. Тело привезли в Москву и похоронили в укромном уголке Новодевичьего кладбища. Расстроенный Шостакович повторял: «Вот и мне здесь есть местечко, и мне есть местечко…»
Дома в ожидании похорон он при открытом гробе слушал пластинки с записью Восьмой симфонии, играл Прелюдии и фуги, словно желая уйти от действительности или вызвать в памяти счастливые времена. В присутствии людей он не показывал своей боли. На похоронах собралось много коллег и друзей Нины Васильевны. Академик Лев Ландау приготовил прощальную речь. «Шостакович остановил: „Не надо, не надо“, — и неожиданно снял горестное напряжение внешне будничными словами: „Холодно очень. Очень холодно. Давайте разойдемся“»[398].
В последующие недели он избегал всяческих контактов с людьми. Оставался один в квартире с детьми и преданной домработницей Марией Дмитриевной Кожуновой, работавшей в семье Шостаковичей еще с предвоенных лет. Марии Дмитриевне не нравилось жить в шумной и суматошной Москве, но после смерти Нины Васильевны она сочла своим долгом остаться при композиторе. И только немощной старушкой она ушла на пенсию и покинула благодарных Шостаковичей, сохранивших о ней наилучшие воспоминания.
В июле следующего года Шостакович написал Денисову удрученное письмо: «…все здесь [в Комарове] напоминает Нину Васильевну. Очень она любила это место и много положила энергии для нашего устройства здесь. В общем лето проходит бесплодно и грустно. Больна мама. Еле двигается Нинин отец. Быть этому свидетелем ужасно трудно».
В начале ноября 1955 года, когда Шостакович находился в Вене на торжественном открытии восстановленного оперного театра, умерла его мать. Ему удалось самолетом успеть на похороны, состоявшиеся на Волковом кладбище 12 ноября, в день рождения его старшей сестры Марии. Был хмурый дождливый день — типичная ленинградская осенняя погода. После возвращения с кладбища, сидя в кругу семьи и друзей в доме умершей, Шостакович был молчалив и угнетен. Время от времени он тихо говорил: «Как ей там холодно и одиноко»[399]. Вечером он достал архив матери. Софья Васильевна собирала всякие документы, касающиеся сына: первые афиши, рецензии, фотографии, ноты, наброски партитур. Письма к матери композитор уничтожил, не желая, чтобы кто-нибудь их прочел. Они с матерью делились всеми радостями и горестями, нередко он доверял ей очень личные дела. Так же точно он поступал почти со всей корреспонденцией, которую получал в течение жизни. Не сохранились даже письма, относившиеся к периоду ухаживания за Ниной Васильевной…
Глава двадцать вторая 1956–1958
Начало оттепели при Хрущеве. — II съезд ССК. — Отмена постановления 1948 года. — Второй брак. — Дети. — Одиннадцатая симфония. — Оперетта и новая редакция «Хованщины»
В 1956 году Шостаковичу исполнилось пятьдесят лет. Это был период, изобилующий важными событиями; на первое место среди них следует поставить XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, на котором Хрущев выступил с секретным докладом, впервые сказав о преступлениях Сталина и о культе личности. Вскоре после завершения закрытого заседания съезда содержание выступления Хрущева получило широкий отклик по всей стране. Реакция консервативной части общества была необычайно острой, поэтому неудивительно, что, когда 30 июня того же года Пленум Центрального комитета принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий», Сталин еще признавался «теоретиком и крупным организатором» и его обвиняли только в злоупотреблении властью, что — как гласила резолюция — было следствием отрицательных черт его характера.
Однако доклад Хрущева пробудил надежды на демократию. Появились даже некоторые ее признаки — хотя зачастую и слабые, но уже начавшие процесс необратимых изменений.
Довольно отчетливо оттепель проявлялась в литературе и искусстве. Увидели свет книги и театральные постановки, пробудившие горячие споры и страсти. В Москве открылся театр «Современник», спектакли которого пользовались огромным успехом. Был образован Государственный комитет по культурному сотрудничеству с зарубежными странами при Совете Министров СССР. Появилась плеяда молодых талантов — поэты Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. Вернулся в поэзию Николай Заболоцкий, который долгие годы провел в ссылке.
Но Хрущев не был готов к поддержке таких перемен. В середине 1957 года в его подмосковной резиденции состоялось несколько встреч с представителями творческой и научной интеллигенции. Он яростно нападал тогда на любые более или менее смелые мысли в литературе, грубо обошелся в дискуссии с поэтессой Маргаритой Алигер, защищавшей только что ликвидированный альманах «Литературная Москва». Однако, несмотря на столь догматическую позицию по отношению к искусству, Хрущев пользовался популярностью в кругах творческой интеллигенции, и в этом конечно, играл решающую роль его секретный доклад на XX съезде КПСС. Анна Ахматова как-то сказала: «Я ведь хрущевка. Хрущев сделал для меня самое большое, что может сделать один человек для другого: вернул мне сына»[400].
Тем не менее уже вскоре, в 1958 году, прошла беспримерная кампания против Бориса Пастернака, одного из величайших советских поэтов, которому в октябре этого года была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». Созданный в середине 50-х годов и описывающий судьбу человека, вовлеченного в революционные события, роман был отвергнут советскими издательствами. Поэтому писатель показал рукопись одному из левых итальянских издателей, и в ноябре 1957 года книга была напечатана в Италии — беспрецедентное явление в культурной жизни СССР. В сентябре следующего года вышло английское издание романа. Вначале «Доктор Живаго» не вызывал никакой сенсации и советская пресса могла замалчивать это событие. Но утаить факт, что Пастернак первым из советских писателей получил Нобелевскую премию, было попросту невозможно. «Правда» опубликовала обширную статью Давида Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» (стоит заметить, что это был тот самый Заславский, который в 1936 году по поручению Сталина обрушился на Шостаковича в позорной статье «Сумбур вместо музыки»). Московская писательская организация созвала специальное собрание, направленное против Пастернака, в эту кампанию включился комсомол. После бесконечных клеветнических выступлений большинства его коллег Пастернака исключили из Союза писателей. Из опасения за свою судьбу он вынужден был заявить, что отказывается принять Нобелевскую премию. И хотя клеветническая кампания принесла ему мировую славу, он заплатил за нее здоровьем и жизнью. В мае 1960 года Пастернак умер, покинутый и преданный многими друзьями. Но его похороны стали великой манифестацией советской интеллигенции.
В музыке процесс оттепели проходил с еще большим сопротивлением. Намеченный на апрель 1956 года II съезд Союза композиторов перенесли на март следующего года. В «Советской музыке» под общей рубрикой «Предсъездовская трибуна» появился ряд статей, многие из которых свидетельствовали о силе консервативной группировки. В первом номере 1957 года в обзоре дискуссии на собрании композиторов Москвы был помещен текст выступления Хренникова, который, как нетрудно было предвидеть, лавировал между догматической позицией и новыми течениями. Он признавал:
«Основная ошибка Секретариата (Союза композиторов. — К. М.) заключалась в том, что в борьбе с формалистическими явлениями мы нередко занимали догматические позиции, распространяя понятие формализма на произведения, к нему не относящиеся (Вторая симфония А. Хачатуряна, Фортепианный концерт Г. Галынина и др.). Недавно мы слушали, после долгого перерыва, Восьмую симфонию Шостаковича, в которой, несмотря на ряд черт, заслуживающих критического отношения, содержится много художественно сильных и впечатляющих сторон… Время и приобретенный нами опыт показали, что безоговорочное зачисление Восьмой симфонии Д. Шостаковича в разряд формалистических произведений было необоснованным и ошибочным»[401].
II съезд Союза композиторов открылся 28 марта 1957 года и закончился 5 апреля. Его задачей было подведение итогов за девятилетний период между съездами, определение современного состояния творчества и путей развития музыки на будущее.
Если на I съезде главной фигурой был Жданов, то теперь эту роль играл секретарь ЦК КПСС, в недавнем прошлом главный редактор «Правды», член-корреспондент Академии наук Дмитрий Шепилов. Центральным пунктом обсуждения был доклад Хренникова, который, вопреки ожиданиям более либеральной части собравшихся, подчеркнул необходимость соблюдения принципов соцреализма. Остановившись на происхождении этого направления, он сказал, что возникновение соцреализма не имеет ничего общего с «культом личности», как того хотели бы некоторые заграничные «теоретики»: «Такие взгляды, являются ли они одним из звеньев откровенно реакционной пропаганды или плодом заблуждения идейно неустойчивых кругов художественной интеллигенции в некоторых странах народной демократии, конечно, не способны заставить нас изменить нашу позицию в коренных, принципиальных вопросах социалистической эстетики»[402]. Это последнее утверждение было завуалированной критикой польской музыки и «Варшавской осени», так как Польша была в то время единственной страной, которая открыто порвала с соцреалистическим прошлым. Далее Хренников говорил о благотворном влиянии партийного постановления 1948 года на советских композиторов и о том, что «острота… борьбы различных, порой антагонистических тенденций, естественно, усиливалась с ростом социалистической культуры»[403]. Несмотря на свою явно догматическую позицию, Хренников снова был выбран на пост первого секретаря, что явилось доказательством силы его сторонников — поборников сталинизма в музыке.
Речь Шепилова, произнесенная в предпоследний день съезда и содержавшая довольно дипломатичные формулировки, все же не давала никаких надежд тем, кто рассчитывал на настоящую оттепель. Тем более не приходится удивляться реакции, которую вызвало выступление Шостаковича, четко высказавшегося за перемены:
«…Развитию плодотворной творческой дискуссии в композиторской среде мешает прежде всего один из пережитков периода культа личности, а именно такие недопустимые методы спора, которые на деле превращаются в дискредитацию, очернение одной из спорящих сторон. Как только позиция одной из спорящих сторон идейно дискредитируется, спор фактически замирает. Между тем совершенно ясно, что спорят между собой люди, прочно стоящие на позициях советской идеологии, стремящиеся к одним и тем же целям, но только по-разному трактующие путь к этой цели».
В этом месте Шостаковича прервали громкие аплодисменты, после чего он продолжил: «Зачем же вопреки здравому смыслу, вопреки совести и вопреки интересам общего дела прибегать к злой демагогии и тормозить столь нужную нам творческую дискуссию! К сожалению, Секретариат ССК более способствовал замораживанию дискуссии, чем ее развитию»[404].
Выступления других делегатов не внесли ничего нового, а съезд закончился утверждением о расцвете советской музыки за минувшее десятилетие.
Официальное выступление Шепилова и повторное избрание Хренникова руководителем Союза свидетельствовали о том, что процесс оттепели в музыкальной среде очень медленно пробивал себе дорогу. Тем не менее весной следующего, 1958 года достоянием общественности стал новый партийный документ — постановление «Об исправлении ошибок в оценке опер „Великая дружба“, „Богдан Хмельницкий“ и „От всего сердца“». Дело касалось как постановления 1948 года, так и редакционных статей «Правды» от 1951 года по поводу опер Константина Данькевича и Германа Жуковского. В новом постановлении утверждалось, что «постановление… от 10 февраля 1948 года в целом сыграло положительную роль в развитии советского музыкального искусства». Далее документ гласил, что в постановлении 1948 года «справедливо были осуждены формалистические тенденции в музыке, мнимое „новаторство“, уводившее искусство от народа… <…> Вместе с тем оценки творчества отдельных композиторов в ряде случаев были бездоказательными и несправедливыми. <…> Талантливые композиторы т.т. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и другие, в отдельных произведениях которых проявлялись неверные тенденции, были огульно названы представителями антинародного формалистического направления. <…> Некоторые неверные оценки в указанном постановлении отражали субъективный подход к отдельным произведениям искусства и творчества со стороны И. В. Сталина»[405].
Галина Вишневская так вспоминает свою встречу с Шостаковичем сразу после опубликования этого партийного постановления:
«Дмитрий Дмитриевич позвонил нам домой:
— Галя, Слава, скорей приезжайте ко мне! Скорее!
Мы кинулись к нему на Кутузовский. Дмитрий Дмитриевич был в невероятно возбужденном состоянии, почти бегал по квартире и, едва успели мы снять пальто, повел нас в столовую.
— Дмитрий Дмитриевич, вы, конечно, читали?
— Читал, да-да, читал… Вот, ждал вас, ждал вас, чтобы выпить… выпить хочу… выпить.
Налил в стаканы водку и — со злостью:
— Ну, давайте выпьем за „великое историческое постановление“ об отмене „великого исторического постановления“!
Выпили мы залпом до дна, и Дмитрий Дмитриевич стал напевать на мотив лезгинки:
Должна быть музыка изящной, Должна быть музыка прекрасной…<…> Это была одна из редких его откровенных минут, и нам было страшно, что мы невольно заглянули через случайно открывшуюся щель в его душе и увидели клокочущий в ней вулкан, так тщательно скрываемый им от людей. Мы все старались говорить о посторонних предметах, но Дмитрий Дмитриевич — вдруг снова:
— Историческое, понимаете, постановление об отмене исторического постановления… Вот ведь так просто, так просто…»[406]
Возникает вопрос о подоплеке документа, в котором, собственно говоря, лишь с небольшими оговорками была подтверждена правильность постановления 1948 года. Подобной реабилитации не дождались ни преследовавшиеся литераторы, ни деятели кино, ни художники. Существует несколько возможных объяснений появления постановления «Об исправлении ошибок». Одна из них связана с готовившимся в то время музыкальным событием международного значения — I Международным конкурсом исполнителей имени П. И. Чайковского, организационный комитет которого возглавил Шостакович. В глазах Запада Шостакович был наиболее известной и уважаемой личностью, и трудно было бы найти на эту роль более подходящего деятеля искусства. Однако если бы постановление 1948 года целиком сохраняло силу, это поставило бы русских в затруднительное положение по отношению к зарубежным гостям. Как объяснить, почему председателем выбран композитор, официально признанный представителем антинародного направления, врагом народа и формалистом?
Есть и другое объяснение возникновения этого удивительного документа. В 1951 году по поручению Сталина на страницах «Правды» появилась редакционная статья, громившая оперу Данькевича «Богдан Хмельницкий», либретто к которой написал Александр Корнейчук. Корнейчук находился в дружеских отношениях с Хрущевым, и поэтому сразу после XX съезда, когда началась реабилитация жертв репрессий, Хрущев решил вернуть Корнейчуку доброе имя, а чтобы не слишком выделять оперу «Богдан Хмельницкий», присоединил сюда дело Мурадели и события 1948 года.
Нет ничего удивительного в том, что и в дальнейшем с концертной эстрады не сходили признанные главными достижениями Шостаковича оратория «Песнь о лесах» и кантата «Над Родиной нашей солнце сияет» — разве что во всех отрывках, где встречалось слово «Сталин», Долматовский заменил его на «Ленин» либо «партия», о чем композитор 12 февраля 1957 года иронически писал Денисову: «14-го (февраля. — К. М.) Н. П. Аносов играет… „Песнь о лесах“. Поэт, невольник чести, исправил текст в духе времени. В отличие от своего коллеги Пушкина (тоже невольник чести) не погиб и не собирается погибать».
В период столь важных политических перемен личная жизнь Шостаковича тоже изобиловала событиями. Композитор повторно вступил в брак. Второй его женой стала работник ЦК комсомола Маргарита Андреевна Кайнова, и история этого супружества была довольно необычной. Обратимся еще раз к воспоминаниям Галины Вишневской:
«Однажды Дмитрий Дмитриевич позвонил нам и попросил приехать к нему. Дверь открыла молодая, статная женщина, и Дмитрий Дмитриевич представил ее нам:
— Маргарита, моя жена.
Мы ничего не могли понять: кто такая, откуда она вдруг появилась? Еще вчера никто ничего не знал, а сегодня вдруг — жена! Видно было, что дети приняли ее в штыки и не желали скрывать своих чувств…
…Маргарита работала в ЦК комсомола… Дмитрий Дмитриевич, увидев ее на каком-то совещании, тут же к ней подошел и без лишних разговоров задал ей простой вопрос:
— Не хотите ли вы стать моей женой?
Та сначала обомлела, но быстро пришла в себя и ответила:
— Хочу»[407].
Это был очень странный союз. Новая жена не сумела завязать каких-либо контактов с детьми Шостаковича. Она происходила из простой семьи и совершенно не понимала ни значения работы мужа, ни той роли, которую должна играть, находясь рядом с таким художником. В квартире на Кутузовском проспекте постоянно собирались гости. Пение, застолье и сутолока полностью лишали Шостаковича возможности работать. Его секретарь Зинаида Мержанова жаловалась Галине Вишневской:
«— Нет, вы только подумайте, Галина Павловна! Я говорю ей, этой Маргарите: ведь вы же вышли замуж за гения, вы должны понимать его психологию, ведь он же музыкант… И что, вы думаете, она мне ответила? „Ну и что, что музыкант, у меня первый муж тоже был музыкант — на баяне играл!“»[408]
Брак длился до 1959 года, когда в один прекрасный день Шостакович сбежал в Ленинград и объявил, что не вернется домой до тех пор, пока Маргарита не покинет его квартиру. Все полномочия по выселению и оформлению развода получил двадцатилетний Максим[409]. За год до этого композитор закончил Седьмой квартет, посвятив его памяти Нины Васильевны…
Но в год своего 50-летия он все еще не мог преодолеть творческий кризис. Написанные в 1956 году Испанские песни являются всего лишь поверхностной и банальной стилизацией. Очередной, Шестой струнный квартет G-dur также оказался явным шагом назад по отношению к двум своим великолепным предшественникам.
В следующем году появился Второй фортепианный концерт. Шостакович посвятил его сыну Максиму, который и стал первым исполнителем произведения.
Композитор учил своих детей музыке с самого юного возраста. Он хотел воспитать и Галю, и Максима в живом контакте с музыкой, что, впрочем, совсем не должно было предопределять их будущую профессию:
«Сохранились две фотографии отца с детьми возле рояля. На одной из них мы видим, как отец скептически-любящим взглядом следит за пальцевой акробатикой Гали. Максим делал быстрые успехи в игре на фортепиано и обещал стать отличным музыкантом; Галя была не такой способной. Чтобы пробудить в дочери усердие, отец заключил с ней договор: он сочинит для Гали пьесу, а когда она хорошо ее выучит, он напишет следующую. Так родился цикл пьес для фортепиано, предназначенный для детей: Марш, „Медведь“, „Веселая сказка“, „Грустная сказка“, „Заводная кукла“, „День рождения“. Зимой 1944/45 года Галя исполнила этот цикл на концерте детской секции музыки в Союзе советских композиторов»[410].
Позже Галя перестала учиться игре на рояле, зато Максим пробуждал все большие надежды как пианист. В 1953 году отец сочинил для него Концертино для двух фортепиано, которое юноша — в то время ученик Центральной музыкальной школы-десятилетки — исполнил вместе с Аллой Малолетковой, ученицей той же школы. И наконец 10 мая 1957 года, в день своего рождения, девятнадцатилетний Максим Шостакович исполнил посвященный ему Второй фортепианный концерт отца. Это первое выступление молодого пианиста на эстраде вызвало живой интерес в музыкальном мире. Однако же сам концерт нельзя было назвать произведением высшего полета.
Тем временем в период подготовки к премьере Второго концерта на рабочем столе Шостаковича уже лежала новая партитура. Еще в 1956 году, когда праздновалось его 50-летие, в «Думах о пройденном пути» он поместил такие строки:
«Сейчас я работаю над Одиннадцатой симфонией, которая, очевидно, будет готова к зиме. Тема этой симфонии — революция 1905 года. Я очень люблю этот период в истории нашей Родины, нашедший яркое отражение в рабочих революционных песнях. Не знаю, буду ли я широко цитировать мелодии этих песен в симфонии, но музыкальный язык ее, очевидно, будет близок по характеру русской революционной песне»[411].
22 июля 1957 года он с некоторой иронией писал Денисову: «Каждый день бывают грозы, порой очень сильные.
По крыше начинает стучать ливень, сверкают молнии, рассекающие небо. Грохочет гром, а я сижу целыми днями в „творческой лаборатории“ и пишу симфонию. Скоро кончу. И тогда наступит видимо то, о чем вдохновенно писал модернист и формалист (см. газету „Советская культура“) А. Н. Скрябин, в финале своей I симфонии, в котором (финале) он стоял на реалистических позициях. <…>
В Москву из села Степанчиково переселился Фома Фомич Опискин под псевдонимом П. Апостолов. Он выступает в прессе. Особенно удачно было его последнее выступление в газете „Советская культура“. В этой статье он борется за то, чтобы музыка была мелодичной и изящной…»[412]
В августе 1957 года в прессе появилось упоминание о том, что половина партитуры новой симфонии уже написана. А в октябре газеты известили, что композитор закончил произведение, что Одиннадцатая симфония носит название «1905 год» и что автор использовал в ней многие революционные песни. 30 октября, во время празднования 40-летия Октябрьской революции, симфонию впервые услышали в Москве. Государственным симфоническим оркестром дирижировал Натан Рахлин. Через несколько дней, 3 ноября, Евгений Мравинский показал симфонию в Ленинграде.
Ни одно произведение, созданное после 1948 года, не встречало столь единодушного одобрения и ни одного — кроме предыдущей симфонии — не ожидали с таким нетерпением. О Десятой яростно спорили в Советском Союзе, в то время как за границей в один голос признали ее величие. С Одиннадцатой дело обстояло наоборот: в родной стране композитора о ней говорили почти исключительно в восторженных выражениях, а за пределами СССР зачастую критиковали ее наивную программность и несовременность выразительных средств. Упреки эти были, пожалуй, несправедливы, поскольку, несмотря на традиционный язык, Одиннадцатая симфония отличается мастерством и логикой построения. Она является и свидетельством колоссальной изобретательности своего создателя.
Формы отдельных частей симфонии опираются на традиционные схемы — правда, сильно модифицированные (особенно в двух последних частях). Но в общей структуре произведения композитор в значительной степени отошел от традиции: это скорее огромная симфоническая поэма, чем симфония в точном понимании этого слова. Ее форма тесно связана с программой произведения. И хотя она складывается из традиционных четырех частей (первая — «Дворцовая площадь», вторая — «9 января», третья — «Вечная память», четвертая — «Набат»), при ее прослушивании создается впечатление гораздо более дробного деления.
Мелодическим материалом служат революционные песни (так называемый «революционный фольклор»), которые выполняют роль основных тем, а также собственные мотивы Шостаковича, как выдержанные в духе революционных и народных песен, так и оригинальные, лишенные программной основы. Из революционного фольклора композитор почерпнул мелодии «Слушай», «Узник», «Гой ты, царь наш батюшка», «Обнажите головы», «Вы жертвою пали», «Смело, товарищи, в ногу», «Здравствуй, свободы свободное слово», «Беснуйтесь, тираны» и «Варшавянка». На протяжении всего произведения заимствованные темы противопоставляются собственным. Интересно, что, несмотря на столь большое количество тем, общих для разных частей, ни одна из них не появляется во всех частях произведения. Две главные темы («Гой ты, царь наш батюшка» и «Обнажите головы») становятся материалом для кульминации второй, третьей и четвертой частей (первая часть — статичная!) и имеют наибольшее значение для конструкции произведения.
Концепция Одиннадцатой симфонии уникальна во всей современной музыке. Шостакович создал здесь совершенно новый тип симфонизма, основанный на сочетании разных элементов. Таким образом, чередование революционных песен, традиционный бетховенско-малеровский симфонизм первой половины второй части и строгая полифоническая форма другой ее половины, а также статика первой части объединяются в нераздельное целое.
Одиннадцатая симфония считается одним из наиболее характерных примеров социалистического реализма в его трактовке, относящейся к периоду хрущевской оттепели. Ее программность, связанная с революцией 1905 года, представляется очевидной. Тем неожиданнее могут показаться слова композитора, который в частных разговорах неоднократно утверждал, что во второй части наиболее приблизился к Мусоргскому, представляя трагедию народа, а под видом событий «кровавого воскресенья» 1905 года в действительности создал музыкальный образ советского вторжения в Венгрию в 1956 году.
С возникновением и триумфом Одиннадцатой симфонии совпало много значительных наград, присужденных Шостаковичу в стране и за рубежом. В СССР он получил за Одиннадцатую симфонию Ленинскую премию 1958 года. 12 мая того же года он стал почетным членом академии «Санта-Чечилия» в Риме. Во второй половине мая ему присвоили звание командора французского Ордена искусства и литературы — он стал первым иностранцем, получившим этот титул. В его присутствии Андре Клюитанс дирижировал во Дворце Шайо Одиннадцатой симфонией, горячо принятой парижанами. В июле Шостакович одновременно с Франсисом Пуленком получил звание доктора honoris causa Оксфордского университета. И в том же самом году он стал лауреатом премии имени Сибелиуса; до него ее получили только два композитора: Стравинский (в 1953 году) и Хиндемит (в 1955-м). Шостакович снова оказался в центре внимания всего музыкального мира.
В 1958 году Шостакович создал произведение, которое удивило всех: он сочинил… оперетту! «Я считаю, что настоящий композитор должен попробовать свои силы во всех жанрах, — объяснял он в одном из интервью. — В популярных сочинениях нельзя видеть ничего плохого или тем более опасного. Моцарт и Бетховен тоже писали легкую музыку, и никто их в этом не упрекает»[413]. Тем временем в одном из писем к Гликману он писал: «Горю со стыда. Если ты думаешь приехать на премьеру, то советую тебе раздумать. Не стоит терять время для того, чтобы полюбоваться на мой позор. Скучно, бездарно, глупо»[414].
Оперетта «Москва, Черемушки»[415] была впервые поставлена 24 января 1959 года в Москве. Произведение отличается живым действием, в нем много юмора, но не гротескного, а типично опереточного, такого, как в балетах «Болт» и «Светлый ручей». Музыка ясная и простая для запоминания, поэтому многие мелодии из «Черемушек» быстро получили большую популярность в Советском Союзе. Шостакович ввел туда знаменитую «Песню о встречном». Почти одновременно с Москвой оперетта увидела огни рампы в Ростове-на-Дону, в мае она была поставлена в Одессе, а в ноябре — в Свердловске. Последующие постановки осуществили Братислава, Прага, Магадан, несколько городов в ГДР и Чехословакии, а также Загреб. Через два года на основе оперетты был снят фильм «Черемушки», получивший даже некоторую популярность. Однако сама она недолго держалась в репертуаре, вероятно, не только по причине не самой лучшей музыки, но и из-за очень примитивного либретто, которое рисует бытовые сценки, разыгрывающиеся в новом московском жилом районе Черемушки.
Сразу после оперетты Шостакович начал работу над другим сценическим произведением — новой оркестровкой «Хованщины» Мусоргского. Его привлекла та же идея, которую он старался воплотить перед войной, оркеструя «Бориса Годунова». Опираясь на оригинальный клавир, он хотел как можно больше приблизиться к творческому замыслу Мусоргского. Заботясь о наилучшем выполнении этой задачи, Шостакович также восполнил недостающий фрагмент оперы — финал второго акта и добавил эпилог. Последний эпизод обозначен в партитуре ad libitum, однако представляется, что произведение от его присутствия выиграло.
Новая редакция «Хованщины» впервые прозвучала 25 сентября 1960 года в ленинградском Кировском театре. Успех был огромный, и опера Мусоргского в редакции Шостаковича блистала на сцене этого театра несколько последующих лет. Зарубежная премьера состоялась осенью 1962 года в Эдинбурге на фестивале, частично посвященном музыке Шостаковича.
Глава двадцать третья 1959–1961
Преодоление творческого кризиса: Первый виолончельный концерт, Седьмой струнный квартет, «Сатиры», Восьмой струнный квартет. — Пребывание на «Варшавской осени». — Вторая поездка в США. — Вступление в КПСС. — Двенадцатая симфония
Длившийся несколько лет кризис Шостакович преодолел только в 1959 году. Из-под его пера неожиданно вышли тогда четыре важные партитуры, несомненно явившиеся новым словом в его творчестве. Первой из них был инструментальный концерт — на этот раз виолончельный, написанный в расчете на Мстислава Ростроповича, с которым Шостаковича связывали узы все более горячей взаимной симпатии.
В свое время Ростропович, будучи еще очень молодым человеком, успел подружиться с Прокофьевым. Плодом этой дружбы стали Симфония-концерт, Виолончельная соната, а также Концертино для виолончели с оркестром и Соната для виолончели соло, которые Прокофьев не успел закончить. Контакты великого виолончелиста с Шостаковичем были вначале довольно официальными. Сразу после войны он изучал у Шостаковича в Москве композицию и инструментовку, был превосходным исполнителем его Виолончельной сонаты, которую, кстати, неоднократно играл вместе с самим автором. В конце 50-х годов он был уже музыкантом с мировым именем, так что факт написания Шостаковичем концерта для Ростроповича и с посвящением ему свидетельствовал не только о дружеских чувствах, но и о признании исполнительского искусства этого мастера.
Первый виолончельный концерт, Es-dur, op. 107, — четырехчастное виртуозное произведение, необыкновенно эффектное и стилистически очень однородное. Его первая часть — быстрый, полный стихийной энергии марш простого строения, основанного на классической схеме сонатного аллегро. Роль солирующего инструмента исполняет также валторна, и в некоторых фрагментах концерт почти превращается в двойной, что создает определенную аналогию с Первым фортепианным концертом, где наряду с фортепиано концертирует труба.
Материалом второй части, как и первой, служат две темы — хотя и отличающиеся друг от друга, но обе очень распевные; в этой части Шостакович с редкостной яркостью проявил свой незаурядный мелодический дар. Кантиленный характер музыки постепенно приобретает драматические черты; развитие доходит до кульминации, после которой наступает необычайно красочный диалог виолончели, играющей в верхнем регистре, и челесты.
Следующая часть — это очень развитая каденция, приводящая к финалу, который тематически напоминает Бурлеску из Скрипичного концерта. В заключение возвращаются темы из начала произведения, создавая необыкновенно эффектное завершение.
Шостакович создал концерт летом 1959 года. По его скромному признанию, он писал под впечатлением Симфонии-концерта Прокофьева, намереваясь попробовать силы в этом новом для себя жанре.
Вторую половину года заняли заграничные поездки и общественная деятельность, так что к творчеству Шостакович вернулся лишь в начале 1960-го. Его очередным сочинением стал новый струнный квартет.
Седьмой квартет, fis-moll, op. 108, — самый лаконичный из всех. Он состоит из трех частей, следующих одна за другой без перерыва, и длится немногим более десяти минут. Это произведение большой простоты и большой красоты, отмеченное тонким лиризмом и меланхолией. В нем чередуются разные звуковые краски и настроения: подвижность и утонченность первой части, распевность среднего Lento, порывистость фуги и лиризм вальса в финале.
Почти одновременно с Седьмым квартетом появился вокальный цикл «Сатиры», сочиненный для жены Ростроповича Галины Вишневской и ей же посвященный. Это необычное произведение Шостакович написал на остроумные и саркастические стихи поэта Саши Черного (1880–1932). «Сатиры» — первое за много лет сочинение, в котором композитор снова обратился к гротесково-сатирическому тону. Созданные в предреволюционный период стихи были очень современны по своему звучанию и содержали явные аллюзии с сегодняшним днем. Особенно сатира «Потомки» могла быть воспринята как резкое обвинение советской властной системы и ее бессмысленной идеологии.
Опасаясь возможных препятствий, Галина Вишневская предложила Шостаковичу добавить подзаголовок «Картинки прошлого», который должен был создать впечатление, будто стихи поняты композитором исключительно как сатира на царское время. Шостакович принял ее предложение, но это не слишком помогло, и согласие на премьеру было получено буквально в последнюю минуту. 22 февраля 1961 года Вишневская спела новый вокальный цикл, ей аккомпанировал на рояле Мстислав Ростропович. Слушатели, собравшиеся в переполненном зале Московской консерватории, прекрасно уловили смысл стихов и замысел композитора. Когда замолк последний звук, разразилась такая овация, что артисты вынуждены были дважды повторить все произведение целиком. Исполнение по радио и телевидению и запись на пластинку уже не могли состояться — сочинение оказалось под запретом.
Летом 1960 года Шостакович отправился в ГДР, где неподалеку от Дрездена закончил музыку к кинофильму «Пять дней — пять ночей» в непосредственном контакте с постановщиками. И именно тогда, в течение всего трех дней — с 12 по 14 июля, в перерывах работы над музыкой к фильму, родился Восьмой струнный квартет.
Пять частей этого квартета следуют одна за другой без перерыва. Характерной его чертой является то, что основной тематический материал оказался почерпнут композитором из его собственных сочинений разных лет. Через все части проходит в качестве постоянного лейтмотива известная по Первому скрипичному концерту и Десятой симфонии музыкальная монограмма Шостаковича — D-Es-C-H.
Этот мотив в темпе Largo открывает квартет; переходя из голоса в голос, он неожиданно преобразуется в начальную фразу вступления Первой симфонии. Следующая тема — цитата из первой части Первой симфонии. Allegro molto — это подвижное бурное скерцо. Своей энергией эта музыка напоминает драматическую токкату из Восьмой симфонии, в определенный момент появляется навязчивая тема финала Фортепианного трио. Третья часть — тоже скерцо, но отличающееся от предыдущего, с богатым, утонченным звуковым колоритом, выдержанное в характере почти нереального вальса. Здесь дважды появляется начальная тема первой части Первого виолончельного концерта. Четвертая часть — своеобразный реквием, в котором Шостакович использует скорбную мелодию революционной песни «Замучен тяжелой неволей». Эта мелодия превращается в тему ариозо «Сережа, хороший мой» из последнего акта «Леди Макбет». Финальное Largo — основанная на лейтмотиве фуга, в конце которой еще раз возникает реминисценция первой части.
Восьмой квартет — уникальное явление в своем жанре, произведение необыкновенно воздействующей выразительной силы. Дочь Шостаковича, Галина, вспоминала, что, закончив Восьмой квартет, отец сказал: «Я посвятил его самому себе»[416].
Эти слова только подтверждают автобиографический характер сочинения. Как иначе объяснить тот факт, что Шостакович обращается в нем к своим самым значительным произведениям и связанным с ними переживаниям — к «Леди Макбет», к Первой и Пятой симфониям, к Фортепианному трио?.. Почему в Largo на фоне выдержанных звуков альта и виолончели Шостакович цитирует траурный мотив широко известной в России революционной песни «Замучен тяжелой неволей», переходящей в тему из «Леди Макбет Мценского уезда» — произведения, которое стало причиной чуть ли не самой большой драмы в его композиторской карьере? И разве посвящение «Памяти жертв фашизма и войны» не имеет тут более общего значения, а возможно, даже прямо нацелено на то, чтобы усыпить бдительность надзирающих органов, как и подзаголовок «Сатир»?
Многое проясняется из драматически-иронического письма композитора к Исааку Гликману, в котором он сообщает: «…написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: „Посвящается памяти автора этого квартета“. Основная тема квартета ноты D.Es.C.H., т. е. мои инициалы (Д. Ш.). В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня „Замучен тяжелой неволей“. Мои темы следующие: из 1-й симфонии, из 8-й симфонии, из Трио, из виолончельного концерта, из Леди Макбет. Намеками использованы Вагнер (Траурный марш из „Гибели богов“) и Чайковский (2-я тема 1-й части 6-й симфонии). Да: забыл еще мою 10-ю симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полудюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть, и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе»[417].
Восьмой струнный квартет, в музыкальном отношении необычайно простой и не ставящий перед исполнителями больших трудностей, очень быстро вошел в репертуар многих ансамблей во всем мире и стал одним из наиболее часто звучащих струнных квартетов нашего столетия, подобно тому, как в области симфонической музыки самым исполняемым произведением стала Пятая симфония.
Во второй половине 1959 года Шостакович предпринял две важные поездки. В сентябре он в третий раз посетил Польшу в качестве почетного гостя III фестиваля «Варшавская осень». На фестивале в его присутствии были исполнены Первый фортепианный концерт, Пятый и Шестой квартеты. Вначале предполагалось, что он выступит со своим недавно законченным Вторым фортепианным концертом, а также исполнит Квинтет вместе с находившимся тогда в Польше Квартетом имени Бетховена. К сожалению, с некоторого времени давали о себе знать первые симптомы пареза руки, заставившие Шостаковича почти совершенно отказаться от пианистических выступлений. Позже, в середине 1960-х годов, он ненадолго вернется на сцену, чтобы исполнять свои камерные сочинения. Но последними выступлениями с симфоническим оркестром были концерты в Париже в мае 1958 года. После этого он уже никогда публично не играл своих фортепианных концертов.
Во время III «Варшавской осени» Шостакович встретился с Яном Кренцем, который как раз закончил стереофоническую запись его Девятой симфонии. В фирме «Polskie Nagrania» состоялась небольшая церемония вручения композитору нескольких пластинок с его музыкой. На Польском радио Шостакович дал интервью Витольду Рудзиньскому, очень положительно оценив фестиваль.
Однако через два месяца, в ноябрьском номере «Советской музыки», появилась другая беседа с композитором, лишенная той непосредственности, которой отличалось интервью, данное Витольду Рудзиньскому. Более того, некоторые высказывания Шостаковича даже противоречили варшавской беседе и имели явно идеологический подтекст.
В варшавском интервью Шостакович утверждал: «Идея фестиваля мне очень нравится. <…> Это очень хорошо, что на фестивале встретились музыканты из разных стран, представители различных музыкальных школ… Несомненно, организация встреч такого рода очень способствует… обмену взглядами и развитию дискуссии… и с этой точки зрения фестиваль прошел, как мне кажется, очень удачно». А в «Советской музыке» мы читаем: «Программы нынешнего фестиваля „Варшавская осень“ не отражают подлинного соотношения сил в музыкальном искусстве. У посетителей концертов фестиваля может создаться впечатление, что в мире только и создается додекафонная музыка. <…> И мне хотелось бы выразить пожелание, чтобы на „Варшавской осени“ будущего года прозвучали бы симфонии, песни, кантаты и произведения других жанров, отражающие мысли и чувства миллионов простых людей…»
В беседе с Витольдом Рудзиньским Шостакович отмечал прежде всего положительные стороны: «Я всегда чувствую себя неловко, когда меня спрашивают, что мне больше всего понравилось. <…> С большой радостью должен сказать, что лишний раз убедился в неувядаемости и красоте произведений композиторов старшего поколения, таких как Шимановский, Бела Барток, Игорь Стравинский, Пауль Хиндемит». Об авангарде Шостакович вспомнил только, когда сожалел, что, «например, Франция была представлена главным образом произведениями Пьера Булеза, которые, по моему мнению, заняли на фестивале слишком много места… хватило бы, скажем, одного сочинения». (Это утверждение было не слишком точным: хотя на фестивале исполнялись три произведения Булеза — Вторая соната для фортепиано, Сонатина для флейты и фортепиано и фрагменты «Livre pour quatuor», французская музыка была представлена также сочинениями Альбера Русселя, Артура Онеггера, Жильбера Ами и Андре Жоливе, не говоря уже о почти целой программе экспериментальной музыки Пьера Шеффера.) В «Советской музыке» нет ни слова о творениях классиков нашего века, зато предпринята мощная атака на новые направления, начиная с Шёнберга:
«Узкий догматизм этой искусственно рожденной системы крайне сковывает творческое воображение композиторов и обезличивает их индивидуальность. Не случайно ведь, что во всем наследии творца додекафонной системы А. Шёнберга нет ни одного произведения, которое получило бы широкое признание. <…> …Выразительные возможности додекафонной музыки крайне невелики. В лучшем случае она способна выражать лишь состояния подавленности, прострации или смертельного ужаса, т. е. настроения, противные психике нормального человека, и тем более — человека нового, социалистического общества. <…>
Додекафония не имеет не только будущего, но даже и настоящего. Это только „мода“, которая уже проходит. Порожденные же ею „новейшие“ течения, вроде пуантилизма, уже вовсе выходят за пределы музыки».
Далее начинается сокрушительная критика конкретной музыки, которой вообще отказано в праве на существование. Даже если отвлечься от того факта, что додекафонных сочинений на фестивале было немного, странно, что во всем этом интервью нет ни слова о многих консервативных направлениях, представленных на III «Варшавской осени» «Крутнявой» Сухоня, «Мазепой» Шелиговского, Третьей и Четвертой симфониями Шимановского, Симфонией в трех частях Стравинского (которой аплодировали особенно горячо), Концертом для оркестра Бартока и многими польскими произведениями — Малявского, Шаловского, Списака, Бацевич и других.
Высказывания Шостаковича сильно расходятся даже в оценке исполнения его собственного Первого фортепианного концерта. В Варшаве он говорил: «Что касается исполнителей, то я испытываю к ним самые теплые чувства и сердечно благодарю их за труд и талант, которые они вложили в подготовку произведения», а в русском интервью читаем: «Концерт был исполнен добросовестно, но несколько, как мне кажется, тяжеловесно».
Как объяснить такую непоследовательность? Известно, что Шостакович на протяжении всего фестиваля чувствовал себя очень неловко. Он был членом официальной делегации страны, которая не только не признавала новых тенденций в музыке, но и вообще считала «Варшавскую осень» бельмом на глазу. Агрессивные статьи советских музыковедов и критиков с самого начала сопутствовали польскому фестивалю — достаточно вспомнить необычайно резкое высказывание одного из ведущих музыковедов Юрия Келдыша, напечатанное в «Советской музыке» (1959, № 1 и 2). В Варшаве Шостаковича усадили на почетное место, рядом с доктором Вольфгангом Штайнеке, основателем Международных летних курсов новой музыки в Дармштадте. Обоих музыкантов разделял не только языковой барьер (Шостакович не говорил ни на одном иностранном языке). В области музыки им тоже нечего было сказать друг другу. Очень непосредственный, приветливый и почти постоянно улыбавшийся Штайнеке превосходно чувствовал себя среди новых друзей в Польше, в то время как Шостакович оставался один и не желал покидать своего места даже в перерывах.
Следует, однако, добавить, что организаторы фестиваля не лучшим образом использовали пребывание Шостаковича в Польше. В программе не оказалось ни одного из его наиболее показательных произведений (если не считать Пятого струнного квартета). Не исполнялось ни одной симфонии (а в то время было еще несколько не известных в Польше), не говоря уже о «Леди Макбет», которую извлек из забвения оперный театр в Дюссельдорфе. В период увлечения авангардом и окончательного разрыва с соцреализмом визит Шостаковича в Варшаву был событием скорее парадным, чем чисто художественным.
В октябре 1959 года Шостакович предпринял еще одну поездку — в составе советской делегации отправился в Соединенные Штаты. Приезд советских музыкантов был естественным следствием процесса улучшения советско-американских дипломатических отношений. Этот вопрос с некоторого времени очень занимал Хрущева. После предварительных встреч с американскими бизнесменами, после организации советской выставки в Нью-Йорке и американской в Москве дело наконец дошло до первого визита главы советского правительства в Соединенные Штаты, и по приглашению президента Эйзенхауэра в сентябре 1959 года Никита Хрущев приехал в США.
Таким образом, пребывание советских музыкантов в Соединенных Штатах имело совершенно официальный характер, а кроме того, было ответом на визит американских композиторов, посетивших Советский Союз осенью 1958 года. Тогда приезжали Роберт Сешнс, Питер Меннин, Рой Харрис и Юлиссес Кей, то есть музыканты, творчество которых ни в коем случае не могло вызвать споров. То же самое относилось к следующему визиту в Москву американцев — Аарона Копленда и Лукаса Фосса. Понятно, что это не было случайным. Все поездки подобного рода тщательно планировались обеими сторонами: в СССР — Союзом композиторов, а в Америке — Государственным департаментом.
Советская делегация в составе Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Константина Данькевича, Фикрета Амирова, Бориса Ярустовского и Дмитрия Шостаковича приехала в Соединенные Штаты на целый месяц. Разумеется, ею руководил Хренников, который каждое утро «разбирал» текущие события с остальными членами делегации. Этот «разбор» был обычной раздачей указаний и касался прежде всего содержания возможных заявлений и способа поведения членов делегации на официальных встречах. Хренников на каждом шагу демонстрировал свою власть. Когда одна из радиостанций обратилась к Шостаковичу и Кабалевскому с просьбой дать интервью, на что оба композитора выразили согласие, Хренников тут же наложил запрет. В ответ газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала заявление, что «Хренников уже помешал свободному разговору советских композиторов с американскими музыкальными критиками во время их посещения Советского Союза»[418]. Наконец первый секретарь Союза композиторов дал разрешение на беседу, которая, однако, должна была состояться со всеми членами делегации, а значит, и с Хренниковым. С американской стороны в ней приняли участие композиторы Рой Харрис, Юлиссес Кей, Говард Хенсон и Алан Шалмен, а посредником был говорящий по-русски Николай Слонимский. Темы дискуссии были разными, но касались в первую очередь идеологических вопросов и проблем национального искусства. О национальном многообразии советской музыки, также затронутом в беседе, должен был свидетельствовать состав делегации, в которой, однако, из шести членов лишь двое представляли нерусские национальности: Данькевич был с Украины, а Амиров — из Азербайджана.
Шостаковича один из репортеров описывал так: «Чрезвычайно нервный, заядлый курильщик с блестящими глазами и беспокойными, чаще всего напряженными руками»[419]. В вопросах, задаваемых Шостаковичу, содержалось порой несколько провокационное желание узнать, продолжает ли композитор поддерживать критические замечания в адрес Соединенных Штатов, которые он высказал во время своего предыдущего пребывания здесь в 1949 году. «Шостакович дипломатично ответил через переводчика, что „всегда был другом Соединенных Штатов“, а также „талантливого американского народа“. Он добавил, что ситуация в 1949 году отличалась от нынешней, а его тогдашняя критика „не касается всего американского народа“»[420].
В течение этого месяца американцы организовали много концертов, целиком или частично посвященных музыке гостей в исполнении лучших симфонических коллективов — оркестров из Филадельфии, Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона. Однако реакция слушателей была довольно сдержанной, особенно в больших городах. За исключением Виолончельного концерта и Десятой симфонии Шостаковича, продемонстрированные произведения не были ни новыми, ни достаточно захватывающими. Так, широко представленный Хренников показал американцам свою Первую симфонию 1935 года и сюиту из балета «Много шума из ничего», тоже относящегося к довоенному периоду. Юношеские концерты Кабалевского также не давали полной картины творчества композитора, мало известного в Штатах, разочаровывали невыносимо стереотипные и нашпигованные лозунгами высказывания членов делегации, особенно касающиеся новой музыки, — это были, по сути, варианты суждений, произнесенных Шостаковичем по поводу «Варшавской осени».
Во время торжественного обеда, данного в честь делегации советских музыкантов, создалась напряженная ситуация. Американцы критически выразились о так называемой официальной линии советской музыкальной критики. Реакция же гостей была явно продиктована сверху. Кабалевский не моргнув глазом ответил: «Мы ни в коем случае не утверждаем, что наша жизнь и искусство развиваются без помех. Мы не стыдимся признаться в том, что в прошлом совершали ошибки. Жизнь не может развиваться без ошибок и погрешностей»[421]. Данькевич подчеркнул, что благодаря критике он смог написать новый вариант оперы «Богдан Хмельницкий», которая теперь повсюду пользуется прекрасным приемом. Ярустовский говорил о свободе музыкальной критики, «которая должна передавать все, кроме неправды». По этому случаю Хренников заверил американскую сторону, что в отчетах о пребывании в Америке не найдется ни одного лживого слова.
Обещанный отчет, подписанный Хренниковым и Шостаковичем, появился 11 декабря в «Правде», а одобрение и критика американской музыкальной жизни оказались в нем дипломатично сбалансированы. Критика касалась, между прочим, новейших направлений и — как обычно — додекафонии, которую американские композиторы не только применяют, но и преподают. Как сообщалось в отчете, источником разногласия в дискуссиях было обвинение, что в Советском Союзе додекафония запрещена, тогда как дело обстоит совсем иначе, ибо додекафония не запрещена, а просто не привилась ни среди исполнителей, ни среди публики.
Во время упомянутого обеда только Шостакович не участвовал в дискуссии. Однако и его в конце концов втянул в разговор один из журналистов, заявивший о том, насколько ему приятен факт, что создатель «Ленинградской» симфонии не является членом коммунистической партии. Шостакович, вынужденный отвечать, от волнения заговорил лозунгами: «Коммунистическую партию Советского Союза считаю самой прогрессивной силой мира, всегда прислушивался к ее советам и буду прислушиваться к ним всю жизнь». Но когда посыпались более конкретные вопросы, в том числе касающиеся «Леди Макбет», Шостакович отказался от всяких комментариев, твердя, что «слишком устал».
Советские композиторы провели ряд встреч с американскими коллегами. Они навестили Самюэля Барбера и Джан Карло Менотти, встретились с Аароном Коплендом и Николаем Слонимским, прослушали много новых произведений. Один день Шостакович провел в Библиотеке конгресса, где с волнением просматривал хранящиеся там рукописи Брамса, дневники Паганини, письма Чайковского и Балакирева.
После почти месячного пребывания в Соединенных Штатах Шостакович и Кабалевский отправились в Мексику. В то время там находился Александр Гаук со скрипачом Игорем Безродным и пианистом Дмитрием Башкировым. Шостакович стал свидетелем триумфа своей Пятой симфонии. А после концерта состоялась церемония присуждения Шостаковичу, Кабалевскому и Гауку звания почетных профессоров Мексиканской консерватории. Как вспоминал Александр Гаук, тогда же прошла и пресс-конференция, на которой Шостакович, отвечая на вопросы, сказал, в частности, следующее: «Никакие произведения не находились под запретом, а подвергались лишь критике». Каким своим сочинением он доволен? «Если бы мне пришлось испытать чувство удовлетворения от своих сочинений, то я перестал бы быть композитором»[422].
Визит советских музыкантов в США, как и оба визита американцев в Москву, имел в первую очередь политическое значение. Для Шостаковича вторая поездка в Америку оказалась несколько более легкой, чем предыдущая, и послужила свидетельством того, что его вовлечение в политические дела, несмотря на хрущевскую политику разрядки и либерализации, зашло опасно далеко. И ближайшее будущее подтвердило это.
15 сентября 1960 года ТАСС сообщило: «В среду известный советский композитор Дмитрий Шостакович был принят кандидатом в Коммунистическую партию Советского Союза». Для многих это была неожиданная и будоражащая новость. Несмотря на своеобразное сотрудничество Шостаковича с Кремлем, несмотря на полученные им бессчетные награды и титулы, российская интеллигенция всегда видела в нем человека, стоящего вне системы. Десятилетиями его музыка позволяла сохранять веру в гуманистические ценности, казалось бы, последовательно попираемые и уничтожаемые. Это представление поддерживали как последние сочинения, так и поведение композитора, который, лишь только Хрущев начал процесс десталинизации, стал не жалея сил помогать преследуемым. Он писал и подписывал просьбы о реабилитации ссыльных музыкантов, помогал уцелевшим вернуться и найти работу, отдавал огромное количество времени на всевозможную помощь нуждающимся. А еще ранее он старался смягчить некоторые резкие распоряжения Сталина в области культурной политики. Но теперь власти решили назначить Шостаковича секретарем Союза композиторов РСФСР, а из этого следовало, что он должен вступить в партию.
Исаак Гликман вспоминал: «…29 июня (1960 года. — К. М.) рано утром — Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и попросил немедленно прийти к нему. Когда я мельком взглянул на него, меня поразило страдальческое выражение его лица, растерянность и смятение. Дмитрий Дмитриевич поспешно повел меня в маленькую комнату… бессильно опустился на кровать и принялся плакать, плакать громко, в голос. Я со страхом подумал, что с ним или с его близкими произошло большое несчастье. На мои вопросы он сквозь слезы невнятно произносил: „Они давно преследуют меня, гоняются за мной…“ В таком состоянии я никогда не видел Дмитрия Дмитриевича. Он был в тяжелой истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался. Примерно час спустя Дмитрий Дмитриевич, взяв себя в руки, начал мне рассказывать о том, что с ним случилось некоторое время тому назад в Москве. Там было решено по инициативе Хрущева сделать его председателем Союза композиторов РСФСР, а для того чтобы занять этот пост, ему необходимо вступить в партию. Такую миссию взялся осуществить член Бюро ЦК по РСФСР П. Н. Поспелов.
Вот что говорил мне (текстуально) Дмитрий Дмитриевич… „Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал — ‘молодостью’, его грандиозными планами, и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталиным, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Поспелов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Поспеловым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался“.
<…> Я напомнил ему, как он часто говорил мне, что никогда не вступит в партию, которая творит насилие. После больших пауз он продолжал: „В Союзе композиторов сразу узнали о результате переговоров с Поспеловым, и кто-то успел состряпать заявление, которое я должен как попугай произнести на собрании. Так знай: я твердо решил на собрание не являться. Я тайком приехал в Ленинград, поселился у сестры, чтобы скрыться от своих мучителей. Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое. А если это не произойдет, то я буду сидеть здесь взаперти. Но вот вчера вечером прибыли телеграммы с требованием моего приезда. Так знай, что я не поеду. Меня могут привезти в Москву только силком, понимаешь, только силком“.
Сказав эти слова, звучавшие, как клятва, Дмитрий Дмитриевич вдруг совершенно успокоился. Своим, как ему казалось, окончательным решением он как бы развязал тугой узел, стянувший его горло. <…> Обрадованный этим, я попрощался с Дмитрием Дмитриевичем… Однако он… сам без предупреждения приехал 1 июля поздно вечером ко мне в Зеленогорск с бутылкой водки. <…> Дмитрий Дмитриевич выглядел измученным, вероятно, после бессонной ночи с ее душевными переживаниями.
Дмитрий Дмитриевич, едва переступив порог нашей хижины, сказал: „Извини, что так поздно“. <…>
Захмелев от выпитой водки, Дмитрий Дмитриевич… процитировал строку из пушкинских „Цыган“: „И от судеб защиты нет“. Слушая его, я вдруг с грустью подумал, не склонен ли он покориться судьбе, сознавая невозможность сразиться с ней и победить ее»[423].
Вскоре после этого должно было состояться собрание, на котором предполагалось торжественно принять композитора в партию. Пропаганда подняла вокруг этого события много шума. Открытое партийное собрание было широко разрекламировано, и все прошло бы по плану, если бы не тот факт, что на собрание не явился… сам Шостакович. Организаторам пришлось дать малоправдоподобную информацию о его болезни и извиниться перед присутствующими, что это стало известно только в последнюю минуту. Скандальный привкус происходящего позволял понять, что Шостаковича вынудили к этому шагу.
Таким образом, его приняли в партию позже, 14 сентября, и по этому случаю состоялось открытое собрание Союза композиторов. Шостакович пробормотал по бумажке заранее подготовленный текст, гласивший, что он не представляет себе жизни вне партии, в ряды которой вступает только сейчас, потому что раньше считал себя недостойным такой чести. Лишь однажды он оторвал голову от бумажки и внезапно повысил голос: «Всем, что во мне есть хорошего, я обязан…» — и тут все ожидали услышать обычное продолжение: «…коммунистической партии и советскому правительству». Но Шостакович драматически выкрикнул: «…моим родителям!» Владимир Ашкенази в своих воспоминаниях писал, что это был один из немногих случаев, когда Шостаковича видели — уже после собрания — горько плачущим.
Многие друзья отвернулись тогда от композитора; в частности, Виссарион Шебалин сказал, что до сих пор мог простить ему все, но вступления в партию не забудет ему никогда.
В 1960 году Шостакович вместе с Евгением Мравинским, Геннадием Рождественским и оркестром Ленинградской филармонии выехал в концертную поездку по Англии, Франции, Италии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Среди исполнявшихся произведений не последнее место занимала его музыка, особенно Пятая и Восьмая симфонии.
Два крупных сочинения — Десятая и Одиннадцатая симфонии — все больше возбуждали интерес в музыкальном мире: какой будет следующая симфония Шостаковича? О двенадцатом произведении этого жанра композитор, по его словам, «начал… уже думать тогда, когда закончил свою 11-ю симфонию, посвященную русской революции 1905 года»[424]. Будучи в 1958 году в Париже, он сообщил в одном интервью, что делает новую редакцию «Леди Макбет» и задумал Двенадцатую симфонию. 6 июня 1959 года он признался на страницах «Советской культуры»: «В настоящее время меня все более и более захватывает мысль написать произведение, посвященное бессмертному образу Владимира Ильича Ленина». Во второй половине следующего года можно было прочитать в журнале «Музыкальная жизнь»: «Из четырех частей симфонии две уже почти завершены. <…> Поскольку замысел у меня достаточно созрел, я позволю себе рассказать о Двенадцатой симфонии, о ее содержании… <…> Первая часть задумана мною как музыкальный рассказ о приезде В. И. Ленина в Петроград в апреле 1917 года, о его встрече с трудящимися… Вторая часть отразит исторические события 7 ноября. Третья часть расскажет о гражданской войне, а четвертая — о победе Великой Октябрьской социалистической революции»[425].
В феврале газеты известили о том, что Двенадцатая симфония уже готова и в ближайшее время состоится ее премьера. Новое сочинение было включено также в программу «Пражской весны» 1961 года. Однако вопреки сообщениям в прессе Шостакович еще не написал последней части. К тому же новое произведение было совсем иной симфонией, чем та, о которой он упоминал в «Музыкальной жизни». В очередной раз авторские высказывания не соответствовали музыке. Первая часть носила название «Революционный Петроград», вторая не рассказывала историю прибытия Ленина в город, а была названа «Разлив» (место, где скрывался Ленин). Третья часть — это не Гражданская война, а «Аврора» (с иллюстративным изображением исторического выстрела).
После сочинения первых трех частей Шостакович не сразу сумел найти убедительное заключение. С момента завершения третьей части в конце 1960 года он неоднократно размышлял о финале, но без успеха. Так прошли «Пражская весна» 1961 года и другие запланированные даты премьеры. Только летом он внезапно в молниеносном темпе сочинил последнюю часть — «Заря человечества» — и таким образом 22 августа 1961 года закончил симфонию. «Мне очень хотелось, чтобы она [Двенадцатая симфония] была закончена к XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза, — говорил Шостакович по радио. — И мне это сделать удалось — мне удалось закончить симфонию к этой исторической дате в жизни нашей Родины»[426].
Через неделю, 29 августа 1961 года, композитор, до того состоявший в кандидатах в члены КПСС, подал заявление с просьбой принять его в партию. В заявлении говорилось:
«За прошедшее время я почувствовал еще сильнее, как мне необходимо быть в рядах Коммунистической партии Советского Союза. В своей общественной и творческой работе я повседневно ощущал руководство партии и прилагал свои силы для того, чтобы оправдать доверие партии, народа и своих товарищей по Союзу советских композиторов. Во всей моей деятельности имеется немало недостатков, но партия помогала, помогает и будет помогать мне их преодолевать и исправлять… Я даю торжественное заверение, что приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше доверие, дорогие товарищи коммунисты»[427].
Вскоре в Союзе композиторов в Москве Борис Чайковский и Моисей Вайнберг показали симфонию в четырехручном переложении. Премьера была назначена на октябрь-период заседаний XXII съезда партии. 1 октября произведение прозвучало одновременно в двух городах: в Ленинграде (под управлением Евгения Мравинского) и в Куйбышеве (под управлением Абрама Стасевича). 15 октября в Москве симфонией продирижировал Константин Иванов.
К сожалению, произведение не оправдало ожиданий. В его основу положен материал не лучшего сорта. Тематизм порой поражает банальностью, а порой — чрезмерным пафосом. Двенадцатой симфонии не хватает той непосредственности, какой отличалась ее предшественница. Музыкальный язык, хотя и очень шостаковичский, лишен той свежести, которая так часто пленяет во многих других сочинениях композитора.
Двенадцатая симфония является продолжением Одиннадцатой и одновременно — ее противоположностью. Как и предыдущая, она состоит из четырех частей, снабженных программными названиями и исполняемых без перерыва. Но в ней нет никаких цитат. Первая часть — развитое сонатное Allegro огромного размаха: композитор почти постоянно оперирует всем оркестровым составом и динамикой fortissimo. Обе темы похожи друг на друга, что придает музыке однородность, почти монолитность.
Во второй части, масштабном Adagio, ощущается непосредственная связь с симфонизмом Малера. Однако пространные речитативы солирующих инструментов и простая тональная гармония звучат не особенно убедительно, чувствуются даже определенные длинноты; правда, нельзя отказать некоторым фрагментам «Разлива» в оригинальности и красоте.
«Аврора» становится кульминацией всей симфонии. Хотя это и третья часть, но не скерцо, а как бы прелюдия к Финалу. Быть может, это наиболее интересный фрагмент симфонии с характерным развертыванием от еле слышного pianissimo до fortissimo tutti на грани между третьей и четвертой частями.
Помпезно-оптимистический Финал, несомненно, уступает трем предшествующим частям. Шостакович использовал в нем ранее уже употреблявшиеся темы и, кроме того, ввел цитату из хорового раздела своей Второй симфонии. Произведение заканчивается патетической кодой, напоминающей финал Пятой симфонии, но, впрочем, имеющей прообраз и в завершении Третьей симфонии Малера.
Новая симфония, одно из самых слабых сочинений Шостаковича, не приобрела особой популярности. Большинство ее исполнений состоялось в Советском Союзе, и то скорее по случаю — например, при праздновании очередных годовщин Октябрьской революции или на концертах во время съездов партии. За границей первым исполнителем Двенадцатой симфонии был Леопольд Стоковский, получивший партитуру уже в ноябре 1961 года. На этот раз американская премьера вызвала негативную и в высшей степени критическую реакцию. Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью под названием «Неужели существует два Шостаковича?». По мнению автора статьи, Двенадцатая симфония еще раз подтверждала тезис, что Шостакович всю жизнь писал музыку двух видов: сложную, утонченную — для себя, для знатоков и для потомков, и «демократическую» — по заказу и по приказу свыше. Особенно отрицательную оценку получила Двенадцатая симфония после исполнения на фестивале в Эдинбурге. Питер Хейуорт написал тогда: «Многие годы западный мир видел в Шостаковиче жертву сталинизма, а великолепный Скрипичный концерт и Десятая симфония, появившиеся после смерти Сталина, как будто подтверждали это мнение. <…> В чем же причина того, что композитор, которому мы обязаны замечательной музыкой, наполненной человеческим теплом, юмором и тонкой иронией, сегодня представил нам столь монументальную тривиальность?»[428]
И действительно, в чем причина? Возможно, ответ на этот вопрос нашел Ростропович, который сказал однажды: Шостакович «написал „Песнь о лесах“ для Сталина, он написал симфонию, которая называется „Ленин“, он написал симфонию, которая называется „1905 год“. И только единственно его совесть не позволила ему написать это так хорошо, чтобы это осталось в истории. <…> Жаль, что время гения было на это убито»[429]. Сюда можно добавить воспоминания Эдисона Денисова, который рассказал, что Шостакович под конец жизни часто говаривал: «Как бы я хотел уменьшить количество своих симфоний!»[430]
В наши дни Двенадцатая симфония очень редко исполняется за границей. Она известна прежде всего по записям, среди которых лучшей является интерпретация Евгения Мравинского. Симфония «1917 год», посвященная памяти Ленина, замыкает столь трудный для Шостаковича период, каким были 1948–1961 годы.
Глава двадцать четвертая 1961–1963
Десталинизация после XXII съезда КПСС. — Приезд Стравинского в СССР. — Исполнение Четвертой симфонии. — Тринадцатая симфония. — Постановка «Катерины Измайловой»
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, состоявшийся в октябре 1961 года, открыл новый этап перемен, наступивших после смерти Сталина. Десталинизация нашла выражение в повседневной жизни, в науке, искусстве и во многих других областях. Правда, она не протекала ни с желаемой быстротой, ни беспрепятственно, и тем не менее XXII съезд имел для этого процесса гораздо большее значение, чем XX съезд. Ведь доклад Хрущева, прочитанный в 1956 году «за закрытыми дверями», не был опубликован. Саркофаг с гробом Сталина продолжал покоиться в Мавзолее рядом с телом Ленина, а его имя пестрело в названиях городов, улиц, заводов и колхозов. Реабилитированные вынуждены были хранить молчание, общественные науки официально не выражали взглядов, представленных на XX съезде. После XXII съезда изменения пошли значительно дальше. Теперь преступления Сталина обсуждались не на закрытых собраниях, а официально, причем говорилось не только о нем самом и Берии, но и о других приспешниках Сталина.
В культуре и искусстве начала 60-х годов наблюдались две противоположные тенденции. Первая из них, прогрессивная, характеризовалась попытками преодоления догматизма, расширения творческих возможностей, выказывала признаки определенной терпимости, либерализма и склонность к диалогу с властями, впрочем, ограниченному. Вторая заключалась в продолжении сталинских методов. Обе тенденции проявлялись во всех областях искусства. В литературе первая из них полнее всего выражалась в публикациях журнала «Новый мир», во главе которого тогда стоял Александр Твардовский; вторая тенденция была особенно заметна на страницах журнала «Октябрь», руководимого Всеволодом Кочетовым, типичным сталинистом.
В общественном сознании художественная литература играла особенно важную роль. Поэтому символом оттепели стало издание в 1961 году сборника стихов Марины Цветаевой, великой русской поэтессы, затравленной сталинским режимом и совершившей самоубийство вскоре после возвращения из эмиграции, в 1941 году. Большой интерес вызвали также воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», где рассказывается о периоде террора. Наконец, в 1962 году в ноябрьском номере «Нового мира» была напечатана повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; риск этой публикации взял на себя Александр Твардовский, обратившийся за разрешением на нее к самому Хрущеву. Аналогичным образом ситуация изменялась к лучшему в кинематографии и отчасти в изобразительном искусстве, хотя попыткам обрести большую творческую свободу часто сопутствовали драматические события.
Вопросами литературы и искусства занимался лично Никита Хрущев. Он проявлял полное отсутствие понимания во всем, что касается культуры, а непоследовательность и невежество первого секретаря умело использовались консервативной частью партийного аппарата. Высказывания и поступки советского лидера зачастую были противоречивыми. К примеру, он одновременно поддерживал Лысенко[431] и Твардовского, Эренбурга и уже упомянутого Кочетова. Хрущев вступал в открытый конфликт с некоторыми деятелями культуры, делал директивные заявления, полагаясь на случайных советчиков, причем во время дискуссии нередко вскипал и начинал кричать.
Особенно яркий пример такого поведения Хрущева — его посещение художественной выставки в Манеже 1 декабря 1962 года, на которой наряду с традиционной живописью были показаны произведения абстрактного искусства. Как вспоминал прославленный скульптор Эрнст Неизвестный, «Хрущев грозно ругался и возмущался мазней. Именно там он заявил, что „осел мажет хвостом лучше“»[432]. Еще хуже бывало, когда при помощи административных приказов реализовывалась политика уничтожения архитектурных памятников. В начале 60-х годов было снесено много церквей, и среди них необыкновенно красивая церковь Преображения в Москве. В знак протеста верующие заперлись внутри храма, и только милиция смогла заставить их выйти оттуда. Когда известный поэт Сергей Михалков высказал Хрущеву свое возмущение, тот рявкнул: «О десятке церквей жалеете, а о сотнях тысяч людей, нуждающихся в жилище, не подумали?»[433]
В то же время Хрущев любил встречаться с художественной интеллигенцией. Эти встречи имели чисто пропагандистский характер, на них царила свободная атмосфера и, как правило, гарантировалось обильное угощение. На таких встречах у Хрущева бывали Твардовский, Солженицын, Шостакович, Евтушенко, и случалось, что доходило до настоящих дискуссий. Воспользовавшись именно такой возможностью, поэт Евгений Евтушенко сумел не только выступить в защиту абстрактной живописи, но и обвинить Хрущева в пропаганде антисемитизма. Абстракционистов защищал и Шостакович, который вместе с несколькими другими представителями литературы и искусства подписал официальный протест.
Но в музыкальной жизни перемены наступали медленно, поскольку Хренников заботился о том, чтобы консервативные силы удерживали свои решающие позиции. Однажды случилось даже так, что Хрущев устроил Шостаковичу серьезный скандал по поводу концерта самодеятельности, на котором среди прочих выступили джазовые коллективы, особенно разгневавшие главу партии и правительства. Первый секретарь в бешенстве орал на Шостаковича, что не подозревал его в таком безвкусии. В результате джаз оказался официально исключен из советской музыкальной жизни.
На встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, организованной 8 марта 1963 года, Хрущев продемонстрировал свое невежество, выступив на тему музыки. Он, в частности, сказал:
«Я видел русские, украинские, казахские… и другие танцы. Это красивые танцы, смотреть их приятно. А то, что называют современными модными танцами, это просто какие-то непристойности, исступления, черт знает что. Говорят, что такое неприличие можно увидеть только в сектах трясунов. Не могу подтвердить, так как сам никогда не был на сборищах трясунов.
Оказывается, что среди творческих работников встречаются такие молодые люди, которые тщатся доказывать, что будто бы мелодия в музыке утратила право на существование и на смену ей приходит „новая“ музыка — „додекафония“, музыка шумов. Нормальному человеку трудно понять, что скрывается за словом „додекафония“, но, по всей вероятности, то же самое, что и за словом „какофония“. Так вот эту самую какофонию в музыке мы отметаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение этот мусор»[434].
Несмотря на подобные постыдные выступления, в музыкальной жизни время от времени происходили значительные события. Одним из первых признаков неотвратимости перемен был приезд Леонарда Бернстайна с Нью-Йоркским оркестром, состоявшийся еще в 1959 году. В программе концертов великого дирижера среди прочих произведений присутствовали «Весна священная» и Фортепианный концерт Игоря Стравинского. Бернстайн во всеуслышание заявил, что исполнению «Весны священной» придает особое значение, так как это сочинение не звучало в России уже около тридцати лет. Немного позднее приехал канадский пианист Гленн Гулд, представивший музыку Антона Веберна, а другой дирижер, Роберт Шоу, познакомил московскую публику с ранними хоровыми произведениями Арнольда Шёнберга. Наконец, в 1962 году, после почти 50-летнего отсутствия, в Россию прибыл сам Игорь Стравинский.
Визит отца модернизма на родину имел огромное значение, в том числе и политическое. Стравинский всю свою жизнь не скрывал ненависти к большевикам и их идеологии, и по этой причине он в 1925 году отклонил официальное приглашение Анатолия Луначарского. В те годы исполнение его музыки было еще возможно, на концертных эстрадах звучали почти все его важнейшие произведения, а в 1929 году Борис Асафьев издал свою «Книгу о Стравинском». Но уже в 1930-е годы начались нападки на творца «Весны священной». В 1933 году музыковед Арнольд Альшванг одним из первых написал такую статью, открывавшуюся утверждением, что Стравинский — «крупный и почти всесторонний художественный идеолог империалистической буржуазии»[435]. Массированные атаки на великого композитора достигли апогея в 1948 году. Асафьев говорил тогда о Стравинском как о «молотобойце русской мелодии», музыковед Григорий Шнеерсон писал о его «затхлой реакционности», а Хренников — о «затхлой атмосфере», в которой пребывает этот композитор. Еще в 1951 году Израиль Нестьев в статье «Долларовая какофония» заявлял, что Стравинский — «оголтелый проповедник буржуазных модернистов»[436].
Стравинский приехал в Советский Союз по приглашению Хренникова, который, как обычно, быстро приспособился к политическим изменениям. Во время трехнедельного пребывания композитора в Москве и Ленинграде его окружали крупные музыканты и старые знакомые: полная обожания Мария Юдина, композиторы Юрий Шапорин, Кара Караев, Карен Хачатурян, дирижер Кирилл Кондрашин, первая жена Прокофьева, сын Римского-Корсакова Владимир, дочь поэта Константина Бальмонта, племянница Стравинского Ксения. Не обошлось без Израиля Нестьева и Бориса Ярустовского — музыковедов, которые прежде состязались в оплевывании Стравинского. Не было только Шостаковича.
Шостакович словно бы избегал этой встречи. В день прилета Стравинского в Москву он находился в Ленинграде, участвуя в праздновании столетия консерватории, и лишь послал оттуда телеграмму, приветствуя «прославленного композитора на родной земле». Когда Стравинский приехал в Ленинград, Шостакович уже был в Москве. Однако им все же довелось встретиться, и даже три раза. В первый раз они мимоходом увиделись 26 сентября на концерте Стравинского в Большом зале консерватории. Вторично они встретились во время торжественного обеда, на котором по приглашению тогдашнего министра культуры Е. Фурцевой присутствовали несколько избранных композиторов. Карен Хачатурян рассказывал, что Шостакович, в высшей степени взволнованный, сидел боком к Стравинскому. Неоднократные попытки последнего завязать беседу не давали результата: Шостакович отвечал односложно и разговора не поддерживал. Уже казалось, что из встречи ничего не получится, когда Стравинский внезапно спросил: «Вы любите Пуччини?» Шостакович почти выкрикнул: «Терпеть не могу, терпеть не могу!», что вызвало нескрываемую радость Стравинского, и диалог как-то наладился.
О третьей встрече, состоявшейся перед отъездом Стравинского, писал Роберт Крафт:
«10 октября 1962.
<…> Вечерний прощальный банкет в „Метрополе“ — приятная встреча без речей и официальной атмосферы. Настроение становится даже слишком свободным, и по залу начинают летать хлебные шарики и даже яблоки. На этот раз мужья сидят со своими женами, а все жены, с которыми мы познакомились, работают химиками, археологами, врачами, научными работниками.
Шостакович, на сей раз бок о бок со Стравинским, выглядит еще более испуганным и удрученным, чем во время первого конклава, возможно, опасаясь, что от него ждут какого-то выступления. Поначалу заводит разговор на общие темы, а потом внезапно, как робкий ученик, выпаливает, что Симфония псалмов ошеломила его, когда он услышал ее впервые, что он сделал ее переложение для фортепиано и хотел бы подарить его Стравинскому. Желая отплатить за комплимент, Стравинский говорит, что в какой-то степени разделяет его огромное уважение к Малеру. В этот момент Шостакович начинает оттаивать, но тут же снова становится натянутым, когда Стравинский продолжает свою мысль:
— Но нужно пойти дальше Малера. Знаете, венская тройка тоже его обожала, Шёнберг и Веберн дирижировали его произведениями.
Под конец вечера и после некоторого количества „зубровок“ Шостакович делает потрясающее признание, что хотел бы последовать примеру Стравинского и дирижировать своей музыкой.
— Только не знаю, что делать, чтобы не волноваться»[437].
О том, чтобы между двумя великими композиторами завязались добрые отношения, вероятно, не могло быть и речи. Их разделяла пропасть в политических, художественных и эстетических взглядах. К тому же существовали факты, которые в принципе делали корректные отношения невозможными. В конце 1930-х годов Стравинский в «Музыкальной поэтике» очень критически отозвался о Пятой симфонии Шостаковича и даже дошел до утверждения, что Сталин не без оснований осудил «Леди Макбет»; об этой опере он критически высказывался и при других обстоятельствах[438]. Со своей стороны, Шостакович действительно восхищался некоторыми сочинениями Стравинского, принимал участие в первом российском исполнении «Свадебки», но в худшие годы террора высказывал о нем весьма отрицательные суждения. Все это стало причиной того, что единственная встреча двух мастеров не смогла увенчаться завязыванием близких контактов.
Под конец своего пребывания Стравинский был принят Никитой Хрущевым и 11 октября покинул Советский Союз. Шостакович к тому времени был целиком поглощен делами своего творчества, которое уже почти год как снова стало предметом горячих споров и всеобщего внимания.
Вступление в партию, очередная серия высказываний, наполненных идеологической фразеологией типа «Воспеть коммунизм»[439], «Правдиво отражать нашу современность»[440], «Оправдаем доверие партии»[441] и «Нас вдохновляет партия»[442], наконец, явно пропагандистская, поверхностная и просто неудачная Двенадцатая симфония привели к тому, что мнение о Шостаковиче начало меняться. В глазах интеллигенции его поведение было проявлением обыкновенного соглашательства, не соответствующего образу жертвы сталинских преследований. Казалось, что в прошлые годы он обладал большим мужеством — хотя бы сочиняя Еврейские песни в период наивысшего расцвета антисемитизма. Но может быть, его последние выступления в прессе и Двенадцатая симфония стали той ценой, которую он вынужден был или хотел заплатить за увеличение свободы действий и возможность защитить другие, очень личные произведения, выражавшие его творческое кредо?
Такое объяснение подсказывают факты. Вспомним, что вскоре после премьеры Двенадцатой симфонии произошло необычное музыкальное событие: 30 декабря оркестр Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина впервые исполнил Четвертую симфонию. Таким образом, через двадцать пять лет с момента ее создания любители музыки смогли услышать это незаурядное произведение.
Идея воскрешения Четвертой симфонии не принадлежала композитору. Но, хотя в последние годы Шостакович критически отзывался о своем творении, это все же не означало, что он был бы против возможного исполнения. В 1955 году на встрече с молодыми композиторами он сказал: «Все мои произведения — симфонические, камерные и другие — дороги мне, за исключением тех, которые, быть может, вообще не удались мне. Об этом поговорим как-нибудь в другой раз…» Говоря это, он, вероятно, имел в виду и Четвертую симфонию, поскольку в опубликованной стенограмме встречи это высказывание уточняется: «Подавляющее большинство моих симфонических, камерных и прочих произведений для меня и поныне дорого, за исключением, может быть, абсолютно неудачных Второй, Третьей и Четвертой симфоний»[443]. Впрочем музыкальный мир уже успел привыкнуть к полным противоречий заявлениям мастера; его суждения, часто произносимые как бы впопыхах, изменялись под влиянием минуты…[444]
Художественный руководитель Московской филармонии Моисей Абрамович Гринберг, не посоветовавшись с Шостаковичем, предложил Кириллу Кондрашину изучить симфонию. Дирижер получил переложение для двух фортепиано, изданное еще в 40-х годах, потому что единственный экземпляр партитуры, восстановленной по оркестровым голосам, в тот момент был недоступен. В своих воспоминаниях Кондрашин писал:
«Встретил он [Шостакович] меня очень дружески и сказал: — Прошло столько лет, я многое забыл, партитура утеряна. Оставьте мне переложение, я просмотрю его, послезавтра приходите, мы решим, стоит ли играть сочинение или надо его переделывать.
Через два дня я явился в назначенный час, и Дмитрий Дмитриевич, возвращая мне клавир, сказал:
— Можно играть. <…> Переделывать ничего не надо. В этой симфонии есть дорогое мне и теперь»[445].
Он не изменил в симфонии ни малейшей детали. А когда в конце года начались репетиции, не пропустил ни одной. Было очевидно, что Четвертая симфония особенно близка ему, а приближающаяся премьера имеет для него колоссальное значение.
Трудно описать, что творилось после исполнения Четвертой в переполненном Большом зале консерватории. Замечательному успеху сопутствовало огромное волнение музыкантов, слушателей и самого автора. Эта трагическая и необыкновенная музыка совсем не утратила своей свежести и новизны. Как писал один из критиков, симфония «…отличается необычной даже для Шостаковича силой выразительности, напряжением, очень резкими контрастами, неожиданными, нервными сменами настроения. Это произведение мощного трагического дыхания и бурных страстей, насыщенное движением и жизнью. Молодой Шостакович… предстает перед нами зрелым мастером, который вполне постиг тайны симфонической драматургии, возможностей и средств современного оркестра, современной полифонии. В этом сочинении он не боится никаких, даже самых жестких „взрывов“ и гармонических сцеплений, если того требует внутренняя концепция. Многие элементы, впервые появившиеся в этой симфонии, позднее обнаружатся в Пятой, Седьмой, Восьмой и Девятой симфониях. Слушатель не сразу может сориентироваться в лабиринте порой очень сложных мыслей. Непросто ухватить общую концепцию произведения. Но сила творческого воздействия… меткость „внутренних попаданий“, незаурядный талант композитора держат слушателя в постоянном напряжении и проникают в глубину души. Об этом свидетельствует колоссальный успех симфонии у обычной, „абонементной“ публики, которая до отказа заполнила зал консерватории. Несмотря на сложность и „агрессивность“ некоторых фрагментов экспозиции первой части, музыка всецело захватывает слушателя своей острой динамикой, смелым противопоставлением драматических, лирических и жанровых образов, свежестью красок, богатством оркестровой палитры. <…> Советская (и не только советская) музыка получила превосходный „новогодний“ подарок: 30 декабря 1961 года воскресла из небытия великая симфония, которая встала в ряд с лучшими симфониями XX века»[446].
Исаак Гликман вспоминал слова композитора, который под впечатлением собственного сочинения неожиданно признался ему: «Мне кажется, что Четвертая во многих отношениях выше моих последних симфоний»[447].
О том, каким огромным переживанием должно было стать это для Шостаковича, свидетельствуют воспоминания композитора более молодого поколения, в то время представителя авангарда, Андрея Волконского: «Когда наконец дело дошло до премьеры Четвертой симфонии под управлением Кирилла Кондрашина, через 25 лет после ее создания, это было настоящим праздником. Друзья хотели организовать прием в честь Шостаковича, но он исчез сразу после концерта. Один композитор, находившийся с ним в приятельских отношениях, обнаружил Шостаковича в его квартире, застав его за чтением книги, которую тот сразу спрятал. Когда позже Шостакович вышел на кухню, чтобы принести гостю водки, тот не мог сдержать любопытства и посмотрел, что это за книга: оказалось, это краткая биография Сталина»[448].
Не раз композитор, как одержимый, мысленно возвращался в 30-е годы…
Итак, 1961 год принес публике как бы две новые симфонии. Тем временем — по принципу серии — в конце следующего года москвичи с величайшим изумлением увидели на афишах объявление о скорой премьере еще одной симфонии! Как оповещали афиши, Тринадцатая симфония была сочинена для баса соло, хора басов и большого симфонического оркестра. Композитор положил в ее основу стихи молодого, но уже прославившегося поэта Евгения Евтушенко.
Работу над симфонией Шостакович начал еще в марте 1962 года, и это известие довольно быстро просочилось в музыкальную среду. Первым узнал об этом Евтушенко, у которого композитор, что примечательно, только после окончания первой части попросил разрешения использовать его стихи. Выбранное Шостаковичем стихотворение «Бабий Яр» было в то время предметом ожесточенных дискуссий и споров. Посвященное трагедии евреев, убитых в овраге Бабий Яр под Киевом, оно навлекло на автора нападки консервативных кругов за якобы одностороннее освещение темы. Евтушенко обвинили в отсутствии патриотизма и в том, что в своей поэзии он показал только трагедию евреев, не вспомнив о погибших в Бабьем Яру людях других национальностей.
Начиная работу над новой партитурой, композитор не был уверен в выборе жанра. Сперва он вообще не думал о симфонии: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы „Бабий Яр“ на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Для второй части я взял стихи „Юмор“, для третьей — стихи „В магазине“. Стихотворение „Страхи“, положенное в основу четвертой части, Евтушенко написал специально, имея в виду мою симфонию. Финал написан на стихи „Карьера“… Никакой сюжетной связи между всеми этими стихотворениями нет. Но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин»[449].
Такое запоздалое решение относительно жанра и формы было для Шостаковича чем-то исключительным.
Наконец настал момент первой встречи Евтушенко с композитором:
«В 63-м году раздался телефонный звонок. Подошла моя жена. „Простите, мы с вами незнакомы, это говорит Шостакович. Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович дома?“ — „Дома. Работает. Я сейчас его позову…“ — „Работает? Зачем же его отрывать? Я могу позвонить в любое другое время, когда ему будет удобно…“ В этом был весь Шостакович. Он понимал, что такое работа. <…> Я подошел к телефону, естественно, взволнованный. Шостакович смущенно и сбивчиво сказал мне, что хочет написать „одну штуку“ на мои стихи, и попросил у меня на это разрешения.
Нечего и говорить, как я был счастлив уже одному тому, что он прочел стихи. Но, несмотря на свое счастье, я все-таки очень сомневался, тревожился, даже дергался, когда через месяц он пригласил меня к себе домой послушать то, что написал. Впрочем, дергался и Шостакович. У него уже тогда болела рука, играть ему было трудно. Меня потрясло то, как он нервничает, как он заранее оправдывается передо мной и за больную руку, и за плохой голос. Шостакович поставил на пюпитр клавир, на котором было написано „13-я симфония“, и стал играть и петь. К сожалению, это не было никем записано, а пел он тоже гениально — голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: „Ну как?“»[450]
В поисках аналогии между Тринадцатой симфонией и каким-нибудь другим сочинением Шостаковича следует обратить внимание на Восьмую симфонию. Эти произведения роднит не только схожая пятичастная структура, в которой последние три части исполняются без перерыва, но и близкие по типу экспрессия и драматизм. Обе симфонии — как и следующая, Четырнадцатая — это самая трагическая музыка Шостаковича (если не считать гротесковые скерцо и светлые финалы Восьмой и Тринадцатой). Их связывает и наличие внемузыкальной программы (хотя она не столь конкретна, как в некоторых других произведениях Шостаковича): Восьмая симфония возникла под влиянием событий Второй мировой войны, первая часть Тринадцатой посвящена трагедии евреев, убитых в Бабьем Яру. С музыкальной стороны тоже можно найти в них много общего: характер юмора вторых частей (скерцо), тип лиризма третьей части Тринадцатой симфонии, напоминающий пассакалью из Восьмой, почти идентичное завершение четвертых частей и пасторальность обоих финалов. Обе симфонии кончаются постепенным замиранием — pianissimo.
Ни одна из пяти частей Тринадцатой симфонии не опирается на традиционные модели формы. Только в «Карьере» можно усмотреть определенные аналогии с рондо.
Первая часть, наиболее драматичная, складывается из нескольких простых, пластичных тем, первая из которых, как обычно, играет главную роль. В ней слышны далекие отзвуки русской классики, прежде всего Мусоргского. Связь музыки с текстом граничит с иллюстративностью, и появление каждого очередного эпизода стихотворения Евтушенко меняет характер музыки. Простота музыкального языка имеет в себе нечто от плакатности и столь же убедительна, сколь убедительна сама поэзия. Хор басов, который на протяжении всей симфонии, за исключением одного фрагмента, поет в унисон, с самых первых слов необыкновенно выразительно передает трагическое содержание стихов:
Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв как грубое надгробье. Мне страшно, мне сегодня столько лет, Как самому еврейскому народу.Эту мысль продолжает солист:
Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту. А вот я, на кресте распятый, гибну, И до сих пор следы гвоздей на мне.Далее, как кадры в кинофильме, сменяются: дело Дрейфуса, еврейские погромы в Белостоке, трагедия Анны Франк, расправа в Бабьем Яру и, наконец, главная мысль стихотворения:
Я всем антисемитам как еврей, И потому я настоящий русский!Шостакович еще раз демонстрирует свой незаурядный дар иллюстрирования сцен сопротивления, насилия и смерти. Быть может, в этом отношении первая часть Тринадцатой симфонии не имеет себе равных во всем его творчестве.
Вторая часть — «Юмор» — является антитезой предыдущей. В ней композитор предстает несравненным знатоком колористических возможностей оркестра и хора, и музыка во всей полноте передает язвительный характер поэзии. Удачно характеризуют эту часть Рой Блоккер и Роберт Дирлинг, которые пишут: «Юмор подавляют, преследуют и притесняют. Власти пытаются купить его, убить, отдалить от народа, но он неудержим и неукротим. Энергичная вступительная декларация — чередование аккордов духовых и струнных — сменяется хохотом, а уже затем появляется Юмор собственной персоной, облаченный в яркие цвета, топаньем и жестами демонстрирующий свою непокорность. Солист рассказывает о том, как цари, короли и все властители на земле командовали парадами, но ни один из них не мог повелевать Юмором; о том, как попытки купить или убить Юмор неминуемо оборачиваются тем, что он наставляет всем нос. Когда кто-нибудь хочет его казнить и надеть его буйную голову на пики, этот человечек отскакивает назад с пронзительным криком: „Я туточки!“ (солист и хор в имитации) — и пускается в неудержимый пляс под звуки малого барабана и треугольника. Вот он, схваченный как политический узник, шествует на казнь в потрепанном пальтишке, с опущенной головой и покорный, но один прыжок — и он сбрасывает эту одежду и оказывается далеко с беззаботным: „Тю-тю!“ Попытки удержать его в тюремной камере натыкаются на подобное же пренебрежение: никто и ничто не может служить ему преградой. Заключительный тост, раздающийся среди победных звучаний оркестра, гласит: „Итак, да славится юмор! Он мужественный человек“»[451].
В основу третьей части — «В магазине» — положены стихи, посвященные жизни женщин, выстаивающих в очередях и выполняющих самую тяжелую работу. Они пашут, косят, месят бетон и одновременно являются «богами добрыми семьи». Много пережившие, теперь они «тихо поджидают… и в руках они сжимают деньги трудные свои».
Эта часть принадлежит к прекраснейшим страницам творчества Шостаковича. На фоне сурового двухголосия, мерно разворачивающегося у струнных, бас соло интонирует мелодию исключительной простоты. Хоровая партия появляется время от времени как музыкальный рефрен, подхватывая слова, спетые солистом. К концу части камерный характер музыки незаметно приобретает симфоническое развитие, приводящее к драматической кульминации. Повседневная жизнь женщин оказывается возведена в ранг общенародной проблемы, в драму будничного существования, лишенного перспектив лучшего будущего. Кода, наступающая после кульминации, еще сильнее подчеркивает трагический смысл музыки. И когда солист заканчивает свою партию словами:
Я смотрю, суров и тих, на уставшие от сумок руки праведные их,хор басов единственный раз во всей симфонии поет два трезвучия: плагальную каденцию в C-dur, являющуюся своеобразной аналогией церковного «Аминь».
Из этой части вырастает следующая — «Страхи». Стихотворение с таким названием касается недавнего прошлого России, когда страх всецело завладел людьми, когда человек боялся другого человека, боялся даже быть искренним с самим собой. Смысл стихов Евтушенко чрезвычайно глубок:
Страхи всюду, как тени, скользили, Проникали во все этажи. Потихоньку людей приручали И на все налагали печать: Где молчать бы — кричать приучали, И молчать — где бы надо кричать. Это стало сегодня далеким. Даже странно и вспомнить теперь Тайный страх перед чьим-то доносом, Тайный страх перед стуком в дверь. Ну, а страх говорить с иностранцем? С иностранцем-то что, а с женой? Ну, а страх безотчетный остаться После маршей вдвоем с тишиной?Далее поэт пишет, что страхи остались, хотя и стали другими: страх перед малодушием, перед ложью, перед принижением великих идей и повторением чужих мыслей. А в конце он признается:
И когда я пишу эти строки И порою невольно спешу, То пишу их в единственном страхе, Что не в полную силу пишу.С точки зрения музыки часть «Страхи» уникальна. Она начинается атональной темой тубы соло, которая звучит на фоне ударных и низких струнных инструментов.
В этой части много элементов, новых для творчества автора «Леди Макбет». При помощи простых эффектов он добивается необычных звучаний, раскрывающих характер стихотворения. Так появляется декламация хора на одном звуке, волнующий диалог солиста с бас-кларнетом, неожиданный фанфарный мотив солирующих труб с сурдинами. И еще один неожиданный эффект: после чуть ли не атональных эпизодов звучит — по принципу контраста — простая массовая песня, напоминающая столь часто цитированный Шостаковичем «революционный фольклор», известный по Десяти поэмам для хора a cappella или по Одиннадцатой симфонии. Затем следуют симфоническое развитие этой песни, кульминация и мелодическая «ссылка» на окончание пассакальи из Восьмой симфонии.
Финальная «Карьера» — это как бы личный комментарий поэта и композитора ко всему произведению, затрагивающий проблему совести художника:
Твердили пастыри, что вреден И неразумен Галилей. Но, как показывает время, Кто неразумней — тот умней. Ученый, сверстник Галилея, Был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, Но у него была семья. И он, садясь с женой в карету, Свершив предательство свое, Считал, что делает карьеру, А между тем губил ее. За осознание планеты Шел Галилей один на риск, И стал великим он… Вот это Я понимаю — карьерист! Итак, да здравствует карьера, Когда карьера такова, Как у Шекспира и Пастера, Ньютона и Толстого. Льва! Зачем их грязью покрывали? Талант — талант, как ни клейми. Забыты те, кто проклинали. Но помнят тех, кого кляли. Все те, кто рвались в стратосферу, Врачи, что гибли от холер, Вот эти делали карьеру! Я с их карьер беру пример! Я верю в их святую веру. Их вера — мужество мое. Я делаю себе карьеру Тем, что не делаю ее!В музыкальном отношении «Карьера» сильно отличается от остальных частей. Шостакович создает в ней настроение скорее безмятежное, слегка ироническое. Этот фрагмент напоминает финал Восьмой симфонии, как по причине сходства характера и формы, так и по звучанию (использование струнной группы в замирающей коде).
Композитор с величайшей отдачей работал над партитурой. Создавая произведение, он и на этот раз думал о конкретных исполнителях: о Борисе Гмыре — великолепном басе из Киева, несколькими годами ранее спевшем в первый раз Романсы, ор. 98, на слова Долматовского, и о Евгении Мравинском. Однако Гмыря, сначала заинтересовавшийся симфонией, отказался от участия в премьере сочинения Шостаковича, объяснив это тем, что сомневается в ценности стихотворения «Бабий Яр». Еще большим ударом для композитора стал отказ Мравинского, который уклонился под предлогом занятости, зарубежных поездок и пообещал исполнить симфонию в другое, значительно более позднее время. Композитору трудно было в это поверить. Один из ближайших друзей, столько раз помогавший ему в самые трудные периоды, включавший его музыку в свои концертные программы в 1948 году, когда никто не хотел ее исполнять, теперь отвернулся от него, боясь неприятностей. Длившаяся двадцать пять лет дружба была раз и навсегда разорвана, а болезненно чувствительный Шостакович в течение нескольких месяцев избегал даже встречаться с Мравинским. Лишь гораздо позже их отношения немного улучшились, не выходя, однако, за рамки корректности. И никогда уже больше Мравинский не имел случая первым представлять произведения Шостаковича.
Вспомнив об исключительной самоотдаче Кирилла Кондрашина при подготовке премьеры Четвертой симфонии, Шостакович предложил ему взяться и за Тринадцатую. Дирижер, в свою очередь, порекомендовал в качестве солистов двух басов — Виктора Нечипайло и Виталия Громадского. На премьере должен был петь первый из них, но Громадский тоже присутствовал на репетициях, готовясь к последующим исполнениям.
Премьера Тринадцатой симфонии была намечена на 18 декабря 1962 года. За несколько дней до этого состоялась очередная встреча Хрущева с представителями творческой интеллигенции, во время которой произошел острый обмен мнениями с Евтушенко, обвинившим Хрущева в поддержке антисемитизма. Публикацию «Бабьего Яра» приостановили, а тем самым и над Тринадцатой симфонией нависли грозовые тучи. Министерство культуры и партийные органы неоднократно нажимали на Кондрашина, чтобы он снял Тринадцатую симфонию с афиши или, в лучшем случае, исполнял ее без первой части. Дирижер не уступал, но зато Нечипайло впал в панику и в день концерта отказался выступать под предлогом внезапной потери голоса. Тем временем ни о чем не подозревавший Громадский вышел из дому, и его не могли найти. Исполнение Тринадцатой симфонии уже собирались отменить, и только по чистой случайности встретили Громадского и он приехал прямо на генеральную репетицию.
Премьеры с нетерпением ожидала вся культурная элита Москвы. Перед входом в Большой зал консерватории собралась такая толпа, что в какой-то момент милиции пришлось оцепить этот участок. Тем не менее в здание пробралось столько людей, что все они с трудом поместились в довольно просторном помещении Большого зала. Только правительственная ложа осталась пустой.
В первом отделении концерта исполнялась симфония «Юпитер» Моцарта, которая, как нетрудно догадаться, прошла совершенно незамеченной. Перерыв показался всем нескончаемо долгим. И когда наконец на эстраде появились оркестр, хор, а позже солист и дирижер, напряжение достигло апогея. С первой минуты все слушали эту трагическую, полную силы и динамизма музыку с величайшей сосредоточенностью и волнением. Каждое слово доходило до слушателей, хотя вопреки обычаю стихи не были напечатаны в программе: на это власти уже не могли согласиться. Когда кончилась первая часть, неожиданно раздались непроизвольные аплодисменты. По мере исполнения следующих частей атмосфера становилась все более наэлектризованной. Трудно описать то, что делалось в зале, когда истаяли последние тихие звуки колоколов и челесты. Овациям не было конца. У многих слушателей в глазах стояли слезы, и Евтушенко не был исключением. Царило настроение, как во время какого-то обряда. Арам Хачатурян сумел вымолвить только одно слово: «гениально». И вот, как бывало много раз, из кресла в пятом ряду словно бы с трудом поднялся Шостакович. В черном костюме, опираясь на ручки кресел, он медленно, застенчиво шел к исполнителям. Сидевшие поблизости слушатели были едва ли не загипнотизированы его взглядом, полным невысказанной печали, безмерной усталости, мудрости, смущения, озабоченности, и в то же время почти детским… Ни следа улыбки и даже какое-то замешательство при виде стольких людей и такой реакции. Казалось, что композитор находился душой далеко отсюда, не осознавал своего триумфа. А публика тем временем топала, рукоплескала, кричала и скандировала: «Браво, Шостакович! Браво, Евтушенко!» На следующее утро «Правда» откликнулась на это событие одной-единственной фразой.
Через несколько дней в «Литературной газете» неожиданно был опубликован новый вариант стихотворения «Бабий Яр». Шостаковича очень задело, что поэт без его ведома и согласия решил изменить стихи, уже ставшие частью их общего произведения. Изменения были небольшие, но существенные. Трагедия евреев оказалась заслонена погибшими русскими, украинцами и т. д. Слова:
Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту. А вот я, на кресте распятый, гибну…были заменены на:
Я здесь стою, как будто у криницы, дающей веру в наше братство мне.В другом же месте вместо строк:
И сам я, как сплошной беззвучный крик, над тысячами тысяч погребенныхпоявились слова:
Я думаю о подвиге России, фашизму преградившей путь собой.Заместитель министра культуры Василий Кухарский тут же потребовал от Шостаковича, чтобы новый вариант стихов был введен в первую часть симфонии. Пришедший в замешательство композитор не видел выхода из создавшейся ситуации. Если бы он решился на принятие нового варианта «Бабьего Яра», то должен был бы полностью пересочинить музыку, поскольку поэт изменил свои стихи довольно сильно во всех отношениях, в том числе и по масштабам. На помощь поспешил Кирилл Кондрашин, который посоветовал Шостаковичу, в интересах спасения произведения, оставить музыку без изменений и только там, где возможно, вписать фрагменты нового варианта стихов. В таком виде Тринадцатая симфония была исполнена во второй раз — в Минске.
На самом деле это не имело никакого значения. 2 апреля 1963 года в газете «Советская Белоруссия» появилась сокрушительная критическая статья о симфонии, в которой некая Ариадна Ладыгина находила у Евтушенко «оттенок дешевой сенсационности», «нарочитую оригинальность», а Шостаковича обвинила в потере «чувства высокой ответственности» и «гражданского такта»[452].
Тринадцатая симфония оказалась под запретом. Правда, на Западе выпустили грампластинку с нелегально присланной записью, сделанной на московском концерте, но в Советском Союзе партитура и грамзапись появились только девять лет спустя, в варианте с измененным текстом первой части. Несколько исполнений, которые удалось осуществить, в том числе на фестивале музыки Шостаковича в Ленинграде в 1966 году, неизменно сталкивались с преодолением неприятностей и преследованиями со стороны властей. До конца жизни композитора Тринадцатая симфония оставалась произведением, исполнениям которого всегда пытались помешать, даже когда их предпринимали выдающиеся дирижеры.
Для Шостаковича Тринадцатая симфония была чрезвычайно дорога. С момента ее возникновения он ежегодно праздновал вместе с близкими две даты, связанные со своим творчеством: 12 мая — день премьеры Первой симфонии и 20 июля — день завершения Тринадцатой.
В период, когда проходила драматическая подготовка к премьере Тринадцатой симфонии, в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко шли репетиции «Леди Макбет Мценского уезда» под измененным названием «Катерина Измайлова».
История воскрешения второй оперы Шостаковича длилась уже достаточно долго — с 1955 года, когда композитор попросил Исаака Гликмана внести некоторые исправления в либретто. Он рассчитывал на то, что смягчение культурной политики после смерти Сталина позволит вернуть его произведение на оперную сцену. Вопреки своему обыкновению не хлопотать по собственным делам, на этот раз Шостакович обратился с официальной просьбой к Вячеславу Молотову о создании специальной комиссии, которая должна была решить, можно исполнять «Леди Макбет» или нет. Процедура была не совсем обычной: без решения на высшем уровне произведение не могло увидеть свет рампы, поскольку некогда (пусть даже двадцать лет назад) оно подверглось официальному осуждению со стороны руководства страны. Теперь Министерство культуры целых три месяца тянуло с образованием комиссии, в состав которой в конце концов вошли несколько композиторов и музыковедов, и среди них Дмитрий Кабалевский, Михаил Чулаки и Георгий Хубов. «Из уважения» к композитору комиссия постановила заседать… в его квартире на Можайском шоссе и назначила дату встречи — 12 марта 1956 года. Министерская делегация опоздала почти на полдня (!) и без лишних слов потребовала, чтобы композитор сыграл на рояле всю оперу. Шостакович сначала проинформировал собравшихся об изменениях, внесенных в либретто и в партитуру, а затем исполнил свое сочинение целиком.
«Прения» комиссии продолжались не слишком долго, поскольку отрицательное решение было уже предопределено свыше. Особенно усердствовали в высказывании недоброжелательных замечаний Кабалевский и Хубов, причем этот последний попросту лишал голоса всех, кто пытался выступить с положительной оценкой произведения. Аргументы, которыми пользовались собравшиеся, были почти дословно заимствованы из пресловутой статьи в «Правде» 1936 года. Присутствовавший при этом Шостакович молча сидел на диване с закрытыми глазами, словно находясь где-то далеко, и только лицо его беспрерывно кривилось в тиках и гримасах. Наконец Кабалевский, взявший на себя роль председателя собрания, сообщил, что, несмотря на огромные недостатки, «Леди Макбет» все же содержит убедительные фрагменты, после чего, подчеркнув, что опера ни в коем случае не может быть исполнена, обратился к композитору с требованием определить свое отношение к критике и решению комиссии. Шостакович ответил в двух словах, сухо поблагодарив за приход и замечания.
Через два дня Кабалевский написал в письме к одному из своих друзей: «Было трудно и неприятно играть роль „барьера“ на пути намерений Шостаковича, но я никогда не простил бы себе, если б толкнул его на этот шаг, который может нанести огромный вред и ему и всей нашей музыке…»[453]
В последующие годы Шостакович не оставлял намерения осуществить постановку оперы, к чему, между прочим, его усиленно склонял Артур Родзинский, с которым композитор поддерживал переписку. Независимо от всей этой истории первоначальный вариант «Леди Макбет» был показан в 1959 году в Дюссельдорфе, впрочем, без согласия и ведома Шостаковича.
В Советском Союзе возврат к этому произведению стал возможен только в 1962 году. Еще не имея окончательного решения властей, к постановке приступил Московский театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Начиная со второй половины октября этого года композитор почти ежедневно появлялся на репетициях. Он вносил небольшие поправки, совершенствовал оперу. Партитура обрастала вклейками, позднее в нее были вставлены новые страницы; в конце концов Шостакович переписал ее за несколько недель. Новая «Леди Макбет», теперь уже под названием «Катерина Измайлова», в сущности, незначительно отличалась от предыдущей: автор убрал наиболее смелые выражения в либретто, во многих местах упростил вокальные партии, ввел некоторые изменения в инструментовку и, что самое главное, сочинил заново два превосходных оркестровых антракта (между первой и второй, а также между седьмой и восьмой картинами). Был снят симфонический фрагмент из третьей картины, где музыка натуралистически изображала любовную сцену Сергея и Катерины; композитор заменил его более утонченным эпизодом. В конце оперы, в сцене с каторжниками, Шостакович дописал слова: «Разве для такой жизни рожден человек?», как бы желая подчеркнуть безнадежность существования в царское время, а на самом деле исключительно для того, чтобы можно было официально утверждать, что новый вариант оперы появился благодаря критическим замечаниям партии, относящимся к 1930-м годам.
В условиях напряженной ситуации, возникшей из-за конфликта Хрущева с художественными кругами, нельзя было не принимать в расчет, что в последний момент опера может быть снята с афиши. На одной из последних репетиций в театре появилась «группа экспертов», которой предстояло определить дальнейшую судьбу спектакля. Решающее слово принадлежало трем персонам: министру культуры Екатерине Фурцевой, Тихону Хренникову и Дмитрию Кабалевскому. Шостакович сидел в одном из последних рядов и имел возможность наблюдать за оживленной дискуссией всей тройки сидевших в первом ряду «экспертов», которые, невзирая на проводимую репетицию, громко переговаривались. Лишь в последнюю минуту было дано позволение на исполнение «Катерины Измайловой», и премьеру назначили на 26 декабря.
В этот день в программе театра стоял «Севильский цирюльник». И хотя уже несколько дней почти все заинтересованные люди в Москве знали о запланированном исполнении «Катерины Измайловой», имя Россини на афише оставалось нетронутым. Изменения были сделаны только за несколько часов до спектакля, а когда вечером зрители стали собираться в театре, в коридорах появились какие-то люди (из администрации театра?), которые, уведомляя об изменении программы, намекали на то, что касса готова вернуть деньги за билеты (!). В правительственной ложе появился только Алексей Аджубей, зять Хрущева и главный редактор «Известий».
Спектакль был подготовлен на очень высоком уровне, молодая певица Элеонора Андреева, исполнявшая партию Катерины, стала звездой вечера. Успех оперы был сравним с триумфом Тринадцатой симфонии всего лишь за несколько дней (!) до этого. Через две недели, 8 января 1963 года, состоялась официальная открытая премьера «Леди Макбет Мценского уезда», прошедшая с не меньшим успехом. Опера возродилась, и с этого момента ее сценическая жизнь продолжается по сей день. В Москве ее постоянно исполняли несколько лет подряд. Ею заинтересовались многие советские оперные театры, за границей ее поставили в Польше, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Федеративной Республике Германии, Италии, Голландии, Англии, Австрии и других странах. Вскоре была издана партитура и сделана превосходная запись на грампластинку.
Шостакович старался не пропускать ни одной премьеры. По возможности приезжал на репетиции и первые спектакли, причем не только в Советском Союзе, но и за границей. Следует особо отметить, что с тех пор он никогда не давал согласия на постановку оперы в первоначальном варианте. В начале 1964 года, когда театр «Ла Скала» решил показать «Леди Макбет» в прежней редакции, в письме к директору Миланской оперы Николаю Бенуа композитор категорически воспротивился этому проекту. «Либо „Катерина Измайлова“ в редакции 1963 года, либо вообще прошу отказаться от премьеры», — решительно заявил он. Это еще один эпизод, свидетельствующий о его зависимости от властей: ведь «Катерина Измайлова» лишь в мелких, несущественных деталях отличалась от «Леди Макбет». Такова была цена, которую Шостаковичу пришлось заплатить за возвращение произведения на сцену, и теперь он уже как будто не хотел слышать о существовании предыдущего варианта. Он реагировал на это нервно, так же, как много лет назад, когда на Западе, и прежде всего в Соединенных Штатах, господствовала прямо-таки невероятная мода на его музыку, особенно со времен «Ленинградской» симфонии. Тогда он с сарказмом подчеркивал, что этот необыкновенный интерес к «Леди Макбет» в мире длился ровно до конца 30-х годов. Теперь, когда поступали предложения от важнейших европейских оперных театров, Шостакович с обидой повторял: «А где они были раньше, где были раньше?»
Тем временем власти, видя увлечение композитора оперой, решили заказать ему произведение, связанное с приближавшейся 50-й годовщиной Октябрьской революции. Тема нашлась сразу — «Тихий Дон» Михаила Шолохова, главный роман о Гражданской войне. Шостакович снова оказался в ситуации, когда от него требовали создать произведение пропагандистского звучания, к тому же связанное с торжествами, в которых он вовсе не хотел бы играть столь существенную роль.
В стране как раз произошли очередные перемены. В октябре 1964 года последовало падение Хрущева, и новое руководство еще больше отдалилось от либерализма. В сентябре 1965 года арестовали писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля за опубликование на Западе своих сатирических произведений. В феврале следующего года их приговорили к драконовской мере наказания — многолетнему пребыванию в лагерях.
Этот процесс потряс советскую творческую элиту, а его целью была, несомненно, демонстрация силы со стороны властей, решившихся на уничтожение любых источников брожения. Исчезали надежды на либерализацию системы, родившиеся в эпоху Хрущева.
Поддавшись нажиму, Шостакович согласился написать оперу. Газеты тут же ухватились за это известие, и уже в январе 1964 года появилась первая информация об очередном сочинении композитора. В одном из интервью Шостакович упомянул, что давно размышляет о теме оперы и хотел бы написать новое произведение в течение ближайшего года. 15 февраля на фестивале в Горьком он сказал: «Самое дорогое для меня — это новая опера. Заранее я ничего не хочу говорить, сообщу только одно — опера посвящена пятидесятилетию Октября»[454]. Через несколько дней он добавил: «…я собираюсь написать… оперу „Тихий Дон“ по М. А. Шолохову. Такая опера есть у композитора И. И. Дзержинского. Я считаю эту оперу удачной, но Дзержинский обратился к первой книге Шолохова. Моя опера будет посвящена событиям второго и третьего томов „Тихого Дона“»[455].
В мае Шостакович был гостем фестиваля «Донская музыкальная весна», где едва ли не впервые встретился с Михаилом Шолоховым. Эта встреча не принесла никаких результатов. Они не нашли общего языка, а у композитора возникла антипатия к писателю, в то время уже опустившемуся алкоголику, с совершенно иными, чем у него, характером, мировоззрением и творческим темпераментом, с бесцеремонной манерой поведения. Однако осенью Шостакович получил либретто, написанное известным литературоведом и знатоком творчества Шолохова Ю. Лукиным с помощью музыковеда Александра Медведева. Вероятно, либретто удовлетворило композитора, поскольку в октябре 1964 года он начал делать наброски произведения. Говорили, что он начал работу со сцены расстрела оркестра, играющего «Интернационал». Он подчеркивал, что старается в опере «сохранить… величественный народный дух романа, показать судьбы героев на широком историческом фоне»[456].
Сообщения об опере часто появлялись в прессе. Большой театр в Москве планировал премьеру на сезон 1966/67 года. По словам некоторых музыкантов, встречавшихся в то время с Шостаковичем, было создано несколько актов, что представляется, пожалуй, малоправдоподобным. Ленинградский композитор Андрей Петров утверждал, что Шостакович «чуть ли не пол-оперы написал»[457]. Если это и возможно, то лишь потому, что в 1965 году, кроме музыки к одному фильму и небольшого вокального цикла, из-под его пера не вышло ни одного сочинения. Быть может, его действительно поглотила работа над оперой. Тем временем весной 1966 года Шостакович написал Борису Тищенко, что «энтузиазм к сочинению оперы „Тихий Дон“ окончательно испарился»[458]. Летом того же года на вопрос, заданный Софьей Хентовой, он ответил: «Я ее писать не буду». Никаких объяснений не последовало. Композитор Назиб Жиганов рассказал:
«В мае 1968 года я спросил Дмитрия Дмитриевича, как продвигается опера „Тихий Дон“. Он некоторое время молчал, а потом сказал — повторяю дословно: „Во второй книге романа Шолохова герой — народ, а о народе хорошо писал Мусоргский“. Сказал медленно, с расстановкой. И больше ничего не добавил»[459].
На этом история «Тихого Дона» обрывается. Не сохранилось никаких эскизов, и если действительно что-либо было создано, то оказалось тщательно уничтожено. Много лет спустя сын композитора совсем по-иному освещал историю «Тихого Дона»: «…он говорил об этом, чтобы от него на время отвязались. К нему иногда приходили и просили: „Дмитрий Дмитриевич, скоро, как вы знаете, юбилей (Октябрьской революции. — К. М.). Надо бы отразить эту тему. Может быть, вы напишете?“ — „Да, да, конечно“, — отвечал отец. Через месяц, встретив того же человека, Дмитрий Дмитриевич говорил: „Я уже первую часть сделал“. Но на самом деле он и не думал ничего этого писать. Ну… и… постепенно все это затухало»[460].
В тот период один из музыкантов спросил композитора, каково его отношение к опере «Нос», которая незадолго до того появилась на сцене Дюссельдорфа и нескольких других западных театров и партитуру которой впервые выпустило австрийское издательство Universal-Edition. «…Опера эта написана достаточно давно, и я изрядно ее подзабыл, — ответил Шостакович. — Мне надо бы вернуться в прошлое и вспомнить ее. <…> Откровенно говоря, сейчас у меня нет особенного желания обращаться к ней. Вот когда возник вопрос о постановке „Катерины Измайловой“, у меня появилось желание поработать над этим своим произведением, создать вторую, что ли, редакцию. А надо ли возвращаться мне к моей первой опере, написанной в очень юном возрасте, не знаю. Подумаю, возьму партитуру и посмотрю…»[461]
Стоит еще раз сослаться на слова Максима, который сказал нечто прямо противоположное: «…отец с какой-то особенной теплотой относился к своим „несчастным“ произведениям, к тем, которые особенно ругали, долго не исполняли, например к „Леди Макбет Мценского уезда“. <…> „Нос“ отец очень, очень любил!»[462]
Глава двадцать пятая 1962–1966
Брак с Ириной Супинской. — Поездки и концерты. — Девятый и Десятый струнные квартеты. — «Казнь Степана Разина». — Фестивали в Эдинбурге и Горьком. — Последнее выступление в качестве пианиста. — Инфаркт и выздоровление. — 60-летний юбилей
Осенью 1962 года Шостакович писал Виссариону Шебалину:
«Дорогой Роня!
В моей жизни произошло событие чрезвычайной важности — я женился. Мою жену зовут Ирина Антоновна. У нее имеется лишь один большой недостаток: ей двадцать семь лет. В остальном она очень хорошая, умная, веселая, простая, симпатичная. Носит очки, буквы „л“ и „р“ не выговаривает. <…> В этом отношении жизнь меня побаловала»[463].
С Ириной Антоновной Супинской Шостакович познакомился в издательстве «Советский композитор», где она работала литературным редактором. Ленинградка по рождению, она в детстве потеряла родителей, а в годы блокады — деда с бабкой; семилетнюю девочку эвакуировали из осажденного города. После войны она поступила на филологический факультет. Шостаковича она узнала в период подготовки к изданию оперетты «Москва, Черемушки». Они вступили в брак поздней осенью 1962 года. Ирина Антоновна сопутствовала ему во всех поездках, участвовала во всех концертах и торжествах, со всей самоотверженностью ухаживала во время прогрессировавшей болезни и, несмотря на разницу в возрасте, оказалась незаменимой спутницей жизни.
А жизнь эта, как обычно, была лишена покоя. Часть повседневных хлопот взяла на себя в то время Зинаида Александровна Гаямова, секретарь композитора. Она-то и убедила Шостаковича переехать поближе к Союзу композиторов, на улицу Неждановой. Власти города передали тогда союзу ряд зданий, в которых разместились его служебные помещения, небольшой концертный зал и некоторое количество квартир для самых заслуженных. Шостакович получил просторную квартиру на седьмом этаже, по соседству с Хачатуряном и Кабалевским.
В тот период он купил дачу в академическом городке под Москвой. Тихий домик в Жуковке (так называлось это место) позволял ему спокойно работать зимой и летом, вдали от шумной столицы.
Владение дачей было привилегией немногочисленной группы граждан. Как уже говорилось, Шостакович получил дачу от Сталина в 1949 году. Позднее он, однако, решил от нее избавиться и на собственные средства купить новую. Кирилл Кондрашин рассказывал:
«…Он [Шостакович] покупал в то время дачу и приходил к Араму Хачатуряну просить сорок тысяч. Арам говорит:
— Конечно, Митя, я тебе дам. О чем говорить? Но ведь у тебя есть дача… <…>
— Я там жить не могу, там были фашисты. Нужна новая, — ответил Дмитрий Дмитриевич.
— Но нужно тысячу рублей всего на восстановление. Ну, продай хотя бы.
— Нет, я не могу продать.
— Ты у кого покупаешь?
— У вдовы какого-то генерала.
— Он же ее получил так же, как ты, а она продает.
— Она может делать что угодно. Та дача мне досталась бесплатно, и я ее отдам государству.
Вот такой был Дмитрий Дмитриевич. Он влез в долги, выплачивая долг Араму Ильичу. Потом купил дачу в Жуковке, которая тоже досталась кому-то ни за что»[464].
В начале 60-х годов активность композитора была прямо-таки невероятной. С лета 1962 года его жизнь представляла непрерывную цепь поездок, концертов и репетиций. Прежде всего он много времени посвящал очередным постановкам «Катерины Измайловой», стараясь не пропустить ни одной. Каждая постановка любимого и так долго отвергаемого произведения становилась для Шостаковича причиной необыкновенной радости. Сначала он был занят приготовлениями к московской премьере, которая совпала с первым исполнением Тринадцатой симфонии. В конце октября — начале ноября 1963 года он находился в Риге, где тоже шли репетиции оперы. Из Риги поехал на английскую премьеру «Катерины Измайловой», которая состоялась 2 декабря в Ковент-Гарден. Год подходил к концу, а у него была сочинена только второстепенная Увертюра на русские и киргизские темы — и больше ничего.
«Катерина Измайлова» целиком поглощала его и в начале 1964 года. 4 января, за три дня до югославской премьеры оперы, он приехал в Загреб. Вернувшись в середине января домой, тут же отправился в Ленинград, где недавно вновь начал педагогическую деятельность. Он принялся также за сочинение музыки к новому фильму Козинцева «Гамлет». 15 февраля композитор приехал на фестиваль в Горький (о чем речь пойдет позже). Только весной у него нашлось время для сочинения, и в последних днях мая он закончил новый, Девятый струнный квартет, а в июле, отдыхая в Доме творчества в Дилижане (Армения), за одиннадцать дней создал следующий, Десятый.
Шостаковичу уже давно хотелось написать новый квартет. Осенью 1961 года, во время подготовки к премьере Двенадцатой симфонии, он набросал первые эскизы. Первоначально это должен был быть простой, почти детский квартет. Но затем концепция подверглась полному изменению, и появилось произведение с симфоническим размахом, продолжающее тип монументального квартета, начало которому было положено в 1952 году пятым сочинением этого жанра.
Девятый квартет состоит из пяти частей, исполняемых attacca и выстроенных симметрично. Первая из них, Moderato con moto, простая и лаконичная, отнюдь не предвещает драматургических конфликтов произведения. Она лишь исполняет роль вступления, после которого появляется первое из двух Adagio. В его начальной теме слышны отзвуки колыбельной Мари из «Воццека» Альбана Берга, одного из самых любимых Шостаковичем композиторов XX века. Третья часть, в характере несколько ирреального скерцо, демонстрирует знакомые по более раннему творчеству Шостаковича танцевальные элементы, а в среднем ее разделе обращает на себя внимание применение оригинальных ладов. Звуковой материал второго Adagio чрезвычайно своеобразен, в нем нет тем в узком смысле этого слова: один за другим возникают обрывочные мотивы, нередко совершенно вне тональности. В последней части господствуют стремительное движение и жизненная сила. Сонатная форма развивается в высшей степени оригинально — масштабная разработка представляет собой драматическую фугу, ведущую к кульминационному пункту всего произведения. В кульминации снова появляется речитатив, на этот раз опирающийся на материал предыдущей части. Реприза — это одно большое непрерывное crescendo, в котором возникает большинство тем предыдущих частей. Оптимистичная и сложная по фактуре кода венчает это монументальное произведение.
В свою очередь во вступительной части Десятого квартета композитор остается в сфере камерного звучания, поражает необыкновенно своеобразной и при этом простой гармонией, опирающейся на типичные для него модальные лады. Во второй части, Allegretto furioso, музыка становится острой, диссонантной и бурной — несомненная аналогия со скерцо из Десятой симфонии. Снова наблюдается это необычное, а для Шостаковича типичное явление, когда камерная музыка внезапно приобретает симфонически-драматические черты. Третья часть, где появляется столь любимая композитором форма пассакальи, — меланхоличная по настроению, полная болезненной выразительности. Девятитактная тема проходит восемь раз, в основном у виолончели, а когда в седьмой раз она звучит только в партии скрипок, ее характер впервые несколько просветляется. Финальное Allegretto становится как бы итогом всего произведения. Первая тема имеет танцевальный характер, вторая — хоральная, построенная на оригинальном модальном звукоряде. В разработке преобладает танцевальная тема, а кроме того, появляются элементы предыдущих частей: сначала скерцо, а в кульминации — тема пассакальи; в заключение возвращается теплая и интимная атмосфера первой части.
Закончив Десятый квартет, Шостакович принялся за сочинение крупной формы. Им стала вокально-инструментальная поэма для баса, смешанного хора и большого оркестра «Казнь Степана Разина» на основе отрывков из поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС».
Несмотря на критику, которой недавно подвергся поэт, композитор снова решил использовать его стихи для своей музыки. Темой произведения была трагическая история Степана Разина, легендарного донского казака, который, выступив с оружием в руках против царских воевод, захватил Царицын, Черный Яр, Астрахань и был ранен под Симбирском в 1670 году. Стихи Евтушенко, описывающие только казнь на Красной площади в Москве, остры и метки в формулировках. Музыка Шостаковича идеально им соответствует.
«Казнь Степана Разина» была написана дважды. В августе 1964 года Шостакович отправился в Венгрию, на озеро Балатон, а поскольку дата первого исполнения нового произведения приближалась, необходимо было как можно быстрее предоставить нотный материал. Сначала Шостакович сочинил поэму в клавире, с которым и вернулся домой. Хор приступил к разучиванию, а композитор взялся за оркестровку. Но фантазия у него так разыгралась, что возникшая партитура в значительной мере отличалась от клавира, и премьеру пришлось отложить.
В первой половине сентября Шостакович участвовал в Декаде русской культуры в Алма-Ате, а 24 сентября присутствовал на своем авторском концерте в Ленинградской филармонии. (С этих пор каждый концертный сезон в Ленинграде будет начинаться музыкой Шостаковича.) Через два дня он уже был в Уфе, где ему присвоили звание народного артиста Башкирской республики. В октябре, в связи с прогрессирующим парезом правой руки, он несколько недель провел в больнице, а затем его снова подхватил стремительный вихрь художественной жизни. Ноябрь принес премьеры двух последних квартетов, а декабрь прошел в нервной, напряженной обстановке в связи с подготовкой к исполнению «Казни Степана Разина».
Право первого исполнения снова получил Кирилл Кондрашин. «Репетиции шли сумбурно, — вспоминал дирижер. — Приглашенный на сольную партию артист Большого театра Иван Петров быстро выучил ее, но неохотно посещал оркестровые репетиции, уклоняясь от них по разным мотивам. Дублером был тот же В. Громадский. В день концерта И. Петров не явился и на генеральную репетицию, сообщив по телефону, что вечером он петь все же будет. Здесь Дмитрия Дмитриевича взорвало, и, когда я спросил его совета, он сказал раздраженно:
— Конечно, вечером должен петь тот, кто проведет генеральную.
<…> …Когда я сказал ему: „Ради бога, Дмитрий Дмитриевич, не поддавайтесь на советы воспользоваться этим обстоятельством, чтобы снять исполнение“ (были и такие рекомендации!), он ответил: „Премьера отменится только в том случае, если вообще некому будет петь!“
Громадский и здесь оказался на высоте, и премьера поэмы была спасена»[465].
Как и большинство сочинений Шостаковича тех лет, «Казнь Степана Разина» была с восторгом принята публикой. В прессе тоже появилось несколько положительных рецензий (в том числе полное энтузиазма высказывание ленинградского композитора младшего поколения Сергея Слонимского), однако власти не заняли однозначной позиции по отношению к произведению. Евтушенко продолжал оставаться спорной личностью, а период либерализации подходил к концу. Лишь в 1968 году произведение неожиданно получило Государственную премию.
Новый, 1965 год композитор встретил на даче под Москвой вместе с Бенджамином Бриттеном, который повторно посетил Советский Союз. Этот год должен был изобиловать еще большим количеством различных занятий и поездок. В конце января Шостакович выехал в Вену на премьеру «Катерины Измайловой», состоявшуюся 12 февраля. Сразу после спектакля он вернулся на родину, где его ждали две новые премьеры оперы — 17 февраля в Казани и 23 марта в Киеве. Из Киева он направился в Ленинград, на занятия со студентами. Март принес поездку в Болгарию, на фестиваль в Русе (очередное исполнение «Катерины Измайловой»), 22 апреля Шостакович стал свидетелем триумфа этой оперы в Будапеште. А поскольку он присутствовал и на многих исполнениях своей музыки в СССР, то до самого июля постоянно находился в дороге. Летние месяцы композитор посвятил сочинению музыки к кинофильму о Карле Марксе «Год как жизнь». Август принес печальное известие: умер Василий Ширинский, второй скрипач Квартета имени Бетховена. Поэтому вполне закономерно, что Одиннадцатый струнный квартет, написанный в феврале 1966 года, был посвящен его памяти.
Вторую половину 1965 года заняли разного рода общественные дела. Вновь приехал в Москву Бенджамин Бриттен. После почти 40-летнего перерыва были исполнены Вторая и Третья симфонии, а в декабре в Горьком — Тринадцатая.
Год 1966-й, в котором композитору исполнилось шестьдесят лет, был в его жизни особенно насыщен событиями. Уже с января во всем мире проходили юбилейные концерты. В Линкольн-центре Леонард Бернстайн посвятил Шостаковичу специальный вечер, продирижировав, в частности, Девятой симфонией. Рим представил публике оперу «Нос» (двумя годами ранее это произведение было показано во Флоренции), а в Кёльне состоялась немецкая премьера «Хованщины» Мусоргского в редакции Шостаковича.
Сам же юбиляр начал новый год с поездки в Новосибирск, где 20 января была исполнена его Тринадцатая симфония. В феврале он отдыхал в Репине, сочиняя Одиннадцатый квартет. В апреле Шостакович находился в санатории в Крыму и там в небывалом темпе написал Второй виолончельный концерт — самый значительный из всех его инструментальных концертов. Работу над ним он начал еще в Москве, а партитура, которая насчитывает семьдесят семь страниц, заполненных мелким почерком, была закончена в Крыму. Собственно говоря, это скорее концертная симфония, нежели виртуозное инструментальное произведение. Как и Первый концерт, этот создавался с мыслями о Мстиславе Ростроповиче и ему же посвящен. В нем присутствуют все знакомые черты симфонизма Шостаковича: напевная лирика, протяженная фраза, энергия, динамизм, юмор и гротеск.
Во второй половине мая композитор на несколько дней поехал на фестиваль в Волгоград, а сразу после этого оказался в Ленинграде: его ждали организационные дела в Союзе композиторов и педагогическая работа в консерватории. Множились почести и отличия: он стал членом Шведской королевской музыкальной академии, Английской королевской музыкальной академии и Американской академии наук.
Ранее, во второй половине августа 1962 года, Шостаковичу выпало редкое отличие, какого удостаивались немногие выдающиеся художники: в Эдинбурге состоялся музыкальный фестиваль, программа которого была в основном посвящена его музыке, и в присутствии композитора были исполнены свыше тридцати его произведений, в том числе Четвертая, Шестая, Восьмая, Девятая, Десятая и Двенадцатая симфонии, все написанные к тому времени восемь квартетов, Скрипичный и Виолончельный концерты, вокальные циклы, фрагменты из «Леди Макбет» и многое другое. Организатором этого предприятия был лорд Харвуд, который всегда старался, чтобы на фестивале звучало как можно больше произведений одного композитора. (В предыдущем году прошел такой же широкий показ музыки Шёнберга.) Были приглашены превосходные исполнители, и впервые в истории музыки творчество Шостаковича представили так разносторонне.
По возвращении на родину композитор поделился с коллегами своими впечатлениями в свойственной ему манере: рассказывая хаотично и нервно, глотая одни слова и повторяя другие, вставляя лишние слова:
«…В течение трех недель… именно трех недель, то есть срока довольно сжатого… я прослушал большинство моих сочинений. Я никак не могу жаловаться на невнимание… к моим сочинениям у себя на родине, их очень много играют… и… дирижеры… и часто… их… может быть и незаслуженно часто, их ставят в программы симфонических, камерных концертов, но все это проходило, так сказать, на расстоянии, ну, некоторого времени, там в течение года, скажем, было исполнено столько-то, столько-то в течение полугола… А тут в течение, понимаете, трех недель… вот, так сказать, перед моим… как говорится… инспекционным таким взором… прошла, в общем, почти вся моя музыкальная жизнь, ибо этот самый… лорд Харвуд — организатор, понимаете, фестиваля — исполнил даже совсем, понимаете, я бы сказал, детские… мои такие сочинения, вроде там, скажем, понимаете… Двух пьес для струнного октета, которые я, не слышал, как говорится, тысячу лет и прослушал с большим, так сказать, просто любопытством, понимаете… С большим любопытством, понимаете, прослушал. Вот он да… раскопал даже вот такие, понимаете… вплоть до самых последних… вплоть до самых последних, понимаете, там… и Двенадцатая симфония, и Восьмой квартет прозвучали. И вот, конечно… что ж, понимаете, как это полезно… как это полезно для композитора, как это полезно! Ибо тут сразу, понимаете… сразу как-то ясно, что… что не вышло… что не надо было писать так, а надо было бы как-то писать, понимаете, иначе… Что, понимаете… что-то так и вышло, казалось бы, как вот надо… В общем, понимаете, критически настроенный композитор… а я… так сказать, не потерял… и не могу, и считаю, что это невозможно, понимаете, терять критическую оценку своего творчества: тогда перестаешь быть композитором, перестаешь, понимаете, быть художником, это совершенно невозможно, это… исключено; ощущение… критики… ощущение… самокритики, критическое отношение к своим… собственным произведениям — это крайне необходимо, и очень это меня многому, понимаете, научило… очень многому меня научило это трехнедельное, так сказать… трехнедельное ежедневное… понимаете вот, знакомство… слушание… своих сочинений… Очень это мне было полезно… За эту пользу я, так сказать, вот приношу благодарность организаторам фестиваля. И вот, значит… думаю, что… в будущем… так сказать, как-то это, опыт вот прошедшего фестиваля для меня… для меня будет полезным.
Нервная нагрузка была очень большая. Очень большая для меня была нервная нагрузка… ибо, понимаете, все-таки… каждая встреча со своими сочинениями — хотя бы… понимаете, там, не знаю, ежедневная — все-таки стоит… многих, понимаете, и больших волнений. Это каждый день, понимаете, волноваться… на генеральной репетиции… или просто на репетиции… или на дневном концерте (а и три концерта подряд бывало: утренний… дневной и вечерний — иногда бывало и так) — это все-таки… все-таки, понимаете, стоило мне очень больших, очень больших волнений, а… вместе с этим, значит, и какая-то потеря, понимаете, сна там, душевного покоя и все такое — так что это… была отнюдь не увеселительная, понимаете, поездка… как, в общем, я раньше предполагал: действительно, зачем бы не поехать, так вот приятно… в Эдинбург — не бывал там, понимаете… и в общем вот… А оказалось, что, понимаете, ходить ежедневно… и… на свои концерты — это очень трудная, так, ответственнейшая, понимаете, работа… Ответственнейшая, работа…»[466]
Через полтора года, в феврале 1964-го, в Горьком Шостаковичу устроили еще более крупный и полностью «монографический» фестиваль. В Эдинбурге кроме произведений Шостаковича исполнялась музыка и других композиторов, а в Горьком на нескольких десятках концертов в течение девяти дней — с 15 по 23 февраля — показывалось только его творчество. Было исполнено свыше 50 сочинений: семь симфоний, все созданные к тому времени квартеты, «Катерина Измайлова», «Песнь о лесах», все инструментальные концерты, Фортепианный квинтет. Фортепианное трио, 24 прелюдии и фуги и много других композиций, даже таких, как сюиты из музыки к кинофильмам, малоизвестные вокальные циклы и детские сочинения. Целых девять дней город жил праздником музыки Шостаковича, встречами с композитором, поспевавшим почти всюду. Во время фестиваля Шостакович в первый (и последний) раз выступил как дирижер, управляя исполнением Праздничной увертюры и Первого виолончельного концерта с Мстиславом Ростроповичем в качестве солиста. Состоялся также концерт, на котором были представлены сочинения его учеников. На концерте 19 февраля была впервые исполнена оркестровая версия Еврейских песен, созданная еще в 1948 году. Кульминацией празднеств стали два последних концерта, на которых выступили шесть дирижеров, Квартет имени Бородина и солисты. Под конец на сцену вышел композитор и, преодолевая болезнь рук, сыграл с Квартетом имени Бородина Интермеццо из Фортепианного квинтета. А дальше — встречи, пресс-конференции, поздравления, беседы… И хотя это кажется невероятным, но в течение фестиваля Шостакович умудрился найти время на сочинение музыки к кинофильму «Гамлет»!
Еще до открытия фестиваля Шостакович получил письмо от детей одной из школ Горького, которые сообщили ему об основании клуба любителей музыки, названного его именем. Он ответил им: «Я очень рад, что вы любите музыку и хотите создать в вашей школе клуб любителей музыки. Не надо называть клуб моим именем. Назовите ваш клуб именем великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского»[467].
Подобные фестивали состоялись при жизни композитора еще дважды: в мае 1966 года в Волгограде (где, между прочим, на площади Павших борцов перед многотысячной аудиторией была исполнена «Ленинградская» симфония) и в июле того же года в Ленинграде (фестиваль «Белые ночи»).
28 мая в Ленинграде Шостакович участвовал в своем авторском концерте, на котором в последний раз в жизни публично выступил как пианист, аккомпанируя Галине Вишневской и Евгению Нестеренко. На этом же концерте состоялись две премьеры довольно необычных произведений — пяти романсов на слова из журнала «Крокодил» и песни, написанной на собственный полный самоиронии текст и названной «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия».
Галина Вишневская так вспоминает этот концерт:
«Накануне концерта мы репетировали. <…> Мы уже прошли арии из „Леди Макбет Мценского уезда“, цикл на стихи Саши Черного и, наконец, дошли до Сонета № 66 Шекспира… <…> Я пела Сонет много раз и никогда не ошибалась в этом месте, а тут слышу, что разошлась в тональности с фортепиано, и остановилась. Странно… Я была уверена, что все точно спела… <…>
Начали снова, дошла до того места, и опять! От ужаса у меня круги пошли перед глазами. Правда, мне показалось в этот раз, что Дмитрий Дмитриевич не сменил тональность, я же это сделала, и вот… Но не могу же я самому Шостаковичу сказать, что он ошибся. Да может, это и не так, а мне лишь послышалось, и ошиблась именно я.
— Дмитрий Дмитриевич, простите, я ничего не понимаю, может, от волнения… <…>
— Ничего, Галя, ничего, давайте еще раз.
А уже видно, что он „заводится“…
Начали в третий раз, и снова то же самое. <…> Со мной истерика.
— Я не знаю, что со мною происходит!
И вдруг Шостакович выскочил из-за рояля, подбежал ко мне с нотами в руках.
— Галя, простите, простите Христа ради, это не вы, это я виноват, я виноват, проглядел, что здесь перемена тональности… совсем забыл, совсем забыл… И ведь ноты стоят, а вот от волнения ничего не вижу, ничего, понимаете, не вижу… Вот ведь конфуз какой, простите Христа ради…
<…> Я не смела и подумать, что Шостакович до такой степени волнуется, что три раза подряд, не замечая того, делает одну и ту же ошибку в собственном сочинении.
<…> На том же концерте перед выходом он не только нервничал, а просто боялся. Боялся, что в какой-то момент при публике откажут руки… За кулисами он буквально метался, не находя себе места. Желая отвлечь его от этих мыслей, я говорила ему какие-то глупости и, наверное, выглядела идиоткой.
— Ах, Дмитрий Дмитриевич, как вам фрак идет. <…> Вы похожи в нем на английского лорда.
— Вот спасибо, спасибо, Галя… я так волнуюсь… так волнуюсь…
<…> Концерт прошел блестяще, успех был невероятный. Ни до того, ни после не видала я Шостаковича таким вдруг раскрепощенным и радостно-возбужденным.
— Ах, Галя, я никогда еще не был так счастлив!
А той же ночью у него случился инфаркт, и он несколько месяцев лежал в больнице»[468].
В первые дни в газетах регулярно появлялись сообщения о состоянии его здоровья. Композитор покинул клинику только 5 августа, после чего выехал на дальнейшее лечение в санаторий под Ленинградом. В своем дневнике Мариэтта Шагинян описала первую встречу с Шостаковичем после пережитой болезни, а было это 8 сентября 1966 года в Репине:
«Он увидел в окно нашу машину и вышел на крыльцо встречать меня — очень бледный, как-то расплывшийся, глаза бегают и не смотрят прямо, волосы почти вылезли, лоб мокрый от пота, несколько прядок торчат в разные стороны. Ходит с трудом. Мы поцеловались. Все так же дрожат руки, и пальцы стали совсем слабые. <…> Таким больным и растерянным я его никогда еще не чувствовала. Разговор начался с пустяков. Опять — „я здоров, только ноги“. На вопрос о музыке: „Нет, хотя ничего не пишу, голова не болит“.
О школах: это я в самом начале хотела выяснить, почему его выставили из гимназии и он кончал экстерном.
— В консерваторию поступил и стал манкировать, на уроки в гимназию не приходил, поэтому исключили. <…>
О хиромантии… <…> „Раньше я как следует, научно занимался хиромантией, потом забросил“. <…>
[Ирина Антоновна] позвала к чаю. Он уже утомился, ничего не ел и не пил и только сказал: „Не ездите по заграницам, берегите здоровье. Эти поездки разрушают здоровье, вот я ездил, ездил и заболел. Нужно ездить, это, конечно, интересно, но в меру. Смотрите, берегите ваше здоровье“, — это он сказал несколько раз, очень громко, почти криком. Вот, в сущности, все, что осталось от этого свидания»[469].
Тем временем празднование юбилея Шостаковича продолжалось. В Москве, Киеве, Риге, Тбилиси, Ереване, Баку, Горьком и в других городах Советского Союза проходили многочисленные концерты. Главные торжества выпали на день рождения — 25 сентября. В программу юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории вошли два произведения: Первая симфония и новый, Второй виолончельный концерт.
До последнего момента не было известно, появится ли в зале сам композитор, врачи все еще предписывали ему абсолютный покой и избежание всяческих стрессов. Тем большее возбуждение овладело аудиторией, когда разнеслась весть о прибытии юбиляра. Вначале с приветственным словом выступил Кабалевский, сказав о значимости творчества Шостаковича и о награде, присужденной ему по случаю 60-летия: первым в истории советской музыки он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В этот момент разразились стихийные аплодисменты, и все глаза устремились к одной из лож, в которой показался взволнованный композитор. Затем Максим Шостакович продирижировал симфонией отца, а после перерыва Мстислав Ростропович принял участие в премьере нового Виолончельного концерта. После исполнения обоих произведений композитора много раз вызывали; он с трудом, очень медленно, выходил на сцену и, счастливый первой встречей со слушателями, принимал овации восторженного зала.
Сентябрьский номер «Советской музыки» посвятил Шостаковичу несколько десятков страниц. О юбилее писала, в частности, Екатерина Фурцева, которая подчеркивала, что он проводится в преддверии наступающей в следующем году 50-й годовщины Октябрьской революции, а среди наивысших достижений композитора упоминала «Катерину Измайлову». Тихон Хренников назвал музыку Шостаковича «художественной эмблемой века». Кроме того, там были помещены высказывания друзей, учеников, выдающихся артистов и ученых. Свое слово сказали Бенджамин Бриттен и Леопольд Стоковский, Иегуди Менухин и Юджин Орманди. Еще раньше, в июльском номере «Советской музыки», появилась статья Дмитрия Кабалевского о Шостаковиче, полная похвал и превосходных степеней.
Помимо звания Героя Социалистического Труда композитор в третий раз получил орден Ленина и медаль «Серп и молот». Британское филармоническое общество присудило ему Золотую медаль. В кинотеатрах прошел полнометражный фильм «Шостакович: эскизы к портрету». На экране появился сам композитор — во время концертов, репетиций, дома, в поезде. В фильм были вмонтированы архивные кадры: разговор Шостаковича с Немировичем-Данченко, сцена в осажденном Ленинграде, когда в затемненной комнате композитор играет на рояле Седьмую симфонию, а через минуту подходит к окну и отодвигает шторы, за которыми видна панорама разрушенного, горящего города…
Арам Хачатурян опубликовал открытое письмо к Шостаковичу, в котором говорилось:
«Когда не стало с нами таких замечательных композиторов, как Николай Яковлевич Мясковский и Сергей Сергеевич Прокофьев, ты мне писал о том, что с уходом этих двух гигантов на плечи советских музыкантов, в том числе и на мои, ложится ответственность и забота о судьбах советской музыки. Мне было очень лестно осознавать и свою ответственность за наше творчество.
Но ведь все мы знаем, что львиная доля этой ответственности лежит на тебе, на твоей чуткой совести советского художника и гражданина, на твоем добром сердце, на твоем великом и несравненном таланте.
И с каким высоким чувством ответственности перед своим народом, перед нашим любимым искусством ты выполняешь эту миссию!»[470]
60-летие замыкает период наибольшей активности Шостаковича. Перенесенная болезнь сердца оставила глубокий след. С этого момента его жизнь будет непрерывной борьбой с ухудшающимся здоровьем.
Глава двадцать шестая 1967–1971
Потеря здоровья. — Романсы на слова Блока. — Второй скрипичный концерт. — Поворот к додекафонии: Двенадцатый струнный квартет. — Четырнадцатая симфония. — Тринадцатый струнный квартет. — Пятнадцатая симфония
Инфаркт миокарда, который Шостакович перенес в мае 1966 года, был первым признаком крушения и без того уже пошатнувшегося здоровья. Композитор с давних пор непрерывно болел. Симптомы непонятной болезни проявились в конце 50-х годов. Это случилось вскоре после окончания Одиннадцатой симфонии, весной 1958 года, когда Шостакович начал ощущать мучительную боль в руках. Однажды во время выступления в качестве пианиста он почувствовал, что не может согнуть в локте правую руку. Имея в планах еще много концертов на родине и за рубежом, он теперь готов был от них отказаться. Однако все же старался усилием воли превозмочь парез рук и во Франции еще сумел завоевать огромный успех, исполнив в течение двух вечеров оба своих фортепианных концерта и приняв участие во французской премьере Одиннадцатой симфонии во Дворце Шайо с оркестром радио под управлением Андре Клюитанса. Но от дальнейших пианистических выступлений ему пришлось — по крайней мере на время — отказаться. Поэтому не состоялось публичное выступление Шостаковича-пианиста на III «Варшавской осени»; Второй фортепианный концерт и Квинтет были заменены другими произведениями, без его участия.
22 октября 1960 года на свадьбе сына Максима Шостакович сломал ногу: мышцы ног внезапно отказались слушаться (что тоже было проявлением этой неизвестной болезни), и он неожиданно упал на пол. Сложный перелом потребовал длительного пребывания в больнице и стал причиной того, что с тех пор Шостакович всегда ходил с трудом, прихрамывая и еле передвигая ноги, согнутые в коленях. Об этом происшествии композитор как-то раз сказал с сарказмом: «Партия всю жизнь учила меня смотреть вперед, а мне надо было смотреть под ноги!»
Тем временем неведомая болезнь продолжала развиваться, периодически даже лишая его возможности писать. Кости стали такими хрупкими, что любое неосторожное, стремительное движение могло привести к непредвиденным последствиям. Руки настолько ослабели, что часто Шостакович не мог сдержать их дрожь. Иногда во время еды он был не в состоянии поднести вилку ко рту. Присутствовавшие при этом старались делать вид, что ничего не замечают, а он прекращал есть, ссылаясь на отсутствие аппетита. В начале 60-х годов врачи поставили диагноз, утверждая, что это полиомиелит — род болезни Хайне-Медина, неизлечимое, прогрессирующее хроническое заболевание, которым очень редко болеют взрослые.
Шостакович подвергся разнообразному лечению. Поскольку у него никогда не хватало времени на основательное обследование и он удовлетворялся временным улучшением, то вначале обращение к разным способам лечения было довольно бессистемным. Он безуспешно пробовал использовать различные виды массажа и витаминные инъекции. На более поздних стадиях болезни он прибегал к помощи многих врачей у себя в стране и за границей. Поддерживал постоянный контакт со своим соседом, старым военным врачом Львом Осиповичем Кагаловским — страстным меломаном, другом семьи Шостаковичей, выполнявшим роль их домашнего врача. В течение ряда лет композитор лечился у Кирилла Бадмаева, специалиста по болезням мозга. Тот применял к своим пациентам методы тибетской медицины, однако в данном случае это не дало никаких результатов.
После перенесенного инфаркта Шостакович несколько месяцев не мог написать ни одной ноты. Ему не удавались даже наброски. В новых условиях жизни, без алкоголя и непременных папирос, без обычной спешки, поездок и общественной деятельности творческий механизм вышел из повиновения. В основном композитор находился на даче в окружении близких, а в декабре 1966 года снова оказался в больнице, на этот раз для обследования.
В то время Шостакович много читал. Он вообще прекрасно знал русскую и зарубежную литературу, мог по памяти цитировать большие отрывки из прозы и поэзии, всегда интересовался новинками. Теперь, зимой 1966 года, он вновь обратился к стихам Александра Блока, поэму «Двенадцать» которого считал своим любимым произведением. И, как не раз уже бывало, поэзия неожиданно вдохновила его до такой степени, что в начале 1967 года он за короткое время сочинил необычный цикл из семи романсов на стихи этого поэта для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано. Все три инструмента аккомпанируют голосу лишь в одном, последнем романсе, а в остальных используются различные, ни разу не повторяющиеся варианты неполного состава[471].
В сравнении с предыдущими вокальными циклами и даже с последними инструментальными произведениями в этом сочинении наблюдаются новые, до сих пор не встречавшиеся черты. Шостакович создал музыку задумчивую, самоуглубленную, необыкновенно сосредоточенную, очень камерную, написанную в первую очередь как будто для себя. Здесь у него впервые появился тон, который присущ произведениям, создаваемым композиторами на склоне жизни, — черта, которая в ближайшие годы будет все более усиливаться в его музыке. Семь романсов на слова А. А. Блока принадлежат к величайшим достижениям Шостаковича, это шедевр вокальной лирики, не имеющий себе равных в его творчестве и являющийся одним из прекраснейших вокальных циклов нашего столетия.
Новое произведение создавалось с мыслями о Галине Вишневской и ей же было посвящено. Шостакович мечтал участвовать в первом исполнении цикла, партия фортепиано в котором написана очень просто (в расчете на него самого?). Однако события развивались совершенно непредвиденно. 18 сентября 1967 года он во второй раз сломал ногу и вынужден был на четыре месяца отойти от активной жизни. Поэтому премьера 23 октября в Москве прошла при участии Галины Вишневской, Давида Ойстраха, Мстислава Ростроповича и композитора Моисея Вайнберга в качестве пианиста.
«Это незабываемая для меня премьера… — вспоминал Давид Ойстрах. — Знакомство с этой музыкой произвело огромное впечатление, мне казалось, что и сам Дмитрий Дмитриевич был увлечен этим циклом. <…>
Когда мы впервые играли этот цикл, мне пришлось пережить немало очень неприятных минут. Первые два номера исполняются без участия скрипки. Нужно сидеть на эстраде, ожидая свой черед. Я очень волновался, у меня буквально зуб на зуб не попадал. Уже тогда меня порой подводило сердце во время концертных волнений. И на сей раз, пока я дожидался своего вступления, у меня начались ужасные, все нарастающие боли в сердце. Конечно, я должен был встать и уйти с эстрады. Но я не мог себе этого позволить, зная, что нас слушает Д. Д. Шостакович по радио… Я представлял себе, с каким волнением и напряженным вниманием он слушает, как переживает.
Дошла очередь и до меня. В изумительном по красоте романсе „Мы были вместе“ я играл свою партию, будучи до предела скованным болями в сердце. К счастью, цикл имел огромный успех и по требованию публики был целиком повторен. Во второй раз, когда мы его исполняли, мое волнение улеглось, боли в сердце прошли и все окончилось благополучно»[472].
Сердечная дружба между композитором и великим скрипачом, зародившаяся еще в 30-е годы, когда оба артиста находились на гастролях в Турции, со временем становилась все крепче. В 50-е годы их сблизила судьба Первого скрипичного концерта. Находясь под впечатлением музыки Шостаковича, Ойстрах неоднократно давал этому публичное выражение. В 60-х годах, начав дирижерскую деятельность, он включил в свой репертуар Девятую и Десятую симфонии друга.
Еще в мае, то есть до октябрьской премьеры Романсов на стихи Блока, Шостакович писал Ойстраху:
«Дорогой Додик!
Я закончил новый скрипичный концерт. Писал я его с мыслями о Вас. <…> Очень хочу показать Вам концерт, хотя играть его мне ужасно трудно.
Если концерт не вызовет у Вас протеста, то велико будет мое счастье. А если Вы его сыграете, то счастье мое будет столь велико, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Если не будет Вашего возражения, то мне очень хотелось посвятить концерт Вам»[473].
Шостакович хотел сочинить это произведение к 60-летию со дня рождения замечательного скрипача. Однако он ошибся на целый год! В 1967 году Ойстраху исполнилось пятьдесят девять лет, а не шестьдесят.
Второй скрипичный концерт, написанный в нетипичной тональности cis-moll, — это трехчастное произведение, в котором классические черты проявляются особенно сильно. В нем нет ничего от той необычности формы и выражения, которая присуща Первому концерту. Сольная партия тоже гораздо скромнее и менее виртуозна. Особенной глубиной выразительности отличается средняя часть — чрезвычайно простое Adagio, полное меланхолии и сосредоточенности, лишенное каких-либо эффектов, состоящее из небольшого количества нот и выдвигающее на передний план мелодику. Остальные части — первая, тематически родственная «Степану Разину» (вторая тема), и бурный финал, — возможно, менее вдохновенны, но технически, несомненно, превосходны. Премьера состоялась уже 13 сентября того же года в Болшеве, а вскоре Ойстрах выехал в длительное турне по Соединенным Штатам, где неоднократно исполнял это произведение. И хотя творческий огонь не пылает здесь так же сильно, как в других сочинениях Шостаковича, все же концерт очень красив и поэтому быстро вошел в репертуар многих скрипачей.
Оба произведения — Романсы на стихи Блока и Второй скрипичный концерт — были созданы в тот год, когда вся страна торжественно отмечала 50-ю годовщину Октябрьской революции. Несколькими годами ранее Шостакович публично заявил о намерении сочинить к юбилейной дате оперу «Тихий Дон», но, как известно, из этого ничего не вышло. Теперь прекрасным предлогом уклониться от подобного обязательства стало плохое состояние здоровья. Между тем остальные композиторы старались превзойти друг друга в создании подобающих случаю произведений, связанных с Октябрем. Были организованы симпозиумы, специальные собрания и даже длившийся более месяца фестиваль под названием «Искусство братских республик». В мае в Москве состоялся фестиваль звезд, на котором среди прочих выступили Ойстрах, Рихтер и танцевальный ансамбль Игоря Моисеева. Ленинградский композитор Геннадий Белов сочинил кантату «Так велел Ильич», а Борис Кравченко — произведение «Октябрьский ветер». На одном из торжественных концертов Кирилл Кондрашин впервые исполнил созданную тридцать лет назад (!) кантату «К двадцатилетию Октября» Сергея Прокофьева на слова Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, однако не целиком, поскольку власти не дали согласия на показ части, написанной на слова Сталина. Кара Караев получил Ленинскую премию за балет «Тропою грома» (1958); в творческом багаже этого композитора уже была в то время Третья симфония, содержащая элементы додекафонии, но власти решили отметить давнее произведение, основанное на азербайджанском фольклоре. Государственную премию присудили Тихону Хренникову и двум другим композиторам, представлявшим наиболее традиционное направление.
Было совершенно очевидно, что ни романсы на слова Блока, ни Второй скрипичный концерт не смогли бы «украсить» такое торжество. От Шостаковича, больше чем от кого-либо другого, ждали специального юбилейного произведения. И дождались… двенадцатиминутной симфонической поэмы под названием «Октябрь». В наследии Шостаковича мало столь же слабых, написанных в явной спешке сочинений, как эта поэма. Это как бы еще менее удавшийся вариант некоего фрагмента Двенадцатой симфонии, в котором нет ни одной оригинальной мысли и даже форма кажется не вполне удовлетворительной. Пожалуй, единственным интересным отрывком является цитирование написанной Шостаковичем партизанской песни из музыки к фильму 30-х годов «Волочаевские дни», которая выполняет в поэме роль второй темы. Была ли это временная потеря изобретательности или — как намекает Ростропович — намеренное сочинение плохой музыки? Так или иначе, но в сравнении с этим опусом и «Песнь о лесах» может быть признана шедевром. «Октябрь» ни на кого не произвел большого впечатления — самые политизированные критики (например, Израиль Нестьев) выражали свое разочарование. Сегодня это одна из «мертвых» позиций в каталоге произведений Шостаковича, как и написанная тем же летом Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы.
Будучи не в состоянии участвовать в концертах и премьерах своих сочинений, композитор во время пребывания в больнице написал музыку к кинофильму Лео Арнштама «Софья Перовская». С некоторых пор он отклонял предложения создавать театральную и киномузыку, делая исключение лишь для Григория Козинцева. Но на этот раз Шостакович не смог отказать человеку, с которым его связывали близкие отношения со студенческих лет. У Арнштама умирала жена, и он едва успевал к сроку. Поэтому композитор писал музыку, даже не зная точного сценария. Он понимал, что его работа может помочь другу, и таким образом появились пятнадцать довольно больших симфонических фрагментов.
Наступил 1968 год. Шостакович продолжал верить, что здоровье и силы позволят ему жить такой же интенсивной жизнью, как и прежде. Выйдя из больницы, он отправился в Репино, где 11 марта закончил партитуру Двенадцатого струнного квартета. В тот же день он написал Цыганову: «Дорогой Митя! Завтра день твоего рождения. Я сейчас только что кончил Квартет и прошу оказать мне честь — принять посвящение».
Спустя десять дней он вернулся в Москву и позвонил скрипачу:
«„Знаешь, кажется, очень здорово получилось“. <…> Цыганов спросил: „Это камерное?“ — „Нет, нет, — перебил Шостакович. — Это симфония, симфония…“»[474]
Посвящение Цыганову нового произведения означало продолжение тесных связей с «бетховенцами». Цыганов вспоминал разговор, происшедший на одной из репетиций только что созданного Седьмого квартета:
«Во время репетиции я сказал: „Дмитрий Дмитриевич, фирма „Мелодия“ попросила нас записать твой последний квартет“. — „Как последний? — воскликнул Шостакович. — Вот когда напишу все квартеты, тогда и будет последний“. — „Сколько же ты собираешься написать?“ Шостакович ответил: „Двадцать четыре. Разве ты не заметил, что тональности не повторяются? Я напишу все двадцать четыре квартета. Хочу, чтобы это был законченный цикл“»[475].
Он не представлял своего квартетного творчества без участия Квартета имени Бетховена. Однако в начале 60-х годов, после сорока лет совместной работы, коллектив покинули второй скрипач Василий Ширинский и альтист Вадим Борисовский, которым возраст и состояние здоровья не позволяли продолжать концертную деятельность. Начиная с Одиннадцатого квартета в премьерах участвовали уже новые члены коллектива — Николай Забавников и Федор Дружинин. Когда умер Ширинский, Шостакович сказал Цыганову:
«Все мы уйдем… и я, и ты… Квартет же имени Бетховена должен жить всегда. И через пятьдесят лет, и через сто»[476].
Двенадцатый струнный квартет стал еще одним важным этапом на творческом пути композитора. В музыке Шостаковича впервые появились элементы додекафонии, хотя в произведении и сохраняется основная тональность — Des-dur. Квартет состоит из двух частей. Первая (Moderato), по существу, служит вступлением, во второй — сложном и развернутом Allegretto — начинается поистине симфоническое развитие, со всем фактурным и гармоническим богатством, с ритмической сложностью. Однако наиболее существенны здесь упомянутые элементы додекафонии, хотя, зная прежнюю музыку Шостаковича, можно бы предположить, что эта техника ему совершенно не подходила. Додекафония проявляется прежде всего в строении тем, которые складываются из двенадцати неповторяющихся звуков. Именно так, к примеру, построен начальный мотив или вторая тема первой части.
Остальные элементы произведения композитор формировал так же, как и всегда, отнюдь не порывая связей с тональной системой.
Это была не первая попытка Шостаковича применять элементы додекафонной техники. После возникновения Двенадцатого квартета стало очевидно, что двенадцатитоновые музыкальные мысли, правда еще лишенные тематического значения, появлялись и раньше — в медленной части Второго скрипичного концерта и в начале шестого романса на стихи Блока.
Это не было и одиночной попыткой. Новое для себя техническое средство Шостакович постарался развить в следующем произведении — Сонате для скрипки и фортепиано, законченной в конце 1968 года и сочиненной «в честь 60-летия Давида Ойстраха». Хотя многие фрагменты Сонаты очень интересны, художественный результат оказался менее впечатляющим, поскольку — особенно в финале — сочетание додекафонных тем с тональностью не достигло такого единства, какое характерно для Двенадцатого квартета. В Сонате появились также определенная интеллектуальная холодность, дотоле отсутствовавшая в творчестве этого мастера, чуждая ему ранее эмоциональная сдержанность и суровость звучания. Мы видим здесь совсем другого Шостаковича, с обликом, незнакомым по его прежним камерным ансамблям и концертам. Виртуозность Сонаты — не поверхностная, рассчитанная на внешний эффект. Чрезвычайная трудность партий обоих инструментов служит высшей цели — музыке, свободной от программности и пафоса. Первыми исполнителями произведения были Давид Ойстрах и Святослав Рихтер. Существует также любительская запись самого Шостаковича, сделанная в его доме, — вероятно, последний звуковой документ композитора, который, несмотря на далеко зашедшую слабость рук, вместе с Давидом Ойстрахом совершенно четко исполнил свое новое произведение.
Январь и февраль 1969 года Шостакович снова провел в больнице. Из-за карантина вход туда был запрещен, и даже жена не могла навестить больного. Поэтому они общались с помощью писем, которые впоследствии стали документом создания одного из важнейших сочинений того периода — Четырнадцатой симфонии. В больнице, чтобы убить время, композитор много читал, и на этот раз его захватила поэзия Бодлера и Аполлинера. Позднее Ирина Антоновна купила ему томик стихов Рильке. С большим интересом он прочитал и повесть Ю. Тынянова «Кюхля» о декабристе Вильгельме Кюхельбекере. В середине января концепция новой симфонии созрела и Шостакович начал делать наброски.
После столь монументальных творений, как Тринадцатая симфония и поэма «Казнь Степана Разина», он занял диаметрально противоположную позицию и сочинил произведение лишь для сопрано, баса и камерного оркестра, причем для инструментального состава выбрал только шесть ударных инструментов, челесту и девятнадцать струнных. По форме произведение полностью расходилось со свойственной прежде Шостаковичу трактовкой симфонии: одиннадцать небольших частей, из которых состояла новая композиция, ничем не напоминали традиционный симфонический цикл. Какую проблематику затронул Шостакович в столь нетипичном сочинении? Однозначный ответ на этот вопрос дают тексты, выбранные из поэзии Федерико Гарсия Лорки, Гийома Аполлинера, Вильгельма Кюхельбекера и Райнера Марии Рильке: темой их является смерть, показанная в разных ипостасях и в различных ситуациях. В поисках прототипа такой концепции следует в первую очередь обратить внимание на творчество Мусоргского, а именно на его вокальный цикл «Песни и пляски смерти».
Открывающее симфонию «De profundis» на слова Гарсия Лорки — выдержанный в темпе adagio трагический монолог, начальная музыкальная мысль которого происходит от средневековой секвенции «Dies irae». Эта часть служит как бы эпиграфом всего произведения, а ее тематический материал еще раз появляется в предпоследней части — «Смерть поэта» на стихи Рильке.
Вторая часть — «Малагенья» (тоже на слова Лорки) — создает неожиданный контраст. Острый, нервный ритм и зловещий стук кастаньет вызывают видение танца Смерти. Полная эмоционального напряжения вокальная линия сопрано, упорное повторение навязчивой фразы «А смерть все выходит и входит, и входит, выходит и входит. Все уходит и входит!» и таинственные кварто-квинтовые ходы у виолончелей и контрабасов создают атмосферу ужаса. «Гитарные» аккорды струнных и щелканье кастаньет напоминают звучание испанского инструментального ансамбля, под который танцуют малагенью.
Эта часть непосредственно переходит в «Лорелею» (на слова Аполлинера), состоящую из двух эпизодов: Allegro molto и Adagio. Представленный в драматической форме дуэт Лорелеи и неумолимого епископа написан чрезвычайно пластично. Первый его фрагмент изображает конфликт добра и зла, как он отражен в романтической легенде: с одной стороны, жизнь и любовь Лорелеи, а с другой — темные, разрушительные силы, то есть воля властителя, епископа-судьи, и черные рыцари, исполнители приговора. Этот эпизод решен совершенно необычно: когда музыка должна изображать Лорелею, взбегающую на высокую скалу, струнные инструменты тут же устремляются к самому высокому возможному звуку, уже не имеющему определенной высоты. Бег Лорелеи к смерти передан каноническим фугато, 89-звучная тема которого, экспонируемая контрабасами, основывается на постоянном вращении двенадцатитоновой серии.
Один из наиболее вдохновенных фрагментов симфонии — «Самоубийца», созданный, как и последующие четыре части, на слова Аполлинера. Здесь выступает сопрано в сопровождении необычайно камерно звучащего ансамбля, и прежде всего виолончели соло, что является прямой отсылкой к первому из блоковских романсов. Из стихотворения неизвестно, кем был тот несчастный, на могиле которого растут три лилии, и почему его жизнь была такой же проклятой, как проклята их красота. Поэтическая форма рефрена диктует музыкальную форму, близкую к рондо, а настроение музыки полно невыразимой, безбрежной печали, сопутствующей мыслям о всех тех, кто вынужден был преждевременно расстаться с жизнью.
Как чудовищное скерцо звучит пятая часть — «Начеку», основная тема которой опирается на маршево ритмизованную двенадцатитоновую серию, исполняемую ксилофоном соло.
В ответ звучат три там-тама, придающих музыке бездушный характер, насыщающих ее зловещим гротеском и черным юмором. Эта часть становится своего рода кульминацией показа зла и фатализма в симфонии.
Ее продолжением является эпизод «Мадам, посмотрите!», построенный в виде вокального дуэта. Стихотворение состоит всего из нескольких строф, и музыка тоже чрезвычайно лаконична. Пение сменяется имитацией ироничного хохота, переходящего затем в рыдание. Это неудержимый смех над «любовью, что скошена смертью», жуткое изображение видения Смерти, губящей всякое счастье.
Часть «В тюрьме Санте» более симфонична, чем остальные. Ее средний фрагмент представляет собой необычную фугу, полностью додекафонную и исполняемую нетрадиционно применяемыми струнными инструментами, которые в унисон играют pizzicato и col legno. Вот ее тема:
Из русского перевода, который использовал Шостакович, не следует так же однозначно, как из оригинала, что герой стихов — сам поэт; можно только догадаться, что он не заурядный преступник, а скорее «узник совести». В этом особенно убеждают такие слова заключенного:
Нас в камере только двое: Я и рассудок мой.«Ответ запорожских казаков константинопольскому султану» можно понять как протест Шостаковича против любых правителей-деспотов: не случайно эта часть идет сразу после монолога узника «Санте». Для композитора не имеет значения тот факт, что узник — француз, а султан — турок, потому что он говорит о жертвах тирании во всем мире. В первом фрагменте этой части разъяренные казаки насылают проклятия на султана: «Ты преступней Вараввы в сто раз», «нечистотами вскормленный с детства», «рак протухший, Салоник отбросы, скверный сон, что нельзя рассказать». Однако это лишь начало казацкой ярости, и постепенно эпитеты и проклятия становятся все более изысканными («зад кобылы, рыло свиньи»). Музыка тоже развивается все более стихийно, мелодия уносится все выше и выше, пока наконец не достигает кульминации на словах: «…пусть тебе все снадобья скупят, чтоб лечил ты болячки свои!» Потом уже остается только инструментальный фрагмент, в котором на фоне пульсирующего кластера, исполняемого скрипками, остальные струнные напоминают начальную тему.
Роль катарсиса выполняет неожиданно традиционный романс «О Дельвиг, Дельвиг!» на слова Кюхельбекера. Это единственный фрагмент симфонии, выдержанный в определенной тональности (Des-dur), и, пожалуй, он несколько менее интересен в музыкальном отношении.
«Смерть поэта» — развитое Adagio, создающее настроение сосредоточенного раздумья. Собственно, это эпилог произведения, в котором переплетаются разные музыкальные мысли, и среди них как-то неожиданно и необъяснимо возникают трезвучия струнных, словно далекий отзвук четвертой части «Песни о лесах». Почему? Что хотел выразить композитор, обратившись к столь отличающемуся произведению? В «Песни о лесах» подобные аккорды подготавливали пение детей (пионеров), а здесь предшествуют словам «Где им понять, как долог этот путь» — возможно, имеющим автобиографическое значение.
И наконец, Заключение на слова Рильке. Композитор изменил стихотворение и сократил его до нескольких стихов. Двадцать четыре такта создают неотвратимое crescendo, развивающееся от едва слышимого piano до fortissimo, в котором настойчиво и все быстрее повторяется диссонирующий аккорд. Внезапно все обрывается, так же, как обрывается человеческая жизнь…
16 февраля, еще во время пребывания композитора в больнице, был готов клавир симфонии, а 2 марта Шостакович написал последние такты партитуры. Позднее он вспоминал, что, когда рукопись была отдана переписчику, его внезапно охватил панический страх, что партитура может пропасть, и он три ночи не смыкал глаз, думая только о том, сможет ли восстановить произведение по памяти.
Первыми исполнителями должны были стать Галина Вишневская, Марк Решетин и Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая. Баршай был известен тем, что невероятно долго вел подготовительную работу — десятки репетиций были для него не редкостью. Однако настоящая проблема заключалась совсем в другом: до сих пор смерть не входила в число тем, которым советские художники посвящали свои сочинения, а что еще хуже, в стране начинались первые приготовления к торжественному празднованию столетия со дня рождения Ленина.
И Шостакович снова сочинил для своего нового произведения явно фальшивую, наивную идеологию, многократно повторяемую при разных оказиях. В интервью для «Правды» он говорил, между прочим, будто задача симфонии — «чтобы слушатель… подумал… о том, что обязывает его жить честно, плодотворно… во славу самых лучших прогрессивных идей, которые двигают вперед наше социалистическое общество». Однако при этом он признался:
«…Впервые мысль об этой теме у меня возникла еще в 1962 году.
Тогда я оркестровал вокальный цикл Мусоргского „Песни и пляски смерти“… И мне пришла мысль, что, пожалуй, некоторым „недостатком“ его является… краткость: во всем цикле всего четыре номера.
А не набраться ли смелости и не попробовать ли продолжить его, подумалось мне»[477].
Весть о необычности Четырнадцатой симфонии довольно быстро распространилась в музыкальных кругах. Задолго до премьеры, 21 июня 1969 года, в Малом зале Московской консерватории состоялась открытая генеральная репетиция. Был жаркий летний день, в небольшом помещении собрались сотни слушателей — музыкантов старшего и младшего поколения, меломанов и студентов, так что почти нечем было дышать. Из властей не пришел никто. Появился только аппаратчик Павел Апостолов, музыковед по образованию, один из былых сталинистов, преследователь Прокофьева и Шостаковича в 40–50-е годы. Репетиция уже должна была начаться, когда на сцену неожиданно вышел композитор. Словно бы охваченный сильным ужасом, вызванным этими обстоятельствами, и крайне взволнованный, он, вопреки своему обыкновению, обратился к слушателям. Он сказал, в частности, что его новая симфония представляет собой полемику с другими композиторами, которые тоже изображали Смерть в своей музыке. Вспомнил о «Борисе Годунове» Мусоргского, об «Отелло» и «Аиде» Верди, о «Смерти и просветлении» Рихарда Штрауса — о произведениях, в которых после смерти наступает успокоение, утешение, новая жизнь. Для него же смерть — это конец всего, после нее уже ничего нет. «И поэтому, — добавил он, — я хотел бы вспомнить слова замечательного советского писателя Николая Островского, который сказал, что жизнь дается нам только один раз, а значит, прожить ее нужно честно и достойно во всех отношениях и никогда не делать того, чего пришлось бы стыдиться». Во время этого выступления в зрительном зале неожиданно возник шум: бледный как мел человек покинул зал. Затем началась генеральная репетиция. И когда в последней части прозвучали слова «Всевластна смерть. Она на страже…», в коридоре консерватории лежали уже лишь останки человека, который за полчаса до того, собрав последние силы, сумел выйти из зала. Это был Павел Апостолов…
После шестидесяти репетиций публичное исполнение Четырнадцатой симфонии состоялось только осенью: 1 октября — в Ленинграде, 6 октября — в Москве. Солистами были: Галина Вишневская — сопрано, Евгений Владимиров (в Ленинграде) и Марк Решетин (в Москве) — бас, Московским камерным оркестром дирижировал Рудольф Баршай. На московский концерт пришли Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский, Эдисон Денисов, Сергей Слонимский, Кирилл Кондрашин, Мстислав Ростропович, Александр Солженицын, Евгений Евтушенко, Лиля Брик и многие другие светила советской культуры. Четырнадцатая симфония имела огромный успех, хотя можно усомниться, что все слушатели, до отказа заполнившие залы в Ленинграде и Москве, полностью поняли это сложное произведение.
Позднее симфония была исполнена еще во многих городах, однако композитор уже не имел сил участвовать в концертах. Он снова вынужден был на длительный срок вернуться в больницу.
Четырнадцатая симфония не вызвала протестов со стороны официальных органов, но стала причиной разрыва нормальных прежде отношений композитора с Александром Солженицыным. Шостакович очень ценил этого крупного писателя, с величайшим вниманием следил за его творчеством с момента появления «Одного дня Ивана Денисовича», публикация которого в начале 60-х годов стала символом оттепели и надежды. В то же время композитора всегда раздражала позиция знаменитого диссидента. Считая его необыкновенно мужественным человеком, Шостакович, однако, ставил ему в вину то, что тот строит из себя корифея русской интеллигенции и претендует на роль нового русского святого. Теперь причиной конфликта оказались мировоззренческие вопросы. Солженицын упрекнул Шостаковича в неверном, по его мнению, отношении к смерти, которая в Четырнадцатой симфонии представлена как сила, губящая жизнь, разрушающая все сущее. Глубоко верующий писатель не мог найти общего языка с композитором-атеистом. Он уже давно ожидал от Шостаковича солидарности с собственной позицией, не интересуясь ни интроспекцией, ни внутренними проблемами композитора. Для Солженицына главным противником, с которым следовало бороться, были власти, и эта проблема значила для него гораздо больше, чем рассуждения о смерти. То, что Шостакович никогда не решался поставить свою подпись под заявлениями диссидентов, в глазах писателя было чистым соглашательством. Шостакович пытался уладить разногласия, даже пригласил Солженицына к себе домой, рассчитывая на взаимопонимание, но тот ответил отказом, и встреча не состоялась. Впрочем, это не помешало композитору по-прежнему преклоняться перед его творчеством, а когда появился «Архипелаг ГУЛАГ», Шостакович высказался о нем так: «Эта книга своего рода взрыв атомной бомбы в интеллектуально-политической сфере»[478].
Четырнадцатая симфония была первым из нескольких произведений Шостаковича, о которых можно сказать, что они являются прощанием с жизнью. В то время он уже отдавал себе отчет в состоянии своего здоровья, хотя все еще обманывался, что силы вернутся к нему. Тема смерти, однако, продолжала волновать его. Вторым сочинением этого рода стал Тринадцатый струнный квартет, b-moll, написанный в августе следующего года. В этом произведении, разумеется, нет словесного текста, но в музыке проступают определенные содержательные намеки, — такие, например, как автоцитата в начале Квартета, взятая из музыки к кинофильму «Король Лир», а именно из хоровых моментов о скорби и смерти.
Это произведение, всего лишь одночастное, явно продолжает линию Четырнадцатой симфонии. И в отношении развития музыкального языка оно также служит свидетельством дальнейших поисков. Наряду с додекафонными темами в Квартете появляется характерная для авангарда 60-х годов трактовка струнных инструментов как ударных, основанная на постукиваниях древком смычка о бок инструмента. Однако в этой музыке нет ничего нарочито эффектного. Нет даже просветления настроения, какое — пусть лишь однажды — наступает в Четырнадцатой симфонии (в части «О Дельвиг, Дельвиг!»). Весь Квартет насыщен скорбью и крайним пессимизмом, поэтому его не случайно назвали «реквиемом для струнного квартета».
Ростислав Дубинский, первый скрипач Квартета имени Бородина, вспоминал, как на одну из репетиций пришел композитор:
«Когда мы играли, он сперва взял в руки партитуру, но затем отложил ее и опустил голову. Играя, мы видели краем глаза, как его голова, подпертая руками, склонялась все ниже… Квартет окончился. Мы положили инструменты, ожидая замечаний. Однако их не было. Шостакович не поднимал головы. Тогда мы встали со своих мест, бесшумно убрали инструменты и незаметно вышли из зала. Шостакович сидел неподвижно…»[479]
За полгода до возникновения Тринадцатого струнного квартета забрезжила надежда на излечение болезни рук. Как-то раз зимой 1969/70 года композитор узнал о судьбе знаменитого спортсмена, прыгуна Валерия Брумеля, которому вылечил сломанную ногу известный ортопед Гавриил Абрамович Илизаров, живший в уральском городе Кургане. Благодаря Долматовскому Шостакович сумел попасть к доктору Илизарову, что было непросто, поскольку в Курган съезжались пациенты из многих городов и стран. Илизаров установил причину болезни: парез конечностей оказался результатом хронического воспаления спинного мозга — заболевания, развитие которого пока не может задержать даже современная медицина. Врач предписал комплекс гимнастических упражнений и длительные прогулки. Такого лечения к Шостаковичу еще не применяли.
О самой болезни Илизаров говорить не хотел. Он последовательно проводил строгий режим лечения, а композитор послушно выполнял все его рекомендации. Уже спустя две недели он написал одному из друзей: «Много физкультуры, массажа… Кроме того, раз в три дня мне делают укол. Потом я принимаю порошки. С большим трудом, с очень большим трудом, но все же влезаю в больничный автобус. Это тоже мой экзерсис… Я даже стал играть на рояле. Причем играю не только медленно и тихо, но даже быстро и громко. Например, Четвертый, Пятый и некоторые другие этюды Шопена»[480]. Иногда он все же жаловался, что лечение очень мучительно. Тем не менее внезапно оказалось, что метод Илизарова творит чудеса: через некоторый период наступило неожиданное улучшение. Шостакович писал: «Гавриил Абрамович… не просто врачует болезни, он исцеляет человека». И 17 апреля 1970 года: «Сегодня прошло уже пятьдесят дней, как я лечусь у Г. А. Илизарова… Мое лечение идет хорошо. У меня уже имеются большие достижения. Я гораздо лучше хожу, играю на рояле, преодолеваю препятствия и т. д. Физически я стал сильнее. Великий врач Г. А. Илизаров уделяет мне много внимания и дает слово, что выйду я отсюда (из больницы) совершенно здоровым, с сильными руками и ногами»[481]. В июле он поделился новостями с автором этой книги: «Лечение у замечательного врача, Г. А. Илизарова, принесло мне большую пользу. Примерно в середине августа я опять поеду к нему, чтобы, как говорит Г. А. Илизаров, поставить на „заключительный аккорд“».
В Кургане Шостакович писал музыку к фильму Козинцева «Король Лир». 9 июня он, полный энергии, вернулся домой и вскоре уехал в Репино, чтобы продолжить работу над музыкой к «Королю Лиру» и начать Тринадцатый квартет. В конце этого года он провел неделю в Таллине в связи с первым исполнением нового хорового цикла, присутствовал также на московской и ленинградской премьерах Тринадцатого квартета. Непредвиденной работой, за которую композитору пришлось взяться безотлагательно, был Марш советской милиции для духового оркестра. Хотя он представляет собой явную карикатуру и издевательство над маршами того периода, это не помешало ему получить первую премию на конкурсе, объявленном на такое произведение. В очередной раз стало видно как на ладони, что для властей важно не качество музыки, а ее идеологический облик, дающий возможность использовать ее как орудие коммунистической пропаганды. По этой же самой причине Шостакович получил Государственную премию за восемь баллад для мужского хора «Верность», написанных к сотой годовщине со дня рождения Ленина. Это было очередное произведение «к случаю», словно намеренно лишенное оригинальности и свежести мысли (лишь в двух первых балладах заметны более индивидуальные черты). Между тем хронологически баллады соседствовали с Четырнадцатой симфонией и Тринадцатым квартетом. Романсами на стихи Блока и Вторым скрипичным концертом.
В начале следующего, 1971 года мысли Шостаковича стали кружить вокруг новой симфонии. Поначалу он ничего не писал, зато постоянно бывал на людях, ходил на концерты, в театр, посещал друзей и только один раз признался своему младшему коллеге, ленинградцу Борису Тищенко: «Я хочу написать веселенькую симфонию»[482].
Первые наброски он сделал в апреле. Позже какое-то время занимался сочинением романса для баса и фортепиано на слова Евтушенко, но так его и не закончил. В июне композитор отправился в Курган, чтобы продолжить лечение, и там в свободные от гимнастических упражнений и процедур минуты без остатка отдавался работе над новой симфонией. Это произведение было ему особенно дорого. «Я очень много над ней [симфонией] работал, — рассказал он в разговоре с Ройялом Брауном, — и, как ни странно, я ее писал в больнице, потом вышел из больницы — писал на даче, понимаете, но оторваться от этого совершенно не мог. Это одно из тех произведений, которое просто очень меня захватило, и… может быть, одно из немногих моих сочинений, которое мне показалось ясным от первой до последней ноты, понадобилось только время, чтобы это записать»[483].
27 июня Шостакович вернулся из Кургана и сообщил встречавшему его на вокзале Александру Холодилину (музыковеду, который в течение нескольких лет исполнял обязанности его секретаря), что симфония завершена. Спустя месяц, 29 июля, в Репине, он закончил оркестровку и вечером того же дня выехал в Москву, где через несколько дней на прослушивании в Союзе композиторов симфонию представили в четырехручном переложении Борис Чайковский и Моисей Вайнберг. 26 августа Шостакович писал Мариэтте Шагинян: «Работал я над ней [симфонией] много. До слез. Слезы текли из глаз не потому, что симфония печальная, а потому, что сильно уставали глаза. Я даже показался окулисту, который порекомендовал мне сделать в работе небольшой перерыв. Этот перерыв достался мне очень трудно. Когда работается, то отрываться от работы мучительно»[484].
Четырехчастная Пятнадцатая симфония, написанная только для оркестра, очень напоминает некоторые предыдущие произведения композитора. Особенно в лаконичной первой части, радостном и полном юмора Allegretto, возникают ассоциации с Девятой симфонией, слышны и далекие отзвуки еще более ранних сочинений: Первого фортепианного концерта, некоторых фрагментов из балетов «Золотой век» и «Болт», а также оркестровых антрактов из «Леди Макбет». Между двумя оригинальными темами композитор вплел мотив из увертюры к «Вильгельму Теллю», который появляется много раз, причем характер имеет в высшей степени юмористический, тем более что здесь его исполняют не струнные, как у Россини, а группа медных духовых, звучащих подобно пожарному оркестру.
Adagio вносит резкий контраст. Это полная раздумья и даже пафоса симфоническая фреска, в которой начальный тональный хорал скрещивается с двенадцатитоновой темой, исполняемой виолончелью соло. Многие эпизоды напоминают наиболее пессимистические фрагменты симфоний среднего периода, главным образом первой части Шестой симфонии.
Начинающаяся attacca третья часть — самое короткое из всех скерцо Шостаковича. Его первая тема также имеет двенадцатитоновое строение, как в прямом движении, так и в инверсии (пример 37).
Отчетливое выдвижение на первый план духовых инструментов вызывает ассоциации с музыкой Стравинского и Хиндемита (последнего — еще и благодаря квинтовоквартовой гармонии).
Финал начинается цитатой из вагнеровского «Кольца нибелунга» (она прозвучит в этой части неоднократно), после чего появляется главная тема — лирическая и спокойная, в характере, необычном для финалов симфоний Шостаковича (пример 38).
Побочная тема тоже мало драматична. Подлинное развитие симфонии начинается только в среднем разделе — монументальной пассакалье, басовая тема которой явно родственна знаменитому «эпизоду нашествия» из Ленинградской симфонии (пример 39):
Пассакалья ведет к душераздирающей кульминации, а далее развитие как бы надламывается. Еще раз появляются уже знакомые темы — композитор напоминает мотивы двух первых частей, а затем наступает кода, в которой концертирующая партия доверена ударным, как в конце скерцо из Четвертой симфонии и в коде Второго виолончельного концерта. Снова слышны фрагменты темы пассакальи, после чего все внезапно обрывается. Казимеж Корд сказал как-то раз о финале этой симфонии: «Это музыка испепеленная, выжженная дотла…»[485]
Пятнадцатую симфонию отличает исключительная экономия средств, порой граничащая со столь необычайным упрощением языка, что это уже становится загадочным. Впрочем, таких загадочных черт в произведении немало. Прежде всего это общая формально-стилистическая концепция, которая ведет от гротесково-оптимистического начала через скорбное adagio и суховато-терпкое скерцо к сперва лирическому, а затем патетическому финалу, заканчивающемуся pianissimo. Когда в последнем разделе на фоне красочных, мерцающих ударных у флейты проходят темы первой части, соединенные с «темой нашествия» виолончелей и контрабасов из четвертой части, то музыка возносится прямо в поднебесные дали звукового пространства, а долго выдерживаемый интервал чистой квинты у струнной группы производит впечатление как бы потустороннего звучания.
Загадочны в этой музыке и цитаты, ведь прием коллажа прежде не применялся Шостаковичем. Неожиданно возникшая цитата из увертюры к «Вильгельму Теллю» производит юмористическое впечатление, но появляющийся во вступлении к финалу мотив судьбы из вагнеровской «Валькирии» звучит уже как memento mori. Чем объяснить намек на вступление к «Тристану и Изольде» или многократное появление в финале мотива В-А-С-Н? Почему во второй части слышны отчетливые связи с Шестой симфонией самого Шостаковича? Что должны означать два удивительных шестизвучных аккорда, образующих вместе двенадцатитоновое созвучие и появляющихся в самых неожиданных местах партитуры? В письме к автору этих строк Шостакович сообщал о «точных цитатах» из Бетховена, которых, однако, нигде нет.
Еще более таинственна в симфонии разнородность звукового материала. Двенадцатитоновые темы соседствуют с чистой тональностью; рафинированная колористика и полиритмия первой части соединяются с причудливой карикатурой на банальную атмосферу Двенадцатой симфонии; тональный хорал во второй части вообще лишен индивидуальных черт, в то время как, например, многие фрагменты финала являются как бы квинтэссенцией шостаковичского стиля.
Сравнивая Пятнадцатую симфонию с предыдущими, нетрудно прийти к отрицательным выводам: в первой части, несомненно, отсутствуют цельность звучания и симфонический размах, так свойственные большинству других произведений Шостаковича; в растянутой, очень длинной второй части многие фрагменты звучат не слишком оригинально; третья часть, скерцо, действительно очень изысканна, но вместе с тем непропорционально миниатюрна по сравнению с Adagio и к тому же приглушена и лишена юмора, столь типичного для других скерцо Шостаковича; финал, вначале не обладающий симфоническим размахом, представляется чуть ли не каким-то лирическим романсом для оркестра, и так вплоть до начала драматической пассакальи; и наконец, кода ставит своеобразный знак вопроса над всем произведением. Но с другой стороны, сила воздействия этой симфонии просто магнетическая. Тем не менее, вероятно, нагромождение загадочных черт послужило тому, что Пятнадцатая симфония не вошла в мировой концертный репертуар в такой мере, как Первая, Пятая, Восьмая, Девятая и Десятая. Правда, после премьеры в России зазвучал хор хвалебных голосов, а произведение единодушно было признано замечательным достижением композитора, однако дирижеры продолжали предпочитать его более классические и однозначные сочинения.
Был ли сам создатель полностью доволен своей последней симфонией? Интенсивная работа над этим произведением подорвала обретенные в Кургане силы. 16 сентября, измученный, он написал мне: «Вероятно, я больше не должен сочинять. А ведь я жить без этого не могу». На следующий день его увезли в больницу со вторым инфарктом миокарда.
Глава двадцать седьмая 1971–1975
Ситуация в период правления Брежнева. — Утрата друзей. — Развитие болезни. — Последние произведения. — Смерть
Период, на который пришлись последние годы жизни Шостаковича, часто называют «советской эпохой реального социализма». Падение Хрущева окончательно завершило послесталинскую эру советской истории. Тем временем продолжала действовать доктрина, гласившая, что партия всегда права: поправляет чужие ошибки, карает и милует, стоит на страже идеологии — а значит истины. Система доказывала свою силу и стабильность, оппозиционные силы по-прежнему беспощадно и кроваво подавлялись — как раньше в Восточном Берлине и Венгрии, так и в 1968 году в Чехословакии. Брежневу потребовалось около десяти лет на то, чтобы к середине 70-х годов восстановить позицию вождя, олицетворяющего мощь партии. Правда, он не стал Сталиным, но занял его место. В первой половине 70-х годов родился культ генерального секретаря, сумевшего за пять лет сосредоточить в своих руках важнейшие элементы власти. Одним из первых, еще коллективных решений было аннулирование хрущевских реформ: отмена ротации в партийных органах, возврат традиционных министерств, и только для спокойствия населения не были подвергнуты гонениям церковь и религия. Премьер Косыгин очень скоро выступил инициатором мер, принятых для исправления «волюнтаристских ошибок Хрущева», свержение которого было бунтом жрецов против верховного жреца, осмелившегося покуситься на свою же касту. Эта каста была так называемой номенклатурой, верхним слоем которой являлись Центральный комитет и его Президиум, генералитет, Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности (КГБ).
Андрей Сахаров так описывал процесс создания будущей номенклатуры:
«Недавно большую группу хороших студентов-выпускников различных ВУЗов страны собрали на месяц в Ленинграде под каким-то благовидным предлогом (комсомольцев, конечно…). Их сытно кормили и много поили в лучших ресторанах, всячески развлекали — все бесплатно. В общем, дали „покататься как сыр в масле“. А потом спросили — хотите всегда так жить? Поступайте в ВПШ! (Высшая партийная школа, самый бездарный станет там, минимум, вторым секретарем райкома)»[486].
Среди созданных таким образом властей коррупция и моральное разложение были обычным явлением. Людей наверху волновали только их личные интересы, блюсти которые им было тем легче, что они имели неограниченные привилегии. Типичной представительницей номенклатуры была, например, министр Екатерина Фурцева, во времена Хрущева откомандированная из партийного аппарата в ведомство культуры.
В конце 60-х годов по Западу прокатилась волна бурных протестов молодежи. Во Франции, Западной Германии и США студенты провозглашали свое недовольство условиями жизни. Выросшие в материальном достатке, не виданном в истории человечества, они разоблачали упадок в сфере духовных ценностей. Советская пресса с удовольствием распространялась на эту тему, сравнивая нестабильное положение молодежи при капитализме со спокойной уверенностью в завтрашнем дне молодых людей Страны Советов. Однако это было явным искажением действительности. В те годы молодежь в СССР тоже переживала период переоценки идеалов, не скрывала явной неудовлетворенности ситуацией в стране и начала создавать активную оппозицию. Студенты добивались открытой дискуссии и свободного обмена мнениями. В Москве, Ленинграде, Киеве и некоторых других городах нарастал протест против цинизма, которым пропиталось все общество. По некоторым источникам, в 1967 году по всей стране появилось около 400 неофициальных молодежных групп, стоявших в оппозиции к режиму.
После приговора, который был вынесен Андрею Синявскому и Юлию Даниэлю «за агитацию, имеющую целью подрыв или ослабление советской власти» и «за клеветнические вымыслы», оппозиционное движение начало набирать силу. Писатели были главными выразителями — в различных формах и в разной степени — пробуждавшегося стремления к правде, казалось бы, полностью искорененного и растоптанного. Возрожденная свободная мысль, которая не могла найти выхода в официальной литературе, скрывалась в нелегальных публикациях — «Самиздате». В «Самиздате» появлялись и издания классики, вычеркнутой из официального «литературного оборота»: произведения Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама.
Оппозиция против власти повлекла за собой очередные репрессии. Подписать коллективное письмо с протестом значило быть обвиненным в так называемом «подстрекательстве». С 1966 года по всей стране проходили политические процессы. Власти считали любой призыв к соблюдению правопорядка проявлением инакомыслия, угрожающего системе. Требование, чтобы закон был одинаково обязателен для обычных граждан и для правящих кругов, рассматривалось как преступление, за которое следует карать ссылкой. Процессы порождали протесты, которые, в свою очередь, вели к арестам и новым процессам. Александр Гинзбург, основатель одного из журналов «Самиздата» (за что его арестовали и осудили), составил Белую книгу протестов против приговоров, вынесенных Синявскому и Даниэлю, следствием чего стал новый приговор — пять лет лагерей. Павел Литвинов, который издал книгу, документально отразившую процесс Гинзбурга, через год был приговорен к пяти годам ссылки. Итак, террор не прекратился, а лишь произошло изменение его характера. В начале 70-х годов был введен новый, не применявшийся прежде метод преследований — принудительное помещение в психиатрическую больницу, где с помощью лекарств ломались характеры и уничтожались личности.
В этот период возникли три основных оппозиционных течения. Первым из них, принадлежавшим к либерально-демократической оппозиции, руководил известный физик Андрей Сахаров. Во главе второго течения, связанного с христианской идеологией, встал Александр Солженицын. Со своей стороны, братья Рой и Жорес Медведевы были поборниками возврата к «неискаженному, истинному марксизму-ленинизму». В 1970 году Андрей Сахаров вместе с физиками Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе образовали Комитет защиты гражданских прав. Несмотря на свою открытость, комитет был подвергнут жестоким преследованиям, однако голос Сахарова заглушить не удалось. В 1970 году Солженицын получил Нобелевскую премию в области литературы. Власти травили его и очерняли в печати, но не решились лишить его свободы.
Страх перед возвращением сталинизма привел к тому, что значительной части общества замена тотального террора выборочным стала казаться прогрессом и достижением, которое следует беречь и защищать. Тем временем старые сталинисты все громче возвышали свой голос. Еще в 1966 году на XXIII съезде КПСС Михаил Шолохов (в тот период уже лауреат Нобелевской премии) с тоской вспоминал времена, «когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса», а «руководствуясь революционным правосознанием» и без пустой болтовни расстреливая «оборотней»[487]. Официально стали вспоминать о «заслугах» Жданова. 10 марта 1976 года «Правда» прямо написала: «Выступления А. А. Жданова по вопросам науки, литературы и искусства… вносили серьезный вклад в дело идейного воспитания советского народа, развития его духовной культуры».
Зарождение оппозиционного движения в Советском Союзе в конце 60-х годов сопровождалось усилением чувства национального самосознания в отдельных республиках, особенно закавказских. Росло национальное движение на Украине и в Литве, в результате чего по Украине прошла мощная волна арестов. В 1971 году Брежнев заявил: «Полное торжество дела социализма во всем мире неизбежно. И за это торжество, за счастье трудового народа мы будем бороться, не жалея сил!»[488] Пропагандистская машина работала все энергичнее, так что Солженицын имел все основания утверждать: «Штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения… изуродовали всех нас, почти не оставили неповрежденных умов»[489]. Однако сила и авторитет великого диссидента стали столь значительны, что власти больше не могли его терпеть. В феврале 1974 года Солженицын был арестован, а затем насильственно посажен в самолет и выслан за границу. Это был первый случай изгнания со времени высылки из страны Льва Троцкого в 1929 году.
Среди музыкантов с оппозицией был связан только Мстислав Ростропович. В самый разгар травли Солженицына он предоставил писателю убежище в своем доме, что вызвало лавину преследований музыканта, воспрепятствование его профессиональным занятиям, отказы в поездках за границу и тому подобное. Наконец после длительной борьбы весной 1974 года Ростроповичу разрешили выехать на Запад, а затем власти воспользовались подвернувшейся возможностью и в 1978 году лишили его и всю его семью гражданства.
Шостакович с ужасом наблюдал за этими событиями. Диссиденты пробуждали у него симпатию, но он не очень верил в успех их деятельности. Однажды он сказал Галине Вишневской о Солженицыне: «Скажите ему, чтобы не связывался с кремлевской шайкой. Надо работать. Писателю надо писать, пусть пишет… он великий писатель»[490]. Сам он уже не имел ни силы, ни мужества противостоять сложившимся условиям. Весной 1974 года, безнадежно больной, он поддался нажиму и поставил свою подпись (вместе с Хачатуряном и Кабалевским) под официальным письмом, осуждающим Сахарова. Многие не могли простить ему этого шага. Уже упомянутый домашний врач Лев Кагаловский впоследствии вспоминал, как Шостакович повторял: «Не прощу себе этого до самой смерти»[491].
Неверие в перемены к лучшему касалось и собственного здоровья. Второй инфаркт миокарда перечеркнул возможность продолжить лечение у Илизарова. Физическая слабость исключала занятия гимнастическими упражнениями, потому что любое усилие грозило новыми осложнениями на сердце, и, таким образом, безвозвратно погибло все, чего удалось достичь в Кургане. Парез правой руки развивался чрезвычайно быстро. В конце 1973 года при очередном медицинском обследовании у композитора обнаружились изменения в левом легком. 27 декабря один из ведущих врачей кремлевской клиники подтвердил ранее поставленный диагноз: рак. Предпринятое облучение уже мало могло помочь, и новая болезнь должна была приблизить конец; к тому же вскоре развились метастазы. Шостакович был полностью осведомлен о своем состоянии. Однажды он пожаловался: «У меня так вчера печень болела, что я кусал себе пальцы», а потом добавил: «Да я смерти не боюсь, нет. Я боюсь мук, болей»[492].
Призрак смерти снова и снова кружил около него, забирая близких ему людей. В ноябре 1971 года неожиданно остановилось сердце Александра Холодилина, с которым Шостакович очень сдружился в последние годы. В 1973 году ушла навсегда старшая сестра Мария. Вскоре умерли друг со студенческих лет Валерьян Богданов-Березовский и Григорий Козинцев. Смерть забрала Вадима Борисовского, альтиста Квартета имени Бетховена, и Льва Оборина. Умерла и Зинаида Гаямова, в течение многих лет личный секретарь композитора. В 1974 году Шостакович почти одновременно потерял двух друзей — Давида Ойстраха и Сергея Ширинского. Сломленный, он даже не смог найти силы, чтобы дождаться конца погребальной церемонии Ойстраха.
Запланированная Кондрашиным премьера Пятнадцатой симфонии не состоялась, поскольку у дирижера было очень плохо с сердцем и неизвестно было, сможет ли он вообще когда-нибудь активно заниматься своим профессиональным делом. В конце концов премьерой последней симфонии продирижировал сын композитора Максим.
Теперь Шостакович появлялся на публике исключительно в сопровождении Ирины Антоновны. Она помогала ему садиться, вставать, надевать пиджак, застегивать пуговицы. Видно было, что у него дрожат губы, словно он сдерживал рыдания. Выход на сцену представлял для него огромную трудность.
Однажды в Ленинграде композитор ехал в автомашине, которую вела его жена. Внезапно он обратился к Ирине Антоновне с просьбой подъехать на улицу Марата, а потом в Дмитровский переулок. Угадав мысли мужа, она ехала очень медленно, чтобы он мог присмотреться к местам своего детства, юности… На улице Марата, на которой Шостакович когда-то сочинил Первую симфонию, он попросил остановить машину, вышел из нее и сделал несколько неуверенных шагов в сторону входной двери.
— Не торопись, Митя, — сказала жена.
— Я только посмотрю… — ответил он и замолк надолго[493]. Оглянулся ли он в тот момент на всю свою жизнь, полную уступок и отречений? Теперь компромиссы и явное соглашательство давали только то, что он мог пользоваться правительственной клиникой и без всяких затруднений выезжать за границу, в чем он по-прежнему был заинтересован. Однако это были чисто внешние проявления признания и уважения. Когда в 1973 году Шостакович с огромным трудом собрался в поездку в Соединенные Штаты, ему позволили вывезти всего сто долларов. Между тем деньги нужны были на лечение, поскольку он обольщался надеждой, что американские врачи найдут какой-то способ вылечить его руки.
Киевский дирижер Константин Симеонов отказался дирижировать «Степаном Разиным», опасаясь неприятностей со стороны властей. Произведение, отмеченное в 1968 году Государственной премией, продолжало вызывать споры, и главным образом из-за стихотворения Евтушенко, где, в частности, содержалась такая фраза: «Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра»; даже это казалось некоторым слишком многозначительным и опасным.
На творческую работу у Шостаковича уже не всегда находились силы. После завершения Пятнадцатой симфонии он за полтора года не написал ни единой ноты. Впервые случилось так, что он совершенно перестал работать.
Тем временем с 1972 года мир предоставлял ему все больше доказательств признания. Летом ему было присвоено звание доктора honoris causa Дублинского университета. Он поехал получать его и заодно присутствовал на английском исполнении Пятнадцатой симфонии в Ройял-фестивал-холле в Лондоне, а также лично познакомился с четырьмя молодыми музыкантами Фицуильям-квартета, которые с некоторых пор исполняли и пропагандировали его камерное творчество. Двумя месяцами раньше, в мае, Шостакович побывал в ГДР в связи с награждением его Звездой Дружбы народов. Присутствовал он там и на исполнении Пятнадцатой симфонии. Затем он лечился и отдыхал в правительственном санатории в Горише, близ Дрездена.
В 1973 году композитор получил звание доктора изящных искусств Северо-Западного университета США в Ивенстоне, штат Иллинойс. На палубе советского лайнера «Михаил Лермонтов» он отправился в свою третью и последнюю поездку в Соединенные Штаты. На этот раз пребывание в США длилось недолго, всего десять дней — с 11 по 20 июня. Кроме Ивенстона Шостакович посетил Нью-Йорк и Вашингтон, где встретился со старыми знакомыми, в том числе с Юджином Орманди. Заодно он подвергся обследованию, которое подтвердило неизлечимость прогрессирующего паралича рук и ног. Непосредственно перед поездкой в Соединенные Штаты композитор посетил Копенгаген, был свидетелем триумфа «Катерины Измайловой», поставленной в Королевском театре силами польских артистов. Здесь же ему вручили премию Леони Соннинг, всю денежную часть которой — 60 тысяч датских крон — он передал в Советский Фонд мира. Этот дар был условием, на котором власти разрешили ему выехать в Копенгаген[494].
Ни поступавшие со всего света доказательства признания, каких удостаиваются в своей жизни лишь немногие деятели культуры, ни неизлечимые болезни не изменили личности Шостаковича, столь ярко очерченной и сформировавшейся еще в ранней молодости. Если бы требовалось определить ее одним-единственным словом, то можно было бы сказать: скромность. Дмитрий Шостакович всю жизнь был человеком легендарно скромным и относившимся ко всем людям с одинаковым тактом и уважением. Эти черты были особенно заметны тогда, когда он выходил на сцену после исполнения своих произведений. До конца жизни он был подвержен волнению, казался смущенным и обеспокоенным реакцией публики. Кланялся очень быстро и нервно, всегда нагибаясь по нескольку раз, чаще всего без тени улыбки, и быстро убегал за кулисы. После какого-то из очередных выходов делал руками знаки, что аплодисменты принадлежат исполнителям, что его роль уже окончена.
Нужно было видеть его и во время исполнения его сочинений в концертном зале. Лицо словно маска, губы стиснуты, отсутствующий взгляд устремлен куда-то в пространство. Когда исполнение его удовлетворяло, он слушал совершенно спокойно, неподвижно. В случае неправильного прочтения его замысла или откровенно плохой интерпретации Шостакович казался точно наэлектризованным. Уголки его губ начинали дрожать, и он беспрерывно вертелся в кресле.
Нервность Шостаковича проявлялась также в постоянных тиках и гримасах, в непрестанном поправлении очков, поглаживании волос, которые из-за этого вечно находились в беспорядке. При разговоре он проглатывал некоторые слова, другие же повторял по два раза. Говорил быстро, вполголоса, постоянно употребляя слова-паразиты, совершенно не связанные с произносимым суждением. Сидя за письменным или обеденным столом, всегда либо нервно барабанил по нему пальцами, либо подпирал щеку рукой и выбивал на ней пальцами ритм. Он стремился преодолеть застенчивость, и одним из средств для этого был алкоголь. Шостакович не раз говорил, что выпивать свойственно многим творческим людям, придерживавшимся правила макать перо в водку. В трагические дни блокады Ленинграда, когда он нес дежурство по охране консерватории, без «ста грамм для храбрости» дело не обходилось. Разговаривая с кем-нибудь, композитор нередко внезапно обрывал разговор и, как бы разволновавшись, на минуту выходил в другую комнату. Там он вынимал из кармана фляжку с коньяком, прикладывал ее к губам и затем возвращался к своему собеседнику — все опять было в порядке. Это было для него так же естественно, как бесконечное количество папирос, выкуриваемых им главным образом в моменты творчества.
Всю свою жизнь Шостакович был личностью во многих отношениях загадочной. Большинство людей, которые сталкивались с ним почти ежедневно, знали о нем в каком-то смысле меньше, чем о творцах уже умерших, давно ставших достоянием истории. Единодушно отмечалось, что он чем-то напоминает одержимого, реакции которого непредсказуемы, и эта сторона его личности не всегда соответствовала представлениям об артисте.
До конца жизни в нем оставались также некоторые почти детские черты, о чем свидетельствовало хотя бы то, как бурно он радовался самым незначительным вещам. Однажды в последние годы, будучи уже практически не в состоянии передвигаться, Шостакович в приступе хорошего настроения почти полчаса демонстрировал группе друзей забавные повадки знакомого милиционера, пытаясь изображать, как тот отдает честь, здоровается, разговаривает. Он обожал рассказывать смешные истории, в которых сам выступал в необычных ситуациях. Они касались не только музыкальных дел, но и многих других областей; круг интересов Шостаковича был довольно широкий, хотя в то же время и необычный. Достаточно вспомнить, что за всю свою жизнь он не выучил ни одного иностранного языка (весьма поверхностно и пассивно был знаком с английским), зато страстно увлекался футболом и шахматами.
Что касается шахмат, то однажды он вспоминал такой случай:
«Живя в Ленинграде в первые послереволюционные годы, я не пропускал ни одной премьеры советского или иностранного фильма. Очень любил кино. Даже работал аккомпаниатором, „озвучивая“ немые фильмы.
И вот как-то днем… я пошел в кинотеатр. В фойе зрители не спеша перелистывали страницы журналов, лежавших на столике.
Но вот появился скучный на вид, скромно одетый мужчина. Скользнул взглядом по шахматным фигурам, в беспорядке расставленным на доске. <…> На минуту незнакомец остановился у доски и стал рассматривать незаконченную партию. Стоит, изучает позицию.
Я подошел к нему и предложил:
— Давайте сыграем.
Мужчина оглядел меня с головы до ног, мягко улыбнулся и кивнул головой. <…>
После моего четвертого-пятого хода партнер как-то странно посмотрел на меня и задумался. Наверное, он никогда не встречал такого начала… <…>
Поразмыслив, мой соперник ответил. Ход не показался мне сильным, и я без колебаний бросился в атаку. Но, увы, не успел я опомниться, как вокруг моего короля сгустились грозовые тучи…
Теперь настал мой черед призадуматься, и, пока я пыхтел, стараясь найти выход, все время чувствовал на себе внимательный взгляд серых, несколько иронических глаз незнакомца.
Мой партнер разгромил меня с необычайной легкостью. Так я еще никогда не проигрывал.
<…> Видимо, в моей игре что-то привлекло незнакомца. <…>
Он заметил мое искреннее огорчение.
— Ты давно играешь в шахматы?
— Три года…
— А меня знаешь?
— Нет, — растерянно ответил я. <…>
Тут раздался звонок, приглашающий на киносеанс.
— Будем знакомы, Алехин Александр Александрович… — и прошел в зал.
Не помню, что показывали в тот день: смотрел не на экран, а во все глаза на Алехина.
С тех пор я стал страстным болельщиком своего неожиданного партнера. И когда через несколько лет, в 1927 году, в далекой Аргентине он выиграл матч у чемпиона мира Капабланки, я был просто счастлив и, вероятно, радовался не меньше, чем он сам. Ведь я был одним из его спарринг-партнеров…»[495]
Вежливость Шостаковича в общении с людьми была порой обезоруживающей. Когда он, тяжело больной, лежал в больнице после второго инфаркта и врачи строго запретили ему любые движения, он приветствовал каждого входящего к нему, с большим усилием приподнимаясь на подушках и почти садясь. В конце жизни, уже передвигаясь с огромным трудом, он провожал всех гостей, даже молодых, не только до дверей квартиры, но и до лифта. Каждого встреченного он приветствовал одинаково: «Как ваше здоровье?» За исключением друзей юности, ко всем остальным, даже близким друзьям, обращался на «вы» и никогда на «ты» и был в этом последователен до конца.
Однако степень и род вежливости Шостаковича в большой мере зависели от настроения. Он мог становиться неприступным и замкнутым, и тогда даже близким людям было трудно завязать с ним контакт. Когда он находился в неблагоприятном настроении, то обрывал все разговоры на тему своей музыки либо отделывался уклончивыми или вообще лживыми ответами. «…Я очень надеялся на помощь со стороны автора в прочтении Пятой симфонии, — вспоминал Евгений Мравинский. — Однако первые встречи с Шостаковичем нанесли моим надеждам сильный удар. Сколько я ни расспрашивал композитора, мне почти ничего не удавалось „вытянуть“ из него. С таким немногословием Дмитрия Дмитриевича в отношении собственных произведений я сталкивался и в дальнейшем»[496].
Не признавая никаких комментариев и словесных пояснений относительно своей музыки, он ставил перед ее исполнителями самые высокие требования. Писатель Чингиз Айтматов рассказал такую историю:
«…Дмитрий Дмитриевич… пригласил меня на ужин и сказал, что перед ужином будет впервые прослушивать свою новую работу — Четырнадцатый квартет и что, если я желаю участвовать в прослушивании, то должен прийти к нему на квартиру ровно в семь вечера. <…>
Шостакович сидел за столом, спиной к дверям, рядом с ним сидел Кара Караев. А перед ними, посреди комнаты, играли четверо музыкантов. <…>
Шостакович и Кара Караев, подавшись вперед, напряженно и сосредоточенно слушали. Слушали так, точно бы сейчас должно было произойти нечто невероятное, точно бы они зорко следили за каким-то незримым событием, которое я не видел, а они видели. А Дмитрий Дмитриевич слушал игру все с тем же неослабным, страшным вниманием, точно бы он хотел различить, распознать в звуках музыки еще что-то недовысказанное, недонайденное, и со стороны выражение лица его мне показалось каким-то отчужденным, незнакомым и даже суровым, замкнутым. Я смотрел на его ссутулившуюся жесткую спину, на жесткий полуоборот напряженного лица с недоумением и страхом. Предчувствие меня не обмануло. Когда музыканты кончили наконец играть, Дмитрий Дмитриевич не сразу изменил свою напряженную позу орла, хотя Кара Караев тут же, с чувством искреннего восхищения и пережитого волнения, сказал буквально следующее, стараясь в то же время быть сдержанным, будничным в интонации:
— Дмитрий Дмитриевич, сочинение гениальное! — и поблагодарил от души исполнителей.
Шостакович, однако, кивнув головой в знак признательности, остался холоден. Я не узнавал его. В нем просыпались какие-то силы беспощадной требовательности к себе и другим. Он тоже поблагодарил вначале музыкантов и затем начал строгий разбор исполнения. Кара Караеву пришлось даже несколько смягчать его замечания. Видит бог, музыканты играли здорово, не только, что называется, с душой и умом, но и всем существом своим отдавались исполняемой музыке… А композитор требовал большего мастерства, большей точности, большего вдохновения. Одному из них он даже сказал, что тот слишком громко сопит, работая смычком. А ведь с этим квартетом его связывали годы и годы, тридцать с лишним лет совместного творчества. Ну и суров оказался Дмитрий Дмитриевич! И долго еще они обсуждали, спорили, композиторы и исполнители, то соглашаясь, то расходясь во мнениях. Да, то был разговор творцов музыки. <…>
Затем они решили вновь еще раз проиграть Четырнадцатый квартет. Слушал я и диву давался: „Вот тебе на! Милый, добрый, застенчивый Шостакович. Да ведь он зверь в работе!“»[497]
В последние годы жизни, несмотря на безнадежное состояние здоровья, нервность композитора как будто уменьшилась. Несомненно, большую роль в этом сыграла Ирина Антоновна, которая благодаря своему невозмутимому спокойствию умела удивительным образом воздействовать на неустойчивую психику музыканта. Ей удалось сгладить разделяющую их разницу в возрасте, а в совершенстве изучив его натуру, она поняла, как можно ему помочь. Шостакович, который всю жизнь даже перед самыми близкими людьми скрывал свои музыкальные замыслы и композиторскую работу, при Ирине Антоновне мог спокойно работать, не смущаясь ее присутствием. Предначертанием судьбы впервые на склоне лет, борясь с физическими страданиями, он был окружен заботливой опекой и теплом.
Весной 1973 года Шостакович еще раз сумел преодолеть угнетенность, вызванную болезнью, и в конце марта и в апреле, находясь в Репине, сочинил безмятежный Четырнадцатый квартет — тот самый, домашнее исполнение которого описал Чингиз Айтматов. Это был еще один плод дружбы композитора с замечательным коллективом музыкантов, и в нем (как и в предыдущих квартетах) даже зашифрованы приметы их творческого союза, а посвящен он виолончелисту Квартета имени Бетховена Сергею Ширинскому. Двенадцатый квартет, посвященный Цыганову, длительное время экспонирует только три инструмента, и отсутствие партии второй скрипки символично, поскольку после смерти Василия Ширинского осталось только трое друзей. Следующий квартет, посвященный Вадиму Борисовскому, имеет концертирующую партию альта и начинается сольным монологом этого инструмента. В Четырнадцатом квартете пространный фрагмент второй части (Adagio) является дуэтом первой скрипки и виолончели: из прежнего состава в живых остались уже только два музыканта. Кроме того, в связи с посвящением композитор вплел в музыкальную ткань заключительной части цитату из ариозо Катерины Измайловой «Сережа, хороший мой».
Подобно последней симфонии, Четырнадцатый квартет не вносит ничего нового в творчество Шостаковича. Это еще одно сочинение в знакомом и проверенном стиле. Трехчастное произведение отличается спокойным характером крайних частей, зато средняя привносит раздумье и суровость.
Создание Четырнадцатого квартета преодолело творческую пассивность Шостаковича. Сразу после возвращения из Соединенных Штатов, отдыхая в июле на даче в Жуковке, он погрузился в поэзию Марины Цветаевой. А в начале августа, в течение одной недели, создал вокальный цикл шести стихотворений Марины Цветаевой. Это музыка столь же интеллектуальная и аскетичная, как и Скрипичная соната; чувство прячется на заднем плане, а выразительные средства скупы и очень просты. Шостакович сочинял Стихотворения Марины Цветаевой для молодой ленинградской певицы Ирины Богачевой, которая заинтересовала его своим низким альтовым голосом. Не будучи лично знаком с ней, он написал ей письмо:
«Многоуважаемая Ирина Петровна! Решаюсь тревожить Вас по очень важному для меня делу. Я сочинил Сюиту на стихи Марины Цветаевой. Мне очень хочется познакомить Вас с этим опусом, и, конечно, мечтаю о том, чтобы Вы отнеслись к Сюите снисходительно, и тогда я буду просить Вас спеть ее… <…> Когда будет Вам удобно, я приеду в Ленинград, чтобы познакомить Вас с этим новым сочинением. Шлю Вам самые лучшие пожелания. <…> Зовут меня Дмитрий Дмитриевич»[498].
Богачева с большим энтузиазмом отнеслась к новому произведению. В октябре она вместе с аккомпаниатором появилась в Москве и начала репетиции. 27 декабря состоялась премьера, на которую Шостакович приехал из больницы. Публика приняла сочинение очень тепло. В начале следующего года в Репине композитор сделал переложение Романсов для альта и камерного оркестра.
Весной появился новый шедевр — Пятнадцатый струнный квартет. «Играть не могу. Смотри ее сам», — сказал Шостакович, вручая Цыганову 53 страницы рукописи, с трудом написанной уже почти безжизненной рукой. Спустя короткое время музыканты начали репетировать. Сергей Ширинский только что вышел из больницы, где лежал с тяжелым инфарктом, и после одной из первых репетиций неожиданно плохо себя почувствовал и умер. Композитор, хотевший как можно скорее услышать свое новое произведение, попросил у Цыганова партитуру и голоса, а затем показал их ленинградскому Квартету имени Танеева.
Пятнадцатый квартет, самый длинный из всех квартетов Шостаковича, состоит из шести частей, исполняемых без перерыва. Все части выдержаны в темпе adagio и все — в тональности es-moll. Они обозначены названиями: Элегия, Серенада, Интермеццо, Ноктюрн, Траурный марш и Эпилог. Тональность es-moll и медленный темп обусловливают общий характер, а довершает дело исключительная способность Шостаковича передавать в музыке меланхолию и печаль. Во всем произведении нет ни одного светлого эпизода. Мастер поразительным образом сумел создать тридцатипятиминутное большое Adagio, в котором напряжение не оставляет слушателя ни на миг, с первой до последней ноты.
Первое исполнение Пятнадцатого квартета 15 ноября 1974 года состоялось в необычной обстановке. В переполненном зале рядом со своей женой сидел в кресле пожилой человек, почти неспособный двигаться. Его лицо опухло и деформировалось из-за лекарств, бесцветные глаза смотрели сквозь толстые выпуклые стекла. Все присутствовавшие чувствовали, что приближается время, когда композитор уже не сможет бывать на концертах. И как только pianissimo отзвучали последние аккорды квартета, в зале воцарилась абсолютная тишина, и все в молчании встали, чтобы воздать честь творцу музыки. Позже аплодисментам не было конца, но композитор был не в состоянии выйти на сцену; беспомощно улыбавшийся и смущенный, он лишь попытался подняться с кресла.
Вслед за Пятнадцатым квартетом появилось еще одно важное произведение — Сюита для баса и фортепиано на слова Микеланджело Буонарроти. Это был знак преклонения перед титаном Ренессанса в преддверии 500-й годовщины со дня его рождения. Сюита состоит из одиннадцати частей, основанных на одиннадцати стихотворениях. Выбор и порядок текстов заставляют думать, что это сочинение имеет явно автобиографический характер. Цикл начинается стихотворением «Утро», чтобы под конец прийти к «Ночи», «Смерти» и «Бессмертию». Подобно Пятнадцатому квартету, Сюита на слова Микеланджело — произведение однородное, но не такое трагическое, а скорее, суровое, аскетичное. Партия фортепиано сведена до минимума. Иногда в ней содержатся лишь единичные звуки, а порой она представляет собой одноголосный контрапункт. Можно увидеть связь Сюиты с другими произведениями композитора, начиная с характерного для него одиннадцатичастного цикла, известного со времен Еврейских песен и Четырнадцатой симфонии, и кончая точным цитированием собственной музыки — например, фрагмента десятой части Четырнадцатой симфонии в «Ночи». Впрочем, этой симфонии Шостакович до конца жизни придавал особое значение: он еще раз использовал цитату из нее в последнем сочинении — Сонате для альта и фортепиано. Думая о своем 69-летии, весной 1975 года он выразил пожелание, чтобы именно эта симфония была исполнена в его день рождения в Ленинградской филармонии.
В романсах на слова Микеланджело тоже есть одна очень красноречивая автоцитата. Последнюю часть, «Бессмертие», фортепиано начинает наивной темой, сочиненной некогда девятилетним Митей. Обращаясь к своим ранним композиторским опытам, Шостакович как бы стягивает скрепами весь свой творческий путь.
Подобно романсам на слова Цветаевой, композитор оркестровал и Сюиту на слова Микеланджело, очевидно, ощущая потребность в большем разнообразии красок, в более полном звучании. Первое исполнение он доверил Евгению Нестеренко — выдающемуся басу, который восемь лет назад выступил в Ленинграде с премьерой цикла романсов на слова из журнала «Крокодил» и «Предисловия к полному собранию моих сочинений». В 70-е годы Нестеренко был уже артистом, имевшим на своем счету победу в конкурсе имени Чайковского, опытным певцом и педагогом Московской консерватории. Исполнение Сюиты прошло на высочайшем уровне, произведение было принято с не меньшим энтузиазмом, чем Пятнадцатый квартет.
Наступил 1975 год. Здоровье композитора день ото дня ухудшалось. Он уже совсем не мог писать. Дмитрий Цыганов вспоминал: «Когда я по просьбе Дмитрия Дмитриевича принес ему партию первой скрипки Пятнадцатого квартета для того, чтобы он перенес в отсылаемую в издательство партитуру все мелочи, о которых мы уславливались в процессе репетиций, то услышал: „Я решил написать шестнадцатый квартет и хочу посвятить его вашему, теперь уже обновленному, Квартету имени Бетховена…“ Затем композитор сделал небольшую паузу и грустно добавил: „Знаешь, Митя, а ведь обещанных вам двадцати четырех квартетов мне не написать…“ Как бесконечно жаль, что слова эти оказались справедливыми…»[499]
13 февраля Шостакович выехал в Репино. Покой, тишина и соприкосновение с природой вновь пробудили его творческую активность. Оставаясь под впечатлением исполнительского искусства Нестеренко, композитор инструментовал для него бетховенскую «Песню о блохе» («Жил-был король когда-то»)[500]. Он оставался в Репине до 15 марта, а следующие четыре дня провел в Ленинграде, где как раз проходила премьера оперы Моисея Вайнберга «Мадонна и солдат». Музыку Вайнберга он всегда ценил и любил; однажды он посвятил этому композитору свое произведение — Десятый струнный квартет. Для театральной программы к спектаклю Шостакович написал заметки об этой опере, через месяц дополненные и опубликованные на страницах «Правды».
20 марта композитор вернулся в Москву, а 1 апреля выехал в санаторий «Барвиха» под Москвой. Там он сочинил еще один вокальный цикл в расчете на Нестеренко — четыре стихотворения капитана Лебядкина на слова из «Бесов» Достоевского, также в сопровождении фортепиано. В последний раз он воплотил в музыке свою любовь к пародии, гротеску и сатире. Карикатурный образ шута, капитана Игната Лебядкина, нарисован несколькими штрихами, а простота этого произведения сочетается с удивительной цельностью и эмоциональной выразительностью. То, что смешно, у Шостаковича стало зловещим. На репетиции композитор смеялся, слушая свое сочинение, но потом посерьезнел и сказал: «Здесь, кажется, мне удалось ухватить „достоевщину“. Лебядкин, конечно, шут гороховый, но иногда от него становится страшно…»[501]
Премьера Четырех стихотворений, состоявшаяся 10 мая в Москве, стала последним концертом, на котором композитору дано было присутствовать. Произведение не завоевало большого успеха, да и в прессе появилось немного рецензий; было видно, что ему не придали особого значения.
В мае Ленинградская филармония обратилась к композитору с вопросом, какое из произведений он порекомендовал бы для своего авторского вечера, по традиции открывавшего концертный сезон. Шостакович выбрал три инструментальные сонаты: виолончельную, скрипичную и еще ненаписанную сонату для альта и фортепиано. Сочинять ее он намеревался в Репине, куда поехал на следующий день после премьеры «Лебядкина».
«Тот май многие музыканты проводили в Репине… <…> [Шостакович] уже нигде не появлялся. Трижды в день Ирина Антоновна приходила за едой в столовую, ожидала, пока официантки наполняли судки, и уходила, иногда перекидываясь с кем-либо двумя-тремя словами. Изредка показывалась вдали бордовая „волга“ — на дорожке к Приморскому шоссе. <…>
17 мая было особенно знойно, совсем по-летнему. Шостакович вышел на лужайку из двадцатого коттеджа и медленно прогуливался возле автомашины. Он был аккуратно одет в свежевыглаженные серые брюки и белую рубашку с короткими рукавами, из-за чего бросалась в глаза очень худая правая рука с неестественно вывернутой ладонью. В волосах появилась заметная седина. Он носил очки с очень выпуклыми стеклами: у него стремительно ухудшалось зрение. Не заговаривая о болезни, он посетовал на жару. С молодости не терпел жары, предпочитая дождь и прохладу… Словно оправдываясь, стал говорить, что такая весна иссушает землю. Потом сокрушенно заметил, нервно подергиваясь: „Вот видите, сколько писем. Горы писем. Наверное, меня считают невежливым человеком. А я не могу ответить. Учусь писать левой рукой. Как Шебалин. Знаете, он „Укрощение строптивой“ и два квартета писал левой рукой. А у меня не получается. Нужно диктовать. У меня диктовать не получается. Привык писать сам. Не получается диктовать…“
— Чем же вас лечат? Массажами?
— Да, и массажами. И еще…
Умолк — о лечении не рассуждал. Вскочил судорожно, заторопился, — не пошел, а именно побежал, не сгибая коленей, вспомнив, что должен кому-то звонить. Вышла Ирина Антоновна:
— Митя, зачем так быстро?
Вернувшись, он начал рассказывать о киевской постановке „Катерины Измайловой“. Говорил охотно, уже не глотая слов и не повторяя отдельных фраз:
— В Киеве превосходно поставили „Катерину Измайлову“. Это лучшая постановка. Катерине двадцать шесть лет, великолепная певица. „Соврала“ ноту, на одну восьмую позже вступила — просит прощения у дирижера. Дирижер — Симеонов — отвечает: „Прощения нужно просить у Шостаковича“. А в других театрах таких фальшивых нот полным-полно, и никто не просит прощения.
Потом он снова вспомнил Шебалина, по-видимому, ища опоры в примерах:
— Нужно лечиться. Врачи обследуют, ломают головы, а я не могу играть.
И опять показал правую руку, поддерживая ее левой, лучше действующей. Оживился, только вспомнив сына Максима»[502].
28 мая Шостаковичи покинули Репино. Большую часть июня композитор снова посвятил интенсивному лечению. Последние пять дней месяца он провел на своей подмосковной даче, где, пользуясь тишиной, упорно работал. 25 июня он позвонил альтисту Квартета имени Бетховена Федору Дружинину, сообщил о том, что сочиняет сонату для альта и фортепиано, и попросил помочь решить некоторые технические проблемы.
Новой сонате теперь отдавались все силы, и Шостакович снова сочинял с поразительной быстротой. Две первые части — Новелла и Скерцо, как он сам их назвал, — были созданы за десять дней. В Скерцо он использовал фрагменты вступления и песни Гаврюшки из неоконченной оперы «Игроки». 4 июля он опять почувствовал себя очень плохо и предупредил по телефону Дружинина, что, возможно, ему вновь придется прервать сочинение и вернуться в больницу. Однако героическими усилиями воли он заставил себя продержаться дома до конца работы и в течение двух дней создал последнюю часть — широкое, наполненное лиризмом и печалью Adagio, двадцать одну страницу рукописи. Это Adagio, опирающееся на темы первой части Лунной сонаты Бетховена, захватывает простотой и глубиной, имеет много общего с музыкой последнего квартета. 5 июля композитор поставил в партитуре последнюю ноту.
В ночь с 6 на 7 июля его мучил сильный многочасовой приступ удушья. На следующий день он вышел из спальни в пижаме и с трудом сошел по лестнице в гостиную, оправдываясь: «Так нехорошо себя чувствую».
В этот день его забрали в больницу и сделали рентгеновские снимки, которые рассмотрел консилиум. 12 июля просвечивание было повторено — врачи констатировали рассеянные злокачественные метастазы. Шостакович не знал, что уже год у него распадалось правое легкое, а теперь процесс перекинулся и на левое. Печень была уплотнена и увеличена. Композитор становился все слабее и постоянно испытывал мучения. Когда в конце июля Арнштам навестил его в больнице, то, взволнованный видом друга, не мог сосредоточиться на разговоре. А Шостакович пошутил: «Вот и Лелька постарел, не только я».
1 августа его выписали из больницы. В эти дни он занимался корректурой Альтовой сонаты, подготовленной к печати, и закончил работу 4 августа. Уже никакая сила воли не была в состоянии побороть слабость.
В тот же день домработница Мария Дмитриевна Кожунова вошла в кабинет и застала задыхающегося Шостаковича с посиневшим лицом, уцепившегося за край рояля. Она схватила чайник, дала больному воды, открыла окна и принесла лекарства. Через некоторое время возвратилась из города Ирина Антоновна, пришли врачи и подключили больного к кислороду.
Это было началом конца. Композитора снова отвезли в больницу и сделали ему электрокардиограмму. Обследование ничего не показало. В больнице Шостакович сумел еще написать письмо-обращение «Приветствие к Международному дню музыки». В следующие дни нарастали проявления раковой интоксикации и снова дало о себе знать сердце. Шостакович угасал.
День 9 августа он начал с Чехова. Сам уже читать не мог, только слушал, как читала ему жена. Позже его навестил пианист Яков Флиер, лечившийся в той же больнице. Желая развеселить больного, Флиер рассказал анекдот о музыкантах и смог поднять ему настроение.
После полудня жена уехала в город, а с больным осталась сиделка. Около половины шестого Шостакович внезапно почувствовал, что ему стало нечем дышать. Последние слова, которые ему удалось произнести: «Мне душно…», предшествовали потере сознания. Агония длилась четырнадцать минут, и в половине седьмого настал конец. Это случилось ровно через тридцать три года после первого исполнения Седьмой симфонии в осажденном Ленинграде и в двенадцатый день рождения его внука Дмитрия, сына Максима.
Через отношение к Шостаковичу власти в очередной раз показали свое истинное лицо. Смерть композитора наступила в субботу вечером, в воскресенье эту весть распространили агентства печати, радио и телевидение всего мира, зато газета «Правда» опубликовала сообщение только во вторник, причем некролог был напечатан на третьей странице (на первой разместилась информация о жатве, о достижениях шахтеров, о беседе Алексея Косыгина с Петром Ярошевичем и о передаче комбайна заслуженному механизатору). Люди потихоньку рассказывали друг другу, что будто бы Брежнев не нашел раньше времени на подписание некролога, в котором можно было прочитать такие слова: «Верный сын Коммунистической партии… Д. Д. Шостакович всю свою жизнь посвятил… борьбе за мир и дружбу народов».
Установленная дата погребения — среда 13 августа — была изменена на четверг, потому что отпускной период затруднял быструю организацию похорон. Кроме того, из Австралии должен был успеть приехать Максим, который там гастролировал.
Траурная церемония носила характер события государственного значения. Возле гроба, установленного в Большом зале консерватории, стоял почетный караул, и все время звучала музыка. Геннадий Рождественский и Виктория Постникова играли в четыре руки, Галина Писаренко и Ирина Архипова пели, Леонид Коган играл на скрипке, Татьяна Николаева исполнила несколько прелюдий и фуг. Позднее произносились нескончаемые, полные лозунгов речи, и наконец уже закрытый гроб привезли на Новодевичье кладбище. Под звуки фальшиво сыгранного Гимна СССР и Похоронного марша Шопена в переложении для духового оркестра гроб был опущен в землю. Могилу покрыли бесчисленные венки цветов — от вдовы, детей и внуков, от Министерства культуры, семьи Ойстрахов, Центрального комитета партии, от Мравинского, Кондрашина и Цыганова, а также от КГБ (при этом была украдена золотая медаль Министерства внутренних дел, которую, среди многих других, несли на подушке за гробом). С левой стороны, на две могилы дальше, на мраморной плите можно было прочитать: «Нина Васильевна Шостакович. 29 мая 1909 — 4 декабря 1954».
1 октября, в день рождения композитора, Федор Дружинин и Михаил Мунтян в первый раз исполнили в Ленинграде Адьтовую сонату. Шостаковича уже не было при этом. Не было и многих других, которые преданно шли рядом с ним по его трудной дороге и которые вместе с ним создавали эпоху, сегодня уже принадлежащую истории. Со смертью Дмитрия Шостаковича закрылась великая страница в истории музыки, закончилась и важная глава европейского симфонизма. Ушел один из величайших художников нашего столетия.
Глава двадцать восьмая (Послесловие)
Воспоминание о человеке
Историю жизни и творчества Дмитрия Шостаковича я решил дополнить несколькими личными воспоминаниями о нем, намеренно избегая традиционного подведения итогов, общих выводов или рассуждений о значении его музыки в контексте искусства нашего столетия. На рассмотрение этих вопросов израсходовано уже море чернил, но я совсем не уверен, что оные бесчисленные исследования до конца раскрыли этот в какой-то степени загадочный образ. Загадочный не только с точки зрения его не вполне однозначного отношения к тоталитарной власти, но также с учетом определенных черт его личности. По указанным причинам подходить к этому человеку с обычными мерками столь же нецелесообразно, сколь и, по всей видимости, вообще невозможно.
Шостакович был человеком, полным противоречий. Из семейных воспоминаний, приведенных в уже неоднократно цитированной монографии Серова, перед нами предстает образ необычайно способного молодого человека, невероятно трудолюбивого, заботящегося о своих близких и в то же время несносного в повседневном общении. Эти врожденные черты характера становились все отчетливее по мере того, как с годами его жизнь подвергалась все более тяжким испытаниям, когда речь шла уже не столько об обеспечении себе и своей семье условий мало-мальски терпимого существования, сколько о возможности выжить и избежать репрессий. Таким образом, его трудный характер претерпевал изменения, в конце концов приведшие его к такому состоянию, в котором уже трудно было бы говорить о Шостаковиче как о человеке, нормально реагирующем, рационально мыслящем и последовательно действующем.
Его поведение не поддавалось однозначной оценке. Одни видели в нем оппортуниста, другие ценили его за действия, свидетельствующие о несогласии с властью коммунистов, третьи усматривали в нем черты типичного российского юродивого — человека, который притворяется не совсем нормальным и, прикрываясь маской недоразвитого, объявляет миру правду и передает свои мысли корявыми, бесцветными и нарочито неуклюжими словами. Вероятно, он был всем этим понемногу, и черты эти неразрывно соединялись в нем. Точно так же необычайная скромность и неверие в собственные силы сочетались в нем с болезненным стремлением всегда быть первым и самым лучшим.
Образ действий Шостаковича отнюдь не помогал ему приобретать друзей, хотя многие и считали себя таковыми. На протяжении всей жизни у него было очень мало настоящих друзей, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Наряду с Соллертинским это, несомненно, Исаак Гликман и Лео Арнштам. Дружба с Мравинским бесповоротно оборвалась в начале 60-х годов, ослабли также контакты с Шебалиным и даже с молодым Денисовым, которого Шостакович какое-то время очень поддерживал. Правда, существовала еще группа преданных ему музыкантов, которых тоже можно причислить к друзьям, — Квартет имени Бетховена, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Моисей Вайнберг, но это были прежде всего товарищи по искусству. Дело не только в том, что в труднейшие для композитора годы люди ради собственной безопасности предпочитали отойти от него, но также и в том, что он сам привык держать дистанцию в отношениях. Достаточно вспомнить, что он был на «ты» с очень узким кругом лиц и даже к ближайшим друзьям предпочитал обращаться по имени-отчеству: так, Соллертинского он звал Иваном Ивановичем, Гликмана — Исааком Давыдовичем, хотя и не всегда последовательно. Даже к Мравинскому он всю жизнь обращался на «вы», а Ойстраха называл по имени только в последние годы жизни. Огромную роль в этой своеобразной изоляции играло врожденное неумение Шостаковича вступать в контакты с людьми — он сам писал об этом, вспоминая свою первую встречу с Соллертинским. А в годы, когда разбушевавшийся террор породил всеобщий страх, Шостакович становился иногда совершенно недоступным. Об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях Николай Набоков, Артур Миллер и Ханс Майер. Не имея большого количества друзей, Шостакович привык вместо этого окружать себя людьми, играющими весьма двойственную роль в культурной жизни Советского Союза.
Желание вступить в контакт с Шостаковичем появилось у меня в конце 50-х годов. Причиной тому была, конечно, его музыка, а не личность, ибо то, что я знал в те годы из официальных источников, не располагало к знакомству с ним. В Польше, как и во всех социалистических странах, Шостакович был известен прежде всего по произведениям вроде «Песни о лесах», а в лучшем случае по симфониям — «Ленинградской» или Пятой, о которой тоже говорили не иначе как называя ее «ответом советского композитора на справедливую критику». Кроме того, публиковали его различные невыносимо пропагандистски-идеологические высказывания, ярко отражающие позицию коммунистической партии, что для преобладающего большинства польской интеллигенции было убийственной антирекламой его личности. Однако существовала еще его музыка, хотя и известная в ту пору в очень ограниченной степени. О таких шедеврах, как «Нос» и «Леди Макбет», а также о ранних симфониях (за исключением Первой) знали очень мало, а советская пропаганда неизменно твердила, что они — результат художественного вырождения. Поэтому для меня Шостакович существовал только как автор Первой, Пятой, Девятой и Десятой симфоний, Фортепианного квинтета и Сонаты для виолончели, так как в те годы ничего другого почти не исполнялось.
Впрочем, Первой и Десятой симфоний оказалось достаточно, чтобы передо мной, учащимся музыкального училища, распахнулся новый, захватывающий мир звуков. Необычность этой музыки пробудила во мне желание узнать как можно больше произведений ее автора, хотя возможности для этого были весьма ограниченными. Благодаря нескольким людям, которым удалось лично познакомиться с Шостаковичем, его образ стал мне ближе; в их описаниях вместо официального борца за мир и поборника принципов социалистического реализма передо мной предстала трагическая жертва коммунистического режима, человек запуганный и лишенный свободы творить и действовать. К сожалению, занятия не позволили мне приехать на «Варшавскую осень» 1959 года (в то время я жил в Кракове), и я упустил возможность встретиться с Шостаковичем лично. Однако его музыка захватывала меня все больше (я как раз узнал его новую, Одиннадцатую симфонию), и поэтому я решил написать Мастеру письмо и поделиться с ним своими переживаниями, вызванными его искусством. Итак, я написал ему длинное послание и даже вложил в него некоторые собственные сочинения, не очень-то, впрочем, рассчитывая на какую-либо реакцию с его стороны. Какова же была моя радость, когда, вопреки тому, что говорили о его недоступности, через пару недель я получил от него ответ и фотографию с дарственной надписью. Это как раз совпало с моим композиторским дебютом, и я, переполненный впечатлениями, написал обо всем в следующем письме, одновременно благодаря за быстрый ответ. И снова пришло очередное послание. На этот раз на куске плохонького картона, очевидно, служившего какой-то упаковкой, было написано несколько слов: «Дорогой Кшиштоф! Поздравляю Вас с первым концертом. Желаю больших творческих успехов. Крепко жму руку. Д. Шостакович». Так началась переписка — правда, не слишком интенсивная — между композитором с мировой славой и юным учащимся, а позднее студентом. Письма Шостаковича всегда были очень деловые, краткие и вместе с тем теплые, что побудило меня решиться приехать в Москву и лично с ним познакомиться.
В те времена выезд из Польши за границу, даже в так называемые страны народной демократии и Советский Союз, был предприятием чрезвычайно трудным. Индивидуальные поездки были вообще исключены, а место в групповой экскурсии можно было получить, только приложив массу стараний. После нескольких месяцев всевозможных хлопот мне удалось наконец завершить все формальности, и я написал Шостаковичу, что собираюсь в Москву и очень прошу его о встрече. Накануне моего выезда пришло письмо, в котором я прочел: «…к сожалению, не смогу увидеться с Вами, так как в это время меня не будет в Москве…» Но я не отказался от поездки, а прибыв в Москву, решил, несмотря ни на что, попытать счастья.
Я отправился в Союз композиторов, где личная секретарша Хренникова с притворной любезностью сообщила мне, что, хотя Дмитрий Шостакович сейчас находится дома (!) и останется в Москве еще неделю, но он так занят, что никого не принимает, а давать номер его телефона не положено. Я понял, что желание встретиться с ним не одобряется в союзе. Однако, пожалуй, мне так никогда и не удалось в полной мере оценить размеры и глубину неприязни к Шостаковичу; когда уже в конце 80-х годов я попросил одну из наиболее расположенных ко мне высокопоставленных советских служащих передать небольшую посылку вдове композитора, то через несколько месяцев я узнал, что этого все еще не сделано, потому что «никто не знает, куда девалась мадам Шостакович». А «безрезультатно разыскиваемая» особа все это время проживала в том же доме, четырьмя этажами выше!
На следующий год я снова угробил несколько недель на улаживание паспортных формальностей и во второй раз отправился в Москву. В то время композитор жил уже не на Кутузовском проспекте, а в самом центре Москвы, на небольшой улице, некогда именовавшейся Брюсовским переулком, где давно обосновались многие известные деятели искусства. И по сей день там на домах висят многочисленные мемориальные доски, одна из которых — в честь Всеволода Мейерхольда, жившего в этом уголке Москвы с 1928 года до своего ареста. Проживала там и знаменитая певица Антонина Нежданова, после кончины которой улице присвоили ее имя. Здесь же стоит церквушка — одна из немногих, которые не закрывались даже в самые худшие годы. Улица Неждановой отходит от одной из главных артерий Москвы — от Тверской (переименованной в улицу Горького еще при жизни писателя), а другим концом упирается в улицу Герцена, известную прежде всего благодаря тому, что на ней размещается консерватория со знаменитым Большим залом. От улицы Неждановой отходит узкий проход, соединяющий ее с параллельной, тоже небольшой, улицей Огарева. В этом проходе в конце 50-х годов был построен комплекс многоэтажных зданий в типичном для тех лет стиле соцреализма. В одном из домов, выходящем на улицу Неждановой, расположился Союз советских композиторов и его филиал — Союз композиторов Российской республики, которым восемь лет руководил Шостакович. Тут же размещались редакция журнала «Советская музыка», концертный зал, отдел по связям с заграницей и дешевый, но вполне элегантный по московским меркам ресторан, обслуживавший только членов Союза композиторов. В этих зданиях проживали (а многие из них и по сей день живут) сто с лишним семей известнейших композиторов, музыковедов и исполнителей, в том числе на шестом этаже — Шостакович, а этажом ниже — Арам Хачатурян и Дмитрий Кабалевский. Неподалеку жили также Мстислав Ростропович и Леонид Коган.
На сей раз судьба ко мне благоволила. Шостакович не только находился в это время в Москве, но и согласился встретиться со мной. Но прежде, чем это случилось, я потратил много времени на поиски номера его телефона, поскольку в Советском Союзе, по сути дела, никогда не существовало телефонных книг и установление какого-нибудь номера требовало поистине детективных способностей. Встреча могла состояться только при условии предварительной договоренности по телефону, что, впрочем, было непросто из-за постоянной занятости композитора. Наконец через несколько дней, на протяжении которых я неоднократно разговаривал по телефону с его секретаршей из Союза композиторов, она уведомила меня, что я должен явиться утром во столько-то часов и ни в коем случае не опаздывать (как я узнал позже, пунктуальность была в высшей степени свойственна Шостаковичу и требовалась им от других, что являлось одной из немногих черт, роднящих его с Прокофьевым).
Встреча должна была состояться в кабинете Шостаковича в Союзе композиторов РСФСР. Когда я приехал к условленному часу и вошел в здание, сидящая в коридоре у входа типичная русская бабушка спросила меня о цели визита (почти в каждом московском доме работают люди, которые следят за тем, кто приходит, кто выходит и кого навещает). Когда лифт поднял меня на второй этаж (а Шостакович жил всего четырьмя этажами выше), я вошел в просторную приемную, где царила почти такая же суета, как в крупном почтовом учреждении. Несмотря на толпы посетителей и общую неразбериху, сотрудникам удавалось все держать под контролем, поэтому ко мне тотчас же подошла одна из секретарш, прекрасно осведомленная о том, кто я и зачем пришел. Полуоткрытая дверь с левой стороны вела в большой кабинет. В самом конце приемной стояли два человека, один из которых показался мне похожим на Шостаковича. Едва я успел снять плащ, как этот человек подошел ко мне — и действительно оказался Шостаковичем. Он был ниже, чем я себе его представлял. Несмотря на ранний час, он был одет в парадный темно-синий костюм и белоснежную рубашку, но при всей аккуратности в одежде чрезвычайно плохо выбрит. Он обратился ко мне тихим, слегка охриплым и неожиданно высоким голосом, скороговоркой произнося следующие слова:
— А вы как говорите? Так сказать, по-русски? Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? Do you speak, так сказать, English?
Эти вопросы прозвучали странно, поскольку уже три года мы переписывались по-русски. А впоследствии я узнал, что, кроме английского, Шостакович вообще не владел ни одним иностранным языком!
Жестом руки он пригласил меня в ту большую комнату слева. Сделал он это неимоверно официально и сухо, даже не пытаясь придать своему лицу более приветливое выражение. Только позднее я имел возможность убедиться, что с малознакомыми людьми он всегда держался замкнуто и неприступно.
Шостакович тут же вынул из кармана пачку папирос, закурил и глубоко затянулся. Встреча началась с обычных вопросов, задававшихся как бы второпях: где я учился, у кого, и тому подобное. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что обо всем этом я не раз писал ему в своих письмах. Быть может, он забыл? Или читал невнимательно? Или просто задавал вопросы, чтобы как-то начать разговор, и не слушал ответов? Во всяком случае, мои ответы не вызывали на его лице никакого отклика. Правда, его лицо было необычайно подвижным, но исключительно благодаря бесконечным нервным тикам и очень живым глазам. И только когда я показал ему ноты своей Первой фортепианной сонаты, он немного воодушевился, и мне даже показалось, что на его лице появилась тень заинтересованности.
Мы сели за рояль, причем Шостакович занял место с правой стороны инструмента. Он быстро снял старомодные круглые очки, надел другие, еще более допотопные, и начал нервно просматривать ноты. Во время моей игры он внимательно следил за текстом и переворачивал страницы. В этом большом и почти пустом кабинете, в котором стояли только письменный стол, небольшой столик, канцелярские шкафы и два концертных рояля, была такая сильная реверберация, что музыка гремела невыносимо, а звуки сливались друг с другом. Тогда мне в голову пришла странная мысль, что рядом, в приемной, люди наверняка думают: «Ну конечно же, из кабинета Шостаковича можно услышать только какофонию», после чего появится некто и положит этому конец. И внезапно мои фантазии превратились в реальность: едва я кончил играть, в кабинет без стука вошел молодой человек и уверенным шагом направился к нам. Шостакович вскочил, подал ему руку и сказал:
— Познакомьтесь: польский композитор Кшиштоф Мейер — композитор Андрей Яковлевич Эшпай. Это, понимаете, очень хороший композитор, очень хороший; вдобавок, понимаете, сам инструментует! — с каменным лицом сообщил мне Шостакович.
Они быстро переговорили о чем-то, и Эшпай вышел из кабинета.
— Эта ваша соната, так сказать, очень интересна, понимаете, очень интересна. Хорошая музыка, она мне, так сказать, понравилась… А у вас что-то еще есть, что-нибудь еще принесли? — спросил Шостакович, неожиданно потеплев. — Струнный квартет, хорошо, струнный квартет…
Он взял в руки партитуру, и в тот же миг приветливое выражение исчезло с его лица так же внезапно, как за минуту до того появилось.
— Зачем другая нотация? — спросил он бесцеремонно. — Вот мода сейчас такая…
Я попытался ему объяснить, что подобного рода музыку невозможно записать с помощью традиционных знаков.
— Да-да, мода, — еще раз повторил он, как бы не слыша моих слов, перелистал три странички и сразу заметил, словно перед этим уже видел партитуру: — А тут, кажется, должно быть до-диез, а не до.
Я посмотрел в ноты. Действительно! Он в одну секунду заметил ошибку, а это означало, что он мгновенно проник в суть музыки, которой совершенно не одобрял, потому что, когда мы сыграли последнюю часть произведения в четыре руки, вновь повторил предыдущее суждение, как будто я вообще не показывал ему Квартет:
— Ваша соната — хорошее произведение, оно мне, так сказать, нравится. Хорошо, что вы играете на рояле. Каждый композитор обязательно должен играть на рояле.
Последнюю фразу Шостакович неоднократно повторял во время всех наших последующих встреч.
Он встал, отошел от рояля к столу, уселся спиной к окну и снова достал из кармана пачку папирос. Хотя я сам никогда не курил, на какое-то мгновение мне стало интересно, а не угостит ли он и меня. Однако он вынул всего одну папиросу, закурил и тут же погрузился в свои мысли. Внезапно он словно бы очнулся, на его лице вновь появилось приветливое выражение, и он в третий раз повторил свое мнение о моей сонате. Потом оживился:
— Нужно организовать концерт вашей музыки, лучше всего здесь, в Союзе композиторов. Устроим концерт, устроим концерт. Нужно проводить обменные концерты между союзами композиторов, между Варшавой и Москвой.
Говорил он тихим, хрипловатым, высоким дискантом, глотая слоги и неоднократно повторяя некоторые слова. Затем добавил, что в ближайшем будущем собирается выбраться в Польшу. На вопрос, когда приедет и связано ли это с «Варшавской осенью», ответил:
— Нет, не на «Варшавскую осень», нет-нет. Я вам напишу, когда приеду. Напишу письмо.
Такого письма я так никогда и не получил и не слышал, чтобы он собирался организовать обменный концерт между нашими творческими союзами. Быть может, быстро об этом забыл или это предложение было простой вежливостью с его стороны…
Я был очень рад нашей встрече, однако разговор никак не клеился. Я хотел многое узнать, спросить о разных вещах, связанных с его музыкой, но все мои попытки оживить беседу оказывались тщетными. Шостакович сидел как на иголках, курил папиросу за папиросой и буквально отделывался от моих вопросов. Например, я очень хотел узнать, почему его ранняя музыка к спектаклю «Гамлет», написанная в 1932 году для театра Вахтангова, была столь гротесковой и юмористической, не имеющей связи с трагедией Шекспира.
— Потому, что такова была концепция режиссера, — молниеносно отреагировал Шостакович, прежде чем я закончил свой вопрос.
Когда я начал вспоминать, что слушал по пражскому радио его Первомайскую симфонию, в то время еще неизвестную и не исполнявшуюся, то он просто притворился, будто не слышит, о чем я говорю. В конце концов я понял, что он не имеет ни малейшей охоты обсуждать свою музыку. Но когда я вспомнил, что на днях купил партитуры квартетов, на лице Шостаковича появилось выражение удовлетворения.
— А, квартеты, — загорелся он. — Да, квартеты. Дайте мне эти партитуры, я их вам подпишу!
И, к моему удивлению, буквально выхватил у меня из рук первый том, раскрыл его, на минуту задумался и спросил:
— А как, собственно говоря, пишется ваше имя?
Я остолбенел: такой вопрос после трех лет относительно оживленной переписки! А ведь я и сам уже должен был заметить, что ни в одном из своих писем он не обошелся без ошибки в написании либо моей фамилии, либо имени, либо адреса. И так продолжалось до конца нашего многолетнего знакомства, хотя с годами оно переросло в настоящую дружбу. Я не знал также, что те несколько милых слов, которые Шостакович написал в моей партитуре, служили одним из двух образцов посвящений, которыми он почти автоматически одаривал всех — близких и дальних знакомых, охотников за автографами и друзей: «На добрую память» или «С лучшими пожеланиями».
Вот так прошла моя первая встреча с Шостаковичем, которую он завершил словами:
— Эта ваша соната очень интересна. Хорошая музыка, она мне, так сказать, понравилась. Хорошо, что вы сами ее играете на рояле, потому что каждый композитор должен уметь играть на рояле.
Шостакович проводил меня до приемной, а когда я надевал плащ, он уже разговаривал с кем-то другим. Покидая дом на улице Неждановой, я был убежден, что, вероятно, никогда не смогу ближе узнать этого человека.
Второй раз мы встретились в марте 1968 года. Из нашей переписки становилось все очевиднее, что мое отношение к современной музыке коренным образом отличается от его традиционных взглядов на эти вопросы, и он не однажды выразительно это подчеркивал. Поэтому я немногого ожидал для себя от следующей встречи.
Помню, как я направлялся к нему домой и, имея в запасе еще немного времени, остановился перед домом на улице Неждановой, наблюдая за происходящим на улице. Группа музыковедов горячо обсуждала предстоящую первую официальную встречу с западногерманскими композиторами. Тут же рядом из ресторана вышли трое известных московских композиторов, изрядно подвыпивших. Тихон Хренников, окруженный своими сотрудниками, отдавал им какие-то распоряжения. Появился Дмитрий Кабалевский с лыжами и рюкзаком за плечами и через минуту сел вместе с дочерью в большую машину. Все находившиеся там люди принадлежали к музыкальному миру. Было шумно и многолюдно. Меня поразил контраст между суматохой, столь обычной для этого места, и спокойствием клонившегося к вечеру дня, а также явно ощущавшимся в то время в Москве присутствием природы: запахом земли и тающего снега, предвещающего приближение весны.
В назначенный час я позвонил в дверь квартиры Шостаковича. Мне отворила домработница Шостаковичей Мария Дмитриевна Кожунова, и сразу за ней появилась молодая жена Ирина Антоновна, после чего в прихожую выбежал — именно выбежал — хозяин. С момента нашей предыдущей встречи он пережил инфаркт и сложный перелом ноги, но физически совсем не изменился. Только заметно поседел и больше не курил папиросы, о чем тут же сообщил мне в следующих словах:
— Врачи отняли у меня все радости жизни, все радости жизни.
К моему громадному удивлению, Шостакович казался совершенно иным человеком. Он излучал какую-то жизнерадостность, был весел и ничем не напоминал того угрюмого замкнутого человека, каким предстал передо мной три с половиной года назад. На нем был невероятно уродливый, хоть и тщательно отглаженный костюм ржаво-коричневого цвета и старомодный галстук того же оттенка. Приветливым жестом Шостакович пригласил меня в свой кабинет.
В этой огромной комнате приметы хорошего вкуса удивительным образом сочетались с полным отсутствием интереса к эстетике обстановки. Сразу при входе с левой стороны стояли старый, весьма потрепанный диван и книжный шкафчик с беспорядочно расставленными книгами. Над диваном висел известный портрет Шостаковича в возрасте тринадцати лет, принадлежащий кисти Кустодиева, а рядом — еще один небольшой рисунок того же художника, изображающий в профиль играющего на рояле Митю. С другой стороны комнаты стояли два рояля, оба довольно расстроенных, из чего следовало, что хозяин мало ими пользуется. На противоположной стене висели фотографии, одна из которых, представлявшая Шостаковича сидящим спиной к инструменту, была сильно увеличена. Висели там и другие его фотографии, и, как я заметил после нескольких визитов, обычно они появлялись на стене ненадолго — очевидно, чтобы доставить ему удовольствие. Дальше виднелись фотографии Шебалина, Малера и Мусоргского, а также четыре карикатуры на членов Квартета имени Бетховена: Цыганова, братьев Ширинских и Борисовского — и барельеф с изображением головы Бетховена. На стенах висели также афиша какого-то авторского концерта и аккуратно обрамленные дипломы почетных докторов. Между двумя громадными окнами стоял огромный письменный стол, а на нем — большая лампа с абажуром (старинная?), два внушительных серебряных подсвечника и, помимо этого, разбросаны разные вещи: коробка с обычными писчими перьями, ручки-вставочки и старое пресс-папье, куча шариковых авторучек, карандашей и фломастеров, а также ножичков для обрезания папирос, очевидно, оставшихся с того времени, когда Шостакович еще курил. Неподалеку находились перекидной календарь, две большие чернильницы, телефон и множество других предметов, а справа от письменного стола стоял столик с магнитофоном. В кабинете всегда громко тикали и каждые полчаса били большие старинные часы. Напротив окон висело огромное и, прямо скажем, довольно вульгарное изображение Нана, героини романа Золя (как я впоследствии узнал, оно принадлежало кисти состоявшего в дружеских отношениях с композитором Петра Вильямса). Стояли также примитивные, явно пристроенные позже книжные полки и гимнастическая стенка.
Шостакович уселся на вращающийся стул возле рояля, а мне предложил сесть достаточно далеко от себя, на диване у двери. Он начал очень оживленно расспрашивать о моих впечатлениях от поездки в Сибирь (я только что вернулся из Новосибирска), о том, как прошли мои авторские концерты, о встречах с людьми. Мой рассказ ежеминутно прерывался его комментариями: «Слоним — это, вы знаете, прекрасный пианист» или «Котляревский… Арсений Николаевич… очень добрый, очень добрый человек… верующий».
Его интересовало все, в мельчайших подробностях. Затем он внезапно сменил тему и стал советовать мне, что нужно посмотреть в Москве. Наконец последовал вопрос о том, привез ли я какие-нибудь свои сочинения, и когда я сообщил ему о записи моей симфонии и нотах новой фортепианной сонаты, Шостакович воскликнул:
— Очень прошу, покажите мне, пожалуйста, покажите!
Ирина Антоновна включила магнитофон, а Шостакович сел к столу. Слушая музыку, он одновременно изучал партитуру. С его лица исчезла веселость, и на смену ей появилась сосредоточенность, левой рукой он подпер голову и время от времени нервно ударял пальцами по щеке. Во время слушания в комнату вошла заранее договорившаяся о встрече Раиса Глезер, московский музыковед, живущая в соседнем доме. Шостакович, забывший о ее визите, чуть не подскочил от волнения и прохрипел:
— На ключ закрыть дверь, на ключ…
Потом он продолжал слушать мою симфонию, сохраняя на лице непроницаемое выражение, а по ее окончании начал задавать какие-то совершенно несущественные вопросы, словно не желая высказывать суждение о произведении, которое, вероятно, ему не понравилось. Разговор клеился с трудом. Вдруг Шостакович обратился ко мне тихим, почти извиняющимся голосом:
— А вы обещали мне сыграть сонату…
Я сел к роялю, и повторились события прошлых лет.
Я снова играл, а Шостакович сидел справа от меня и переворачивал страницы. Когда я закончил, он минутку помолчал и наконец сказал:
— Вы хорошо, очень хорошо играете… просто замечательно. — Помедлил и тихо добавил как будто с удивлением: — Действительно замечательно.
Взяв ноты в руки, он перелистал их и сказал:
— Какая прекрасная соната, жаль, что уже закончилась. — И неожиданно оживился: — Нужно было еще немножко дописать, еще немножко!
Ноты снова были раскрыты на последней странице.
— Сонату следовало закончить тут. — Он перелистал пустые страницы в конце рукописи, водя по ним пальцем. — Вот здесь надо закончить… или лучше здесь, — он передвинул палец на несколько сантиметров выше, — или тут, — он показал другое место. — Прекрасная соната, и вы замечательно играете на рояле.
К нему вернулось хорошее настроение. В это время Ирина Антоновна пригласила всех в соседнюю комнату, к обильно уставленному угощениями столу. Шостакович быстро налил всем вина и одним глотком осушил рюмку. От него исходила неуемная радость, причина которой сразу стала мне ясна, как только он будто невзначай упомянул, что всего несколько дней назад завершил Двенадцатый квартет.
— Я работал над ним в Репине, — добавил Шостакович. — Там такая великолепная природа. Жаль, что вы туда не приехали, нам надо было встретиться именно там, не в Москве, а в Репине.
Я спросил, каким опусом обозначен новый квартет.
— Это мне трудно ответить, очень трудно. Но я позвоню моей сестре в Ленинград, у нее есть полный список моих произведений, она узнает. Вот, кстати… — вспомнил он. — Вы не могли бы сказать, как по-итальянски «снять сурдину»? Вот в партитуре мне надо вписать. Не «senza sordino», а просто «снять», разве не знаете? Я написал этот квартет для Цыганова и надеюсь, что он захочет его сыграть, надеюсь…
Мне хотелось побольше узнать о новом произведении, но удалось только услышать, что развитие в нем еще лучше, чем в Пятом квартете, после чего разговор перешел на другое. Шостакович говорил все быстрее и время от времени забывал о еде и начинал пальцами выстукивать на столе какой-то ритм или играть пробкой от бутылки, перебрасывая ее из одной руки в другую либо катая ее между тарелками. Внезапно он взмолился:
— Не могу глядеть на эту лампу над головой! (Это была красивая хрустальная люстра.) Все боюсь, что какая-нибудь ее деталь свалится мне на голову. Надо ее обезопасить!
И нервозно бросил пробку на стол. Потом он вдруг проявил интерес к Польше и польской музыке. Вспомнил, что его отец прекрасно говорил по-польски, и продекламировал забавное детское стихотворение Яна Бжехвы. Затем виновато прибавил:
— Может быть, вам как поляку будет неприятно, но скажу, что я как-то не очень люблю Шопена. Вот, например, Прелюдия ля мажор… — И он запел тихим высоким голосом, имитируя игру на рояле и при этом так широко размахивая руками в воздухе, словно исполнял один из трансцендентных этюдов Листа, а не эту простую миниатюру Шопена. Внезапно прозвучало как приговор: — Петь не могу, как-то потерял голос… Скажите, пожалуйста, вы слышали, есть такой композитор Гражина Бацевич? — вновь неожиданно сменил он тему.
Как оказалось, он знал Гражину Бацевич и очень любил ее музыку, хотя и сильно отличающуюся от его собственного творчества. Когда на следующий год она умерла, Шостакович прислал мне прекрасное, полное грусти письмо, которое свидетельствовало о том, как высоко он ценил и любил этого необыкновенного композитора. Однако в тот раз он удовольствовался моим утвердительным ответом, после чего заметил, что Лютославский — это мастер, а в Страстях Пендерецкого слишком много медленной музыки.
— Слишком много медленной музыки, — повторил он. — Кстати, в вашей симфонии ее тоже как-то слишком много.
Хорошее настроение не покидало его, начались похвалы Бартоку.
— Барток — замечательный композитор, — мечтательно сказал Шостакович. — Вот квартеты его — это лучшая школа для композитора; каждый следующий лучше предыдущего.
Поскольку Барток в 1929 году посетил Советский Союз, я спросил, не было ли у Шостаковича случая познакомиться с ним лично.
— Нет, к сожалению, нет, — прервал он меня. — Барток был тогда в Москве, а я, может быть, вы не знаете, жил в то время в Ленинграде.
Шостакович говорил почти без перерыва и явно наслаждался своими часто неожиданными формулировками. Но прежде всего он с радостью рассказал о новой опере Моисея Вайнберга «Пассажирка».
— Это изумительное произведение… — повторял он снова и снова. — Просто замечательное.
Через какое-то время Раиса Глезер встала, решив, что пора уходить, и Шостакович запротестовал:
— Куда это вы все спешите? Останьтесь еще, останьтесь. А впрочем, — добавил он, — мы и так завтра встретимся: быть может, я приду на ваш концерт. (На следующий день у меня был назначен авторский концерт в Москве.)
При прощании произошли еще два забавных эпизода. Уже тогда подумывая о написании этой монографии, я спросил Шостаковича о девичьей фамилии его матери. Озадаченный, он посмотрел на жену, как бы не разобрав вопроса, и Ирина Антоновна с невозмутимым спокойствием ответила за него. Затем я хотел пожертвовать ему его собственную большую и очень хорошую фотографию, которую кто-то подарил мне в Новосибирске. Увидев фото, Шостакович обрадовался:
— Хотите автограф? Сейчас я вам напишу!
Хотя я этого и не ожидал, он выхватил старую шариковую ручку и написал на снимке несколько слов. Уже возвращая его мне, Шостакович быстро отдернул руку и что-то дописал. Мы не успели еще выйти из квартиры, а он поспешно повернулся и скрылся в своем кабинете. Через мгновение осталось только воспоминание о необычайно милой, сердечной, замечательной встрече.
В следующий раз мы встретились осенью 1969 года, по случаю первого московского исполнения его Четырнадцатой симфонии. Я прилетел в Москву в день концерта, 6 октября, даже не отдавая себе отчета в том, как мне повезло: ведь из-за ненастной осенней погоды это оказался единственный самолет, который на той неделе прилетел по расписанию. О билете на концерт, естественно, нечего было и думать, но мои друзья из Союза композиторов обещали помочь. И действительно, через несколько часов я стал счастливым обладателем приглашения, но только на следующий день узнал, что получил его от самого композитора (первоначально оно предназначалось для его сына Максима).
Концерт привлек толпы народу, и хотя он вроде бы не был такой же сенсацией, какой стала премьера предыдущей, Тринадцатой симфонии, все места в Большом зале консерватории были заняты задолго до появления на эстраде Московского камерного оркестра и его дирижера Рудольфа Баршая.
В первом отделении прозвучала симфония фа минор, «La Passione», Йозефа Гайдна в потрясающем исполнении, но прошло оно практически незамеченным: было видно, что все ждут второй половины концерта, с симфонией Шостаковича. Новое сочинение было представлено едва ли не с еще бóльшим совершенством и с величайшим благоговением. Как солисты — Галина Вишневская и Марк Решетин, так и небольшой оркестр из двадцати человек достигли редкого уровня (позже мне стало известно, что Баршай провел перед концертом несколько десятков репетиций).
Когда замерли последние звуки, я ожидал бури аплодисментов и неистового восторга, знакомых мне по рассказам о премьерах Пятой или «Ленинградской» симфоний. И овации Действительно длились очень долго, успех по сравнению с обычными концертами был исключительным, а композитор выходил на вызовы более десяти раз, однако мне показалось, что присутствующие были несколько озадачены необыкновенно сосредоточенной, глубокой музыкой, характер, настроение и тематика которой побуждали скорее к раздумью, нежели к внешнему проявлению энтузиазма.
За кулисами Шостаковича окружила толпа поклонников. Прямо передо мной стоял Арам Хачатурян, который поцеловал Шостаковича и воскликнул:
— Митя, спасибо тебе, ты гениален!
Шостакович как-то скривился и односложно поблагодарил. Когда подошел я и выразил ему свою признательность за столь сильное переживание, он не только не ответил, но даже сделал вид, будто вообще меня не узнал. Поэтому я добавил, что приехал прямо из Варшавы, но он продолжал смотреть на меня как на стенку. Моему знакомому, который тоже принес ему свои поздравления, Шостакович в ответ сказал несколько теплых слов. Все это казалось настолько странным, что этот знакомый с подозрением спросил меня:
— А вы вообще-то знаете друг друга?
Через много лет Ирина Шостакович рассказала мне, что композитор тогда так ужасно нервничал, что не способен был нормально реагировать, встречаясь со знакомыми. И мне невольно припомнилась, toutes proportions gardées, известная история о его встрече с Анной Ахматовой.
Они познакомились еще в предвоенное время. Великая поэтесса высоко ценила композитора и даже посвятила ему одно из своих стихотворений. В годы клеветнической кампании, развязанной Ждановым, их контакты прервались, и новая их встреча произошла уже в начале 60-х, в Комарове под Ленинградом, где Ахматова нанесла Шостаковичу визит. Композитор, никогда не обращавший внимания на одежду, вышел к ней в каком-то затрапезном одеянии. После первых приветственных слов они молча сели за стол. Ирина Антоновна подала чай, а они продолжали молчать. Это молчание длилось почти час, несмотря на неоднократные попытки жены композитора завязать разговор. Наконец Ахматова встала. Была сделана общая фотография, после чего гостья попрощалась и вышла. Они больше ни разу не встречались, а спустя два месяца Ахматова умерла.
Через два дня после поразившего меня происшествия в Московской консерватории я столкнулся с Шостаковичем в Большом театре. Как обычно, антракт он проводил сидя в кресле.
— Добрый вечер, как прошла последняя «Варшавская осень»? — мгновенно отреагировал он при виде меня.
Мы договорились встретиться назавтра, в первой половине дня у него дома. Шостакович заранее извинился, что «не будет в состоянии принять меня как полагается».
Зная его пристрастие к пунктуальности, я явился с точностью до минуты. Дверь мне открыл сам Шостакович, чрезвычайно взволнованный, чтобы не сказать расстроенный.
— Я всюду вам звонил! Разыскивал вас по всем гостиницам! Где вы были?
— Что случилось? — спросил я, испуганный его состоянием.
— Как это что случилось? Разве вы не видите? Да ведь лифт не работает! Приходится подниматься ко мне на седьмой этаж пешком! Я хотел изменить время встречи! Но нигде вас не нашел! Как же это неловко!
Лифт действительно не работал, но я так и не смог объяснить Шостаковичу, что для меня это не имеет ни малейшего значения. Он еще не скоро перестал извиняться и твердить, что лифт в последнее время так часто ломается…
В тот день Шостакович был в плохом настроении и чувствовал себя не лучшим образом. Ни разу не улыбнулся. Приглядевшись к нему ближе, я с огорчением заметил, что с прошлого года он постарел заметно больше, нежели за предыдущие четыре года. Он то и дело нервно поправлял и беспрерывно протирал новые, гораздо более сильные очки. Цвет лица у него был нездоровый, кожа на руках шелушилась. Как всегда, он был престранно одет — в старый пепельно-серый костюм, который, судя по покрою, некогда служил ему в торжественные минуты, и в мятую пеструю фланелевую рубашку.
Разговор начался с Бетховена, Девятую симфонию которого Шостакович недавно слышал на концерте.
— Девятую симфонию долго не слушал, и вот совсем недавно… и вот убедился: как это здорово все сочинено! Как здорово! Понимаете, у Бетховена есть все, — восторгался он, — и классицизм, и романтизм, и вот музыка наших дней.
Он задумался и через минуту прибавил:
— Столько изумительных сочинений. Столько замечательных открытий. И не только в Девятой симфонии, но и в последних сонатах, особенно в Hammerklavier. — Шостакович подошел к роялю и сыграл фрагмент Adagio. — Там уже все есть. И в Большой фуге тоже… Как я люблю Большую фугу! — внезапно загорелся он. — Давайте сыграем Большую фугу.
Он подошел к шкафу, достал партитуру и вручил ее мне.
— Вы будете играть на одном рояле партию первой скрипки и альта, а я на другом — партию второй скрипки и виолончели.
— А как мы разделим ноты? — спросил я, видя только одну партитуру.
Шостакович махнул рукой:
— Ерунда, сыграю на память!
И хотя это звучит неправдоподобно, Шостакович, которому в то время было уже трудно играть на рояле, не только сыграл обе партии квартета Бетховена безупречно в техническом отношении, но и ни разу не ошибся, от начала до конца исполнив по памяти это исключительно сложное произведение!
Однако после этого он показался мне еще более утомленным и неприступным. Его не обрадовал даже приход Моисея Вайнберга. Он только спросил, не принес ли я какую-нибудь свою музыку, поскольку хотел бы познакомиться с моими новыми сочинениями. Тогда я показал ему специально для этого привезенный Скрипичный концерт, а потом новую Симфонию для хора и оркестра. Шостакович хотел прослушать оба произведения, но полагал, что это невозможно.
— Понимаете, жены нет дома, — беспомощно взмахнул он рукой, — а я не знаю, как включить магнитофон.
Когда я показал ему, насколько это просто, он безмерно удивился. Таким образом, были прослушаны оба моих сочинения — как обычно, с нотами.
— Превосходная симфония! Великолепная, великолепная! Мне очень нравится.
Его лицо вдруг приобрело такое выражение, словно он хотел за что-то извиниться передо мной.
— Очень вас прошу, подарите мне эту запись.
Я на миг онемел. Тут Вайнберг тихо прошептал мне (по-польски):
— Ему действительно нравится, непременно подарите ему эту запись.
Шостакович заметил реакцию Вайнберга и смутился еще больше:
— Вы, наверное, считаете меня нахалом? На самом деле это не так! Не могли бы вы пожертвовать этой записью?
А когда немного погодя мы прощались, он перечислил мне неимоверное количество людей, которых я обязан был навестить в Ленинграде, куда собирался на следующий день.
— Как вернетесь в Москву, обязательно позвоните, и тогда увидимся.
Стоит ли говорить, что, когда через неделю я позвонил ему, он не проявил никакой заинтересованности во встрече, так же как год назад не пришел на мой авторский концерт в Москве, хотя накануне неоднократно обещал прийти! Я услышал еще несколько комплиментов в адрес моей Второй симфонии, и мы попрощались — на сей раз на много месяцев.
Все мои встречи с Шостаковичем были по-своему захватывающими и одновременно мучительными, потому что никогда нельзя было предвидеть его настроения и поведения. Более близкие дружеские отношения завязались между нами только в начале 70-х годов, но и тогда он продолжал удивлять меня своими поступками и вопросами. В его письмах, полных противоречий, то лаконичных, а то опять подробно описывающих какие-нибудь несущественные детали, тоже отражался характер композитора. Впрочем, я думаю, что в этих письмах его заботы и переживания раскрывались полнее, чем в путаных, нервных разговорах.
К сожалению, большинство писем касалось прежде всего неумолимо ухудшавшегося здоровья Шостаковича. Всем было очевидно, что и прогрессирующий парез рук, и рак легких неизлечимы, однако Шостакович по-прежнему продолжал верить в выздоровление, хотя это был только обычный в таких случаях самообман. «Буду жить сто лет», — сообщал он журналисту «Frankfurter Allgemeine» в 1973 году. «У меня железное здоровье, и я проживу еще долго», — уверял он одного из своих биографов в тот период, когда ему было уже трудно преодолеть несколько ступенек у входа в его московский дом. Тема болезни и выздоровления постоянно звучала в его письмах. «Я сейчас чувствую себя лучше, — писал он мне в январе 1968 года. — Вернулся домой после четырехмесячного пребывания в больнице. Я сломал ногу. Ногу мне вылечили очень хорошо, хотя пока еще плохо хожу по лестницам, особенно вниз». В письме от 2 мая 1970 года я прочел: «Сейчас я уже довольно давно нахожусь в Кургане, где лечусь у замечательного врача Г. А. Илизарова. Он приводит в порядок мои руки и ноги». Через два месяца — продолжение той же темы: «Лечение у замечательного врача, Г. А. Илизарова, принесло мне большую пользу. Примерно в середине августа я опять поеду к нему, чтобы поставить на лечении заключительный аккорд».
Благодаря письмам я знал, что Шостакович страдает и из-за затруднений творческого плана. Несмотря на появление таких шедевров, как Четырнадцатая симфония, Двенадцатый и Тринадцатый квартеты, он, казалось, утратил веру в собственное искусство. «Ничего у меня уже не выходит, — признался он мне однажды, — исписался я…» В одном из писем он сетовал, что не может закончить музыку к фильму «Король Лир». В 1971 году я получил удручающее послание:
«Дорогой Кшиштоф Иванович!
Спасибо Вам [за] Третий квартет. <…> Для меня является большой радостью и большой честью то, что Вы этим своим opus’ом отметили мое 65-летие. Спасибо Вам.
Последнее время я много хвораю. Хвораю и сейчас. Но надеюсь, что поправлюсь и восстановлю свои силы. А сейчас я очень слаб.
Летом этого года закончил еще одну симфонию — 15-ю. Может быть, мне и не следует больше сочинять. Однако жить без этого не могу. Симфония четырехчастная. В ней есть точные цитаты из Россини, Вагнера и Бетховена. Кое-что под большим влиянием Малера. Очень хочу познакомить Вас с симфонией».
Это письмо является, возможно, наилучшим свидетельством его великой скромности. Слова эти написаны чуть ли не накануне второго инфаркта.
Я навестил Шостаковича вскоре после его возвращения из больницы и застал его в необычайно безмятежном и даже приподнятом настроении. Как только я вошел в комнату, он радостно воскликнул:
— Замечательно, что вы здесь! Сперва обменяемся подарками, сперва подарки!
Всю жизнь он любил получать и дарить подарки, впрочем, всегда недорогие; как правило, речь шла о мелочах, чаще всего забавных или полезных. Знакомые знали, что он любит подсвечники, и дарили их ему по самым разным поводам, поэтому он обладал огромным количеством подсвечников. Когда в день рождения Шостаковича в комнате горело столько свечей, сколько ему исполнялось лет, он радовался, как ребенок.
Во время этой встречи Шостакович говорил много, почти не умолкая, не позволяя никому и слова вставить. В основном рассуждал о своей болезни, а вернее о том, что, как ему казалось, благополучно преодолел ее. Среди присутствовавших тогда в моей памяти остался прежде всего друг юности Шостаковича, режиссер Лео Арнштам, глядевший на него с величайшим восхищением, чуть ли не обожанием. Шостакович перескакивал с темы на тему, радуясь всему, и вдруг почти закричал:
— Левка, знаешь, а Кшиштоф Иваныч (в такой форме он обращался ко мне уже около двух лет) рассказал мне, что в Кракове тоже властвует грипп. Не только у нас, не только у нас. А у меня нет гриппа!
Однако таких минут становилось все меньше. В последнюю нашу встречу — в апреле 1974 года — Шостакович был очень слаб и изможден. В тот раз он пожаловался:
— Теперь я уже точно знаю, что никогда не поправлюсь. Но я научился не думать об этом.
Та последняя встреча была особенно гнетущей. Шостакович сидел в кресле почти неподвижно и только жестикулировал во время разговора лучше действующей левой рукой. Со зрением у него тоже обстояло плохо, о чем свидетельствовали очень толстые стекла очков. По его признанию, близорукость перевалила уже за пятнадцать диоптрий.
Ирина Антоновна принесла большую бутылку «Наполеона», и Шостакович похвастался, что врачи снова позволили ему употреблять алкоголь. Мы просидели несколько часов, медленно потягивая коньяк. Постепенно Шостакович оживился. Однако от его былой стихийности и стремительности осталось немного. Лишь однажды, когда речь зашла о Малере, Шостакович воскликнул:
— Его симфонии!.. Моя самая любимая Первая… и, понимаете, Вторая… пожалуй, Третья, Четвертая и Пятая… Как я люблю Шестую, Седьмую… А Восьмая и Девятая!.. И эта самая Десятая… (Кстати, какое завершение Девятой вам известно?) Но если кто-нибудь сказал бы мне, что мне остался всего час жизни, я хотел бы послушать еще раз последнюю часть «Песни о земле».
Много лет я уговаривал Шостаковича написать кларнетовый квинтет. Он размышлял:
— Вы знаете, мне это никогда не приходило в голову… Это интересно.
Во время нашей последней встречи он уже не был так в этом уверен.
— Квинтет с кларнетом Брамса… как-то не очень люблю; может быть, мне надо его еще раз послушать… Люблю трио с валторной, когда-то Цыганов прекрасно его играл… Вот Квинтет Моцарта замечателен, а Брамса — не знаю… Брамс — это, пожалуй, главным образом симфонист…
И вдруг воодушевился:
— Самая лучшая из всех его симфоний — это Четвертая… потом Вторая… и потом Первая, а самая слабая, конечно, Третья.
На этот раз именно он хотел показать мне свои новые сочинения — Сюиту на стихи Цветаевой и Четырнадцатый квартет, и таким образом мы поменялись ролями: теперь он сидел сбоку в кресле, в котором часто сиживал я, а я занял место у стола и слушал его музыку, держа в руках еще неизданную партитуру. Если я могу позволить себе подобную нескромность, новый вокальный цикл Шостаковича совершенно меня не убедил, поэтому, прослушав произведение, я довольно долго молча сидел над нотами, так же, как это не раз делал Шостакович, когда ему не нравилась моя музыка. Но поскольку много лет назад он написал мне в одном из писем: «Между нами должны быть отношения самые лучшие, а самые лучшие отношения требуют всегда говорить только правду», то я решился признаться ему в своих сомнениях. Он с грустью ответил:
— Да, всегда нужно искать, нельзя повторяться.
Зато потом с тем большим удовольствием я смог поздравить его с новым квартетом, в котором меня особенно восхитила первая часть. Шостакович тут же заметил, что квартеты сочинять легко, а вот действительно сложная задача — написать струнное трио.
— Так, по крайней мере, объяснил мне Эдик Денисов, — с застенчивой улыбкой добавил он.
В эту последнюю встречу Шостакович беспрестанно возвращался к прошлому, даже сыграл мне на рояле тему, которую задал ему на экзамене по контрапункту Глазунов. Вспоминал Шебалина, своих давнишних учеников, еще раз с огромной симпатией припомнил фигуру Котляревского — было видно, что он живет в основном воспоминаниями. На столе тоже появились связанные с прошлым предметы, которых я давно не видел: его фотографии в окружении членов Квартета имени Бетховена, портрет Игоря Стравинского, а также диплом Академии Шарля де Кро за грамзапись «Катерины Измайловой».
Когда мы прощались, он сказал, что не может назначить время следующей встречи.
— Вы же знаете, я — человек очень капризный, — пояснил он и прибавил: — Вероятно, встретимся в ближайшем будущем.
Мы больше никогда не виделись. Еще много раз разговаривали по телефону, я получил несколько писем, а однажды Шостакович даже передал мне через кого-то партитуру Тринадцатой симфонии с милой надписью. 10 августа 1975 года я получил телеграмму, уведомляющую о его смерти, и успел на похороны — очень официальные и помпезные. А вернувшись в Польшу, через несколько дней получил последнее письмо Шостаковича, написанное совсем уже парализованной рукой в конце июля, во время пребывания в клинике:
Дорогой Кшиштоф Иванович!
Спасибо за память, спасибо за письмо. <…> Я нахожусь сейчас в больнице. У меня неприятности с сердцем и легкими. Правая рука пишет с большим трудом. Не сердитесь за столь корявое письмо. <…>
Крепко жму руку.
Д. ШостаковичP. S. Хотя и очень было трудно, я написал Сонату для альта и рояля.
Д. Ш.Если бы я хотел что-то еще добавить к этим весьма неполным воспоминаниям о Шостаковиче-человеке[503], то мог бы разве что только обратиться к одному из писем Томаса Манна, который писал, что когда он лично узнал Густава Малера, то впервые в жизни почувствовал, что перед ним действительно великий человек. Шостакович тоже излучал необыкновенное величие и доброту, а также какую-то магнетическую силу, перед которой нельзя было устоять.
Приложения
Библиография[504]
Шостакович Д. Знать и любить музыку: Беседа с молодежью. М.: Молодая гвардия, 1958.
Черты стиля Д. Шостаковича: Сборник теоретических статей. М.: СК, 1962.
Д. Д. Шостакович: Нотографический и библиографический справочник / Сост. Е. Л. Садовников. 2-е изд., доп. и расшир. М.: Музыка, 1965.
Дмитрий Шостакович / Сост. Г. Орджоникидзе. М.: СК, 1967. Д. Шостакович: Статьи и материалы / Сост. и ред. Г. Шнеерсон. М.: СК, 1976.
Dmitri Shostakovich — a Complete Catalogue / Ed. by M. MacDonald. London: Boosey and Hawkes, 1977; 2nd ed. 1985.
Szostakowic: D. Z pism i wypowiedzi / Red. K. Meyer. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1979.
Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich / As related to and edited by Solomon Volkov. New York: Harper and Row, 1979.
Д. Шостакович о времени и о себе: 1926–1975 / Сост. М. Яковлев. М.: СК, 1980.
Шостакович Д. Избранные статьи, выступления, воспоминания / Ред. А. Тищенко. М.: СК, 1981.
Schostakowitsch Dmitri. Erfahrungen / Red. Ch. Hellmundt u. K. Meyer. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1982.
Hulme D. S. Dmitri Shostakovich: Catalogue, Bibliography and Discography. Ross-Shire: Kyle and Glenn, 1982; 2nd ed. enl. — Oxford: Clarendon Press, 1991.
Dmitri Schostakowitsch: Dokumente, Interpretationen, Programme, wissenschaftliche Beiträge. Duisburg, 1984.
Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit: Kunst und Kultur. Duisburg, 1984.
Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit: Mensch und Werk. Duisburg, 1984.
Dmitri Schostakowitsch: Internationales Festival in Duisburg. Dokumentation, Presseberichte. Duisburg, 1985.
Internationales Dmitri-Schostakovitsch-Symposion, Köln, 1985. Regensburg: G. Bosse, 1986.
Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману / Сост. и коммент. И. Гликмана. М.: DSCH; Спб.: Композитор, 1993. Shostakovich Studies / Ed. by David Fanning. Univ. of Manchester; Cambridge Univ. Press, 1995.
Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения / Сост. Л. Ковнацкая. СПб.: Композитор, 1996.
Volksfeind Dmitri Schostakowitsch: Eine Dokumentation der öffentlichen Angraffe gegen den Komponisten in der ehemaligen Sowjetunion. Berlin: E. Kuhn, 1997.
Schostakowitsch in Deutschland // Schostakowitsch-Studien. В. 1 / Hrsg. v. Schostakowitsch-Gesellschaft. Berlin: E. Kuhn, 1998.
Асафьев Б. Восьмая симфония Шостаковича. М: Мос. гос. филармония. 1945.
Исаак Бабель: Воспоминания современников. М.: Сов. писатель, 1972.
Белецкий И. Двенадцатая симфония Д. Д. Шостаковича «1917 год». М.: Музыка, 1964.
Бергер Л. Одиннадцатая симфония Д. Д. Шостаковича «1905 год». М.: СК, 1961.
Блок и музыка; Сборник статей / Сост. М. Элик. Л.; М.: СК, 1972.
Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича: Исследование. М.: СК, 1961.
Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М.: СК, 1962.
Богапова Т. Виолончельный концерт Д. Шостаковича. М.: СК, 1960.
Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М.: СК, 1979.
Богданов-Березовский В. Советский дирижер: Очерк деятельности Е. А. Мравинского. Л.: Музгиз, 1956.
Богданов-Березовский В. Дороги искусства. Кн. 1. Л.: Музыка, 1971.
Бретаницкая А. «Нос» Д. Д. Шостаковича. М.: Музыка, 1980.
Ванслов В. Творчество Шостаковича: К 60-летию со дня рождения. М.: Знание, 1966.
Вишневская Г. Галина. М.: Новости, 1991.
Волков С. Д. Д. Шостакович и Н. А. Малько // Slavica Hierosolymitana. Vol. 3. Jerusalem: The Magnes Press, 1978.
Волков С. О неизбежной встрече: Шостакович и Достоевский // Russia (Torino). 1980. № 4.
А. Гаук: Мемуары, избранные статьи, воспоминания современников. М.: СК, 1975.
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: История Советского Союза. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1989.
Глазунов А. Письма, статьи, воспоминания: Избранное. М.: Музгиз, 1958.
Глумов А. Нестертые строки. М.: ВТО, 1977.
Гнесин М. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М.: Музгиз, 1956.
А. Гольденвейзер: Статьи, материалы, воспоминания. М.: СК, 1969.
Горбунов В. Ленин и Пролеткульт. М.: Политиздат, 1974.
Данилевич Л. Д. Д. Шостакович. М.: СК, 1958.
Данилевич Л. Наш современник: Творчество Шостаковича. М.: Музыка, 1965.
Данилевич Л. Дмитрий Шостакович: Жизнь и творчество. М.: СК, 1980.
Дельсон В. Фортепианное творчество Д. Д. Шостаковича. М.: СК, 1971.
Должанский А. Камерные инструментальные произведения Д. Шостаковича. М.: Музыка, 1965.
Должанский А. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича. 2-е изд., испр. Л.: СК, 1970.
Дрейден С. Музыка — революции. 3-е изд., перераб. и доп. М.: СК, 1981.
Житомирский Д. Дмитрий Шостакович. М.: ССК, 1947.
Житомирский Д. Избранные статьи. М.: СК, 1981.
Задерацкий В. Полифония в инструментальных произведениях Д. Шостаковича. М.: Музыка, 1969.
Из истории русской и советской музыки. М.: Музыка, 1971. [Вып. 1]. История музыки народов СССР: В 5 т. М.: СК, 1970–1974.
История русской советской музыки: В 4 т. М.: Музгиз, 1956–1963.
Караев К. Статьи, письма, высказывания. М.: СК, 1978.
Коган П. Литература этих лет: 1917–1923. Иваново-Вознесенск, 1924.
Козинцев Г. Пространство трагедии: Дневник режиссера. Л.: Искусство, 1973.
Крюков А. Музыка в кольце блокады: Очерки. М.: Музыка, 1973.
Назаров С. Дмитрий Шостакович. София, 1967.
Лебединский Л. Хоровые поэмы Шостаковича. М.: СК, 1957.
Лебединский Л. Седьмая и Одиннадцатая симфонии Д. Шостаковича. М.: СК, 1960.
«Леди Макбет Мценского уезда»: Опера Д. Д. Шостаковича. Л.: Гос. акдемич. Малый оперный театр, 1934.
Ленин В. И. О литературе и искусстве. М.: Политиздат, 1957. Ленинградская консерватория в воспоминаниях: 1862–1962. Л.: Музгиз, 1962.
Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете: Воспоминания и записки балетмейстера. М.: Искусство, 1966.
Лукьянова Н. В. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. М., 1980.
Мазель Л. Симфонии Д. Д. Шостаковича: Путеводитель. М.: СК, 1960. 2-е изд., расшир. — М.: СК, 1981.
Мазель Л. Статьи по теории и анализу музыки. М.: СК, 1982.
Мазель Л. Этюды о Шостаковиче: Статьи и заметки о творчестве. М.: СК, 1986. Малъко Н. Воспоминания, статьи, письма. Л.: Музыка, 1972.
Марков П. Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. М.: ВТО, 1960.
Мартынов И. Дмитрий Шостакович. М.; Л., 1946.
Мастера музыки и балета — Герои Социалистического Труда / Ред. — сост. Л. Григорьев, Я. Платек. М.: СК, 1960.
Медведев Р. Н. С. Хрущев: Политическая биография. М.: Книга, 1990.
Мейерхольд В. Переписка: 1896–1939. М.: Искусство, 1976.
Михеева Л. И. И. Соллертинский: Жизнь и наследие. Л.: СК, 1988.
А. В. Мосолов: Статьи и воспоминания. М.: СК, 1986.
Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева. М.: СК, 1973.
Л. В. Николаев. Статьи и воспоминания современников. Письма: К столетию со дня рождения. Л.: Музыка. 1979.
Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л.: Музгиз, 1961.
Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л.: Музгиз, 1962.
Орлов Г. Дмитрий Дмитриевич Шостакович: Краткий очерк жизни и творчества. М.; Л.: Музыка, 1966.
Орлов Г. Русский советский симфонизм: Пути, проблемы, достижения. М.; Л.: Музыка, 1966.
Ответственность поколения. New York: Chalidze Publications, 1981.
Памяти И. И. Соллертинского: Воспоминания, материалы, исследования. 2-е изд. Л.: СК, 1978.
Первый всесоюзный съезд советских композиторов: Стенографический отчет. М.: ССК, 1948.
Полякова Л. Вокальный цикл Д. Шостаковича «Из еврейской народной поэзии». М.: СК, 1957.
Постников И. Второй фортепианный концерт Шостаковича. М.: СК, 1959. С. С. Прокофьев: Материалы, документы, воспоминания. 2-е изд. доп. М.: Музгиз, 1961.
Прокофьев С. С. и Мясковский Н. Я. Переписка. М.: СК, 1977. 55 советских симфоний. М.: СК, 1961.
Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М.: СК, 1989.
Сабинина М. Скрипичный концерт Д. Шостаковича. М.: СК, 1958.
Сабинина М. Дмитрий Шостакович. М.: СК, 1959.
Сабинина М. Симфонизм Шостаковича: Путь к зрелости. М.: Наука, 1965. Сабинина М. Шостакович-симфонист: Драматургия, эстетика, стиль. М.: Музыка, 1976.
Савшинский С. Леонид Николаев: Пианист, композитор, педагог. Л.; М.: Музгиз, 1950.
С. Самосуд: Статьи, воспоминания, письма. М.: СК, 1984.
Сахаров А. О стране и мире: Сборник произведений. Нью-Йорк: Хроника, 1976.
«Светлый ручей»: Сборник статей и материалов о постановке балета в Государственном академическом Малом оперном театре. Л.: Гос. академич. Малый оперный театр, 1935.
Сокольский М. Слушая время…: Избранные статьи о музыке. М.: Музыка, 1964.
Соллертинский И. Статьи о балете. Л.: Музыка, 1973.
И. Стравинский: Статьи и материалы. М., 1973.
Третьякова Л. Дмитрий Шостакович. М.: Сов. Россия, 1976.
Федин К. Горький среди нас: Картины литературной жизни. М.: Гослитиздат, 1944.
Федосова Э. Диатонические лады в творчестве Д. Шостаковича. М.: СК, 1980.
Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. Л.: Музыка, 1976.
Фомин В. Евгений Александрович Мравинский. М.: Музыка, 1983.
Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко: Летопись жизни и творчества. М.: ВТО, 1962.
Арам Ильич Хачатурян: Сборник статей. М.: СК, 1975.
Хачатурян А. Статьи и воспоминания. М.: СК, 1980.
Хентова С. Шостакович-пианист. Л., 1964.
Хеитова С. Молодые годы Шостаковича. Кн. 1. Л.; М.: СК, 1975. Кн. 2. Л.: СК, 1980.
Хентова С. О музыке и музыкантах наших дней. Л.; М.: СК, 1976.
Хентова С. Рассказы о Шостаковиче. М.: Сов. Россия, 1976.
Хентова С. Д. Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. Л.: Музыка, 1979.
Хентова С. Шостакович в Петрограде — Ленинграде. Л.: Лениздат, 1979.
Хентова С. Шостакович: Тридцатилетие (1945–1975). Л.: СК, 1982.
Хентова С. Шостакович: Жизнь и творчество: В 2 т. Л.: СК, 1985, 1986.
Хентова С. Шостакович в Москве. М.: Московский рабочий, 1986.
Хентова С. Шостакович на Украине. Киев: Музична Украϊна, 1986.
Хентова С. Шостакович и Сибирь. Новосибирск: Кн. изд-во, 1990.
Хентова С. Удивительный Шостакович. СПб.: Вариант, 1993.
Хентова С. В мире Шостаковича: Беседы с Шостаковичем. Беседы о композиторе. М.: Композитор, 1996.
Хентова С. Пушкин в музыке Шостаковича. Павловск, 1996.
Хентова С. Пламя Бабьего Яра: Тринадцатая симфония Д. Д. Шостаковича. СПб., 1997.
Хубов Г. Шостакович и время. М.: СК, 1983.
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1980.
Шагинян М. О Шостаковиче. М.: Музыка, 1979.
Шапорин Ю. Избранные статьи. М.: СК, 1969.
Виссарион Яковлевич Шебалин: Статьи, воспоминания, материалы. М.: СК, 1970.
Шебалин В. Литературное наследие: Воспоминания, переписка, статьи, выступления. М.: СК, 1975.
Шкловский В. Жили-были: Воспоминания, мемуарные записи, повести о времени. М.: Сов. писатель, 1966.
Шульгин Л. В. Статьи. Воспоминания. М.: СК, 1977.
Юзефович В. Давид Ойстрах: Беседы с Игорем Ойстрахом. 2-е изд., испр. и доп. М.: СК, 1985.
Юсфин А. Шестой квартет Д. Шостаковича. М.: СК, 1960.
Яворский Б. В 2 т. Т. 1: Статьи, воспоминания, переписка / Ред. — сост. И. С. Рабинович. Общ. ред. Д. Шостаковича. 2-е изд., испр. и доп. М.: СК, 1972.
Якубов М. Дмитрий Шостакович: Произведения для струнного квартета. М.: Моек. гос. коне., 1996.
Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М.: Наука, 1966.
Abraham G. Eight Soviet Composers. London, 1943.
Biesold M. Dmitrij Schostakowitsch: Klaviermusik der Neuen Sachlichkeit. Wittmind: Musica et Claves, 1988.
Biesold M. Sergej Prokofjew: Komponist im Schatten Stalins. Eine Biographie. Berlin: Quadriga, 1996.
Blokker R., Dearling R. The Music of Dmitri Shostakovich: The Symphonies. London: The Tantivy Press, 1979.
Brockhaus H. A. Dmitri Schostakowitsch: Leben und Wirken. Leipzig: Breitkopf u. Härtel, 1962.
Buske P. Dmitri Schostakowitsch: Leben und Schaffen eines sowjetischen Komponisten. Berlin: Zentralvorstand der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, 1975.
Craft R. Stravinsky: Chronicle of a Friendship. 1948/71. New York: Knopf, 1972. Devlin J. Shostakovich. Borough Green, Sevenoaks, Kent: Novello and со., 1983. Feuchtner B. «…Und Kunst geknebelt von der groben Macht»: Dmitri Schostakowitsch: künstlerische Identität und staatliche Repression. Frankfurt am Main: Sendler, 1986.
Gojowy D. Dmitri Schostakowitsch mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1983.
Gojowy D. Neue sowjetische Musik der 20er Jahre. Regensburg: Laaber, 1980.
Golianek R. D. Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1995.
Hofmann M. R. Dimitri Chostakovitch: L’homme et son oeuvre. Paris: Seghers, 1963. Kay N. Shostakovich. London; New York; Toronto: Oxford Univ. Press, 1971.
Kopp K. Form und Gehalt der Symphonien des Dmitrij Schostakowitsch. Bonn: Verlag fiir systematische Musikwissenschaft, 1990.
Kröplin Е. Frühe sowjetische Oper: Schostakowitsch, Prokofjew. Berlin: Henschel, 1985.
MacDonald I. The New Shostakovich. Oxford: Oxford Univ. Press, 1991.
Meyer K. Szostakowicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973; II wyd. — 1986.
Meyer K. Schostakowitsch. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1980.
Meyer K. Chostakovitch. Paris: Fayard, 1994.
Meyer K. Schostakowitsch: Sein Leben, sein Werk, sein Zeit. Bergisch Gladbach: G. Lübbe, 1995.
Meyer K. Sjostakowitsj. Amsterdam: Alas, 1996.
Meyer K. Schostakovitsch: Su vida, su obra, su época. Madrid: Alianza Musica, 1997.
Nabokov N. Zwei rechte Schuhe im Gepäck: Erinnerungen eines russischen Weltbürgers. München; Zürich: Piper, 1975.
Norris Ch. Shostakovich: The Man and His Music. London: Lawrence and Wishart, 1982.
Ottawaу H. Shostakovich Symphonies. London: BBC, 1978.
Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne / Red. Z. Lissa. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
Porębski M. Dzieje sztuki w zarysie: Wiek XIX i XX. Warszawa: Arkady, 1988.
Rabinovich D. Dmitry Shostakovich — Composer. Moscow: Foreign Language Publishing House, 1959.
Radamski S. Der verfolgte Tenor: Mein Sängerleben zwischen Moskau und Hollywood. Miinchen: R. Piper u. со., 1972.
Rihm W. Zur Musik von Dmitri Schostakowitsch: Festvortrag zur Eröff nung des Internationalen Schostakowitsch-Festivals am 16. September 1984 in Duisburg. Hamburg: H. Sikorski, 1985.
Rodzińhska H. Nasze wspölne życie. Warszawa, 1980.
Roseberry E. Shostakovich: His Life and Times. London: Midas Books, 1982; 2nd ed. — London: Omnibus Press, 1986.
Roseberry E. Ideology, Style, Content, and Thematic Process in the Symphonies, Cello Concertos, and String Quartets of Shostakovich. New York; London: Garland Publishing, 1989.
Sahlberg-Vatchnadzé M. Chostakovitsch. Paris: Romance, 1945.
Scluindert M. Das Problem der originalen Instrumentation des Boris Godunow von M. P. Mussorgski. Hamburg: K. D. Wagner, 1979.
Schwarz B. Music and Musical Life in Sowiet Russia. London: Barrie and Jenkins, 1972; 2nd ed. — New York: W. W. Norton, 1983.
Schwarz B. Musik und Musikleben in der Sowjetunion 1917 bis zur Gegenwart. Wilhelmshaven; Locarno; Amsterdam: Heinrichshofen, 1982.
Seehaus L. Dmitrij Schostakowitsch: Leben und Werk. Wilhelmshaven: F. Noetzel, 1986.
Seroff V. Dmitri Shostakovich: The Life and Background of a Soviet Composer. New York: Knopf, 1943.
Šklovskij V. Dimitrij Šostakowič. Praha: Mlada Fronta, 1945.
Slonimsky N. Dmitry Shostakovich. USA. 1942.
Sollertinsky D. and L. Pages from the Life of Dmitri Shostakovich. New York; London: R. Hale, 1980.
Steller F. Dmitri Schostakowitsch fur Sie portratiert. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1982; 2. Aufl. 1987.
Strawinski I. Poetique musicale. Paris: Janin, 1945.
Wildberger J. Schostakowitsch 5. Symphonie d-moll. München: W. Fink, 1989.
Wilson E. Shostakovich: A Life Remembered. London; Boston: Faber and Faber. 1994.
Wolter G. Dmitri Schostakowitsch — eine sowjetische Tragödie. Frankfurt am Main: P. Lang, 1991.
Żytomirski D. Blindheit als Schutz vor der Wahrheit. Berlin: E. Kuhn, 1966.
Изложение либретто опер «Нос» и «леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»)
«Нос» Опера в 3 действиях, 10 картинах
Действие I
Вступление. Цирюльник Иван Яковлевич бреет коллежского асессора Ковалева, который сам любит называть себя майором.
Картина I. Жена Ивана Яковлевича, Прасковья Осиповна, печет хлеб. Почуяв запах свежего хлеба, Иван Яковлевич разламывает еще горячую буханку и, к своему полному ужасу, находит в середине… нос. Изумление и испуг овладевают и Прасковьей Осиповной: она приходит к выводу, что муж отрезал нос одному из клиентов, брея его по пьяному делу. Разъярившись на мужа, она выгоняет его из дому вместе с носом.
Картина 2. С носом, завернутым в тряпочку, Иван Яковлевич мечется по набережной. Он усиленно старается избавиться от зловещего свертка, но ему все что-то мешает: то будочник, то знакомые, которые выражают удивление по поводу его необычного вида. В довершение бед перед ошалевшим от страха цирюльником внезапно вырастает грозная фигура квартального.
Картина 3. Спальня Ковалева. За ширмой зевает и откашливается просыпающийся хозяин. Наконец он, в халате и папильотках, появляется из-за ширмы. Майор в прекрасном настроении, которого не портит даже неприятное воспоминание о прыщике, вскочившем вчера у него на носу. Однако он желает расследовать это дело. Слуга Иван подает ему зеркало. Ковалев смотрит и… не верит своим глазам: носа нет! Куда он делся?! Невероятно!! Вместо носа на лице «преглупое гладкое место». Убедившись, что, к сожалению, это не сон, Ковалев надевает пальто и, прикрывая лицо рукой, отправляется к обер-полицмейстеру.
Картина 4. По дороге Ковалев заходит в Казанский собор. Там среди молящихся он замечает превосходно выглядящего статского советника, в котором сразу узнает собственный пропавший нос! Поначалу он не решается подойти к этому великолепному господину, но в конце концов осмеливается заговорить с ним. Советник неохотно отвечает на робкие замечания Ковалева и исчезает в толпе.
Действие II
Вступление. Ковалев не застает обер-полицмейстера и решает поместить в газете объявление о своей потере. Поэтому он отправляется в газетную экспедицию.
Картина 5. В экспедиции уже есть посетители: лакей, который хочет дать объявление о пропаже собаки, и несколько дворников. Появляется Ковалев. Чиновник отдела объявлений долго не может понять, чего добивается взволнованный майор. В конце концов Ковалев теряет терпение, открывает лицо и показывает место, где прежде был нос. Все изумлены, однако чиновник решительно, хотя и любезно, отказывается поместить объявление о необычной пропаже. Как бы из этого не вышло какого-нибудь скандала! Ковалев убегает, кипя от гнева, а чиновник и его клиенты возвращаются к своим делам.
Картина 6. В квартире Ковалева слуга Иван приятно проводит время, играя на балалайке. Возвращается Ковалев. Он в полном отчаянии. Внезапно у него вспыхивает надежда: а может, все это приснилось ему спьяну? Он берет в руки зеркало, с замиранием сердца смотрит в него — но носа нет по-прежнему!
Действие III
Картина 7. Станция дилижансов на окраине Петербурга. Квартальный привел сюда полицейских для поисков сбежавшего носа. Он отдает им последние распоряжения и приказывает занять установленные места. Чтобы убить время, полицейские запевают тоскливую песню. Появляются отъезжающие пассажиры с провожающими. Полицейские бдительно наблюдают за ними: вот супружеская пара провожает знакомого, вот сыновья прощаются с родителями, вот приживалки усаживают в дилижанс старую барыню… Однако беглеца все нет. Оживление вносит приход хорошенькой торговки бубликами — полицейские тут же уволакивают ее с собой, забыв о своих обязанностях. Начинается общая суматоха перед отъездом. Наконец звучит рожок, дилижанс трогается — и именно в эту минуту вбегает хорошо одетый господин и пытается остановить экипаж. Кучер стреляет из пистолета. Пассажиры выскакивают из дилижанса, старая барыня гонится за нарушителем спокойствия. Тот, убегая, спотыкается о спящего квартального, который вскакивает и свистит. На зов сбегаются полицейские. Нос пытается отстреливаться, но пассажиры, полицейские, приживалки, зеваки — все бросаются на него и начинают избивать. Когда толпа расступается, перед публикой оказывается нос — это все, что осталось от богатого господина. Довольный успехом, квартальный заворачивает нос в бумажку и отправляется со своей находкой к Ковалеву.
Картина 8. Квартальный приносит Ковалеву его нос. Радость майора безгранична, как и его благодарность: он щедро одаривает представителя власти, правильно поняв его выразительные намеки. После ухода квартального Ковалев встает перед зеркалом и пытается пристроить нос на прежнее место. Увы, тот не держится на лице. Отчаявшийся майор посылает за доктором. Полный сочувствия и заинтересованности, врач внимательно осматривает его, но отказывается проводить эксперимент по «приставлению» носа. Он советует пациенту, чтобы тот предоставил все природе, а нос заспиртовал. После ухода доктора Ковалев продолжает свои безрезультатные попытки. За этим занятием его застает приятель, некий Ярыжкин. Вволю надивившись на неприглядный вид майора, Ярыжкин расспрашивает, как же такое с ним могло случиться. Ковалеву приходит в голову, что во всем виновата штаб-офицерша Подточина: желая отомстить ему за то, что он отверг руку ее дочери, она, по-видимому, приказала наслать на него порчу. Друзья начинают сочинять письмо к Подточиной. Свет гаснет. На другой стороне сцены высвечивается квартира Подточиной, которая вместе с дочерью гадает на картах. Появляется Иван с письмом, и обе женщины с удивлением узнают, что Ковалев обвиняет их в своих несчастьях. Они немедленно пишут ответ, в котором категорически отметают все обвинения, а Подточина в постскриптуме добавляет, что если бы дело касалось руки ее дочери, то. разумеется, она готова дать согласие… Полученный ответ сбивает с толку Ковалева, который приходит к выводу, что эта женщина, несомненно, невиновна!
Интермедия. Слухи о похождениях таинственного носа вызывают смущение в душах жителей Петербурга. Собирается толпа людей, стремящихся раздобыть новые сведения о его местопребывании. Одни утверждают, что встречали его на улице, другие — что в магазине Юнкера, затем все совершают глупейшую ошибку, принимая за разыскиваемый объект… обыкновенную фуфайку. Наконец один достойный доверия господин заявляет, что нос прогуливается по Летнему саду, и скопище людей спешит туда, чтобы поглазеть на этот феномен. Толпа штурмует вход в сад и при этом чуть не вышибает дух из знаменитого иностранца, персидского принца Хозрева-Мирзы, который тоже включается в поиски этого чуда природы. Полицейские с трудом наводят порядок.
Эпилог
Картина 9. Проснувшись поутру у себя дома, Ковалев обнаруживает: нос снова торчит на прежнем месте! Майор не может поверить в собственное счастье. Приходит цирюльник Иван Яковлевич. Он, как и его клиент, рад, что кошмар закончился.
Картина 10. Во время прогулки по Невскому проспекту Ковалев подозрительно приглядывается ко всем встреченным знакомым: не смеются ли над ним? Однако все очень вежливо ему кланяются. Майор встречает Подточину с дочерью. Штаб-офицерша сладким голосом намекает, что была бы склонна выдать дочь за милейшего Платона Кузьмича, — но Ковалев, и не помышляющий о женитьбе, предпочитает заигрывать с торговкой манишками. Он улыбается своим планам, время от времени на всякий случай проверяя, держится ли нос на своем месте.
«Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») Опера в 4 действиях, 9 картинах
Действие I
Картина 1. Дом богатых купцов Измайловых. В нем живут отец, суровый и деспотичный старик Борис Тимофеевич, и его сын Зиновий с молодой женой Катериной. Катерина ведет скучную и унылую жизнь в бездетном супружестве. Ее муж собирается в дальнюю поездку. В момент прощания.
Борис Тимофеевич, тиранящий все свое окружение, унижает Катерину, заставляя ее в присутствии прислуги и работников поклясться в том, что она будет хранить верность мужу.
Картина 2. В отсутствие хозяина челядь Измайловых насмехается над кухаркой Аксиньей и издевается над ней. В этой злой забаве верховодит новый работник Сергей. Прибегает Катерина и решительно вступается за Аксинью. Сергей представляется Катерине и дерзко предлагает молодой хозяйке дома бороться с ним. Во время шутливой потасовки вспыхивает первая искра взаимного увлечения. На сцене появляется Борис Тимофеевич. Возмущенный панибратством Катерины с работниками, он заставляет челядь работать.
Картина 3. Ночь. В комнату к Катерине стучится Сергей, который пришел якобы за тем, чтобы попросить книгу. Пустой с виду разговор полон едва сдерживаемой страсти. Уже поздно, и старик Измайлов, который присматривает за Катериной, запирает невестку в спальне, не зная о присутствии Сергея. Любовники падают друг другу в объятия.
Действие II
Картина 4. Старик Измайлов замечает, что из спальни невестки через окно выбирается Сергей. Догадавшись, что произошло, он сзывает прислугу и с ее помощью избивает молодого работника до потери сознания. Мольбы Катерины о милосердии только усиливают ярость Бориса. После жестокого наказания батрака старый купец чувствует голод и требует, чтобы невестка приготовила ему любимое блюдо — грибы с кашей. Доведенная до отчаяния Катерина подсыпает в еду яд, из-за чего ее тесть умирает. Все убеждены, что съеденные им грибы были ядовитыми.
Картина 5. Катерина живет с Сергеем в любовной связи. Однако угрызения совести после смерти тестя не дают ей покоя, а призрак старого Бориса отравляет ей минуты счастья. Неожиданно возвращается муж, который уже знает об измене Катерины. В приступе ярости он бросается на нее и хочет побить, но Сергей становится на ее защиту. Во время драки любовники душат Зиновия, а тело прячут в погребе.
Действие III
Картина 6. Скоро свадьба Катерины и Сергея. В день свадьбы Катерина стоит перед дверьми погреба. Сергей уводит ее оттуда, боясь вызвать подозрения. Появляется задрипанный мужичок и озирается в поисках водки. Заметив у погреба Катерину, он думает, что найдет там что-нибудь подходящее. Он срывает замок и входит в погреб, натыкается на труп Зиновия Борисовича и бежит уведомить полицию.
Картина 7. Полицейский участок. Исправник скучает. Он обижен на Катерину за то, что та не пригласила его на свадьбу. Мечтает о мести, но не может найти никакого предлога. Полицейские со скуки допрашивают местного нигилиста, пытающегося доказать, что у лягушек есть душа. Внезапно появляется задрипанный мужичок и приносит сенсационное известие о трупе в погребе Измайловых. Исправник в восторге: наконец-то ему представился случай отомстить. Полицейские спешат к дому Измайловых.
Картина 8. Свадьба Катерины и Сергея. Перед домом, теперь принадлежащим Катерине, начались песни и пляски. Гости, и даже священник, напиваются и засыпают. Катерина со страхом замечает, что кто-то сорвал замок с погреба, а значит, должен был обнаружить спрятанное там тело. Она уговаривает Сергея как можно скорее забрать деньги и бежать. Однако в этот момент врываются полицейские и заковывают молодоженов в кандалы.
Действие IV
Картина 9. Дорога в Сибирь. Привал каторжников на берегу озера. Женщины отделены от мужчин, но Катерина подкупает часового, чтобы тот позволил ей увидеться с мужем. Она просит Сергея о прощении, но теперь он испытывает к ней только ненависть. На глазах у Катерины он заигрывает с кокетливой Сонеткой, которая за любовь требует от него чулки Катерины. Сергей, изображая нежность, выманивает у Катерины чулки и надевает их на озябшие ноги Сонетки. Потрясенная его поступком, Катерина от отчаяния теряет рассудок. Бросившись на Сонетку, она сталкивает ее в черную воду глубокого озера и тонет вместе с ней. Караульные созывают каторжников, которые с заунывным пением трогаются в дальнюю дорогу.
Список-указатель произведений Д. Шостаковича
В список не включены произведения: а) сочиненные в детстве, б) задуманные, но не написанные, в) те, существование которых сомнительно.
Отсутствие указания опуса при названии означает, что данное сочинение не имеет авторского номера.
При указании места написания произведения и его премьеры наименования «Москва», «Петроград» и «Ленинград» приводятся в сокращенной форме: М., Пг., Л.
При указании театров, концертных организаций и исполнительских коллективов используются следующие аббревиатуры: БСО — Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио (Центрального телевидения и радиовещания); ГАБТ — Государственный академический Большой театр Союза СССР; ГАТОБ — Ленинградский государственный академический театр оперы и балета (с 1935 г. — имени С. М. Кирова); ГСО — Государственный симфонический оркестр СССР; КБ — Квартет имени Бетховена; ЛФ — Ленинградская государственная филармония; МАЛЕГОТ — Ленинградский государственный академический Малый оперный театр (с 1963 г. — Государственный академический Малый театр оперы и балета); МКО — Московский камерный оркестр; МФ — Московская государственная филармония; ТРАМ — Театр рабочей молодежи (Ленинград).
При указании издательских организаций и периодических изданий применяются следующие аббревиатуры: МГ — Музсектор Госиздата; МЖ — журнал «Музыкальная жизнь»; СК — издательство «Советский композитор»; СМ — журнал «Советская музыка»; ССК — Союз советских композиторов СССР.
Ссылки на страницы охватывают весь текст книги, кроме примечаний чисто библиографического характера и библиографии. Ссылки на примечания и приложения выделяются курсивом.
Произведения для музыкального театра
ОПЕРЫ
1. «Цыгане», по А. Пушкину. Пг., 1919–1920. Рукопись уничтожена композитором; сохранились только 3 номера в клавире: дуэт Земфиры и Алеко, ариетта Старика и фрагм. терцета — 46, 84, 194
2. Ор. 15. «Нос», в 3 д., 10 к. Либр. Е. Замятина, Г. Ионина, А. Прейса и Д. Шостаковича по Н. Гоголю. М., Л., июль 1927 — 24 нюня 1928. Премьера: МАЛЕГОТ, 18 янв. 1930, дир. С. Самосуд. Изд.: Universal Edition, 1970 — 96, 111–128, 129–131, 137, 140, 147, 148, 149, 154, 157, 160, 165, 171, 174, 203, 206, 214, 219, 246, 322, 350, 438, 445, 504 (см. также Сюиты, ор. 15а)
3. Op. 29. «Леди Макбет Мценского уезда», в 4 д., 9 к. Либр. А. Прейса и Д. Шостаковича по повести Н. Лескова. I д.: Л., Гудаута, Батуми, Тбилиси, 14 окт. 1930 — 5 ноября 1931; II д.: Л., 19 ноября 1931 — М., 8 марта 1932; III д.: Л., 5 апр. 1932 — Гаспра, 15 авг. 1932; IV д.: Л., окт. — 17 дек. 1932. Посвящ. Н. В. Варзар. Премьера: МАЛЕГОТ, 22 янв. 1934, дир. С. Самосуд. Изд.: Музгиз, 1935 (клавир) — 100, 128, 135, 159, 161, 164–181, 188, 191, 194, 197, 198, 205, 206, 213, 214, 216, 217, 236–238, 246, 256, 257, 261, 308, 322, 327, 350, 357, 392, 397, 400, 405, 415, 425, 431, 432, 433, 434, 446, 475, 504, 530 (см. также ор. 114)
4. «Большая молния», комич. опера (неоконч.). Либр. Н. Асеева. 1933. Концертная премьера: Л., 11 февр. 1981, дир. Г. Рождественский. Изд.: Музыка, 1986 — 197
5. Ор. 36. «Сказка о попе и о работнике его Балде», киноопера (неоконч.). Либр. Д. Шостаковича по А. Пушкину. Л., Крым, 1934. На основе сохранившихся материалов С. Хентова составила партитуру оперы в 2 д. Премьера (ред. С. Хентовой): МАЛЕГОТ, 28 сент. 1980, дир. В. Кожин. Изд.: СК, 1981 — 195–197
6. Ор. 63[505]. «Игроки», по пьесе Н. Гоголя (неоконч.). Куйбышев, дек. 1941 — осень 1942. Концертная премьера: М., 18 сент. 1978, солисты и орк. Моск, камерной оперы, дир. Г. Рождественский; Вупперталь, 12 июня 1983, Wuppertaler Biihnen, 12 июня 1983, дир. Т. Шик (с окончанием К. Мейера). Изд.: СК, 1981 — 198, 246, 277–281, 300, 499
7. Ор. 114. «Катерина Измайлова», новая ред. «Леди Макбет Мценского уезда». 1956–1963. Посвящ. Нине Васильевне Шостакович. Премьера: М., Гос. муз. театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 8 янв. 1963, дир. Г. Проваторов. Изд.: Музыка, 1965 — 174, 176, 190, 221, 433–435, 438, 441, 444–445, 448, 486, 493, 498, 526, 535–538 (см. также ор. 29)
БАЛЕТЫ
1. Ор. 22. «Золотой век», в 3 д. Либр. А. Ивановского. Л., осень 1929 — февр. 1930. Премьера: ГАТОБ, 26 окт. 1930, дир. А. Гаук. Рукопись — 127, 142–145, 146, 148–151, 155, 160, 197, 206, 225, 234, 388, 474 (см. также Сюиты, op. 22a, Фортепианные произведения, для фортепиано соло, № 7)
2. Ор. 27. «Болт», в 3 д., 7 к. Либр. В. Смирнова. Л., 1930–1931. Премьера: ГАТОБ, 8 апр. 1931, дир. А. Гаук. Рукопись. — 129, 146–147, 154, 155, 157, 204, 234, 388, 474 (см. также Сюиты, ор. 27а)
3. Ор. 39. «Светлый ручей», в 3 д., 4 к. Либр. Ф. Лопухова и А. Пиотровского. Л., 1934–1935. Премьера: МАЛЕГОТ, 4 июня 1935, дир. П. Фельдг. Рукопись — 146, 191, 203, 204, 206, 213, 217, 388, 531
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
1. Ор. 105. «Москва, Черемушки», в 3 д., 5 к. Либр. В. Масса и М. Червинского. М., 1957–1958. Премьера: М., Театр оперетты, 24 янв. 1959, дир. Г. Столяров. Изд.: СК, 1959 (клавир), Музыка, 1986 (партитура) —100, 194, 387, 439
Симфоническая музыка
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА[506]
1. Op. 1. Скерцо fis-moll. Пг. 1919. Посвящ. М. О. Штейнбергу. Премьера:? Изд.: Музыка, 1984 — 47
2. Ор. 3. Тема с вариациями B-dur. Пг., 1921–1922. Посвящ. памяти Н. А. Соколова. Премьера:? Изд.: Музыка, 1984 — 47
3. Ор. 7. Скерцо Es-dur. Пг., 1923 — Л., 15 окт. 1924. Посвящ. П. Б. Рязанову. Премьера: Л., 11 февр. 1981, орк. ЛФ, дир. Г. Рождественский. Изд.: Музыка, 1984 — 47, 48, 52
4. Ор. 10. Симфония № 1, f-moll. Пг., 1 июля 1923 — Л., 1 июля 1925. Премьера: Л., 12 мая 1926, орк. ЛФ, дир. Н. Малько. Изд.: МГ, 1927 — 45, 48, 50–60, 84, 94, 95, 106, 108, 136, 140, 148, 149, 172, 180, 181, 202, 205, 213, 234, 239, 272, 275, 322, 341, 362, 366, 392, 431, 452, 478, 485, 504
5. Фрагменты для оркестра: Интермеццо и Allegro. Л., 1927. Рукопись утеряна, восстановлена по памяти Ю. Никольским в 1946.
6. Ор. 23. Увертюра и финал к опере «Бедный Колумб» Эрвина Дресселя. Л., 1929. Премьера: МАЛЕГОТ, 14 марта 1929, дир. С. Самосуд. Изд.: Музыка, 1986 — 122
7. Ор. 42. Пять фрагментов для оркестра. Л., 9 июня 1935. Премьера: Л., 26 апр. 1965, орк. ЛФ, дир. И. Блажков. Изд.: Музыка, 1984 — 206
8. Ор. 43. Симфония № 4, c-moll. Л., 13 сент. 1935 — 20 мая 1936. Премьера: М., 30 дек. 1961, орк. МФ, дир. К. Кондрашин. Изд.: СК, 1962. — 136, 206, 224–227, 234, 238, 248, 264, 287, 322, 327, 334, 402, 416–419, 428, 433, 446, 475
9. Ор. 47. Симфония № 5, d-moll. Гаспра, 18 апр. — Л., 20 июля 1937. Премьера: Л., 21 ноября 1937, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1939 — 6, 7, 202–215, 227–229, 231, 234, 235, 236, 238, 239–242, 249, 250, 251, 253, 258, 272, 285, 322, 334, 335, 350, 392, 393, 400, 407, 415, 418, 490, 504, 519
10. Op. 54. Симфония № 6, h-moll. Л., 15 апр. — окт. 1939. Премьера: Л. 5 ноября 1939, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1941 — 227, 246, 249–255, 258, 302, 303, 322, 327, 371, 446, 475, 477
11. Ор. 60. Симфония № 7, C-dur. Л., 15 июля — Куйбышев, 27 дек. 1941. Посвящ. городу Ленинграду. Премьера: Куйбышев, 5 марта 1942, орк. ГАБТ, дир. С. Самосуд. Изд.: Музгиз, 1942 — 6, 8, 263–277, 278, 282,
284, 288, 289, 290, 299, 300, 304, 306, 320, 323, 362, 366, 400, 418, 435, 449, 453, 475, 500, 504, 519, 530
12. Торжественный походный марш для духового орк. Des-dur. Л., 1941. Изд.: Музгиз, 1941 — 277
13. Ор. 65. Симфония № 8, c-moll. Иваново, 2 июля — 9 сент. 1943. Посвящ. Е. А. Мравинскому. Премьера: М., 4 ноября 1943, ГСО, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1946 — 96, 275, 277, 283–291, 297, 299–300, 303–305, 306, 313, 323, 327, 335, 362, 359, 369, 371, 373, 377, 392, 393, 404, 421, 425, 427, 446, 478, 542
14. Ор. 70. Симфония № 9, Es-dur. М., 26 июля — Иваново, 30 авг. 1945. Премьера: Л., 3 ноября 1945, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Муз-фонд, 1945 — 224, 255, 277, 299–307, 313, 314, 323, 355, 359, 394, 418, 445, 457, 474, 478, 504
15. Ор. 96. Праздничная увертюра A-dur, 1947. Премьера: М., 6 ноября 1954, орк. ГАБТ, дир. А. Мелик-Пашаев. Изд.: Музфонд, 1955 — 46, 370, 448, 543
16. Ор. 93. Симфония № 10, e-moll. Комарово, июль — М., 25 окт. 1953. Премьера: Л., 17 дек. 1953, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1954 — 275, 307, 351–362, 365, 368, 371, 385, 391, 393, 399, 404, 408
17. Ор. 103. Симфония № 11, «1905 год», g-moll. М., 1956 — Комарово, 4 авг. 1957. Премьера: М., 30 окт. 1957, ГСО, дир. Н. Рахлин. Изд.: СК, 1958 — 307, 384–387, 404, 407, 408, 425, 454, 505
18. «Новороссийские куранты» («Огонь вечной славы»), М., 1960. Произведение создано по заказу властей г. Новороссийска. С 27 сент. 1960 запись, сделанная БСО под упр. А. Янсонса, воспроизводится каждый час на площади Героев перед Огнем вечной славы в Новороссийске. Изд.: МЖ, 1960, № 22 (клавир); Музыка, 1984 (партитура) — 294–295
19. Ор. 112. Симфония № 12, «1917 год», d-moll. 1960 — 22 авг. 1961. Посвящ. памяти В. И. Ленина. Премьера: Л., 1 окт. 1961, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский; Куйбышев, орк. Куйбышевской фил., дир. А. Стасевич. Изд.: СК, 1961 — 404–408, 416, 441, 447, 460, 478
20. Op. 115. Увертюра на русские и киргизские народные темы C-dur. Репино, сент. 1963. Посвящ.: «В честь 100-летия добровольного вхождения Киргизии в состав России». Премьера: 10 окт. 1963, ГСО, дир. К. Иванов. Изд.: Музыка, 1967 — 441
21. Ор. 130. Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы. 1967. Премьера: М., 24 окт. 1967. Изд.: Музыка, 1984 — 460
22. Ор. 131. «Октябрь», симф. поэма, c-moll. Оконч.: 10 авг. 1967. Премьера: М., 16 сент. 1967, орк. МФ, дир. М. Шостакович. Изд.: Музгиз, 1969 — 460
23. Ор. 139. Марш советской милиции. М., окт. 1970. Премьера: М., 9 ноября 1970, Образцовый духовой орк. Моск. Кремля, дир. Н. Золотарев. Изд.: СК, 1972 — 473
24. Позывные Интервидения. 1971. Премьера: М., март 1971, по случаю открытия XXIV съезда КПСС. Изд.: Музыка, 1987.
25. Ор. 141. Симфония № 15, A-dur. Курган, 2 апр. — Репино, 29 июля 1971. Премьера: М., 8 янв. 1972, БСО, дир. М. Шостакович. Изд.: СК, 1972 — 474–478, 484, 486, 493, 523
КОНЦЕРТЫ
1. Ор. 35. Концерт для фп. с орк. № 1 (первонач. назв.: Концерт для рояля в сопровожд. струнного орк. и трубы), c-moll. Л., 6 марта — Петергоф, 20 июля 1933. Премьера: Л., 15 окт. 1933, Д. Шостакович (фп.), А. Шмидт (труба), орк. ЛФ, дир. Ф. Штидри. Изд.: Музгиз, 1934 — 191, 200–203, 205, 207, 214, 218, 226, 232, 300, 305, 371, 390, 393, 396, 474
2. Ор. 77. Концерт для скрипки с орк. № 1, a-moll. Комарово, 21 июля 1947 — М., 24 марта 1948. Посвящ. Д. Ф. Ойстраху. Премьера: Л., 29 окт. 1955, Д. Ойстрах, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1956 (как ор. 99) — 275, 306, 327, 346, 351, 369–371, 390, 391, 408, 446, 448, 454, 457, 458
3. Ор. 102. Концерт для фп. с орк. № 2, F-dur. Оконч.: 5 февр. 1957. Посвящ. Максиму Шостаковичу. Премьера: М., 10 мая 1957, М. Шостакович, ГСО, дир. Н. Аносов. Изд.: СК, 1957 — 372, 383, 384, 394, 448, 454
4. Ор. 107. Концерт для виолончели с орк. № 1, Es-dur. Комарово, 20 июля — 1 сент. 1959. Посвящ. М. Л. Ростроповичу. Премьера: Л., 4 окт. 1959, М. Ростропович, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1960 — 46, 389, 390, 392, 399, 446, 448
5. Ор. 126. Концерт для виолончели с орк. № 2, G-dur. Оконч.: Ореанда (Крым), 27 апр. 1966. Посвящ. М. Л. Ростроповичу. Премьера: М., 25 сент. М. Ростропович, ГСО, дир. Е. Светланов. Изд.: Sikorski, 1966 (клавир); Boosey and Hawkes, 1968 (партитура). — 275, 445, 452, 475
6. Op. 129. Концерт для скрипки с орк. № 2, cis-moll. Оконч.: Репино, 18 мая. Посвящ. Д. Ф. Ойстраху. Премьера: Болшево, 13 сент. 1967, Д. Ойстрах, орк. МФ, дир. К. Кондрашин. Изд.: Музыка, 1968 — 458–460, 462, 473
СЮИТЫ
1. р. 15а. Сюита из оперы «Нос» для тенора, баритона и орк. Л., май — июнь 1928. Премьера: М., 25 ноября 1928, И. Бурлак, Н. Барышев, орк. Софила, дир. Н. Малько. Изд.: Universal Edition, 1962 — 127–128, 131, 147 (см. также Балеты, ор. 15)
2. Ор. 22а. Сюита из балета «Золотой век». Л., 1929; 2-я ред. 1932. Премьера (1-я ред.): Л., 19 марта 1930, орк. ЛФ, дир. А. Гаук. Изд. (2-я ред.): Музгиз, 1935 — 147, 180, 225, 544 (см. также Балеты, op. 22, Фортепианные произведения, для фортепиано соло, № 7).
3. Ор. 27а. Сюита из балета «Болт». 1931. Премьера: Л., 17 янв. 1933, орк. ЛФ, дир. А. Гаук. Изд.: Музыка, 1987 — 146–147, 225 (см. также Балеты, ор. 27)
4. Ор. 30а. Сюита из музыки к к-ф. «Златые горы». Л., лето — осень 1931. Премьера: М., осень 1931, орк. ГАБТ, дир. А. Мелик-Пашаев. Изд.: Музгиз, 1935.
5. Ор. 32а. Сюита из музыки к трагедии В. Шекспира «Гамлет». Л., М., Премьера:? Изд.: СК, 1960 (см. здесь же 116а, а также Музыка для драм. Театра и кино, ор. 32, ор. 116)
6. Первонач. op. 38[507]. Сюита для джаз-орк. № 1. Л., 1934. 1. Вальс. 2. Полька. 3. Фокстрот (Блюз). Премьера: Л., 24 марта 1935. Изд.: Муз-фонд, 1941.
7. Сюита для джаз-орк. № 2. 1. Скерцо. 2. Колыбельная. 3. Серенада. 1938. Премьера (по радио): М., 20 сент. 1938, Гос. джаз-орк., дир. В. Кнушевицкий. Рукопись утеряна — 251
8. Ор. 39а. Сюита из балета «Светлый ручей». 1935. Премьера. марта 1945. Изд.: Музыка, 1987.
9. Ор. 75а. Сюита из музыки к к-ф. «Молодая гвардия», сост. Л. Атовмьян. 1951. Премьера: М. 1953, БСО, дир. А. Гаук. Изд.: Музгиз, 1951
10. Ор. 76а. Сюита из музыки к к-ф. «Пирогов», сост. Л. Атовмьян. Рукопись.
11. Ор. 78а. Сюита из музыки к к-ф. «Мичурин», сост. Л. Атовмьян. 1964. Рукопись.
12. Ор. 80а. Сюита из музыки к к-ф. «Встреча на Эльбе». Рукопись.
13. Ор. 82а. Сюита из музыки к к-ф. «Падение Берлина», сост. Л. Атовмьян. 1950. Слова Е. Долматовского. Премьера: М., 10 июня 1950, хор Всесоюзн. радио и БСО, дир. А. Гаук. Изд.: Музгиз, 1951.
14. Балетная сюита № 1, сост. Л. Атовмьян**. 1. Лирический вальс. 2. Танец. 3. Романс. 4. Полька. 5. Вальс-шутка. 6. Галоп. 1949. Изд. Музгиз, 1950.
15. Балетная сюита № 2, сост. Л. Атовмьян**. 1. Вальс. 2. Adagio. 3. Полька. 4. Сентиментальный вальс. 5. Весенний вальс. 6. Финал (Галоп). Изд.: Музгиз, 1951.
16. Балетная сюита № 3, сост. Л. Атовмьян**. 1. Вальс. 2. Гавот. 3. Танец. 4. Элегия. 5. Вальс. 6. Финал (Галоп). 1952. Изд.: Музгиз, 1952.
17. Балетная сюита № 4, сост. Л. Атовмьян**. 1. Вступление. 2. Вальс. 3. Скерцо. 1953. Изд.: Музгиз, 1953.
18. Ор. 89а. Фрагменты из музыки к к-ф. «Незабываемый 1919-й», сост. Л. Атовмьян. Изд.: Музгиз, 1955.
19. Ор. 97а. Фрагменты из музыки к к-ф. «Овод», сост. Л. Атовмьян. 1955. Изд.: Музгиз, 1960.
20. Ор. 99а. Фрагменты из музыки к к-ф. «Первый эшелон», сост. Л. Атовмьян. 1956. Изд.: СК, 1962.
21. Ор. 85а. Сюита из музыки к к-ф. «Белинский», сост. Л. Атовмьян. 1960. Изд.: СК, 1960.
22. Ор. 50. Фрагменты из музыки к кинотрилогии о Максиме, сост. Л. Атовмьян. 1961. Изд.: СК, 1961.
23. Ор. 111а. Сюита из музыки к к-ф. «Пять дней — пять ночей», сост. Л. Атовмьян. 1961. Премьера: М., 7 янв. 1962, Гос. симф. орк. кинематографии, дир. Э. Хачатурян. Изд.: Музыка, 1970.
24. Ор. 116а. Сюита из музыки к к-ф. «Гамлет», сост. Л. Атовмьян. Изд.: Музыка, 1968.
25. Ор. 120а. Фрагменты из музыки к к-ф. «Год как жизнь». 1965. Изд. СК, 1970.
Камерно-инструментальная музыка
АНСАМБЛИ
1. Ор. 8. Трио для скрипки, виолончели и фп. № 1, c-moll. Пг., авг. — окт. 1923. Посвящ. Т. И. Гливенко. Премьера: Пг., 13 дек. 1923, В. Шер, Г. Пеккер и Д. Шостакович. Изд.: Музыка, 1983 (отсутствующие в рукописи последние 22 такта партии фп. восполнены Борисом Тищенко) — 33, 48, 49
2. Ор. 9. Три пьесы для виолончели и фп. Пг., 1923–1924. 1. Фантазия fis-moll. Посвящ. Зое Дмитриевне Шостакович. 2. Прелюдия a-moll. Посвящ. В. М. Богданову-Березовскому. 3. Скерцо C-dur. Посвящ. В. И. Курчавову. Премьера: М., 20 марта 1925, А. Егоров и Д. Шостакович. Рукопись утеряна. — 48, 49
3. Ор. 11. Две пьесы для струнного октета: Прелюдия d-moll и Скерцо g-moll. Л., дек. 1924 и Ораниенбаум, июль 1925. Посвящ. памяти В. И. Курчавова. Премьера: М., 9 янв. 1927, Квартеты им. Глиэра и Страдивариуса. Изд.: МГ, Universal Edition, 1928 —39, 50, 95, 147, 202, 446
4. Первонач. ор. 36[508]. Две пьесы для струнного квартета: Элегия fis-moll (транскрипция арии Катерины из оперы «Леди Макбет Мценского уезда») и Полька B-dur (транскрипция польки из балета «Золотой век»). 31 окт. — 1 ноября 1931. Посвящ. Квартету имени Ж. Вильома. Премьера:? Изд.: МЖ, 1986, № 18; Sikorski, 1984 — 145
5. Ор. 40. Соната для виолончели и фп. d-moll. М., 15 авг. — 19 сент. 1934. Посвящ. В. Л. Кубацкому. Премьера: Л., 25 дек. 1934, В. Кубацкий и Д. Шостакович. Изд.: Тритон, 1935 — 191, 203, 389, 497, 504
6. Moderato для виолончели и фп. 1934 (?) Премьера: Гамбург, 24 окт. 1986, Д. Герингас и Е. Королев. Изд.: СМ, 1986, № 9.
7. Ор. 49. Струнный квартет № 1, C-dur. Л., 30 мая — 17 июля 1938. Премьера: Л., 10 окт. 1938, Квартет им. Глазунова. Изд.: Музгиз, 1939 — 249, 250, 300, 446, 511
8. Ор. 57. Фп. квинтет g-moll. Оконч.: Л., 14 сент. 1940. Премьера: М., 23 ноября 1940, КБ и Д. Шостакович. Изд.: ССК, Изд-во оркестротек, 1941 — 257–260, 282, 366, 394, 448, 454, 504
9. Ор. 67. Трио для скрипки, виолончели и фп. № 2, e-moll. Новосибирск, 15 февр. — Иваново, 13 авг. 1944. Посвящ. памяти И. И. Соллертинского. Премьера: 14 ноября 1944, Д. Цыганов, С. Ширинский и Д. Шостакович. Изд.: Музгиз, 1945 — 246, 277, 297, 306, 391, 392, 448
10. Ор. 68. Струнный квартет № 2, A-dur. Иваново, авг. — 20 сент. 1944. Посвящ. В. Я. Шебалину. Премьера: Л., 14 ноября 1944, КБ. Изд.: Музгиз, 1945 — 246, 277, 297, 298, 466, 448, 511
11. Ор. 73. Струнный квартет № 3, F-dur. Л., 26 янв. — Комарово, 2 авг. Посвящ. Квартету им. Бетховена. Премьера: М., 16 дек. 1946, КБ. Изд.: Музфонд, 1947 — 277, 306, 307, 364, 446, 449, 12. Ор. 83. Струнный квартет № 4, D-dur. Май — 27 дек. 1949. Премьера: М., 3 дек. 1953, КБ. Изд.: Музгиз, 1954. — 327, 346, 351, 367, 368, 446, 448, 464
13. Op. 92. Струнный квартет № 5, B-dur. М., 7 сент. — 1 ноября 1952. Посвящ. Квартету им. Бетховена. Премьера: М., 13 ноября 1953, КБ. Изд.: Музгиз, 1954 — 346, 367, 368, 397, 446, 449, 516
14. Ор. 101. Струнный квартет № 6, G-dur. Комарово, 7 авг. — Мисхор (Крым), 31 авг. 1956. Премьера: Л., 7 окт. 1956, КБ. Изд.: СК, 1957 — 383, 393, 446, 448, 464
15. Ор. 108. Струнный квартет № 7, fis-moll. М., март 1960. Посвящ. памяти Нины Васильевны Шостакович. Премьера: Л., 15 мая 1960, КБ. Изд.: СК, 1960 — 224, 383, 390, 446, 448, 461
16. Ор. 110. Струнный квартет № 8, c-moll. Дрезден, 12–14 июля 1960. Посвящ. памяти жертв фашизма и войны. Премьера: Л., 2 окт. 1960, КБ. Изд.: СК, 1961 — 355, 391–393, 446, 448
17. Ор. 117. Струнный квартет № 9, Es-dur. 2 — 28 мая 1964. Посвящ. И. А. Шостакович. Премьера: М., 20 ноября 1964, КБ. Изд.: Музыка, 1966 — 441, 442, 444
18. Ор. 118. Струнный квартет № 10, As-dur. Дилижан, 9 — 20 июля 1964. Посвящ. М. С. Вайнбергу. Премьера: М., 20 ноября 1964, КБ. Изд.: Музыка, 1965 — 441, 442, 496
19. Ор. 122. Струнный квартет № 11, f-moll. Оконч.: 30 янв. 1966. Посвящ. памяти В. П. Ширинского. Премьера: Л., 28 мая 1966, КБ. Изд.: СК, 1967 — 445, 446, 456, 461
20. Ор. 133. Струнный квартет № 12, Des-dur. Оконч.: Репино, 11 марта 1968. Посвящ. Д. М. Цыганову. Премьера: М., 14 сент. 1968, КБ. Изд.: Музыка, 1969 — 461–463, 492, 515, 523
21. Ор. 134. Соната для скрипки и фп. G-dur. Репино, 26 авг. — Жуковка, 23 окт. 1968. Посвящ. Давиду Ойстраху в честь его 60-летия. Премьера: М., 3 мая 1969, Д. Ойстрах и С. Рихтер. Изд.: Sikorski, 1969 — 463, 493, 497
22. Ор. 138. Струнный квартет № 13, b-moll. Оконч.: Листвянка (близ Иркутска), 10 авг. 1970. Посвящ. В. В. Борисовскому. Премьера: Л., 13 дек. 1970, КБ. Изд.: Музыка, 1972 — 471–473, 492, 526
23. Ор. 142. Струнный квартет № 14, Fis-dur. Репино, 23 марта — М., 23 апр. 1973. Посвящ. С. П. Ширинскому. Премьера: Л., 12 ноября 1973, КБ. Изд.: Музыка, 1974 — 490–493, 526
24. Ор. 144. Струнный квартет № 15, es-moll. Оконч.: Репино, 17 мая 1974 г. Премьера: Л., 15 ноября 1974, Квартет им. Танеева. Изд.: Музыка, 1975 — 494–495
25. Ор. 147. Соната для альта и фп. C-dur. М., конец апр. — 5 июля 1975. Посвящ. Ф. С. Дружинину. Премьера: Л., 1 окт. 1975, Ф. Дружинин и М. Мунтян. Изд.: Sikorski, 1975 — 123, 280, 495, 497, 499, 501
ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
а) Для фортепиано соло
1. Менуэт, Прелюдия и Интермеццо. Пг., ок. 1920. Премьера:? Изд.: Музыка, 1983.
2. Ор. 2. Восемь прелюдий. Пг., 1919–1920. Посвящ.: № 1 — Б. М. Кустодиеву; № 2–5 — Марии Дмитриевне Шостакович; № 6–8 — Н. К. (Наташе Кубе?). Премьера: Харьков, 15 июля 1926, Д. Шостакович. Изд.: Музыка, 1966 (5 прелюдий) — 40, 48
3. Ор. 5. Три фантастических танца. 1. Allegretto. 2. Andantino. Allegretto. Пг., 1920 (№ 1), 1922 (№ 2 и 3). Посвящ. И. 3. Шварцу. Премьера: Пг., 20 марта 1923, Д. Шостакович. Изд.: МГ, 1926. — 37, 48–49, 52, 322
4. Ор. 12. Соната № 1. Л., ноябрь 1926. Премьера: Л., 2 дек. 1926, Д. Шостакович. Изд.: МГ, 1927 — 85, 90, 91, 100–103, 105, 111, 149, 198, 202, 322
5. Ор. 13. «Афоризмы». 1. Речитатив (25 февр. 1927). 2. Серенада (27 февр.). Ноктюрн (1 марта). 4. Элегия (6 марта). 5. Похоронный марш (9 марта). Этюд (14 марта). 7. Пляска смерти (21 марта). 8. Канон (1 апр.). 9. Легенда (5 апр.). 10. Колыбельная песня (7 апр.). Премьера: Л., осень 1927, Д. Шостакович. Изд.: Тритон, 1927 — 96, 104–105, 111, 198, 213, 322
6. Ор. 34. Двадцать четыре прелюдии. C-dur (30 дек. 1932), а-шо11 (31 дек.), G-dur (1 янв. 1933), e-moll (2 янв.), D-dur (4 янв.), h-moll (5 янв.), A-dur (7 янв.), fis-moll (11 янв.), E-dur (14 янв.), cis-moll (22 янв.), H-dur (27 янв.), gis-moll (28 янв.), Fis-dur (30 янв.), es-moll (1 февр.), Des-dur (2 февр.), b-moll (7 февр.), As-dur (11 февр.), f-moll (15 февр.), Es-dur (21 февр.), c-moll (22 февр.), B-dur (24 февр.), g-moll (28 февр.), F-dur (1 марта), d-moll (2 марта). Премьера: Л., 17 янв. 1933, Д. Шостакович (8 прелюдий), М., 24 мая 1934, Д. Шостакович (весь цикл). Изд.: Музгиз, 1934 — 166, 191, 198–201, 214, 281
7. Полька из балета «Золотой век». Премьера:? Изд.: Тритон, 1935 — 145 (см. также Балеты, ор. 22; Сюиты, op. 22a, Ансамбли, ор. 36; Фортепианные произведения, для фортепиано соло, № 7)
8. Фуги. М., 23–26 июля 1934. Рукопись.
9. Ор. 61. Соната № 2, h-moll. Куйбышев, февр. — 17 марта 1943. Посвящ. памяти Л. В. Николаева. Премьера: М., 6 июня 1943, Д. Шостакович. Изд.: Музгиз, 1943 — 277, 281–283, 306
10. Ор. 69. «Детская тетрадь». 1. Марш. 2. Вальс. 3. «Медведь». 4. «Веселая сказка». 5. «Грустная сказка». 6. «Заводная кукла». 7. «День рождения». 30 мая — 6 дек. 1944 (№ 1–6) и 30 мая 1945 (№ 7). Премьера: М., 1945, Галина Шостакович (№ 1–6). Изд.: Музфонд, 1945 (№ 1–6); Музыка, 1987 (№ 7) — 47, 384
11. Ор. 87. Двадцать четыре прелюдии и фуги. Прелюдия C-dur (10 окт. 1950), Фуга C-dur (11 окт.); Прелюдия a-moll (12 окт.), Фуга a-moll (13 окт.); Прелюдия G-dur (14 окт.), Фуга G-dur (16 окт.); Прелюдия e-moll (22 окт.), Фуга e-moll (27 окт.); Прелюдия D-dur (29 окт.), Фуга D-dur (1 ноября); Прелюдия h-moll (2 ноября), Фуга h-moll (9 ноября); Прелюдия A-dur (10 ноября), Фуга A-dur (11 ноября); Прелюдия fis-moll (26 ноября), Фуга fis-moll (27 ноября); Прелюдия E-dur (30 ноября), Фуга E-dur (1 дек.); Прелюдия cis-moll (5 дек.), Фуга cis-moll (7 дек.); Прелюдия H-dur (7 дек.), Фуга H-dur (11 дек.); Прелюдия gis-moll (13 дек.), Фуга gis-moll (15 дек.); Прелюдия Fis-dur (20 дек.), Фуга Fis-dur (22 дек.); Прелюдия es-moll (27 дек.), Фуга es-moll (28 дек.); Прелюдия Des-dur (30 дек.), Фуга Des-dur (8 янв. 1951); Прелюдия b-moll (11 янв.), Фуга b-moll (13 янв.); Прелюдия As-dur (15 янв.), Фуга As-dur (21 янв.); Прелюдия f-moll (21 янв.), Фуга f-moll (21 янв.); Прелюдия Es-dur (26 янв.), Фуга Es-dur (3 февр.); Прелюдия c-moll (7 февр.), Фуга c-moll (14 февр.); Прелюдия B-dur (15 февр.), Фуга B-dur (16 февр.); Прелюдия g-moll (17 февр.), Фуга g-moll (18 февр.); Прелюдия F-dur (20 февр.), Фуга F-dur (23 февр.); Прелюдия d-moll (23 февр.), Фуга d-moll (25 февр.). Премьера: Л., 18 ноября 1951, Д. Шостакович (4 прелюдии и фуги); Л., 23 и 28 дек. 1952, Т. Николаева (весь цикл). Изд.: Музгиз, 1952 — 342–347, 351, 373, 448, 501
12. Танцы кукол. 1. Лирический вальс. 2. Гавот. 3. Романс. 4. Полька. 5. Вальс-шутка. 6. «Шарманка». 7. Танец. (Танцы кукол являются транскрипцией фрагментов балетов «Золотой век», «Болт» и «Светлый ручей».) 1950. Премьера:? Изд.: Музгиз, 1952.
13. Три вариации (№ 8, 9 и 11) из цикла Вариации на тему Глинки (коллективное соч. Э. Каппа, В. Шебалина, А. Эшпая, Р. Щедрина, Г. Свиридова, Ю. Левитина, Д. Кабалевского и Д. Шостаковича). 1957. Изд.: СМ, 1957, № 2; СК, 1976.
14. «Мурзилка». Дата создания неизвестна. Изд.: Музыка, 1983.
6) Для двух фортепиано
1. Ор. 6. Сюита fis-moll. 1. Прелюдия. 2. Фантастический танец. 3. Ноктюрн. 4. Финал. Пг., март 1922. Посвящ. памяти Дмитрия Болеславовича Шостаковича. Премьера: М., 20 марта 1925, Л. Оборин и Д. Шостакович. Изд.: Музыка, 1983 — 49, 50
2. Первонач. ор. 81[509]. Веселый марш D-dur. 1949. Посвящ. Максиму Шостаковичу. Премьера:? Изд.: Музыка, 1983.
3. Ор. 94. Концертино а-moll. М., 1953. Премьера: М., 20 янв. 1954, А. Малолеткова и М. Шостакович. Изд.: Музфонд, 1955 —371, 384
4. Тарантелла. Ок. 1954. Премьера: М., 8 ноября 1954, А. Малолеткова и М. Шостакович. Изд.: Музыка, 1983.
5. Транскрипция Прелюдии, ор. 87, № 15, Des-dur. Премьера:? Изд.: Музгиз, 1963.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СКРИПКИ
1. Первонач. ор. 59[510]. Три произведения для скрипки соло. 1. Прелюдия. 2. Гавот. 3. Вальс. Л., 1940. Рукопись (утеряна?).
Вокальная музыка
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА
1. Ор. 14. Симфония № 2, «Октябрю» (Симфоническое посвящение), H-dur. Слова А. Безыменского. Л., июль 1927. Премьера: Л., 5 ноября 1927, хор Гос. ак. капеллы и орк. ЛФ, дир. Н. Малько. Изд.: МГ, 1927 — 6, 76, 105–111, 137, 138, 140, 141, 147–149, 154, 174, 224, 225, 334, 407, 445, 504
2. Ор. 20. Симфония № 3, Первомайская, Es-dur. Слова С. Кирсанова. Л., 1929. Премьера: Л., 21 янв. 1930, хор Гос. ак. капеллы, орк. ЛФ, дир. А. Гаук. Изд.: Музгиз, 1932 — 138–142, 148, 149, 154, 155, 167, 174, 180, 225, 417, 504, 511
3. Ор. 74. Поэма о Родине для солистов (меццо-сопрано, тенора, двух баритонов и баса), хора и орк. Слова Л. Радина, П. Парфенова, Б. Корнилова, В. Лебедева-Кумача. М., 1947. Премьера: 19 мая 1956. Изд.: Музфонд, 1947 — 318
4. Ор. 81. «Песнь о лесах», оратория для тенора, баса, хора мальчиков, смеш. хора и орк. Слова Е. Долматовского. Комарово, июль — 15 авг. 1949. Премьера: Л., 15 ноября 1949, В. Ивановский (тенор), И. Тятов (бас), хор мальчиков и хор Гос. ак. капеллы, орк. ЛФ, дир. Е. Мравинский. Изд.: Музгиз, 1950 — 6, 307, 335–338, 345, 346, 359, 366, 382, 408, 448, 460, 467, 504
5. Ор. 90. «Над Родиной нашей солнце сияет», кантата для хора мальчиков, смеш. хора и орк. Слова Е. Долматовского. Комарово, июль — 29 сент. 1952. Премьера: М., 6 ноября 1952, хор мальчиков Моек, хорового уч-ща, Гос. хор рус. песни и ГСО, дир. К. Иванов. Изд.: Музгиз, 1953 — 387
6. Ор. 113. Симфония № 13, b-moll, для баса, хора басов, хора и орк. Слова Е. Евтушенко. Март — 20 июля 1962. Премьера: М., 18 дек. 1962, В. Громадский, хор басов Республ. рус. хоровой капеллы, муж. хор Гос. муз. — пед. ин-та им. Гнесиных и орк. МФ, дир. К. Кондрашин. Изд.: Leeds Music (Canada), 1970 — 275, 419–431, 434, 441, 463, 518, 527
7. Op. 119. «Казнь Степана Разина», поэма для баса, смеш. хора и орк. Слова Е. Евтушенко. Балатон, август — М., 14 сент. 1964. Премьера: М., 28 дек. 1964, В. Громадский, Республ. рус. хоровая капелла и орк. МФ, дир. К. Кондрашин. Изд.: Музыка, 1966 — 443–445, 458, 463, 485
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ХОРА A CAPPELLA
1. Ор. 88. Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX — начала XX вв. для смеш. хора. 1. «Смелей, друзья, идем вперед!», слова Л. Радина. 2. «Один из многих», слова Е. Тарасова. 3. «На улицу!», слова неизв. автора. 4. «При встрече во время пересылки», слова А. Гмырева. 5. «Казненным», слова А. Гмырева. 6. «Девятое января», слова А. Коца.
2. «Смолкли залпы запоздалые», слова Е. Тарасова. 8. «Они победили», слова А. Гмырева. 9. Майская песнь, слова А. Коца. 10. Песня, слова В. Тана-Богораза. М., 1951. Премьера: М., 10 окт. 1951, Гос. хор рус. песни и хор мальчиков Моек, хорового уч-ща, дир. А. Свешников. Изд.: Музгиз, 1952 — 425
3. Ор. 104. Две русские народные песни. Обраб. для хора. 1. «Венули ветры». 2. «Как меня, младу-младешеньку, муж больно бил». М., 1957. Премьера: Гос. ак. рус. хор СССР, дир. А. Свешников. Изд.: СК, 1957.
4. Ор. 136. «Верность», 8 баллад для муж. хора. Слова Е. Долматовского. 1. «Как в незапамятном году». 2. «Люди верили в пламя». 3. «Великое имя». 4. «Все меньше тех, кто видел его и знал». 5. «На ясный день наводят тень». 6. «Я все о нем хочу узнать». 7. «Так вот какие люди были». 8. «На встречах юных поколений». Оконч.: Репино, 13 февр. 1970. Посвящ. Г. Г. Эрнесаксу. Премьера: Таллин, 5 дек. 1970, Гос. ак. муж. хор Эст. ССР, дир. Г. Эрнесакс. Изд.: Музыка, 1970 — 473
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСА И ОРКЕСТРА
1. Ор. 4[511]. Две басни Крылова для меццо-сопрано, хора альтов с орк. «Стрекоза и муравей». Для меццо-сопрано с орк. 2. «Осел и соловей». Для солир. группы альтов (меццо-сопрано) с орк. Пг., 1921–1922. Посвящ. М. В. Кварди. Премьера: Таллин, 2 февр. 1977, Н. Бурнашева, орк. и хор (жен. группа) студентов Моск. гос. конс., дир. Г. Рождественский. Изд.: Музыка, 1982 — 48 (см. также Произведения для голоса и ф-п., ор. 4)
2. Ор. 21. Шесть романсов на слова японских поэтов для тенора и орк. Л., 1928–1932. 1. «Любовь» (7 окт. 1928). 2. «Перед самоубийством» (7 окт. 1928). 3. «Нескромный взгляд» (7 окт. 1928). 4. «В первый и последний раз» (29 ноября 1931). 5. «Безнадежная любовь» (1932). 6. «Смерть» (1932). Посвящ. Н. В. Варзар. Премьера: Л., 24 апр. 1966. Изд.: Музыка, 1982 — 161, 166, 281 ((см. также Произведения для голоса и ф-п, ор.21а)
3. Ор. 46а. Три романса на слова А. Пушкина для баса и камерного орк. Инструментовка цикла, ор. 46. Изд.: Музыка, 1982.
4. Ор. 62а. Шесть романсов на слова У. Ралея, Р. Бёрнса и В. Шекспира [и народные] для баса и симф. орк. Инструментовка цикла, ор. 62. Оконч.: Куйбышев, 18 марта 1943. Премьера:? Изд.: Музфонд, 1943 — 281
5. Восемь английских и американских народных песен для низкого голоса с орк. 1. «Невеста моряка». 2. «Джон Андерсон», слова Р. Бернса. 3. «Билли Бой». 4. «О мой ясень и дуб». 5. «Слуги короля Артура». 6. «Видно, рожью шла», слова Р. Бернса. 7. «Весенний хоровод». 8. «К нам Джонни придет опять». 12 мая 1943. Премьера: М., 6 марта 1944, М. Решетников (бас). Рукопись — 283
6. Ор. 79а. «Из еврейской народной поэзии». Вок. цикл для сопрано, контральто и тенора с орк. Орк. версия цикла, ор. 79. М., 1948. Премьера: Горький, 19 февр. 1964, Л. Авдеева, Г. Писаренко, А. Масленников, орк. Горьковской фил., дир. Г. Рождественский. Изд.: Музыка, 1982 — 449
7. Ор. 135. Симфония № 14, g-moll, для сопрано, баса и камерного орк. Слова Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Р. М. Рильке и В. Кюхельбекера. М., 21 янв. — 2 марта 1969. Посвящ. Б. Бриттену. Премьера: Л., 29 сент. 1969, Г. Вишневская, Е. Владимиров, МКО, дир. Р. Баршай. Изд.: Музыка, 1971 — 281, 421, 463–471, 473, 495, 518–519, 523
8. Ор. 62/140. Шесть романсов на слова английских поэтов для баса и камерного орк. Инструментовка цикла, ор. 62. 1971. Премьера: М., 30 ноября 1973, Е. Нестеренко, МКО, дир. Р. Баршай. Изд.: Музыка, 1982 — 281
9. Ор. 143а. Шесть стихотворений Марины Цветаевой. Инструментовка цикла, ор. 143. Оконч.: Репино, 9 янв. 1974. Премьера: М., 6 июня 1974, И. Богачева, МКО, дир. Р. Баршай. Изд.: Музыка, 1982 — 493, 495
10. Ор. 145а. Сюита на слова Микеланджело Буонарроти для баса и орк. Инструментовка цикла, ор. 145. Посвящ. Ирине Антоновне Шостакович. Оконч.: М., 5 ноября 1974. Премьера: Е. Нестеренко, БСО, дир. М. Шостакович. Изд.: Музыка, 1982 — 495–496
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО
1. Ор. 4. Две басни Крылова для альта, хора альтов и фп. Вариант цикла (см. также Произведения для голоса и оркестра, ор. 4) в сопр. орк. Пг., 1921–1922. Премьера:? Изд.: Музыка, 1966.
2. Ор. 21а. Шесть романсов на слова японских поэтов для тенора и фп. Вариант цикла (см. также Произведения для голоса и оркестра, ор.21) для тенора и орк. Л., 1928–1932. Посвящ. Н. В. Варзар. Премьера: М., 30 мая 1977, А. Масленников и Л. Могилевская. Изд.: Музыка, 1982.
3. Мадригал для голоса и фп. Л., 31 дек. 1933. Премьера: Л., 1977, А. Масленников и Л. Могилевская. Рукопись.
4. Ор. 46. Четыре романса на слова А. Пушкина для баса и фп. 1. «Возрождение». 2. «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила». 3. «Предчувствие». 4. «Стансы». М., дек. 1936 — 2 янв. 1937. Премьера: М., 8 дек. 1940, А. Батурин и Д. Шостакович («Предчувствие»); Л., 15 дек. 1940, В. Арканов и Д. Шостакович (весь цикл). Изд.: Музфонд, 1943 — 281 (см. также: Произведения для голоса и орк., ор. 46а)
5. 27 романсов и песен разных композиторов, обраб. для исполнения на концертах для солдат. Л., 12–14 июля 1941. Рукопись.
6. Ор. 62. Шесть романсов на слова У. Ралея, Р. Бернса и В. Шекспира [и народные] для баса и фп. 1. «Сыну», слова У. Ралея. Куйбышев, 7 мая 1942. Посвящ. Л. Т. Атовмьяну. 2. «В полях, под снегом и дождем», слова Р. Бернса (15 окт.). Посвящ. Нине Васильевне Шостакович. 3. «Макферсон перед казнью», слова Р. Бернса (16 окт.). Посвящ. И. Д. Гликману. 4. «Дженни», слова Р. Бернса (17 окт.). Посвящ. Ю. В. Свиридову. 5. Сонет 66, слова В. Шекспира (24 окт.). Посвящ. И. И. Соллертинскому. 6. «Королевский поход», слова народные (25 окт.). Посвящ. В. Я. Шебалину. Премьера: М., 6 июня 1943, Е. Флакс и Д. Шостакович. Изд.: Музфонд, 1943. — 281, 460 (см. также: Произведения для голоса и орк., ор. 62а и 62/140)
7. Ор. 72. Две песни для голоса и фп. Слова М. Светлова. 1. Колыбельная. 2. Песня о фонарике. 1945. Премьера: М., 8 мая 1946. Изд.: Муз-фонд, 1946.
8. Ор. 79. «Из еврейской народной поэзии». Вок. цикл для сопрано, тенора и фп. 1. «Плач об умершем младенеце» (1 авг. 1948). 2. «Заботливые мама и тетя» (5 авг.). 3. Колыбельная (10 авг.). 4. «Перед долгой разлукой» (15 авг.). 5. «Предостережение» (20 авг.). 6. «Брошенный отец» (25 авг.). 7. «Песня о нужде» (29 авг.). 8. «Зима» (29 авг.). 9. «Хорошая жизнь» (10 окт.). 10. Песня девушки (16 окт.). 11. «Счастье» (24 окт.). Премьера: Л., 15 янв. 1955, Н. Дорлиак, 3. Долуханова, А. Масленников и Д. Шостакович. Изд.: Музфонд, 1955 — 324–327, 346, 351, 369, 416, 449, 495 (см. также: Произведения для голоса и орк., ор. 79а)
9. Ор. 84. Два романса на слова М. Лермонтова. 1. Баллада (Комарово, 24 июля 1950). 2. «Утро на Кавказе» (25 июля). Премьера: Дуйсбург, 2 окт. 1984, И. Богачева и И. Лебедев. Изд.: Музыка, 1982 — 346
10. Ор. 86. Четыре песни на слова Е. Долматовского для голоса и фп. «Родина слышит, Родина знает». 2. «Любит, не любит». 3. «Выручи меня». 4. «Спи, мой хороший». 1951. Изд.: Музгиз, 1951 (№ 1, 2, 4); Музыка, 1982 (весь цикл).
11. Четыре греческие песни. Обраб. для среднего голоса и фп. Слова К. Паламаса, С. Мавроиди-Пападаки и народные. 1. «Вперед!» 2. «Пентозалис». 3. «Золонго». 4. Гимн ЭЛАС. 1952–1953. Изд.: № 1 — СМ, 1954, № 5; весь цикл — Музыка, 1982.
12. Ор. 91. Четыре монолога на слова А. Пушкина для баса и фп. 1. «Отрывок». 2. «Что в имени тебе моем?» 3. «Во глубине сибирских руд». 4. «Прощание». 5–8 окт. 1952. Премьера:? Изд.: СК, 1960 — 347
13. Ор. 98. Пять романсов (Песни о днях) на слова Е. Долматовского для баса и фп. 1. «День встречи». 2. «День признаний». 3. «День обид». 4. «День радости». 5. «День воспоминаний». Комарово, 3 июля — 1 сент. 1954. Премьера: Киев, 16 мая 1956, Б. Гмыря и Л. Острин. Изд.: Музгиз, 1956 — 346, 371, 427
14. Op. 100. Испанские песни для меццо-сопрано и фп. Мелодии и слова народные. 1. «Прощай, Гренада». 2. «Звездочки». 3. «Первая встреча». 4. Ронда. 5. «Черноокая». 6. «Сон». Комарово, июль — 20 авг. 1956. Премьера: Л., 1956, 3. Долуханова и Д. Шостакович. Изд.: СМ, 1956, № 9; СК, 1960 — 371, 383
15. Ор. 109. «Сатиры» (Картинки прошлого) на слова Саши Черного для сопрано и фп. 1. «Критику». 2. «Пробуждение весны». 3. «Потомки». 4. «Недоразумение». 5. «Крейцерова соната». Оконч.: 19 июня 1960. Посвящ. Г. П. Вишневской. Премьера: М., 22 февр. 1961, Г. Вишневская и М. Ростропович. Изд.: Музыка, 1967 — 390–392
16. Ор. 121. Пять романсов для баса и ф-п. Слова из журн. «Крокодил» (№ 24, от 30 авг. 1965). 1. «Собственноручное показание». 2. «Трудно исполнимое желание». 3. «Благоразумие». 4. «Иринка и пастух». 5. «Чрезмерный восторг». Оконч.: 4 сент. 1965. Премьера: Л., 28 мая 1966, Е. Нестеренко и Д. Шостакович. Изд.: СМ, 1966, № 1; Sikorski, 1982 — 449, 495
17. Ор. 123. «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия», для баса и фп. Слова Д. Шостаковича. Репино, 2 марта 1966. Премьера: Л., 28 мая 1966, Е. Нестеренко и Д. Шостакович. Изд.: Sikorski, 1982 — 449, 495
18. Ор. 128. «Весна, весна», романс для баса и фп. на слова А. Пушкина. 1967. Премьера: Л., ноябрь 1979, Е. Нестеренко (бас). Изд.: Музыка, 1984.
19. Ор. 143. Шесть стихотворений М. Цветаевой. Сюита для контральто и фп. 1. «Мои стихи». 2. «Откуда такая нежность?» 3. «Диалог Гамлета с совестью». 4. «Поэт и царь». 5. «Нет, бил барабан». 6. «Анне Ахматовой». Пярну, 31 июля — 7 авг. 1973. Премьера: Л., 12 ноября 1973, И. Богачева и С. Вакман. Изд.: Музыка, 1974 — 493–494, 495, 526 (см. также: Произведения для голоса и орк., ор. 143а)
20. Ор. 145. Сюита на слова Микеланджело Буонарроти для баса и фп. 1. «Истина». 2. «Утро». 3. «Любовь». 4. «Разлука». 5. «Гнев». 6. «Данте». 7. «Изгнаннику». 8. «Творчество». 9. «Ночь» (Диалог). 10. «Смерть». 11. «Бессмертие». Оконч.: 31 июля 1974. Посвящ. Ирине Антоновне Шостакович. Премьера: Л., 23 дек. 1974, Е. Нестеренко и Е. Шендерович. Изд.: Музыка, 1975 — 447 (см. также: Произведения для голоса и орк., ор. 145а)
21. Ор. 146. Четыре стихотворения капитана Лебядкина для баса и фп. Слова Ф. Достоевского. 1. «Любовь капитана Лебядкина». 2. «Таракан». 3. «Бал в пользу гувернанток». 4. «Светлая личность». Оконч.: 23 авг. 1975. Премьера: М., 10 мая 1975, Е. Нестеренко и Е. Шендерович. Изд.: Музыка — 495
22. «Были поцелуи», для голоса и фп. Слова Е. Долматовского. 1954? Премьера:? Изд.: Музыка, 1982.
23. Многочисленные массовые песни, сочиненные в 40 — 50-х годах (частично изд.: Музыка, 1985) — 277
Разное
1. Десять русских народных песен для голоса, хора и фп. М., 1951. Премьера: Магнитогорск, 18 окт. 1971, Ак. хоровая капелла. Изд.: Музыка, 1985.
2. «Антиформалистический раек» для солистов, смеш. хора и фп. 1948–1957. Слова Д. Шостаковича. Премьера: Вашингтон, 12 янв. 1989, дир. М. Ростропович (без финала); Москва, 25 сент. 1989, дир. В. Полянский (целиком). Изд.: Boosey and Hawkes, 1991 — 324
3. Op. 127. Семь стихотворений А. Блока. Вок. — инструм. сюита для сопрано, скрипки, виолончели и фп. 1. Песня Офелии. 2. «Гамаюн, птица вещая». 3. «Мы были вместе». 4. «Город спит». 5. «Буря». 6. «Тайные знаки». 7. «Музыка». Оконч.: 3 февр. 1967. Посвящ. Г. П. Вишневской. Премьера: М., 23 окт. 1967, Г. Вишневская, Д. Ойстрах, М. Ростропович и М. Вайнберг. Изд.: Музфонд, 1968 — 456–459, 462, 473
Музыка для драматического театра и кино
1. Ор. 18. Музыка к немому к-ф. «Новый Вавилон». Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг. Л., 1 — 19 февр. 1929. Премьера: 18 марта 1929. Изд.: Совкино, 1929 (голоса) — 48, 135–138, 155, 160, 251
2. Ор. 19. Музыка к феерической комедии «Клоп» В. Маяковского. Реж. В. Мейерхольд. Янв. 1929. Премьера: 13 февр. 1929, Театр им. Вс. Мейерхольда. Изд.: Музыка, 1986 (клавир, 12 фрагм.), 1987 (партитура) — 64, 131–135, 137, 138, 155, 160
3. Ор. 24. Музыка к пьесе «Выстрел» А. Безыменского. Реж. М. Соколовский и Р. Суслович. Л., 1929. Премьера: Л., 14 февр. 1929, ТРАМ. Изд.: Музыка, 1986 (клавир, 8 фрагм.), 1987 (партитура, 6 фрагм.) — 147, 155
4. Ор. 25. Музыка к пьесе «Целина» А. Горбенко и Н. Львова. Реж. М. Соколовский и Н. Лебедев. Л., 1929. Премьера: 9 мая 1930, ТРАМ. Рукопись утеряна — 155
5. Ор. 26. Музыка к к-ф. «Одна». Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг. Л., 1930–1931. Премьера: 10 окт. 1931. Изд.: Музыка, 1987 — 138, 155
6. Ор. 28. Музыка к пьесе «Правь, Британия!» А. Пиотровского. Реж. М. Соколовский и Р. Суслович. Л., апр. 1931. Премьера: Л., 9 мая 1931, ТРАМ. Изд.: Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура) — 155, 165
7. Ор. 30. Музыка к к-ф. «Златые горы». Реж. С. Юткевич. Л., 1931. Премьера: 1-го варианта — 6 ноября 1931; 2-го варианта — 14 авг. 1936. Изд.: Музыка, 1987 — 138, 155, 165, 191
8. Ор. 31. Музыка к эстрадно-цирковому представлению «Условно убитый». Авторы текста В. Володин и Е. Рысс. Л., 1931. Премьера: 20 окт. 1931, Лен. мюзик-холл, дир. И. Дунаевский. Изд.: М., 1986 (клавир) — 155, 156, 165
9. Ор. 32. Музыка к трагедии «Гамлет» В. Шекспира. Реж. Н. Акимов. Л., 1931–1932. Премьера: 19 мая 1932, Театр им. Евг. Вахтангова. Изд.: Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура) — 155, 157, 166, 511 (см. здесь же ор. 116, также Сюиты 32а, 116а).
10. Ор. 33. Музыка к к-ф. «Встречный». Реж. Ф. Эрмлер и С. Юткевич. Л., окт. 1932. Премьера: 7 ноября 1932. Рукопись (3 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 166, 191–194, 218, 388
11. Ор. 36. Музыка к мультфильму «Сказка о попе и о работнике его Балде». Реж. М. Цехановский. Л., Крым, 1934. Премьера не состоялась (см. раздел «Произведения для музыкального театра»).
12. Музыка к спектаклю «Человеческая комедия» по О. Бальзаку. Инсценировка П. Сухотина. Реж. А. Козловский и Б. Щукин. 1933–1934. Премьера: М., 1 апр. 1934, Театр им. Евг. Вахтангова. Изд.: Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура).
13. Op. 38. Музыка к к-ф. «Любовь и ненависть». Реж. А. Генделынтейн. Л., 1934. Премьера: 3 марта 1935. Местонахожд. рукописи неизвестно.
14. Ор. 41. Музыка к к-ф. «Юность Максима». Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг. Л., 1934–1935. Премьера: 27 янв. 1935. Рукопись (пролог изд.: Музыка, 1987) — 191
15. Ор. 41. Музыка к к-ф. «Подруги». Реж. Л. Арнштам. 1934–1935. Премьера: 19 февр. 1936. Рукопись.
16. Ор. 44. Музыка к пьесе «Салют, Испания!» А. Афиногенова. Реж. Н. Петров и С. Радлов. Окт. 1936. Премьера: Л., 23 ноября 1936, Лен. театр драмы им. А. С. Пушкина. Изд.: Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура).
17. Ор. 45. Музыка к к-ф. «Возвращение Максима». Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг. 1936–1937. Премьера 23 мая 1937. Рукопись
18. Ор. 48. Музыка к к-ф «Волочаевские дни». Реж. Г. и С. Васильевы. 1936–1937. Премьера: 20 янв. 1938. Рукопись (4 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 231, 251, 460
19. Ор. 50. Музыка к к-ф. «Выборгская сторона». Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг. Л., дек. 1938. Премьера: 2 февр. 1939. Рукопись (увертюра изд.: Музыка, 1987) — 251, 516
20. Ор. 51. Музыка к к-ф. «Друзья». Реж. Л. Арнштам. 1938. Премьера: 1 окт. 1938. Рукопись (2 фрагм. изд.: Музыка, 1985) — 251
21. Ор. 52. Музыка к к-ф. «Великий гражданин» (1-я серия). Реж. Ф. Эрмлер. Дек. 1937. Премьера: 13 ноября 1938. Рукопись — 251
22. Ор. 53. Музыка к к-ф. «Человек с ружьем». Реж. С. Юткевич. Л., сент. 1938. Премьера: 1 ноября 1938. Рукопись (5 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 251
23. Ор. 55. Музыка к к-ф. «Великий гражданин» (2-я серия). Реж. Ф. Эрмлер. Август 1939. Премьера: 27 ноября 1939. Рукопись (Траурный марш изд.: Музыка, 1987) — 251
24. Ор. 56. Музыка к мультфильму «Сказка о глупом мышонке». Реж. М. Цехановский. Оконч.: апрель 1939. Премьера не состоялась. Изд.: Музыка, 1987 — 251
25. Ор. 58а. Музыка к трагедии «Король Лир» В. Шекспира. Реж. Г. Козинцев. Янв. — февр. 1940. Премьера: Л., 24 марта 1941, Большой драм, театр им. М. Горького. Изд.: Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура).
26. Ор. 59. Музыка к к-ф. «Приключения Корзинкнной». Реж. К. Минц. Осень 1940. Премьера: 11 ноября 1940. Рукопись (5 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 251
27. Ор. 63. «Родной Ленинград». Вок. — симф. сюита для спектакля «Отчизна». Реж. С. Юткевич. Куйбышев, 1942. Премьера: М., 15 окт. 1942, Анс. песни и пляски НКВД. Изд.: Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура) — 277
28. Ор. 64. Музыка к к-ф. «Зоя». Реж. Л. Арнштам. Июнь 1944. Премьера: 22 ноября 1944. Изд.: Музыка, 1987 — 200, 277
29. Ор. 66. «Русская река». Музыка к театрализованной программе Анс. песни и пляски НКВД. Сценарий М. Вольпина, И. Добровольского и Н. Эрдмана. 1944. Премьера: 17 апр. 1944. Изд. (4 фрагм.): Музыка, 1986 (клавир), 1987 (партитура) — 277
30. Ор. 71. Музыка к к-ф. «Простые люди». Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг. 1945. Премьера: 25 авг. 1956. Рукопись.
31. Ор. 75. Музыка к к-ф. «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева (2 серии). Реж. С. Герасимов. 1947–1948. Премьера: 1-й серии — 11 окт. 1948, 2-й серии — 25 окт. 1948. Рукопись (увертюра изд.: Музыка, 1987) — 327, 32. Ор. 76. Музыка к к-ф. «Пирогов». Реж. Г. Козинцев. 1947. Премьера: 16 дек. 1947. Рукопись.
33. Ор. 78. Музыка к к-ф. «Мичурин». Реж. А. Довженко. 1948. Премьера: I янв. 1949. Рукопись (2 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 346, 366
34. Ор. 80. Музыка к к-ф. «Встреча на Эльбе». Реж. Г. Александров. М., 1948. Премьера: 16 марта 1949. Рукопись (8 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 327, 346, 35. Ор. 82. Музыка к к-ф. «Падение Берлина» (2 серии). Реж. М. Чиаурели. 1949. Премьера: 21 янв. 1950 (обе серии). Рукопись (5 фрагм. изд.: Музыка, 1987). — 335, 336, 346, 366
36. Ор. 85. Музыка к к-ф. «Белинский». Реж. Г. Козинцев. 1950. Премьера: 4 июня 1953. Рукопись (4 фрагм. изд.: Музыка, 1958) — 346, 366
37. Ор. 89. Музыка к к-ф. «Незабываемый 1919-й» по пьесе В. Вишневского. Реж. М. Чиаурели. М., 1951. Премьера: 3 мая 1952. Рукопись — 346, 366
38. Ор. 95. Музыка к к-ф. «Единство» («Песня великих рек»), Реж. Й. Ивенс. М., 1954. Премьера: ноябрь 1954. Рукопись (5 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 371
39. Ор. 97. Музыка к к-ф. «Овод» по роману Э. Войнич. Реж. А. Файнциммер. М., 1955. Премьера: 12 апр. 1955. Изд.: Музыка, 1987 — 371
40. Ор. 99. Музыка к к-ф. «Первый эшелон». Реж. М. Калатозов. М., 1956. Премьера: 29 апр. 1956. Рукопись (фрагменты изд. в сборниках, 2 песни изд.: Музыка, 1985) — 371
41. Op. 111. Музыка к к-ф. «Пять дней — пять ночей». Реж. Л. Арнштам. М., Гориш (близ Дрездена), 1960. Премьера: 23 ноября 1961. Рукопись (1 фрагм. изд.: Музыка, 1987) — 391
42. Op. 116. Музыка к к-ф. «Гамлет» по трагедии В. Шекспира (2 серии). Реж. Г. Козинцев. М., Горький, 1963–1964. Премьера: 19 апр. 1964 (обе серии). 15 фрагм. изд.: Музыка, 1987 — 441, 449 (см. здесь же ор. 32; а также Сюиты, 32а, 116а)
43. Ор. 120. Музыка к к-ф. «Год как жизнь» (2 серии). Реж. С. Рошаль. 1965. Премьера: 24 марта 1966 (обе серии). Рукопись — 445
44. Ор. 132. Музыка к к-ф. «Софья Перовская». Реж. Л. Арнштам. Сент. 1967. Премьера: 6 мая 1968. 15 фрагм. изд.: Музыка, 1987 — 460
45. Ор. 137. Музыка к к-ф. «Король Лир» по трагедии В. Шекспира (2 серии). Реж. Г. Козинцев. М., Л., Репино, апр. — 27 июля 1970. Премьера: 4 февр. 1971 (обе серии). 20 фрагм. изд.: Музыка, 1987 — 471, 473, 523.
Переложения и инструментовки
1. Инструментовка романса Н. Римского-Корсакова «Я в гроте ждал тебя», ор. 40, № 4. Пг., 1921. Рукопись — 49
2. Инструментовка романса Н. Римского-Корсакова «Тихо вечер догорает», ор. 4, № 4. Пг., 1921. Рукопись.
3. Op. 16. Оркестровая транскрипция фокстрота «Таити-Трот» В. Юманса. Л., 1928. Премьера: М., 25 ноября 1928, орк. Софила, дир. Н. Малько. Изд.: Музыка, 1984 — 129–131, 142, 150
4. Ор. 17. Две пьесы Скарлатти, обраб. двух сонат для духового орк. Л., 1928. Премьера: М., 25 ноября 1928, орк. Софила, дир. Н. Малько. Рукопись — 131
5. Инструментовка увертюры к театральной музыке И. Дзержинского «Зеленый цех». Л., 1931. Рукопись.
6. Переложение Симфонии псалмов И. Стравинского для фп. в 4 руки. 1930-е гг. Рукопись — 246, 415
7. Инструментовка «Интернационала». 1937. Изд.: Музгиз, 1937.
8. Оркестровка оперетты «Венская кровь» И. Штрауса-сына. Л., 1938. Премьера: Л., 1941. Рукопись не сохранилась.
9. Ор. 58. Оркестровка оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского. Л., дек. 1939 — 10 мая 1940. Премьера: Л., 4 ноября 1959, ГАТОБ, дир. С. Ельцин. Изд.: СК, 1963 — 255–257, 388
10. Инструментовка польки И. Штрауса-сына «Поезд удовольствий», ор. 281. 1940. Премьера: Л., 1940. Рукопись.
11. Переложение песни И. Дунаевского «Эх, хорошо в стране советской жить» для голоса и фп. Июль 1941. Рукопись.
12. Обработка Польки М. Балакирева для двух арф. Куйбышев, конец 1941. Рукопись.
13. Завершение и инструментовка оперы «Скрипка Ротшильда» В. Флейшмана. Оконч.: 5 февр. 1944. Концертная премьера: М., 20 июня 1960. Изд.: Музыка, 1965 (клавир) — 248, 295
14. Ор. 106. Оркестровка народной муз. драмы «Хованщина» М. Мусоргского. Оконч.: 26 апр. 1958. Премьера: Л., 25 ноября 1960, ГАТОБ, дир. С. Ельцин. Изд.: Музгиз, 1963 — 388, 445
15. Инструментовка вок. цикла «Песни и пляски смерти» М. Мусоргского. Оконч.: М., 31 июля 1962. Посвящ. Г. П. Вишневской. Премьера: Горький, 12 ноября 1962, Г. Вишневская, орк. Горьковской фил., дир. М. Ростропович. Изд.: Музыка, 1966 — 468
16. Ор. 124. Инструментовка двух хоровых произведений А. Давиденко для смеш. хора и большого симф. орк. 1. «На десятой версте», слова П. Эдиета. 2. «Улица волнуется», слова М. Шорина. 1962. Премьера: М., 24 февр. 1964, Республ. рус. хоровая капелла, Гос. симф. орк. кинематографии, дир. А. Юрлов. Изд.: СК, 1968 — 78
17. Ор. 125. Новая оркестровка Виолончельного концерта Р. Шумана. 1963. Премьера: М., 5 окт. 1963, М. Ростропович, ГСО, дир. Б. Хайкин. Изд.: Музыка, 1966.
18. Новая оркестровка Виолончельного концерта № 1 Б. Тищенко. 1969. Премьера:? Рукопись.
19. Обработка Серенады Г. Браги для сопрано, меццо-сопрано, скрипки и фп. Сент. 1972 (набросок к опере «Черный монах» по А. Чехову). Рукопись.
20. Инструментовка песни Л. Бетховена на слова И. В. Гете из «Фауста» («Жил-был король когда-то»), ор. 75, № 3, для баса и орк. 1975. Премьера: Л., I апр. 1975. Е. Нестеренко, орк. ЛФ, дир. Ю. Кочнев. Рукопись — 496
Иллюстрации
Родители Д. Д. Шостаковича: Дмитрий Болеславович и Софья Васильевна.
Начало 1900-х
Б. М. Кустодиев. Портрет Мити Шостаковича.
Уголь. 1919
Зоя, Митя и Маруся в Ириновке. 1912
Митя Шостакович в возрасте 11 лет. 1917
Здание Петроградской консерватории, куда в 1919 году поступил Дмитрий Шостакович. 1923
Класс профессора М. О. Штейнберга в Петроградской консерватории. Д. Шостакович — крайний слева. 1925
Студент Шостакович в год окончания Петроградской консерватории. 1923
Дмитрий Шостакович. 1929
Д. Д. Шостакович, В. Э. Мейерхольд, В. В. Маяковский и А. М. Родченко во время совместной работы. 1929
Молодой композитор. 1929
Писатель М. М. Зощенко. 1930-е
Дирижер, виолончелист — С. А. Самосуд.
Виссарион Шебалин — русский советский композитор
С женой Ниной Варзар и Иваном Соллертинским. 20 июля 1932
С дочерью Галиной под Ленинградом. 1937
Вечеринка в доме Шостаковичей после премьеры балета «Болт». 8 апреля 1931
Сцена из оперы Д. Д. Шостаковича «Нос» по одноименной повести Н. В. Гоголя в постановке Ленинградского академического малого оперного театра. 1930
Сцена из оперы Д. Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» в постановке Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. 1934
В осажденном Ленинграде композитор играет Седьмую (Ленинградскую) симфонию.
Кадр из хроники. 1941
За работой. 1943
За фортепиано. 1940-е
Композитор-орденоносец. 1940
Композитор Д. Д. Шостакович — боец добровольной пожарной команды профессорско-преподавательского состава на крыше Ленинградской консерватории. 1941
Продажа билетов на концерт симфонического оркестра с исполнением Седьмой «Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 1942
Симфонический оркестр Ленинградской филармонии исполняет Седьмую «Ленинградскую» симфонию
Третий справа — композитор Д. Д. Шостакович. Новосибирск. 1942
Исполнение Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича в Колонном зале Дома союзов. 1942
С И. А. Шпильбергом. Фотография с развернутым автографом композитора. Новосибирск. 1942
Со студентами Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского на уроке композиции. 1943
В своем кабинете во время работы. 1943
С музыковедом Г. М. Шнеерсоном за работой. 1943
С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович и А. И. Хачатурян. 1945
Композиторы Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян и Н. С. Голованов над партитурой. 1945
Румынский композитор и дирижер Д. Энеску (справа) и советские музыканты: композитор Д. Шостакович с супругой Ниной, пианист Э. Гилельс с сестрой Елизаветой, скрипачи М. Фихтенгольц, Л. Коган, Б. Гольдштейн и композитор В. Власов. 1946
Народные артисты СССР слева направо: Д. Д. Шостакович, А. В. Нежданова, Н. С. Голованов. 1940-е
На занятиях со студентами Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. 1947
На съемках фильма «Встреча на Эльбе». 1948
С писателем С. Я. Маршаком.
Конец 1940-х
С Г. А. Александровым во время работы над фильмом «Встреча на Эльбе». 1948
С И. Д. Гликманом на даче в Комарово под Ленинградом. 1948
С Л. Т. Космодемьянской — матерью Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.
Варшава. 1950
С сыном Максимом. 1954
С дочерью Галиной. 1955
Член Советского комитета защиты мира, композитор Д. Д. Шостакович беседует с аргентинским писателем А. Варелой (справа). 1955
На заседании первой сессии Верховного Совета РСФСР четвертого созыва. 1955
Д. Д. Шостакович (слева) после избрания его почетным доктором Оксфордского университета.
Великобритания. 1958
У себя дома. 1957
Д. Д. Шостакович принимает поздравления от учеников Московского хорового училища по случаю своего юбилея. 1956
Председатель оргкомитета Первого международного конкурса пианистов им. П. И. Чайковского Д. Д. Шостакович вручает победителю американскому пианисту В. Клиберну (слева) золотую медаль. 1958
На даче в Жуковке.
Конец 1950-х
С пианистом Э. Г. Гилельсом и писателем Л. В. Никулиным.
Конец 1950-х
С композитором Карой Караевым. 1958
Оперетта Д. Д. Шостаковича «Москва. Черемушки» на сцене Московского театра оперетты.
Танец младших дворников. 1959
Автор оперетты «Москва. Черемушки», композитор Д. Д. Шостакович (в центре справа) среди артистов Московского театра оперетты, участвовавших в спектакле.
В центре справа — главный режиссер театра, народный артист СССР Владимир Канделаки. 1959
Работа над партитурой. 1960
С сыном Максимом, дирижером и руководителем Симфонического оркестра Министерства культуры СССР, на вокзале. 1961
Народные артисты СССР: М. Л. Ростропович, Д. Д. Шостакович и С. Т. Рихтер.
Вторая половина 1950-х
С Н. К. Черкасовым. 1961
Американские композиторы вручают Л. Фосс и А. Колленд вручают Д. Д. Шостаковичу диплом почетного члена американского Национального института искусств. 1960
Д. Шостакович, М. Ростропович и Г. Рождественский на фестивале в Лондоне. 1960
Композитор Д. Д. Шостакович и дирижер Е. А. Марвинский на премьере Двенадцатой симфонии.
Большой зал Ленинградской филармонии. 1 октября 1961
С дирижером И. Б. Маркевичем. 1962
С женой Ириной на концерте в Большом зале Московской консерватории. 1962
С племянником П. И. Чайковского В. Л. Давыдовым и королевой Бельгии Елизаветой в Доме-музее П. И. Чайковского в г. Клин. 1962
С поэтом Евгением Евтушенко на премьере Симфонии № 13.
Большой зал Московской государственной консерватории. 18 декабря 1962
С квартетом имени Бетховена. Слева направо: Д. М. Цыганов, Д. Д. Шостакович, С. П. Ширинский, В. П. Ширинский, В. В. Борисовский. 1963
С английскими музыкантами Б. Бриттеном и П. Пирсом на фестивале английского музыкального искусства. 1963
За чтением газеты «Правда». 1965
В день своего 60-летнего юбилея.
Большой зал Московской консерватории. 25 сентября 1966
Апрель 1968
Федеральный канцлер Австрии Йозеф Клаус вручает орден «Почетный серебряный знак за заслуги перед Австрийской Республикой». 1967
С дагестанским поэтом Расулом Гамзатовым. 1967
На сцене Ленинградской академической капеллы после исполнения 14 симфонии. 1969
С женой Ириной. Берлин. 1972
Страница рукописи. Финал последнего струнного квартета Д. Д. Шостаковича. 1974
Примечания
1
Якуб Поплавский был предком автора этой книги по линии матери, семья которой в XIX в. проживала в России, а в конце столетия переехала в Варшаву.
(обратно)2
От этого брака появились на свет три дочери и четверо сыновей. Мария, по профессии врач, в 1903 г. вышла замуж за Максима Кострикина, которого за революционную деятельность выслали в Сибирь — впрочем, он неожиданно вернулся оттуда под чужим именем и с поддельными документами, после чего при молчаливом согласии своих однокурсников, которые его конечно же узнали, продолжал заниматься в петербургском Горном институте, поселившись у родственников. Владимир (р. 1870) был по профессии метеорологом и всю жизнь провел в Сибири. Борис, по рассказам Надежды Кокоулиной, был морским офицером и погиб во время Первой мировой войны; однако Софья Хентова сообщает, будто он служил в банке. О Вере и Александре известно только, что они были связаны с революционным движением, а о Констанции не сохранилось никаких сведений.
(обратно)3
Виктор Серов (Seroff V. Dmitri Shostakovich: The Life and Background of a Soviet Composer. New York, 1943) дает написание «Кокаулин», однако в России пишут «Кокоулин», что подтвердил по моей просьбе Дмитрий Шостакович.
(обратно)4
Остальные дети: Яков (по профессии инженер), Борис (преждевременно умер вследствие тяжелого повреждения позвоночника), Вера (преследовалась за связи с кругами сибирской интеллигенции), Любовь (обвенчалась в тюрьме с Яновицким, приговоренным за революционную деятельность к многолетней каторге, и вскоре умерла от туберкулеза) и Надежда, которая после учебы в Геттингене получила работу в Екатеринбургском университете, а после революции эмигрировала в Америку, где сообщенные ею сведения стали основой одной из первых биографий Шостаковича (Seroff V. Op. cit.).
(обратно)5
После смерти жены, в 1905 г., Василий Кокоулин вернулся в Бодайбо.
(обратно)6
Один из их предков, талантливый геолог Иосиф Лукашевич, тоже студент естественного отделения Петербургского университета, одновременно с братом Ленина, Александром Ульяновым, принимал участие в покушении на царя Александра III в 1887 г. Был схвачен после того, как покушение сорвалось, и приговорен к смертной казни, позже замененной пожизненным заключением.
(обратно)7
Шостакович Д. Автобиография // Советская музыка. 1966. № 9. С. 24. Автобиография написана в 1927 г. Указанный номер «Советской музыки» частично посвящен Шостаковичу в связи с его 60-летием.
(обратно)8
Хентова С. Шостакович-пианист. Л., 1964. С. 9.
(обратно)9
Seroff V. Op. cit. P. 80.
(обратно)10
Хентова С. Шостакович. T. I. Л., 1985. С. 71.
(обратно)11
Шостакович Д. Думы о пройденном пути // Советская музыка. 1956. № 9. С. 10.
(обратно)12
Шостакович Д. Автобиография. С. 24.
(обратно)13
Там же.
(обратно)14
О своей профессии…: Из беседы с Д. Д. Шостаковичем // Театральная неделя. 1941. № 9. С. 11.
(обратно)15
Seroff V. Op. cit. P. 82.
(обратно)16
Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 10.
(обратно)17
Там же.
(обратно)18
Финк В. Г. Я многим ему обязан // Исаак Бабель: Воспоминания современников. М., 1972. С. 147.
(обратно)19
Глазунов А. К. Письма, статьи, воспоминания. М., 1958. С. 367–368.
(обратно)20
Шостакович Д. Моя alma mater // Советская музыка. 1962. № 9. С. 102–104.
(обратно)21
Федин К. Горький среди нас. М., 1944. С. 40.
(обратно)22
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — историк литературы, критик, публицист, эстетик, деятель коммунистической партии, участник Октябрьской революции; в 1917–1929 гг. — народный комиссар просвещения, всецело преданный делу реорганизации культуры.
(обратно)23
Шкловский В. Жили-были. М., 1966. С. 164.
(обратно)24
Sollertinsky D. and L. Pages from the life of Dmitri Shostakovich. New York; London, 1981. P. 31–32.
(обратно)25
Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М., 1956. С. 252.
(обратно)26
Seroff V. Op. cit. P. 124.
(обратно)27
Шостакович Д. Автобиография. С. 24.
(обратно)28
Seroff V. Op. cit. Р. 108.
(обратно)29
Ibid. Р. 137.
(обратно)30
Ibid. Р. 127.
(обратно)31
В 1927 г. Шварц участвовал вместе с Шостаковичем и несколькими другими российскими музыкантами в I Конкурсе имени Шопена.
(обратно)32
Богданов-Березовский В. Отрочество и юность // Советская музыка. 1966. № 9. С. 27.
(обратно)33
Сорок два письма опубликованы в журнале «Советская музыка» (1982. № 7).
(обратно)34
Шапорин Ю. К пятидесятилетию Д. Шостаковича // Советская музыка. 1956. № 9. С. 16–17.
(обратно)35
Цит. по: Rabinovich D. Dmitry Shostakovich — Composer. Moscow, 1959. P. 16.
(обратно)36
Вальтер В. Концерт Дмитрия Шостаковича // Театр. 1923. № 12. С. 4.
(обратно)37
Цит. по: Николаев Л. В. Статьи и воспоминания современников. Письма. К столетию со дня рождения. Л., 1979. С. 255–256.
(обратно)38
Богданов-Березовский Я. Дороги искусства. Л., 1971. С. 60.
(обратно)39
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. Л., 1986. С. 405.
(обратно)40
Александров А. Далекие годы // Виссарион Яковлевич Шебалин: Статьи, воспоминания, материалы. М., 1970. С. 204.
(обратно)41
Богданов-Березовский В. Дороги искусства. С. 62.
(обратно)42
«Хорошо было бы не думать ни о хлебе насущном, ни о чем, а только заниматься любимым делом…»: Из писем Д. Д. Шостаковича Б. Л. Яворскому // Музыкальная академия. 1997. № 4. С. 30.
(обратно)43
Шостакович Д. Д. Страницы воспоминаний // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962. С. 126.
(обратно)44
Seroff V. Op. cit. P. 137–139.
(обратно)45
Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 140–141.
(обратно)46
Там же. С. 141.
(обратно)47
Там же. С. 142.
(обратно)48
Там же. С. 141–142.
(обратно)49
Манков Н. П. Симфония Д. Шостаковича // Жизнь искусства. 1925. № 22. С. 14.
(обратно)50
Гринберг М. Д. Шостакович // Музыка и революция. 1927. № 11. С. 18.
(обратно)51
Глебов Игорь [Б. В. Асафьев]. Русская симфоническая музыка за 10 лет // Музыка и революция. 1927. № 11. С. 28.
(обратно)52
Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 152.
(обратно)53
Там же.
(обратно)54
Цит. по: Erhardt Ludwik. Strawinski. Warszawa, 1978. S. 44.
(обратно)55
Бенуа А. Возникновение «Мира искусства». Л., 1928. С. 6.
(обратно)56
Горький М. Несвоевременные мысли // Новая жизнь. 1918. 19 января.
(обратно)57
См.: Пролетарская культура. 1918. № 2. С. 22.
(обратно)58
Цит. по: Горбунов В. В. И. Ленин и Пролеткульт. М., 1974. С. 146.
(обратно)59
Таиров А. В поисках стиля // Театр и драматургия. 1936. № 4. С. 202.
(обратно)60
Замятин Е. Я боюсь // Замятин Е. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 349.
(обратно)61
Цит. по: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Лондон, 1989. С. 54.
(обратно)62
Блок А. Дневник. М., 1989. С. 343.
(обратно)63
Блок А. О назначении поэта // Блок А. О литературе. М., 1980. С. 269.
(обратно)64
Замятин Е. Завтра // Замятин Е. Избранные произведения. Т. 2. С. 344.
(обратно)65
Цит. по: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. С. 158.
(обратно)66
К. Malevicz. Amsterdam, 1970. P. 51.
(обратно)67
Цит. по: Шагинян М. Литературный дневник. М.; Пг., 1923. С. 168.
(обратно)68
Тарабукин Н. От мольберта к машине. М., 1923. С. 18.
(обратно)69
Ган А. Конструктивизм. Тверь, 1922. С. 21.
(обратно)70
Луначарский А. Один из сдвигов в искусствоведении // Вестник Коммунистической академии. Т. 15. М., 1926. С. 85–107.
(обратно)71
Правда. 1921. 8 ноября.
(обратно)72
Расстрел одного из замечательнейших русских поэтов того времени Николая Гумилева, мужа Анны Ахматовой, был одной из первых провокаций секретной службы, основанной в декабре 1917 г., руководимой Феликсом Дзержинским и выступавшей под названием Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 28 августа 1922 г. в «Известиях» появилась информация о существовании некой петроградской боевой организации, в которую входили как военные, так и ученые. В то же самое время арестовали, уже по обвинению в заговоре против советской власти, свыше двухсот человек, и среди них много ученых, в том числе известного химика и старого большевика, некогда дружившего с Лениным, профессора М. Тихвинского, а также Гумилева, который еще до революции отошел от левых убеждений. Это была одна из крупных демонстраций большевистского террора, которая должна была послужить предостережением всем противникам нового режима.
(обратно)73
См.: Метченко А., Дементьев А., Ломидзе Г. За глубокую разработку истории советской литературы // Коммунист. 1956. № 12. С. 86.
(обратно)74
Коган П. Литература этих лет: 1917–1923. Иваново-Вознесенск, 1924. С. 79.
(обратно)75
Там же. С. 73.
(обратно)76
Что говорят писатели о постановлении ЦК РКП: Б. Пастернак // Журналист. 1925. № 10. С. 10.
(обратно)77
Маяковский В. Выступление на диспуте «Театральная политика Советской власти» 2 октября 1926 г. // Литературное наследство. Т. 65. М., 1958. С. 40.
(обратно)78
Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1957. С. 589.
(обратно)79
Д. Шостакович о своем творчестве (выступление на авторском вечере 25 марта 1935 г. в Московском доме мастеров искусств) // Советское искусство. 1935. 29 марта.
(обратно)80
Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 11.
(обратно)81
Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972. С. 367.
(обратно)82
Хентова С. Шостакович-пианист. С. 50.
(обратно)83
«Отчет» Шостаковича о конкурсе здесь и далее цитируется по публикации: «Хорошо было бы не думать…». С. 39.
(обратно)84
В состав жюри входили: Зыгмунт Буткевич, Збигнев Джевецкий, Витольд Малишевский (председательствующий), Петр Машиньский, Хенрик Мельцер, Зофья Рабцевичова, Адам Солтыс, Фелициан Шопский, Юзеф Смидович, Юзеф Турчиньский, Адам Вылежиньский и Ежи Журавлев.
(обратно)85
Эренбург И. В Польше // Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1991. С. 115.
(обратно)86
Орлов Г. Итоги Шопеновского конкурса // Слово (Варшава). 1927. Февраль.
(обратно)87
Цит. по: Мусилович А. Польский композитор о русском пианизме. Слово (Варшава). 1927. Февраль.
(обратно)88
Письмо от 1 февраля 1927 г. Цит. в кн.: Лукьянова И. Д. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. М., 1980. С. 48.
(обратно)89
Iwaszkiewicz J. Rozmowy о książkach. Szostakowicz // Życie Warszawy. 1973. 5–6 sierpienia.
(обратно)90
Там же.
(обратно)91
Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 11.
(обратно)92
Цит. по: Караев К. Статьи, письма, высказывания. М., 1978. С. 53.
(обратно)93
Цит. по: «Мне исполнилось восемнадцать лет…» // Встречи с прошлым. Вып. 5 / Под ред. М. Г. Козловой. М., 1984. С. 254.
(обратно)94
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 142.
(обратно)95
Асафьев Б. Восьмая симфония Шостаковича. М., 1945. С. 30.
(обратно)96
Цит. по: Wilson Е. Shostakovich: A Life Remembered. London; Boston, 1994. P. 303.
(обратно)97
Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 11.
(обратно)98
Воспоминания написаны в 1944 г. Впервые опубликованы в Информационном бюллетене Союза советских композиторов (1944. № 5–6. С. Ill), затем — в сборнике «Музыкальный современник» (вып. 1. М.,1973).
(обратно)99
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 215.
(обратно)100
Там же. С. 217.
(обратно)101
Соллертинский И. Творческий путь Шостаковича // «Леди Макбет Мценского уезда». Л., 1934. С. 20.
(обратно)102
См.: Кабалевский Д. Гордость советской музыки // Советская музыка. 1966. № 7. С. 29.
(обратно)103
Цит. по: Савшинский С. Леонид Николаев. Л.; М., 1950. С. 61.
(обратно)104
Друскин М. О фортепианном творчестве Д. Шостаковича // Советская музыка. 1935. № 11. С. 56.
(обратно)105
Цит. по: Хентова С. Шостакович и Сибирь. Новосибирск, 1990. С. 34.
(обратно)106
Сергей Прокофьев (1891–1991): Дневник, письма, беседы, воспоминания. М., 1991. С. 103.
(обратно)107
С. С. Прокофьев: Материалы, документы, воспоминания. М., 1961. С. 180.
(обратно)108
Глебов И. [Б. В. Асафьев] Русская симфоническая музыка за десять лет // Музыка и революция. 1927. № 11. С. 28.
(обратно)109
Шостакович Д. Отчет аспиранта Ленинградской государственной консерватории Дмитрия Шостаковича // Советская музыка. 1986. № 10. С. 55.
(обратно)110
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 186.
(обратно)111
Участники Октябрьской революции. Михаил Калинин (1875–1946), партийный деятель и член Президиума Верховного Совета СССР, приверженец умеренной политики, посмел выступить против Сталина; в конце жизни был удален со всех постов. Валериан Куйбышев (1888–1935), член Центрального комитета, подобно Калинину, занимал умеренную позицию, неоднократно выступал против Сталина; согласно официальной версии, умер от болезни сердца. Георгий Чичерин (1872–1936) происходил из старинной аристократической семьи; сначала меньшевик, позднее член ВКП(б), фактический создатель советской дипломатии, в 1930 г. выведен из состава правительства; превосходный пианист и знаток музыки, автор книги о Моцарте.
(обратно)112
Цит. по: Шульгин Л. Статьи, воспоминания. М., 1977. С. 61.
(обратно)113
Цит. по: Долгополов М. Явление музыки // Известия. 1975. 13 сентября.
(обратно)114
Соллертинский И. «Нос» — орудие дальнобойное // Рабочий и театр. 1930. № 7. С. 6.
(обратно)115
Богданов-Березовский В. «Нос» — опера Шостаковича // Музыка и революция. 1928. № 7–8. С. 54.
(обратно)116
Февральский А. В начале двадцатых годов и позже // Встречи с Мейерхольдом. М., 1967. С. 199.
(обратно)117
Захар Исаакович Любинский (1887–1983) — директор государственных театров Ленинграда, известный своей терпимостью, тактом, дипломатичностью действий и доброжелательностью к талантливым артистам.
(обратно)118
Житомирский Д. «Нос» — опера Шостаковича // Пролетарский музыкант. 1929. № 7–8. С. 37, 39.
(обратно)119
Текст воспроизведен в фильме «Альтовая соната» («Госфильм», 1979).
(обратно)120
Н. М. [Н. П. Малков) Об авторе «Носа» // Рабочий и театр. 1930 № 3. С. 11.
(обратно)121
Янковский М. «Нос» в Малом оперном театре // Рабочий и театр. 1930. № 5. С. 7.
(обратно)122
Соллертинский И. «Нос» — орудие дальнобойное. С. 6.
(обратно)123
Малков Н. Так ли это? // Рабочий и театр. 1930. № 7. С. 7.
(обратно)124
Грес С. [С. А. Кукуричкин] Ручная бомба анархиста // Рабочий и театр. 1930. № 10. С. 7.
(обратно)125
Житомирский Д. «Нос» — опера Шостаковича. С. 33–34.
(обратно)126
Лебединский Л. Новые задачи музыкантов. М., 1930. С. 18–19.
(обратно)127
Цит. по: Юдин Г. «…Ваша работа для меня событие на всю жизнь» // Советская музыка. 1983. № 6. С. 91.
(обратно)128
Шостакович Д. Из писем 1930-х годов // Советская музыка. 1987. № 9. С. 89.
(обратно)129
Самосуд С. Статьи, воспоминания, письма. М., 1984. С. 64.
(обратно)130
Асафьев Б. О творчестве Шостаковича и его опере «Леди Макбет Мценского уезда» // Асафьев Б. Критические статьи и рецензии. М.; Л., 1967. С. 242–243.
(обратно)131
Мартынов И. Дмитрий Шостакович. М.; Л., 1946. С. 17.
(обратно)132
См.: Kreczmar I. Wspominając Dymitra Szostakowicza // Przekrój. 1976. 14 listopada. S. 9.
(обратно)133
Жизнь искусства. 1929. № 26. С. 9.
(обратно)134
Советская музыка. 1966. № 9. С. 13.
(обратно)135
Шостакович Д. Из воспоминаний о Маяковском // Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 315.
(обратно)136
Евгений Евтушенко в 70-х гг. описывал встречу Шостаковича с Маяковским немного иначе: «Шостакович рассказывал мне, как во время работы над музыкой к спектаклю „Клоп“ он впервые встретился с Маяковским. Маяковский был тогда в плохом, изнервленном настроении, от этого держался с вызывающей надменностью и протянул юному композитору два пальца. Шостакович, несмотря на весь пиетет перед великим поэтом, все-таки не сдался и протянул ему в ответ один палец. Тогда Маяковский дружелюбно расхохотался и протянул ему всю пятерню. „Ты далеко пойдешь, Шостакович…“ Маяковский оказался прав». (Евтушенко Е. Политика — привилегия всех. М., 1990. С. 378).
(обратно)137
Шостакович Д. Из воспоминаний о Маяковском. С. 316.
(обратно)138
Флексатон — ударный инструмент, состоящий из гибкой стальной пластинки и двух деревянных шариков, помешенных на пружинящих стержнях. Звук образуется при потряхивании инструмента, когда шарики ударяются о пластинку.
(обратно)139
Советская музыка. 1966. № 9. С. 13.
(обратно)140
Фриц Штидри (1883–1968) — американский дирижер, австриец по происхождению, в 1933–1937 гг. дирижер Ленинградской филармонии.
(обратно)141
Мейерхольд В. Э. Переписка: 1896–1939. М., 1976. С. 348.
(обратно)142
Козинцев Г. Пространство трагедии: Дневник режиссера. Л., 1973. С. 222.
(обратно)143
Шебалин В. Литературное наследие: воспоминания, переписка, статьи, выступления. М., 1975. С. 41.
(обратно)144
Abraham G. Eight Soviet Composers. London, 1943. P. 18.
(обратно)145
Musical America. 1933. January 10. P. 49.
(обратно)146
Прокофьев С. С. и Мясковский Н. Я. Переписка. М., 1977. С. 396.
(обратно)147
Там же. С. 416–417.
(обратно)148
Письмо от 4 марта 1933 г. Цит. по: Из прошлого советской музыкальной культуры. Вып. 2. М., 1976. С. 41.
(обратно)149
Цит. по: Орлов Г. Симфонии Шостаковича. М., 1961. С. 53.
(обратно)150
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 255.
(обратно)151
Шостакович Д. Из писем 1930-х годов. С. 91.
(обратно)152
См.: Рабочий и театр. 1930. № 60–61. С. 8, 9.
(обратно)153
Цит. по: Юдин Г. «…Ваша работа для меня событие на всю жизнь». С. 91–92.
(обратно)154
Федор Васильевич Лопухов (1886–1973) — авангардный хореограф, поставил балеты Шостаковича «Болт» и «Светлый ручей».
(обратно)155
Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете: Воспоминания и записки балетмейстера. М., 1966. С. 257.
(обратно)156
Композитор Шостакович о своем произведении // Смена. 1930. 21 января.
(обратно)157
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 255.
(обратно)158
Пролетарский музыкант. 1930. № 3. С. 25.
(обратно)159
Цит. по: Работы методического совещания по музыкальному образованию // Музыкальное образование. 1928. № 1. С. 54.
(обратно)160
Цит. по: Наш музыкальный фронт: Материалы Всероссийской музыкальной конференции / Под ред. С. Корева. М., 1930. С. 25–26.
(обратно)161
Житомирский Д. О позиции т. Мейерхольда на музыкальном фронте // Пролетарский музыкант. 1930. № 8. С. 31.
(обратно)162
New York Times. 1931. December 20.
(обратно)163
В том числе Самуил Фейнберг в 1925 г. в Венеции, Николай Мясковский в 1926-м в Цюрихе, Александр Мосолов в 1927-м во Франкфурте и в 1930-м в Льеже, а также Лев Книппер в 1931-м в Оксфорде (кстати, творчество Шостаковича никогда не было представлено на этих фестивалях).
(обратно)164
Александр Александрович Давиденко (1899–1934) — агрессивный приверженец идеологии РАПМ. Как композитор был полным дилетантом, писал хоровые массовые песни, в том числе популярную когда-то песню «Нас побить, побить хотели». Совместно с Борисом Шехтером, также членом РАПМ, сочинил оперу «1905 год», после чего начал другую, под названием «1919 год».
(обратно)165
Цит. по: Хентова С. Шостакович и Сибирь. С. 37–38. По иронии судьбы, в 60-х гг. уже совершенно подчинившийся властям Шостакович не только обработал два вокальных сочинения Давиденко («На десятой версте» и «Улица волнуется») для смешанного хора и оркестра, но и выразился о нем так: «Ярчайшая индивидуальность талантливого мастера» (Правда. 1960. 7 сентября).
(обратно)166
Шостакович Д. Декларация обязанностей композитора // Рабочий и театр. 1931. № 31. С. 6.
(обратно)167
Янковский М. Кто против — единогласно: Открытое письмо Д. Шостаковичу // Рабочий и театр. 1931. № 32–33. С. 10.
(обратно)168
Правда. 1930. 15 ноября.
(обратно)169
Правда. 1930. 2 марта. В этой статье Сталин осудил местные власти за положение в стране и на какое-то время приостановил процесс коллективизации.
(обратно)170
Цит. по: Seroff V. Op. cit. Р. 184–185.
(обратно)171
Цит. по: Seroff V. Op. cit. Р. 180.
(обратно)172
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 463.
(обратно)173
Письмо М. Зощенко от 4 января 1941 г. Цит. по: Шагинян М. 50 писем Д. Д. Шостаковича // Новый мир. 1982. № 12. С. 131–132.
(обратно)174
Как утверждает Эдисон Денисов, в 50-х гг. Шостакович говорил ему, что первоначально планировал посвятить «Леди Макбет» Асафьеву.
(обратно)175
В интервью, опубликованном 10 февраля 1934 г. в «Красной газете», Шостакович упоминал даже о тетралогии.
(обратно)176
Шостакович Д. Трагедия-сатира // Советское искусство. 1932. 16 октября. Кстати, Станислав Дыгат в эссе, написанном по случаю польской премьеры оперы, так прокомментировал сатирически-гротескный характер музыки: «…чувствую, что вся эта кровавая бойня, устроенная Катериной, является исключительно литературной метафорой, просто гротескным доведением до абсурда последствий внезапно пробудившейся страсти в молодой женщине с горячим сердцем, окруженной мелочными обывателями, ограниченной жестокими законами провинциальной скуки, однообразия и никчемности» (Познаньская опера, 1965).
(обратно)177
Андрей Сергеевич Бубнов (1883–1940) — один из руководителей Октябрьского восстания в Петрограде. С 1922 г. заведующий отделом агитации и пропаганды Центрального комитета; в 1923 г. перешел на сторону Сталина. В 1924–1929 гг. играл существенную роль в борьбе с троцкистами. В конфликте с правым крылом партии поддержал Сталина не без некоторых колебаний, в результате чего был отодвинут на второй план в качестве народного комиссара просвещения (вместо Луначарского). Считался одним из популярнейших «старых большевиков». Осенью 1937 г. был смещен со своего поста и арестован, в дальнейшем казнен. Реабилитирован Хрущевым.
(обратно)178
Златогоров П. Немирович-Данченко в работе над «Катериной Измайловой» // Советская музыка. 1967. № 5. С. 60.
(обратно)179
Цит. по: Souvarine. Derniers entretiens avec Babel // Contrepoin. 1979. № 30.
(обратно)180
Богданов-Березовский В. Дороги искусства. С. 181.
(обратно)181
Рабочий и театр. 1932. № 16. С. 5.
(обратно)182
Шостакович Д. Мои одиннадцать пожеланий // Рабочий и театр. 1932. № 31. С. 6–7.
(обратно)183
Письмо от 21 июля 1933 года (Прокофьев С. С. и Мясковский Н. Я. Переписка. С. 403).
(обратно)184
Острецов А. «Леди Макбет Мценского уезда»: Опера Д. Шостаковича // Советская музыка. 1933. № 6. Журнал «Советская музыка», основанный в 1933 г., в первый год выходил раз в два месяца, со следующего года стал ежемесячным. С самого начала это был печатный орган Союза советских композиторов, отражавший актуальную культурную политику партии и правительства в области музыкального творчества и исполнительства.
(обратно)185
Богданов-Березовский В. «Леди Макбет Мценского уезда» // Известия. 1933. 24 сентября.
(обратно)186
Самосуд С. Опера, которая делает эпоху // Самосуд С. Статьи, воспоминания, письма. С. 34–35.
(обратно)187
Снятый на кинопленку фрагмент репетиции и заявление Владимира Немировича-Данченко сохранились до наших дней. В 60-х гг. эта старая кинохроника была использована в биографическом фильме о композиторе «Эскизы к портрету». Кроме того, заявление Немировича-Данченко опубликовано в журнале «Искусство кино» в статье «Дмитрий Шостакович и его музыка на экране» (1967. № 5. С. 58).
(обратно)188
Цит. по: Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко: Летопись жизни и творчества. М., 1962. С. 462.
(обратно)189
Гольденвейзер А. Б. Отрывки из дневника // Гольденвейзер А. Б. Статьи, материалы, воспоминания. М., 1969. С. 186.
(обратно)190
Шапорин Ю. Избранные статьи. М., 1969. С. 121.
(обратно)191
Дрейден С. Музыка — революции. М., 1981. С. 482.
(обратно)192
Цит. по: Марков П. Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. М., 1960. С. 223–224.
(обратно)193
Шостакович Д. Мысли о музыкальном спектакле // Советское искусство. 1935. 5 декабря.
(обратно)194
Цит. по: Юдин Г. «…Ваша работа для меня событие на всю жизнь». С. 92.
(обратно)195
Цит. по: Лапчинский Г. Три музыкальных эскиза // Подъем (Воронеж). 1983. № 11. С. 117.
(обратно)196
Rubinstein A. Moje długie Życie. Krakow, 1988. S. 383–384.
(обратно)197
New York Sun. 1935. February 9.
(обратно)198
The New York Times. 1935. February 6.
(обратно)199
И. Стравинский — публицист и собеседник. М., 1988. С. 125.
(обратно)200
Советская музыка. 1966. № 9. С. 18.
(обратно)201
Орик Жорж [Без названия] // Дмитрий Шостакович. М., 1967. С. 117.
(обратно)202
Николай Иванович Ежов (1895–1940) — один из ближайших сотрудников Сталина. В конце 20-х гг. выслужился перед Сталиным особо жестоким проведением коллективизации; в 1933 г. произвел массовую чистку в партийных рядах; осуществлял надзор за Народным комиссариатом внутренних дел; с 1936 г. руководитель НКВД, с 1937 г. генеральный комиссар государственной безопасности. Был непосредственным исполнителем приказов Сталина, организатором массового террора, названного позднее «ежовщиной». Приговорен к смертной казни за «необоснованные репрессии».
(обратно)203
Генрих Григорьевич Ягода (1891–1938) — одна из наиболее преступных личностей сталинской эпохи. С 1920 г. работал во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК). Сталин познакомился с ним в Царицыне и способствовал его дальнейшей карьере. Ягода был заместителем Вячеслава Менжинского (преемника Дзержинского) в политической полиции, известной как ОГПУ, а после его смерти был назначен на должность народного комиссара внутренних дел. Заслужил всеобщую ненависть за жестокость и беспощадность. В 1935 г. стал генеральным комиссаром госбезопасности. Не исключено, что был замешан в убийстве Кирова. В 1936 г. был уволен со всех постов, обвинен в организации убийства Кирова и приговорен к смертной казни. Единственный из жертв «московских процессов» не был реабилитирован в 1988 г.
(обратно)204
Независимая от партии большевиков группировка так называемых социалистов-революционеров.
(обратно)205
Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 25. М., 1953. С. 235.
(обратно)206
Там же. С. 238.
(обратно)207
Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 27. М., 1953. С. 354.
(обратно)208
Там же. С. 434.
(обратно)209
Там же. С. 509.
(обратно)210
Там же. С. 422.
(обратно)211
Искусство кино. 1964. № 4. С. 14–15.
(обратно)212
Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954) — личность, символизирующая кровавые репрессии 30-х гг. С 1928 г. обвинитель на политических процессах, с 1931 г. главный прокурор РСФСР, а позже СССР. Сформулировал принцип, что признание подсудимого может считаться решающим доказательством вины, за что получил Сталинскую премию. После войны министр иностранных дел (1949–1953). Вероятно, покончил жизнь самоубийством.
(обратно)213
Сталин И. Итоги первой пятилетки: Доклад от 7 января 1933 г. // Правда. 1933. 10 января.
(обратно)214
Шостакович Д. Счастье познания // Советское искусство. 1934. 5 ноября.
(обратно)215
Из выступления Шостаковича в дискуссии о советском симфонизме (Советская музыка. 1935. № 5. С. 33).
(обратно)216
Шостакович Д. «Екатерина Измайлова»: Автор об опере // Советское искусство. 1933. 14 декабря.
(обратно)217
Шостакович Д. Мой творческий путь // Известия. 1935. 3 апреля.
(обратно)218
Советская музыка. 1935. № 5. С. 32.
(обратно)219
Из воспоминаний Галины Серебряковой. Публикация: Хентова С. М. В мире Шостаковича: Запись бесед с Д. Д. Шостаковичем. Запись бесед о композиторе. М., 1996. С. 125.
(обратно)220
Хентова С. М. В мире Шостаковича. С. 125–126.
(обратно)221
Цит. по: Горюшина И. Песня о встречном // Музыкальная жизнь. 1977. № 16. С. 10.
(обратно)222
Оперный портфель композиторов // Рабочий и театр. 1933. № 17. С. 22.
(обратно)223
Шостакович Д. Композитор и кино // Ленинградская правда. 1935. 18 января.
(обратно)224
Отрывки из дневника М. Цехановского предоставила С. Хентовой вдова режиссера для использования в статье, предназначенной для журнала «Ruch Muzyczny» (1979. № 12, 13). Все цитаты взяты из этого источника. Оригинальный текст большинства из цитируемых отрывков приведен в монографии С. Хентовой (т. 1. С. 365, 367), в ее книге «Шостакович в Петрограде — Ленинграде» (Л., 1979. С. 111–113), а также в других ее книгах о Шостаковиче.
(обратно)225
С. Хентова в 1978 г. тоже начала поиски этой партитуры. Переворошив архивы Музея им. Глинки (где оказались папки с эскизами и несколько переписанных начисто фрагментов), архив Ленфильма и собрания Центрального государственного архива литературы и искусства, а также получив от вдовы композитора несколько копий, переписанных его рукой. Хентова скомплектовала почти целое сочинение. Около 75 минут музыки составляют кинооперу, которую Шостакович неоднократно называл одним из важнейших своих произведений того периода.
(обратно)226
Советская музыка. 1935. № 5. С. 33.
(обратно)227
Seroff V. Op. cit. P. 188.
(обратно)228
Левон Атовмьян — музыковед, друживший с Шостаковичем.
(обратно)229
Письмо от 6 февраля 1934 г. (Прокофьев С. С. и Мясковский Н. Я. Переписка. С. 417).
(обратно)230
Письмо от 12 марта 1934 г. (Там же. С. 421.)
(обратно)231
См.: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 414–415.
(обратно)232
Фрагменты дневника Мясковского опубликованы в журнале «Музыкальная жизнь» (1981. № 7. С. 18).
(обратно)233
Шостакович Д. Мой третий балет // «Светлый ручей». Комедийный балет в 3-х действиях и 4-х картинах. Музыка Д. Шостаковича. Либретто Ф. Лопухова и Адр. Пиотровского: Сборник статей и материалов о постановке балета в Государственном академическом Малом оперном театре. Л., 1935. С. 15.
(обратно)234
Цит. по: Gräter М. Konzertführer Neue Musik. Frankfurt am Main, 1955. S. 166.
(обратно)235
История русской советской музыки. Т. 2. М., 1959. С. 12, 228.
(обратно)236
С. Н. Гисин был заместителем директора Большого театра.
(обратно)237
Цит. по: Михеева Л. История одной дружбы // Советская музыка. 1987. № 9. С. 79.
(обратно)238
Radamski S. Der verfolgte Tenor: Mein Sängerleben zwischen Moskau und Hollywood. München, 1972. S. 214–215.
(обратно)239
Давид Иосифович Заславский (1880–1965) — журналист, которого Ленин еще до революции назвал «известным клеветником» и «пером шантажиста по найму». Был доверенным лицом Сталина и по его поручению публиковал разные статьи, в том числе против Горького в 1935 г. Одной из последних статей Заславского был пасквиль, развязавший в 1958 г. кампанию против Бориса Пастернака в связи с романом «Доктор Живаго». Заславский умер заслуженным и уважаемым сотрудником «Правды».
(обратно)240
Хентова С. М. В мире Шостаковича. С. 121.
(обратно)241
Там же.
(обратно)242
Атовмьян Л. Из воспоминаний // Музыкальная академия. 1997. № 4. С. 71.
(обратно)243
Все цитаты взяты из статьи: Творческая дискуссия в ленинградском Союзе советских композиторов // Советская музыка. 1936. № 5.
(обратно)244
Radamski S. Op. cit. S. 215–217.
(обратно)245
Письмо от 29 февраля 1936 г. Цит. по: Михеева-Соллертинская Л. Д. Д. Шостакович в отражении писем к И. И. Соллертинскому: Штрихи к портрету // Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996. С. 98.
(обратно)246
Речь идет о встрече известного в те годы советского журналиста Михаила Кольцова с Андре Мальро.
(обратно)247
Цит. по: Два письма Сталину // Литературная газета. 1993. 10 марта.
(обратно)248
Гусева Л. Весь для людей // Маршал Тухачевский. М., 1965. С. 156.
(обратно)249
Цит. по: Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева. М., 1973. С. 386.
(обратно)250
Атовмьян Л. Из воспоминаний. С. 71–72.
(обратно)251
В 1936–1952 гг. появилось шесть разных сообщений о смерти Горького, три из которых дают три различные версии убийства.
(обратно)252
Цит. по: Вишневская Г. Галина: История жизни. М., 1991. С. 251.
(обратно)253
Карл Бернгардович Радек (собств. Собельсон, 1885–1939) — революционер, соратник Ленина. После ареста в 1936 г. Сталин гарантировал ему помилование в обмен на предоставление прокуратуре сведений, подтверждающих виновность Бухарина и Рыкова. Несмотря на выполнение этого требования, Радек был осужден на 10 лет тюрьмы, затем переведен в лагерь и там убит уголовниками.
(обратно)254
Przekrój, 1989. 17 września.
(обратно)255
Гликман И. «…Я все равно буду писать музыку» // Советская музыка. 1989. № 9. С. 45.
(обратно)256
Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 435.
(обратно)257
Там же. С. 439.
(обратно)258
Гликман И. Цит. соч. С. 47.
(обратно)259
Рукописи этих трех симфоний не найдены и по сей день.
(обратно)260
Radio i Telewizja. 1958. № 46.
(обратно)261
Мравинский Е. Тридцать лет с музыкой Шостаковича // Дмитрий Шостакович. С. 112.
(обратно)262
Письмо к Мейерхольду от 12 октября 1937 г. (Мейерхольд В. Э. Переписка. С. 348).
(обратно)263
Мравинский Е. Цит. соч. С. 113.
(обратно)264
Шостакович Д. Яркий талант // Смена. 1938. 18 октября.
(обратно)265
Богданов-Березовский Д. Дороги искусства. С. 188–189.
(обратно)266
Глумов А. Нестертые строки. М., 1977. С. 316.
(обратно)267
Цит. по: Барсова Инна. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей»: 1934–1937 годы в жизни Дмитрия Шостаковича // Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения. С. 127.
(обратно)268
Андрей Александрович Жданов (1896–1948) — после Октябрьской революции член партийного аппарата, с 1934 г. секретарь Центрального комитета и член Оргбюро; в 1935 г. избран кандидатом в члены, а в 1939-м — членом Политбюро. После отстранения Луначарского занимался культурной политикой. После смерти Кирова был назначен первым секретарем Ленинградского комитета партии, проводил в городе жестокие, кровавые репрессии. Как доверенный эмиссар Сталина контролировал преследования в Казани, Оренбурге и Башкирии. Во время Второй мировой войны являлся одним из виновников трагедии Ленинграда, так как не допустил своевременной эвакуации его жителей. После войны, соревнуясь с Маленковым во влиянии на Сталина, проводил в области идеологии и культуры репрессивную политику, известную под названием «ждановщина». Умер при невыясненных обстоятельствах: по официальному сообщению, от сердечной болезни, а вероятнее всего, от белой горячки, поскольку был алкоголиком.
(обратно)269
См.: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 455.
(обратно)270
Мравинский Е. Произведение потрясающей силы // Смена. 1937. 23 декабря.
(обратно)271
Цит. по: Хентова С. Шостакович в Москве. М., 1986. С. 81–82.
(обратно)272
Хубов Г. Пятая симфония Д. Шостаковича // Советская музыка. 1938. № 3. С. 14.
(обратно)273
Кабалевский Д. Пятая симфония Д. Шостаковича // Советское искусство. 1937. 29 декабря.
(обратно)274
В Симфонии отмечалось «глубокое философское содержание» (Данилевич Л. Путь композитора // Советское искусство. 1938. 14 февраля), «серьезность в постановке большой темы о человеке, о человеческих переживаниях» (Попов Г. Победа советского симфонизма // Искусство и жизнь. 1938. № 2. С. 36); утверждалось, что «произведение такой большой философской глубины и эмоциональной силы могло родиться только в СССР» (Александров А., Нечаев В. Пятая симфония Д. Шостаковича: Впечатления слушателя // Музыка. 1937. 26 ноября).
(обратно)275
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 459.
(обратно)276
Цит. по: Мартынов И. Цит. соч. С. 50.
(обратно)277
Шостакович Д. Мой творческий ответ // Вечерняя Москва. 1938. 25 января.
(обратно)278
Фадеев А. За тридцать лет: Избранные статьи, речи и письма о литературе. М., 1957. С. 891.
(обратно)279
Следует добавить, что Мравинский выбрал для заключительного этапа конкурса Пятую симфонию, что предопределило его успех.
(обратно)280
Бунин Р. «…С глубочайшей признательностью» // Советская музыка. 1976. № 9. С. 14.
(обратно)281
Караев К. Слово об учителе // Советская музыка. 1976. № 9. С. 12.
(обратно)282
Бунин Р. Цит. соч. С. 16.
(обратно)283
Евлахов О. Класс композиции Д. Шостаковича // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. С. 201–202.
(обратно)284
Данилевич Л. Дмитрий Шостакович: Жизнь и творчество. М., 1980. С. 109.
(обратно)285
Левитин Ю. Учитель // Шостакович Д.: Статьи и материалы. М., 1976. С. 83–84.
(обратно)286
Советская музыка. 1966. № 9. С. 9–10.
(обратно)287
Новые работы композитора Д. Шостаковича // Известия. 1938. 29 сентября.
(обратно)288
Цит. по: Михеева Л. Цит. соч. С. 80.
(обратно)289
Нейгауз Г. Струнный квартет Шостаковича // Вечерняя Москва. 1938. 29 октября.
(обратно)290
Шостакович Д. Заметки композитора // Литературная газета. 1938. 20 ноября.
(обратно)291
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 497.
(обратно)292
Письма Шостаковича к Шебалину опубликованы в подборке под заглавием «…Это был замечательный друг» в журнале «Советская музыка» (1982. № 7. С. 78–83).
(обратно)293
Цит. по: Шнеерсон Г. Леопольд Стоковский // Советская музыка. 1941. № 5. С. 105.
(обратно)294
Шостакович Д. Партитура оперы // Известия. 1941. 1 мая.
(обратно)295
См.: Хентова С. Шостакович и Сибирь. С. 136.
(обратно)296
Цыганов Д. Пол века вместе // Советская музыка. 1976. № 9. С. 29–30.
(обратно)297
Выступление С. Прокофьева на обсуждении IV Декады советской музыки (Советская музыка. 1941. № 2. С. 71–72).
(обратно)298
Московский большевик. 1942. 19 апреля.
(обратно)299
Шостакович Д. Седьмая симфония // Правда. 1942. 19 марта.
(обратно)300
См.: Шостакович Д. В дни обороны Ленинграда // Советское искусство. 1941. 9 октября.
(обратно)301
См.: Шостакович Д. О подлинной и мнимой программности // Советская музыка. 1951. № 5. С. 77.
(обратно)302
Следует, однако, упомянуть, что часть материала взята из довоенных набросков к симфонии, которая должна была быть посвящена событиям конца 30-х гт. в Советском Союзе.
(обратно)303
Шостакович Д. О подлинной и мнимой программности. С. 77.
(обратно)304
Цит. по: Rabinovich D. Op. cit. P. 70.
(обратно)305
Валериан Богданов-Березовский вспоминает об этом дважды: в своих дневниковых заметках (Богданов-Березовский В. Из дневника военных лет: Фрагменты. 1941 год // В годы Великой Отечественной войны: Воспоминания, материалы. Л., 1959. С. 130–131) и в «Ленинградской правде» от 11 августа 1942 г. Приведенная цитата содержит фрагменты обоих высказываний.
(обратно)306
Московский большевик. 1942. 19 апреля.
(обратно)307
Там же.
(обратно)308
«…Это был замечательный друг». С. 80–81.
(обратно)309
Szneerson G. Dymitr Szostakowicz — w 55 rocznick urodzin // Ruch Muzyczny. 1961. № 19. S. 6.
(обратно)310
Chentowa S. Dymitr Szostakowicz // Ruch Muzyczny. 1966. № 18. S. 6.
(обратно)311
Цит. по: Шнеерсон Г. Жизнь музыки Шостаковича за рубежом // Д. Шостакович: Статьи и материалы. С. 231.
(обратно)312
Там же. С. 231–232.
(обратно)313
Там же.
(обратно)314
Patkowski М. Koncert w sali kolumnowej… // Kultura. 1967. 5 listopada.
(обратно)315
Богданов-Березовский В. Седьмая симфония Шостаковича // Ленинградская правда. 1942. 11 августа.
(обратно)316
У Шостаковича // Учительская газета. 1942. 10 сентября.
(обратно)317
Шостакович Д. Замечательный оркестр // Литература и искусство. 1942. 1 августа.
(обратно)318
Цит. по: Rabinovich D. Op. cit. P. 72.
(обратно)319
«…Это был замечательный друг». С. 81.
(обратно)320
Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 72.
(обратно)321
«…Это был замечательный друг». С. 82.
(обратно)322
Там же.
(обратно)323
Поначалу Соната замышлялась как четырехчастная, о чем свидетельствует письмо к Шебалину от 19 февраля 1943 г. Во время работы первоначальная концепция претерпела изменение (что достаточно редко для Шостаковича).
(обратно)324
Шагинян М. 50 писем Д. Д. Шостаковича. С. 132–133.
(обратно)325
Восьмая симфония: Беседа с композитором Д. Шостаковичем // Литература и искусство. 1943. 18 сентября.
(обратно)326
Цит. по: Друскин М. Исследования, воспоминания. Л.; М., 1977. С. 245.
(обратно)327
Цит. по: Niestiew I. Pażdziernik a muzyka // Ruch Muzycny. 1967. № 20. S. 4.
(обратно)328
Цит. по: Михеева Л. И. И. Соллертинский: Жизнь и наследие. Л., 1988. С. 166.
(обратно)329
Информационный сборник ССК СССР. М., 1945. № 7–8. С. 52. О том, как отличались друг от друга во всех отношениях Прокофьев и Шостакович и как мало им было что сказать друг другу, свидетельствует ход одной из их встреч в Иванове. Прокофьев Шостаковичу: «Вы знаете, я здесь интенсивно работаю над моей Шестой симфонией. 1 часть уже готова (тут композитор подробно описал ее форму), теперь сижу над второй, которая построена на трех темах, зато третья будет в сонатной форме. Таким способом я хотел бы компенсировать недостаток сонатных элементов в предыдущих частях». Шостакович: «Неужели в Иваново всегда такая погода?» (Zytomirski D. Blindheit als Schutz vor der Warheit. Berlin, 1996. S. 270).
(обратно)330
Мартынов И. Цит. соч. С. 105.
(обратно)331
Асафьев Б. Восьмая симфония Шостаковича. С. 4.
(обратно)332
Rodzińska Н. Nasze wspólne Życie. Warszawa, 1980. S. 449.
(обратно)333
Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 14.
(обратно)334
Кончин Е. Музыкант и его встречи в искусстве // Музыкальная жизнь. 1978. № 11. С. 3.
(обратно)335
Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М., 1989. С. 121–122.
(обратно)336
Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. М.: DSCH; СПб.: Композитор, 1993. С. 64.
(обратно)337
Цит. по: Михеева Л. История одной дружбы. С. 84.
(обратно)338
«…Это был замечательный друг». С. 83.
(обратно)339
Цит. по: Орлов Г. Симфонии Шостаковича. С. 221.
(обратно)340
Там же.
(обратно)341
Житомирский Д. Из впечатлений минувших лет // Д. Шостакович: Статьи и материалы. С. 183–184.
(обратно)342
Нестьев И. Заметки о творчестве Д. Шостаковича // Культура и жизнь. 1946. 30 сентября.
(обратно)343
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 216.
(обратно)344
Там же.
(обратно)345
Юдин Г. В молодые годы // Советская музыка. 1986. № 9. С. 38.
(обратно)346
Кусевицкий С. «…Приобщение человека к вселенским интересам» // Советская музыка. 1975. № 1. С. 105.
(обратно)347
Цит. по: Brockhaus Н. A. Dmitri Schostakowitsch. Leipzig, 1962. S. 103.
(обратно)348
Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). М., 1948. С. 170.
(обратно)349
«…Уцелел, потому что смеялся»: Беседа с Никитой Богословским // Огонек. 1990. № 45. С. 27.
(обратно)350
Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). С. 21, 24.
(обратно)351
Там же. С. 20, 21.
(обратно)352
Советская музыка. 1948. № 1. С. 4–8.
(обратно)353
Максим Шостакович о своем отце // Время и мы. 1982. № 69 С. 183.
(обратно)354
Вишневская Г. Цит. соч. С. 262.
(обратно)355
Советская музыка. 1948. № 1. С. 66–67.
(обратно)356
Поэма о Родине, ор. 74, — второстепенное произведение Шостаковича. Сочиненное по случаю тридцатилетия Октябрьской революции, оно является не столько оригинальной композицией, сколько попурри из массовых песен Александрова, Атурова, Дунаевского, Мурадели и собственных песен Шостаковича.
(обратно)357
Цит. по: Житомирский Д. На пути к исторической правде // Музыкальная жизнь. 1988. № 13. С. 5.
(обратно)358
Все цитаты заимствованы из публикации этого выступления в журнале «Советская музыка» (1948. № 1. С. 54–62).
(обратно)359
Первый Всесоюзный съезд советских композиторов: Стенографический отчет. М., 1948. С. 343.
(обратно)360
Первый Всесоюзный съезд советских композиторов. С. 355.
(обратно)361
«…Уцелел, потому что смеялся». С. 28.
(обратно)362
Так Асафьев выразился в своем докладе на съезде композиторов.
(обратно)363
Коваль М. Творческий путь Шостаковича // Советская музыка. 1948. № 2–4.
(обратно)364
К новому подъему советского искусства: Собрание московских писателей // Литературная газета. 1948. 3 марта.
(обратно)365
К работе над «Райком» композитор возвращался неоднократно. Первый, самый большой фрагмент он сочинил непосредственно после событий 1948 г.
(обратно)366
Очередной фрагмент произведения появился в 1950-е гг., вскоре после II съезда Союза советских композиторов, на котором выступавший с официальной речью партийный и государственный деятель, член-корреспондент Академии наук СССР (!) Дмитрий Шепилов показал поразительное невежество, постоянно делая неправильное ударение в фамилии Римского-Корсакова.
(обратно)367
Цит. по: Gojowy D. Schostakowitsch mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. Reinbek bei Hamburg, 1983. S. 97–98.
(обратно)368
Атовмьян Л. Из воспоминаний. С. 77.
(обратно)369
После довоенных поездок в Германию и Турцию Шостакович в 1947 г. посетил Чехословакию и участвовал в фестивале «Пражская весна», где выступил в качестве пианиста на камерном авторском вечере и был свидетелем триумфа своей Восьмой симфонии. Он принял также участие в Международном конгрессе композиторов и критиков в Праге, прочитав доклад «О жизни и работе советского композитора».
(обратно)370
Nabokov N. Zwei rechte Schuhe im Gepäck: Erinnerungen eines russischen Weltbürger. München; Zürich, 1975. S. 313–314.
(обратно)371
По-другому он выразился в 1968 г. в разговоре с автором этой книги: «Квартеты Бартока — великолепная школа для композитора. Каждый следующий лучше предыдущего».
(обратно)372
Цит. по: Schwarz В. Musik und Musikleben in der Sowietunion 1917 bis zur Gegenwart. T. 1–3. Wilhelmshaven; Locarno; Amsterdam, 1982. S. 406.
(обратно)373
Через несколько лет его постигла подобная же неприятность, когда Британская народная корпорация пригласила его в Шеффилд, а власти отказали ему в визе.
(обратно)374
Le monde de la Musique. 1989. № 1.
(обратно)375
Беседа Нелли Кравец с Эльмирой Назировой // Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения. С. 42.
(обратно)376
Хренников Т. За новый подъем советской музыки // Советская музыка. 1949. № 12. С. 47.
(обратно)377
Szostakowicz D. Nieoceniona pomoc // Literature radziecka. 1950. № 4.
(обратно)378
Musik und Gesellschaft. 1951. № 1. S. 21.
(обратно)379
Кондрашин К. Мои встречи с Д. Д. Шостаковичем // Д. Шостакович: Статьи и материалы. С. 88–89.
(обратно)380
Jackowski A. Na skróty. Sejny, 1995. S. 352–353.
(обратно)381
Źytomirski D. Blindheit als Schutz vor der Wahrheit. S. 284–285.
(обратно)382
Ражников В. Цит. соч. С. 201.
(обратно)383
Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. С. 98–99.
(обратно)384
Seehaus L. Dmitrij Schostakowitsch. Wilhelmshaven, 1986. S. 114–115.
(обратно)385
Ответственность поколения. New York, 1981. С. 54.
(обратно)386
Цит. по: Караев К. Статьи, письма, высказывания. М., 1978. С. 52.
(обратно)387
Письмо от 28 августа 1953 г. Цит. по: Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. С. 104.
(обратно)388
Цит. по: Кравец Н. Новый взгляд на Десятую симфонию Шостаковича // Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения. С. 234.
(обратно)389
См. указанную статью Н. Кравец, а также напечатанную в том же сборнике беседу Нелли Кравец с Эльмирой Назировой.
(обратно)390
Хентова С. В мире Шостаковича. С. 184.
(обратно)391
Значительное явление советской музыки: Дискуссия о Десятой симфонии Д. Шостаковича // Советская музыка. 1954. № 6. Все описание дискуссии опирается на этот отчет.
(обратно)392
Кабалевский Д. Дискуссионные заметки о симфонизме // Советская музыка. 1955. № 5. С. 5.
(обратно)393
Речь Председателя Совета Министров Союза ССР товарища Г. М. Маленкова // Известия. 1953. 16 марта.
(обратно)394
Шостакович Д. Радость творческих исканий // Советская музыка. 1954. № 1. С. 41.
(обратно)395
Фрагменты писем заимствованы из книги: Караев К. Статьи, письма, высказывания. С. 53–54.
(обратно)396
Здесь и далее письма Шостаковича к Э. Денисову цитируются по копиям, любезно предоставленным мне Эдисоном Денисовым.
(обратно)397
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 308.
(обратно)398
Там же.
(обратно)399
Sollertinsky D. and L. Op. cit. P. 138.
(обратно)400
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1980. С. 480.
(обратно)401
Смотр композиторов Москвы // Советская музыка. 1957. № 1. С. 151.
(обратно)402
Хренников Т. Состояние и задачи советского музыкального творчества // Советская музыка. 1957. № 5. С. 26.
(обратно)403
Там же.
(обратно)404
За сплочение творческих сил под знаменем социалистического реализма: Выступление на Втором всесоюзном съезде композиторов // Советская музыка. 1957. № 7. С. 66.
(обратно)405
Советская музыка. 1958. № 7.
(обратно)406
Вишневская Г. Цит. соч. С. 286–287.
(обратно)407
Там же. С. 268.
(обратно)408
Там же. С. 269.
(обратно)409
Процедура оказалась неожиданно простой: брак был признан недействительным, поскольку выяснилось, что Маргарита Андреевна не удосужилась оформить развод со своим первым мужем.
(обратно)410
Brockhaus Н. A. Op. cit. S. 96.
(обратно)411
Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 14.
(обратно)412
Этот факт тоже оказался осмеянным в «Райке».
(обратно)413
Moskiewskie spotkania «Parnasika» // Radio i Telewizja. 1958. № 46.
(обратно)414
Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. С. 145.
(обратно)415
Черемушки — жилой район в Москве.
(обратно)416
См.: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 358.
(обратно)417
Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. С. 159.
(обратно)418
Цит. по: International Musician. 1959. № 1. P. 10.
(обратно)419
Musical America. 1959. December 1.
(обратно)420
Schwarz B. Op. cit. S. 522.
(обратно)421
New York Times. 1959. November 19.
(обратно)422
Цит. по: Гаук А. Мемуары, избранные статьи, воспоминания современников. М., 1975. С. 149.
(обратно)423
Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. С. 160–161.
(обратно)424
Сто пятнадцать минут и одна секунда: Говорит Дмитрий Шостакович // Литературная газета. 1979. 1 августа.
(обратно)425
Новый музыкальный радиожурнал: Д. Шостакович рассказывает о своей работе над Двенадцатой симфонией // Музыкальная жизнь. 1960. № 21. С. 10.
(обратно)426
Сто пятнадцать минут и одна секунда.
(обратно)427
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 368.
(обратно)428
New York Times. 1962. September 5.
(обратно)429
Ответственность поколения. С. 54–55.
(обратно)430
Le Monde de la Musique. 1989. № 1.
(обратно)431
Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) — академик. Начал свою карьеру как провинциальный агроном. Шарлатан, создавший псевдонаучные теории, с помощью которых ему удалось уничтожить советскую генетику и нанести неисчислимый вред сельскому хозяйству. Жертвами доносов Лысенко пали многие выдающиеся ученые. Любимец Сталина, необыкновенно ловкий, он продолжал свое дело и при Хрущеве. Положение монополиста и диктатора в области биологии было отнято у него только после 1964 г.
(обратно)432
Цит. по: Медведев Р. Н. С. Хрущев: Политическая биография. М., 1990. С. 253. Следует заметить, что, как подчеркивает Ф. Бурлацкий в статье «Хрущев. Штрихи к политическому портрету» («Литературная газета». 1988. 24 февраля), приглашение Хрущева на московскую выставку было провокацией, тщательно подготовленной его консервативным окружением. В частности, сценарий предусматривал показ живописи такого рода, которой Хрущев не понимал и не выносил. Существует несколько разных версий стычки между Эрнстом Неизвестным и первым секретарем ЦК КПСС. Элий Белютин в статье «Хрущев и Манеж» (Дружба народов. 1990. № 1) пишет, что, когда Хрущев бросил взгляд на первые экспонаты абстрактного искусства, он сразу зарычал от ярости: «Вы что — мужики или педерасты проклятые…»
(обратно)433
Медведев Р. Н. С. Хрущев. С. 256.
(обратно)434
Речь Хрущева опубликована в «Правде» (1963. 10 марта).
(обратно)435
Альшванг А. Идейный путь Стравинского // Советская музыка. 1933. № 5. С. 90.
(обратно)436
Нестьев Я. Долларовая какофония // Известия. 1951. 7 января.
(обратно)437
Craft R. Stravinsky: Chronicle of a Friendship 1948/71. New York, 1972. P. 206.
(обратно)438
См. примечание 200. Кстати, Стравинский весьма редко позволял себе хорошо высказываться о других композиторах.
(обратно)439
Правда. 1960. 30 апреля.
(обратно)440
Советская музыка. 1961. № 7.
(обратно)441
Советская музыка. 1962. № 1. С. 9.
(обратно)442
Музыкальная жизнь. 1962. № 2.
(обратно)443
Шостакович Д. Беседа с молодыми композиторами // Советская музыка. 1955. № 10. С. 17.
(обратно)444
Здесь уместно привести воспоминания Евгения Евтушенко о композиторе: «К сожалению… мне не нравились многие его статьи, доклады. Это были пустые восхваления партии, социалистического реализма. <…> Я однажды упрекнул за это Дмитрия Дмитриевича. Он был человек совестливый, беспощадный и признал, что я прав… „Но зато в музыке я ни разу не подписал ни одной ноты, о которой бы я не думал… Может быть, мне хотя бы за это простится…“» (Евтушенко Е. Цит. соч. С. 376–377).
(обратно)445
Кондрашин К. Цит. соч. С. 90.
(обратно)446
Szneerson G. List z Moskwy // Ruch Muzyczny. 1962. № 4, 5.
(обратно)447
Гликман И. «…Я все равно буду писать музыку». С. 47.
(обратно)448
Gojowy D. Op. cit. S. 9.
(обратно)449
Цит. по: Данилевич Л. Дмитрий Шостакович. С. 190.
(обратно)450
Евтушенко Е. Цит. соч. С. 372–373.
(обратно)451
Blokker R., Dearling R. The music of Dmitri Shostakovich: The Symphonies. London, 1979. P. 138–139.
(обратно)452
Ладыгина А. Слушая Тринадцатую симфонию // Советская Белоруссия. 1963. 2 апреля.
(обратно)453
Кабалевская М., Кабалевский Ю. «Казнь „Леди Макбет“» // Советская культура. 1989. 16 ноября. Здесь следует подчеркнуть, что Кабалевский прославился исключительной угодливостью по отношению к властям, а будучи в руководстве Союза композиторов, старался не допускать исполнения произведений своих знаменитых коллег. Геннадий Рождественский вспоминал: «После смерти Сергея Сергеевича (Прокофьева. — К. М.) она [вдова] передала мне партитуру Четвертой симфонии — вторую редакцию. Я, конечно, мечтал исполнить это сочинение. Но для этого нужно было получить разрешение! Я отправился в Союз композиторов к Дмитрию Борисовичу Кабалевскому, чтобы показать ему партитуру симфонии, но он посмотреть партитуру почему-то отказался, сказав, что нужно предварительно устроить прослушивание. Я сделал переложение для двух фортепиано в восемь рук, которое и исполнил вместе со своими товарищами по консерватории. Кабалевский, прослушав гениальное сочинение композитора, которого он в своих воспоминаниях называет „один из самых ярких, талантливых и самобытных представителей нашего музыкального искусства“, сказал, однако, что исполнить ее сейчас означает оказать медвежью услугу автору. Я исполнил симфонию позже, в 1957 году…» (Из воспоминаний Н. П. Рождественской и Г. Н. Рождественского // Прокофьев Сергей (1891–1991): Дневник, письма, беседы, воспоминания. С. 259.)
(обратно)454
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 450.
(обратно)455
Беседа с Д. Д. Шостаковичем: Новые произведения посвящаю 50-летию великого Октября // Правда. 1964. 19 февраля.
(обратно)456
Шостакович Д. Служение правде // Советская культура. 1965. 22 мая.
(обратно)457
Петров А. Семь нот волшебной фразы // Литературная газета. 1979. 1 мая.
(обратно)458
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 454.
(обратно)459
Там же.
(обратно)460
Максим Шостакович о своем отце. С. 174.
(обратно)461
«У нас чудесный слушатель»: Дмитрий Шостакович отвечает на вопросы // Музыкальная жизнь. 1966. № 17. С. 7.
(обратно)462
Максим Шостакович о своем отце. С. 174.
(обратно)463
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 416.
(обратно)464
Ражников В. Цит. соч. С. 194.
(обратно)465
Кондрашин К. Цит. соч. С. 94.
(обратно)466
Отчет Д. Шостаковича о пребывании в Эдинбурге записан с грампластинки «Говорит Дмитрий Шостакович» («Мелодия», М 40–41 711).
(обратно)467
Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 410.
(обратно)468
Вишневская Г. Цит. соч. С. 418–419.
(обратно)469
Шагинян М. Цит. соч. С. 134.
(обратно)470
Советская музыка. 1966. № 9. С. 6.
(обратно)471
Первый романс — для сопрано и виолончели, второй — для сопрано и фортепиано, третий — для сопрано и скрипки, четвертый — для сопрано, виолончели и фортепиано, пятый — для сопрано, скрипки и фортепиано, шестой — для сопрано, скрипки и виолончели, седьмой — для всего состава.
(обратно)472
Ойстрах Д. Великий художник нашего времени // Д. Шостакович: Статьи и материалы. С. 29–30.
(обратно)473
Это письмо воспроизведено на конверте грампластинки с записью концерта в исполнении Давида Ойстраха («Мелодия», С–10–06 907–8).
(обратно)474
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 509–510.
(обратно)475
Там же. С. 508–509.
(обратно)476
Цыганов Д. Цит. соч. С. 32.
(обратно)477
Предисловие к премьере: Новая симфония Шостаковича // Правда. 1969. 25 апреля.
(обратно)478
Максим Шостакович о своем отце. С. 179.
(обратно)479
Цит. по: Абрамов А. Реквием для струнного квартета // Новое русское слово — Russian Daily. 1982. 23 мая.
(обратно)480
Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 535–536.
(обратно)481
Цит. по: Хентова С. Шостакович: Тридцатилетие (1945–1975). Л.,1982. С. 302.
(обратно)482
Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 540.
(обратно)483
Беседа, имевшая место 13 июня 1973 г. в Нью-Йорке, записана на грампластинке «Говорит Д. Шостакович» («Мелодия», М 40–41 712).
(обратно)484
Шагинян М. 50 писем Д. Д. Шостаковича. С. 150.
(обратно)485
Wallek-Walewski М. Cztemasta… Pietnasta… // Odra. 1973. № 4.
(обратно)486
Сахаров А. О стране и мире. Нью-Йорк, 1976. С. 34.
(обратно)487
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет. [Т.] 1. М., 1966. С. 358.
(обратно)488
Брежнев Л. И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. М., 1972. С. 27.
(обратно)489
Солженицын А. На возврате дыхания и сознания // Из-под глыб: Сборник статей. Москва; Париж, 1974. С. 8.
(обратно)490
Вишневская Г. Цит. соч. С. 453.
(обратно)491
Цит. по: Гершкович А. Роберт Осборн поет «Бесов» // Новое русское слово — Russian Daily. 1983. 23 ноября.
(обратно)492
Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 573.
(обратно)493
Там же. С. 564.
(обратно)494
Об этом мне рассказала Ирина Антоновна Шостакович.
(обратно)495
Долгополов М. Почетный проигрыш // Спутник. 1975. № 6. С. 105–106.
(обратно)496
Мравинский Е. Тридцать лет с музыкой Шостаковича. С. 113.
(обратно)497
Айтматов Ч. К портрету художника // Советская музыка. 1976. № 9. С. 11.
(обратно)498
Письмо из архива Ирины Богачевой. Публикация: Хентова С. Шостакович. Т. 2. С. 559.
(обратно)499
Цыганов Д. Полвека вместе. С. 31.
(обратно)500
Ту же песню в 1909 г. по просьбе Шаляпина оркестровал Игорь Стравинский.
(обратно)501
Нестеренко Е. Счастье творческого общения // Музыкальные кадры (газета Ленинградской консерватории). 1976. 30 сентября.
(обратно)502
Chenlowa S. Pożegnanie z Dymitrem Szostakowiczem // Ruch muzyczny. 1976. № 8.
(обратно)503
Другие мои воспоминания о Шостаковиче опубликованы в журнале «Das Orchester» (1976. № 9).
(обратно)504
В названиях издательств используются следующие аббревиатуры: ВТО — Всесоюзное театральное общество; СК — «Советский композитор»; ССК — Союз советских композиторов СССР.
(обратно)505
Под этим же номером опуса значится вокально-симфоническая сюита «Родной Ленинград» (см. раздел «Музыка для драматического театра и кино»).
(обратно)506
Симфонии № 2, 3 см. в разделе «Произведения для хора и оркестра», симфонии № 13, 14 — в разделе «Произведения для голоса и оркестра».
(обратно)507
В дальнейшем автор присвоил этот номер опуса музыке к к-ф. «Любовь и ненависть».
(обратно)508
В дальнейшем автор присвоил этот номер опуса музыке к киноопере «Сказка о попе и о работнике его Балде».
(обратно)509
В дальнейшем автор присвоил этот номер опуса оратории «Песнь о лесах».
(обратно)510
В дальнейшем автор присвоил этот номер опуса музыке к к-ф. «Приключения Корзинкиной».
(обратно)511
Под тем же номером опуса значится версия этого цикла для голоса и ф-п.
(обратно)
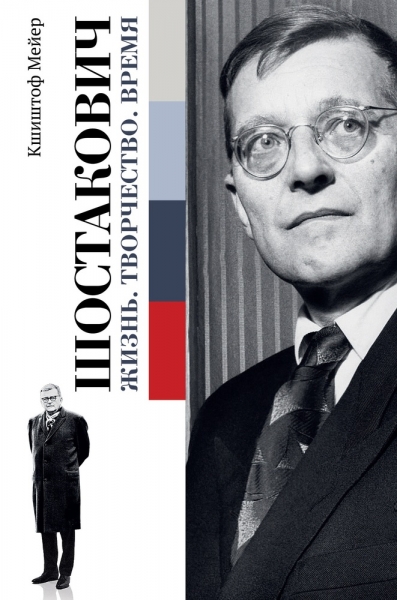

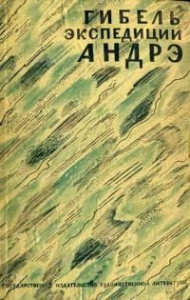
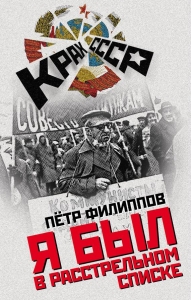

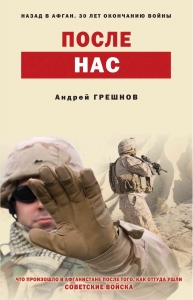
Комментарии к книге «Шостакович: Жизнь. Творчество. Время», Кшиштоф Мейер
Всего 0 комментариев