Игорь Ефимов ПЯТЬ ФАРАОНОВ ДВАДЦАТОГО ВЕКА Групповой портрет с комментариями
То, что все тираны, взлетев к вершине абсолютной власти, применяли одинаково безжалостные рычаги управления, что они и характерами, и стратегией своей делались похожими друг на друга, — очевидный и доказанный исторический факт.
Предуведомление
Не было ещё в истории мира столетия, которое могло бы сравниться с веком двадцатым по числу и опустошительности военных пожаров, политических ураганов, революционных землетрясений, миграционных потопов и наводнений. Одно за другим рухнули здания великих многонациональных империй — Испанской, Австрийской, Германской, Турецкой, Британской, Китайской, Российской. На месте развалин вырастали государственные постройки, использовавшие в качестве скрепляющей извести не своды законов, а полицейскую и армейскую дисциплину. Место монархов, власть которых оставалась в рамках морали и религии, занимали диктаторы, власть которых была абсолютной и безжалостной.
Мы страшимся повторения этих катастроф в веке 21-ом, вглядывемся в облака дыма над полями отгремевших сражений, в миллионные горы трупов, заваливших все страны и континенты. Как это могло случиться? Какие силы сталкивались в небывалых побоищах? Откуда выпрыгивали новые повелители казалось бы цивилизованных народов, превзошедшие по свирепости Аттилу, Чингизхана, Батыя, Тамерлана?
Попыткой ответить на эти вопросы и является предлагаемая читателю книга. Для исследования в ней выбраны судьбы пяти наиболее заметных диктаторов: Сталина, Муссолини, Гитлера, Мао Цзедуна, Кастро. Были, конечно, и десятки других, не менее кровавых, но и пятёрка выбранных даёт нам достаточный материал для важных обобщений.
Прежде чем погрузиться в перелистывание исторических летописей, я должен предупредить читателя о том, что моё осмысление ушедших в прошлое политических событий во многих пунктах отличается от общепринятого.
Во-первых, вглядываясь в пять тысячелетий доступной нашему обозрению человеческой цивилизации, я был вынужден отказаться от предложенной Марксом (и ставшей такой популярной!) сетки координат: рабовладельческий строй, феодальный, капиталистический, социалистический. Рабский труд и работорговля активно использовались в 19-ом веке в США, Индии и Китае, трудовые лагеря в Сталинской России и Гитлеровской Германии были ничем иным как возрождением рабства в веке 20-ом. Наоборот, многие черты социализма, то есть государственного управления экономикой, мы находим уже в Древнем Египте и Древнем Китае с их централизованным планированием строительства храмов, пирамид, ирригационных сооружений.
Необратимый прогресс цивилизации происходит не в сфере политико-экономических формаций (они могут исчезать, возрождаться, видоизменяться), а в сфере овладения силами природы. Он протекает ступенчато: народ-охотник постепенно превращается в кочевника-скотовода, далее следует осёдлый земледелец, далее — народ-машиностроитель. Переход с одной ступени на другую может занять сто, двести, триста лет, может вообще не состояться, и тогда народ растворяется в более высокой цивилизации или исчезает с исторической арены, как исчезли, например, кельты, кимвры, скифы и десятки других племён.
Главная черта перехода со ступени на ступень: острейшие внутренние конфликты и иррациональная враждебность по отношению к народам, вступившим на более высокую ступень. Именно это мы наблюдаем сегодня у народов Третьего мира, оказавшихся перед необходимостью перехода с земледельческой ступени на индустриальную. Индустриальный же мир вынужден защищаться, но одновременно восходит на следующую ступень — назовём её электронно-космической, — и здесь его ждут новые социально-политические катаклизмы.[1]
Другое отличие от принятых моделей исторического анализа: я пытаюсь вглядываться не столько в противоборство народов и их лидеров, сколько в связь между историческими событиями и бурлением океана человеческих страстей. Противоборство между различными классами, конечно, тоже имеет место, но не оно является доминантой исторического развития. В истории многих гражданских войн народ раскалывается на два враждебных лагеря сверху донизу. В обеих армиях мы видим представителей всех классов, верхних и нижних. И очень часто инициаторами революционного брожения выступают как раз представители элиты.
В любом животном организме мы обнаружим четыре основные функции, обеспечивающие его жизнедеятельность: мышечно-костная система осуществляет перемещение в пространстве; желудочно-кишечная и кровеносная — необходимый обмен веществ; органы чувств — ориентацию в окружающей среде; волевое начало руководит поступками. Такие же четыре функции мы обнаружим в каждом человеческом сообществе, образующем единый организм: труд, обмен продуктами труда, познание среды обитания, отдачу приказов для коллективных действий. На нижних, племенных формациях, каждый член племени выполняет все четыре функции: он и трудится, он и ведёт обмен с соплеменниками, он и собирает информацию об окружающем мире и совершает положенные богослужения, он и принимает участие в племенном совете, решающем идти на бой или укрыться в горах, пустынях, степях от опасного врага.
Великий переход от племенной организации к государственной состоял в том, что выполнение четырёх функций было разделено между людьми. Трудом стали заниматься рабочие и крестьяне, товарообменом и планированием — торговцы и финансисты, познанием среды — священнослужители и учёные, принятием решений обязательных для всех подданных — правители и воины. Опасное упрощение, допущенное Марксом при создании социальной модели, состояло в том, что он исключил из рассмотрения вторую функцию — назовём её распорядительной. Важнейшего участника общественной жизни, распорядителя, он объявил бездельником, паразитом, эксплуататором, подлежащим отбросу на свалку истории. Частного владельца он предложил заменить чиновником-специалистом, который будет управлять заводами, шахтами, кораблями, поездами наилучшим образом и главное — бескорыстно.
Чему можно уподобить такую операцию? Её можно сравнить с хирургическим удалением из животного организма всех желёз, регулирующих дыхание, кровообращение, пищеварение. Без распорядителя не может существовать никакое общество, как не может существовать организм без обмена веществ. Эта функция существует всегда, но её можно распределять в разных пропорциях между тремя возможными исполнителями: частный владелец на свободном рынке, корпорация (храм, цех, гильдия, сельская община) или государственный чиновник. Коммунистические государства, взявшие на вооружение марксову модель и отстранившие частника и корпорацию от участия в распорядительной функции, заплатили за это катастрофическим обеднением. Были моменты, когда от голода народы спасались только тем, что выращивалось на приусадебных участках, составлявших один процент от всей обрабатываемой земли.
Спрашивается: почему же народы один за другим становились на этот пагубный путь, уничтожали свободный рынок и свободного предпринимателя? Мне видится единственный ответ на этот вопрос: потому что свободный рынок — это состязание; состязание чревато радостной победой одних и горестным поражением большинства, то есть неравенством; победивших будет в десять, в сто раз меньше, чем проигравших, а среди человеческих страстей одной из сильнейших остаётся зависть, которая рядится в благородные ризы борьбы за равенство.
Всюду, где из гула кровавого бунта на поверхность вырывался членораздельный лозунг, он содержал в себе призыв к равенству.
«Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?», — повторяли участники крестьянской войны в Германии 16-го века.
«Всех богатых и повелевающих избивать, как бешеных собак», — призывали последователи Томаса Мюнцера.
«Свобода, равенство, братство», провозглашали якобинцы, ведя к гильотине аристократов и прелатов.
«Ни один человек не должен повелевать другим!», провозглашали анархисты.
«Кто был ничем, тот станет всем!», распевали коммунисты.
Именно со страстью человека к равенству связано третье отличие моих представлений о политических и социальных реалиях от представлений, восторжествовавших в наши дни. В этих представлениях вот уже два века доминирует догмат Жан Жака Руссо о равенстве людей. То, что одни явно превосходят других своими талантами, энергней, умом, смелостью, объявляется побочными результатами социального неравенства. Просто кто-то с детства имел доступ к материальным благам, воспитанию, сокровищам культуры, правильному образу жизни, а кто-то не имел. Эта разница между людьми незначительна, её можно и нужно сглаживать, компенсировать специальными образовательными программами.
Мне довелось расти и созревать в недрах первого государства, в котором был уничтожен главный параметр неравенства — разница по богатству, институт частной собственности. Оставалась, конечно, разная обеспеченность партийной элиты и народной массы — но эту разницу стыдливо прятали за дверьми спец-распределителей, спец-курортов, за заборами правительственных дач, в палатах «ведомственных» больниц. Однако в повседневной жизни мне доводилось сотни раз сталкиваться с проявлениями иррацаональной враждебности ко мне и моим друзьям со стороны вахтёров, кондукторов, официантов, банщиков, продавцов, то есть так называемого «простого человека». Для этой враждебности мы не давали никакого повода. Мы жили так же бедно, как все, ютились в коммуналках, носили одежду «Москвошвея» и обувь фабрики «Скороход» — по каким же признакам нас обнаруживали и награждали клеймом «не наш», «не свой»?
Такими же загадочными казались мне волны страшного внутреннего террора, прокатившиеся по всем коммунистическим странам. Зачем всесильная власть убивала миллионы лояльных полезных подданных? Какой признак мог повлечь попадание в расстрельные списки НКВД? В котлованы ГУЛага? Под железные палки хунвейбинов? Под голубые пластиковые мешочки, натягиваемые на голову соплеменников «красными кхмерами»?
Полвека назад я попробовал сопоставить эти две загадки и высказать крамольное умозаключение:
Люди от рождение неравны, есть дальнозоркое меньшинство, которое способно видеть дальше близорукого большинства; это меньшинство вносит в жизнь большинства невыносимую тревогу, разрушает привычные и успокоительные картины мира, что в частной жизни приводит к необъяснимой враждебности, а в историко-социальной — к волнам необъяснимого внутри-государственного террора.[2]
Эту гипотезу я позднее подробно разработал, аргументировал, проиллюстрировал множеством примеров в книге «Стыдные тайны неравенства», опубликованной на стыке двух веков. Журнальный вариант её появился в журнале «Звезда» (1998–1999), русские издания вышли в 1999 и 2006, английское — в 2004. Были положительные рецензии, одобрительные и даже восторженные читательские отзывы. Некоторые, прочитав, покупали потом ещё два-три экземпляра, чтобы дарить знакомым. Энтузиасты даже осуществили издание printing-on-demand (zakazknigistn@gmail.com). Хотя труд этот обращён в основном к дальнозорким (в нём они названы «высоковольтные» в отличие от «низковольтных»), я предвижу, что именно им будет нелегко принять мою гипотезу. Ведь они привыкли гордиться своими талантами и образованностью и воображать, что служат ими своему народу. Допустить, что в народной массе их существование может вызывать тревогу, враждебность, даже порыв уничтожить — нелегко.
Приступая к новой книге, я буду исходить из допущения, что читатель знаком с моей гипотезой и мне нет нужды объяснять её терминологию и аргументировать главные тезисы заново. Тем, для кого мысль о врождённом неравенстве людей неприемлема, будет нелегко принять философские комментарии, следующие за каждой главой. Таким я хотел бы напомнить, что задолго до наших дней феномен врождённого неравенства людей привлекал внимание философов, политиков, пророков.
Именно его имел в виду Платон, когда писал, что человек может быть от рождения золотым, серебряным, медным или железным, и идеальное государственное устройство должно это учитывать и отдавать верховную власть «золотым».
Именно неравенство лежит в основе мысли Аристотеля о том, что «одни умеют предвидеть и предусматривать, а другие — нет, поэтому управлением должны заниматься именно прозорливые».
И в притче Христа о талантах, даруемых Творцом при рождении, — кому пять, кому два, кому один — речь идёт о том же самом.
Чтобы преодолеть конфликт между жаждой равенства в душе человека и необходимостью строить многоэтажную пирамиду государственного здания, большинство народов прибегало к системе каст и сословий. Рабы, плебеи, всадники, патриции в Древнем Риме, шудры, вайшья, кшатрии, брахманы в Индии, крепостные, мещане, дворяне, священнослужители в странах Европы — всё это были разные варианты решения одной и той же дилеммы. Человеку легче переносить сравнительное бесправие в нижних слоях общества, когда ему внушают, что таков священный обычай, одобряемый богами, что каждый предопределён рождением оставаться на «своём этаже».
Однако таланты и энергия не передаются по наследству. В нижних сословиях постепенно накапливается большое число людей, получивших от рождения «пять талантов». Они начинают ощущать своё положение как несправедливость, стремятся взорвать сложившуюся пирамиду неравенства — и происходит революция.
Все пять персонажей этой книги были вынесены к вершинам абсолютной власти революционными взрывами. Представляется важным, чтобы те, кто «умеет предвидеть и предусматривать» вгляделись в эти исторические катаклизмы, изучили их закономерности, оценили масштабы приносимых человеческих жертв и учитывали всё это, когда их снова захватит мечта о построении «светлого будущего».
Часть первая. БУНТАРИ И НИСПРОВЕРГАТЕЛИ
Летопись первая. ИХ ДЕТСТВО
Сосо
Иосиф Джугашвили был третьим ребёнком в семье — два первых мальчика умерли в младенчестве. Его мать, Екатерина Геладзе, которую все звали Кеке, дрожала над выжившим, простаивала на коленях перед иконами. Во время очередного недомогания родители совершили паломничество в соседний городок, пожертвовали церкви овцу и ждали совершения заказанного молебна. На их несчастье, ждать пришлось долго, потому что священник был занят изгнанием бесов из маленькой девочки. Иосиф (по-домашнему — Сосо) начал плакать и рваться из рук матери. Имеем ли мы право предположить, что бесы, изгнанные из девочки, тут же нашли себе новое обиталище и не покидали его во все последующие годы?[3]
Отец мальчика, Виссарион Джугашвили, владел сапожной мастерской в городе Гори. У него работало несколько подмастерьев, семья поначалу жила в достатке. Но грузинское вино в городских духанах продавалось так дёшево, что удержаться от соблазна было нелегко. Кроме того, злые языки стали распускать слухи, будто честь зачатия Сосо принадлежала кому-то другому. В качестве возможных кандидатов называли местного чемпиона по вольной борьбе, начальника полиции и даже священника. Впоследствии легенда, окружавшая диктатора, стала расширять список, добавив к нему знаменитого путешественника Пржевальского, будущего импретора Александра Третьего и многих других.[4]
Всё же среди всех претендентов на отцовство чаще других упоминали виноторговца Якова Эгнаташвили. Он опекал семейство Джугашвили с самого начала, крестил детей, снабжал оборудованием для сапожной мастерской. Кеке подрабатывала уборкой в его доме, он поддерживал мальчика в годы учёбы. Сыновья купца, Александр и Васо, сделали блестящую карьеру в советской иерархии. Когда Эгнаташвили умер в 1929 году, в Грузии это негласно отмечали как смерть отца генсека.[5]
То ли пьянство Виссариона поставило его сапожный бизнес на грань разорения, то ли, наоборот, деловые неудачи усугубляли порочную страсть, но этот когда-то любящий муж и отец превратился в невыносимого тирана. Он избивал сына и жену по всякому поводу, а чаще — просто вымещая на них кипевшее в нём озлобление. Однажды швырнул пятилетнего Сосо на пол с такой силой, что мать потом несколько недель замечала кровь в моче мальчика.[6]
Когда избитая Кеке не могла сдержать слёз по ночам, сын просил её: «Мама, не плачь, а то я тоже заплачу». Но похоже, что в биографии Сталина эти детские слёзы останутся последним проявлением сострадания. Способность к этому чувству была вытравлена в нём навсегда. В воспоминаниях его школьного товарища говорится: «Незаслуженные избиения сделали мальчика таким же жестоким и бессердечным, как его отец. Это от него он научился ненавидеть людей».[7]
Жизнь городских улиц тоже не могла научить гуманному обращению с ближним. Жители Гори имели в Грузии славу самых драчливых, необузданных, всегда готовых пустить в дело кулаки, камни, а то и кинжалы. Состязания борцов собирали толпы, зрители делали ставки, и проигравшие легко могли накинуться на выигравших.
У мальчишек одним из самых популярных развлечений было бежать рядом с телегой, уцепившись за колёсную ось. Во время одного такого «забега» Сосо подскользнулся, и колесо переехало его. Увидев окровавленного сына, принесённого в дом, Кеке чуть не лишилась чувств. Его левая рука осталась искалеченной навсегда.[8]
Тем не менее, мальчик старался не отставать в уличных схватках, сцеплялся и со сверстниками сильнее его. Матери опять приходилось обтирать его кровь, а потом — несмотря на всю любовь — пороть за непослушание. Остаться побеждённым было для Сосо мучительно. Однажды он боролся с соседским мальчишкой, и зрители признали, что матч кончился вничью. Противник повернулся к Сосо спиной и пошёл домой. Но тот вдруг налетел на него сзади с такой силой, что сбил с ног.[9]
Когда пишешь о детских годах тирана, так хочется отыскать в них поступки и черты, предвещавшие будущие злодейства! Как отрадно было бы узнать, что уже тогда он рубил кошкам хвосты и прибивал птенчиков гвоздями к стволу дерева! Увы, в случае с Иосифом Джугашвили это удаётся с большой натяжкой.
Во-первых, у мальчика открылся сказочный песенный дар. В церковных песнопениях ему часто поручали сольные партии, и его альт вызывал слёзы на глазах молящихся. Не раз он был приглашён петь на свадьбах за деньги, и подрабатывал этим и в годы юности. Его учитель пения вспоминал, что не только вокальный дар завораживал слушателей, но и явный драматический талант придавать исполнению торжественность.[10]
Во-вторых, он продемонстрировал способность влюбляться, когда ему едва исполнилось двенадцать. Они с матерью арендовали жильё у священника Чарквиани. А у того была дочь тех же лет, которой нужно было изучать русский язык. Сосо пришёл ей на помощь, и они много часов проводили вместе за занятиями. Своими лирическими чувствами Сосо делился со сверстниками. А брат девочки впоследствии утверждал, что он видел их не только за книгами, но и играющими в куклы.[11]
В-третьих, страсть к книгам и знаниям проснулась в Иосифе очень рано. В его роду не было людей, окончивших школу. Мать мечтала, чтобы мальчик пошёл учиться, но отец яростно восстал против этих планов. «Только через мой труп! — вопил он. — Мой сын будет сапожником, как и я!».[12]
Пьянство и дебоши старшего Джугашвили привели к тому, что полицмейстер приказал ему уехать из Гори. Сосо, поддерживаемый матерью, стал изо всех сил готовиться к вступительным экзаменам в церковную школу. Закон Божий, арифметика, чтение, русский язык были сданы так успешно, что мальчика приняли сразу во второй класс.[13]
Историк Эдвард Радзинский так описал одного из учителей в школе. «Дмитрия Хахуташвили ученики запомнили на всю жизнь. Он ввёл на уроках поистине палочную дисциплину. Мальчики должны были сидеть не шевелясь, положив руки на парту перед собой и глядя прямо в глаза страшному учителю. Если кто-то отводил глаза, тотчас получал линейкой по пальцам. Учитель любил повторять: “Глаза бегают — значит мерзость затеваешь”… Силу пристального взгляда и страх челвека, не смеющего отвести глаза, маленький Сосо запомнил навсегда.»[14]
Бесо Джугашвили не желал смириться с таким попранием его отцовского авторитета. Он тем временем поступил рабочим на обувную фабрику в Тбилиси. Из своего жалованья он иногда посылал деньги в семью, но чаще требовал, чтобы наоборот жена поддерживала его. А тут с его сыном снова случилась беда: на него наехал грузовой фургон. Удар оглоблей в голову был таким сильным, что мальчика пришлось отправить на лечение в Тбилиси. Отец воспользовался случаем, похитил подлеченного сына из больницы и устроил его подмастерьем на свою обувную фабрику. Двенадцатилетний Сосо был вынужден проработать на ней несколько месяцев. Пожалуй, это был единственный опыт его знакомства с настоящим пролетариатом, служение которому Сталин объявил впоследствии своим пожизненным призванием.[15]
Насилие было неотъемлемой частью окружающей жизни. Когда Сосо удалось сбежать от отца и вернуться к матери в Гори, он снова окунулся в мир, в котором кулаки и палки решали все споры. Драки на городских улицах и в духанах нередко кончались серьёзными травмами и увечьями. А в окружающих горах обитали настоящие бандиты, нападавшие на путешественников и даже устраивавшие ограбления городских богачей.
В школьные годы юному Сосо впервые довелось увидеть казнь. Три крестьянина были уличены в том, что они украли корову, а во время начавшейся погони убили полицейского. Эшафот с виселицами был установлен посреди городской площади. Вокруг него в две шеренги выстроились солдаты. Толпа зрителей была настроена враждебно. В её глазах виселицы, солдаты, священник с крестом — всё это были символы доминирования Российской империи. А осуждённые в кандалах выглядели героями-мучениками, защитниками национальной грузинской чести. Тем более, что вели себя они смело и вызывающе. Один отказался принять отпущение грехов от священника, другой весело переговаривался со знакомыми поверх солдатских штыков. Царская власть продемонстрировала свою некомпетентность: верёвка оборвалась под тяжестью повешенного. Одетому в красное палачу пришлось повторить всю процедуру с начала.[16]
На следующий день школьники обсуждали увиденное в богословских категориях. Попадут ли казнённые в ад? Видимо, нет. Это было бы несправедливо — ведь они уже понесли наказание на Земле. А Бог должен быть справедлив. Но в жизни кругом столько несправедливости — как же так? Может быть, Он не видит происходящего? Или дьявол демонстрирует свою силу? Но разве может дьявол быть в чём-то сильнее Бога?
И тут юный Сосо Джугашвили ошарашил своих сверстников:
— Рассуждать, справедлив Бог или нет, не имеет смысла, — объявил он. — Потому что его просто нет. Он не существует. Нас обманули.
— Что? Как? Ты с ума сошёл! Всё живое создано Богом. Все птицы, рыбы, бабочки, коровы, люди — разве не так?
— Всё это создано природой. Называется «естественный отбор».
И мальчик торжественно поднял над головой новое Священное писание безбожников 19-го века — книгу Чарлза Дарвина «О происхождении видов».[17]
Бенито
Этот мальчик промолчал первые три года своей жизни. Родители были встревожены, но в провинциальной северной Италии конца 19-го века нелегко было получить медицинскую помощь. Наконец, нашёлся врач, который осмотрел ребёнка и успокоил их, сказав: «Он будет говорить. Может быть, даже слишком много».[18]
В своей автобиографии Муссолини не без гордости приводит данные о заметных деятелях средневековой Болоньи, носивших ту же фамилию. Однако исследователи его генеалогии с уверенностью могут указать только на деда, который владел фермой и был лейтенантом национальной гвардии. Классовое происхождение отца тоже не было идеальным для последователя Карла Маркса: по профессии — кузнец, но также владелец молотилки. Тем не менее фашистская пропаганда уверенно настаивала на том, что предками «дуче» были крестьяне и рабочие.[19]
Отец, Алессандро Муссолини, был страстным республиканцем, социалистом, атеистом и сумел передать сыну свои убеждения полной мерой. В его изголовьи над супружеской кроватью висел портрет Гарибальди, а сына он назвал в честь мексиканского революционера Бенито Хуареса, того самого, который сопротивлялся французскому вторжению и в 1867 году победил и казнил навязанного Мексике императора Максимилиана Первого. Формального образования Алессандро не получил, однако был очень начитан в сфере истории и политики и сам писал статьи в республиканские газеты.[20]
По своим взглядам и характеру, мать Бенито, Роза, была прямой противоположностью мужу. В её изголовьи висела икона с изображением Мадонны, она исправно посещала церковь и вела начальную школу, размещавшуюся в задней части семейного дома. Она настояла, чтобы бракосочетание прошло в церкви. Алессандро, извиняясь за это перед друзьями-социалистами, объяснял: «Нет, я по-прежнему атеист. Но — атеист влюблённый».
Его влияние на детей было сильнее материнского. Отвозя сына на занятия в школу, руководимую священниками, он наставлял его: «Учи, главным делом историю и географию, но не давай им забивать тебе голову сказками про Христа и святых». «Не беспокойся, папа, — отвечал Бенито, — я знаю, что Бога нет».[21]
Вне школы и дома мальчик был неуправляем. Не упускал возможности развлечь себя какой-нибудь проделкой или хулиганством, которые сильно досаждали сверстникам и взрослым. Ввязываясь в драки, легко пускал в дело камень или перочинный нож. Проползал по полу под столами, чтобы больно щипать за ноги соучеников, обедающих в школьной столовой. Ученики были разделены на три разряда в соответсвии с доходом их семей, и Бенито особенно любил щипать богатых.[22]
Впрочем, настоящих богачей в окружающих местечках не было. Семьи различались не по степени богатства, а по степени бедности. Иметь одну пару башмаков на двоих было делом обычным, так же как одалживать хлеб или оливковое масло у соседей. В качестве топлива употреблялись дрова, но добывать их на каменистых отрогах Аппенинских предгорий было нелегко.
Несмотря на то, что Роза получала зарплату, Муссолини не вылезали из бедности… На ланч ели хлеб и овощной суп, который Алессандро разливал черпаком из большого глиняного горшка; обед состоял из салата. Только по воскресеньям семья из шести человек получала роскошную добавку: фунт варёной баранины.[23]
Бенито верховодил шайками мальчишек, воровавших айву в соседских садах, промышлявших браконьерством. В автобиографии он рассказывает, что мог целыми днями лазить по деревьям в поисках птичьих гнёзд. Что он делал с птенцами и яичками, не уточняет, но заверяет читателя, что в этом проявлялся его страстный интерес к вечным переменам в природе, его «любовь к юной жизни, которую он рвался защищать с ранних лет».[24]
Энергия бурлила в подрастающем мальчике неудержимо. Он устраивал себе спортивные забеги вокруг квартала, уговорив знакомого лавочника замерять время по часам с секундной стрелкой, и страшно огорчался, если результаты не улучшались. «Я был неугомонным и остался таким. Отдых ради отдыха кажется мне бессмыслицей. Мой день и тогда, и теперь начинался и кончался волевым актом».[25]
Одним из тяжёлых испытаний для непоседы были походы в церковь. «В церкви он никогда не задерживался. Он говорил, что его тошнит от запаха ладана, а облачения священнослужителей, свет горящих свечей, пение и звук органа действовали на него угнетающе.»[26]
Церковные наставники в школе не могли сладить с непослушным упрямцем. Однажды учитель ударил Бенито линейкой по пальцам, и тот в ответ запустил в него чернильницей. «В качестве наказания за эту выходку ему было назначено двенадцать дней стоять по четыре часа на коленях на рассыпанных зёрнах маиса. Директор объявил, что, если он попросит прощения, кара будет смягчена… Но ожесточение Бенито зашло уже слишком далеко, чтобы он мог просить о пощаде. Хотя на десятый день колени его начали кровоточить, он простоял молча до конца всего срока.»[27]
Школьных друзей у него не было. Один мальчик привязался к нему, но их особые отношения выражались странным образом: у мальчика был необычайно крепкий череп, и он разрешал Бенито бить себя кирпичом по голове. Наказания не помогали, необузданный нрав будущего дуче прорывался снова и снова. Когда во время драки он ударил противника перочинным ножом в бедро, терпение наставников кончилось, и его исключили из школы. Родителям пришлось устраивать его в другую.[28]
В воспоминаниях Муссолини очень снисходителен к своим детским проделкам:
«Допускаю, что я бывал непослушен и часто поступал неосторожно. Юности свойствено беспокойство и шалости. Учителя были снисходительны ко мне. До сих пор не могу с уверенностью объяснить, что было этому причиной: то, что они находили во мне какие-то способности, или то, что мой отец заслужил их уважение твёрдостью своих моральных и политических принципов».[29]
Огромное впечатление на Бенито произвела поездка в Равенну, которую вся семья совершила во время летних каникул. Этот город в 402 году сделался столицей Западной Римской империи, здесь укрывался император Гонорий от вторжения вестготов короля Алариха. Мавзолей дочери императора Феодосия, знаменитой Галлы Плацидии, был местом ежегодного паломничества историков, археологов, туристов, так же, как и развалины дворца короля Теодориха, гробница Данте, Базилика Сан-Витале и другие памятники. Не здесь ли в душе будущего повелителя Италии зародились мечты о возрождении славы и могущества Древнего Рима? Впервые в жизни он увидел море, и волны Адриатики остались в его памяти как манящая дорога для покорителя заморских территорий.
Конечно, мать Бенито переживала каждый раз, когда сын являлся домой перемазанный кровью, в изорванной одежде, с подбитым глазом. Но ещё больше она была испугана однажды, когда услышала, как в соседней комнате он громко разговаривал неизвестно с кем. Войдя, она застала его ораторствующим перед пустыми стенами. Встретив её изумлённый взгляд, Бенито сказал: «Когда-нибудь вся Италия будет трепетать, слушая мой голос».[30]
Адольф
Его отец, Алоис Гитлер был рождён немолодой австрийской крестьянкой от неизвестного отца. Впоследствии граждане Третьего рейха должны были доказывать, что как минимум в трёх поколениях их предков не было лиц еврейского происхождения. Как обходил эту проблему сам рейхсканцлер, чей дед по отцовской линии был неизвестен? И откуда появилась фамилия Гитлер? И что означает странное совпадение, обнаруженное позднее пронырливыми журналистами: на еврейском кладбище в Будапеште они нашли могильную плиту с надписью «Адольф Гитлер»? И не желание ли стереть следы своего происхождения вызвало приказ фюрера устроить артиллерийский полигон на месте его родных австрийских деревень Деллерсхайм и Штронес и перемешать их с землёй?[31]
Алоис Гитлер сумел получить начальное образование и сделать скромную карьеру, занимая различные посты в таможенной службе Австрийской империи. Мать Адольфа, Клара Пользль, была третьей женой Алоиса и при этом — его двоюродной племянницей. На их брак, по правилам католической церкви, потребовалось специальное разрешение из Рима, которого пришлось ждать так долго, что первый ребёнок родился через пять месяцев после бракосочетания. Уже став законной супругой, Клара продолжала называть мужа «дядя Алоис».[32]
Как и в семействе Джугашвили, первые дети супругов Гитлер умерли в младенчестве. Адольф родился 20 апреля 1889 года, в пасхальную субботу. Семья в то время жила в доме в окрестностях провинциального города Браунау, где служил отец. Места службы менялись, так что семье пришлось часто переезжать. Мать Адольфа была доброй, скромной, заботливой женщиной, исправно посещавшей церковь. В своей книге «Мейн Кампф» Гитлер пишет о ней с большой любовью, её фотография стояла у него на столе даже в последние дни в Берлинском бункере.[33]
Другое дело — отец. Судя по воспоминаниям современников, это был типичный провинциальный чиновник — надутый, придирчивый, педантичный, сухой, не склонный к эмоциям, лишённый чувства юмора. Детей он порол нещадно, а матери оставалось только стоять под дверью и со слезами слышать крики истязаемого сына. Похоже, он был «трудный» ребёнок и нередко давал поводы для наказаний.[34]
Начальную школу Адольф посещал в Линце, куда его отца перевели в 1898 году. Он быстро завоевал лидирующее положение среди одноклассников, умело доминировал над ними в проказах и играх. В окрестных лесах школьники разыгрывали битвы индейцев с белыми, о которых они читали в книгах невероятно популярного тогда австрийского писателя Карла Мая. Индеец Винниту стал для немецких подростков такой же легендой, какой был для американских и русских Чингачгук Большой Змей из романов Фенимора Купера. Позже газеты стали писать о войне в Трансваале, и буры, смело сражавшиеся со злодеями-англичанами, сделались любимыми персонажами лесных игр.
Всё связанное с войной манило маленького Адольфа неудержимо. Он пишет в своей книге «Мейн Кампф»:
«Роясь в книгах отца, я натыкался на книги о войне. Особенное впечатление на меня произвёл иллюстрированный сборник о франко-прусской войне 1870-71 года… Он стал моим любимым чтением. Героическое противоборство вдохновляло меня. С тех пор я безотказно приходил в волнение от всего связанного с войнами и с жизнью солдата».[35]
Другим стимулятором военных увлечений явился учитель истории, доктор Леопольд Потч. «Манеры этого старого джентльмена были мягкими и одновременно решительными. Его захватывающее красноречие завораживало нас и уносило в далёкое прошлое. Как чаровник он извлекал из-под тумана тысячелетий воспоминания былых лет и превращал их в реальность. Мы сидели охваченные энтузиазмом, а порой даже пускали слезу».[36]
В своих мемуарах Гитлер пишет, что учёба давалась ему легко, школьные задания казались до смешного простыми. Собирая потом воспоминания современников, психологи пришли к выводу, что мальчик с детства был одарён редким свойством — зеркальной памятью. Научное название этого свойства — «эйдетизм». Гитлер запоминал раз прочитанное чуть ли не дословно. Он поражал окружающих невероятными познаниями в самых разных сферах. Детали архитектуры знаменитых зданий, численность флотов различных стран, конструкции самолётов, даты рождения и смерти монархов, число погибших в больших сражениях — всё хранилось в его мозгу, как в энциклопедии, и извлекалось по мере надобности.[37]
На экзаменах ученик-эйдетик может попасть под подозрение в списывании, потому что в письменных работах он воспроизводит текст учебника почти дословно, включая опечатки. Гитлер любил затевать пари со своими соратниками и всегда побеждал. С архитектором Шпеером он спорил об особенностях собора в Кёльне, с профессиональным лётчиком Герингом — о вооружении британских истребителей; в докладах генералов обнаруживал цифровые расхождения с тем, что они сообщали месяц назад, и приходил в ярость, воображая, что его хотят обмануть.[38]
Если с одноклассниками юный Адольф обращался как с подчинёнными, с учителями мог быть груб, упрям, непослушен. Его воспоминания о школе полны сарказма и неприязни, под которые задним числом он подводил даже политическую платформу. Ему казалось, что пламенным германским националистом он стал уже тогда. Школа символизировала австрийскую империю, а эта империя, с его точки зрения, принижала немцев, ставила их в один ряд со славянскими народами, всеми этими чехами, поляками, сербами, хорватами, словенцами. Возможно, его упрямое противоборство с отцом тоже было окрашено его ранними политическими пристрастиями. Ведь отец был гордым служащим империи Габсбургов — значит, на него можно было свалить все её грехи, реальные и вымышленные.
«Мне едва исполнилось одиннцадцать лет, когда я первый раз стал оппозиционером. Мой отец был твёрд и решителен в достижении задуманных планов, но его сын был не менее упрям и непреклонен в своём отказе принять выбранную для меня судьбу.
Я не хотел становиться государственным служащим.
Никакие уговоры, никакие аргументы не могли сломить мою решимость. Я не хотел становиться государственным служащим — нет, нет, и ещё раз нет. Сколько отец ни пытался увлечь меня историями из своей собственной жизни и карьеры, результат получался прямо противоположный. Я зевал, меня тошнило от одной мысли проводить день, сидя в служебном кабинете. Лишиться свободы, не иметь возможности распоряжаться своим временем, потратить всю жизнь на заполнение бумаг — ни за что!»[39]
На вопрос «а кем же ты хочешь стать?» мечтатель Адольф отвечал: «Свободным художником». Это вызывало ярость отца и он восклицал в духе Бесо Джугашвили: «Никогда, покуда я жив!».[40]
Видимо, непредсказуемая причудница судьба подслушала эти крики, потому что в 1903 году Алоис Гитлер внезапно умер от удара.
Детство Адольфа закончилось.
Мао
Китай конца 19-го века не был по-настоящему независимым государством. Императорский трон занимала маньчжурская династия Цинь. Многие территории и важные порты находились под управлением иностранцев — британцев, французов, немцев, японцев. Постепенно активизировалась и деятельность христианских миссионеров. Дочь одного из них, американская писательница Перл Бак, лауреат Нобелевской премии по литературе 1938 года, впоследствии замечательно описала китайскую деревню в романе «Земля».[41]
Начинается роман с истории женитьбы бедного крестьянина. Своей невесты он не видел до дня бракосочетиния. Старик-отец просто сговорился с богатым семейством, и те за небольшую плату уступили ему одну из своих рабынь. Жених очень волновался, что она будет уродливой, рябой, кривоногой. Но ему повезло: девушка оказалась миловидной, послушной, необычайно трудолюбивой. Вся церемония свелась к скромному ужину с приглашёнными соседями. Места невесте за столом не нашлось.
Мать Мао Цзедуна не была рабыней, однако по мере бедности и бесправия его родители приближались к героям романа Перл Бак. Заботы о пропитании, жилье, одежде, урожае заполняли их жизнь с утра до вечера. Все жители деревни носили фамилию Мао, это был единый клан, ведущий родословную от предков, живших в 14-ом веке.[42] До появления на свет будущего «великого кормчего» 26 декабря 1893 года родители уже потеряли двух сыновей. Полная тревоги мать завернула сына в пелёнки из отцовских штанов (так требовала традиция) и совершила паломничество к буддистской монахине. Ребёнок был очень крупным, и мать тревожилась, что у них не хватит еды выкормить такого великана. Монахиня заверила её, что мальчик здоров и заслуживает того, чтобы его растили в семье, а не отдавали на воспитание в монастырь.[43]
У главы семейства, Мао Игана, после возвращения из армии в деревню открылась деловая хватка и энергия, и он постепенно прикупал землю к своему участку, а также занимался скупкой риса у соседей и перепродажей его в городе с хорошей надбавкой. Он часто приговаривал: «Бедность от того, что считать не умеют. Кто умеет считать, тот будет жить в достатке». Вместе с нанятыми батраками и новыми детьми кормить приходилось семь ртов, так что настоящего достатка всё не получалось. Мао Цзедун впоследствии вспоминал, что яйца и мясо появлялись на столе очень редко.[44]
Мать пыталась привить детям религиозное чувство, часто водила их в буддийский храм, мечтала, что старший сын станет монахом. Но тот, едва научившись читать, увлёкся китайскими историческими романами, повествовавшими о восстаниях, разбойничьих налётах, мятежах, о подвигах легендарных военачальников и авантюристов. Боевое братство и культ физической силы находили сильный отклик в душе мальчика.[45]
В начальной школе ученики также должны были знакомиться с классическими трактатами Конфуция. Без знания этих текстов в Китае невозможно было сделать карьеру. Конфуций учил молодых людей быть почтительными к старшим, добрыми, честными. Но Мао-сын очень скоро научился цитатами из великого философа парировать попрёки Мао-отца. Тому ничего не оставалось как пускать в дело бамбуковую палку или ремень. Семейные ссоры часто кончались побоями. Ненависть к отцу накпливалась в подростке год от года.[46]
Насилие было неизменной частью жизни в Китае той эпохи. Страшный бунт, получивший название «Восстание боксёров», полыхал на огромной территории, когда маленькому Мао исполнилось всего семь лет. Лозунгом восставших было изгнание «белолицых дьяволов», то есть иностранцев. Бунтующие захватили Пекин, осадили дипломатический квартал. В подавлении бунта приняли участие военные подразделения из Англии, Франции, Германии, Голландии, России и других стран. Многие бунтовщики были казнены, но отдельные шайки бандитов продолжали рыскать там и тут по всем провинциям.
Встреча с одной из них чуть не стоила жизни десятилетнему Мао. Он с двумя приятелями оказался вдали от дома на дороге, по которой убегали куда-то испуганные люди. Мальчики зашли в лавку к знакомому торговцу, и тот уговорил их заночевать у него, не продолжать путь в опасное время. Один из подростков впоследствии описал то, что произошло дальше:
«Примерно в середине ночи несколько пьяных верзил с саблями стащили нас с кровати и поставили на прилавок… “Принесём в жертву этих трёх мальцов и выкрасим наши боевые стяги их кровью!” — говорили одни. “Лучше свяжем их и увезём, и пусть семьи выкупают их за солидную сумму”, — предлагали другие… Лавочник умолял их отпустить нас в кровать и предлагал им вино, еду — всё, что есть в магазине. Как мы узнали позже, он принадлежал к той же шайке и потому его слова возымели действие. Пошумев ещё немного, бандиты ушли, и мы вернулись в спальню».[47]
Нехватка продовольствия часто возникала из-за того, что торговцы рисом придерживали его, дабы взвинтить цены. Занимался этим и отец Мао. Голодающие начинали бунтовать, их жестоко подавляли. Публичные казни должны были внушать населению покорность. Проходили они и в городе Чанша, ближайшем к деревне Мао административном центре. Рассказы свидетелей рисуют такую картину:
«На преступников надевали белые безрукавки с чёрными иероглифами, означавшими бандит или убийца и затем в открытых повозках возили по городу. Впереди шли солдаты с ружьями и саблями… Повозив приговорённого по улицам, его в конце концов сбрасывали с повозки на площадь, запруженную толпой. Один из солдат отдавал свою саблю товарищу, подходил к преступнику и становился перед ним на колени… Он просил обречённого простить его за то, что он должен был с ним сделать. После этого осуждённого ставили на колени, и солдат, взяв назад свою саблю, быстрым ударом отсекал ему голову… Иногда головы казнённых не выставлялись на шестах, а вывешивались на столбах в ящиках без стенок на всеобщее обозрение».[48]
Школьное преподавание тоже строилось на наказаниях. Учитель Мао был поклонником Конфуция и избивал учеников, предпочитавших читать романы про разбойников. В какой-то момент десятилетний Мао так устал от брани и побоев, что убежал из школы и из дома. Три дня он скитался в окрестных лесах, пока семья не отыскала его. К его удивлению, этот маленький бунт принёс результаты. Его стали меньше бить и лучше кормить. Отец с нетерпением ждал, когда мальчик настолько овладеет арифметикой, что сможет считать на счётах и помогать ему вести дела в конторе.[49]
Рассказывая в 1930-х годах о своём детстве американскому журналисту Эдгару Сноу, Мао с благодарностью вспоминал «радикального» учителя, у которого ему довелось учиться в одной из школ. Этот преподаватель был убеждённым атеистом, призывал избавиться от всех богов, закрывать буддийские храмы и открывать в них школы. Его уроки глубоко запали в память будущего революционера.[50]
Когда Мао решил оставить школу, отец не возражал, надеясь, что сына можно будет использовать в качестве бухгалтера в конторе. Но подросток любыми правдами и неправдами увиливал от работы. Страсть к чтению захватила его, он проводил часы за книгами, а по ночам читал, пряча светильник за плотной занавеской. Отец, застав его за книгой посреди ночи, поднимал страшный скандал. «Ты тратишь столько масла, что семья пойдёт по миру», — кричал он.[51]
Чтобы остепенить строптивого сына, родители прибегли к испытанному средству — решили его женить. Четырнадцатилетнему мальчику подобрали дальнюю родственницу, которая была на четыре года старше него. Бракосочетание прошло по всем правилам, но поставленной цели не достигло. Через полгода Мао-сын просто сбежал из дома и впоследствии никогда не вспоминал о своей первой жене. Ходили сплетни, что она осталась в доме на роли наложницы Мао-отца. Во всяком случае, скупой отец в последующие годы не отказывал блудному сыну в присылке денег на жизнь и на оплату учёбы в различных школах.[52]
В родном доме юный беглец оставил на столе такие стихи:
Сын полон решимости бросить Дом деревенский свой. В учёбе добьюсь я славы, А нет — не вернусь домой. И кости мои зароют Не всё ли равно мне где? Для человека гóры Всегда хороши везде.[53]Фидель
Сведения о его родителях историки и журналисты собирали потом по крупицам, но в проступающией картине всегда оставалось много белых пятен и вопросов без ответов.
Его отец, Анджел Кастро, прибыл на Кубу двадцатилетним, в 1895 году, в форме испанского солдата и принимал участие в жестоком подавлении партизанского движения. После того, как американцы победили испанцев в войне 1898 года и Куба обрела независимость, Анджел отбыл вместе с армией на родину, появился в родной деревне в провинции Галисия, но через год вернулся обратно.
Спрашивается — почему? Что могло приманить неграмотного демобилизованного солдата, без гроша в кармане, в бедную страну, едва оправляющуюся после долгих кровопролитий? Не открылись ли ему какие-то особенности кубинского характера, которые обещали возможность быстрого вознесения суровому и целеустремлённому галисийцу на неосвоенных землях, ждущих хозяйского глаза и рабочих рук?
Проработав недолго в американской корпорации Юнайтед Фрут, достигнув там должности распорядителя работ, он начал скупать пустовавшие участки земли и выращивать на них сахарный тростник. В качестве рабочей силы использовал не только местных крестьян, но и чёрных сезонников, прибывавших из Гаити и готовых трудиться за гроши. Для расширения своих владений использовал методы, не всегда остающиеся в рамках закона, на которые местная полиция за несколько сотен пезо готова была закрывать глаза.[54]
В 1911 году Анджел женился, родил двух детей, но вскоре в доме появилась четырнадцатилетняя служанка по имени Лина Рус, перед чарами которой преуспевающий землевладелец не смог устоять. Жена не простила измены, ушла из дома, и Лина сделалась полной хозяйкой. Она управляла лавкой латифундии, разъезжала по полям, вооружённая пистолетом и винчестером, к обеду сзывала семью выстрелом. Ей суждено было родить семерых детей, среди которых 13 августа 1926 года на свет появился и будущий команданте.[55]
В своих воспоминаниях Кастро говорит о родителях сдержанно, но близкие родственники рассказывали, что он всю жизнь горько переживал факт своей незаконнорожденности. Для матери у него ещё находились добрые слова, а вот отец совсем уж не вписывался в биографию борца за свободу: сражался на стороне угнетателей-испанцев в войне за независимость, сделался богатым землевладельцем, то есть эксплуататором, жил за счёт труда чёрных полурабов.[56]
В доме всегда царил беспорядок, уборкой пренебрегали. Если появлялся гость, стул для него приходилось очищать от барахла или сгонять курицу, собравшуюся снести яйцо. Обедали наспех, стоя у стола, и привычка есть стоя сохранилась у Фиделя и во взрослые годы. Характер у отца был вспыльчивый, оплеухи и ремень считались нормальными средствами воспитания.[57]
Ему было шесть лет, когда его отправили в Сантьяго-де-Куба, где он, вместе со старшей сестрой, должен был жить на пансионе у знакомой школьной учительницы. Видимо, родители надеялись, что в доме, где читают книги, играют на рояле и говорят по-французски, их дети смогут усвоить начатки культуры. Увы, их надежды не оправдались. Фидель бунтовал против правил французского этикета, грубил, развлекал себя всевозможными каверзами. Ему, например, нравилось стрелять камнями из рогатки по жестяной крыше дома, производя переполох среди обитателей. Поверить, что отнимать сласти у маленьких и клянчить деньги у взрослых нехорошо, он тоже отказывался.
Здесь же ему пришлось впервые столкнуться если не с голодом, то с постоянным недоеданием. Он привык, что в латифундии отца, поместье Биран, детей всё время заставляли есть. Учительница же получала по сорок пезо в месяц за своих малолетних постояльцев, но тратила их беззаботно, даже путешествовала в Америку. Фидель вспоминал впоследствии, как в конце обеда он вилкой соскребал с тарелки последние зёрнышки риса.[58]
За два года в доме учительницы Фидель выучился читать, писать и считать. Он уверял, что овладел этими премудростями сам, без всякой посторонней помощи. Его родители сами никогда не ходили в школу, поэтому не могли оценить качество образования, получаемого их сыном. Зато они ясно увидели, как исхудал мальчик, и решили перевести его в школу-интернат, Колледж Де Ла Саль, руководимый иезуитами. К тому моменту орден иезуитов был запрещён в Испании, и многие члены его нашли убежище на Кубе. Для зачисления в колледж требовалась справка о крещении, каковое и было осуществлено в соборе Сантьяго в январе 1935 года.[59]
В колледже Фиделю понравилось. Там постоянно устраивались спортивные состязания, поездки на берег океана, прогулки по окрестностям. Особенно он увлёкся восхождениями на горные вершины. «Каждая гора будто бросала мне вызов, — вспоминает он. — Я кидался вскарабкаться на неё и так увлекался, что порой автобусу приходилось ждать меня несколько часов».[60]
Здесь же ему открылся бескрайний новый мир — книги, чтение стали его страстью на многие годы. Довольно рано ему в руки попал иллюстрированный альбом про Наполеона, и знаменитый полководец стал его кумиром на всю жизнь. «Я знал все главные эпизоды его жизни и восхищался им. Позднее я так же восхищался Александром Македонским и Ганнибалом и другими знаменитыми деятелями, о которых всегда пишут учебники истории начальных школ… Тогда мне хотелось, чтобы Ганнибал захватил Рим… Может быть, потому, что он так смело пересёк Альпы со своими слонами… Мне также нравились спартанцы, которые так смело защищали Фермопилы, имея всего триста воинов».[61]
Изучение Библии шло на уроках, называемых «Священная история», но и здесь Фиделя в первую очередь занимали сражения и схватки. «Пересечение Красного моря, боевые трубы израильтян, перед которыми рушатся стены Иерихона, невероятная сила Самсона, который обрушил храм голыми руками… поклонение золотому тельцу… Впоследствии, объясняя политику социализма, я использовал эту легенду как метафору, сказав, что мы не поклоняемся золотому тельцу…».[62]
Летние и зимние каникулы Фидель проводил в отцовском имении. Кроме полей сахарного тростника, там были различные посадки фруктовых деревьев — папайя, кокосы, апельсины. «Помню три больших пчельника, с десятками ульев, которые давали мёд в изобилии. До сих пор, закрывая глаза, могу бродить среди этих деревьев… Я очищал апельсины своими руками и ел их, ел — думаю, никто в жизни не съел столько апельсинов, сколько я».[63]
Когда в 1936 году началась гражданская война в Испании, все учителя в школе сделались сторонниками Франко. Но обитателей Бирана и окрестных крестьян политические страсти раскололи надвое. Неграмотный повар был горячим сторонником республиканцев, и он упросил Фиделя читать ему все газеты и журналы, попадавшие в дом. Возможно, восторги этого благодарного слушателя по поводу побед защитников Мадрида и его горе по поводу их поражений заронили в душу будущего революционера первые зёрна политических пристрастий.[64]
В какой-то момент братья Рамон и Рауль тоже оказались в колледже Ла Саль. Рауль был младше Фиделя на четыре года и сильно отличался внешностью и характером: более сдержанный, вдумчивый, сосредоточенный. Ходили слухи, что его настоящим отцом был лейтенант армии Батисты, чья часть была расквартирована неподалёку от Бирана. Можно ли считать подтверждением слухов тот факт, что после прихода Кастро к власти этот офицер был выпущен из тюрьмы, где он ожидал расстрела вместе с другими защитниками старого режима?[65] Как знать.
Воспоминания Кастро, которые он наговорил испанскому журналисту Игнасио Рамонету в конце жизни, представляют собой семисотстраничный восторженный панегирик самому себе. Однако он так упоён историей своей победной жизни, что подробно рассказывает о проделках, которые было бы лучше предать забвению. Например, о том, как подделывал ведомость с отметками. Ему удалось раздобыть второй экземпляр бланка, он вписывал туда только «отлично», подделывал подпись учителя и показывал их дома. А в настоящей ведомости, содержавшей по большей части «удовлетворительно», подделывал подпись домашних и показывал её в школе.[66]
Все проделки и драки, случавшиеся в его школьные годы, Кастро представляет как нормальные проявления характера энергичного и ищущего свой путь подростка. Все наказания — как чудовищные и оскорбительные несправедливости. Подробно описано его чувство возмущения и ошеломления, вызванное двумя крепкими пощёчинами — справа и слева, — отвешенными ему заместителем директора. Но оставлены в тени подробности драки, которая спровоцировала наставника на такое суровое рукоприкладство.[67]
Накануне Рождества родители обычно приезжали в школу, чтобы забрать детей на каникулы. Во время очередного визита директор откровенно признался им, что в стенах его учебного заведения ещё не бывало таких трёх отъявленных разбойников, как братья Кастро.[68] Слухи об этой нелестной характеристике стали быстро распространяться, родители посчитали себя опозоренными и объявили детям, что не пустят их обратно в школу. Рамон отнёсся к этому безразлично, Рауль был ещё слишком мал, чтобы протестовать, но Фидель взбунтовался решительно. Он объявил, что не позволит закрыть ему путь к образованию. Что будет отстаивать свои законные права любыми средствами. И что если его оставят здесь, в Биране, он в один прекрасный день сожжёт дом.[69]
Видимо, отец уже достаточно хорошо знал характер своего двенадцатилетнего сына, чтобы отнестись к его словам серьёзно. Тем более, что в доме было полно оружия, которым мальлчик владел с ранних лет. В сентябре 1939 года Фидель был отправлен для продолжения учёбы в Колледж Де Долорес в Сантьяго-де Куба, где орден иезуитов готовил учеников к поступлению в университет.[70]
Комментарий первый: ТРУДНЫЕ СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Но золотой её пирог
встаёт нам горла поперёк…
Борис ПастернакДаты рождения наших персонажей разбросаны по шкале времени почти на полвека. Места рождения отстоят друг от друга на тысячи километров. Но есть одна историческая координата, которая совпадает у всех пяти: они все были из крестьян, созревали в гуще народа, начинающего переход с земледельческой ступени цивилизации на индустриальную. Этот переход может растянуться на 100, 200, 300 лет. Он может протекать в относительной изоляции, как например в Японии, или стимулироваться активным общением с другими странами. Но он всегда будет сопровождаться социальными потрясениями огромной силы, иногда даже гражданскими войнами.
То, что все тираны, взлетев к вершине абсолютной власти, применяли одинаково безжалостные рычаги управления, что они и характерами, и стратегией своей делались похожими друг на друга, — очевидный и доказанный исторический факт. Для рационального ума, вечно озабоченного отысканием причинных связей между явлениями, представляется соблазнительным объявить их детские годы тем воспитательным конвейером, на котором формировались и оттачивались их сходные черты.
Например, откуда могла развиться их фантастическая, ни с чем не соразмерная жестокость, полное отсутствие чувства сострадания? Разве не связано это с тем, что они росли под властью деспотичных отцов, свирепо избивавших их? Кажется, у одного только Муссолини отец не слишком злоупотреблял телесными наказаниями. Но зато он наставлял сына быть беспощадным в драках со сверстниками, и тот с энтузиазмом следовал этим наставлениям.
Другой схожий фактор — отсутствие культурных традиций в семье. Родителям всех пятерых пришлось овладевать начатками образования где-то в середине жизни, все они были выходцами из нижних слоёв общества. Именно поэтому они так гордились своими скромными достижениями и требовали от своих сыновей, чтобы те следовали их путём: становились сапожником, кузнецом, чиновником, счетоводом, фермером. И в ответ получали от всех пятерых отчаянное «Ни за что!». Не в этом ли противоборстве с властными отцами оттачивалась невероятная целеустремлённость будущих тиранов?
Марина Цветаева росла в богатом и культурном доме, но видимо и она ощущала главные болевые токи своего времени, бушевавшие за окнами, и запечатлела их в строчках:
Два на земле у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных и сытость сытых.
А пятеро наших героев росли в самой гуще противостояния голодных и сытых, богатых и бедных и не имели защиты от ядовитых испарений полыхавшей вражды. Они были просто деревенскими ребятишками и не могли понять природы нараставшего озлобления взрослых. Происходило же оно оттого, что привычный и понятный мир разваливался у людей под ногами перед грозным напором новой эпохи — эры машинной цивилизации.
Все великие научные открытия, все достижения технического прогресса приносят, в конце концов, огромную пользу людям. Но в те годы, когда они только-только вторгаются в жизнь, для миллионов людей это может обернуться полным жизненным крахом.
Да, трактор, механическая сеялка, жатка позволят десятку труженников обрабатывать то поле, которое раньше требовало сотню работников. Но куда денутся, на что будут жить оставшиеся без работы девяносто, ещё не умеющие ничего другого?
Механизация производства, станки, конвейерные линии позволят производить за минуты столько изделий, сколько раньше делались за полный рабочий день. Но как будут зарабатывать на жизнь ремесленники, вроде Виссариона Джугашвили? Из гордого самостоятельного владельца обувной мастерской он превратится в наёмного рабочего обувной фабрики, сгибающегося за конвейером с утра до вечера за мизерную плату.
Паровозы и пароходы легко доставят тонны товаров из ранее недоступных стран и областей. Но при этом французские и испанские вина станут разорять грузинских виноделов, итальянским овцеводам придётся состязаться с дешёвой шерстью из Албании и Турции, китайские шелка и бумага окажутся не в силах конкурировать с хлопчато-бумажными фабриками Европы.
Обездоленный человек начинает отчаянно искать причины своего жизненного краха. Все прежние ответы и объяснения утрачивают свою убедительность, привычная картина мира трещит, моральные и религиозные догматы начинают шататься. В этой атмосфере радикальные революционные теории приобретают необычайную убедительность. Кто виноват в моих бедах? Конечно богач-кровосос-эксплуататор! На фонарь его!
Все пятеро наших персонажей сделались пламенными ниспровергателями и безбожниками уже в ранние годы. В их семьях носительницами и защитницами религиозных традиций становились матери. Детям они пытались внушать страх Божий, уверяя, что Господь всё видит и накажет их за плохое поведение. Но сыновья их ясно видели, что наказывает не всевидящий Бог, а жестокие отцы, учителя, полицейские и нужно только уметь уворачиваться и прятаться от них. Иногда они даже пытались приходить матерям на помощь, делиться спасительными истинами атеизма, избавлять от ненужного страха перед карами небесными.
Религия утоляет жажду бессмертия в человеческой душе, но в юности люди мало заботятся о столь удалённых материях. Крепнущая воля подростка охвачена жаждой самоутверждения прежде всего, а вслед за ней — жаждой сплочения. Все призывы и требования «стать хорошим» он ощущает как барьеры, возводимые перед ним на пути к достижению самых вожделенных целей.
И действительно, какие качества мы ценим в человеке прежде всего, считаем «хорошими»? Мы хотим, чтобы он был добрым, честным, рассудительным, отзывчивым, законопослушным, трудолюбивым, сострадательным. Но если вглядеться, все эти свойства представляют собой скрытые формы подчинения различным запретам. Насколько же шире становятся возможности самоутверждения у подростка, который решится отбросить эти запреты! Который позволит себе веселиться, разоряя птичьи гнёзда, стреляя из рогатки по окнам, ударяя слабого кирпичом по голове. Или воруя чужие фрукты, сласти, игрушки, наряды. Который позволит себе утверждать сегодня одно, завтра — прямо противоположное. Для которого чужие слёзы и страдания не будут значить ничего. И который в дилемме, предложенной Достоевским, «миру провалиться или мне чаю не пить?», всегда уверенно выберет и потребует себе чаю.
Примечательными представляются также читательские пристрастия нашей пятёрки в детстве. Почему им всем так нравились книги про воинов, разбойников и индейцев? Не потому ли, что эти книжные герои утоляли жажду самоутверждения самым очевидным и наглядным способом — кровавой победой над врагом? Солдат, правда, должен был подчиняться командиру, разбойник — атаману. Но вот индеец — этот казался воплощением безоглядной свободы. Он никогда не сидед в щколе за партой, никогда не ходил на работу. Только мчался на коне с копьём наперевес по прериям и степям — как славно! Недаром поколения мальчишек во всём мире зачитывались книгами про «вольного сына степей».
В период перехода на новую ступень цивилизации родной дом перестаёт быть для подростка надёжной крепостью, где можно укрываться от враждебного мира. Наоборот, он становится местом, где его окружают одни запреты и все историко-социальные драмы пронизываются кровью и болью реальных близких людей. Это хорошо представлено в автобиографическом романе «Детство», написанном сверстником Ленина, Максимом Горьким. Глава семейства, дед Каширин, успешный купец, пытается сохранить свою красильную мастерскую, для чего он удерживает в деле своих взрослых сыновей, рвущихся к самостоятельности, доходящих в этом порыве до пьяного буйства. Но как мастерская может конкурировать с новыми текстильными фабриками, выпускающими недорогие ткани уже окрашенными в самые разнообразные цвета? В конце концов, мастерская разоряется, и подросток Пешков-Горький оказывается выброшенным на улицу, как и миллионы его российских современников. Внук разорившегося Нижегородского красильщика вступил в партию большевиков почти в те же годы, что и сын разорившегося грузинского сапожника, Иосиф Джугашвили.
На стыке 19-го и 20-го веков старинный спор между Стародумом и госпожой Простаковой был решён окончательно и бесповоротно. Без овладения грамотой и счётом миллионы митрофанушек не смогут получить даже работу извозчика, потому что тот должен хотя бы уметь читать названия улиц. А уж стать к станку или вести паровоз — об этом не может быть и речи.
Делу народного образования были уделены огромные усилия в разных странах. Соответсвующие законы об обязательном обучении были приняты уже в 18-ом веке в Пруссии и Австрии, а в 19-ом по тому же пути последовали Дания (1814), Швеция (1842), Норвегия (1848), США (1852–1900), Россия (1864–1908), Япония (1872), Италия (1877), Великобритания (1880), Франция (1882). Сочинение и публикацию своей «Азбуки» Лев Толстой считал гораздо более важным делом, чем писание романов. Знания должны стать доступны каждому, а не только привилегированной элите. Только это может избавить миллионы обездоленных от нищеты, голода, бесправия — так казалось передовым людям эпохи.
Параллельно с верой в спасительную силу образования укреплялась убеждённость в опасности, ненужности, несправедливости сословных барьеров. Велика ли загслуга родиться в дворянском статусе, получить с малолетства титул графа, князя, барона? Личные достоинства и таланты должны возносить человека над другими — это казалось таким очевидным в глазах сторонников эгалитарных идей — а их становилось всё больше и больше.
Следующим объектом их атак сделалось неравенство богатых и бедных. Бурное развитие индустриального производства выносило наверх Ротшильдов, Круппов, Морозовых, Путиловых, Рокфеллеров. Как к этому следует отнестись? Восхищаться их хозяйственными и техническими талантами или видеть в них ловких грабителей, виновников нищеты трудового народа? Алессандро Муссолини и его друзья по социалистической партии явно были убеждены во втором варианте, и в соответствии с этим десятилетний Бенито, ползая под столами в школьной столовой, с особенным азартом щипал ноги учеников из богатых семей.
Мечты о всеобщем равенстве расцвечивала и воплощала в ярких образах художественная литература. Виктор Гюго убедил своих читателей в том, что тёмный каторжник Жан Вальжан сможет притвориться почтенным буржуа, если его снабдить приличным доходом. Александр Дюма сочинил историю про скромного моряка, который, отсидев семнадцать лет в тюрьме, нашёл клад и стал уважаемым графом Монте-Кристо. Марк Твен — про нищего британского мальчика, которого никто не сумел отличить от наследника престола. Бернард Шоу — про цветочницу, которой достаточно было исправить произношение, чтобы её приняли в великосветском Лондоне.
Платон считал, что идеальное государство можно будет создать только в том случае, если управлять им будут философы. Владимир Ленин считал идеальным государством такое, которым управлять сможет любая кухарка. Но культ знаний в конце 19-го века вырастал и креп не столько из книг писателей и мыслителей, не столько из речей и трактатов политиков, сколько из потребностей индустриальной эры, властно входившей в историю мира. Талантливый и энергичный подросток скоро замечал, что книги — это заманчивый и ослепительный путь наверх. И он кидался на этот путь с таким же азартом и безоглядностью, с какими американские золотоискатели устремлялись в Калифорнию и на Аляску.
Церковь утрачивала контроль над народным образованием. Защищая свои догматы, она невольно оказывалась в оппозиции к новейшим достижениям науки. Уроки Закона Божьего в светских школах не считались важными и первоочередными. А предмет «Как стать хорошим человеком» в школьных программах отсутствовал. Заповеди «не убий, не укради, не лги» выглядели пережитком реакционного прошлого, ненужным ограничением безудержного порыва к личной свободе. И все пятеро наших героев в юные годы с энтузиазмом устремились по открывшемуся пути: прочь от религиозного мрака к сияющему свету познания мира и его холодных бесстрастных законов. При этом, чистое познание их занимало меньше всего. Они стремительно заполняли свой мозг информацией из самых разных научных сфер, готовясь использовать её как оружие в борьбе за самоутверждение и для утоления своих самых горячих страстей.
Летопись вторая. ИХ УЧЁБА
В Тбилиси
В 1894 году пятнадцатилетний Иосиф Джугашвили вступил под своды Тбилисской семинарии, прозванной выпускниками Каменный мешок. Его мать была счастлива, она в мечтах уже видела сына в облачении епископа. Но вряд ли представляла себе, через что ему придётся пройти.
Шесть сотен семинаристов размещались в спальнях по 20–30 человек в каждой. Подъём в 7 утра, молитва в часовне, чай, потом классы до двух. Обед в три и свободное время до пяти. Вечерняя молитва, ужин в восемь и снова занятия до десяти. Имперская политика русификации доходила до того, что грузинский язык изучался как иностранный, два раза в неделю, и грузинские книги были запрещены. Из русских авторов запрету подверглись Лев Толстой, Достоевский, Тургенев и многие другие. Круглосуточная слежка осуществлялась не только наставниками, но и сетью шпионов, завербованных среди семинаристов. Нарушения и выговоры фиксировались в специальном журнале, за них снижали отметки, а то и отправляли в карцер.[71]
Иногда грузинская гордость прорывалась сквозь систему тотального подавления ума и воли учащихся. Иосифу доводилось слышать легенды о бунтарях, осмелившихся на открытый мятеж. Один студент избил преподавателя за то, что тот объявил грузинский «собачьим языком». В другой раз конфликт закончился тем, что русский ректор был зарезан грузинским кинжалом.[72]
Несмотря на все запреты, обыски и слежку, запрещённые книги циркулировали в семинарии так же активно, как Самиздат и Тамиздат в СССР семьдесят лет спустя. Иосиф зачитывался переводами Гюго, Золя, Шиллера, Мопассана, Бальзака. Из русских обожал Некрасова, Чернышевского, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Толстого тоже ценил, но на полях его религиозных сочинений однажды написал «ха-ха-ха».[73]
Однако больше всего он был увлечён персонажами грузинских саг, смело сражавшимися в горах против иноземных захватчиков. Герой романа Александра Казбеги «Отцеубийца» по имени Коба стал его кумиром, он требовал, чтобы друзья называли его Кобой. Семья, благополучие, жизнь — всем следовало пожертвовать ради победы в священной борьбе. Долг мести был выше всех других обязанностей человека. Лозунгом безжалостной борьбы было: «Не дай нам Бог умереть в своей постели!».[74]
В семнадцать лет Сосо-Коба сам начал писать стихи. Образ одинокого отвергаемого пророка часто появляется в них на фоне торжественной и прекрасной природы.
Сердца, превращённые в камень, Будил одинокий напев. Дремавший в потёмках пламень Вздымался выше дерев. Но люди, забывшие Бога, Хранящие в сердце тьму, Вместо вина отраву Налили в чашу ему. Сказали ему: «Будь проклят! Чашу испей до дна!.. И песня твоя чужда нам, И правда твоя не нужна».[75]Однако и предчувствие незаурядной судьбы, и надежда на неё проглядывают в строчках:
Но твёрдо знай, кто был однажды Унижен и повергнут в прах, Ещё с Мтацминдой станет вровень И веру возродит в сердцах.Уже первые опыты начинающего стихотворца были напечатаны в журналах, один даже включён в юбилейный сборник, посвящённый князю Рафаэлю Эристави — одному из самых известных поэтов Грузии.[76]
Тем временем характер молодого Сосо становился всё жёстче.
«Он постоянно затевал мелкие и крупные свары, — вспоминает однокурсник. — Ему казалось естественным лидировать в любом кружке. Он не переносил возражений и критики. Среди нас всегда возникали две партии: одна — за Кобу, другая — против».[77]
Неизвестно точно, в какой момент в потоке запрещённой литературы ему в руки попали труды Карла Маркса. Но он сам в зрелые годы говорил о том, что марксистские идеи были озарением для него, перевернули его сознание и его жизнь. Всё развитие мировой цивилизации шло к сияющей точке: освобождению людей от всех форм порабощения. Главным инструментом порабощения был институт частной собственности. Волею исторических судеб обездоленный пролетариат сделался главной жертвой, но и главным противником капиталистической системы. Его предназначение — сокрушить её. Возглавить пролетариат и повести его на смертельную войну с миром собственников казалось возвышенной и благородной задачей, выполнению которой можно и нужно посвятить всю оставшуюся жизнь.
В тех же самых терминах описывал своё приобщение к марксизму Лев Троцкий.
«У меня было чувство, что я присоединяюсь к великому клану, что становлюсь солдатом великой армии и что победа может быть достигнута только в беспощадной борьбе».[78]
Конечно, и тот, и другой ещё до чтения Маркса жадно впитывали пропаганду русских революционных демократов. Сочинённый Чернышевским несгибаемый революционер Рахметов, статьи Добролюбова и Писарева, стихи Некрасова глубоко врезались в сознание юных ниспровергателей.
Не может сын глядеть спокойно На горе матери родной. Не будет гражданин достойный К отчизне холоден душой. Ему нет горше укоризны… Иди в огонь за честь отчизны, За убежденье, за любовь… Иди и гибни безупрёчно. Умрёшь не даром, дело прочно, Когда под ним струится кровь.[79]Именно в семинарские годы Сталин сделался тайным пропагандистом революционных идей. Во время летних каникул знакомый священник доверил ему готовить своего сына к поступлению в семинарию. Но нанятый репетитор, вместо благочестивых лекций, предпочёл заниматься со своим подопечным всякими проделками. Однажды, при посещении заброшенной церкви, он подбил мальчика снять со стены старую икону, разбить её и помочиться на обломки. «Бога не боишься? Молодец!». Вступительные экзамены ученик провалил.[80]
Единственным предметом, который Сталин изучал в семинарии со страстью, была мировая история. Однажды, прочитав воспоминания Наполеона, которые тот писал на острове Святой Елены, Коба-Сосо сказал друзьям: «Поразительно, сколько ошибок он наделал в жизни. Я постараюсь не повторять их».[81] Профессор Махатадзе был очень доволен им, всегда ставил «отлично». В 1931 году старый преподаватель был арестован органами грузинского ГПУ и оказался в Метехской тюрьме. Каким-то чудом ему удалось послать оттуда письмо всесильному диктатору в Москву. Сталин письменно приказал Берии освободить старика и доложить ему об исполнении.[82]
Была и ещё одна сфера знаний, которые Сталин, видимо, впитывал незаметно для самого себя. Веками накопленный опыт церковного контроля за умами и сердцами людей реализовал себя под семинарскими сводами в сложной системе слежки, доносов, внезапных обысков, наказаний за нарушения. Борясь и изворачиваясь внутри этой системы, юный семинарист хорошо изучил её слабые и сильные стороны. Он мог увидеть, что страстно ищущий ум невозможно запереть в клетку и парализовать одними угрозами и осуждениями. Не из этого ли опыта выросли в сталинской России тотальная цензура, глушилки радиопередач, перлюстрация писем, подслушивание телефонных разговоров, запреты на встречи с иностранцами, на поездки за границу, на доступ к печатным станкам?
Грузинские историки, изучавшие конец 19-го века, считали, что ни одно учебное заведение не выпустило столько атеистов и революционеров, сколько Тбилисская семинария. В сохранившихся дисциплинарных журналах последний выговор Иосифу Джугашвили (не поздроровался с преподавателем) датирован апрелем 1899 года. А в мае короткая запись: «Отчислен за неявку на экзамены».[83]
Мать Кеке была в полном отчаянии. Чтобы не слышать её упрёков, Иосиф, приезжая в Гори, прятался у знакомых в их сельских домах. Он ступал на путь профессионального революционера, которому следовало отвергнуть все прежние семейные и дружеские связи ради служения великой цели — свержению тиранической власти Российской империи.
В Италии и Швейцарии
Муссолини было 18 лет, когда он получил диплом об окончании школы. Но именно с этого момента началось то, что он мог бы, следуя примеру Максима Горького, назвать «Мои университеты». Неуёмная жажда жизни бросала его от одного занятия к другому, заставляла переезжать из города в город, пересекать границы, круто менять политические убеждения.
Школьный диплом давал ему право на преподавательскую работу. Он получил место учителя в небольшом городке благодаря тому, что там в совете заправляли социалисты, знавшие его отца. Муссолини появился на городских улицах «в чёрной шляпе с широченными полями и в длинном чёрном галстуке. По бледному лицу с большими чёрными проницательными глазами его можно было принять за поэта или революционера, а он предпочитал считать себя и тем, и другим. Образ жизни он вёл богемный. Умеренных респектабельных социалистов городка считал слабыми и мягкими, как спагетти (вылепленными из лапши). Разве такие люди смогут покончить с царящей в мире несправедливостью?».[84]
Проработав преподавателем меньше года, Муссолини внезапно всё бросил и уехал в Швейцарию, имея одну пару башмаков, медальон с портретом Карла Маркса и два франка с мелочью в кармане. Отъезд был очень похож на бегство. Но от чего? Сам он впоследствии говорил, что от рутины постоянной службы. Его биографы считали, что он таким образом скрылся от призыва в армию. Не исключено также, что его любовные похождения привели к ситуации, когда ему грозило возмездие за изнасилование. Одно несомненно: в Швейцарии он оказался на самом дне нищеты, голода, спал под мостом в картонных коробках.
Однажды он был арестован за попрошайничество на улицах Лозанны, в другой раз — в Женеве, когда напал «на двух англичанок, сидевших на скамье со своим завтраком — хлебом, сыром, яйцами. «Я не мог удержаться, — сознавался он потом в воспоминаниях. — Я набросился на одну из ведьм и вырвал у неё из рук еду. Если бы они попытались сопротивляться, я бы задушил их — задушил бы, поверьте мне!».[85]
В какой-то момент он нашёл работу каменщика и так описал её в письме другу:
«Работал по одиннадцать часов в день за 32 чентезимо в час. В день совершал по 120 поездок с нагруженной кирпичами тачкой на второй этаж строившегося здания. Под вечер мышцы на руках вздувались. Питался картошкой, запечённой в золе, бросался в постель — кучу соломы — прямо в одежде. На следующее утро просыпался и снова шёл на работу… В один субботний вечер я сказал хозяину, что хочу уходить и попросил уплатить мне за работу. Он пошёл к себе в контору… Вскоре он вышел и с нескрываемым гневом швырнул мне в руки двадцать лир, заявив мне: “Вот твои деньги, ты их украл”. Я прямо окаменел. Что мне было с ним делать? Убить его? Почему он так себя вёл?»[86]
Действительно — почему? Не означало ли это, что приезжий итальянский «гаст-арбайтер» продемонстрировал искусство уклоняться от настоящего труда, как только оказывался без надзора, а в письме красочно описал, как работали другие? Трудовая деятельность продолжалась всего десять дней, но она дала ему возможность вступить в профсоюз каменщиков и принимать участие в политических собраниях и митингах.
Положение Муссолини несколько улучшилось осенью 1902 года. «Поскольку рабочие, с которыми он общался, считали его интеллигентом, ему предложили пост в секретариате лозанского отделения профсоюза каменщиков и работников физического труда, и он стал ответственным за пропаганду. Он также давал уроки итальянского языка и получал деньги за статьи, в которых излагал особую форму анархического социализма, давал волю своему антиклерикализму и чувству социальной несправедливости».[87]
Всё свободное время он отдавал чтению, «как будто хотел за несколько месяцев постичь всю историю политической философии. Он в спешном порядке ознакомился с различными работами Лассаля, Каутского, Кропоткина, Маркса и Шопенгауэра, Штирнера и Ницше, Бланки и Бертони, заимствуя у них идеи, искажая и развивая их. Позднее он накинулся на Бабёфа, Прудона, Канта и Спинозу, Гегеля, Фихте, Сореля и Гюйо, и всё, что он читал, оказывало на него огромное влияние.»[88]
Правда, друзьям он сознавался, что в любой книге ему достаточно прочесть девять страниц: три в начале, три в конце, три в середине, и на этом его знакомство с толстым трудом заканчивалось.[89] Однако один факт остаётся несомненным: у него открылись невероятные способности к языкам. «Он хорошо говорил по-французски и сносно — по-немецки; кроме того, он немного знал английский и испанский… С помощью русских и польских друзей он переводил философские и политические книги, писал статьи, преподавал итальянский».[90]
Круг его интересов был необычайно широким. В какой-то момент он стал брать уроки латыни, изучать индийскую арифметику, вести конспекты по истории философии и немецкой литературы. Потом увлёкся судьбой Яна Гуса, написал книгу о нём. Пытался писать и прозу, один его роман впоследствии был переведён на английский под названием «Любовница кардинала». С помощью русских друзей переводил Кропоткина, а для отдыха «иногда вдруг поднимался из-за стола и брал в руки скрипку… Бенито не был большим музыкантом, но играл мощно и громко; по его убеждениям, это успокаивало его нервы, и слова статей и выступлений быстрее приходили ему на ум».[91]
Возможно, если бы не бедность, Муссолини, при его энергии и способностях, вполне мог бы получить высшее образование. «С особой страстью я изучал социальные дисциплины, — пишет он. — Профессор Вильфредо Парето читал курс лекций по экономике в Лозанском университете, и я старался не пропускать ни одной… Я также принимал участие в политических собраниях, произносил речи. Их содержание не нравилось швейцарским властям, меня высылали из двух кантонов. Университетские курсы на этом закончились.»[92]
В конце 19-го века на многие языки была переведена с французского книга Густава Лебона «Психология народов и масс». Она привлекла внимание Муссолини настолько, что он наверняка прочёл в ней больше, чем девять страниц. Некоторые пассажи в этом труде оказались пророческими. «Благодаря своей теперешней организации, толпа получила огромную силу. Догматы, только что нарождающиеся, скоро получат силу старых догматов, то есть ту тираническую верховную силу, которая не допускает никаких обсуждений. Божественное право масс должно заменить божественное право королей… Догмат верховной власти большинства не подлежит философскому обоснованию, совершенно так же, как и средневековые религиозные догматы, но тем не менее он обладает абсолютной силой в наше время».[93]
Вслушиваться в загадочный гул, испускаемый народной массой, угадывать её неясные порывы, влиять на них, чтобы потом повести толпу за собой — этому искусству Муссолини подсознательно учился все свои молодые годы. Даже служба в армии вошла в эту «учебную программу». В 1905–1906 годы он отслужил 19 месяцев в пехотном полку, расположенном в Вероне. «Мне нравилась жизнь солдата. Моему темпераменту добровольное подчинение дисциплине оказалось созвучно.»[94]
Успешное создание военизированной фашистской партии едва ли было возможно без того опыта, который молодой бунтарь-социалист приобрёл за месяцы военной службы. «Мне нравился процесс превращения индивидуумов в целое, в массу, которой можно было маневрировать, учить обороняться и атаковать… Я понял, как важно для офицера иметь хорошее знание всех сфер, связанных с войной, ценить пирамиду чинов и наше суровое латинское чувство дисциплины».[95]
Находясь под влиянием идей, плохо увязанных между собой, вычитанных из книг или заимствованных у русских большевиков, Муссолини постепенно приходил к убеждению, которое вскоре определит всю его последующую жизнь: существующий порядок должен быть свергнут революционной «элитой», действующей от имени народа, и этой элитой должен руководить он сам.[96]
В Линце, Вене, Мюнхене
Осенью 1905 года шестнадцатилетний Адольф сумел убедить свою мать в том, что состояние его здоровья может ухудшиться, если он продолжит школьные занятия. С этого момента для него началась привольная жизнь, в которой никто не распоряжался его временем. Дни были заполнены чтением, рисованием, прогулками, походами в театр и оперу. Мать и тётка Иоанна заботились о всех бытовых нуждах. За умершего отца государство выплачивало пенсию осиротевшей семье. Адольфу даже купили пианино, и он несколько месяцев брал уроки.[97]
Уже в эти годы началось его страстное увлечение музыкой Вагнера. «Он считал этого композитора величайшим художественным гением, примером для подражания. Адольфа увлекали драматичные композиции, прославлявшие героическое далёкое прошлое, возвышенный германский мистицизм. “Лоэнгрин”, это воплощение тевтонского рыцаря, посланного отцом Парсифалем спасти несправедливо осуждённую Эльзу, был первой Вагнеровской оперой, услышанной им, и он запомнил её на всю жизнь».[98]
Весной 1906 года Адольфу удалось провести две недели в Вене. Дворцы, соборы, музеи столицы зачаровали его. Постановки опер Вагнера «Тристан» и «Летучий голландец» намного превосходили то, что ему доводилось слышать в Линце. После этой поездки жизненные планы приняли ясную форму: он переезжает в Вену и поступает в Академию изящных искусств, на живописный факультет.
Отбор поступающих кандидатов проходил в несколько стадий. Сначала приёмная комиссия знакомилась с представленными рисунками и эскизами. Потом прошедшие эту ступень получали право сдавать экзамен — в течение трёх часов сделать несколько рисунков на заданные темы. Из участвовавших в экзаменах восьмидесяти соискателей приняты были двадцать восемь. Адольфа Гитлера среди них не оказалось.
Ярости отвергнутого не было предела. Друг Август Кубицек, деливший с ним комнату в Вене, писал потом, что он возвращался к этой неудаче снова и снова. «Он взрывался из-за любого пустяка. Осыпал проклятьями тех, кто не способен оценить его талант и преследует его. Тирады полные ненависти ко всему миру демонстрировали комплекс раздутого эго, жаждущего признания и неспособного примириться с поражением и собственной посредственностью».[99]
В воспоминаниях Кубицека упоминается и другой случай вспышки бесконтрольной ярости Адольфа, на этот раз абсолютно неадекватной поводу, вызвавшему её. Они вдвоём купили на сэкономленные деньги лотерейный билет и стали мечтать, как они будут тратить выигранный миллион. Путешествия по всему свету, театры и музеи всех столиц мира, жизнь на курортах и в особняках… Когда билет не выиграл, гнев Адольфа полыхал несколько дней. Казалось, что все их фантазии обрели в его мозгу характер реальности, которую кто-то злонамеренно разрушил. Теперь оставалось только отыскать виновника и обрушить на него справедливое возмездие.[100]
Мать Гитлера умерла от рака в 1907 году. К двадцати годам он оказался в Вене в полном одиночестве — обнищавший, в нестиранной одежде, без службы, без каких бы то ни было перспектив на будущее. Жильё он нашёл в общежитии для бездомных мужчин. Раз в месяц приходила маленькая пенсия за умершего отца. Иногда удавалось подработать акварелями, которые у него покупали еврейские перекупщики. Конечно, они не умели оценить дар великого художника и не платили ему настоящую цену. Но он отказывал себе в еде и новых башмаках, чтобы пойти послушать музыку Вагнера, Бетховена, Брукнера, Штрауса, Моцарта или других немецких композиторов. Всё связанное с Германией, с её историей, культурой, языком, архитектурой было пронизано в его глазах чертами священодействия.
Сама борьба за выживание превращалась в великую войну за очищение и сохранение здоровья германской расы. «Сохранять целомудрие до двадцати пяти лет считалось средством укреплять силу воли, помогать в великих свершениях. Следовало избегать мяса и алкоголя, ибо они стимулировали сексуальную активность. Иметь дело с проститутками считалось моральным падением, грозящим не только опасными инфекциями, но и ущербом для германской расы.»[101]
Запойное чтение продолжалось и в доме для бездомных. Своё красноречие он упражнял на соседях, собиравшихся в библиотечной комнате. Позднее писал в «Мейн Кампф»:
«В спорах я побеждал почти всегда. Человеческие массы можно переубеждать, если только не жалеть времени и терпения. Одни евреи никогда не способны изменить свои мнения. В те времена я был ещё по-детски наивен и пытался доказывать им безумие их доктрин; в нашем маленьком кружке я спорил до хрипоты и наживал мозоли на языке, воображая, что я смогу убедить их в разрушительных последствиях их марксистских бредней; но результат всегда был обратным.»[102]
Аристократов и священников Гитлер тоже не жаловал. Однако, впадая в раж, мог изображать себя и защитником религиозных и аристократических принципов.
«Еврейская доктрина марксизма отвергает аристократический принцип природы и заменяет вечный принцип господства власти и силы господством мёртвого веса человеческой массы. Она отвергает ценность человеческой индивидуальности, ставит под сомнение важность нации и расы и таким образом удаляет из судьбы человечества суть его существования и культуры… Если с помощью этой доктрины еврей победит остальные народы, его корона станет погребальным венком для всего мира… Таким образом, защищая себя от еврея, я могу считать, что сражаюсь за сохранность созданного Всемогущим Творцом».[103]
Хотя евреи составляли едва 8 % населения Вены, их культурное влияние было непропорционально высоким. В различных сферах уверенно доминировали такие фигуры, как Густав Малер, Зигмунд Фрейд, Мартин Бубер, Людвиг Виттгенштейн, Артур Шницлер. Возможно, само их существование разогревало костёр антисемитских страстей будущего фюрера. Впоследствии он называл Вену Новым Вавилоном. Но что бы он сказал, если бы узнал, что, гуляя по венским бульварам в 1913 году, он почти наверняка сталкивался с более серьёзными защитниками марксизма, скрывавшимися там: Лениным, Сталиным, Троцким, Бухариным?[104]
В мае 1913 года Гитлер покинул Вену и прибыл в Мюнхен, имея намерение — так, по крайней мере, он утверждал — овладеть профессией архитектора. В воспоминаниях он описывает, каким счастьем для него было оказаться в чисто немецком городе. Его биографы указывают и на другую возможную причину переезда: в Австрии его могли призвать на военную службу.[105]
Снятая им комната вскоре заполнилась альбомами, красками, мольбертами, а также стопками книг, которые он брал в местной библиотеке и читал заполночь. Квартирная хозяйка не замечала, чтобы его кто-нибудь навещал, но это не означало, что он проводил жизнь в одиночестве. Мюнхенские кафе и пивные были прекрасной ареной для политических дебатов, а международные новости можно было черпать тут же из газет, предоставлявшихся посетителям бесплатно.
Видимо, к этому времени живописные навыки Гитлера позволяли ему покрывать свои скромные нужды продажей акварелей. В основном он копировал открытки, изображавшие знаменитые здания Мюнхена. Эти городские пейзажи привлекали внимание туристов, и ему удавалось зарабатывать 80-100 марок в месяц. Но в январе 1914 года это наладившееся существование было прервано: в его двери постучал полицейский.
Оказалось, что администрация города Линца разыскивает герра Адольфа Гитлера, чтобы предъявить ему обвинение в уклонении от призыва. Это преступление приравнивалось к дезертирству, каралось штрафом и тюремным заключением. С трудом вольнолюбивому художнику удалось уговорить стражей закона дать ему отсрочку на несколько недель для выполнения своего гражданского долга. В феврале он появился перед призывной комиссией города Зальцбурга, которая нашла его слишком истощённым и для военной службы негодным. Ему даже оплатили проезд обратно в Мюнхен.[106]
Между тем, война надвигалась на Европу. Когда она началась, Гитлер, вместе с миллионами других немцев, впал в настоящую эйфорию. «Всецело захваченный бурлящим энтузиазмом я упал на колени и переполненным сердцем благодарил небеса за то, что они даровали мне возможность жить в такие времена». Он обратился с личной просьбой к королю Баварии разрешить ему, австрийцу, служить в Баварской армии. Разрешение было дано, немецкая комиссия нашла призывника достаточно здоровым, и после короткой подготовки, 21 октября поезд увёз рядового Гитлера на поля первых сражений во Фландрии.[107]
Четыре года, проведённые им на фронтах Первой мировой войны, имеют полное право быть отнесены в главу «Учёба». Не многим полководцам, даже окончившим военные академии, довелось получить такую порцию «практических занятий». Гитлеру выпало служить не в окопах, а в роли связного. Если телефонная связь между штабом полка и отдельными ротами обрывалась, его посылали относить приказы и возвращаться с сообщениями о ходе боя. Это позволяло ему получать более широкое представление о тактических аспектах войны, чем то, которое мог бы иметь солдат на позициях.
Роль связного отнюдь не была безопасной. Он так же находился под постоянным огнём противника. Летом 1916 года британский снаряд попал в землянку, где укрывались связные, и Гитлер был ранен осколком в бедро. Осенью 1918 весь полк подвергся газовой атаке. Гитлер, ослеплённый горчичным газом, присоеденился к цепочке других ослепших, уцепившихся друг за друга и бредущих в тыл вслед за зрячим поводырём, точь-в-точь как на знаменитой картине Брейгеля.[108]
В течение всех четырёх лет Гитлер сохранял воинственный энтузиазм первых дней. Любые разговоры о перемирии возмущали его, попытки солдат брататься с врагом в праздник Рождества приводили в ярость. Оказавшись в Мюнхене на излечении после ранения, он обнаружил всеобщее уныние жителей и усталость, отсутствие элементарных продуктов, холод и грязь. Во всём происходящем баварцы традиционно обвиняли пруссаков. Но Гитлер и тут сумел найти вину евреев. «Они служили клерками в военных учреждениях — не на фронте!».[109]
Видимо, Гитлер был так же уверен в победе Германии, как в своё время — в грядущем выигрыше миллиона. Известие о свержении монархии и о признании поражения застало его в госпитале, когда зрение постепенно возвращалось к нему. «Я не мог больше выносить это… Перед глазами у меня снова стало черно. Я побрёл обратно в палату, бросился на койку и зарылся горящей головой под одеяло… С того дня, как я стоял перед могилой матери, слёзы не лились из моих глаз. Но тут я не мог сдержать их. Неужели всё было напрасно? Неужели всё это случилось лишь для того, чтобы шайка прожжённых разбойников могла запустить свои жадные руки в тело отечества?».[110]
Именно в этот момент он решил свою будущую судьбу: раз война проиграна, необходимо начать сражение на политическом фронте. Но в этом сражении не будет места жалости. Способность к состраданию если когда-то и теплилась в душе Адольфа Гитлера, была вытравлена начисто четырьмя годами неслыханной бойни, прошедшей перед его глазами. Важно не забывать, что такой же урок получило и всё поколение немецких мужчин, которому посчастливилось выжить в Первой мировой войне и прожить ещё двадцать лет, чтобы начать Вторую.
В Китае
Вряд ли в начале 20-го века в Китае был университет, который мог бы загрузить голову Мао Цзедуна таким количеством знаний, какое он черпал сам из запойного чтения книг. После ухода из дома в 1908 году он учился во многих провинциальных школах, и вскоре круг его интересов чётко определился. Были предметы, которые ему явно не давались: иностранные языки, математика, естествознание, рисование. История, философия, социальные науки, художественная литература — вот что поглощало его целиком.
Студент, учившийся вместе с ним, писал потом в своих воспоминаниях:
«Мао Цзедун запоем читал китайских и европейских философов и писателей, конспектируя и развивая их мысли в своих дневниках… Писал он быстро, словно огонь вырывались строчки из-под его кисточки. Его классные сочинения как образцовые вывешивались на стенах училища. Он мог читать вдвое и втрое быстрее любого человека. В библиотеке он всегда окружал себя стеной из книг».[111]
Видимо, к тому времени интерес к европейской цивилизации поднялся так высоко, что многие классические труды были переведены на китайский и опубликованы. Мао смог прочесть «Богатство народов» Адама Смита, «Происхождение видов» Чарлза Дарвина, «О духе законов» Монтескье, а также книги Стюарта Милля и Герберта Спенсера. Из сборника под названием «Великие герои мира» он узнал о деяниях Наполеона, Екатерины Второй, Петра Первого, Веллингтона, Гладстона, Руссо, Линкольна и многих других.[112]
Особенно сильное впечатление произвела на Мао книга немецкого философа Фридриха Паульсена (современника Ницше) «Основы этики». На её полях он сделал сотни пометок, подробно комментировал в дневнике. «В широком смысле не существует универсальной человеческой морали… Она меняется в зависимости от того, как её используют… Мораль изменяется с течением времени… она различна в разных обществах и у разных людей… Собственный интерес — самое главное для всех людей… Невозможно сказать, что чей-то разум альтруистичен в чистом виде и в нём нет никакой эгоистической идеи… Отдельная личность не стремится принести пользу никому, кроме себя самой».[113]
Прагматизм оправдывает даже убийство, считал Мао. Однажды он втянулся в дискуссию о деяниях первого императора династии Хань, Лю Бана. Его оппонент перечислял злодеяния этого повелителя, который казнил своих соратников и лучших полководцев вместе с семьями, опасаясь, что они станут претендовать на его трон. «Но если бы он не делал этого, он вряд ли удержался бы так долго у власти», — возражал Мао.[114]
Если у Мао и возникали когда-нибудь религиозные искания, под влиянием немецкой философии они были отброшены начисто. «Существует мнение, что мы должны верить в то, что нравственный закон дан нам по воле Бога, и что только в этом случае ему можно будет следовать, а относиться с презрением к нему будет нельзя. Это рабская психология. Почему тебе следует подчиняться Богу, а не самому себе? Ты есть Бог. Есть ли какой-нибудь другой Бог, кроме тебя самого?».[115]
Образование, полученное Мао Цзедуном в молодые годы, не ограничивалось абстрактными теориями. Политическое брожение в Китае разразилось революцией 1911 года, свергшей власть императора. Место первого президента возникшей республики занял знаменитый реформатор Сун Ят Сен. Мао полгода прослужил в республиканской армии в провинции Хунань (1912). Он получал семь юаней в месяц. Два тратил на еду, почти всё остальное уходило на покупку книг, газет и журналов. Была ещё одна статья расхода — вода. Солдаты ходили за ней к колодцам, находившимся за чертой города, но Мао — этот будущий борец за счастье обделённых — считал любой физический труд унизительным и предпочитал покупать воду у других солдат или у водоносов.[116]
После ухода из армии начались поиски учебного заведения. Мао подавал заявления в школы, рекламировавшие преподавание юриспруденции, экономики, коммерции, платил доллар за регистрацию и потом ждал, что ответят родители — согласятся они оплачивать обучение или нет. Коммерческая школа была одобрена отцом, Мао поступил в неё, но обнаружил, что преподавание многих предметов там ведётся на английском. Пришлось отказаться от этого варианта. На самообразование в библиотеке отец денег не давал, а зарабатывать самостоятельно Мао не умел и не хотел.[117]
В конце концов он поступил в педагогическое училище, которое находилось в городе Душань, где проучился пять лет. Он преуспевал там по тем предметам, которые привлекали его, и еле вытягивал на тройки по тем, которые не интересовали или не давались. Например, преподавателя рисования он просто доводил до отчаяния. Однажды ему было задано нарисовать пейзаж. Он провёл на листе черту, пририсовал к ней сверху полукруг и назвал это «Восход солнца». Но его невероятная начитанность и способность ясно артикулировать свои мысли перевесила все недостатки, и он закончил училище, получив диплом преподавателя.[118]
Первая Мировая война совпала с годами его студенчества. Все политические события, связанные с ней, горячо обсуждались. Мао рассказывал потом Эдгару Сноу, что в ту пору они с друзьями говорили только о важном — о природе человека, о социальном устройстве общества, о месте Китая в мировой истории, о вселенной. Повседневная жизнь не была достойна обсуждения. Однажды приятель попробовал заговорить с ним о покупке куска мяса к обеду, да ещё позвал слугу и стал давать ему инструкции. Мао порвал с ним навсегда.[119]
Другим увлечением молодых людей стали походы по стране. «Мы сделались страстными физкультурниками… Во время зимних каникул мы отправлялись в пешие походы по полям, взбирались на горы, шли вдоль городских стен и пересекали водные потоки и реки. Если шёл дождь, мы стаскивали рубахи и называли это дождевым душем. Если палило солнце, мы тоже раздевались и называли это солнечной ванной. Когда же дули весенние ветры, мы кричали, что это новый вид спорта — ветряной душ. В заморозки мы спали на голой земле и даже в ноябре купались в холодных реках. Всё это называлось закалкой тела».[120]
Невольно вспоминается Рахметов из романа Чернышевского, закалявший себя спаньём на гвоздях. Другая перекличка с идеями русских революционных демократов — вера в то, что помогать ближнему человек стремится ради самого себя, то есть в «разумный эгоизм». Оправдания убийства ради благих целей сильно перекликаются с теориями Раскольникова. Вряд ли Достоевский был уже переведён тогда на китайский, но думается, что и Иван Карамазов мог бы привлечь внимание молодого Мао Цзедуна. Однако то, что русскому классику казалось моральным падением, в глазах китайского бунтаря выглядело нравственной высотой достойной поэзии:
Мы все тогда были молоды, Как свежие бутоны цветов, С упорством учёных Отстаивали мы нравственный путь. Обозревая реки и горы, Гневом клеймили мы Десять тысяч маркизов — Для нас они были навозом.[121]В Сантьяго-Де-Куба и Гаване
Можно сказать, что первые шаги на международной политической арене Фидель Кастро сделал, когда ему исполнилось тринадцать лет. Учась в Колледже де Долорес в Сантьяго-де-Куба, он послал письмо президенту Соединённых Штатов Франклину Рузвельту на ломанном английском: «Мой добрый друг Рузвельт! Я люблю слушать радио и очень счастлив, потому что на нём сказали, что вы будете президентом новой эры. Я ещё мальчик, но много думаю и вот пишу президенту США. Если захотите, пошлите мне десятидолларовую купюру зелёных американских долларов, потому что я никогда не видел такой. И хорошо бы иметь её с вашей подписью».[122]
Канцелярия Белого дома ответила кубинскому школьнику вежливым письмом, благодарила за слова поддержки. Это письмо было вывешено на стене в колледже. Правда, десятидолларовой купюры — с подписью или без — в конверте не оказалось. Не с этого ли эпизода начался пожизненный и страстный кастровский антиамериканизм?
В автобиографии Кастро сознаётся, что и в подготовительных колледжах, и в гаванском университете он был не самым старательным студентом, крайне редко появлялся на лекциях. Оказалось, что он, как и Гитлер, обладал фотографической памятью. «Он знал тексты наизусть, — вспоминает однокурсник. — Проделывал с нами такие номера: читает книгу по социологии, вырывает прочитанную страницу и выбрасывает. В конце от книги остаётся только указатель имён. Мы спрашиваем его: “Фидель, что написано на 53-й странице?” И он воспроизводит содержание близко к тексту».[123] Это позволяло ему в конце семестра засесть за учебники и подготовиться к экзаменам. Пятьдесят лет спустя, давая интервью Игнасио Рамонету, он дважды точно называет шесть цифр номера автомобиля, который был у него в студенческие годы.
В рассказах о своей молодости Кастро многократно обращается к теме влияния на него классиков марксизма-ленинизма. Он перечисляет их труды, оставившие неизгладимый след в памяти: «Критика готской программы», «18-е брюмера Наполеона Бонапарта», «Коммунистический манифест» Карла Маркса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и «Антидюринг» Энгельса, «Государство и революция», «Империализм как высшая стадия капитализма», «Что делать?» Ленина.
«До чтения этих книг я был как человек с завязанными глазами, не знающий, где север, где юг… Так как я рос в латифундии и видел такие же латифундии кругом, я знал, какую жизнь люди ведут там. На собственном опыте я узнавал, что такое империализм, доминирование, коррупция, репрессии. Во мне укоренилось чувство отвращения к несправедливости, неравенству, угнетению… Я был захвачен марксистской литературой, она принесла озарение».[124]
Но современники запомнили юного Кастро совсем другим. Его кумирами были исключительно новейшие диктаторы. Гуляя по кампусу колледжа Белен, он не расставался с книгой Гитлера «Мейн Кампф», на стене его комнаты висела карта Европы, на которой он отмечал продвижение немецких армий. У него были записи с речами Муссолини, и он пытался иммитировать ораторские приёмы дуче. Моделью поведения стал для него создатель испанской фашистской партии — фаланги — Хосе Антонио Примо де Ривера.[125] Коммунисты среди студентов держались в стороне от него, он был в их глазах слишком непредсказуем, неуправляем. Одному из них он в шутку сказал: «Да, я готов присоединиться к вам. Но при одном условии — что я стану Сталиным».[126]
Что было настоящей страстью Кастро в студенческие годы — это спорт. Плавание, альпинизм, велосипед, бейсбол — он готов был участвовать во всём. В колледже Белен отец Лоренте организовал клуб «Эксплорадорес», члены которого должны были демонстрировать выносливость и смелость в противоборстве с природой. Фидель вскоре стал одним из лидеров этого клуба. В одной из экспедиций возникла необходимость пересечь бурную реку. Фидель взял в зубы верёвку, переплыл поток, закрепил верёвку на другом берегу. Отец Лоренте последовал за ним, держась за верёвку, но в какой-то момент сорвался и мог бы утонуть, если бы Фидель не бросился в волны и не спас его.[127]
В те годы большую популярность среди молодых кубинцев завоевал баскетбол. Фидель кинулся овладевать новым для него видом спорта, тренировался днём и ночью. Идя ему навстречу, администрация колледжа установила ночное освещение на площадке. Вскоре юный энтузиаст сделался отличным баскетболистом. Правда, у него был один недостаток: порой он входил в такой раж, что забывал, на какой стороне играет его команда, и забрасывал мяч в своё кольцо.[128]
Готовность к состязанию в любой форме и по любому поводу ввергала Фиделя в опасные ситуации. Однажды он заключил пари с приятелем на пять долларов: поеду на велосипеде, врежусь в стену и останусь цел. Испытание проходило в большом зале с колоннами. Видимо, Фидель разогнался на совесть, потому что после столкновения с одной из колонн был отправлен в больницу на несколько дней.[129]
Были две вещи, которые он совершенно не переносил и не прощал: насмешки и поражения. Сокурсник назвал его «сумасшедшим», он накинулся на него с кулаками, но — редкий случай — проиграл схватку. Вне себя от ярости укусил противника за руку, потом навёл на него пистолет. Отцы-иезуиты едва успели развести врагов. Однако много лет спустя, в «освобождённой» Кубе этот сокурсник оказался в тюрьме.[130]
Парадоксально, но человек, впоследствии гипнотизировавший своими речами миллионы слушателей, в юности не блистал красноречием. Он очень хотел поступить в студенческий ораторский кружок. Но для этого, в качестве вступительного теста, нужно было произнести десятиминутную речь без заметок. Фидель пытался несколько раз и проваливался. Он начинал нервничать, отвлекаться, терять нить изложения. Его, в конце концов, приняли, но с трудом. Интересно было бы проследить дальнейшие судьбы членов приёмной комиссии.
Зато у Фиделя был один накатанный приём привлечения сторонников. Он отводил в сторону нужного кандидата и говорил ему: «Педро, ты же знаешь, что в этом университете есть только два человека, способные видеть корень проблемы, — ты и я». Полчаса спустя, в противоположном конце коридора, он мог говорить кому-то другому: «Хозе, ты же знаешь, что в этом университете…» Пару дней спустя Педро и Хозе, встретясь, могли рассказывать друг другу об этой нехитрой стратегии, посмеиваться — но только за спиной Фиделя. Его необузданный нрав уже тогда был хорошо известен окружающим.[131]
Отец Лоренте благоволил энергичному и предприимчивому студенту, он считал, что именно такие лидеры нужны будущей Кубе. «Он не был глубоким человеком, но брал интуицией, — вспоминал иезуит. — Настоящий радар! И ещё в нём была испанская жестокость… Кубинцы мягче… Кубинец скорее уступит, чем заставит страдать окружающих. Испанец, особенно с севера, из Галисии, жесток».[132]
Независимая, освобождённая от Испанской империи Куба не стала страной, на примере которой можно было бы знакомиться с преимуществами демократического правления. Разгул насилия не утихал, смена власти сопровождалась кровопролитиями, диктатуру Джерарда Мачадо сменяла диктатура Фульгенсио Батисты. В латифундии отца Кастро мог наблюдать, как легко покупались и продавались голоса на местных выборах, какими бесправными оставались рядовые граждане. На таком фоне всякий легко мог вообразить себя принципиальным высокнравственным защитником права и справедливости.
Что и произошло с Фиделем Кастро к концу его окончания учёбы на юридическом факультете Гаванского университета (1950). Есть соблазн выстроить цепочку знаменитых адвокатов — Робеспьер, Ленин, Кастро — и покатить очередной обвинительный шар в сторону этого «крапивного семени». Но на это нам ответят напоминанием о том, что почти половина подписантов американской Декларации независимости тоже были адвокатами. Вот если бы существовал на свете некий невидимый международный «Университет бунта», тогда мы имели бы право объявить, что в 24 года Фидель Кастро закончил его, получив диплом с отличием.
Комментарий второй: В ПОГОНЕ ЗА БЕССМЕРТИЕМ
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.
Владимир СоловьёвИменно так следует объяснять глубинный смысл всех религиозных войн, всех историй о добровольном мученичестве за свою веру, всех массовых самосжиганий, также как и свирепых преследований еретиков и иноверцев. Чужое бессмертие угрожает моему тем, что оно ставит моё бессмертие под сомнение, обесценивает его, лишает уникальности, открывет атакам рационализма и скепсиса.
Но начиная с эпохи Просвещения религия перестаёт быть главным пристанищем и утолителем человеческой жажды бессмертия. Реформация разрушила единство христианской церкви, и люди начали искать новых путей приобщения к вечности. В конце 19-го века французский мыслитель Гюстав Лебом писал в своей книге «Психология народов и масс»: «Рождение новых богов всегда означало зарю новой цивилизации, и их исчезновение всегда означало её падение. Мы живём в один из тех исторических периодов, когда на время небеса остаются пустыми. В силу одного этого должен измениться мир».
Вместо культа святых мощей, священных текстов, вековых обрядов богослужения, статус божественности приобрели две вещи: научное познание и свобода человеческой личности. Обе новые святыни оставляли свои следы и в далёком прошлом. Богиня Афина в античном пантеоне символизировала мудрость и познание. Свободу воспевали древние поэты и песнопевцы. Среди бессмертных богов Олимпа, правда, ей не нашлось места, поэтому её образ в изобразительном искусстве пришлось создавать заново. Художник Делакруа нарисовал её в виде полуобнажённой красавицы на баррикадах, Бартольди и Эйфель создали знаменитую гигантскую статую на входе в нью-йоркскую гавань.
У новых святынь было одно огромное преимущество: они не были привязаны к истории какого-нибудь одного народа, представлялись заведомо интернациональными. Новый культ легко пересекал государственные и языковые границы. Торжественная тишина библиотек, музеев, лекционных залов вполне соответствовала молитвенной тишине и убранству храмов. Кости ихтиозавров под стеклом музейных стендов были уж точно древнее любых мощей христианской церкви.
Выше, в Летописи Второй рассказано о том, что все пятеро персонажей этой книги сделались страстными книгочеями. И вот важная деталь: половина из прочитанных ими томов были книгами, переведёнными с других языков. К новому бессмертию можно было приобщиться теперь, даже если ты не знал ни латыни, ни греческого. Пока образование было привилегией верхних слоёв общества, оно впитывалось параллельно с воспитанием, то есть с приобщением к неким моральным и эстетическим ценностям. С момента, когда оно стало доступно всем, ситуация изменилась. Ни про одного из наших персонажей нельзя было сказать, что он был человеком «хорошо воспитанным».
Отбор произведений для перевода на иностранные языки, конечно, следовал указаниям компаса успеха. Те авторы, которые сделались властителями дум своего народа, первыми попадали в поле зрения переводчиков. А в 19-ом столетии подавляющее большинство успешных авторов имели очень трудные отношения со старым Богом. Гёте больше интересовался Мефистофелем, Лермонтов — Демоном, Байрон — Дон Жуаном. Пушкин написал откровенную сатиру на Деву Марию и архангела Гавриила. Русские литераторы создали целую галерею образов богоборцев, и вскоре читатели других наций могли читать драматические жизнеописания Рахметова, Базарова, Раскольникова. Томас Джефферсон и Лев Толстой вообще переписали Евангелие по своему вкусу.
Но самый мощный переворот в умах и душах произвели две книги. Одна раскрывала бескрайние, дух захватывающие просторы прошлого Земли, другая — её будущего. Чарлза Дарвина и Карла Маркса с увлечением прочли все пять будущих фараонов. Но каждый выбрал из них только то, что лучше соответствовало его предубеждениям и страстям.
Нельзя забывать о том, что утолять жажду бессмертия дальнозоркому гораздо труднее, чем близорукому. Ужас небытия подступает к нему вплотную, сознание своей неизбежной смертности гнетёт, приводит в отчаяние, нередко доводит до самоубийства. Близорукий же легко принимает общепринятые описания прошлого и будущего и строит из них домик для своей души, в котором непременно будет отведена маленькая светёлка для надежды на жизнь вечную.
Чарлз Дарвин, воспитанный в англиканской вере, готовившийся стать пастором, вовсе не хотел нанести удар христианству. Как натуралист он всматривался в чудеса Творения с восторгом и благодарностью. Ему, как и миллионам других верующих, казалось невозможным уйти от ответа на вопрос «Кто же сотворил всё это?». «Бог», уверенно отвечали священнослужители всех ответвлений христианской религии, и возразить им было нечего.
Однако в своём историческом развитии церковь, стремясь к увеличению паствы, зашла слишком далеко в прославлении Божественной доброты, справедливости и любви к человеку. Как ловкий адвокат она пускалась в хитроумные объяснения океана страданий, переживаемых реальным человечеством. «Это вам в наказание за грехи и несоблюдение заветов!». «Это испытание, через которое нужно пройти, чтобы заслужить жизнь вечную!». «Поспешите под благословенную сень храма, припадите к иконе, купите индульгенцию, внесите взнос на заупокойные службы, и ваши страдания пойдут на убыль, а шансы на жизнь вечную сильно возрастут».
Дальнозоркий слишком хорошо видел эти рекламно-торговые уловки. Он не мог утолить свою жажду бессмертия, искал её на других путях, становился агностиком, деистом, еретиком, вольтерянцем, либертинцем, масоном. О каком Божественном милосердии может идти речь, если всё творение построено на пожирании одних существ другими? Для Дарвина последней каплей, разрушившей веру во всеблагого Творца, явилась смерть дочери Энни, уж точно не успевшей совершить достаточного числа грехов за десять лет своей жизни. И тогда он решился опубликовать свою теорию эволюции, вполне предвидя взрывные последствия этого акта.
Выход в Англии книги «О происхождении видов» в 1859 году произвёл настоящую сенсацию. Будто тёмная завеса упала с великой тайны. Всё сотворено естественным отбором — какое облегчение! Больше не надо было обременять себя чувством благодарности к Сотворившему тебя. Его не было, его нет, он плод фантазии неразвитых умов. Мы сотворены бездушной природой и имеем право оставаться такими же бездушными, как она!
Битвы между старой картиной мироздания и новой закипели на книжных и журнальных страницах, в университетских аудиториях, в учёных собраниях, даже в судебных залах. Они продолжаются и в наши дни. Правда, в веке двадцатом начали раздаваться голоса, призывавшие к «мирным переговорам», указывавшие на возможности совмещения двух враждебных взглядов. В философии Анри Бергсон выступил с трудом «Творческая эволюция», Бердяев с книгой «Оправдание творчества». В художественной литературе Торнтон Уайлдер в романе «День восьмой» подводил читателя к мысли, что Господь продолжает творить, Кафка в «Процессе» рисовал неуничтожимость, неотменяемость морального суда. Член ордена иезуитов, антрополог и теолог Пьер Тейяр де Шарден своей книгой «Феномен человека» протягивает оливковую ветвь между спорщиками. В афористике мелькнуло очаровательное восклицание русско-еврейской актрисы Фаины Раневской: «Господи, благодарю тебя за Происхождение видов».
Но, конечно, голоса миротворцев не могли заглушить боевые клики тех, кто звал к непримиримой борьбе. «Коммунистический манифест» был написан в те же годы, что и «Происхождение видов», и начал завоёвывать умы и души так же бесповоротно. Если Дарвин представил людям картину далёкого прошлого Земли, Маркс описывал бескрайние простроры будущего. И делал это, опираясь на культ двух новых святынь: науки и свободы.
В современном мире многие отвергают политическую направленность марксизма, но мало кто покушается на его экономические постулаты. Между тем, в своём исследовании экономики Маркс отбросил ровно половину материала, лежавшего уже в его время перед глазами исследователей. Хозяйственная жизнь человечества состоит из двух сфер: производства и потребления. Каждый житель земли выступает в двух ипостасях: как производитель и как потребитель. Маркс же вглядывается только в процессы потребления и распределения продукта. Производство его просто не интересует. Нигде он не задаётся вопросом, почему одни народы богатеют, достигают процветания, а другие — беднеют, какие силы и процессы способствуют повышению эффективности производства, какие — препятствуют.
Примечательно, что марксизм становился особенно популярным в первую очередь среди людей занятых умственным трудом, то есть не производящих ничего полезного собственными руками. Им отрадно было принимать простое объяснение обидного чужого богатства: грабёж! Все чудеса цивилизации, все храмы, акведуки, дворцы, музеи, соборы с органами, сады и парки появились на свет в результате погони за наживой, которая составляет смысл жизни бездельника-эксплуататора-буржуя. Единственный способ положить конец тысячелетнему грабежу: отменить вообще институт частной собственности. Только если всё будет принадлежать всем, грабёж станет бессмысленным.
Марксист упрямо закрывает глаза на то, что понятие «собственность» содержит два элемента: не только «владею», но и «управляю». Если собственник не умеет или отказывается управлять, распоражаться, улучшать, богатство растает, утечёт из его рук. Участок земли перестанет плодоносить, скот захиреет, мельница развалится, корабль утонет. Но такие возражения в «Коммунистическом манифесте» объявлены «попытками притупить классовую борьбу пролетариата и примирить противоречия». Идейные оппоненты марксизма объявлены прислужниками господствующего класса эксплуататоров, которым оставлено только одно: «содрогаться перед надвигающейся коммунистической революцией».
Нужно ли удивляться тому, что такое учение и такие лозунги смогли в 20-м веке покорить половину земного шара? Ведь здесь человеку открывалась возможность утоления всех трёх главных страстей. Ниспровержение богатых и знатных сулило упоительную реализацию жажды самоутверждения. Вооружённый бунт мирового пролетариата — небывалые возможности сплочения. Горячая благодарность грядущих поколений за отвоёванное для них светлое будущее — это ли не бессмертие, да ещё в надёжной, научно обоснованной упаковке?
Сама ожесточённость гражданских войн нашего времени заставляет вспомнить религиозные войны. Так не сражаются за территории или за собственность, так сражаются только за бессмертие. Марксисты, конечно, вписывали эти побоища в теорию классовой борьбы — мол, класс эксплуататоров упорно сопротивляется исторической неизбежности, пытается отстоять свои привилегии. Но численность эксплуататоров в любом народе в десять, двадцать, тридцать раз меньше числа «угнетённых». Как это жалкое меньшинство могло так упорно сопротивляться армиям «красных» и даже нередко выходить победителем?
Я посмею предложить объяснение неприемлемое для марксиста и материалиста: в этих битвах сходились две формулы бессмертия, мирное сосуществование которых казалось людям невозможным. Навстречу интернациональному коммунизму возрождался глубинный, старинный, никогда не умирающий культ моего племени, моего рода, моей кровной связи с предками и потомками, получивший в политической истории ярлык «национализма».
Подавляющее число гражданских войн нашего времени можно интерпретировать как битвы между коммунистами и националистами. «Красные» победили в России (1921), Югославии (1945), Китае (1949), Северной Корее (1953), Кубе (1959), Вьетнаме (1975), но были отбиты в Финляндии (1918), Испании (1939), Греции (1949), Южной Корее (1953). Там, где противостояние не дошло до открытой полномасштабной войны, всюду марксисты-коммунисты были остановлены военными переворотами, совершёнными ярыми националистами: Хорти в Венгрии (1919), Пилсудский в Польше (1920), Муссолини в Италии (1922), Ататюрк в Турции (1923), Салазар в Португалии (1932), Гитлер в Германии (1933), Перон в Аргентине (1943), Сухарто в Индонезии (1965), Пиночет в Чили (1973).
Ещё одно наблюдение представляется весьма многозначительным: большинство протестантских стран Европы оказались невосприимчивы к пропаганде коммунизма и национализма. И это при том, что они давали приют самым радикальным проповедникам и того, и другого: Марксу, Энгельсу, Бакунину, Ленину, Муссолини. Думается, что протестантизм, будучи на тысячу лет моложе католичества и православия, не успел так закостенеть в догматизме и схоластике, как исходные ветви христианства. После четырёх веков развития он был ещё полон живых токов и оставлял человеку достаточный простор для утоления жажды бессмертия. Сюда же можно отнести и другой важный факт: среди десятков крупных тиранов, разгуливающих по 20-му веку, мы не найдём, кажется, ни одного, кто бы созревал в протестантской или иудейской семье.
Итак, следует признать, что погоня за бессмертием перенеслась из сферы религиозного противоборства на просторы политических баталий. Всюду, где мы видим людей, идущих на верную смерть, отстаивая свою мечту о наилучшем государственном устройстве, мы имеем право считать, что их настоящая цель — жизнь вечная.
В жарких политических дебатах знание истории, экономики, социологии, литературы играет огромную роль. Это оружие, побеждать без которого невозможно. Введение всеобщего обязательного образования в 19-м веке совершило переворот не только в истории культуры, но и в политической истории. То, что раньше было доступно немногим, стало всеобщим достоянием. Это всё равно, что распахнуть двери арсеналов с оружием: входи любой, вооружайся и иди в бой.
Начитавшись взрывоопасных переводных книг, пятеро наших героев ринутся в борьбу и станут предлагать своим народам разные формы бессмертия. Сталин, Мао, Кастро будут звать на бой за царство коммунизма, не имеющее границ в пространстве и времени. Муссолини пообещает итальянцам вернуть им гражданство в Древней Римской империи и повести на бой за расширение её сегодняшних и будущих границ. Гитлер — восстановить для немцев кровную связь с древними германскими племенами и подарить им Тысячелетний рейх, в котором никогда не будет заходить солнце. Интересно, учтут ли будущие фараоны тот факт, что звавшие к коммунизму прожили долгую жизнь и умерли, окружённые всеобщим поклонением своих подданных, а звавшие к национализму — погибли один за другим, потерпев полное поражение от своих врагов?
Летопись третья. ИХ БУНТ
Против Российской империи
Выступая на тайных собраниях рабочих, Сталин строил свои речи по самой упрощённой схеме: «Почему мы так бедны? Почему так бесправны? Что можно сделать, чтобы изменить это?» Ответ был один: «Поднимайтесь на революционную борьбу для переустройства жизни по учению Карла Маркса».
Среди его слушателей было много неграмотных, обрывочно знакомых только с библейскими текстами, услышанными в церкви. Проповедь отказа от собственности была им известна, так же как слова «священный», «вечный», «бессмертный». Они легко ассоциировали свои сходки с собраниями ранних христиан. Одним из подпольных псевдонимов Сталина было слово «Поп».[133]
Он вскоре рассорился с более умеренными проповедниками марксизма, примкнушими к меньшевистскому крылу социал-демократической партии. Те считали своей главной задачей повышать уровень образованности рабочих, расширять их кругозор. «Мы должны учить их только одному — быть революционерами», — настаивал Коба-Сосо.
Вскоре ему в руки попали статьи единомышленника, скрывшегося под псевдонимом Тулин. В них проповедывались идеи безжалостной вооружённой борьбы. «Я должен встретиться с этим человеком любой ценой!», — восклицал Коба. Работа, называвшаяся «Что делать?» (1902), стала его священным писанием. Впоследствии он заявлял: «Если бы не Ленин, я мог бы остаться хористом в церковном хоре».[134]
В конце 1901 года подпольщик Коба появился в Батуми. Этот портовый город на берегу Чёрного моря бурно развивался в связи с постройкой в нём крупного нефтеперерабатывающего завода. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что именно вскоре после прибытия Кобы на складах завода вспыхнул пожар, а рабочие устроили забастовку и демонстрации, при разгоне которых несколько человек погибло. Свидетели вспоминают, что Коба привозил раненых в квартиры сообщников и помогал перевязывать их. «Мы потеряли товарищей, но победили, — говорил он. — Весть об этих схватках облетит всю страну».[135]
Несмотря на постоянные смены псевдонимов и квартир, Коба на этот раз не смог увернуться от полицейских ищеек. Он был арестован во время очередной сходки и помещён в тюрьму. Ему пришлось быстро осваивать правила тюремного существования, и эта наука впоследствии была широко использована им при организации советского ГУЛага.
Как правило, политических заключённых помещали отдельно от уголовников, видимо, опасаясь распространения революционной пропаганды. Но Сталин с первых же дней и в последующих ссылках явно предпочитал сближаться с ворами и бандитами. «Среди интеллигентов слишком много шпиков», — объяснял он.[136] Скорее всего, причина была другая. Над образованными людьми доминировать было труднее. А подчинять других своей воле было с юности любимым занятием Кобы, страдавшего от многих комплексов.
Связь между камерами осуществлялась при помощи специального «тюремного телеграфа» — перестукивания с использованием примитивной «морзянки». Если камеры находились на разных этажах, пакетик с посланием можно было спустить на шнуре через решётку открытого окна. Получатель прочитывал его, писал ответ и отправлял его тем же способом обратно.[137]
Сокамерники вспоминали, что в заключении Коба сохранял абсолютное спокойствие. Ничто не могла заставить его выйти из себя, потерять самообладание. Так же нельзя было представить его расхохотавшимся или, тем более, — плачущим.
Во время прогулок во дворе можно было не только обмениваться новостями, но и передавать распоряжения на волю через тех, кому предстояло скорое освобождение. Разрешались визиты родных (мать Сосо дважды навестила его), и это тоже использовалось как ниточка связи. Коба мог из камеры руководить ячейками в других городах наподобие того, как это делает мафиозный босс в сегодняшней Америке.
Он строго соблюдал собственный распорядок дня в тюрьме. После утренней разминки приступал к чтению и изучению языков. Камера стала для него настоящим университетом. Потом общался с теми, кто признавал его лидерство, рекомендовал им чтение по истории и экономике. Однажды заключённый из соседней камеры спросил его о «Коммунистическом манифесте». Зарешеченные окошки в дверях были открыты для вентиляции, и Коба стал читать манифест вслух. Вдруг в коридоре раздались шаги. Сталин замолчал. Подошедший надзиратель негромко сказал:
— Зачем замолчал, дорогой? Читай дальше.[138]
Правила содержания в царских тюрьмах допускали многие вольности, о которых и мечтать не могли бы узники тюрем в СССР. Разрешалось получать газеты и журналы, устраивать лекции и семинары. Прибытие новых заключённых и выход на волю сопровождались хоровым исполнением «марсельезы» и размахиванием красными флагами. Сталин несколько раз организовал групповое фотографирование сокамерников. Когда комендант тюрьмы в Кутаиси попытался ужесточить правила, вся тюрьма, по сигналу Кобы-Сосо, начала колотить металличечскими мисками по железным дверям с такой силой, что грохот вырывался на улицу. Коменданту пришлось уступить.[139]
Ссылки на Север и в Сибирь давали ещё больше возможностей для всяческих видов неподчинения. По правилам, ссыльные должны были арендовать жильё у местных крестьян, и для этого им выплачивалась определённая сумма. Также разрешалось получать по почте письма, деньги и посылки с одеждой и продовольствием. Деньги можно было использовать для подкупа местной полиции, для найма помощников для побега. Сталин убегал из ссылок шесть или семь раз и потом, под вымышленными именами и с поддельными докумантами, путешествовал по стране и даже уезжал за границу.[140]
Историки и биографы Сталина много внимания уделили обвинениям в сотрудничестве с охранным отделением, которыми его осыпали многие соратники. Лёгкость и частота побегов, мягкие приговоры суда, наглое проживание беглого ссыльного в столицах, тайные пересечения границы — всё это выглядит подорзрительно. Однако при этом забывают, что притвориться добровольным осведомителем — обычный и широко распространённый приём любой организованной преступности. В случае провала и ареста подсудимый сможет заявить, что действовал по заданию стражей закона. Следователям очень нелегко оценить меру подлинности информации, получаемой от агента. В верхнем эшелоне партии большевиков орудовал высокооплачиваемый двойной агент Малиновский. Когда его разоблачили, он уверял, что сам Ленин знал о его двойной роли и санкционировал её, ибо она давала возможность дезинформировать охранку, пусть даже ценой арестов не очень важных членов партии.[141]
Эта тактика использовалась позже и в преступном мире США. Так, Джек Руби, когда ему нужно было в 1959 году несколько раз посетить революционную Кубу с целью выкупа и вызволения мафиозных боссов, арестованных там, притворился добровольным осведомителем. Так же поступил и Ли Харви Освальд в Далласе летом 1963 года, и получал от местного отделения ФБР по 200 долларов в месяц.[142]
Что же касается Сталина, мы вправе допустить, что в какие-то моменты он вёл игру с Охранным отделением. Но то, что игра эта была разоблачена, показывает жестокая ссылка в Туруханский край (1914), в которой будущий вождь народов чуть не умер и просидел вплоть до Февральской революции 1917 года.
Первая встреча Сталина с Лениным произошла в декабре 1905 года, во время конференции социал-демократов, состоявшейся в финском городе Таммерфорсе. Несмотря на преклонение перед статьями партийного лидера, Сталин позволял себе по некоторым пунктам возражать тому, кого он называл «горный орёл». Острая дискуссия разгорелась по вопросу: принимать ли участие в выборах в открывшуюся Думу или игнорировать их? Ленин был за участие, Сталин — против. После долгих споров Ленин уступил и даже предложил Сталину написать соответствующую резолюцию по данному вопросу.[143]
Однако в остальном солидарность двух большевистских лидеров оставалась ненарушимой. Они оба были убеждены, что не массы рабочих и крестьян могут произвести революцию, а только сплочённая группа конспираторов-профессионалов, подчиняющаяся железной военной дисциплине. В верхнем эшелоне этой группы не должно было быть места настоящим рабочим — они слишком легко подчинялись минутным эмоциям, угрозам властей, соблазну подкупа, влиянию семьи.[144] Революция требовала человека целиком — только так у неё был шанс на победу.
Самый большой конгресс партии социал-демократов произошёл в Лондоне в мае 1907 года. На нём присутствовало 92 большевика, 85 меньшевиков, 54 члена еврейского Бунда, 45 польско-литовских социалистов — всего более 300 делегатов. Журналисты дежурили у входа в здание, делали фотоснимки. Газета «Дэйли Миррор» вышла с крупным заголовком: «История творится в Лондоне». Открыл конгресс лидер российских марксистов Плеханов.[145]
Споры разгорались по многим вопросам, страсти кипели и в перерывах между заседаниями. Благодаря усилиям Ленина, его однопартийцам удалось завоевать большинство в Центральном Комитете. Однако, вопреки его возражениям, Конгресс категорически запретил ограбления, ибо это бросало тень на репутацию социал-демократов. Нарушителям грозило исключение из партии.[146]
Могли ли смириться с этим убеждённые конспираторы? Каким образом добывать деньги на святое дело революции? Пожертвования богачей вроде Саввы Морозова и Виктора Тихомирова, сборы средств, проводимые Максимом Горьким, были явно недостаточны. Ленин и Сталин сошлись на том, что подчиняться этому запрету настоящий революционер не должен. Какое великое дело можно совершить, если под ним «не струится кровь»?
Против итальянских богатеев и попов
Бунтовать против начальства и наставников Муссолини начал уже в школьные годы. Его одноклассники вспоминали эпизод, когда он устроил «хлебный протест». В столовой ученикам давали такой заплесневевший и засохший хлеб, что об него можно было сломать зубы. «Вы обращаетесь с нами хуже, чем с нищими в приюте», заявил в лицо ректору юный борец за справедливость. Куски хлеба замелькали в воздухе. «Нет! — Бенито властно поднял руку. — Швыряться хлебом значит оскорблять еду бедняков». Дело было передано на рассмотрение городскому совету, и тот принял сторону протестующих.[147]
В те же годы он делал первые шаги на поле революционной пропаганды. Собрав в коровьем хлеве окрестных крестьян, читал им вслух роман Гюго «Отверженные». Судьба беглого каторжника Жана Вальжана, геройство маленького Гавроша, бои на баррикадах в революционном Париже проникали в души его слушателей глубже, чем политические памфлеты и листовки.[148]
В публичных выступлениях он быстро овладевал эффектными театральными приёмами и пускал их в дело при самых неожиданных обстоятельствах. Однажды в Лозанне ему довелось принять участие в религиозном диспуте. Встав перед своим оппонентом, местным пастором, он извлёк из кармана часы и громко объявил: «Сейчас три с половиной часа пополудни. Если Бог существует, я даю Ему пять минут, чтобы поразить меня насмерть».[149] Естественно, Господь не справился с поставленной Ему задачей и был посрамлён.
Религия и священники были постоянным объектом злобных нападок со стороны Муссолини. «Когда же люди освободятся от тирании религии, этой аморальной болезни ума?! — восклицал он. — Кто такой был Христос, как не жалкий, ничтожный человек, сумевший за два года обратить в свою веру всего несколько деревень и учениками которого была дюжина невежественных бродяг, подонков Палестины?».[150]
В начале 20-го века атеизм стремительно проникал во все сферы жизни в Европе. Он быстро приобретал черты догматизма и нетерпимости свойственные многим религиозным течениям. Итальянские социалисты запрещали своим членам участвовать в христианских обрядах. За крещение ребёнка или церковное бракосочетание могли исключить из партии. В то время как христианство было раздроблено на множество вероисповеданий — католицизм, лютеранство, кальвинизм, православие, англиканство и так далее, — атеизм находил силу в полном единодушии своих адептов.
Нападки на папу римского привлекали много сторонников в лагерь Муссолини. «Именно выпады против католической церкви, “этого великого трупа”, и Ватикана — “притона нетерпимости и банды грабителей”, а также против христианства в целом — “аморального позорного клейма для человечества” — привели к его аресту и выдворению из Австрии после короткого тюремного заключения».[151]
Возможно, сам Муссолини затруднился бы ответить на вопрос, кого он больше ненавидит — попов или богачей? Софистические формулы Прудона — «собственность это воровство» — или Маркса — «источник любого богатства — эксплуатация» — имели в его мозгу вес абсолютных истин. Гневные тирады, вылетавшие из его уст, часто были окрашены откровенной завистью, и он даже не пытался скрывать этого.
«Смотрите, — говорил он своей приятельнице, русской социалистке Анджелике Балабановой, показывая рукой в сторону ресторанов и отелей в городе Лугано. — Эти люди едят, пьют и наслаждаются жизнью. А я должен ездить в вагоне третьего класса и есть жалкую, дешёвую пищу. Боже мой, как я ненавижу богачей! Почему я должен страдать от такой несправедливости? Сколько это может продолжаться? Когда же наступит день мести?».[152]
Среди социалистов было немало людей, открытых националистическим идеям, считавших себя патриотами Италии. Таких Муссолини называл «лакеями буржуазного капитализма», «рабами национализма и патриотизма», которых следовало бить и бить, «пока их предательство дела пролетариата не будет разоблачено. Ибо пролетариат должен оставаться «антипатриотичным уже по своему характеру» и ему необходимо разъяснять, что национализм — это «маска грабительского милитаризма», которую следует «оставить господам», а национальный флаг — это просто «тряпка, место которой на помойке».[153].
Для юного ниспровергателя разницы между республиками и монархиями не существовало. На приютившую его Швейцарию он обрушивался с красочными инвективами: «Это демократия сосисочников, которая никогда не знала, как найти способ выразить протест, и притворялась, что не понимает своего огромного позора, уверовав, видимо в то, что яблока Вильгельма Телля достаточно для увековечивании традиций свободы».[154]
Постепенно он стал приобретать известность в провинции Романья. В возрасте двадцати пяти лет «товарищ Муссолини» представлял собой заметную силу, о нём писали газеты. С присущей ему горячностью он принял участие в одном из аграрных конфликтов между подёнными рабочими и их «угнетателями» и за резкие высказывания попал на три месяца в тюрьму.[155]
Отделения полиции в Италии, Швейцарии, Австрии имели досье на Муссолини, которые распухали с каждым годом. Полиция города Форли характеризовала его как опасного и непредсказуемого подстрекателя всевозможных насилий. В 1909 году он получил пост редактора в италоязычной газете, выходившей в австрийском городе Тренто. Одиннадцать выпусков этой газеты были арестованы и запрещены властями, а редактор попадал под арест шесть раз, пока, наконец, не был выслан из страны.[156]
Борьба европейских государств за обладание колониями протекала в течение четырёх веков. В начале 20-го века Италия включилась в эту борьбу, избрав объектом для нападения Северную Африку. Под предлогом защиты собственности проживавших там итальянцев, она отвоевала у Турции Триполитанию и Киренаику.[157]
Муссолини выступил с яростными протестами. «Международный милитаризм продолжает предаваться оргиям разрушения и смерти… С каждым днём растёт кровавая вершина гигантской пирамиды из пожертвованных жизней, на которой в ожидании стоит Марс со своим ненасытным, перекошенным в адской ухмылке ртом… Пока существуют отечества, будет существовать милитаризм. Отечество — это призрак подобный Богу, и подобно Богу он мстителен, жесток и коварен… Продемонстрируем же, что отечества не существует, точно так же, как не существует Бога».[158]
Словесными протестами дело не ограничилось. «В знак протеста против этой гибельной войны комитет Всеобщей конфедерации труда призвал провести всеобщую забастовку… Но для Муссолини этого было мало. Призывая рабочих Форли приходить на политические митинги не с пустыми руками, а с оружием, он агитировал не за забастовку, а за революцию; сам он возглавил банду, которая в течение двухдневных беспорядков в Форли занималась тем, что ломала кирками трамвайные линии».[159]
Последовал арест и суд, на котором Муссолини защищал себя сам. В заключение своей речи он объявил судьям: «Если вы оправдаете меня, это доставит мне удовольствие; если осудите, я приму это за честь». Он получил пять месяцев тюрьмы. Но его репутация непримиримого борца так возросла, что по выходе на свободу его избрали в Исполнительный комитет итальянской социалистической партии и предоставили должность редактора в миланской газете «Аванти!», с зарплатой в 500 лир в месяц.[160]
Против Веймарской республики
В начале 1919 года разорённая войной Германия стремительно погружалась в послереволюционный хаос. В Баварии он обернулся созданием республики советского образца, которую возглавил левый социалист, еврей, Курт Эйснер. Но 21 февраля он был убит, и это произвело такое возмущение, что на волне протестов коммунистам удалось захватить власть в новорожденной республике. Правда, их правление оказалось недолгим. После двух недель демонстраций, забастовок, кровопролитных стычек рейхсвер сумел взять ситуацию под контроль. Военное руководство видело главную опасность в брожении умов и поспешило создать Информационный отдел, которому поручалось наблюдать за политическими настроениями военнослужащих и вести среди них соответствующую пропаганду.
Видное положение в этом ведомстве занял капитан Карл Мэйр. Ему были выделены значительные фонды для найма лекторов и информаторов и для организации антибольшевистского просвещения солдат и офицеров. В списке нанятых им сотрудников имя капрала Адольфа Гитлера появляется уже в июне 1919 года. Эту дату можно считать моментом вступления будущего фюрера на политическое поприще, а капитана Мэйра — его крёстным отцом.[161]
Видимо, незаметно для себя, Гитлер оттачивал приёмы ораторского искусства во время дебатов с соседями по общежитию для холостых в Вене, в мюнхенских пивных, на солдатских собраниях в своём батальоне. Этот опыт он описал в книге «Мейн Кампф»: «Одного года в Вене мне хватило, чтобы убедиться, как восприимчивы простые рабочие к ясно выраженным идеям… В дебатах победа всегда была на моей стороне. Массы можно спасти, если уделять этому достаточно времени и терпения».[162]
Темы его лекций для военнослужащих охватывали широкий круг проблем. «На ком лежит вина за Мировую войну?»; «Дни Баварской республики»; «Условия для мира и реконструкции»; «Эмиграция»; «Социальные и экономические лозунги». Его увлечение новой ролью было абсолютным. Солдаты поддавались его ораторским приёмам, пробуждались от апатии и безразличия к предметам далёким от их повседневного быта. Впервые Гитлер чувствовал, что он обладает настоящим даром и может рассчитывать на успех.[163]
В сентябре 1919 года он вступил в Немецкую рабочую партию, насчитывавшую тогда немногим больше пяти сотен членов, и вскоре сделался её ведущим оратором. Слушателей завораживала его страстность, эрудиция и абсолютная уверенность в истинах, которые он изрекал. Один из них впоследствии описал свои впечатления:
«Я был полностью захвачен с самого начала. Его слова шли от сердца, в них не было ничего театрального… Это было абсолютно непохоже на то, что мы привыкли слышать на собраниях… Он поднял самую больную тему дня, условия Версальского договора, и задал самые важные вопросы: что такое немецкий народ сегодня? Какова его реальная ситуация? Что можно сделать, чтобы изменить её? Он говорил два с половиной часа, и часто его речь прерывалась взрывами аплодисментов… Какая-то сердечная струна откликалась в каждом из нас. Конец его речи утонул в овациях. Хотя я не был членом партии, с этого вечера я поверил в то, что если одному человеку по силам изменить судьбу Германии, то этим человеком может быть только Гитлер».[164]
Главными объектами гневных филиппик Гитлера были правители Веймарской республики (их он называл «ноябрьские преступники»), промышленники и торговцы, нажившиеся на войне, явные и тайные марксисты-большевики, а также политики-демократы, ратующие за равенство народов, неспособные понять исключительность и величие немецкой нации. И конечно, в конце каждой речи на поверхность выныривала зловещая фигура еврея — тайного манипулятора всех процессов гибельных для других народов, готового идти на любые преступления ради достижения своей цели: мирового доминирования иудейской расы.
Неизвестно, читал ли Гитлер книгу Густава Лебона «Психология толпы», завоевавшую популярность в конце 19-го века. Там французский философ писал: «Односторонность и преувеличенные чувства толпы ведут к тому, что она не ведает ни сомнений, ни колебаний… Высказанное подозрение тотчас превращается в неоспоримую очевидность. Чувство антипатии и неодобрения, едва зародившееся в отдельном индивидууме, в толпе тотчас же превращается у него в самую свирепую ненависть».[165]
Парламентской демократии в речах Гитлера достаётся град язвительных насмешек. «Это сборище говорунов занято лишь придумыванием успокоительных элексиров для вспышек недовольства тех или иных групп. Фермерам будет обещана забота о сельском хозяйстве, промышленникам — о сбыте продукции, учителям — повышение зарплат, служащим — увеличение пенсий, налоги и тарифы станем уменьшать, о вдовах и сиротах заботиться… Буржуазные политики в своём безумии воображают, что такими мерами они смогут противостоять еврейскому порыву к доминированию над миром, порыву, который использует лом и кирку возмущённого пролетариата, ведомого большевиками».[166]
Пламенная устная речь имеет то преимущество перед печатным словом, что ей нет нужды избегать противоречий. Кто из слушатлей способен запомнить, что именно оратор утверждал час назад? В одном выступлении Гитлер мог призывать к тому, чтобы антисемитская пропаганда избегала эмоций, базировалась на строгой научной логике. В другом он доказывал, что только «буря страстей может менять судьбу народов, и раздувать её может только тот, кто сам несёт пожар страсти в своём сердце. Только она даст избраннику слова, которые как удары молота откроют говорящему врата в человеческое сердце».[167]
Обрушиваясь на слепоту буржуазии, вообразившей, будто она уже обезопасила себя от коммунизма русского образца, он объясняет, что жажда доминирования является инстинктом любой нации. Войдя в раж, забывает исключительную злокозненность евреев, и вещает, что и «англо-саксонский мир тоже стремится захватить контроль над миром и ведёт свою войну своим особым оружием».[168]
Нередко он отдаёт должное марксистским методам борьбы. «Карл Маркс взглядом пророка проник в мессиво разлагающегося мира, извлёк оттуда самые сильные яды и как колдун смешал их в концентрированный раствор, которым можно быстро покончить с существованием независимых наций».[169] В другой речи даже призывает использовать тактику своих врагов. «Успех интернационализму принесла не глубина идей, а то, что они были представлены политической партией, организованной на военный манер… Не безграничной свободой интерпретировать идейную платформу, а только сужением этой свободы мы сможем достичь единства, сражаться и побеждать».[170]
Оратор и агитатор Гитлер не знал усталости. В течение 1920 года он выступил больше тридцати раз на митингах, собиравших от 800 до 2000 слушателей, и множество раз делал доклады на партийных собраниях. В начале февраля выступил перед аудиторией в шесть тысяч, в самом большом мюнхенском зале. Но не оставались без внимания и другие города Баварии.[171]
Гитлер постоянно подчёркивал разницу между национал-социалистами и депутатами пангерманского направления в Рейхстаге. Те обещали своим сторонникам в случае победы на выборах материальные льготы, выгодные посты, престижные должности. Это привлекало к ним прагматиков, интересующихся улучшением собственного благополучия, неспособных следовать идеалистическим устремлениям. Новому движению националистов нужны герои, готовые к самопожертвованию, то есть устремлённые к бессмертию. «Каждый вступающий в нашу партию должен помнить, что она не может предложить ему ничего в настоящем — только славу и честь в грядущем».[172]
В начале 1920 года произошло знакомство Гитлера с капитаном Эрнстом Рёмом. Программа нацистской партии привлекала боевого офицера своей нацеленностью на решительные действия, готовностью применять насилие в политической борьбе. При покровительстве рейхсвера Рём организовывал и вооружал добровольческие отряды штурмовиков. Он идеализировал дружбу окопных ветеранов и считал, что управлять страной должна сплочённая военная элита.[173]
В январе 1921 года в Париже состоялась конференция держав-победительниц, которая наложила на Германию огромные репарации в размере 132 миллионов золотых марок. Гневу Гитлера и его партии не было предела. Огромный зал в Мюнхене сняли для проведения митинга протеста. Арендовали несколько грузовиков, которые разъезжали по городу, разбрасывая листовки.[174] Однако единодушие продлилось недолго. Часть нацистского руководства вступила в переговоры о слиянии с социалистами. Это так взбесило Гитлера, что он объявил о выходе из партии.
Потерять своего лучшего, своего самого знаменитого оратора? На это руководство пойти не могло. Оно попросило непокорного перечислить условия, на которых он готов был вернуться в ряды. Полученный перечень не оставлял сомнений в намерениях восходящей политической звезды. Он потребовал, чтобы его сделали председателем партии с диктаторскими полномочиями; чтобы штаб-квартира партии всегда оставалась в Мюнхене; чтобы выработанная им программа и устав не подвергались коррективам; чтобы были оставлены всякие попытки переговоров о слиянии с другими партиями. Условия были приняты, и 29 июля 1921 года победитель с триумфом выступил перед пятью сотнями членов партии национал-социалистов. С этого момента титул «фюрер» останется за ним навсегда.[175]
Тем временем инфляция марки росла неудержимо. Цены на продукты поднялись в восемь раз по сравнению с концом войны и продолжали лететь вверх. В таких условиях яростные нападки Гитлера на правительство в Берлине вызывали бурную поддержку слушателей. Страсти накалялись, порой на улице начинались рукопашные схватки с коммунистами. В июле 1922 года после одной из таких драк Гитлер был арстован, и ему пришлось провести месяц в тюрьме.[176]
Напряжение в стране нарастало. Всё больше волонтёров записывалось в штурмовые отряды Рёма. Теперь у национал-социалистов по сути появилась своя частная армия, у которой были тесные дружеские связи с рейхсвером. Казалось, достаточно будет искры, чтобы эта пороховая бочка взорвалась. Такой искрой явилась оккупация Рурской области, осуществлённая Францией в январе 1923 года.
Против китайских эксплуататоров и милитаристов
В нашей пятёрке бунтарей Мао Цзедун выглядит самым уравновешенным, рассудительным, наименее подверженным порывам страстей. В молодые годы он оказался не перед стеной устойчивой государственной машины, как остальные, а в бурлящем послереволюционном потоке различных политических, религиозных, социальных течений и водоворотов. Он честно искал в них свой путь, вглядывался в происходящие перемены, сравнивал с тем, что он знал об истории Китая и других стран.
В годы Первой мировой войны Япония усилила свои притязания на китайские территории. Слабое правительство новорожденной Китайской республики поддалось нажиму и в 1915 году уступило ей порт Циндао. По стране прокатилась волна возмущения. Мао присоединился к протестующим, выразил свои чувства в стихах:
Седьмое мая — Ужасный позор Отчизны! Чем отомстим мы, студенты? Своими жизнями![177]Бунт ради бунта не импонировал Мао, он искал бунтарству теоретические обоснования. «Продолжительный мир без всяких беспорядков был бы невыносим, — писал он. — Человек всегда ненавидел хаос, стремясь к порядку, не отдавая себе отчёта в том, что хаос — тоже часть исторического процесса, он тоже имеет ценность в реальной жизни… Когда люди читают о мире, они испытывают скуку и отбрасывают книгу прочь… Период мира не может продолжаться долго, он противен человеческой природе».[178]
Известия о российской революции были встречены с огромным воодушевлением китайскими радикалами. Один из них, директор библиотеки, в которой Мао получил работу, так выразил свои чувства: «Русская революция знаменует изменения в сознании не только русских, но и всего человечества XX века… Мы должны с гордостью приветствовать русскую революцию как свет новой цивилизации. Нам надо внимательно прислушаться к вестям из новой России, которая строится на принципах свободы и гуманизма. Только тогда мы будем идти в ногу с мировым прогрессом. И не следует впадать в уныние от временных неурядиц в сегодняшней России».[179]
Большой интерес вызывало также движение анархистов. На китайский были переведены книги Кропоткина, Бакунина, Штирнера, Прудона. Об анархизме Мао много узнал от своего наставника, Чэня Дусю, который долгое время был для него настоящим гуру. В 1919 году Мао откликнулся на арест Чэня гневной статьёй:
«Опасность заключается не в нашей военной слабости или в недостаточности финансов и не в раздробленности страны… Подлинная опасность состоит в том, что духовный мир китайского народа абсолютно ничтожен. Из 400 миллионов населения Китая 390 миллионов суеверны. Они верят в духов и демонов, в предсказания судьбы… Индивидуум, личность, истина совершенно не признаются… Формально Китай — республика, а на деле — автократия, которая становится всё хуже и хуже по мере того, как один режим сменяет другой… Господин же Чэнь всегда выступал за науку и демократию… Этими выступлениями господин Чэнь обидел общество, и общество отплатило ему арестом и заключением».[180]
Победа большевиков в гражданской войне в России необычайно подняла престиж марксистских идей во всём мире. Мао, давно знакомый с трудами Маркса, Энгельса, Ленина, всё больше проникался их мировоззрением. Первую коммунистическую ячейку ему удалось создать в Чанше в 1921 году. Первый съезд Коммунистической Партии Китая (КПК) состоялся в июле того же года. Он выработал программу, включавшую основные пункты программы большевиков.
«А) вместе с революционной армией пролетариата свергнуть капиталистические классы, возродить нацию на базе рабочего класса и ликвидировать классовые различия; Б) установить диктатуру пролетариата, чтобы довести до конца классовую борьбу вплоть до уничтожения классов; В) ликвидировать капиталистическую частную собственность, конфисковать все средства производства, как то: машины, землю, постройки, сырьё и т. д., и передать их в общественную собственность; Г) объединиться с коммунистическим интернационалом… Наша партия полностью порывает все связи с жёлтой интеллигенцией и с другими подобными группами».[181]
Приходится изумляться тому, как быстро примчались из Москвы в бурлящий Китай агенты Коминтерна. Россия была разорена гражданской войной, но при этом у большевиков в руках оказались огромные финансовые средства, полученные в результате конфискаций имущества казнённых и эмигрировавших «эксплуататоров». Эти средства они могли щедро распределять для поддержки «перманентной мировой революции». В 1921 году КПК получила из Москвы 16 тысяч китайских долларов, в следующем — почти столько же. Членские взносы при этом составляли меньше тысячи, потому что большинство партийцев нигде не работали, жили на деньги Коминтерна.[182]
Ещё более широкая поддержка была оказана большевиками партии Гоминьдан, возглавляемой известным китайским революционером Сунь Ятсеном. Видный деятель этой партии, генерал Чан Кайши, посетил Москву в 1923 году и убедил верхушку Политбюро в том, что главную задачу китайские националисты видят в борьбе с мировым империализмом, захватившим обширные территории страны под видом иностранных концессий. С этого момента Гоминьдан стал получать из России не только деньги, но также оружие, боеприпасы, военных советников. За короткий срок было поставлено 40 тысяч винтовок, 40 миллионов патронов, 48 орудий, 230 пулемётов, 10 тысяч ручных гранат, 12 горных пушек. На создание школы для офицерского состава Национальной революционно армии (НРА) в 1924 году было прислано 900 тысяч рублей.[183]
Одним из самых активных представителей Коминтерна, курировавших КПК, был Михаил Бородин. Он настаивал на том, чтобы коммунисты соединились с Гоминьданом и постепенно изнутри меняли ориентацию этой партии, ослабляли её националистические тенденции, склоняли к участию в мировой революции. Чэнь Дусю и Мао Цзедун понимали невыполнимость такой программы, но возражать не смели, боясь лишиться финансовой поддержки. Недаром в качестве одного из своих многочисленных партийных псевдонимов Бородин пользовался словом «Банкир».[184]
Главной сферой активности китайских коммунистов в эти годы была организация профсоюзов и инспирирование стачек. Мао энергично участвовал в этом. В июне 1925 года в забастовке в Шанхае приняли участие 200 тысяч человек. Для подавления её в гавань вошли 26 иностранных судов, на берег высадился десант морской пехоты — американской, английской, итальянской. В начавшейся стрельбе 40 китайцев погибло, 120 были ранены.[185]
Активное участие Мао Цзедуна в подстрекательстве беспорядков не прошло незамеченным. По счастливой случайности, его друг, работавший в уездной администрации прочитал на столе своего начальника телеграмму, присланную губернатором: «Немедленно арестовать Мао Цзедуна. Казнить его на месте».[186]
Пришлось срочно бежать в Кантон. Там к этому времени Гоминьдану удалось создать комитет, объявивший себя новым правительством Китайской республики, и сформировать Национальную революционную армию (НРА) из шести корпусов. Среди офицеров этой армии оказалось немало коммунистов. Мао получил пост заместителя директора отдела пропаганды в деревне, его будущий соратник Чжоу Эньлай — пост начальника политотдела 1-го корпуса.[187]
Между тем в далёкой Москве большевистское Политбюро вело дискуссии о том, какую тактику следует применять в Китае. Спорщиков не смущало то, что ни один из них не бывал в стране, не знал ни её истории, ни социальной структуры. У них зато был опыт раскола российской партии эсеров на «левых» и «правых», и многие считали, что с Гоминьданом можно будет проделать то же самое. Троцкий и Зиновьев выступали за выход КПК из Гоминьдана, Сталин решительно возражал им.
Мао Цзедун был отлично осведомлён о том, что происходит в китайской глубинке. Но и его ум начинал буксовать, когда он пытался подогнать реальность под марксистские схемы классовой борьбы. В декабре 1925 года он писал: «Кто наши враги, кто наши друзья? Все, кто находится в союзе с империализмом, — милитаристы, бюрократы, крупные дичжу (землевладельцы), класс реакционной интеллигенции — вот наши истинные враги. Вся мелкая буржуазия, полупролетариат и пролетариат — наши друзья. Что же касается колеблющейся средней буржуазии, то её правое крыло надо рассматривать как нашего врага… Её же левое крыло можно рассматривать как нашего друга».[188]
Сорок лет спустя, в годы «Культурной революции», он снова воспользуется расплывчатостью подобных сортировок и назовёт пять групп «врагов», которых можно и нужно отправлять под железные палки хунвейбинов и в лагеря «перевоспитания».
Против латиноамериканских диктаторов
В своих воспоминаниях Кастро признаёт, что бунтарский дух бурлил в нём с юных лет. Но объясняет это исключительно обострённым чувством справедливости, морально-этическими принципами, готовностью вставать на защиту обездоленных, бороться с неравенством.[189]
Одной из первых акций открытого протеста явилось его участие в студенческой демонстрации против повышения автобусной платы. Введено оно было не диктатором, а законно избранным в 1944 году президентом Рамоном Грау. Полиция жестоко разогнала демонстрантов. Кастро получил удар прикладом и уже на следующий день явился в редакции нескольких газет с перевязанной головой, давать интервью.
Президент согласился встретиться с делегацией протестующих для переговоров. День был тёплый, и он предложил своим гостям расположиться на балконе дворца. На какое-то время ему понадобилось задержаться во внутренних помещениях, и четверо делегатов оказались одни над цветущими деревьями парка. В этот момент в голове страстного борца за справедливость спонтанно родилась революционная идея.
— Я знаю, что мы должны сделать, — прошептал он. — Старый хрыч сейчас явится сюда один. Нас четверо, и мы легко можем схватить его и сбросить с балкона. Потом после его смерти объявим по радио, что студенческая революция победила.
Друзья попытались отмахнуться от него, но он стоял на своём. Его с трудом удалось утихомирить. Вежливый, не имевший опыта противоборства с прямым насилием президент Кубы, кажется, так и не узнал, как близок он был к смерти в тот день.[190]
Видимо, подобные внезапные идеи отпугивали от Кастро сторонников. Несмотря на многие усилия, ему так и не удалось быть избранным на пост президента студенческой федерации. Дошло до того, что оппоненты пригрозили ему серьёзными последствиями, если он появится на территории кампуса. «Как я прореагировал на это? — рассказывал впоследствии Кастро биографу. — Я пошёл на пляж, упал лицом в песок и плакал… Я знал, что они способны на всё, даже на убийство». Но вскоре самообладание вернулось к нему, и он появился на территории университета — теперь уже с пятнадцатизарядным браунингом в кармане.[191]
Конфликты между студенческими группами часто завершались кровопролитиями. Лидером одной из таких групп, претендовавшим на руководящий пост в студенческой федерации, был Лионель Гомез. Однажды он проезжал в автомобиле по извилистой улице в холмистом районе. На вершине холма находился Фидель Кастро с двумя приятелями. (По их уверениям — случайно). «Давайте прикончим его», — предложил один. «Хорошее дело», — согласился Кастро. Строгое следование морально-этическим нормам поведения, конечно, потребовало немедленно открыть стрельбу. Гомез получил тяжёлые ранения, но чудом выжил. Несколько прохожих были ранены.[192] Имя Лионеля Гомеза в «Автобиографии» Кастро не упоминается.
В 1944 году кубинский диктатор Батиста, под нажимом американцев, уступил верховную власть избранному президенту (тому самому Рамону Грау) и переехал во Флориду. Бунтарский дух кубинской молодёжи искал выхода и отлился в планирование военной экспедиции против доминиканского диктатора Трухильо. Политические пристрастия вооружённой молодёжи, стекавшейся летом 1947 года на мыс Кайо Конфитес, варьировались в широком диапазоне, так же, как и национальный состав: были не только кубинцы, но и добровольцы из Коста-Рики, Перу, Колумбии, Аргентины, Венесуэлы.
Кастро не мог остаться в стороне. Его отец был крайне недоволен политической активностью сына, пытался отговорить от участия, обещал в награду купить новый автомобиль. Но Фидель представил всю затею как моральный долг, лежащий на кубинцах.
— Ты забываешь, отец, что в борьбе за нашу независимость доминиканцы оказали нам огромную помощь пятьдесят лет назад. Сейчас пришло время отблагодарить их и помочь сбросить власть безжалостного Трухильо.[193]
Перед тем как появиться в лагере экспедиционной бригады, Кастро, через посредников, провёл переговоры со своими оппонентами из студенческой федерации и получил от них заверения в том, что во время военных действий они не станут стрелять ему в спину. Организация всей затеи была на невысоком уровне, никто не заботился о соблюдении секретности, и слухи о готовящейся атаке разлетались по всему Карибскому региону. Трухильо имел полную информацию обо всём и обратился к лидерам соседних государств с призывом утихомирить воинственных борцов за свободу. Президент Грау откликнулся на этот призыв, объявил вторжение незаконным и приказал кораблям, уже плывущим в Доминиканскую республику, повернуть.
Что оставалось Кастро в этой ситуации? Его неприкосновенность была обещана ему только на время военных действий. Теперь они отменялись, и его враги могли воспользоваться этим. Он выбрал вариант, показавшийся ему менее опасным: спрыгнул с корабля и проплыл с автоматом в руке восемь миль до кубинского берега по волнам, кишащим акулами. Остальные участники экспедиции по возвращении в порт были арестованы.[194]
В поисках определённой политической платформы Кастро не раз обращался к идее объединения всех испаноязычных государств, создания некого «Испанистана». В поисках поддержки этих начинаний он ездил в Венесуэлу и Панаму, где принял участие в демонстрациях за национализацию Панамского канала.[195] Весной 1948 года делегация кубинских студентов прибыла в столицу Колумбии — Боготу. Там им удалось встретиться с ведущим политиком страны, Хорхе Гайтаном, который выразил горячую поддержку их планам провести международную конференцию молодых противников колониализма, даже обещал выделить для этой цели большое здание в городе.
Встреча состоялась 7 апреля, а два дня спустя Хорхе Гайтан, «надежда колумбийского народа», был застрелен при выходе из своей штабквартиры. Взбешённая толпа тут же забила насмерть стрелявшего, лишив полицию возможности провести расследование и найти организаторов убийства.[196]
Город взорвался. Толпы разъярённых людей атаковали президентский дворец, здание парламента, полицейские участки, жгли дома, лавки, автомобили. Часть армии и полиции присоединилась к бунтующим, и было невозможно отличить тех, кто бесчинствует от тех, кто пытается навести порядок. Кастро был полностью захвачен стихией бунта. С ружьём в руке он метался по улицам, присоединяясь то к одной группе, то к другой. В какой-то момент он даже оказался в полицейском джипе и стал давать стратегические советы сержанту.
Толпа пьянела от вида крови и от вина из разграбленных магазинов. Погромы, получившие название «Боготаз», длились два дня. Результат: пять тысяч погибших и треть домов города сожжена. Кубинцам удалось улететь домой только потому, что их пустили в самолёт, зафрахтованный для транспортировки племенных быков на корриду в Гаване.[197]
Жизнь на родине тоже бурлила и не оставляла студентов без поводов для протестов. В марте 1949 года несколько подвыпивших американских морских пехотинцев были замечены ночью мочащимися около статуи великого героя борьбы за независимость Кубы — Хосе Марти. На следующий день американский посол извинялся перед кубинским народом и перед министром иностранных дел. Но разве могли настоящие патриоты удовлетвориться извинениями? Никогда.
Первым делом Кастро организовал ночную охрану памятника, составленную из студентов-добровольцев. Наутро большая демонстрация протеста направилась от университета к американскому посольству. В окна полетели бутылки и камни. Гнев демонстрантов подогревался тем, что посол в своих извинениях перепутал имя великого Марти.[198]
К началу 1950-х годов на одно из первых мест в политической жизни Кубы выдвинулся радиокомментатор и основатель новой Ортодоксальной партии Эдуардо Чибас. Его пламенные обличительные речи строились на простом всёобъясняющем слове: коррупция. Страну разворовывают правители — это объяснение срабатывает безотказно в любые времена. Проверить — трудно, опровергнуть — невозможно, доказательств не требуется. Но правительство отбивалось тем же оружием — радиопередачами. Министр образования в своей речи назвал Чибаса «клеветником, заносчивым лжецом, посредственным бездельником, демагогом, эксплуататором, не имеющим ни капли патриотизма, ни чувства чести».[199]
В ответном радиовыступлении Чибас обвинил министра в том, что тот украл деньги из школьного бюджета, чтобы купить себе ферму в Гватемале. Увы, эта информация не подтвердилась, и Чибаса уличили во лжи. Враждебная пресса засыпала такими оскорблениями «апостола честности», что он впал в тяжёлую депрессию. Его состояние ухудшалось и внезапно конфликт обернулся трагедией: видный политик, имевший шанс стать следующим президентом 15 августа 1951 года закончил очередное радиовыступление призывом к кубинскому народу очистить авгиевы конюшни политики, а для усиления этого призыва выстрелил себе в живот.[200]
Он умер после девяти дней мучений в больнице. Страна погрузилась в траур. Фидель Кастро к тому времени сотрудничал с Ортодоксальной партией, но не занимал в ней никаких постов. Непонятным образом ему удалось выдвинуться на роль организатора похорон. Он настоял, чтобы прощание с телом проходило на территории университета (ведь полиция не имеет права соваться туда!), и простоял 24 часа в почётном карауле под вспышками фотокамер. Огромная стотысячная толпа собралась, чтобы проводить тело на кладбище. В этот момент Кастро отвёл в сторону партийного лидера, Падро Ладу, и горячо стал убеждать его изменить маршрут шествия.
— Мы не должны упускать такое массовое проявление народного горя. Мы должны отнести тело в президентский дворец.
— Для чего? — не понял Лада.
— Чтобы захватить власть. Ты объявишь себя президентом, меня — начальником вооружённых сил. Уверяю тебя, если мы отнесём тело во дворец, президент Прио удерёт из страны.
— Фидель, забудь эти безумные планы. Шествие охраняет батальон гвардии, отряды полиции. Если они откроют огонь, могут погибнуть тысячи людей.
— Они все трусы и не посмеют ничего сделать. Давай отнесём Чибаса во дворец и посадим труп в президентское кресло.[201]
Падро Лада категорически отказался менять маршрут похоронного шествия, и процессия двинулась на кладбище. Впоследствии выяснилось, что, действительно, батальон охраны получил строгий приказ не применять оружие, что у солдат были только холостые патроны, и что на отдельной взлётной полосе в аэропорту стоял самолёт готовый умчать президента Прио за границу.[202]
После гибели Чибаса Кастро пытался подхватить его знамя борьбы с коррумпированным правительством. Газета «Алерта» регулярно печатала его разоблачительные статьи. Однажды он даже переоделся садовником, прокрался в загородное поместье президента и сделал фотографии шикарного бассейна с фонтанами и водопадами, обширного стрельбища и самого хозяина, любезно принимающего толпу гостей. Газета напечатала их под заголовком: «Вот так президент живёт на деньги, украденные у народа».[203]
Тем временем бывший диктатор Батиста вернулся в страну и тоже включился в политическую жизнь, став сенатором. Приближались президентские выборы 1952 года, но опросы общественного мнения показывали, что никаких шансов на победу у него нет. Зато его авторитет в вооружённых силах был ещё очень высок. Он воспользовался этим, чтобы повторить то, что он с успехом проделал уже в 1933, — ночью 10 марта устроил военный переворот, который занял немногим больше часа и стоил жизни только двум солдатам. Президент Прио улетел в Мексику, а Батиста занял его место, плюс объявил себя заодно и премьер-министром, и главнокомандующим.[204]
Конец демократии на Кубе прошёл незамеченным в мире, в котором полыхала Корейская война, Британия объявила о создании атомной бомбы, а США — об испытании водородной, не утихала стрельба на Ближнем Востоке, Сталин казнил недостаточно послушных чешских лидеров, а немцы тысячами бежали из Восточной Германии в Западную. Зато с этого момента Фидель Кастро мог забыть о зарубежных диктаторах. У него появился близкий кубинский объект для свержения, борьба с которым заполнила следующие семь лет его жизни.
Комментарий третий: СЧАСТЬЕ НИСПРОВЕРГАТЬ
Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова…
Александр ПушкинМы все любим побеждать и покорять. Соперника, горную вершину, морские глубины, гордую красавицу, быка на арене, конкурента на рынке. И чем сильнее противостояние, чем грознее наш соперник или конкурент, или силы природы, тем слаще победа. Но чтобы мы решились ринуться в борьбу, нам необходим хоть маленький проблеск надежды на успех. Если такой надежды нет, мы не двинемся с места. Или со вздохом пойдём покупать лотерейные билеты — ведь там огонёк надежды светит каждому.
Победа приносит счастье, поражение — горечь и отчаяние. Ну, а нельзя ли отыскать — выбрать — такое противоборство, где бы победа была гарантирована, а поражение исключалось? Оказывается, такое завидное занятие есть. Оно известно с древних времён и практически доступно всем и каждому. Называется оно «ниспровержение кумиров». Живых и мёртвых, в камне и бронзе, реальных и символических, зримых и невидимых. Всё, что окрашено людским поклонением или хотя бы почтением, годится на роль объекта ниспровержения.
Скорее всего, знаменитый Герострат не имел ничего лично против богини охоты Артемиды. Он с таким же успехом мог бы поджечь храм другой небожительницы — Геры, Афины, Афродиты. Слава смелого ниспровергателя была бы ему гарантирована на века независимо от того, кого бы он выбрал для нападения. В наши гуманные времена самым священным кумиром сделалась человеческая жизнь. Поэтому для серийных убийц настало раздолье. Остаётся только состязаться друг с другом — кто отправит на тот свет больше сограждан. Но даже и жалких полдюжины уже гарантируют тебе место в газетных заголовках и теленовостях по всему миру.
Многообразие возможных объектов ниспровержения неописуемо. Можно швырять помидоры в неугодного политика или облить его зелёнкой. Можно прокрасться ночью на еврейское кладбище и рисовать свастики на могильных плитах или посреди дня влететь в Божий храм и исполнить зажигательный канкан перед алтарём. Если вы живёте в Америке, можно разрушать памятники генералам южан, а если в Польше, Литве, Латвии, Украине — памятники генералам Красной армии. Нью-Йоркские бедняки размахивали плакатами с серпом и молотом перед зданием банка на Уолл-Стрит, а московские автомобилисты привязывали к антенам своих машин презервативы, и это тоже виделось смелым знаком протеста. Ниспровержение видных политиков и звёзд шоу-бизнеса за старинные сексуальные приставания к женщинам превратилось в США в настоящую эпидемию.
Любой религиозный догмат или запрет будет всегда приманивать на себя тучи ниспровергателей, а любой уличный оратор знает, что собрать вокруг себя изрядную толпу легче всего, если вставлять перед каждой фразой призыв «долой!». Театральность и экстравагантность тоже могут иметь успех. Если вы решили выразить свой протест, прибив собственную мошонку гвоздями к брусчатке на Красной площади, это увидят миллионы зрителей и владельцев смартфонов. И полуобнажённые красавицы могут не очень заботиться о том, какие именно лозунги писать у себя на голой груди — внимание публики уже гарантировано.
Заманчивость ниспровергательства состоит в том, что оно переносит надежду на победу из «сегодня» в неопределённое будущее. Ленин, как и большинство ниспровергателей Российской монархии, ещё в декабре 1916 года выражал сомнение, что его слушателям доведётся дожить до победной революции. Она мерещилась ему и его последователям как далёкая цель, устремлённость к которой освещала и оправдывала всю повседневную убогость эмигрантского существования.
Далеко не все ниспровергатели вступают в ряды профессиональных подпольщиков-революционеров. Достаточно выражать сочувствие и одобрение актам протеста, оказывать финансовую помощь активистам, восхвалять в литературе смелых революционеров. Толстой призывал не противиться злу насилием, но ниспровергатели-террористы всё равно считали его своим. Ведь это он умел придавать их страстям видимость высоких устремлений, когда писал, что «социализм — это просто воплощение христианских идей в экономической сфере».
Не всегда удаётся понять, что вызвало гнев тех или иных ниспровергателей. Кому мстил Тимоти Маквей, взрывая федеральное здание в Оклахоме? По какому принципу выбирал своих жертв Тед Качинский, рассылавший пакеты с бомбами по почте? Недавно по Америке прокатилась новая волна протестов: футболисты высшей футбольной лиги при звуках национального гимна перед игрой не замирают с рукой на сердце, как требует традиция, а опускаются на одно колено. Эти-то чем недовольны? Что их зарплаты измеряются только миллионами, а не десятками миллионов долларов? О дискриминации чёрных смешно говорить, когда речь идёт о виде спорта, в котором белые игроки едва составят десять процентов.
Смутная мечта о светлом будущем — важная составляющая любой ниспровергательной схемы. Царствие Божие на земле, страна Утопия, фаланстёр Фурье, комфортный пансионат из снов Веры Павловны, бесклассовое общество, всеобщее равенство, оздоровление расы, победа разума и справедливости, правительство без коррупционеров, новый халифат — всё можно пустить в дело, всё годится. Светлое будущее хорошо тем, что вовсе не обязательно пускаться в рискованные эскапады ради достижения его или в трудную укладку фундамента и возведение стен. Вполне достаточно в уюте своей кухни шёпотом поносить врагов всего светлого и тешиться чувством собственной правоты и превосходства над ними.
Хотя выбор объектов для ниспровержения невероятно широк, самым манящим во все века остаётся институт верховной власти. Это она проклятая — всегда она! — преграждает путь к улучшениям жизни. Недаром она так защищает себя, так безжалостно карает за любую критику, даже за призывы хотя бы к косметическим реформам. История любого недемократического государства включает в себя тысячи трагических судеб тех, кто решался на открытый протест, — тюрьмы, ссылки, казни. И ведь, как правило, в большинстве своём эти мученики были самыми прозорливыми гражданами страны. Ибо только дальнозоркий способен вступить в противоборство, не обещающее победу в настоящем, довольствоваться надеждой на победу в далёком будущем.
«Склонитесь первые главой / под сень надёжную законов», — призывал монархов юный Пушкин и был изгнан из столицы.
«Свободы, гения и славы палачи!», — обличал «стоящих у трона» Лермонтов и был отправлен на гибельный Кавказский фронт.
Достоевский всего лишь принял участие в политико-философских беседах, и его приговорили за это к расстрелу.
Но как только Россия попыталась в 1861 году откликнуться на веянья века и ступить на путь либерализации, ниспровергатели воспользовались этим и перешли от слов к пистолетам, кинжалам, бомбам. А в сфере теоретической на первое место вышли нигилисты, анархисты, атеисты. И конечно, громче всех звучал голос Льва Толстого, призывавшего ниспровергать всех монархов, живых и мёртвых, всех министров, судей и генералов, всех новомодных писателей, а заодно Шекспира, попов и всю православную церковь.
Если ниспровергательный азарт найдёт объект, способный объединить миллионы, в стране происходит революция. Чаще всего она вынесет на вершину власти самого страстного и заслуженного ниспровергателя, который на собственном опыте знает, как опасны протестующие бунтари и умеет затыкать им рты. Цензура, слежка, аресты, высылки, казни обрушатся на тех, кто не сумеет вовремя подавить свою страсть к ниспровержению. Остальным будет разрешено утолять её раскулачиванием, погромами и грабежом еврейских магазинов, расклейкой дадзыбао, борьбой с вредителями и безродными космополитами, с правыми уклонистами, с валютчиками и даже с воробьями, клюющими зёрна на полях. И конечно — словесным ниспровержением лидеров других стран, этих прислужников капитала, разжигателей войны, душителей свободы. В таких условиях разве что отчаянный Мандельштам решится «припомнить кремлёвского горца», но безотказно будет отправлен за это на гибель в Гулаге.
Ну, а что произойдёт, если народ сумеет избежать опасности диктатуры и действительно выстроит прочную демократическую постройку? На чём будут утолять страсть к ниспровержению граждане свободной республики? О, они получат бескрайние возможности утоления её ниспровергая друг друга. Повседневная политическая борьба в демократических странах, дебаты в прессе и на митингах, изобретательные поношения политических оппонентов, поиски «скелетов в шкафу», «дохлых кисок» и прочего компромата на кандидатов противной партии заполняют жизнь правящей элиты и, в меньшей степени, всего электората.
Опасность, однако, состоит в том, что, как и другие варианты жажды самоутверждения, страсть к ниспровержению ненасытима. Постепенно она размывает правила политического противоборства, делает разрешёнными приёмы и методы, которые раньше считались недопустимыми. Во времена правления Франклина Рузвельта пресса считала недостойным выносить на свет детали его личной жизни. Пятьдесят лет спустя сексуальные эскапады президента Клинтона обсасывались всеми газетами, журналами и телевизионными каналами вплоть до таких деталей как пятна спермы на голубом платье его возлюбленной, Моники Левински.
Начало 21 века оказалось золотой порой для тех ниспровергателей, которые обосновались в юридической сфере. Нет такого поступка или такого стечения обстоятельств, которое ловкий юрист не смог бы представить как злонамеренное нарушение закона, совершённое политиком в корыстных целях. Судебным преследованием грозили Курту Вальдхайму в Австрии, Никсону, Рейгану и Клинтону в США, Берлускони в Италии, Жаку Шираку и Николя Саркози во Франции, Кристине Киршинер в Аргентине, Дилме Руссефф в Бразилии, Михаилу Саакашвили в Грузии, Кристиану Вульфу в Германии, Януковичу в Украине, Нетаньяху в Израиле. За решёткой оказались Беназир Бхутто в Пакистане, Юлия Тимошенко в Украине, Моше Кацав и Эхуд Ольмерт в Израиле.
Разгул ниспровергателей в прессе и юстиции крайне затрудняет выбор политической карьеры для человека, дорожащего своей репутацией. Кто может решиться ступить на этот путь, зная, что не только ты сам попадёшь под безжалостный микроскоп опытных очернителей, но и все твои близкие и родные окажутся под ударом? Нужна была безоглядность Дональда Трампа, чтобы добровольно сунуться в это осиное гнездо. Неизвестно, долго ли он усидит в президентском кресле. Но уже десятки людей, согласившихся участвовать в работе его правительства, были облиты грязью и вынуждены уйти со своих постов.
В любом народе существует некое дальнозоркое меньшинство, способное смотреть в будущее, планировать защиту от грядущих опасностей, вырабатывать разумные законы. Ему всегда противостоит близорукое большинство неспособное видеть далеко вперёд, интересующееся только злобой дня, сиюминутными заботами. Между близорукими и дальнозоркими всегда протекает скрытое противоборство, тлеет враждебность, бурлит взаимонепонимание. Дальнозоркие призывают удвоить трудовые усилия или отказаться от каких-то свобод сегодня, чтобы завтра пожать золотые плоды реформ. Близорукое большинство не верит в эти прогнозы, отказывется приносить необходимые жертвы.
Так как страсть ниспровержения готова удовлетворяться победой в далёком умозрительном будущем, ясно, что она будет сильнее гореть в душах дальнозорких. Это они способны устремляться к утопиям, к миражам идеальных форм человеческого общежития, не обременяя себя вопросом, выполнимы эти мечты или нет. Поэтому-то во все века и у всех народов дальнозоркие — главная будирующая сила всякого ниспровергательного движения.
Дальнозоркие ниспровергатели тысячи раз демонстрировали жертвенную готовность идти на муки и смерть ради достижения высоких целей. И благодарные потомки впоследствии награждали многих из них почётом, памятниками, музеями, называли их именами улицы и корабли. Настоящий ниспровергатель готов идти в тюрьму, даже погибнуть. Если что-то и может испугать его, это будет скорее вопрос: «А что ты будешь делать, когда победишь?».
Вопрос этот таит множество скрытых ям, интеллектуальных ловущек, засасывающих логических мальстримов. Дальнозоркий подсознательно предвидит, что придётся признать неизбежность и необходимость иерархической пирамиды власти в государстве. Чтобы постройка не рухнула, большинство населения должно признавать власть и подчиняться её приказам. Значит придётся вглядываться в смутные чаяния, верования и порывы страстей близорукого большинства, которому не скажешь «долой!» — другого ведь нет.
Споры о том, с чем готово смириться большинство, начнут раскалывать единодушие бывших соратников по ниспровержению, разрушать их былую солидарность. Даже у большевиков ушло больше десяти лет с конца гражданской войны на то, чтобы покончить с этими спорами и вновь объединиться — теперь уже под властью всемогущего диктатора.
После эмиграции из СССР судьба не раз сводила меня с русскими эмигрантами первой и второй волн (1920-е и 1940-е). Они с интересом расспрашивали меня об экономической структуре «родины социализма», о настроениях и брожении в народе, читали и печатали мои статьи и книги. Но когда я, в свою очередь, пытался расспрашивать их о том, как им видится будущая Россия, ответы были расплывчатыми, противоречивыми. Один из моих собеседников наконец сказал: «Да что тут рассусоливать! Сейчас главное — скинуть большевиков. А там что-нибудь устроится». Ниспровержение оставалось их главным объединяющим лозунгом, паролем, лучом света в сумрак грядущего.
Революция 1991 года, скинувшая большевиков, принесла россиянам невероятное расширение свобод. Могли ли мы, живя в СССР, мечтать, чтобы настали времена, когда нам будет разрешено беспрепятственно путешествовать по всему свету, заводить свои предприятия, читать и писать любые книги, смотреть любые фильмы, создавать торговые и артистические сообщества, даже формировать политические партии. Но сегодняшние дальнозоркие, даже хорошо помнящие советское прошлое, не устают поносить имеющийся аппарат управления страной и жаловаться на нехватку свобод.
Если спросить «каких же именно свобод вам не хватает?», посыпятся ответы: свободы собраний, демонстраций, печати, критики властьимущих и так далее. Дальнозоркий никогда не признает, что все его претензии можно свести к одному: не хватает свободы ниспровергать. А дальше покатится перечень всех прискорбных событий и явлений в стране, всех проявлений тёмных человеческих пороков, вина за которые будет безотказно сваливаться на Кремлёвских заправил. Совсем, как у Льва Толстого: ему рассказывают, что старик в соседней деревне изнасиловал внучку, он плачет и восклицает «До чего попы довели народ!».
Думается, пришла пора в изучении человеческих страстей выделить «жажду ниспровержения» в отдельную категорию рядом с жаждой доминирования, стяжательством, тщеславием, упрямством, властолюбием. В русской литературе эта страсть отражена не только в героических образах, но и в персонажах почти каррикатурных. Репетилов и его «английский клуб» у Грибоедова, Пётр Верховенский в «Бесах» у Достоевского, «пикейные жилеты» в романе Ильфа и Петрова. Пастернак отчеканил в поэме «Спекторский»: «Он был мятежник. То есть деспот».
Ниспровержение привлекательно тем, что выглядит абсолютно бескорыстным. Но если допустить, что человек извлекает из него моральное удовлетворение, оно сразу опустится на уровень других вполне эгоистических влечений. Его тогда будет позволительно сравнить даже с эротическим вожделением. И то, и другое живёт в человеке неистребимо, различны лишь проявления. Эротизм может стать основой глубокой и нежной любви, фундаментом семейного очага. Жажда ниспровержения — помочь в победе над жестоким тираном. Но если судьба человека не дала ему найти партнёра для любовных отношений, он может утолять вожделение мастурбацией или любовью за деньги. Если с жестоким тираном бороться слишком опасно, можно ниспровергать его шёпотом или хотя бы в воображении — это будет по сути актом политической мастурбации. В пределе, безудержный эротизм может толкнуть на изнасилование, безудержная жажда ниспровержения — на политическое убийство.
В истории разных стран случались периоды, когда ниспровергательство становилось модным, а отказ от него карался презрением и осуждением. На студенческих кампусах сегодняшней Америки царит настоящий террор против профессоров, пытающихся уклониться от этой «священной обязанности», не участвовать в очередной кампании ниспровержения. То же самое в культурной среде современной России. Выразить уважение к правителям страны и признать важность и необходимость их работы будет объявлено либо трусостью, либо подхалимажем. Попробуйте сказать слово в защиту политики Кремля и ждите, что бывшие друзья порвут с вами отношения, перестанут отвечать на звонки и письма, объявят «нерукопожатным».
Дальнозоркий ниспровергатель, как правило, уверен, что им движет сочувствие народу, то есть близорукому большинству, желание улучшить его положение. Он воображает, что большинство так же жаждет ниспровергать, как и он, и находит этому множество подтверждений. Он категорически отказывается признать, что в народе сильнее кипит жажда сплочения. А уж если призывать его к ниспровержению, он скорее пойдёт ниспровергать дальнозоркого умника, чванящегося своей образованностью, захватившего все верхние этажи государственной постройки. Именно в порыве «свергать господ» находили опору все знаменитые тираны.
Призывать дальнозорких уменьшить ниспровергательный пыл будет так же тщетно, как призвать человека не вожделеть. Церковь зовёт верующего к этому тысячу лет — он остаётся глух. Единственное, что ниспровергатель мог бы услышать: призыв вглядеться в чувства и страсти большинства, которому он жаждет помочь. «Страсть большинства к сплочению в единой нации, единой церкви, в единой армии, в единой политической постройке так же глубинна и неодолима, как и твоя страсть к ниспровержению. Если ты будешь пренебрегать ею, большинство будет видеть в тебе врага, покушающегося на самое для него дорогое. Рано или поздно на политическую арену выпрыгнет очередной мятежник-деспот, который догадается сплотить большинство в ниспровержении дальнозорких, отдаст вас на избиение новым нацистам, фашистам, сталинистам, хунвейбинам, красным кхмерам, талибам».
Именно это пытались донести до российских ниспровергателей накануне революции 1917 года русские мыслители, собравшиеся в сборнике «Вехи» (1909 год). Их не услышали тогда, их не хотят вспоминать сегодня. И безотказный призыв «долой!» только набирает силу.
Летопись четвёртая. КРОВЬ СТРУИТСЯ
Под небом России
Всего полтора месяца прошло после закрытия Лондонского конгресса 1907 года, когда в Тбилиси произошло крупнейшее вооружённое ограбление банка, о котором сообщили газеты всего мира.
«Эриванская площадь как всегда была полна народа… Два экипажа в сопровождении эскорта казаков подъезжали к зданию Государственного банка. В это время два фаэтона преградили им путь. В одном сидел мужчина в офицерском мундире, в другом две дамы. По команде “офицера” будто из-под земли на площади появляется банда в полсотни человек. На казаков и прохожих посыпались бомбы и пули. В грохоте и дыму бандиты бросились к экипажам с деньгами…»
Всё было кончено в несколько минут. Грабители исчезли со своей добычей, а на площади «остались убитые — казаки, полицейские и солдаты, в клочья разорванные бомбами. И стонущие, изуродованные прохожие».[205]
Число погибших при этом нападении превысило четыре десятка. Всем нападавшим удалось скрыться. Большая часть награбленного была отправлена Ленину в Швейцарию. Полиция при расследовании вышла на одного из сообщников — банковского клерка, сообщившего Сталину время прибытия каравана с деньгами. Когда его спросили, какими методами бандиты заставили его принять участие в преступлении, он признался, что сделал это исключительно из преклонения перед поэтическим даром Кобы-Сосо, чьи стихи он знал наизусть.[206]
Непосредственную команду над грабителями осуществлял большевик Симон Тер-Петросян, по прозвищу Камо. В своё время, ещё в Гори, Сталин открыл ему премудрости марксизма и заполучил на роль преданного друга этого отчаянного головореза. Мало того, что он успешно грабил банки, умел ускользать от полиции, даже убегал из тюрьмы. Камо не требовал от своего наставника никакой платы за свои многочисленные заслуги. Он просил только об одном: «Можно я кого-нибудь зарежу для тебя?». Талант Сталина подчинять людей своей воле обтачивался именно на таких «энтузиастах».
Тбилисское ограбление было далеко не первым «подвигом» Кобы-Сталина на поприще вооружённого бандитизма. В сентябре 1906 года пассажирский корабль «Царевич Георгий» плыл из Одессы в Батуми, делая остановки по пути. В Новороссийске и Сухуми среди новых пассажиров затесалось два десятка большевиков, прячущих под одеждой маузеры и бомбы. Посреди ночи они захватили корабль, под дулом пистолета заставили капитана остановиться. Их главарь, «низкорослый рябой грузин», обратился к команде с такой речью:
— Мы не уголовники, мы идейные революционеры. Революция нуждается в наличных. Чтобы избежать кровопролития, выполняйте все мои команды. Любая попытка сопротивления — и мы перебьём всех и взорвём корабль.[207]
Капитан и команда подчинились. На воду были спущены спасательные шлюпки, налётчики погрузились в них, взяв с собой несколько офицеров в качестве заложников. Матросов заставили грести и на берегу выдали каждому по десять рублей из награбленных денег. На следующий день полиция устроила поиски грабителей по всему побережью, но ни один не был пойман. В Кавказских горах скрыться нетрудно, если ты умеешь пользоваться грузовыми мулами и горными тропинками.[208]
Кровопролития обычно происходили при подавлении стачек и разгоне демонстраций, устраиваемых революционерами. Уже в Батуми Сталин умело использовал традиции кровной мести, призывая забастовщиков мстить за погибших товарищей. Революция 1905 года подняла волну террора на уровень настоящей гражданской войны. «Политические убийства случались чуть ли не каждый день. Землевладелцы, жандармы, чиновники, казаки, полицейские осведомители подвергались нападениям посреди бела дня. Кавказский губернатор докладывал императору, что между февралём 1905-го и маем 1906-го было убито 136 должностных лиц, 72 ранены. По всей империи число убитых и раненых достигало 3600».[209]
29 августа в здании Городского совета в Тбилиси состоялся студенческий митинг для обсуждения политических реформ, предложенных правительством. Внезапно ворвавшийся отряд казаков открыл стрельбу. Результат: 60 убитых, 200 раненых. Сталин призвал к возмездию. Ему удалось сговориться с меньшевиками и подготовить нападение на казачьи казармы. Вечером 25 сентября на вершине Святой горы был поднят красный фонарь — условный знак. На улице, ведущей к казармам началась стрельба. Выскочившие из здания казаки попали под град пуль и бомб.[210]
Оплотом большевиков стал шахтёрский район, примыкающий к Чиатуре. Зная, что поезда, идущие туда, часто подвергаются обыскам, Сталин проложил караванный путь через горы. На мулов и ослов грузили оружие, боеприпасы, печатные прессы, бумагу и доставляли всё это по незаметным тропинкам в условленные места.[211]
Параллельно с убийствами официальных лиц усилились кровавые междуусобия этнических и религиозных групп. Если в России обычным делом были еврейские погромы, то на Кавказе пик вражды проходил между христианами и мусульманами. 21 ноября 1905 года в Тбилиси разгорелось настоящее сражение между армянами и азербайджанцами. 25 мусульман были убиты. В Баку побоища происходили регулярно. Отчаявшийся вице-губернатор предложил боевым отрядам меньшевиков 500 ружей для поддержания порядка. Кое-как боевики усмирили враждующих, но ружья вернуть отказались.[212]
Кровь продолжала «струиться» и внутри тюремных стен. Сталин был арестован в Баку в 1908 году после ограбления портового арсенала. Один его сокамерник рассказывал потом, что Кобе было достаточно обвинить кого-то в доносительстве, и человека могли зарезать в коридоре или забить до смерти.[213]В этом заключении он встретился с двумя людьми, сыгравшими впоследствии большую роль в его жизни: Вышинским и Орджоникидзе.
Всё же контрреволюционные меры в империи начали приносить свои плоды. Аресты, высылки, казни подпольщиков и террористов, с одной стороны, усиление роли Думы и местных органов управления, с другой, ослабляли разрушительные порывы, возрождали надежду на мирное разрешение социальных конфликтов. И вдруг, в апреле 1912 года, революция получила щедрую порцию горючего материала: далеко в Сибири, на золотоносных приисках на реке Лене, армия открыла огонь по бастующим рабочим. 150 убитых, сотни раненых! Большевики были в восторге.[214]
Сталин в то время жил в петербургской квартире большевика Полетаева, пользовавшегося парламентской неприкосновенностью (он был депутатом Думы). Именно там начали выходить первые номера газеты «Правда». В них Сталин печатал статьи, в которых сравнивал волну забастовок, прокатившихся по стране в связи с Ленским расстрелом, с приходом весны, с солнечными лучами, протянутыми к цветущим лугам. Царское правительство он обзывал врагами свободы, защищавшими виселицами и расстрелами рабский режим. Императора Николая называл не «Вторым», а последним. Мог ли кто-нибудь тогда всерьёз поверить, что это пророчество сбудется через каких-нибудь пять лет?
Под небом Италии
В конце июля 1914 года зловещая тень войны надвинулась на Европу. Исполнительный комитет социалистической партии Италии выступил с манифестом, резко осуждающим военные приготовления, призывающим страну к нейтралитету, а народ — к бойкоту призыва в армию. Подпись Муссолини была под этим документом. Что же должно было произойти, чтобы три месяца спустя он, без согласования с комитетом, опубликовал статью, требующую вступления Италии в войну на стороне Франции и Англии? Куда подевался пламенный борец с «международным милитаризмом»?
В ноябре он начал выпускать новую газету «Пополо д’Италия». В статье, озаглавленной «Дерзость», писал: «Я обращаю своё слово к вам, к молодым людям, принадлежащим к поколению, которому судьбою уготовано делать историю. Есть слово, пугающее и пленительное, которое в обычные времена я никогда бы не произнёс, но сейчас, руководствуясь искренней верой, вынужден сделать это во всеуслышанье — ВОЙНА».[215]
Ярости его однопартийцев не было предела. На собрании социалистической партии в Милане, под возгласы «Предатель! Изменник! Убийца!», было предложено исключить Муссолини из партии. Бледный и заметно нервничающий, он вышел на сцену, чтобы ответить критикам. Когда он подошёл к трибуне, крики и насмешки усилились. «Кто тебе платил? Сколько удалось получить?» К ногам его полетели монеты, кто-то даже швырнул стул.[216]
В своих мемуарах Муссолини довольно расплывчато объясняет свои мотивы для такой крутой смены позиции: дескать, возможность поражения Франции представлялась ему серьёзным ударом по свободе в Европе, и поэтому он считал необходимым придти ей на помощь. Но также выражает и своё глубокое убеждение в том, что только большое кровопролитие может объединить народ, вдохновить его на революцию, которая приведёт к настоящему уравниванию всех граждан в правах и обязанностях.[217]
Отечество перестало быть для Муссолини «призраком». Осенью 1914 года он сделался ярым итальянским националистом. И у него нашлось много сторонников. Тираж газеты начал быстро расти. Весной 1915 французское правительство, крайне заинтересованное в получении мощного союзника, начало поставлять по разным каналам тысячи франков в кассу «Пополо д’Италия».[218] Военный энтузиазм в стране нарастал, и в мае итальянское правительство объявило войну Австрии и Германии. Но Муссолини не воспользовался тем, что теперь он стал обеспеченным и независимым владельцем газеты. В сентябре 1915 года он вступил в 11-ый полк берсальеров — элитной пехоты итальянской армии.
Ему довелось испытать все тяготы окопной жизни. Температура в горах опускалась так низко, что «подошвы часовых примерзали к скалам; ледяной ветер разносил вонь трупов; воду приходилось так экономить, что люди не мылись месяцами; одежда кишела вшами; неделями артобстрелы не довали походным кухням достичь фронта, и от голода солдаты принимались есть соломенные чехлы своих фляжек; дожди заливали окопы и, за неимением вёдер, солдаты вычёрпывали воду своими башмаками».[219]
В феврале 1917 года Муссолини чуть не погиб при взрыве испытуемой гаубицы. Четверо находившихся рядом солдат были убиты. Его отбросило в сторону, но тело оказалось изрешечённым осколками. Ему пришлось перенести 27 операций, многие — без наркоза. По выходе из госпиталя он не расставался с костылями несколько месяцев, но вскоре возобновил руководство своей газетой.[220]
Послевоенная Италия была истощена и расколота непримиримыми политическими противоречиями. Социалистическая партия доминировала во многих местных органах власти, и она оставалась крайне антимилитаристской. Демобилизованным офицерам и солдатам она чинила препятствия во всех сферах жизни. Красные флаги развевались на многих ратушах, их могли водрузить даже на церковный алтарь. За участие в воинских похоронах или возложение венка на могилу погибшего исключали из партии.[221]
В войне Италия потеряла 600 тысяч убитыми, полтора миллиона были ранены. Чтобы компенсировать её материальные потери английское правительство секретно обещало присоединить к ней территории на восточном берегу Адриатического моря. Но на Версальской конференции американский президент Вудро Вильсон объявил, что он никаких обещаний не давал и не поддерживает эту сделку. Пересмотр границ должен вестись только в соответствии с принципами самоопределения различных народов.[222]
Воодушевлённые победами большевиков в России итальянские социалисты подбивали рабочих не только на забастовки, но и на захват фабрик. 600 тысяч рабочих металлургической промышленности парализовали заводы на территории от Милана до Неаполя. На улицах было опасно появляться в шляпе, галстуке, меховом пальто, шёлковых чулках, просто с книгой в руках — толпа могла без всякого повода накинуться и устроить самосуд над «богачом». Владелец фирмы «Фиат» Джованни Агнелли, вернувшись в своё отделение в Турине, должен был пройти под аркой из красных флагов. В кабинете он обнаружил, что вместо портрета короля на стене висит портрет Ленина. Подчиняясь угрозам рабочих, он был вынужден поцеловать его.[223]
Возникновение фашистской партии было в значительной мере реакцией на этот разгул насилия. Первые шаги Муссолини сделал весной 1919 года, но осенью на выборах в Милане фашисты потерпели сокрушительное поражение: четыре тысячи голосов против 120 тысяч за социалистов. Торжествующие «красные» окружили штаб-квартиру своих врагов, грозили учинить расправу. Муссолини звонил домой, просил жену спрятать детей. Через пару дней несколько человек признались ему, что им предлагали по двадцать лир каждому за его убийство. «Я думал, что стою дороже», усмехнулся лидер новой партии и заплатил несостоявшимся убийцам из кассы газеты.[224]
Летом того же года на политическую арену внезапно выскочил новый и весьма экзотичный персонаж. Бывший военный пилот, прославленный поэт и писатель Габриэле д’Аннунцио, известный тем, что завершение каждой новой поэмы он отмечал выстрелом из пушки, стоявшей в его дворе, решил не подчиняться решениям Версальской конференции. Он собрал армию в тысячу добровольцев (совсем как Гарибальди!) и они штурмом захватили хорватский город Фиуме на восточном берегу Адриатического моря, в котором проживало много итальянцев. Поэт на несколько месяцев сделался диктатором новой колонии. Это здесь в моду у фашистов вошли чёрные рубашки и древнеримское приветствие вытянутой вперёд рукой. Под нажимом Антанты итальянскому правительству пришлось вмешаться и послать флот для изгнания самозванных колонизаторов. Но сильно возросший числом отряд, по возвращению в Италию, пополнил ряды крепнущей военной организации фашистов.[225]
Правительство в Риме было крайне нестабильно, менялось по нескольку раз в год. Армия пыталась выступать в качестве арбитра и не допустить, чтобы противоборство между «чёрнорубашечниками» и «красными» перешло в полномасштабную гражданскую войну. Главнокомандующий генерал Армандо Диаз видел в фашистах противовес наступлению большевизма. Он даже приказал распространять газету «Пополо д’Италия» в армии бесплатно.[226]
Сам Муссолини не только призывал к использованию оружия — он в буквальном смысле проливал свою и чужую кровь. Хотя дуэли были запрещены в стране, он ввязывался в них много раз, как правило — с политическими противниками, и преимущественно — на саблях и шпагах. На четвёртом десятке лет он был ещё в прекрасной физической форме и регулярно брал уроки фехтования. Его противникам сильно доставалось, один после полуторачасового боя упал с сердечным приступом. Но и сам будущий дуче часто возвращался домой в окровавленной одежде, и его жена жаловалась, что на него не напастись рубашек. Правда, самым серьёзным ранением оказалась отрубленная мочка уха.[227]
Премьер-министр Италии Франческо Нитти, возмущённый поддержкой, оказанной Муссолини оккупации Фиуме приказал арестовать его по обвинению в «вооружённом заговоре против государства». Полиция, ворвавшаяся в редакцию газеты с обыском, обнаружила целый арсенал. Шкафы и ящики были заполнены бомбами и взрывчаткой. Несколько бомб были спрятаны даже в печи. На столе лежал заряженный пистолет и кинжал, а за ними на подставке — чёрный флаг фашистских штурмовых отрядов «ардити» с вышитым черепом. Несмотря на такую добычу, Муссолини был освобождён из-под ареста довольно скоро. Видимо, у него к этому времени в правительстве имелись сильные заступники.[228]
В начале 1922 года оба враждующие лагеря начали готовиться к решительной схватке.
Под небом Германии
Русские большевики в пропаганде национал-социалистов изображались символом мирового зла, нацеленного на подчинение всех народов еврейскому доминированию. «Никогда не забывайте, что руководители сегодняшней России — это просто обычные преступники с руками по локоть в крови, — писал Гитлер. — Это отбросы человечества, которые воспользовались удачным стечением обстоятельств, подчинили себе великую страну и уничтожили тысячи лучших представителей интеллигенции… Не забывайте, что еврей-интернационалист, управляющий сегодня Россией, готовит Германии ту же судьбу».[229]
Наоборот, успехи фашистов в Италии вызывали у нацистов восторг и желание подражать им во всём. Чёрные рубашки, древнеримский салют вытянутой вперёд рукой, лозунг «верить, подчиняться, сражаться!» — всё копировалось с благоговением. Пропагандисты партии теперь могли использовать простую и всем понятную формулу: «Гитлер — это немецкий Муссолини».[230]
Тактика захвата городов небольшими вооружёнными отрядами, применявшаяся итальянскими фашистами в начале 1920-х, была использована нацистами в октябре 1922 года. Гитлер забрал все деньги, находившиеся в партийной кассе, и арендовал специальный поезд, на котором 800 вооружённых штурмовиков прибыли в город Кобург для проведения демонстрации по поводу Дня Германии. Не обращая внимания на протесты и запреты полиции, они развернули знамёна со свастикой и двинулись колонной по улицам. Тротуары были заполнены рабочими и социалистами, они начали осыпать демонстрантов бранью и плевками. Те пустили в ход палки и резиновые дубинки. Побоище оставило множество раненых на мостовой, и Гитлер был очень доволен. На своём лексиконе он называл это «пропаганда действием».[231]
Многие немецкие промышленники и аристократы склонны были видеть в нацистах защиту от распространения коммунизма и негласно делали щедрые пожертвования в их казну. Важную роль играл в этом герой войны, генерал Эрих Людендорф. Поддержка такой видной фигуры поднимала престиж нового движения. Финансовые взносы поступали также из-за границы. Газета «Фолькиш Беобахтер» получала переводы чешских крон, из Цюриха приходили швейцарские франки, капитан Карл Мэйр получил дар в 90 тысяч золотых марок из Франции.[232]
Выплата наложенных репараций оказалась не по силам Германии. Марка стремительно обесценивалась, семейные сбережения, копившиеся годами, превращались в ничего не стоющие бумажки. Та же судьба ждала все страховые полисы. На месячную пенсию уже нельзя было купить буханку хлеба. Оккупация Рурской области, осуществлённая Францией под предлогом неуплаты репараций, лишила страну 75 % потребляемого угля. Доведённые до отчаяния люди с надеждой вслушивались в призывы как Гитлера, так и Тельмана. Между февралём и декабрём 1923 года численность нацистской партии возросла на 35 тысяч членов.[233]
В сентябре в Баварии было объявлено чрезвычайное положение. Вся власть оказалась в руках комитета из трёх человек. Должность верховного комиссара получил Густав Кар. Одним из его первых действий было наложение запрета на четырнадцать митингов, уже запланированных нацистами. Возмущённый Гитлер взывал к триумвирату: «Люди дошли до грани, необходимо показать им, что мы способны предпринимать решительные действия для преодоления кризиса. Иначе половина моих сторонников перекинется к коммунистам».[234]
Восьмого ноября около трёх тысяч видных фигур мюнхенского политического мира собрались в самом большом пивном зале, чтобы отметить пятую годовщину революции, свергшей империю. Верховный комиссар Кар начал читать речь, разоблачающую марксизм. Внезапно около половины девятого в зал ворвалась группа вооружённых людей в стальных шлемах. Посредине прохода они установили крупнокалиберный пулемёт. Гитлер, с пистолетом в руке, взобрался на стул и выстрелил в потолок. Ошеломлённое собрание было вынуждено слушать нового оратора.
Он объявил, что здание окружено отрядом в 600 человек. Что их действия направлены не против баварского триумвирата, а против берлинского правительства, предавшего Германию. Оно объявляется низвергнутым. Баварскому триумвирату предлагается возглавить страну. Не выпуская пистолета из рук, Гитлер предложил всем троим проследовать за ним в контору ресторана, чтобы обсудить распределение ролей в новом правительстве. Себя он поставил во главе, Кару предлагалась роль премьера, другому члену триумвирата — военное министерство, третьему — управление полицией. Гитлер извинился за столь внезапное вторжение, но объяснил его тем, что ситуация не допускает промедлений. Если что-то пойдёт не так, у него в браунинге осталось четыре патрона: по одному на каждого члена триумврата, а последний — себе.[235]
Когда участники совещания вернулись в зал, к ним присоединился появившийся там генерал Людендорф в парадном мундире и заявил, что поддерживает государственный переворот. Ликующий Гитлер объявил о создании нового правительства Германии и стал пожимать руки своим «министрам». Это был его звёздный час, к которому он шёл таким трудным путём. Растерянные участники собрания начали один за другим расходиться и исчезать в ноябрьской ночи.[236]
Тем временем отрядам Рёма удалось захватить здание армейского штаба. Но заговорщики, видимо, плохо изучили итальянский опыт и упустили самое главное: не заняли телеграф и телефонную станцию. Посреди ночи одному из членов триумвирата удалось проникнуть туда и сообщить радиостанциям страны, что их заставили принимать участие в путче под дулом пистолета. Также он связался с армейскими подразделениями в окрестных городах и вызвал в Мюнхен войска лояльные правительству.[237]
Ни армия, ни полиция не поддержали путчистов. Но они не могли смириться с поражением. Утром 9 ноября они собрали демонстрацию в две тысячи человек и двинулись в сторону здания Военного министерства. Первый кордон полиции они преодолели, однако на улице Резидентштрассе дорогу им преградил мощный отряд. Многие участники демонстрации были вооружены. Началась стихийная перестрелка, в результате которой погибли четверо полицейских и 14 путчистов. Геринг был ранен в ногу. Рядом с Гитлером был убит знаменосец, но сам он отделался вывихнутым в свалке плечом. Многим участникам демонстрации удалось скрыться, однако большинство главных путчистов вскоре были арестованы.
Суд над ними начался в феврале 1924 года и длился почти месяц. Судья на каждом этапе проявлял невероятную снисходительность к подсудимым. Гитлеру было разрешено явиться не в тюремной робе, а в штатском костюме с орденом железного креста первой степени на груди. Свои ответы на вопросы он превращал в длинные политические речи. Ему позволили допрашивать членов триумвирата, выступавших в качестве свидетелей. Не было упоминаний ни о погибших полицейских, ни о разрушенных зданиях, ни о имевших место хищениях денежных средств. Обвинение в государственной измене завершилось приговором к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 200 золотых марок.[238]
Содержание в тюрьме больше походило на пребывание в санатории. Камера представляла собой комфортабельную комнату на первом этаже, с широким видом на сельский пейзаж. Тюремщики иногда приветствовали узника негромким «Хайль Гитлер». Он получал горы дружеских писем и подарков. Посетители шли толпами, так что в какой-то момент он был вынужден ограничить их приток. Апрельские газеты сообщили, что отметить его тридцатипятилетие в большом зале собралось три тысячи человек. Заметки восхваляли человека, «который зажёг пламя свободы и народного самосознания в немцах».[239]
В таких условиях началось писание книги «Мейн Кампф».
Под небом Китая
В отличие от России, Италии, Германии, Китай был страной, утратившей в 19-ом веке монархические традиции. Власть императора во многих регионах оставалась номинальной, жизнью людей распоряжались местные царьки, опиравшиеся на военную силу. Революция 1911 года изменила форму, но не могла мгновенно установить централизованное правление. Каждая провинция оказывалась подчинённой какой-нибудь военной группировке, которые вели бесконечную борьбу с соседями, а также часто раскалывались изнутри.
После смерти Сунь Ятсена в 1925 году Чан Кайши стал признанным лидером Гоминьдана. 20 марта 1926 года он совершил военный переворот в Кантоне, объявил чрезвычайное положение, арестовал ряд коммунистов, блокировал резиденцию советских военных советников.[240] В июле НРА, имевшая около 100 тысяч штыков, начала знаменитый Северный поход, в котором ей противостояли крупные соединения местных милитаристов — дуцзюней. В качестве советского военного советника при ней находился известный военачальник Василий Блюхер. Армия националистов добилась успеха, к осени под контролем Чан Кайши оказались огромные территории в долине реки Янцзы.
В эти месяцы Мао Цзедун ещё активно участвовал в мероприятиях Гоминьдана, работал в отделе пропаганды. В мае его назначили директором Курсов крестьянского движения, собравших больше трёхсот слушателей, съехавшихся со всей страны. В докладе, прочитанном перед курсантами офицерской школы НРА, он обрисовал структуру китайской деревни, которую изучал в провинции Хунань. Во всех своих выступлениях и статьях он возвращался к тезису: «Если мы не привлечём на свою сторону крестьянство, революция не сможет победить».
Но крестьянская масса в Китае была крайне неоднородной. В ней существовали богатые и бедные кланы, которые смотрели друг на друга с затаённой враждебностью. Внутри кланов были разбогатевшие крестьяне «тухао» и «шэньши», сдававшие в аренду участки тем, кто был победнее. Отношения были патриархальными, они регулировались старинными обычаями, а не произволом богатых. Иногда бедные родственники получали на выгодных условиях аренды участки, находившиеся в собственности общины. Очень важна была военная защита со стороны дружин миньтуаней, нанятых для защиты от бандитов. Бандиты не обязательно нападали на крестьян, они облагали их поборами и защищали тех, кто исправно платил им откупное.
Делалось это по системе, напоминающей гангстерский рэкет. Очень красочно она описана в романе Перл Бак «Земля». Его герою, Вану, сильно досаждал дядюшка, требовавший то одного, то другого. Когда Ван попробовал взбунтоваться, дядя объявил ему, что он принадлежит к тайной шайке, имеющей свою базу в горах. Если племянник хочет, чтобы его скот, интвентарь и постройки были в безопасности, пусть лучше выполняет каждую прихоть дядюшки. Бедному труженнику ничего не оставалось, как взять дядю с его семьёй на полное содержание, говоря соседям, что это исполнение долга почтения к брату отца.
В нижнем слое сельского населения находились крестьяне-люмпены, которые не умели или не хотели эффективно трудиться на земле, а предпочитали побираться или уходить в бандитские шайки. Именно в этом слое Мао призывал вести пропаганду и искать поддержку. Под влиянием агитации коммунистов во многих областях были отменены выпускаемые Гоминьданом запреты на вступление люмпенов в крестьянские союзы. В результате многие тайные бандитские сообщества, всегда наводившие ужас на благонамеренных крестьян, были объявлены правомочными союзами.[241]
Эти процессы приводили к росту вражды, беззаконий и всяческих насилий в деревнях. Босяки, попадавшие в союзы, издевались даже над небогатыми крестьянами, заявляли, что они все злые тухао. Голытьба облагала налогами и штрафовала всех, кого зачисляла в «мироеды». По сути, в эти годы китайские коммунисты задолго до захвата власти начали то, что в России несколько лет спустя назовут «раскулачиванием».
Раскулачники вламывались в дома тех, кто побогаче, резали свиней, отбирали продукты, третировала женщин. Не останавливались и перед расстрелами. Глумление над святыми местами и объектами религиозного поклонения происходило повсеместно. Хулиганы устраивали попойки в храмах, а старейшины ничего не могли с ними поделать.[242]
Сам Мао занимался тем, что подводил теоретическую базу под необходимость революционного террора. «Революция не званый обед, не литературное творчество, не рисование и не художественная вышивка… Революция — это бунт, это беспощадное действие одного класса, свергающего власть другого класса… Нужно полностью свергнуть власть тухао и шэньши, а самих шэньши повалить на землю и ещё придавить ногой… В каждой деревне необходим кратковременный период террора… Когда выпрямляешь искривлённую вещь, непременно нужно перегнуть её в другую сторону, если не перегнёшь, то и не выпрямишь!».[243]
В марте 1927 года в Ухани состоялся 3-й пленум ЦИК Гоминьдана. Под давлением левых и коммунистов он принял ряд постановлений, нацеленных на уменьшение власти Чан Кайши. Его лишили всех высших постов в партии. Было также решено сформировать новый состав Национального правительства, в котором два министерских поста были отданы коммунистам. Мао Цзедун активно участвовал в заседаниях пленума, выступал с речами, стал кандидатом в члены ЦИК.[244]
И вдруг расклад политических сил в стране резко изменился. 21 марта в Шанхае вспыхнуло восстание рабочих, закончившееся успехом. Местный военный царёк был свергнут и изгнан, уже 22 марта в освобождённый Шанхай вошли части НРА. На следующий день был взят Нанкин. Казалось, Гоминьдан находится на пути к полной победе.
Однако поведение коммунистов на пленуме, а также в городах и деревнях ясно показало Чан Кайши, чего ему следует ожидать от союза с ними. Он повёл переговоры с банкирами и мафиози Шанхая. Банковская корпорация предоставила ему заём в три миллиона долларов и обещала семь миллионов в случае подавления рабочего движения. Ещё был заключён союз с вооружённой группой гангстеров «Зелёный клан», насчитывавшей десятки тысяч членов. Переворот был совершён 12 апреля, и в первые же два дня от начавшегося террора погибло около пяти тысяч человек и столько же было арестовано.[245]
В Москве новости из Китая вызвали бурю негодования. Сталин засыпал КПК телеграммами. «Мы решительно стоим за фактическое взятие земли снизу… Надо вовлечь в ЦИК Гоминьдана побольше крестьянских и рабочих лидеров… Эту партию необходисо освежить… Надо ликвидировать зависимость от ненадёжных генералов… Пора начать действовать. Надо карать мерзавцев».[246]
Но кары пока обрушивались только на самих коммунистов. В провинциях, находившихся под контролем армии Гоминьдана, начались казни. В городе Чанша и его окрестностях за двадцать дней было убито более десяти тысяч человек. Среди жертв террора оказались многие лидеры КПК и провинциального сельского союза. Мао Цзедун считал, что попыткам сотрудничать с Гоминьданом пришёл конец. Единственный оставшийся выход — вооружённое сопротивление. В конце августа на тайном собрании коммунистов Хунани было решено начать формирование войсковых подразделений.[247]
С этой целью Мао отправился по уездам готовить «Восстание осеннего урожая». Но на одном из переходов он был схвачен дружинниками отряда миньтуаней. Те не знали, какая крупная рыба попалась им в сети, и повели пленника в свой штаб. Мао понимал, что в атмосфере террора против коммунистов его там не ждёт ничего кроме казни, и решился на побег. Десять лет спустя он подробно рассказал Эдгару Сноу, как вырвался от своих конвоиров, как взбежал на холм, поросший высокой травой (помогли тренировки юных лет!), как прятался там до захода солнца. Преследователи несколько раз проходили совсем близко, он уже терял надежду, но так и не был обнаружен. На рассвете беглецу удалось уйти в горы и, изранив босые ноги о камни, добраться до крестьянской хижины, где его приютили, снабдили едой и сандалиями.[248]
К концу августа коммунистам удалось сформировать дивизию числом около пяти тысяч штыков. Но ни крестьяне, ни рабочие, ни шахтёры не оказали серьёзной поддержки этому войску. В первых же боях оно было разбито. Полторы тысячи уцелевших бойцов, повязав на шеи красные ленты, начали поход на юг. Они не были знакомы с местностью, не имели достаточных запасов продовольствия и патронов. Переходы под солнцем, эпидемия лихорадки, дезертирство — отряд постепенно таял. В конце октября, потеряв треть своего состава, он достиг высокой горы, носившей название «Гора пяти вершин». Кругом были только зелёные горы, покрытые хвойными деревьями.[249]
«Восстание осеннего урожая» не было санкционировано Коминтерном, поэтому ЦК КПК исключил Мао Цзедуна из Политбюро за «военный авантюризм». Но он отказался признать критику справедливой. К остаткам его отряда вскоре присоединились два бандитских лидера со своими шайками. Так зародилась Красная армия Китая, которой было суждено провести в боях следующие два десятилетия.[250]
Под небом Кубы
В мифологии Кубинской революции штурму казарм Монкадо, состоявшемуся 26 июля, 1953 года, отведено такое же почётное место, какое в мифологии революции Российской занимает «Кровавое воскресенье 9-го января 1905 года» или восстание на броненосце «Потёмкин». Историки и журналисты скрупулёзно восстанавливали поминутную хронику событий, имена участников, их вооружение, карты наносимых ими ударов, дальнейшие судьбы. В конце жизни Кастро с гордостью вспоминал эпизоды боя и заявлял, что всё спланировано было идеально и только цепочка непредвиденных случайностей помешала достигнуть успеха.[251] Но непредвзятый читатель, ознакомившись с историей Монкадо не сможет заглушить в своём сознании простейший вопрос: НА ЧТО ОН НАДЕЯЛСЯ?
После прихода к власти диктатора Батисты открытая оппозиционная деятельность стала невозможной. Кастро пришлось уйти в тень, притвориться практикующим адвокатом, ведущим дела гаванских бедняков. На самом деле, он по-прежнему ничего не зарабатывал, жил на чеки, присылаемые отцом, а большую часть времени проводил в тайной вербовке участников революционного движения. Они не называли себя коммунистами, анархистами, социалистами или националистами. Их объединяла не идея, а преданность лидеру, который взялся вести их к великой цели — освобождению Кубы. Они все были «фиделистами».
В «Автобиографии» Кастро утверждает, что с каждым из участников «движения» он проводил интервью с глазу на глаз.[252] Видимо, к этому времени он уже знал силу собственной харизмы и начисто отбросил принципы коллективного руководства. Вся организация выстраивалась строго по вертикали, лидеры отдельных групп часто не знали друг друга и подчинялись только вождю. Причем, и собрания групп, и военные сборы проходили в строгой секретности.
Удобным местом для сходок оказалась территория Университета, который и при Батисте сохранил экс-территориальность. Страна оправлялась от политической чехарды демократии, экономика была на подъёме, народное недовольство сходило на нет и не сулило поддержки заговорщикам.[253] Примечательно, что среди них очень большой процент составляли испанцы, выходцы из семей республиканцев, бежавших на Кубу после победы Франко в 1939 году.[254]
Сантьяго-де-Куба был выбран местом для нанесения удара по двум причинам: во-первых, Кастро хорошо знал этот город с детства, во-вторых, там в июле проходил традиционный карнавал, так что прибытие большого числа иногородних не должно было вызвать подозрений. Вечером 25-го июля два десятка автомобилей съехались к заранее снятой ферме в окрестностях города. Большинство машин были арендованы в Гаване или других городах. Кастро и пятьдесят лет спустя помнил, чем были вооружены участники, и с гордостью описывал их арсенал: бельгийские охотничьи ружья, «спрингфильды» с затворами, автомат Томпсона, и самая популярная — американская полуавтоматическая винтовка М-1. А главное: все были одеты в форму солдат кубинской армии.
Въедливому читателю здесь захочется засыпать повествователя вопросами: почему из Гаваны надо было гнать автомобили, а не покрыть 1000 километров гораздо дешевле на поезде? Сколько стоило оружие, шитьё формы, дорожные расходы, аренда фермы? Кто оплачивал расходы? Тактичный биограф не задавал Кастро этих вопросов. Он только спросил, как нападавшие должны были отличать в бою своих товарищей от кубинских солдат. И получил ответ: по обуви. Башмаки у нападавших были не форменные, а самые разные.[255] Ведь это так просто: перед тем как стрелять, попроси противника показать, во что он обут, и роковая ошибка будет исключена.
Когда на ферму опустилась ночь, перед сотней съехавшихся революционеров выступил Кастро. В этот момент из его речи они впервые узнали, что им предстоит не учебная тренировка, как бывало раньше не раз в течение прошедшего года, а настоящий бой. Передовая группа обезоружит охрану у ворот, остальные проникнут на территорию казарм и станут брать в плен солдат и офицеров, которые, скорее всего, будут крепко спать после дня карнавальных увеселений. Не уточнялось при этом, следует ли будить спящих и предлагать им сдаться или пристреливать всех во сне.
Наступила тишина. Кто-то спросил:
— Сколько солдат находится в казарме?
— Точных данных у нас нет, но приблизительно — около тысячи.
Снова стало тихо. Наконец, заговорил один из лидеров:
— Сотня человек не может победить тысячу вооружённых солдат. Это спланированное самоубийство.
Его поддержал другой:
— Я готов занять место в передовом автомобиле. Но план выглядит для меня безумием, даже преступлением. Мы не имеем права посылать этих ребят на верную смерть.
Кастро смотрел на них с презрением и гневом.
— Тот, кто боится, может остаться здесь на ферме. Вы присоединились к движению добровольно, и принцпп добровольности сохраняется.[256]
Вряд ли участникам были известны строчки Пушкина: «Есть упоение в бою и мрачной бездны на краю». Но их эмоциональное состояние явно наполнялось чем-то похожим на предсмертный восторг. Его впоследствии описала одна из участниц:
«Звёзды сделались крупнее и ярче, пальмы — выше и зеленее. Лица наших друзей — может быть, мы видим их в последний раз и запомним такими до гроба… Всё делалось лучезарным, дышало жизнью и любовью. Мы чувствовали себя лучше, добрее, красивее… Мы смотрели на Фиделя, и что-то говорило нам, что он останется в живых, потому что он должен жить».[257]
Всё же около десятка добровольцев выбрали остаться на ферме. Ещё несколько автомобилей не доехало до казарм — то ли намеренно, то ли просто заблудились в рассветных сумерках в незнакомом городе.
Удался только первый пункт задуманного плана: «фиделисты», выскочившие из головного автомобиля, сумели обезоружить охрану и открыть ворота. Дальше всё пошло непредсказуемо, неумолимо приближаясь к катастрофе.
Кастро ехал во втором автомобиле. Он только начал открывать дверцу, как вдруг увидел, что сзади по улице приближается вооружённый патруль — двое солдат с ружьями наизготовку. Откуда?! Специальный дозорный наблюдал за казармами месяц и не видел никаких ночных патрулей. (Впоследствии выяснилось, что приказ о патрулировании был отдан только накануне, в связи с карнавалом.)
Невозможно определить, кто первый открыл огонь. Ожесточённая перестрелка вспыхнула на улице, перекинулась во двор. Эффект внезапности был безнадёжно потерян. Через дорогу от казарм стояло здание больницы, туда тоже была послана группа, чтобы прикрыть нападающих огнём из окон. Кастро описывает своё участие в бою без претензий на скромность, рисует себя стоящим посреди улицы и палящим по пулемётчику на крыше казармы, пытающемуся целиться в нападающих.[258]
В какой-то момент он всё же понял, что операция провалилась, и приказал отступать. Сам побежал в здание больницы, чтобы отозвать застрявших там. (Из этого можно заключить, что радиосвязи между группами не было.)
— Каков был ваш план на случай отступления? — спрашивает биограф.
— План отступления?! Какого чёрта! — восклицает рассерженный Кастро. — Кто планирует отступление в операциях такого рода? Если бы не появился этот проклятый патруль, перепуганные солдаты в казармах начали бы сдаваться до последнего человека![259]
Верил ли он сам в это? Действительно ли рассчитывал на победу? Или в его душевных глубинах таилась непостижимая для нормального человека готовность к самоубийственной схватке, жажда пойти по стопам Хосе Марти, Эдуардо Чибаса, трёхсот спартанцев? Сегодня, когда тысячи террористов-самоубийц с такой лёгкостью взрывают себя во всех точках земного шара, имеем ли мы право считать подобные действия аномалией?
В течение нескольких последующих дней в Сантьяго-де-Куба шла охота за прятавшимися заговорщиками. Разъярённый Батиста отдал приказ за каждого погибшего при нападении солдата расстреливать десять пойманных. Суд над оставшимися в живых состоялся в сентябре. Кастро потребовал, чтобы с подсудимых сняли наручники, и судья выполнил его просьбу. Также ему было разрешено выступать на суде в роли собственного адвоката. Это дало ему возможность превратить заседание в запоминающийся спектакль.
Он тут же достал запасённую адвокатскую мантию и надел её. Говорил громко и уверенно, не как подсудимый или его защитник, а как обвинитель незаконной узурпированной власти. Давая показания суду, снимал мантию, потом надевал её снова. Он даже ухитрился вставить в свою речь перечень главных требований революционного манифеста «фиделистов»:
Восстановление конституции 1940 года. Арендаторы, трудящиеся на фермах, должны стать их собственниками. Работники и служащие промышленных и торговых предприятий должны получать 30 % от прибыли. Труженники на сахарных плантациях — 45 %.Вся собственность, захваченная в результате незаконных махинаций, должна быть конфискована.[260]
Свою заключительную речь Кастро закончил фразой, которая тоже вошла в мифологию Кубинской революции: «История меня оправдает». Официальным кубинским исследователям пришлось впоследствии замалчивать и затушёвывать тот факт, что большие куски этой речи были почти дословным повторением того, что сказал Гитлер, когда его судили в 1924 году в Мюнхене за участие в атаке на здание Министерства обороны.[261]
Кастро был приговорён к пятнадцати годам тюрьмы, остальные получили сроки от трёх до десяти лет. Находясь в тюремной камере на острове Исла де Пайнос (Сосновый остров), он продолжал активную пропагандную работу, научился вписывать лимонным соком тексты статей в просветы между строчками писем к родным, которые потом открывали их с помощью утюга и пускали в печать. Меньше чем через два года правительство Батисты выпустило его по амнистии, и он уехал в Мексику.
Камментарий четвёртый: О КАСТЕ ВОИНОВ
Он жизнь свою прожил в бою,
он жизнь свою прожил…
Иосиф БродскийКогда рассказ идёт о самых страшных тиранах 20-го века, нам отрадно находить в их характерах отрицательные черты: лживость, кровожадность, самоуверенность, упрямство, бестолковость, лицемерие. Но справедливость требует, чтобы мы не отводили взгляд и от той черты, которая во всех культурах и на всех ступенях цивилизации вызывала и вызывает почтение или даже восхищение: их абсолютное бесстрашие перед лицом физической опасности.
Конечно, есть обстоятельства, в которых любой человек может неожиданно поразить нас, смело кидаясь в смертельную схватку на защиту своей страны, веры, семьи, чести. Однако в любом народе есть меньшинство, не просто обладающее смелостью, но постоянно рвущееся в бой. Для таких отсутствие опасности — как нехватка кислорода. Именно такие выберут пойти служить в армию или полицию, или пополнят ряды гангстеров и разбойников, или помчатся добровольцами на какую-нибудь далёкую войну. Именно такие во все века и у всех народов формировали особую касту воинов.
Сотни романов и исторических исследований рисуют нам подвиги преторианцев Древнего Рима, немецких псов-рыцарей, турецких янычар, французских мушкетёров, польских шляхтичей, украинских гайдамаков, российских гвардейцев и казаков, японских самураев. Иногда прирождённый воин сам брался за перо, и тогда мы получали возможность заглянуть в его внутренний мир через душевную призму Юлия Цезаря, Наполеона, Михаила Лермонтова, Эриха Ремарка, Эрнста Хемингуэя, Уинстона Черчилля.
Наша пятёрка тоже оставила обширные повествования о времени и о себе. Но обращаться с этими текстами приходится крайне осторожно, ибо авторы не обременяли себя требованием быть честными. Однако врали они порой так неумело, что сквозь их лакированные автопортреты здесь и там проступают жутковатые подлинные черты. Ведь и в судах неуклюжее лжесвидетельство часто проливает свет на подлинную картину преступления. Зато их принадлежность к касте воинов проявляется с пугающей откровенностью, ибо все пятеро были начисто избавлены от одной человеческой слабости: способности к состраданию.
В Индии каста воинов называлась кшатрии. Считалось, что им должны быть свойственны здоровое честолюбие, правдивость, благочестие и благонравие, хороший и развитый ум, умелое обращение с оружием, сила, выносливость и, конечно, смелость. В теории, именно эти качества и должны делать кшатриев достойными статуса правителя. Будем пользоваться словом кшатрии для обозначения касты воинов, чтобы избежать лингвистической, этнической, географической, исторической путаницы в исследовании данного феномена.
Попытки формировать касту кшатриев по принципу сословного наследования очень быстро приводили к печальным результатам. Почему-то кшатрии отказывались рождаться только у кшатриев, и военное сословие хирело. Монархи заметили это и стали искать обходные пути. Уже в 12-ом веке испанский король Альфонс Седьмой выпустил закон, «разрешающий простым испанцам вступать в рыцарское сословие, если они проявляли свойства, требуемые от смелого воина».[262] Турецкие султаны пополняли корпус янычар, похищая младенцев у воинственных горных народов своей империи и воспитывая их в специальных школах. Пётр Первый увидел, насколько ослаб воинский дух бояр и детей боярских, и учредил «Табель о рангах», которая открывала путь к офицерским чинам смелой молодёжи из простонародья.
На племенной стадии существования человеческих сообществ быть воином считалось священной обязанностью каждого мужчины в возрасте от 15 до 60 лет. У скифов тот, кто за целый год не убил ни одного врага, окружался позором, его обносили почётной чашей на пирах. У американских индейцев, чтобы завоевать какой-то авторитет, право жениться, нужно было отличиться «на тропе войны», украсить себя скальпом иноплеменника. Норманские скальды прославляли в своих песнопениях только военные подвиги. Племя, в котором воинский дух ослабевал, обречено было погибнуть в безжалостной борьбе со свирепыми соседями, как погибли, например, гуроны, истреблённые почти до последнего в долгой войне с шестью племенами ирокезов, сумевшими объединиться..
Переход в государственную стадию невероятно усложнял задачу обороны. Разделение населения на четыре разряда — труженник, торговец, воин, священнослужитель — таило множество опасностей. Как создать воина, который был бы грозен для врагов, но не представлял опасности для собственных сограждан? И если есть такой особый психологический тип — кшатрии, что они будут делать в мирное время? Трудиться наравне с остальными? Но труд требует послушания и смирения, а кому нужен послушный и смиренный воин?
Человеческая цивилизация началась с подарка Прометея, однако подаренный им огонь нередко вырывался из полезных печей и уничтожал здания, посевы, леса, корабли. Государственная цивилизация началась с разделения функций на четыре слоя, она находится выше племенной, и армия — третья функция — составляет её необходимую часть. Но пожары армейских бунтов заполняют историю любого народа. Что же с этим делать? Мечты пацифистов перековать все мечи на орала можно уподобить призывам отказаться от пользования огнём из-за страха перед пожарами. Кшатрии рождаются в любом поколении и начинают жадно искать утоления своим воинственным страстям. Во времена мира правителям государств порой приходится искать какой-нибудь предохранительный клапан для выпуска их энергии.
Так, в Древнем Новгороде посадники смотрели сквозь пальцы на «подвиги» молодых людей, которые собирались в шайки «ушкуйников» и отправлялись на своих стругах по рекам грабить русские города в Задонщине и Приволжье. Швейцарцам, шотландцам, гессенцам разрешалось наниматься на службу в армии других государств. Елизавета Английская не возражала против того, чтобы её адмирал Фрэнсис Дрэйк и другие флибустьеры и приватиры вербовали себе команды для пиратских рейдов в британских портах. Французский король Луи-Филипп в 1831 году создал Иностранный легион, который формировался из иностранцев, оказавшихся во Франции, и французов, имевших проблемы с законом, и действовал только за пределами страны. Кастро, став диктатором, рассылал отряды своих трудно управляемых «барбудос» в Африку и Южную Америку.
В течение веков у многих народов кшатрии бережно сохраняли и соблюдали традиции дуэлей. Никакие запреты не действовали, никакие монаршьи указы не могли искоренить этот обычай. В империях и королевствах царила строгая иерархия титулов и рангов, но одновременно внутри существовала «свободная республика» кшатриев, республика чести, в которой шпага и пистолет уравнивали виконта с графом, поручика с полковником. Недаром простолюдин Муссолини с таким азартом ввязывался в дуэли — они были его «пропуском» в клан кшатриев.
Если предохранительный клапан не срабатывал или отсутствовал, кшатрии могли наброситься на правителей государства. Преторианцы свергали римских императоров, янычары — турецких султанов, русские стрельцы и гвардейцы — российских монархов, польские шляхтичи — ими же избранных королей, французские дворяне затевали в 17-ом веке военную «фронду» против династии Бурбонов.
Но и правители порой могли нанести опережающий удар по собственным кшатриям. В начале 14-го века французский король Филипп Фальшивомонетчик учинил страшный погром могущественного рыцарского ордена Тамплиеров с пытками, публичными судами, казнями, конфискациями. В веке 16-ом то же самое проделал Иван Грозный со своими боярами и князьями. В 1826 году турецкий султан Мехмед Второй обрушил регулярную армию и артиллерию на корпус янычар, выразивший недовольство военными реформами владыки. В этом же ряду стоит беспрецедентное уничтожение верхушки Красной армии, проделанное Сталиным в 1937-38 годах.
Черты кшатрия проступают в молодом человеке довольно рано. Александр Македонский, император Октавиан, Карл Двенадцатый шведский, Пётр Первый, Наполеон проявили свою невероятную воинственность совсем молодыми и были вознесены армией на пост предводителя. Драчливость, непоседливость, избыточная энергия, отвращение к усидчивому труду, непокорность — всё это окружающие замечали в пяти наших героях с юных лет. Потом к этому добавились два качества, сделавшие их фигурами уникальными. Первое: фантастическая самоуверенность, полная неспособность признать в чём-то свою неправоту. Второе: испытанная ими в молодости жестокость мира отлилась и осела в их душах непревзойдённой безжалостностью. Множество проявлений её будут описаны во второй части этого исследования.
Кшатрий, не нашедший себе чисто военного применения, скорее всего ударится в разбой. В Китае они становились хунхузами, в Италии — мафиози, в Советской России — «ворами в законе», во Франции вступали в шайки «рифифи». Влекут их и группировки политических экстремистов: «белые супрематисты», «чёрные пантеры», «красные бригады», японские «аум синрике». Кшатрий, оказавшийся неспособным кооперироваться с другими, кончит тем, что возьмёт винтовку и в одиночку учинит массовый расстрел в ближайшей школе или супермаркете.
Социологи и психологи склонны приписывать разгул преступности в стране росту безработицы и недостаткам образования. Но это — обычная иллюзия благомыслящего рационалиста. Никакими силами вы не сможете заставить прирождённого кшатрия честно трудиться. Ведь это такая скука! Биографии нашей пятёрки — лушая иллюстрация к этому правилу. Все они правдами и неправдами избегали любых видов службы, если где-то застревали, то на два-три месяца — не больше.
В пожаре любого бунта или революции кшатрии играют катализирующую роль. Они — как небольшой пучок растопки необходимой, чтобы превратить сыроватые дрова народной массы в пылающий костёр. То же самое можно сказать и о внутренних конфликтах, полыхающих или тлеющих сегодня в странах Азии, Африки, Южной Америки. Лозунги, под которыми выступают хамас, талибы, аль-кайда, Боко Харам, «Сияющий путь», «санданисты», ФАРК — это не причины, толкающие кшатриев на кровопролитную борьбу, а гораздо чаще лишь предлог. Никакими экономическими подачками, никакими «возвратами территорий», «восстановлением социальной справедливости» вы не сможете умиротворить прирождённого кшатрия и повернуть его на путь честного труженника. Тем более, что их лидеры, заговорившие о мире, рискуют быть убитыми собственными воинами, как убили в Египте Анвара Садата или в Израиле — Ицхака Рабина.
Ну, а как же решают эту проблему развитые индустриальные страны?
В них, мне кажется, установился некий баланс, распределивший кшатриев между преступным миром и правоохранительными органами. Гангстеры и полицейские ведут между собой перманентную войну, что поглащает их воинственную энергию и позволяет мирным людям существовать в относительной безопасности. США уже обогнали все остальные страны по числу заключённых в тюрьмах, да и по числу полицейских и тюремных надзирателей, думаю, держат одно из первых мест. Подросток-кшатрий сначала пробует свои силы, вступая в уличную банду, а годам к двадцати делает свой выбор, куда ему податься: в военный спецназ, полицию, к гангстерам, к террористам или рвануть в дальние страны, охваченные военной смутой.
Анализируя ситуацию в Европе 1930-х годов, Фридрих Хаек писал: «В Германии пропагандисты обеих партий знали, насколько легко обратить молодого коммуниста в нациста, и наоборот. Немало английских университетских преподавателей видели американских и английских студентов, которые, возвращаясь с европейского континента, не знали точно, к кому себя причислить — к коммунистам или к нацистам, но были твёрдо уверены в одном: в своей ненависти к либеральной западной цивилизации».[263] И кшатрии имеют основания считать, что западная цивилизация не отдаёт им должного и пытается всячески ограничивать.
Переманивание кшатриев под свои знамёна — дело не простое. Успеха в нём не добьёшся одними речами, статьями, посулами. Необходимо продемонстрировать отчаянную решимость, чтобы показать свою способность быть атаманом, лидером, вождём. Именно это проделал Сталин ограблением Тбилисского банка, Муссолини — стрельбой в Форли, Гитлер — Мюнхенским путчем, Кастро — атакой на казармы Монкадо. И их репутация в глазах потенциальных кшатриев подскочила необычайно, геройский ореол манил к ним новых и новых сторонников, как свет маяка.
Важно помнить, что в середине 1920-х было изобретено и вошло в обиход оружие, которого не было ни у немецкого Томаса Мюнцера, ни у русского Пугачёва, ни у французского Дантона, ни у мексиканского Панчо Вилья, ни у украинского Махно, ни у других знаменитых разбойничьих атаманов прошлого. Когда радиовещание и кинохроника стали доступны во всех странах, любой новый главарь получал возможность скликать к себе сотни тысяч. И наша пятёрка использовала открывшуюся возможность полной мерой. А сегодня алкайда, талибы, ИГИЛ, Боко Харам имеют к своим услугам уже и интернет.
Одной арифметики недостаточно, чтобы оценить военную силу сплочённой группы кшатриев. Мы верим, что семеро самураев Куросавы или «Великолепная семёрка» Джона Стерджеса смогут превратить сотню мирных крестьян в военное подразделение, способное противостоять профессиональным бандитам. И германский Генштаб весной 1917 года поверил, что горстка большевиков, которой он устроил проезд из Швейцарии в Российскую империю, сумеет год спустя парализовать весь восточный фронт. А 11 сентября 2001 года 19 арабских кшатриев сумели уничтожить три тысячи своих заклятых врагов, не ждавших нападения. В индустриальную эру даже одиночка вроде Тимоти Маквея в Оклахоме или Андерса Брейвика в Осло могут устроить побоище с десятками и сотнями жертв.
Выше было сказано, что племенная структура человеческих сообществ подразумавает священным долгом каждого члена племени быть воином. Режимы, созданные в своих странах нашими персонажами, демонстрировали многими своими чертами возврат к примитивной племенной ментальности. И прежде всего — в культе воинского долга, в раздувании военного энтузиазма, в прославлении победоносных вождей и павших героев. В таком кругозоре иноплеменник — всегда скрытый или явный враг, подлежащий уничтожению. Неважно, что одни объявляли враждебным племенем евреев, другие — эксплуататоров-буржуев. В мусульманском мире враждебным племенем считаются все неверные. Важно то, что в странах, вернувшихся к племенному менталитету, прирожднным кшатриям гарантирован почёт, и поэтому они будут страстно защищать эти режимы.
В США этого ещё не произошло, но здесь культ кшатриев раздувается зрелищной индустрией. Кроме сотен художественных фильмов про гангстеров, убийц, «терминаторов», по крайней мере четыре телевизионных канала 24 часа в сутки демонстрируют полу-документальные часовые фильмы про «мокрые дела», про суды над убийцами, про их попытки избежать ареста или убежать из тюрьмы. Главные герои канала «Американская история» — либо военные, либо гангстеры. Очередная стрельба с множеством жертв будет муссироваться в новостях много дней, пока её не вытеснит какое-нибудь новое крупное несчастье. Любой подросток знает, что слава — вот она, рядом, только протяни руку и нажимай на курок. А расплата? Несколько лет блаженного безделья, в тёплой и светлой комнате, отличное питание, спортивные площадки, бесплатное медицинское обслуживание, даже библиотека и доступ к высшему образованию.
Во время Второй мировой войны союзы между государствами заключались и распадались под действием многих явных и скрытых причин. Но и глубинное чувство солидарности и взаимопонимания между кшатриями сыграло свою роль в том, что объединиться сумели те страны, в которых они захватили власть: Германия, Италия и Япония. А союз между Гитлером и Сталиным распался — в значительной мере потому, что в России кшатрии были изгнаны, расстреляны, отправлены в лагеря.
Если позволить себе закончить зтот комментарий какой-нибудь политической рекомендацией, она должна звучать примерно так:
В каждом народе существует некое воинственное меньшинство, которое может влиять на политическое и военное состояние государства с силой непропорциональной его численности. Захват этим меньшинством доминирующего положения в стране превратит её в опасного и непредсказуемого агрессора. Однако попытки подавления касты кшатриев сильно ослабят обороноспособность нации.
Летопись пятая. «ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ»
В Петрограде
Защитники монархических режимов отстаивают принцип: «Воля монарха — закон». Ниспровергатели этих режимов призывают сделать законом волю большинства. Ведь это так просто! Подсчитывайте число голосов, поданых за ту или иную партию на честных свободных выборах, и вручайте победителям верховную законодательную и исполнительную власть.
В феврале 1917 года этот принцип восторжествовал над трёхсотлетней Российской империей. Большевики практически не принимали участия в Февральской революции. Всё их руководство находилось в тюрьмах, ссылках, эмиграции. Живой свидетель революцинных событий в Петрограде, поэтесса Зинаида Гиппиус, вела дневник:
«25 февраля. Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади митинг… У здания Городской Думы была первая стрельба — стреляли драгуны… [Обер-прокурор Синода] Карташёв упорно стоит на том, что это “балет” — студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно движующиеся по Невскому за толпой… Если балет — какой горький, зловещий… У либерало-оппзиционеров нет никакой связи с происходящим, даже созерцательно-сочувственной. Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь всё для войны! Пораженцы!..
26 февраля. Часа в три была на Невском серьёзная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приёмный покой под каланчу. Сидящие в Европейской Гостинице заперты безвыходно и звонят нам оттуда, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределённое. Есть, очевидно, стреляющие, но есть и оцепленные, то есть отказавшиеся…»[264]
К сожалению, ни сама Зинаида Гиппиус, ни её друзья из Государственной Думы не ходили сами в лавки за хлебом и не стояли морозными ночами в длинных очередях, тянувшихся на несколько кварталов в том феврале. Перебои со снабжением привели Петроград в состояние кризиса. Может быть, виновата была нехватка поездов и кораблей, вызванная войной, может быть, спекулянты только радовались подскоку цен, но так или иначе, у правительства не было административных рычагов для активизации доставки хлеба. Когда казаков посылали разгонять демонстрации голодных женщин, они отказывались, заявляя, что сами голодают и готовы грабить продовольственные лавки.
Отказались стрелять по бунтовщикам не только полки в Петрограде. 2 марта генералы, командовавшие фронтами, послали царю телеграммы с «верноподданической просьбой отречься от престола». Об этом же просили представители Думы, прибывшие в ставку, где находился Николай Второй. Опасаясь за судьбу своей семьи, остававшейся в это время в Царском Селе в окружении бунтующих войск, царь не нашёл в себе сил отстаивать права самодержца. Монархия пала, и стремительно начал набирать силу «русский бунт, слепой и беспощадный».
Российские ниспровергатели, ликовавшие в марте 1917 года по поводу падения династии Романовых, воображали, что теперь в стране легко восторжествуют принципы свободы и демократии. Толпы ликующих демонстрантов, украшенных красными бантами, шествовали по улицам. Пресса восхваляла «бескровную революцию», обходя молчанием все случаи бессудных расправ над «угнетателями», не упоминая даже о том, что в одном только Кронштадте взбунтовавшиеся матросы убили полторы сотни офицеров, включая двух адмиралов.[265]
Если бы в Думу, занятую формированием Временного правительства, явился некий гость из будущего и объявил депутатам, что следующий 1918 год они будут встречать под властью большевиков, его бы, скорее всего, подняли на смех. Или начали бы спрашивать: «А кто это такие? Это та жалкая кучка смутьянов, требующая отмены частной собственности? Которая сейчас вышла из ссылок, тюрем, вернулась в страну из эмиграции? Да кто станет их слушать, кто пойдёт за ними?!».
Идолопоклонники демократии не понимают, что пресловутая «воля народа» не определяется числом голосов, поданых на выборах. Она определяется числом людей, готовых убивать и быть убитыми ради утоления своих страстей. Если какой-нибудь идее удастся сплотить воедино всего лишь 10 % населения, это меньшинство рано или поздно возьмёт верх над остальными 90 %, которые хотели бы просто мирно жить и трудиться внутри той государственной постройки, которая им досталась.
Именно этой работой сплочения вокруг идеи «разрушения мира эксплуататоров» страстно занялись выпрыгнувшие на политическую арену Ленин, Троцкий, Свердлов, Каменев, Молотов и другие большевики. Сталину досталась чуть ли не самая ответственная часть: руководить большевистской прессой. Уже в марте он и Каменев взяли контроль над газетой «Правда», над печатанием и распространением листовок. Ленин, по прибытии в Петроград в апреле, начал выступать с пламенными призывами к свержению буржуазного Временного правительства. Яростная пропаганда достигла такого накала, что уже 18 июня большевикам удалось организовать большую демонстрацию в Петрограде. Сталин так описал её в «Правде»:
«Солнечный ясный день. Шествие идёт к Марсову полю с утра до вечера. Бесконечный лес знамён… От возгласов стоит гул, то и дело раздаётся: “Вся власть Совету! Долой министров-капиталистов!”.»[266]
На следующий день после демонстрации на совещании членов ЦК партии большевиков Ленин заявил: «Пора перейти к демонстрации силы пролетарских масс». Эту «демонстрацию силы» удалось осуществить 4 июля. Для поддержки демонстрантов приплыли вооружённые матросы из Кронштадта. Толпа собралась у особняка Кшесинской, на балкон вышли Луначарский и Свердлов. Но матросы требовали Ленина. После его выступления толпа двинулась к Таврическому дворцу, где заседала Дума. Весь день шли беспорядочные манифестации, вооружённые толпы заполняли улицы. Но к вечеру в город вошли воинские части с фронта верные правительству.[267]
Зинаида Гиппиус записала в своём дневнике: «3, 4 и 5 июля — дни ужаса, дни петербургского мятежа. Около тысячи жертв. Кронштадцы, анархисты, воры, грабители, тёмный гарнизон явились вооружёнными на улицы… Для усмирения была применена артиллерия. Вызваны войска с фронта… Кадеты все ушли из правительства. (Уйти легко.)».[268]
Умеренные политики ушли из правительства, потому что не хотели испачкать свою репутацию теми жестокими и недемократичными мерами, которые одни только и могли бы спасти страну в кризисной ситуации. Оставшийся у руля Керенский заметался. Сначала он выпустил приказ об аресте большевистских главарей. Троцкий и Каменев оказались за решёткой, но «вождя» Сталину удалось укрыть сначала на тайных квартирах, потом в шалаше под Сестрорецком.
Керенский тем временем потребовал, чтобы главнокомандующий, генерал Корнилов, двинул на Петроград надёжные части, сняв их с фронта. Но когда казачьий корпус под командой генерала Крымова стал приближаться, Верховный правитель вдруг изменил свою позицию: объявил Корнилова мятежником и призвал на защиту от него все «революционные силы», включая эсеров, анархистов, кронштадских матросов, даже красногвардейцев.[269]
Большевистские агитаторы проникли в ряды корпуса Крымова, призывали казаков перейти на сторону революции, не служить «эксплуататорским классам». Корпус постепенно таял и после недолгого боя под Пулковым был отбит. Арестованных большевиков выпустили на свободу, и они возобновили агитацию за свержение Временного правительства и за выход из войны.
Это вызвало естественную тревогу в посольствах стран Антанты. «Они настоятельно призывали российских лидеров подавить партию большевиков, арестовать Ленина и Троцкого. Параллельно советовали генералу Корнилову осуществить военный переворот и свергнуть нерешительного Керенского».[270]
Но Троцкий в октябре уже Председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, практически второй власти в стране. Его арест может вызвать бурю. Спеша использовать раскол между Временным правительством и армией, Ленин начинает выступать за немедленный захват власти вооружённым путём. Каменев и Зиновьев не согласны с ним, выступают с протестами в печати.[271] Но Сталин на стороне вождя. Он публикует в газете «Рабочий путь» обращение к населению, к рабочим и солдатам:
«Если все вы будете действовать дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство уступит место новому, тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите вы…».[272]
Ленину удалось пересилить оппозицию, и 24 октября принято решение о начале восстания. «Раздаются последние приказы о захвате власти в столице. Всем дирижирует Троцкий. Разъезжаются партийные функционеры на боевые места. Член ЦК Бубнов — на железные дороги, член ЦК Дзержинский — захватывать почту и телеграф, Подвойский — наблюдать за Временным правительством».[273]
С утра 25 начались захваты ключевых зданий в столице. Отряды Красной гвардии один за дригим захватили Государственный банк, Центральную электростанцию, почтамт, Варшавский и Московский вокзалы, взяли под контроль почти все мосты.[274] Керенский умчался из столицы, чтобы лично найти поддержку во фронтовых частях, но министры всё ещё заседают в Зимнем дворце.
«К шести часам вечера Дворец начали покидать защитники. К полуночи остались лишь женский батальон и горстка юнкеров — можно было начинать. Из Петропавловской крепости и с крейсера «Аврора» ударили холостые выстрелы. Их услышал весь город. Затем раздался боевой выстрел из орудия у арки Главного Штаба. Карниз дворца был пробит. После выстрелов начался штурм дворца… В 1.50 ночи (уже 26 октябра) дворец был взят.»[275]
Утро 26 октября было потом увековечено строчками большевистского поэта Маяковского, которые должны были заучивать все школьники в СССР:
Дул, как всегда, октябрь ветрами. Рельсы по мосту вызмеив, Путь свой продолжали трамы Уже при социализме.В Риме
На выборах в парламент в 1919 году Муссолини получил только четыре тысячи голосов. Два года спустя их число подскочило до 178 тысяч. По всей стране движение фашистов набирало силу, они завоевали 35 депутатских мандатов. Что же могло произвести эту радикальную перемену в раскладе политических сил?
Немаловажную роль сыграл раскол, произошедший в лагере «красных»: весной на конгрессе в городе Ливорно коммунисты отделились от социалистов.[276]
Другой фактор: потоком шли известния из России о страшном голоде и разрухе, которые наступили после победы большевиков в гражданской войне.
Третий толчок был тоже связан с событиями русской революции: на примере Октябрьского переворота в Петрограде итальянские фашисты увидели, что для захвата индустриального города нет нужды карабкаться на каменные стены и идти на штурм; достаточно оккупировать ключевые жизненные центры: почту, телеграф, вокзалы, мосты, электростанцию, водоснабжение.
Уже Габриэль Аннунцио использовал эту тактику при атаке на Фиуме. В Италии серия похожих захватов началась с Равенны: три тысячи фашистов под командой Итало Балбо в сентябре 1921 года, проделав шестидесятимильный марш по берегу Адриатического моря, овладели городом и портом без сопротивления. В мае 1922 года армия из 63 тысяч фашистов вошла в Феррару. Три недели спустя настала очередь Болоньи — в неё вошёл отряд из двадцати тысяч, разбил военный лагерь на улицах, площадях, между древних колонн.[277]
Главным оружием социалистов в политической борьбе была организация демонстраций и забастовок. Отряды фашистов взяли на себя задачу подавления забастовок, что было не по силам полиции либерального государства. Запугиванием и прямым насилием они разгоняли забастовочные пикеты, охраняли штрейхбрейкеров, часто сами заполняли рабочие места, оставленные стачечниками. Так, они заступили на места машинистов и кондукторов, когда забастовали железные дороги, и развозили пассажиров, соблюдая расписание и не беря платы за проезд.[278]
То же самое происходило и в сельской местности. Когда пастухи потребовали повышения заработнокй платы, семьдесят фашистов оседлали коней, превратились в ковбоев и перегнали стадо коров на те фермы, где нашлись охотники доить их. В долине реки По землевладельцев заставляли нанимать только тех крестьян, которые вступили в фашистскую партию и приветствовали друг друга поднятой рукой.[279]
Всё это, конечно, не могло происходить без кровопролитных столкновений. В марте 1921 года в Миланском театре «Диана» была взорвана бомба — 20 человек погибших, 50 раненых. В 1922 году в районах Таранто и Мерано было сожжено больше ста местных штаб-квартир социалистов. Также было разгромлено и подожжено здание газеты «Аванти» в Милане.[280] Стрельба на ночных улицах становилась обычным явлением, люди боялись выходить из дома.
Хотя Муссолини оставался бессменным лидером фашистского движения, это отнюдь не означало, что он имел абсолютный контроль над своими сторонниками. Например, в августе 1921 года он неожиданно подписал акт о примирении с социалистами, надеясь войти в коалиционное правительство вместе с ними. Поддаваясь своей страсти к риторическим эффектам, он заявил: «Если фашизм не пойдёт за мной в сотрудничестве с социалистами, тогда никто не заставит меня идти за фашизмом». Но радикальные лидеры фашистских группировок на севере — Итало Балбо, Дино Гранди, Роберто Фариначчи — решительно отказались следовать примеру вождя. И два месяца спустя политика компромиссов была отвергнута, и дуче снова громогласно призывал к государственному перевороту, который покончит с парламентом и либеральным государством.[281]
Что же предлагалось взамен? В сентябре 1922 года Муссолини уже открыто заявлял, что с преклонением перед волей народных масс нужно покончить. «Сбросим с алтаря Его Святейшее Величество Демос!» Верховная власть будет принадлежать комитету из пяти фашистских олигархов, наподобие Директории, управлявшей Францией в период между якобинцами и Наполеоном.[282]
Загадочным и решающим моментом оставался вопрос: как поведёт себя армия? Окажет ли она вооружённое сопротивление маршу фашистских колонн на Рим или сохранит нейтралитет? Многие офицеры сочувствовали новому политическому движению и тайно обещали Муссолини поддержку или, по крайней мере, невмешательство. Но можно ли было полагаться на эти обещания?[283]
В августе 1922 года социалисты призвали страну к всеобщей забастовке. Муссолини объявил, что если забастовку не предотвратит правительство, это сделают фашисты. В Анконе, Легорне, Генуе они атаковали здания, принадлежавшие социалистам, уничтожали типографское оборудование их газет.[284]
В октябре в Неаполе состоялся съезд фашистов, на который съехалось 40 тысяч сторонников. Он призвал правительство премьера Факты уйти в отставку. «Столетие демократии закончилось!», объявил Муссолини. Началась подготовка к «Маршу на Рим». В планировании этого марша тайно принимали участие и армейские офицеры высокого ранга. Четыре тысячи фашистов разбили лагерь в Тиволи, в 22 милях от Рима, готовясь захватить водохранилище, снабжавшее столицу водой, и электростанцию. В задачу другого отряда чернорубашечников из Тосканы входил захват железнодорожного узла Монтеторондо. На вокзал в Капуе был нацелен отряд из Неаполя.[285]
Фашисты готовились к походу с большим энтузиазмом. Главной проблемой для них была нехватка оружия. Охотничьи дробовики, вилы, косы, кинжалы, дубинки — всё шло в дело, всё годилось. Где-то ограбили музей и вооружились мушкетами и пистолетами прошлого века. Где-то прокрались в полицейские казармы и очистили арсенал. Счастливцы сумели раздобыть динамитные шашки.[286]
Утром 28 октября четырьмя большими колоннами фашисты двинулись в направлении Рима с юга и севера. Правительство выпустило указ о военном положении, но король отказался подписать его, опасаясь развязать гражданскую войну в стране. Он не питал любви к новому движению, но оно, по крайней мере, не требовало отмены монархии, как это регулярно и громогласно делали социалисты. Наоборот, в октябре 1922 года фашисты в статьях и речах выражали горячую поддержку трону, провозглашали тосты в честь короля и его семьи. Виктор Эммануил Третий спросил у командующего генерала Диаза, выполнит ли армия приказ остановить наступление на Рим. Генерал обещал приложить усилия к тому, чтобы вооружённые силы остались верны присяге, но посоветовал монарху не испытывать лойяльность армии, в которой было уже слишком много убеждённых сторонников Муссолини.[287]
Не получив согласия короля на объявление военного положения, премьер Факта подал в отставку. Теперь опять всё зависело от того, что предпримут армия и полиция на местах.
С раннего утра армейские подразделения появились на улице перед зданием газеты «Пополо Италия» в Милане. Видимо, они ждали распоряжений из Рима: атаковать здание или защищать его от возможных нападений красных. В своих воспоминаниях Муссолини представляет дело таким образом, будто редакции пришлось отбиваться и он сам с ружьём в руках выскочил из дверей. Вдруг раздался шум моторов и из-за угла выехал танковый дивизион. Но дуче удалось вступить в переговоры с армейским командиром и условиться о перемирии.[288]
Тем временем и в доме Муссолини, и в редакции раздавались настойчивые телефонные звонки. Когда дуче, наконец, взял трубку, звонивший из Рима генерал Читтолини сообщил ему, что король приглашает его без отлагательства приехать в столицу для консультаций.
«Мне нужно письменное приглашение», — объявил Муссолини, к которому вернулось обычное самообладание.
Телеграмма была вскоре доставлена, но и она не удовлетворила дуче.
«Не для консуальтаций, а для формирования нового правительства», потребовал он.
Это требование тоже было удовлетворено. Окончательный текст гласил: «Сеньору Муссолини. Очень срочно. К немедленному прочтению. Его Величество Король просит Вас незамедлительно прибыть в Рим, так как он желает предложить Вам взять на себя ответственность сформировать кабинет министров».[289]
Прочитав текст вслух, Муссолини повернулся к своему брату Арнальдо и сказал: «Жаль, что наш отец не дожил до этого момента!».[290]
На следующий день он прибыл в Рим и 30 октября встретился с королём. Это была не первая их встреча: пять лет назад король навещал военный госпиталь и дружески разговаривал с раненым берсальером Муссолини. Теперь на короле была военная форма, а на Муссолини — чёрная рубашка, пиджак, чёрные брюки и котелок. Такое облачение подчёркивало наметившееся разделение ролей: король будет стоять во главе государства и командовать армией, а на Муссолини ляжет реальное управление страной.[291]
В час дня начался торжественный парад. Главные колонны фашистов не дошли до Рима сорока миль, поэтому многих привезли на поездах, захваченных для этой цели сочувствующими железнодорожниками. Армия в пятьдесят тысяч (Муссолини пишет, что их было 100 тысяч) шествовала перед дворцом несколько часов, неся пальмовые ветви. Муссолини отдал строгие приказы избегать любых насилий и пресекать попытки мести политическим противникам. К бывшему премьер-министру Факте была приставлена охрана из десяти фашистов. «Он потерял сына на войне, — сказал дуче. — Смотрите, чтобы ни один волос не упал с его головы!».[292]
Выступая в парламенте две недели спустя, новый глава правительства вернулся к обычному грозному тону: «Я объявил в самых резких выражениях права революции. Указал на тот факт, что только добрая воля фашистов оставила революцию в границах законности и терпимости. Сказал, что этот унылый и серый зал я мог бы превратить в лагерь трупов. Заколотить двери парламента гвоздями и создать правительство из одних фашистов. Я воздержался от подобных действий — пока».[293]
Так началось двадцатилетнее правление «фараона» Муссолини в Италии.
В Берлине
Своё пребывание в тюрьме Гитлер впоследствии называл «мой университет». Он имел достаточно досуга и комфорта, чтобы работать над «Мейн Кампф» и одновременно — читать, читать, читать. Огромные объёмы исторической, политической, экономической информации оседали слоями в его зеркальной памяти. В те годы публиковалось много мемуаров участников Первой мировой войны, и эти книги представляли для него особый интерес. Но он не искал расширения и обогащения своего мировоззрения. Его увлекало только то, что подтверждало его концепции мировой истории и придавало его предрассудкам видимость научной объективности.[294]
Проведя в тюрьме меньше двух лет, Гитлер получил условное освобождение, а уже в 1927 году был снят запрет на его публичные выступления. Он возобновил их с удвоенной энергией, постоянно оттачивая ораторское мастерство. Нарочитая пауза перед началом речи, нагнетающая напряжение в зале; нерешительные вступительные фразы; постепенное нарастание эмоций; театральное использование жестов рук; драматичные повороты головы; всплески сарказма в адрес оппонентов; кресчендо доходчивых лозунгов — всё было нацелено на взвинчивание аудитории до экстаза.
Очень рано Гитлер понял, что из всех человеческих эмоций в людях легче всего раздувать ненависть. А так как его душа была с юности переполнена этим ходким товаром, речи его получались насыщенными неподдельной искренностью. Германия превыше всего, немцы — высшая раса, значит всё, что им угрожает, заслуживает беспощадной ненависти. Главные угрозы — демократия, пацифизм, марксистский интернационализм. Мировой еврейский заговор, конечно, получал свою долю проклятий, но в конце 1920-х антисемитская риторика слегка поослабла, уступив место новой теме: борьба за жизненное пространство для Германии, преодоление оков, наложенных Версальским договором.[295]
Ведь всякому ясно, что главные возможности расширения жизненного пространства лежат на востоке. Не исключено, что захват его может начаться с заключения союза между Германией и Россией. «Но пусть никто не обманывает себя, воображая, что подписание союза с Россией исключает войну с ней. Все союзы, заключаемые без мысли о войне, есть вздор и бессмыслица».[296] Мы видим, что фюрер не только планировал пакт Риббентропа-Молотова за пятнадцать лет до его заключения, но уже тогда готовился вскоре грубо нарушить его.
Нужно отдать должное здравомыслию немецкого избирателя. Ни умелое взвинчивание ненависти, ни обещания жизненного пространства, ни раздувание жидо-большевистской угрозы не принесло нацистам успеха на выборах 1928 года. Они получили в Рейхстаге только 12 мест, что соответствовала 2,6 % поданных за них голосов. Однако новоиспечённый депутат Геббельс записал в своём дневнике: «Мы входим в Рейхстаг, как волк входит в стадо овец». И они даже не удостаивали напяливать овечью шкуру, не скрывали своего презрения к Веймарской республике.[297]
Что же должно было случиться, чтобы два года спустя нацисты смогли достичь невероятного успеха на выборах в сентябре 1930 года? 107 депутатских мандатов и 18 % голосов избирателей! Большинство историков сходится на том, что главной причиной был мировой финансовый кризис, начавшийся с краха Нью-Йоркской биржи в октябре 1929. По Германии он ударил очень тяжело. Её экономика в значительной мере опиралась на американские краткосрочные займы. Начавшаяся депрессия резко сократила их поступление, что вызвало сокращение производства, рост цен, снижение реальной заработной платы. Уровень безработицы приблизился к 20 %.[298]
Для политиков социалистического направления Большая депрессия явилась новым аргументом в поддержку тезиса: рыночное регулирование экономики грозит катастрофами, необходим строгий контроль со стороны государства. Но американский мыслитель Томас Соуэлл вгляделся в события 1930 года и указал на тот факт, что крах биржи в октябре не повлёк за собой подскока безработицы в США. Полгода спустя она ещё измерялась умеренной цифрой в 6 %. Но летом 1930 года правительство президента Гувера резко повысило тарифы на экспорт американской продукции. Торговые партнёры Америки в Европе и Азии, естественно, ответили тем же. Мировой товарооборот замедлился и именно тогда безработица возросла в три раза. Именно вмешательство правительства в рыночный процесс, считает Соуэлл, вызвало торговую войну и мировой кризис.[299]
Обеднение населения в Германии шло параллельно с развалом финансовой системы. Осенью 1931 года два крупнейших банка объявили банкротство. Пропаганда нацистов вовсю использовала бедственное положение страны для атак на Веймарскую республику. Гитлер демонстративно отказывался от участия в совместных ланчах политических лидеров, заявляя, что он не может пировать, когда тысячи его сторонников вынуждены сидеть на хлебе и воде.[300]
Пропагандные усилия обходились недёшево, и Геббельс жаловался на нехватку средств. Тем не менее постоянно вводились дорогостоящие технические новации. На свои многочисленные выступления в различных городах Гитлер теперь прибывал не на поезде или автомобиле, а самолётом. Было также выпущено 50 тысяч грамофонных пластинок с его «Призывом к нации». В нём он утверждал, что партии, заседающие в Рейхстаге, нацелены на защиту интересов тех или иных групп, и среди них только национал-социалисты борются за судьбу всего немецкого народа.[301]
Весной 1932 года должны были пройти выборы президента. Чтобы принять в них участие, Гитлеру пришлось срочно — двадцать лет спустя после переезда из Австрии — принять германское гражданство. Две прежние попытки у него провалились. На этот раз ему было устроено место советника в Министерстве культуры провинции Брауншвейг. Должность государственного чиновника предоставляла право на гражданство, и в феврале 1932 Гитлер торжественно дал присягу охранять конституцию государства, которое он собирался ниспровергнуть.[302]
Предвыборная кампания была заполнена парадными шествиями, речами, газетными призывами, разбрасыванием листовок. 27 февраля Гитлер выступил в центральном спортзале Берлина перед 27 тысячами слушателей. Но результаты горько разочаровали его. Против 49 % голосов, поданных за маршала Гинденбурга, он набрал 30 %. Кандидат коммунистов Эрнст Тельман получил 18 %.[303]
Сразу после своего переизбрания президент Гинденбург приказал распустить формирования нацистских штурмовиков. Основанием для этого послужили документы, найденные полицией Пруссии в местном штабе нацистов, ясно указывающие на подготовку военного переворота и захвата власти в случае избрания Гитлера.[304]
Завершение выборов не ослабило накал политической борьбы, наоборот — обострило. Коммунисты и нацисты ввязывались в схватки друг с другом по всей Германии. В июне-июле было зарегистрировано 113 политически мотивированных убийств, сотни людей получили серьёзные ранения. Тень полномасштабной гражданской войны нависала над страной.[305]
Пока на улицах лилась кровь, политические партии в Рейхстаге пытались демонстрировать свою высокую принципиальность, погружаясь в дебаты о второстепенных проблемах. До какого уровня следует повысить долю нанимателя в оплате страховки по безработице — до 3,5 % от зарплаты работника или до 4 %? Такого пустяка было достаточно, чтобы споры зашли в тупик и правительственная коалиция развалилась, что потребовало новых выборов.[306] В 1932 году избирателям пришлось отпрвляться к урнам пять раз. В разгаре экономического кризиса всё это вело к глубокому разочарованию в Веймарской республике и в демократии вообще.
Политический кризис ощущался на всех уровнях правительственной пирамиды. В сентябре Рейхстаг проголосовал за отставку правительства Рейхсканцлера Папена 512 голосами против 48. Кажется, это был единственный случай, когда депутаты от национал-социалистов дружно голосовали за меру, предложенную коммунистами.[307]
Тем временем за кулисами шли напряжённые переговоры о создании правительства с участием нацистов. В ноябре Гинденбург встретился с Гитлером и выразил надежду на то, что его партия сможет найти общий язык с другими политическими движениями правого толка. Немецким патриотам следует действовать сообща — не правда ли? Но Гитлера не устроило просто занятие нацистами нескольких министерских постов. Он потребовал для себя пост рейхсканцлера — иначе он прекращает переговоры.[308]
Его соратники были в шоке. Даже им представлялось чрезмерным на этом этапе требовать пост главы правительства. Разве не лучше удовлетвориться несколькими министерствами и постепенно расширять власть и влияние? Однако Гитлер был непреклонен. Нацисты примут участие в управлении разваливающейся страной только при условии, если их фюрер будет стоять во главе. Иначе всё пойдёт по-прежнему, и нацонал-социалисты будут разделять вину за крах нации вместе с остальными.
Президент Гинденбург долго колебался. В его глазах Гитлер был просто истеричный выскочка, сумевший сыграть на низких страстях толпы. Верхние круги немецкой элиты разделяли это мнение. Генерал Людендорф, разочаровавшийся к этому времени в нацистах, прислал президенту письмо, призывая ни в коем случае не поддаваться нажиму. С другой стороны, старый воин Гинденбург отдавал должное солдатским свойствам ветерана войны: упорству, смелости, железной воле. Ничего этого он не видел в других политиках. Перед глазами его также был пример Италии: там десять лет назад, в аналогичной ситуации, король вручил бразды правления Муссолини, и страна избежала гражданской войны, достигла стабильности и международного престижа.
Гитлер был согласен на то, чтобы большинство министерских портфелей в его правительстве достались консерваторам. У президента оставалась надежда, что профессиональные политики традиционной закалки сумеют гарантировать сохранность республиканских традиций и удерживать нацистов от авантюр. В конце января 1933 года роковое решение было принято.
Тридцатого числа, после полудня, Гитлер, в сопровождении своих министров вошёл в президентский кабинет. Гинденбург приветствовал их короткой речью, в которой выразил удовольствие видеть политиков-патриотов наконец-то объединившимися. Гитлер принёс присягу, обязавшись выполнять работу рейхсканцлера не в интересах своей партии, а на благо всей нации. Он также пообещал соблюдать права президента, охранять конституцию и после следующих выборов вернуться к парламентскому правлению.[309]
Вечером Геббельс записал в своём дневнике: «Это какая-то сказка!».
И действительно, каким другим словом можно было охарактеризовать поворот судьбы, вознёсший неудавшегося художника, окопного солдата, кабацкого демагога, отбывшего тюремный срок преступника на пост главы крупнейшего государства Европы?
В Поднебесной
Чем больше людей скопится у ворот, тем длиннее получится очередь, тем дольше она будет протискиваться через узкую калитку. В Китае людей больше всего, поэтому можно ожидать, что его переход из земледельческой эры в индустриальную окажется самым долгим. Во всяком случае гражданская война в этой стране растянулась на рекордные 22 года.
Подробный рассказ о жизни «великого кормчего» в 1930-40-е годы превратился бы в монотонный перечень крупных и мелких боёв, перегруженный именами китайских военачальников и географическими названиями, ничего не говорящими русскому читателю. Для целей нашего исследования нет нужды воспроизводить историю этой войны — с этим успешно справляется многонациональная когорта современных историков. Воспользуемся их трудами и ограничимся здесь сжатой хронологией основных событий между 1927 и 1949 годами.
1928, апрель. Отряды Мао Цзедуна и Чжу Дэ объединяются и получают название 4-го корпуса Рабоче-крестьянской революционной армии Китая.
Июнь-июль: в СССР, в селе Первомайское Московской области проходит Шестой съезд КПК, на котором Мао заочно избран членом ЦК.
Чан Кайши создаёт центральное правительство Китая, Гоминьдан — во главе однопартийной диктатуры.
1929: Войска Мао и Чжу Дэ завоёвывают сельские территории, создают там советы, объявляют советскую власть. ЦК КПК критикует Мао за его действия, но он отказывается менять свою тактику
Октябрь — в Америке происходит крах биржи.
1930: Лидер китайского Политбюро Ли Лисань настаивает на операциях в городах. Мао дважды пытается взять Чаншу, но несёт большие потери.
Октябрь. Создаёт партизанскую базу в юго-западной Цзянси.
Ноябрь. Гоминьдановцам удаётся арестовать жену Мао Ян Кайхуэй. От неё требуют публично отречься от мужа. Она не соглашается, и её казнят. Сыновей забирает бабушка. Мао посылает 30 юаней на похороны. К этому моменту он уже два года жил с другой женщиной, которая родила ему дочку.[310]
Декабрь. Коммунисты отбивают первый карательный поход войск Чан Кайши.
1931: Апрель-сентябрь. Войска коммунистов отражают новые карательные походы Чан Кайши.
Сентябрь: Япония вторгается в Маньчжурию.
Ноябрь: Мао Цзедун руководит Первым Всекитайским съездом советов, объявляет о создании Китайской Советской Республики, избран председателем её ЦИК.
В Северном Китае кончается период двухлетнего голода, унёсшего жизни от пяти до десяти миллионов человек.
1932: февраль-март — Красная армия отражает четвёртый поход Гоминьдана.
Апрель — Правительство Советского Китая объявляет войну Японии.
Японские войска ведут бои в Шанхае.
1933: январь — руководство ЦК КПК переезжает в Центральный советский район.
Красная армия борется против пятого карательного похода.
1934: январь — Второй Всекитайский съезд советов, Мао переизбран председателем, но снят с поста главы Совнаркома.
Октабрь — Красная армия, потерпев поражение от войск Гоминьдана, уходит в Великий поход.
1935: март — Мао назначен фронтовым политкомиссаром Красной армии.
Лето — отряды Мао соединяются с войсками Четвёртого фронта Красной армии. Великий поход продолжается.
Июль-август — в Москве проходит Седьмой конгресс Коминтерна, на котором постановлено образовать единый антияпонский фронт в Китае. Начинается прославление Мао Цзедуна.
Ноябрь — Мао становится лидером Северо-Западного советского района Китая.
1936: Американский журналист Эдгар Сноу пробирается в расположение Красной Армии, и Мао даёт ему большое автобиографическое интервью, на основании которого Сноу выпустит книгу «Красная звезда над Китаем».[311]
Мао предлагает Гоминьдану перемирие, чтобы объединить силы дла борьбы с японцами. Чан Кайши отвергает предложение и планирует новый поход против «красных».
Помощник Чан Кайши арестовывает его и требует, чтобы перемирие с коммунистами было заключено.
1937: Июль — Япония начинает вторжение в Китай.
Сентябрь — коммунисты и Гоминьдан заключают союз для совместных действий против Японских войск.
Мао пишет труды по тактике революционных войн.
1938: Июль — Коминтерн в лице своего председателя Георгия Димитрова извещает ЦК КПК о том, что Москва признала Мао Цзедуна вождём китайского народа и призывает коммунистов сплотиться вокруг него.
Войска Гоминьдана под натиском японцев отступают на запад, армия коммунистов начинает партизанскую войну за линией японского фронта
1939: Мао формулирует теорию «Новой демократии».
Быстро растёт популярность коммунистических идей и численность Красной армии.
Сентябрь — начало войны в Евпропе знаменует слияние военных конфликтов в Китае с ходом Второй мировой войны.
1940: Март — Чжоу Эньлай привозит из Москвы 300 тысяч долларов.
Разрыв союза между коммунистами и Гоминьданом. Чан Кайши атакует соединения 4-ой армии.
1941: июнь — Нападение Германии на СССР.
Июль — несмотря на начало войны Политбюро принимает решение отправить КПК миллион американских долларов.
Декабрь — нападение Японии на Перл-Харбор. Гоминьдан начинает получать военную поддержку от США.
1942: Февраль — Мао начинает широкомасштабную «чистку» коммунистической партии, которая сводится к суровой критике отклоняющихся от центральной линии.
Известный политический мыслитель Лю Шаоци объявляет, что Мао Цзедун разработал новый «азиатский» вариант марксизма.
1943: Идеи «Новой демократии» завоёвывают популярность среди крестьян и интеллигенции.
Чжоу Эньлай объявляет, что численность КПК достигла 800 тысяч, а Красная армия освободила территории, население которых оценивается в 100 миллионов.
1944: Американские военные советники прибывают в Яньань, столицу коммунистических районов.
1945: Апрель-июнь 7-й съезд КПК. Он принимает новый устав партии, в котором объявлено, что идеи Мао Цзедуна должны быть «путеводной звездой» во всей работе коммунистов. На первом после съезда пленуме его избирают Председателем ЦК, политбюро и Секретариата ЦК.
Август — Япония капитулирует.
Осень — Мао ведёт переговоры о мире с Чан Кайши.
1946: Мирные переговоры не увенчались успехом.
Июнь — начало новой гражданской войны с Гоминьданом.
1947: В книге «Текущая ситуация и наши задачи» Мао Цзедун излагает стратегию и тактику войны с националистами.
Апрель — Красная армия снова берёт центральный оплот коммунистов — город Яньанг.
1948: Несмотря на поддержку американцев, армия Гоминьдана терпят полное поражение в Маньчжурии.
Осень — победное наступление красных на восточные территории Китая.
1949: Январь — войска Народно-освободительной армии Китая входят в Пекин.
Апрель-май — она берёт Нанкин и Шанхай.
Чан Кайши с остатками своей армии укрывается на острове Тайвань.
Октябрь — Мао Цзедун провозглашает Китайскую народную республику, избран Председателем Центрального народного правительства.
1950: Январь-февраль — Мао Цзедун посещает СССР с официальным визитом. Ведёт переговоры со Сталиным. Заключает договор о дружбе, союзе и взаимопомощи.
На Кубе
Может возникнуть впечатление, что свой жизненный путь Фидель Кастро прокладывал, постоянно сверяясь с биографией своего кумира — борца за независимость Кубы, Хосе Марти. В 1895 году знаменитый революционер приплыл с отрядом вооружённых сторонников освобождать родину от захватчиков. Значит сейчас, шестьдесят лет спустя, мы должны последовать его примеру. И с первых же дней пребывания в Мексике в 1955 году Фидель начал активную подготовку военного десанта по четырём направлениям: вербовка бойцов, пропаганда революции, сбор денег, закупка оружия.
Для тренировки рекрутов были арендованы несколько домов в бедных кварталах. Один из лидеров вспоминал потом: «Дисциплина была военной. Нам запрещалось разговаривать с кем-нибудь на улице, поддерживать отношения, давать свой адрес, говорить по телефону… В каждом доме был трибунал из двух-трёх человек, который контролировал остальных и мог даже присудить к смерти… Такое случалось».[312]
Инструкторы с военным опытом обучали рекрутов обращению с оружием и взрывчаткой, стрельбе, тактике боёв в горных лесах. Было приказано сдать зубную пасту, крем для бритья, мыло, потому что все это «предметы роскоши» не понадобятся в партизанской жизни. Тогда же, летом 1955 года произошла первая встреча Фиделя Кастро с Че Геварой. Историки потом сравнивали союз этих двух революционеров с другими похожими «дуомвиратами»: Линин и Троцкий, Гитлер и Геббельс, Мао и Чжу Де.[313]
Главным полем распространения пропаганды, следуя примеру Марти, Кастро сделал США. Он публиковал статьи в испаноязычных газетах, выступал перед заполненными залами во Флориде, Филадельфии, Нью-Йорке, Коннектикуте. В конце каждого выступления ковбойская шляпа отправлялась по рядам и возвращалась набитая долларами.
Но главным источником финансирования были богатые противники Батисты, жившие в эмиграции. Экс-президент кубинского Банка Развития, Хусто Каррилло, связанный с офицерами, готовившими переворот против диктатора, принял Кастро, тайно посетившего его в Юкатане. Они провели вместе три дня, обсуждая будущее Кубы. В какой-то момент Каррилло, знавший Кастро-старшего, сообщил своему гостю, что тот недавно из-за плохого урожая должен был заложить ферму. Фидель вдруг разразился гневными тирадами в адрес отца, объявил, что он больше не желает слышать о нём.
— Да, но мне известно, что вы продолжаете принимать от него по сто долларов в месяц, — заметил Каррилло.
— Эти деньги нужны революции, — отрезал Фидель.[314]
Его встреча с бывшим президентом Кубы Карлосом Прио тоже была устроена под покровом секретности. Фиделю пришлось вплавь пересечь реку Рио-Гранде, отделявшую Мексику от Техаса. В течение нескольких часов он ораторствовал перед холёным миллионером о том, какие перспективы откроются в освобождённой Кубе для всех сторонников демократии, справедливости, свободной прессы, парламентского правления. Его ораторское искусство было вознаграждено взносом в сто тысяч долларов.[315]
Теперь ликующий Кастро смог активизировать закупку оружия, используя свои связи с американскими и мексиканскими гангстерами. Также за 20 тысяч была куплена яхта «Гранма», которой суждено было войти в мифологию Кубинской революции. Она имела два небольших дизельных мотора и была рассчитана на 25 пассажиров. Когда под покровом ночи 25 ноября 1956 года отряд в восемьдесят человек с оружием и припасами погрузился на неё, она осела так, что борта едва возвышались над водой.[316] Теснота была такая, что спать люди могли только сидя или по очереди. Вскоре у непривычных путешественников началась морская болезнь. Один только Кастро оставался бодрым и неутомимым, заряжал остальных энергией и оптимизмом.
Расчёт был выйти из Мексиканского залива и достичь северо-восточного побережья Кубы в хорошо знакомой Фиделю провинции Ориенте за пять дней. Но перегруженное судёнышко не могло развить нужной скорости и доплыло до цели только на день седьмой. Последствия этого опоздания были трагическими. Запланированное синхронно народное восстание в Сантьяго-де-Куба не получило поддержки и было подавлено с большими потерями. Руководивший восстанием революционер Франк Пайс чудом остался в живых.[317]
Высадившиеся десантники двинулись на восток, надеясь найти укрытие в горах. На третий день самолёт-разведчик обнаружил их, и вскоре крупные подразделения армии Батисты атаковали «фиделистов» с разных сторон. Разгром был полным, но Фидель и двое его соратников сумели спрятаться в густых кустах на опушке леса.[318] После одиннадцати дней блужданий братьям Кастро удалось отыскать друг друга в горах Сиера Маэстра.
— Сколько ружей у тебя есть? — спросил Фидель.
— Пять, — ответил Рауль.
— И у меня два. Ура! Семь ружей — этого хватит для победы![319]
Но до победы было ещё далеко. Началась упорная партизанская война, заполненная внезапными атаками на небольшие армейские посты, отступлениями в горные ущелья, актами саботажа, включавшими поджоги полей сахарного тростника. Не пожалели и поля, принадлежавшие матери Кастро, и она долго не могла простить сыну это.[320]
Уже в феврале 1957 года Кастро отправил в Гавану верного человека с чётким заданием: отыскать какого-нибудь американского журналиста и уговорить его посетить партизанскую базу. Вскоре опытный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Герберт Мэтьюс прибыл в расположение «фиделистов» в горах Сиера-Маэстро. За его плечами была долгая карьера, включавшая репортажи о занятии Пекина войсками Чан Кайши в 1929 году, о вторжении войск Муссолини в Эфиопию в 1935, о гражданской войне в Испании. Несмотря на весь свой опыт, он оставался романтиком, рвавшимся защищать «правое дело». Кастро, почувствовав это, сумел устроить для него соответствующий спектакль.
Во время его беседы с журналистом вооружённые «фиделисты» должны были с занятым видом проходить взад-вперёд на виду у гостя, изображая военный лагерь переполненный бойцами. То один, то другой приближался к беседующим и докладывал: «Команданте, прибыл связной от колонны № 1… Команданте, получено сообщение от бригады, наступающей на Сантьяго-де-Куба…» В результате в «Нью-Йорк Таймс» в конце февраля начала публиковаться серия статей Мэтьюса, описывавших «кубинскую повстанческую армию, возглавляемую харизматичным лидером, уверенным в скорой победе сил демократии над безжалостным диктатором».[321]
На самом деле в те дни «армия» насчитывала хорошо если несколько десятков человек. Революционное движение было распылённым, оно состояло из многих соперничающих групп, не умеющих координировать свои действия, сильно расходившихся в своих политических устремлениях. 13 марта 1957 года группировка, именовавшая себя Революционным Директоратом, совершила атаку на президентский дворец в Гаване, такую же безнадёжную, как атака на казармы Монкадо в 1953. Трупы атаковавших остались на площади перед двоцом, и среди них — тело их молодого лидера, Хосе Эчевериа.[322]
Трудно складывались отношения между Кастро, опиравшимся на сельское население, и лидером городских революционеров, Франком Пайсом. Убеждённый демократ, верующий католик, Пайс с тревогой замечал растущее влияние коммунистов в подразделениях, руководимых Че Геварой и Раулем Кастро. В своих письмах Фиделю от укорял того за отказ поддерживать выступления в городах, настаивал на перестройке структуры революционного движения. Жизнь Пайса в городском подпольи была полна опасностей. Полиция шла за ним по пятам и, наконец, в июле 1957 года выследила и убила.
Десятки тысяч провожали тело Пайса на кладбище в Сантьяго-де-Куба. Но в воспоминаниях Кастро имя этого революционного лидера, соперничавшего с ним, упоминается лишь мельком. Не упоминается также о том, что местонахождение Пайса было обнаружено полицией благодаря телефонному звонку, сделанному в нарушение всех правил конспирации. Что знакомая Пайса призналась, что это она звонила ему за десять минут до его гибели. Цель звонка? Спросить, почему он пропал, не случилось ли чего. Звали звонившую Вилма Эспен, она была коммунисткой, любовницей, а потом и женой Рауля Кастро.[323]
В то время как Фидель осуществлял политическое руководство движением, главная работа по созданию боеспособной армии легла на Рауля. И он показал себя блестящим организатором. Начиная с марта 1958 года в горах Сиеры был открыт Второй фронт, состоявший из шести колонн. За девять месяцев эти колонны провели 250 боёв с регулярной армией. Официальный отчёт о победах перечисляет захваченные трофеи: шесть самолётов, пять судов, 12 танков. Потери: 160 повстанцев и две тысячи солдат режима.[324](Скептический читатель имеет право проверить эти цифры по другим источникам.)
В какой-то момент отряду Рауля удалось захватить автобус с американскими моряками, возвращавшимися из отпуска на базу Гуантанамо. На переговоры об их освобождении прибыли американский консул в Сантьяго со своим помощником. «Фиделисты» выдвинула два требования: а) чтобы США прекратили поставлять оружие режиму Батисты; б) чтобы прекратили заправку его самолётов на своей базе. Переговоры тянулись несколько дней, и каждый день вертолёт «фиделистов» доставлял очередную пару моряков, и консул давал расписку об их освобождении. Вся Америка следила за ходом освобождения, и это сильно подрывало репутацию Батисты, который больше не мог гарантировать безопасность иностранцев в своей стране.[325]
Почти все американские дипломаты на Кубе склонялись на сторону повстанцев и активно помогали им. Сотрудник посольства в Гаване инструктировал приезжих журналистов, как им пробираться в расположение партизан. Туда же, с помощью консула, была доставлена радиостанция, вскоре начавшая вещать на восточные районы острова. Много сочувствующих кубинцев служило на базе Гуантонамо, и с их помощью протекала контрабанда оружия.[326]
В апреле 1958 года Объединённый комитет демократических сил призвал страну к забастовке. Участников призывали забрасывать камнями и коктейлями Молотова полицейские участки и машины. Большого успеха призыв не имел, но разъярённый Батиста отдал приказ убивать на месте каждого, кто примет участие в забастовке. Видимо, усердствовала не только полиция, но и люди, сводившие счёты друг с другом, потому что к концу дня в морги было доставлено 140 трупов.[327]
Летом армия Батисты начала серьёзную кампанию против мятежников под командой генерала Эулогио Кантилло. Ему удалось окружить крупные соединения «фиделистов», оперировавших в Ориенте, и Кастро поспешил предложить перемирие. Посланцам генерала, прибывшим для переговоров, пришлось выслушивать многочасовые речи «команданте», поносившего диктаторский режим, и потом уехать ни с чем. Но время было потеряно, и «фиделисты» воспользовались перерывом, чтобы выскользнуть из окружения.[328]
Осенью 1958 года началось наступление «фиделистов» на запад под командой Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса. Моральный уровень армии Батисты опускался всё ниже, отдельные солдаты и мелкие подразделения переходили на сторону повстанцев.[329] Многие города на пути к Гаване были взяты без боя.
Имя генерала Кантилло всплывает в воспоминаниях Кастро. Поначалу он говорит о нём с уважением, отмечает его желание найти пути к окончанию гражданской войны, готовность вести переговоры. Они даже обменивались посланиями друг с другом. Но во время последней встречи в декабре 1958 года, перед отъездом генерала в Гавану, Кастро выдвинул три условия для продолжения переговоров: «Первое — не устраивать военный переворот в столице; второе — не помогать Батисте в бегстве из страны; третье — не иметь никаких контактов с американским посольством… И представьте, генерал Кантилло нарушил все три условия! 31 декабря обедал с Батистой и обсуждал передачу власти хунте; на следующий день проводил его в аэропорт и посадил в самолёт; немедленно связался с американским посольством. Такое трусливое предательство!».[330]
Сейчас уже невозможно выяснить, встречался ли Кастро с генералом, давал ли тот ему какие-то обещания, что требовал взамен. Достоверно известно только одно: что Батиста встречал новый 1959 год в кругу своих генералов, что ночью у них было совещание, а наутро диктатор вместе с семьёй погрузился в самолёт и улетел в Доминиканскую республику. По непроверенным сведениям он увёз с собой часть золотого запаса страны.
Как это могло случиться? Почему диктатор, имевший в тот момент армию в 46 тысяч человек, с танками, самолётами, артиллерией, спасовал перед повстанцами, едва насчитывавшими две или три тысячи бойцов?
Один из возможных ответов таится в цепочке исторических прецедентов, описанных выше в этой главе. Февраль 1917 года, русский царь Николай Второй запрашивает своих генералов, что ему делать, и получает ответ: отрекайтесь. Октябрь 1922 года. Итальянский король спрашивает своего главнокомандующего, готова ли армия защищать столицу от наступающих фашистов, и слышит ответ: лучше не испытывать её лойяльность. Германия, январь 1933 года. Президенту Гинденбургу говорят, что недопуск нацистов к власти может обернуться гражданской войной, и он уступает. Мы вправе допустить, что и беседа Батисты с генералами в новогоднюю ночь носила такой же характер. Устав участвовать в братоубийственной войне, не имея моральной поддержки от США, они понадеялись, что уход диктатора утихомирит политические страсти, и посоветовали ему уйти со сцены.
Тем более, что Батиста не выглядел оголтелым властолюбцем, готовым сражаться до конца. В своё время, в 1944 году, он уступил власть законно избранному президенту, уехал во Флориду и мирно прожил там с семьёй восемь лет. Его авторитет в армии оставался высоким, когда она призвала его вернуться и покончить с начавшимся в стране хаосом, он снова взял бразды правления в свои руки (1952). В середине 1950-х один журналист спросил его, считает ли он себя диктатором. Он ответил: «На Кубе есть только одна диктатура — это диктатура моей любимой жены и четырёх сыновей надо мной».[331] Такой любящий семьянин мог просто желать избавить своих близких от пуль и бомб террористов. Он прожил ещё 14 лет и умер в Испании в возрасте 72 лет от сердечного приступа.
Весть о бегстве Батисты всех застала врасплох. Кастро был в ярости, он кричал, что у повстанцев хотят обманом вырвать победу. Видимо, он опасался, что к власти придёт умеренная хунта, народная ненависть к правительству в Гаване ослабнет и революция лишится поддержки масс.[332] Но его опасения были напрасны. Несколько дней спустя он въезжал в столицу на танке, придерживая рукой сына Фиделито, срочно возвращённого из американской школы на родину, а миллионная толпа на улицах захлёбывалась в крике: «Фидель! Фидель! Фидель! Фидель!».[333]
Комментарий пятый: О ГРЕХЕ БОГАТСТВА
И за то, что их в рай не впустят,
И за то, что в глаза не смотрят…
Марина Цветаева. «Хвала богатым»Самые свирепые споры и вражда вскипают между людьми вокруг вопроса: «Как, по каким правилам нам нужно уживаться на земле друг с другом?». Ответы на этот вопрос отливаются в религиозные заповеди, в политические программы, в философские теории. Нам пытаются навязать правила жизни, диктующие, как следует трудиться, одеваться, питаться, молиться, размножаться, развлекаться, лечиться. А по каким правилам следует обращаться с благами земными, с имуществом, с богатством? Допустимо ли, чтобы один человек владел чем-то, чего нет у другого?
«Нет, — отвечает француз Прудон. — Собственность — это воровство.»
«Нет, — отвечает немецкий еврей Маркс. — Собственник — это грабитель и обманщик.»
«Нет, — отвечает россиянин Ленин. — Смело грабьте награбленное и экспроприируйте экспроприаторов.»
Столько миллионов людей погибло в XX веке, сражаясь за и против этих лозунгов, что просто страшно предстать перед читателем их защитником. Но в то же время невозможно оставить без объяснения загадку: «А почему эти лозунги вызывали и продолжают вызывать такое кипение страстей? Ради чего люди шли и идут на смерть за них? И так ли нова эта дилемма или она всплывала и в веках минувших?».
Перенесёмся в предисторию человеческой цивилизации. Вглядимся в зарождение первых форм человеческих сообществ — семьи, рода, племени. Кем предстанет в наших глазах охотник, первым поделившийся с сородичами мясом убитого оленя? Строитель вигвама, пустивший укрыться заблудившегося путника? Пастух, согласившийся охранять общее стадо? Они будут выглядеть смелыми бескорыстными пионерами прогресса, созидающими зародыши будущих социумов. Выжили и оставили след в истории только те племена, в которых восторжествовал принцип общего владения «земными благами», а принцип индувидуального владения осуждался и оттеснялся на задний план.
В Средние века европейские путушественники, сталкиваясь с коренными жителями Америки, Африки, Австралии, не раз изумлялись заботливости и бескорыстной взаимопомощи, оказываемой людьми друг другу внутри одного племени. У охотников и кочевников традиции гостеприимства служили, видимо, своего рода страхованием от несчастных случаев, от наводнений и пожаров, от падежа скота. Невозможной казалась ситуация, когда один будет умирать от голода, а у соплеменника будет полно припасов.
Чарлз Дарвин в «Путешествии на Бигле» описывает недоразумения, которые случались у белых при встречах с туземцами Южной Америки. Получив подарки от путешественников, те начинали указывать на разные предметы их одежды и произносить одно и то же слово, явно имевшее у них магический смысл: «вжых, вжых». Вскоре стало ясно, что слово означало «отдай». Когда путешественники отказывались расстаться со шляпой, галстуком, трубкой, очками, туземцы выражали изумление, возмущение, даже гнев. Один вдруг исчез и вернулся с камнем в руках, явно намереваясь проучить заезжих невеж.
Считать что-то своим явно считалось у первобытных народов недостойным. Подобные традиции сохранились у кочевых племён в России до советских времён. Туристов, посещавших Казахстан, Киргизию, Калмыкию, предупреждали, что в юртах нельзя похвалить какую-нибудь вещь — её немедленно начнут вручать вам и обижаться на отказ принять. Заветные слова «джаксы-джаксы» мгновенно приводили к переходу предмета от одного соплеменника к другому.
С переходом к осёдлому земледелию старинные обычаи не исчезали, а продолжали существовать внутри сельских общин, которые оставались хранителями моральных правил для многих поколений. Право индивидуальной собственности не только не было священным, но по возможности отрицалось, приоритет отдавался защите принципа равенства. Участки земли ежегодно подвергались передаче из рук в руки, чтобы ни у кого не было возможности пожаловаться на плохое качество доставшегося ему поля.
Уже в античности мы находим государства, многими чертами напоминающие воплощение идей Маркса-Ленина. Самым ярким примером является Спарта. Торговля и финансовая деятельность отменены, литература и искусства задавлены, выезд за границу запрещён, всё покрыто такой секретностью, что ближайшие соседи порой не знают, как и кем управляется страна. Афиняне и спартиаты говорили на одном языке, но их отношения были похожи на отношения между южными и северными корейцами сегодня. Холодная война между двумя государствами не раз переходила в горячую, и Спарта в конце концов оказалась победительницей.
Многие афинские интеллектуалы превозносили равенство, достигнутое спартанцами, с таким же жаром, с каким сегодня марксисты в свободном мире превозносят «достижения стран социализма». Знаменитый историк Плутарх не уставал восхвалять реформатора Спарты, законодателя Ликурга. Тот застал государство, в котором «толпы неимущих и нуждающихся обременяли город, все богатства перешли в руки немногих…» Ликург уговорил сограждан разделить всю землю поровну, чем «изгнал наглость, зависть, злобу, роскошь…».[334]
Христос учил, что «обольщение богатством заглушает Слово, и оно бывает бесплодным». (Матф., 13:22) Множество людей в христианских странах тяготились бременем собственности, осуждали её, пытались «раздать имение своё». Они ощущали владение землёй и имуществом как грех и искали спасения от этого греха, уходя в монастырь. Или устраивали комунны, в которых общим был труд на земле и в мастерских, общие жилища, общие трапезы. В современном Израиле хозяйства кибуцев устроены по тем же принципам.
Мы не можем не верить Толстому, который описывает моральные мучения, испытанные им из-за привилегий барского статуса. Когда его жена покупала новое кресло для дома за какие-нибудь 30 рублей, он немедленно начинал высчитывать, сколько дней бедная крестьянская семья могла бы прожить на эту сумму, и приходил в ужас от творимой ими «несправедливости». Если двое в одной семье не могли придти к согласию о том, что справедливо и что нет, как можно ждать единодушия по этому важнейшему вопросу среди миллионов?
Тем не менее развитие цивилизации производило свой отбор. Её прогресс оказывался возможным только у тех народов, которые делали выбор охранять личную собственность граждан. Да, это неизбежно создавало имущественное неравенство и, следовательно, раздоры. Но только таким образом оказывалось возможно извлечь выгоду из врождённого неравенства людей. Только так прозорливый получал возможность контролировать производственные процессы и большие хозяйственные проекты с максимальной эффективностью и способствовать общему процветанию страны.
В реальной исторической жизни институт собственности сделался главным инструментом охраны прав дальнозоркого, дававшим ему стимул прилагать максимальные усилия для приумножения своего — а значит и всеобщего — благосостояния. Правители охраняли собственника от зависти и ревности близорукого большинства, и для этого необязательно было вводить новые законы. Параллельно с рыночным регулированием действовали невидимые, но необычайно важные моральные рычаги. Их убедительно описал Адам Смит в своей книге «Богатство народов».
Он внимательно вгляделся в отношения между британскими землевладельцами и их арендаторами. Труд фермера не сводился к пахоте, посеву и уборке урожая. Любое улучшение участка требовало долгосрочных вложений труда и денег, которые лишь в будущем могли принести доход. Осушить заболоченный луг, проложить удобную дорогу, удобрить оскудевшую почву, построить амбар или скотный двор — всё это оказывалось возможным лишь в том случае, если трудолюбивый арендатор был уверен, что хозяин земли не прогонит его, чтобы воспользоваться удорожанием земли. Знаменитый экономист вводит здесь совершенно ненаучное понятие: «чувство чести помещика». Именно оно, по его мнению, не позволяло сквайрам злоупотреблять своими правами и способствовало расцвету сельского хозяйства в Англии.[335]
Вглядываясь в ход мировой истории, мы получим множество подтверждений простому правилу:
Там, где государственный уклад охранял дальнозорких и энергичных от произвола и зависти близоруких, страна начинала богатеть и процветать, но при этом в ней неизбежно вскипали внутренние раздоры. Отмена или ограничение права собственности приглушала раздоры, но платить за это приходилось катастрофическим обеднением.
Переносясь из далекого прошлого в век 20-ый, мы имеем право задать вопрос: «Как сложилась судьба дальнозорких в странах, где воцарились наши фараоны? Ведь Муссолини и Гитлер не покушались на институт частной собственности. Почему же и под их властью судьба дальнозорких сделалась такой тяжёлой, что они начали массами покидать свои страны?».
Ответ, мне кажется, нужно искать в новой структуре партийной организации, которая вынесла всех пятерых на трон абсолютной власти.
Все прежние иерархические пирамиды власти и влияния строились на ясном принципе: подняться по её ступеням ты сможешь только в том случае, если у тебя есть какие-то преимущества — богатство, знатность, талант, энергия. Легко себе представить чувство безнадёжности, накипавшее в душе человека, всего этого лишённого. А ведь таких всегда было и будет большинство. Нужно напрячь воображение и представить себе, каким манящим светом надежды вспыхивал для таких людей призыв: «Таланта не нужно, знатность — пережиток, богатство — презренно, образованность — помеха. Единственное, что требуется для подъёма по лестнице чинов: бесконечная слепая преданность партии и её вождю».
Вечно колеблющемуся, сомневающемуся, анализирующему дальнозоркому выполнять это требование было в десять раз труднее, чем близорукому. Формируя свои партии, наши будущие фараоны в поисках беззаветных сторонников опускались на дно общества. Их звериное чутьё вело их верно, подсказывало, что только там они найдут таких, которые будут готовы и убивать за них, и идти на смерть.
Именно поэтому во всех ссылках и тюрьмах Сталин предпочитал сближаться с уголовниками, а не с политическими.
А Муссолини всем своим видом и поведением показывал, как правильно следует воспринимать его лозунг: «Верить в меня, подчиняться мне, сражаться за меня».
И ненависть Гитлера к евреям сильно подогревалась тем, что в их душах трон Божества уже был занят и фюреру места не оставалось.
Мао направлял главные пропагандные усилия на деревенских босяков и легко вступал в союз с лесными бандитами, потому что видел, что даже бедный крестьянин-труженник остаётся глух к призыву «грабь награбленное».
И Кастро неустанно отбирал в свои отряды только тех бунтарей, которые готовы были идти до конца за него лично, даже навстречу смертельной опасности.
Коммунизм и нацизм были идейно враждебны друг другу, но организация их партий строилась на одном и том же критерии: на преданности. Поэтому в 1930-е годы так легко было переманивать молодых людей из одной партии в другую.
Если в партию сгрудились малые,
Сдайся, враг, замри и ляг!
Громадный, переполненный уверенностью в себе Маяковский готов был прикинуться «малым», чтобы приобщиться к сокрушительному могуществу партии тоталитарного образца, чтобы замешаться в братство «плеч, друг к другу прижатых туго».
Моему поколению довелось жить под властью тех, кто раньше «был ничем, а стал всем». Да, они не могли получить в свою собственность завод, фабрику, порт, аэродром. Но они получали чин в партийной номенклатуре (первый, второй, третий секретарь райкома, горкома, обкома), и этот чин делался их достоянием на всю жизнь, обеспечивал получение командных постов во всех сферах жизни. Они могли развалить производство на заводе, оставить фабрику без сырья, довести до разрухи причалы порта, не чинить взлётные полосы аэродрома — максимальное наказание, грозившее им, был перевод на другую, не менее ответственную, должность. И их преданность режиму была безграничной.
Радикальную отмену социального неравенства могли предложить только анархисты. Их теории создавались прозорливыми, и эти теоретики правильно провидели, что ни отмена сословий, ни отмена собственности не покончит с этим источником человеческих страданий. В любом государстве должны быть властвующие и подчиняющиеся, как в любом здании будут верхние и нижние этажи. Только полное разрушение государственной постройки может вернуть людей в «райские кущи» первобытного существования. Но здесь прозорливость прекраснодушных теоретиков кончалась, и они не хотели вглядываться в кровавый кошмар, которым грозило человечеству претворение в жизнь их теорий.
Любой революционный взрыв ставит народ перед выбором: хаос или диктатура. Не следует удивляться тому, что большинство народов выбирает в такой ситуации спасение в диктатуре. Для дальнозорких этот выбор оказывался мучительным, они протестовали, пытались бороться с диктатором, объяснять массам лживость его посулов. Но они всегда остаются слепы к тому бесценному благу, которое обожествлённый повелитель несёт близорукому большинству.
Имя этого блага: НЕПОГРЕШИМОСТЬ.
Пока я верю каждому слову фараона, следую его лозунгам, подчиняюсь его приказам, я избавлен от сомнений, я обретаю сокровище НЕВИНОВАТОСТИ. Дальнозоркий, прозорливый не ценит это сокровище, не понимает, как кто-то может стремиться к нему. Всё его существование нацелено на вглядывание в сумрак Неведомого, на отыскание просветов в ужасе Небытия, а это возможно лишь в том случае, если ты подвергаешь сомнению и проверке каждый приоткрывшийся тебе лоскут Творения. Поэтому он всегда будет во враждебной оппозиции не только к диктатору, но и к близорукому большинству. И то, что он в последние два века обожествил власть большинства, ставит его в безнадёжно трагикомическое положение.
Пятьсот лет назад Николло Макиавелли с горькой иронией описывал, как должен вести себя повелитель, желающий укреплять и расширять свою власть. Пятеро наших героев, возможно сами того не ведая, во многом следовали его инструкциям. Но есть в их поведении одна общая черта, которую Макиавелли обошёл или не заметил, а они довели до степеней неправдоподобных. Они все смогли осчастливить свои народы «непогрешимостью» только потому, что сами взрастили её в своём самосознании в ранг абсолютной истины.
Они никогда и ни в чём не сомневались. Они были правы всегда и во всём. Они не меняли своих решений и не отменяли отданных приказов. Если они говорили сегодня одно, а завтра — прямо противоположное, и то, и другое было правильным, потому что за ночь изменились обстоятельства. Они были похожи на мощные трактора, в которых забыли вмонтировать задний ход, поэтому, оказавшись перед стеной, они имели единственный выход: сокрушить её и ехать дальше. Сколько людей погибнет в рухнувшем здании, значения не имело.
Возвращаясь к теме «грех богатства», мне хотелось бы воззвать к чуткой совести дальнозорких:
«Если вы откажетесь принимать на душу этот грех, управление богатством перейдёт в руки близоруких, и они очень скоро превратят пашни в заросли сорняков, леса — в пепелища, реки — в болота, города — в развалины. Поверьте опыту стран победившего марксизма. Но также помните, что высокая мечта о мире без собственности никогда не исчезнет из человеческого сердца и под красное знамя с серпом и молотом, поднятое очередным претендентом на трон фараона, всегда будут стекаться тысячи обделённых судьбой бойцов».
Летопись шестая. ИХ ПОДРУГИ И ЖЁНЫ
Перед тем как начать рассказ о вознесении и обожествлении наших героев, нам следует вглядеться ещё раз в их человеческую ипостась — то есть в отношения с женщинами, семьёй, детьми. Официальной пропаганде, работавшей над созданием гламурных портретов народных кумиров, приходилось сильно изворачиваться, обходя многие неудобные моменты их биографий — попробуем заполнить оставленные ею пробелы.
Горячий грузин
Если собрать в одну книгу историю любовных приключений Сталина в дореволюционной России, получится том, способный затмить подвиги Казановы. Похоже, ни изрытое оспинами лицо, ни искалеченная рука, ни прихрамывание, ни маленький рост (163 сантиметра) не ослабляли очарования, которое непостижимым образом влекло к нему самых разных женщин. С ними он преображался. Грубость исчезала, в их воспоминаниях перед нами предстаёт пылкий и искренний весельчак, всегда готовый придти на помощь, бурлящий живыми чувствами, потешающий смешными историями, готовый выслушивать жалобы и исповеди. Да, он часто исчезал без предупреждения неведомо куда. Но это только добавляло сияния его ореолу геройского революционера.
Историк Борис Красильников попытался исследовать эту часть биографии «вождя народов». Ему удалось найти материалы, указывающие на то, что амурные подвиги Кобы-Сосо начал ещё учась в семинарии. Некая Прасковья Михайловская, арестованная НКВД в 1938 году, говорила родственникам, что она была дочерью Сталина, родившейся в 1899 году. Не исключено, что именно рождение внебрачного ребёнка было настоящей причиной исключения семинариста Джугашвили.[336]
Существование в подполье требовало частых смен жилья, и почти в каждой новой квартире находилась женщина, чьё сердце открывалось загадочному и смелому грузину. Он умел ухаживать, делать комплименты, чаровать пением романсов. Кроме того, он выглядел таким неухоженным, одиноким, исхудавшим, что в каждой просыпался материнский инстинкт, порыв приласкать, утешить, подкормить. Наличие мужа у хозяйки квартиры не обязательно оказывалось препятствием.
В 1905 году Сталин нашёл приют в модном ателье в Тбилиси, в котором работали сёстры Сванидзе, Александра (Сашико) и Екатерина (Като). Сашико была замужем за большевиком, но ателье оставалось вне подозрений у полиции, потому что его клиентками были высокопоставленные дамы, жёны жандармских и военных офицеров. В задней комнате Сталин работал над статьями для большевистских газет, а вечером присоединялся к сёстрам, развлекал их историями своих приключений, пел грузинские песни, но нередко по их просьбе читал и революционные памфлеты.[337]
Летом 1906 года, вернувшись с большевистской конференции в Стокгольме, Сталин женится на Като Сванидзе. В марте 1907 у них родился сын Яков, которого счастливый отец называл «пацан». Като боготворила мужа, в её глазах он был рыцарем и героем. Но у профессионального революционера времени на семью почти не оставалось.
Вскоре им пришлось переехать в Баку, где Сталин с головой окунулся в издание двух газет: «Бакинский пролетарий» и «Гудок».[338] Бакинская жара и изнурительная бедность подорвали здоровье Като. Ей в одиночку приходилось вести хозяйство, ухаживать за сыном и сгибаться над швейной машинкой, чтобы как-то сводить концы с концами. Осенью Сталин поддался призывам родных и отвёз тяжело больную жену в Тбилиси. Но было уже поздно. Туберкулёз, а потом и тиф одолели ослабленный организм, и в ноябре двадцатидвухлетняя Като умерла на руках мужа.[339]
Ей были устроены похороны и отпевание по православному обряду. Один друг Сталина вспоминал потом: «Коба крепко пожал мою руку, показал на гроб и сказал: “Это существо смягчило моё каменное сердце; она умерла, и вместе с ней — последние тёплые чувства к людям”. Он положил правую руку на грудь. “Здесь, внутри, всё так опустошено, так непередаваемо пусто”.»[340]
После смерти жены Сталин возобновляет череду своих романов, отыскивая новых возлюбленных, как правило, в «местах не столь отдалённых». В 1909 году, находясь в ссылке в городке Сольвычегодске (Архангельская губерния), он сошёлся с ссыльной по имени Стефания Петровская. Всё развивалось как будто по сценарию для Голливуда: пылает «тюремный роман»; Сталин бежит из ссылки; Петровская, отбыв свой срок, спешит не к мужу, а к возлюбленному в Баку, где обоих арестовывают вновь; Сталин из тюрьмы ходатайствует о разрешении жениться на Стефании; разрешение дано, но с такими проволочками, что оно застаёт нашего героя уже возвращённым в Сольвычегодск.[341]
Там у него вскоре загорается роман с многодетной вдовой Матрёной Кузаковой. От этого романа в 1912 году родился сын Константин. После революции вдова с детьми переезжает в Москву, получает квартиру. Константин заканчивает институт, делает блистательную партийную карьеру, попадает в помощники к Жданову. Правда, чуть не погиб, когда Берия пытался свалить Жданова и арестовывал его сотрудников, но спасся благодаря вмешательству самого генсека. «После войны работал в ЦК, потом на телевиденьи, был большим начальником. О том, что он сын Сталина, все знали, но никто об этом вслух не говорил».[342]
Романы продолжались и в других ссылках. Даже в пустынном Тураханском крае Сталин сумел отыскать себе подругу четырнадцати лет, которая тоже родила ему ребёнка.[343] Из этой ссылки он взывал о помощи не только к товарищам по партии, но и к старинным приятельницам:
«Дорогая Татьяна Александровна! Как-то совестно писать, но что поделаешь — нужда заставляет. У меня нет ни гроша. И все припасы вышли. Были кое-какие деньги, да ушли на тёплую одежду, обувь и припасы, которые здесь страшно дороги. Пока ещё доверяют в кредит, но что будет потом, ей-богу, не знаю… Нельзя ли будет растормошить знакомых и раздобыть рублей 20–30? А то и больше? Это было бы прямо спасенье. И чем скорее, тем лучше, так как зима у нас в разгаре (вчера было 33 градуса холода)».[344]
После Февральской революции тысячи политических заключённых и ссыльных были освобождены и немедленно включились в закипевшую борьбу различных партий за власть и влияние. Сталин был одним из самых активных: участвовал в июльской попытке большевистского мятежа, в Октябрьском перевороте, в начавшейся гражданской войне. В 1918 году Центральный Комитет отправил его на Царицынский фронт. Юная Надежда Аллилуева оказалась с ним в одном спальном вагоне. По свидетельству её сестры, во время этой поездки Сталин изнасиловал её, а потом уговорил выйти за него замуж. Она согласилась, и через пять месяцев после заключения брака у них родился сын Вася.[345]
Второй брак Сталина продлился 13 лет. Он был переполнен ссорами и примирениями, но взаимное недоброжелательство нарастало год от года. Сталин не собирался отказываться от ухаживания за другими женщинами, однако и Надежду однажды застали обнимающейся с сыном вождя от первого брака, жившим с ними в одной квартире. Тот, боясь ярости отца, пытался застрелиться, но выжил.[346]
В какой-то момент отношения стали такими тяжёлыми, что Надежда забрала обоих детей и уехала к родителям в Ленинград. Она согласилась вернуться только при условии, что муж будет лечиться у психиатра. Был тайно приглашён знаменитый профессор Бехтерев, который вынес такой диагноз:
«Неуравновешенная психика. Прогрессирующая паранойя с определённо выраженной в данный момент чрезвычайной подозрительностью, манией преследования. Болезнь обостряется сильным хроническим переутомлением, истощением нервной системы. Только исключительная сила воли помогает Сталину сохранять рассудительность и работоспособность, но этот ресурс не безграничен. Требуется тщательное обследование и длительное лечение, хотя бы в домашних условиях. А главное — отдых, воздух, снятие психического давления, физическая закалка организма. И, разумеется, постоянный щадящий режим с учётом возраста».[347]
Вскоре старик Бехтерев умер при неясных обстоятельствах.
Окончательный кризис в супружеских отношениях наступил в 1932 году. На торжественном банкете вождей по поводу пятнадцатилетия Октябрьской революции Надежда Аллилуева, доведённая до истерики грубостями мужа, бросила ему в лицо горячие обвинения за кошмар коллективизации, за гибель невинных людей, за атмосферу всеобщего страха и молчания. «Нужно быть настоящим гением, чтобы оставить без хлеба такую страну, как Россия!», кричала она. Потом покинула банкетный зал, ушла к себе. Наутро её нашли мёртвой, в луже крови, с пистолетом в руке.[348]
Историки до сих пор спорят о том, было ли это самоубийство или убийство. Два обстоятельства склоняют меня к первому варианту. Во-первых, Сталин всю ночь спал в соседней комнате (он вернулся намного позже жены, когда она, скорее всего, была уже мертва), его разбудили только наутро, когда обнаружили труп. Такой опытный уголовник исчез бы с места преступления, уехал бы на дачу. Во-вторых, погибшая оставила письмо с обвинениями в адрес мужа, об этом рассказали домоправительница и няня, нашедшие тело.[349]
Сталин, по своему обыкновению, интерпретировал самоубийство жены как измену и предательство, как «удар в спину». Но горевал не долго. Уже в декабре в Кремль была приглашена известная певица Вера Давыдова — и не только петь. Музыкальные пристрастия вождя начинают сильно влиять на его выбор объектов внимания: певица Валерия Барсова, балерина Лепешинская, киноактриса Любовь Орлова, блиставшая в музыкальных кинокомедиях.
У Сталина было трое законных детей. Судьба всех троих сложилась трагически. Сын от первого брака, Яков, рос в семье родственников матери — Сванидзе, и отец не проявлял к нему никаких тёплых чувств. Во время войны он попал в немецкий плен. Ходила легенда, будто немецкое командование предлагало обменять его на маршала Паулюса, попавшего в плен под Сталинградом, но Сталин заявил, что он «не обменивает маршалов на капитанов». Яков погиб в лагере для военнопленных.
Сын Василий носил фамилию отца и делал стремительную военную карьеру. В 1947 году он, двадцативосьмилетний, уже генерал-лейтенант авиации. Но после смерти Сталина его жизнь пошла под откос. Он спивался, в какой-то момент даже попал в тюрьму, и умер в 1962 году сорока трёх лет отроду.
Дочь Светлана росла, окружённая отцовской заботой и любовью, но эта любовь часто оборачивалась «золотой клеткой». Её телефонные разговоры прослушивались, за её знакомыми велась слежка. Когда у неё в студенческие годы загорелся роман с известным сценаристом Алексеем Каплером, Сталин не одобрил её выбор (еврей! на двадцать лет старше!) и отправил возлюбленного в лагерь. Потом были два недолгих замужества, от которых родились дети. Наследники Сталина препятствовали её третьему браку, и она, в конце концов, бежала из страны, оставив на родине обоих детей.
Необузданный итальянец
В отличие от «горячего грузина», Бенито Муссолини не тратил времени на ухаживание за женщинами. С ранней молодости он привык хватать тех, которые оказывались на расстоянии вытянутой руки, утолять вожделение и оставлять их без вздохов и сожалений.
«Я раздевал глазами каждую встречную, — сознавался он приятелю. — Ложем могла служить лестничная площадка, заброшенный сарай, ствол поваленного дерева, берег реки…».[350]
Жестокость и насилие, казалось, были для него необходимой приправой любовных утех, и он не скрывал этого в рассказах о своих похождениях.
«Наша любовь была неистова и наполнена ревностью. Я делал с ней всё, что мне хотелось… Мы ссорились, дрались и прелюбодействовали с диким самозабвением… Однажды я ранил её, глубоко всадив нож в бедро».[351]
Со своей будущей женой он встретился, когда она была восьмилетней школьницей, а он — её учителем. Впоследствии Рашель Муссолини так описала этот эпизод:
«Я была очень озорной, ни секунды не могла сидеть спокойно. Однажды так увлеклась своими шалостями, что даже не увидела линейки учителя, падающей на мои пальцы… Было больно, я поднесла руку ко рту и тут увидела большие чёрные глаза, глядящие на меня так властно, что я мгновенно притихла…».[352]
После того как умерла мать Муссолини, его отец, Алессандро, сошёлся с матерью Рашели — таким образом девочка снова вошла в жизнь будущего дуче. Он не стал ухаживать и обольщать её, просто объявил, что сейчас ему надо уехать в Австрию, он вернётся примерно через год, и тогда они поженятся. Шестнадцатилетняя Рашель не приняла его слова всерьёз и постаралась выкинуть их из головы. Но через восемь месяцев самоуверенный жених объявился и повёл решительную атаку. Он уговаривал, грозил, отбивал её на танцульках у ухажёров, наказывал щипками за непослушание.
В дело попыталась вмешаться мать Рашели:
— Бенито, я предупреждаю тебя! Девочка ещё несовершеннолетняя. Если ты не отстанешь от неё, я пожалуюсь в полицию, и тебя посадят в тюрьму.
— Ах, так! — сказал Муссолини и вышел из комнаты, но тут же вернулся с отцовским револьвером в руке. — Теперь моя очередь предупреждать. Здесь шесть пуль. Если Рашель откажет мне, одна пуля достанется ей, остальные пять — мне.
В ажиотаже перепалки никто не решился спросить, каким образом разгорячённый жених собирается всадить в себя пять пуль. Первые четыре — не до смерти? Но драматичный жест сработал, и через несколько минут помолвка состоялась. «Сказать по правде, я была рада, — пишет Рашель. — Подозреваю, что я была влюблена в Бенито с восьми лет. Мне нужен был только последний толчок, чтобы решиться».[353]
Первые шесть лет супруги Муссолини прожили в гражданском браке, оформили отношения только в 1915 году. Нет никаких указаний на то, что супружество ослабило жажду любовных приключений в Бенито. Он явно был из тех мужчин, которые смотрят на моногамию как на устаревшую и ненужную обузу. Семья и дети были дороги ему, по мере сил он старался щадить чувства жены, но при его необузданном нраве это было нелегко. В своих воспоминаниях Рашель уверяет, что знала о похождениях мужа, но подробно рассказывает только о трёх его возлюбленных, которые доставили ей немало страданий.
С Идой Дальзер Муссолини сошёлся, скорее всего ещё в 1908 году, находясь в Австрии. Видимо, она последовала за ним в Милан, потому что вскоре на свет появился мальчик, которого отец признал. О её существовании Рашель узнала весьма драматичным образом: полиция явилась в её квартиру и предъявила два ордера: один — на конфискации мебели за неуплату, другой — на арест за поджог номера в гостинице. Оказалось, что Ида Дальзер всюду называла себя «сеньорой Муссолини» и не собиралась отказываться от этого статуса.
— Она опасная женщина, — объявил Бенито Рашели. — У нас есть единственный способ помешать ей использовать моё имя. Мы должны пожениться. Тогда на свете будет только одна сеньора Муссолини.[354]
Гражданский брак был заключён в 1915 году. Но дело этим не кончилось. Весной 1917 года он находился в военном госпитале в Милане, куда его доставили после тяжёлого ранения. Рашель пришла навестить его и у дверей палаты столкнулась с Идой Дальзер.
«Она накинулась на меня, стала осыпать оскорблениями, вопила, что только она имеет право находиться у его постели. Пациенты развлекались этим зрелищем, но я была в ярости. Накинулась на неё с кулаками, пинала и даже ухватила за горло. Бенито едва мог двигаться под своими бинтами и, пытаясь разнять нас, свалился на пол. На счастье санитары вмешались, а то я могла бы задушить её… Позже Ида подала в суд на Бенито и высудила месячные алименты в двести лир на своего ребёнка».[355]
Героиней другого долгого романа с дуче была журналистка Маргарита Сарфатти. Она сотрудничала с ним в газете «Аванти», потом перешла в основанную им «Пополо Италиа». Слухи об их связи циркулировали в Риме, долетали и до Рашели в Милан. Когда она высказывала мужу свои подозрения, он заверял её, что Маргарита слишком перегружена культурой и интеллектом, чтобы вызывать в нём эротические порывы.
В 1925 году у Муссолини открылась язва желудка, и Рашель решила поехать в Рим, чтобы навестить его в больнице. К её изумлению, на вокзале её встретил инспектор миланской полиции и потребовал, чтобы она вернулась домой. Якобы, её присутствие у постели больного может создать впечатление, что болезнь дуче слишком серьёзна, а это вызовет нежелательные осложнения в международных отношениях. Рашель подчинилась, но при следующей встрече с мужем потребовала порвать эту связь. Он пообещал, даже сжёг на глазах у жены все письма «интеллектуалки». Однако на самом деле отношения продолжались вплоть до 1931 года. Впоследствии, после окончания войны, Маргарита Сарфатти продала все письма дуче за 70 миллионов лир.[356]
Кларетте Петаччи, дочери уважаемого врача, служившего в Ватикане, было десять лет, когда она радостно привествовала колонны фашистов, входивших в Рим. Один портрет Муссолини был у неё под подушкой, другой — в школьном учебнике. Она посвящала дуче стихи и посылала их в Палаццо Венециа в красивых конвертах. Его имя писала на пляжном песке и на пирожных, которые пекла на уроках кулинарии. Ей исполнилось восемнадцать, когда счастливая случайность привела автомобиль семейства Петаччи на пляж в Остии в тот самый момент, когда там прогуливался её кумир. Не слушая возражений матери и жениха, Кларетта направилась к нему и излила на него своё восхищение и преданность.[357]
Потом у неё было недолгое замужество с лейтенантом итальянской армии, ссоры, примирения и, наконец, решительный разрыв. Первые встречи Муссолини с Клареттой были обставлены с соблюдением приличий, во дворце или на пикниках присутствовал кто-то ещё, обычно — её младшая сестра. Но в 1932 году её мать была неожиданно приглашена во дворец, и взволнованный и побледневший дуче сказал: «Сеньора, даёте ли вы мне разрешение любить Клару?».[358]
Неизвестно, как сеньора Петаччи сформулировала свой ответ, но понятно, что остановить роман было не в её силах. С этого момента Бенито и Клара любили друг друга до конца жизни — до их ужасного одновременного конца 28 апреля 1945 года. В Палаццо Венеция Кларе была отведена квартира из трёх комнат, куда подняться можно было только на лифте. Из своих поездок Муссолини писал возлюбленной, она отвечала ему, и каким-то чудом три сотни этих писем соранились, и переписка нашла своё место в архиве США в Вашингтоне.[359] Она переполнена нежными словами и излияниями, но в ней же мы находим свидетельства того, что дуче не изменял своим привычкам. Он просто был не создан для постоянства. Имея возлюбленную на тридцать лет моложе него, он давал волю своему эротическому вулкану, который не находил успокоения.
«Твои ищейки донесли тебе правильно, — пишет он в одном из писем. — Это факт, что в воскресенье 24-го числа я посетил дом сеньоры Р… Ты слишком драматизируешь подобные события… Уверяю тебя, что тебе не о чем беспокоиться. Главная твоя задача — поскорее поправиться и вновь появиться в твоей комнате, которая без тебя выглядит печальной… Как насчёт понедельника? Это доставит огромную радость любящему тебя Бену».[360]
Почти во всех рассказах о любовных похождениях дуче так или иначе всплывает мотив насилия, страха, угрозы. Видимо, эта эмоциональная добавка была ему необходима. Ведь даже свою будущую жену он увёл из родительского дома под дулом револьвера. Иде Дальзер грозил пистолетом из окна редакции «Пополо Италиа», когда она устроила скандал у дверей. Французскую акстрису Магду Фонтанж он чуть не задушил шарфом. Правда, эта дама была ему под стать. Вернувшись во Францию, она начала хвастать, что за какой-то месяц сумела совокупиться с итальянским лидером двадцать раз. После этого ей был запрещён въезд в Италию, и она вообразила, что виновник этого запрета — французский посланник. Бедный дипломат, ни о чём не подозревая, приехал в очередной раз в Париж и на перроне вокзала Гаре-дю-Норд получил от гневной дамы пулю в ягодицы.[361]
Не обошлось без огнестрельного оружия и в романе с Кларой Петаччи. Они были вместе на охоте. Птицы оставались единственными существами, вызывавшими у дуче чувство сострадания, и он всегда палил по ним нарочно промахиваясь. Зато на Клару стал наводить ружьё нарочно, наслаждаясь её испугом и протестами и не зная, что помощник заранее зарядил его. В какой-то момент Клара схватила ствол рукой и дёрнула его вниз. Грохнул выстрел, пуля вошла в землю в дюйме от ноги женщины. Муссолини, отбросив ружьё, кинулся обнимать её, бормоча в ужасе: «Я мог убить тебя, малышка, мог убить!..».[362]
В течение семи лет Клара Петаччи пользовалась квартировй в Палаццо Венеция. Каков же был её шок, когда однажды, в мае 1943 года, хорошо знакомый ей швейцар остановил её такси у боковых ворот и объявил, что въезд ей запрещён. «Причин не знаю, но это прямой приказ дуче!» Ошеломлённая Клара, вернувшись домой, пыталась узнать, что произошло, — тщетно. Только пять дней спустя возлюбленный позвонил ей и холодно объявил:
— Я решил больше не встречаться с тобой. У меня есть на это причины.[363]
Скорее всего, причина была одна: Муссолини чувствовал, что его двадцатилетнему правлению приходит конец, и не хотел, чтобы крах его карьеры увлёк на дно и его возлюбленную. Поражения итальянской армии в Африке, России, Албании, Греции, готовившаяся высадка союзников в Сицилии неизбежно должны были привести к государственному перевороту в стране, который и последовал в июле.
Сестра Клары умоляла её воспользоваться случаем, порвать с человеком, который был так ненадёжен и непредсказуем. Но это оказалось не по силам влюблённой женщине. В те дни, когда свергнутый Муссолини находился под арестом в неизвестном месте, Клара написала ему страстное письмо без адреса, письмо в никуда, которое дуче мог бы предъявить на Страшном суде как речь своего адвоката:
«Бен, любимый!
…Я умерла в прошлое воскресенье, трагическое воскресенье твоего падения, этого невероятного, невозможного крушения, день предательства, который останется несмываемым пятном, позором Италии, вождь которой был предан иудами… Я была с тобой все эти последние страшные годы терзаний всего мира… делила твою боль и сопереживала твою борьбу… Я была рядом и всегда буду рядом, минута за минутой. Любить тебя, принадлежать тебе даже сегодня, когда ты один, покинут всеми и в смертельной тоске, даёт мне силы продолжать жить, даря тебе мою юность, мою любовь, как единственную цель моего существования».[364]
После завоевания Абиссинии, в 1936 году, когда Муссолини был на вершине славы, осторожная Рашель пыталась уговорить мужа отказаться от власти, уйти из политики и всей грязи, связанной с нею. «Вспомни своего любимого Наполеона, — говорила она. — Как только он добивался одной победы, он начинал искать новых. После каждого завоевания, он хотел всё дальше расширять империю. И что стало с ним, Бенито? Он потерял всё! Всё обрушилось под его ногами. Не будь как он. А то кончишь на острове Святой Елены».[365]
Рашели Муссолини было суждено дожить не до изгнания мужа, а до его расстрела и позорного подвешения трупа вверх ногами на городской площади.
Холодный австриец
Представим себе европейскую страну начала 20-го века, в которой гомосексуализм запрещён, карается тюремным заключением. Представим себе молодого человека, приезжающего из провинции в столицу этой страны. Про него известно, что он равнодушен к молодым женщинам, не ищет их общества, не ухаживает за ними. Зато в провинции у него остался друг, с которым они были неразлучны, вместе гуляли, музицировали, ходили в театр, которого он страстно зовёт тоже приехать в столицу. Он даже пишет родителям друга, расписывая, какие блестящие перспективы откроются перед их сыном в случае переезда, как много в столице возможностей для развития его музыкального таланта.
В открытке, датированной 18 февраля 1908 года, молодой человек пишет:
«Дорогой друг, с нетерпением жду вестей о твоём приезде. Сразу напиши, чтобы я мог приготовить тебе праздничную встречу. Вся Вена ждёт тебя!.. Умоляю, приезжай скорей!».[366]
Друг приезжает, поселяется в одной комнате с молодым человеком. У них почти нет общения с другими людьми, им никто не нужен. Они проводят время, посещая музеи, соборы, оперы (преимущественно Вагнера или других немецких композиторов). Друг поступил в консерваторию, подрабатывает уроками музыки и однажды приводит в их общую комнату, где стоял большой рояль, ученицу для занятий. Возмущению молодого человека не было границ. Он разразился длинным монологом о бессмысленности образования для женщин, об их закрытости для высоких идеалов, о том, что мужчина должен — и может! — сохранять целомудрие по крайней мере до 25 лет, как это было принято у древних германских племён.
Молодого человека звали Адольф Гитлер, и до тридцатилетнего возраста у него не было сколько-нибудь прочных отношений ни с одной женщиной. Молодого друга звали Август Кубицек (упомянут выше в Главе 2), он впоследствии написал воспоминания о своей юношеской дружбе с будущим фюрером. Писались они в те годы, когда преследование гомосексуалистов в Третьем Рейхе только ужесточалось. Знаменитый биограф Гитлера, Ян Кершоу, активно использовал эти мемуары, но версию гомосексуального романа между двумя друзьями даже не рассматривает. Наоборот, ссылается на этот источник как на доказательство отвращения Гитлера к гомосексуальным отношениям.[367]
Зато другой исследователь, Лотар Махтан, пишет о гомосексализме Гитлере как о доказанном факте. В его 400-страничной книге «Скрытый Гитлер» почти сто страниц отведены ссылкам на источники и библиографию. Понятно, что никто из партнёров Гитлера не мог объявить об их отношениях открыто, потому что это грозило бы судебным преследованием обоим. Но Махтан приводит убедительные истории шантажа, которому Гитлер поддавался и шёл навстречу требованиям шантажистов.
Наиболее заметными близкими друзьями Гитлера в 1920-е годы сделались двое: Эрнст Ханфстенгел и Курт Людеке. Оба они занимались торговлей произведениями искусства, оба были зачарованы ораторским мастерством Гитлера, оба вступили в нацистскую партию, оба впоследствии опубликовали мемуары.[368]Оба к моменту написания находились уже не под властью Гестапо. Эти тексты, плюс огромный объём немецких архивных документов послужили источником для исследования Махтана.
Гитлер предпринимал немалые усилия для сокрытия своих гомосексуальных тенденций, был очень недоволен публикацией книги Людеке, удравшего в США. Не забывал он и об опасности, которую представлял собой друг его юности. Как только немецкие войска вошли в Австрию, в дверь Кубицека постучались офицеры СС и вежливо попросили выдать им все документы и материалы, касающиеся его дружбы с молодым фюрером («ведь теперь они представляют ценность для истории Германии!»).[369] Испуганный Кубицек подчинился, отдал то, что у него сохранилось, и вскоре по заказу ведомства нацистской пропаганды написал мемуары, в которых представил себя и своего друга молодыми поклонниками всего прекрасного, интересующимися только искусством, и настолько целомудренными, что эротические порывы были им просто неизвестны. Он так же раздул историю про платоническую влюблённость Гитлера в девушку Стефани, которую тот якобы обожал издали, когда она гуляла по улицам Линца, которой он, якобы, написал письмо без подписи и которая так и не узнала о горячих чувствах своего поклонника.[370]
Можно задаться вопросом: почему такой крупный исследователь биографии Гитлера, как Ян Кершоу, отказался использовать книгу Махтана, даже не включил её в библиографию своего тысячестраничного труда «Гитлер»? Одно из возможных объяснений: посреди победного движения борцов за права сексуальных меньшинств было бы политически некорректно признать, что нацистская партия в Германии была создана и приведена к победе двумя гомосексуалистами: Адольфом Гитлером и Эрнстом Рёмом.
Люди, близко знавшие фюрера в 1920-е годы, отмечали его особый талант прятать своё прошлое, обстоятельства жизни, переезды с места на место. Даже его телохранители жаловались на то, что он мог внезапно сорваться с места, исчезнуть, не сообщая им, куда и с какой целью он направляется. До Первой мировой войны он не принимал участия в политической деятельности или революционной борьбе. Тем не менее его стиль жизни демонстрирует все типичные черты поведения профессионального подпольщика: минимум контактов с другими людьми, минимум письменных документов, смена адресов без указания нового места пребывания. В значительной степени его подполье было вынужденным. Как иначе может вести себя человек, обнаруживший, что доступный ему вид любовных отношений объявлен уголовным преступлением, карается арестом, судом, тюрьмой, позором?
Имеем ли мы право связать ментальность «подпольного человека» с разрастанием дикого иррационального антисемитизма в душе Адольфа Гитлера? Ведь он должен был мучительно искать виновника своего горестного положения. И в этих поисках ему помогали не только потоки антисемитской брани в газетах и памфлетах. Его кумир Рихард Вагнер гневно обличал злокозненность всей еврейской расы. Лидер американской индустрии Генри Форд в 1920 году выпустил четырёхтомный труд под названием: «Международный еврей: самая серьёзная проблема мира».[371] Год спустя эта библия антисемитов уже была переведена и опубликована на немецком. Впоследствии портрет Форда, подаренный Гитлеру Куртом Людеке, висел в кабинете рейхсканцлера рядом с портретом Фрадриха Великого.
А откуда проистекало преследование гомосексуалистов? Разве не будировалось оно всей иудео-христианской моралью европейского общества, объявившей их изгоями? Для человека, обожествившего нацию, племя, любой шаг в сторону интернационализма, то есть равенства разных племён, должен был выглядеть кощунством, покушением на святое. Поэтому для него были одинаково ненавистны демократия, гуманизм, коммунизм, христианство — всё это в его глазах становилось ответвлениями гигантского еврейского заговора. Победить такого врага было возможно, только если бы удалось поднять весь немецкий народ на войну с «еврейской чумой».
После того как Кубицек закончил учёбу в Вене и уехал обратно в Линц, мы видим Гитлера исключительно в мужском обществе. В пансионе для холостых мужчин, где он оказался, 70 % постояльцев были людьми моложе 35 лет, без средств, и для них гомосексуальные отношения были естественной формой утоления любовных порывов.[372] Дальше следуют годы армейской службы (1914–1919), дальше — сближение с партийным движением националистов, знакомство с открытым гомосексуалистом Эрнстом Рёмом, дальше — путч и два года в тюрьме, где началось сближение с Гессом, продлившееся почти 20 лет. Можно сказать, что до 1925 года у Адольфа Гитлера просто не было шансов завязать нормальные отношения с женщиной.
Ситуация начала меняться уже в годы тюремного заключения. Многие дамы были увлечены «будущим спасителем Германии», слали ему письма и подарки, навещали в камере. Винифред Вагнер (жена сына композитора) прислала ему к Рождеству посылку, в которой была пишущая машинка, бумага, ручка, чернила и прочие принадлежности, необходимые для написания «великого политического труда». После выхода из тюрьмы Гитлер не раз посещал дом Вагнеров, где он имел возможность почтить могилу своего кумира, находившуюся в саду за домом и украшенную простым камнем.[373]
Многие влиятельные и богатые дамы помогали Гитлеру деньгами, сводили с нужными людьми, пропагандировали его идеи. Он умел любезничать с ними, оказывать знаки внимания, но упорно уклонялся от попыток сближения. Они находили его привлекательным, жена Геббельса впоследствии сознавалась, что она мечтала выйти замуж за фюрера.[374] Но вскоре поклонницы сошлись на том, что он, похоже, физиологически неспособен поцеловать женщину.
В 1927 году в Мюнхен переехала сводная сестра Гитлера и с ней — её восемнадцатилетняя дочь, Гели Раубал. Между дядей и племянницей вскоре установились тёплые отношения. Он всюду брал её с собой — на прогулки, в оперу, в кафе, появлялся с ней и в компании соратников по партии. Девушка не была очень красива, но обладала большим очарованием. Гитлер также оплачивал её уроки пения и иногда прокрадывался к дверям студии, чтобы тайком подслушивать её голос. При этом он не замечал, что у Гели загорелся роман с его шофёром, Эмилем Морисом.[375]
Когда шофёр сообщил своему боссу об их намерении пожениться, тот впал в неописуемую ярость. Морис ожидал, что вот-вот будет извлечён пистолет и его жизнь оборвётся. К его счастью, дело обошлось жуткой бранью, проклятьями, изгнанием из дома. Однако шофёр оказался не робкого десятка. Всё же он служил Гитлеру много лет, выполнял вдобавок обязанности камердинера, телохранителя, секретного связного. И он подал в суд на своего нанимателя, требуя 3000 марок невыплаченного жалованья.[376]
Дальше начинается цепь загадок. Что имел в виду Морис, когда грозил, что «расскажет всё газетчикам»? Почему Гитлер послушно уплатил задержанное жалованье и выписал увольнительную с лестной характеристикой своего бывшего шофёра? Откуда у того взялся солидный капитал, чтобы открыть часовую мастерскую в Мюнхене? Почему после прихода к власти Гитлер вернул Морису своё расположение, приглашал на разные партийные торжества? Загадки, кругом загадки.[377]
Гели Раубал тоже была прощена «дядей Адольфом». Осенью 1928 года он снова всюду появлялся с ней на людях, брал в дальние поездки, в гости к друзьям. В следующем году она поселилась в его квартире и жила полностью за его счёт. Интимные отношения между близкими родственниками не были чем-то новым в роду Гитлеров, его мать и после брака продолжала называть его отца «дядя Алоис».[378] Известно также, что он рисовал её обнажённой. Подруге она жаловалась: «Ты представить себе не можешь, что он заставляет меня проделывать».[379]
Постепенно существование девушки всё больше и больше оборачивалось жизнью в золотой клетке. Она должна была отчитываться о всех своих встречах, её почта проверялась, слежка за ней делалась трудно выносимой. По слухам, у неё загорелся любовный роман в Вене, с еврейским художником, от которого она ждала ребёнка.[380]
Именно её планы поехать в Вену в сентябре 1931 года стали поводом для последней громкой ссоры, подслушанной служанкой. Дальше всё тонет в тумане. Известно лишь, что утром того дня Гитлер с несколькими соратниками уехал в Нюренберг. На следующее утро, ещё находясь в отеле, он получил известие, что Гели нашли в квартире в луже крови, рядом лежал его револьвер.
«Самоубийство или убийство?» — эту тему газеты горячо обсуждали несколько недель. К тому моменту «фюрер» был настолько влиятельной фигурой, что ждать объективного полицейского расследования было бы просто наивно. На столе в комнате Гели лежало начатое письмо подруге в Вену. В нём содержались планы приезда — и ничего больше.[381] Как и в случае с Надеждой Аллилуевой, версия «самоубийство» возобладала. Гитлер, по слухам, был подавлен происшедшим, даже впал в депрессию. Но, как и Сталин, не явился на похороны погибшей.
Эрнст Ханфстенгел имел возможность знать Гитлера очень близко, потому что тому нравилось бывать в доме этого соратника, болтать, слушать, как тот исполняет на рояле Вагнеровские мелодии. Он даже выступил в роли крёстного отца для сына Ханфстенгела. От него мы имеем нечто вроде диагноза в разговоре с журналистом в 1951 году:
«Гитлера нельзя было отнести ни к настоящим гомосексуалистам, ни к байсексуалам… Он пребывал в ничейной полосе и не мог получить полного удовлетворения ни от женщины, ни от мужчины… Невозможность реализовать сексуальную потенцию создавала постоянное нервное напряжение, часто прорывавшееся вспышками неадекватного гнева».[382]
С Евой Браун Гитлер впервые встретился в 1929 году, в фото-ателье его фотографа, Генриха Гофмана, где она работала продавщицей. Девушка не отличалась интеллектом, в школе училась плохо, любила спорт, джаз, танцы. Гитлер долго держал её в тени, не показывался с ней на людях, навещал в её квартире по ночам. Во время его разъездов она оставалась одна в Мюнхене, и, видимо, это пренебрежение довело её до такого отчаяния, что в ноябре 1932 года она написала своему кумиру прощальное письмо и выстрелила в себя из армейского пистолета своего отца.[383]
Её удалось спасти, хирурги извлекли пулю из её шеи. Однако Гитлер, находившийся в критической стадии своего взлёта, не мог уделять ей больше внимания, даже если бы захотел. Ева продолжала работать в фото-ателье и три года спустя совершила вторую попытку — на этот раз проглотив горсть снотворных таблеток. Гитлеру, конечно, не хотелось, чтобы с его именем была связана вторая девушка, покончившая с собой. Он стал чаще навещать Еву в Мюнхене, купил ей квартиру, потом виллу, подарил автомобиль, включил в своё завещание.[384]
Наконец, в 1939 году состоялся переезд Евы в Берлин. В здании Имперской канцелярии ей была предоставлена бывшая спальня президента Гинденбурга с огромным портретом Бисмарка на стене. Она получила статус одной из секретарш, но по-прежнему не имела доступа на большие приёмы и банкеты, должна была ужинать одна у себя в комнате.[385]
То, что Гитлер и Ева Браун были любовниками, подтвердил личный врач фюрера, доктор Теодор Морелл. Давая показания американской следственной комиссии, он упомянул, что Ева не раз обращалась к нему с просьбой усилить сексуальную активность её партнёра какими-нибудь стимуляторами.[386] Врачи-сексологи знают, что влюблённая женщина вполне может иметь пылкий роман с гомосексуалистом. Убедительный пример — долгая связь британской художницы Доры Каррингтон с писателем Литтоном Стрейчи, закончившаяся в 1932 году. В замечательном фильме об этой паре актриса Эмма Томпсон довольно наглядно демонстрирует, как партнёры используют сходство мужской и женской анатомии и обходят неудобства, создаваемые разницей.[387]
То, что Гитлер был способен на глубокое чувство по отношению к реальному человеку, мы вдруг узнаём из неожиданного источника. Вдова Муссолини пишет в своих воспоминаниях:
«Немецкий фюрер просто обожал моего мужа, идолизировал его, хранил в кабинете его бюст… Нацисты переняли у итальянских фашистов салют поднятой рукой (который вообще-то был введён, чтобы избежать негигиеничных рукопожатий), их коричневые рубашки были немецкой вариацией чёрных рубашек итальянцев… Многие рассказывали мне, что, когда речь заходила о Дуче, у Гитлера появлялись слёзы на глазах… Когда после ареста моего мужа в 1943 году наша дочь приехала в Германию, Гитлер, слушая её рассказ, не мог сдержать эмоций… “Я говорил, говорил ему, что нельзя доверять королю, этому лицемеру!”»[388]
Гитлер даже позволял Муссолини ронять критические замечания в свой адрес, что к этому времени уже не дозволялось никому. Он, например, признал, что попытка путча австрийских нацистов в Вене в июле 1934 года и убийство канцлера Энгельберта Дольфуса были несвоевременны. Но когда дуче попытался умерить раздувание антисемитской кампании, указывая на её вред для международных отношений, фюрер решительно отказался. Итальянскому послу в Берлине он объявил: «Имя Гитлер будет прославляться повсюду как имя человека, который стёр иудейскую чуму с лица земли!».[389]
Только в конце апреля 1945 года Гитлер исполнил мечту Евы Браун: призвал священника в свой бункер, куда не проникал грохот русских пушек, и оформил бракосочетание после пятнадцати лет близости. Но где-то в те же дни он не поколебался расстрелять мужа беременной сестры Евы «за измену».[390] Рекордно коротким оказалось время, прошедшее между венчанием и самоубийством «молодожёнов». Всё же в последний момент Гитлер успел получить ещё один удар: из Италии пришло известие о гибели Муссолини.
Плодовитый китаец
Своеволие юного Мао Цзедуна с годами только возрастало, конфликты с отцом учащались. И родители решили применить радикальное средство: нашли четырнадцатилетнему мальчику невесту. Как уже было рассказано в Летописи Первой, она была его дальней родственницей, на четыре года старше него. Молодые впервые увидели друг друга только за день до подписания контракта. Дальше всё развивалось в соответствии со старинными традициями.
«В день бракосочетания невеста, одетая во всё красное, в красном паланкине переезжала в дом суженого. Лицо её закрывала вуаль из красного шёлка, а губы были накрашены ярко-красной помадой. Девушка была обязана выражать недовольство, плакать и причитать, называя будущего мужа “волосатым насекомым”, алчным, ленивым, прокуренным и тому подобное. Затем жених и невеста отвешивали земные поклоны перед алтарём предков жениха, духам Неба и Земли, Солнцу и Луне, стихиям воды и земли и душам умерших предков. После этого кланялись друг другу. На этом обряд бракосочетания заканчивался».[391]
Увы, старательное соблюдение обрядов не помогло: непокорный Мао вскоре убежал из дома и никогда не вспоминал о брошеной жене, которая вскоре умерла. В студенческие годы у Мао начались романтические увлечения, окрашенные всеми чертами, которые мы вправе ожидать от бедного поэта: застенчивость, мечтательность, робкие попытки сближения. Безденежье лежало тяжёлым грузом на сердечных порывах, парализовало их, не давало излиться. Только получив пост директора начальной школы, двадцатисемилетний Мао смог жениться на девушке, с которой они были знакомы уже четыре года. Её звали Ян Кайхуэй (жена-2).
На этот раз не было ни пира, ни красного паланкина, ни приданого, ни щедрых подарков от гостей. Всё это млодожёны отвергли не только из-за бедности, но и для того, чтобы не впасть в «буржуазное мещанство», с которым они были готовы страстно бороться в соответствии с учением Карла Маркса. Денег на отдельную комнату не было, поэтому супруги жили раздельно, встречаясь только по воскресеньям.[392] Помогло то, что к тому времени Мао вступил в коммунистическую партию и получал финансовую поддержку из партийной кассы. Благодаря этому им удалось снять маленький деревянный домик за городскими воротами. Вскоре у них родилось трое сыновей. Но кругом уже полыхала гражданская война, мирное семейное счастье им было не суждено.
Жена-2 принимала активное участие в политической борьбе мужа: распространяла пропагандистские материалы, выполняла важные поручения, осуществляла связь между партийными группировками. В конце концов, всё это привело к её аресту. Гоминьдановская полиция требовала, чтобы она публично отреклась от мужа и его коммунистических идей, но она отказалась. В ноябре 1930 года её судили (суд занял десять минут) и расстреляли.[393] Впоследствии её имя было включено в пантеон героев китайской революции.
Мао получил известие о казни жены, находясь со своей армией в западных провинциях. Он выразил гневный протест, послал денег матери погибшей, но что он чувствовал, нам остаётся только гадать. Ибо к этому моменту он уже два года жил с другой женщиной, которая успела родить ему дочь. Теперь они могли пожениться официально. Жена-3 (Хэ Цзыгжень) была активным участником партизанской войны. Тем не менее за десять лет сожительства с Мао она сумела родить троих сыновей и троих дочерей. Растить этих детей в военных условиях было невозможно. Некоторые умерли, других отдавали в крестьянские семьи, когда военная обстановка осложнялась и требовалось срочное отступление. Дочь, родившуюся в феврале 1935 года, пришлось просто оставить в пустом доме, положив рядом с ней записку с просьбой к добрым людям позаботиться о ребёнке и немного денег.[394]
В 1937 году руководство КПК и остатки Красной армии сделали своей временной столицей городок Яньань. Склоны окружающих гор были пронизаны множеством пещер, которые оказалось легко переоборудовать в жилые помещения неуязвимые для вражеской авиации. Они вскоре заполнились солдатами и командирами, там же селились иностранные визитёры, журналисты, посланцы Коминтерна. В одной из пещер нашла приют американская революционерка, Агнес Смедли, бывшая возлюбленная советского разведчика Рихарда Зорге. В соседней пещере разместилась её переводчица, китайская актриса, которую все звали Лили. В отличие от строгих жён партийных лидеров, эта молодая женщина красила губы, завивала волосы, одевалась нарядно. И Мао Цзедун не устоял перед чарами молодой соблазнительницы.[395]
Возможно, их роман не успел зайти дальше уроков западных танцев, чтения стихов, бесед об искусстве. В любительском театре ставили пьесу по роману Горького «Мать», и Лили исполняла главную роль. Всё это было так чуждо и возмутительно для жены-3, что однажды она не выдержала: выследила мужа и ворвалась вслед за ним в пещеру, где жила соперница. Изрыгая брань и проклятья, она начала колотить Мао тяжёлым электрическим фонариком на длинной ручке. Охранник жался в углу, не зная, что предпринять. На шум прибежала из соседней пещеры Агнес Смедли. Жена-3 накинулась и на неё: «Империалистка! Танцевальная шлюха!». Защищаясь от фонаря, Агнес сбила её с ног одним ударом. «Какой муж может спокойно смотреть, как его жену избивают!», рыдала жена-3.[396]
Наутро весь Яньань знал о скандале. Партийное руководство попыталось объявить его запретной — необсуждаемой — темой. Не тут-то было! Жена-3, поддерживаемая другими жёнами, требовала возмездия, наказания, изгнания. Она добилась своего, Агнес и Лили пришлось уехать. Но жена-3 не удовлетворилась этим — вскоре и сама покинула Яньань. Под предлогом необходимости лечить старую рану, полученную при бомбёжке, она в начале 1938 года оказалась в Москве. К её разочарованию, советские хирурги нашли, что осколки бомбы слишком глубоко вросли в кости и ткани и удалить их невозможно. Жена-3 осталась в СССР, получив работу воспитательницы в Интернациональном детском доме, где нашли приют дети многих коммунистов со всего света. Здесь же с 1936 года находились оба сына Мао Цзедуна от жены-2 — Аньин и Аньцин.[397]
Мог ли брошенный женой муж долго выносить одиночество? Любвеобильная душа поэта не хотела смириться с этим. И вскоре новая соблазнительница возникла перед ним — тоже, как оказалось, из театрального мира. Читая лекцию об искусстве перед слушателями партийной школы, Мао Цзедун обратил внимание на девушку, сидевшую в первом ряду и старательно записывающую каждое его слово. Кожа её лица слепила белизной, сразу было видно, что ей не довелось ещё брести по горам под ветром и солнцем или ночевать в окопах.
После лекции девушка робко приблизилась к преподавателю и стала благодарить за то, что он так невероятно расширил перед ней горизонты мира и искусства. Что-то осталось ещё неясным, но она будет очень, очень стараться улучшать своё образование. Польщённый Мао предложил ей не стесняться и приходить с вопросами прямо к нему. С этого момента роман между профессором и студенткой вдвое моложе него начал развиваться со скоростью вполне оправданной обстоятельствами военного времени.[398]
Девушку звали Цзян Цин. Она многое уже успела повидать и пережить за свои 23 года. В ранней юности убежала из дома с театральной труппой, меняла любовников, мужей, имена, профессии, псевднимы. Оказавшись в Шанхае, имела большой успех в роли Норы в спектакле по пьесе Ибсена «Кукольный дом». Там же сыграла главные роли в нескольких фильмах. В Яньань прибыла, чтобы принять участие в борьбе коммунистов против захватчиков-японцев.[399]
Руководство КПК неодобрительно отнеслось к новому роману председателя. Да, девушка вступила ещё молодой в коммунистическую партию, один из её мужей был коммунистом. Да, гоминьдановская полиция следила за ней, даже арестовала и посадила в тюрьму. Но почему она провела в камере только три месяца? Не могло ли оказаться, что её завербовали и теперь используют как тайного агента? Кроме того, жена-3, верный боевой товарищ, может вылечиться в СССР и вернуться в Китай. Что будет тогда?
Мао Цзедун ничего не хотел слушать. Цзян Цин покорила его сердце. Им суждено прожить вместе оставшуюся жизнь. Он послал жене-3 бумаги о разводе и отправил их общую дочь, жившую с ним. В ноябре 1939 года была отпразднована свадьба, а девять месяцев спустя Цзян Цин, ставшая женой-4, вознаградила мужа рождением дочери Ли На.[400]
Путь до победы был ещё очень долог, и жене-4 довелось испытать все тяготы и опасности его. Жизнь в пещерах, долгие переходы по горам Шэньси, Хэбэя, Шаньси подорвали её здоровье. В 1949 году Сталин, упорно откладывавший встречу с самим председателем Мао, разрешил приезд на лечение его жене и дочери, даже послал за ними самолёт. Женщина была так истощена, что по трапу её пришлось выносить на носилках. При росте 165 сантиметров она весила всего 44 килограмма.[401]
Ещё раньше в Китай было разрешено вернуться старшему сыну Мао — Аньину. Отца он почти не помнил, за 20 лет разлуки получил от него только два письма. В СССР он привык пользоваться уважением, стал лейтенантом, воевал в войсках Второго Белорусского фронта. Сам Сталин удостоил его встречи на прощанье, подарил именной пистолет. Всё это не вязалось с тем, что поджидало его в Китае.
Конфликты между сыном и отцом начались с первых же дней. Юноша не боялся высказывать своё мнение, в ответ на что Мао обзывал его «догматиком», который знает теорию, но не знает условий жизни и работы в Китае. Для улучшения «образования» сын был отправлен трудиться простым батраком в хозяйстве богатого крестьянина. Видимо, урок не добавил Аньину смирения, потому что по возвращении он в какой-то момент решился обвинить отца в создании «культа вождя». Неизвестно, чем кончилась бы эта семейная драма, если бы в 1950 году не началась Корейская война и Аньин не погиб бы на ней под американской бомбёжкой. Ему было 28 лет.[402]
Жена-4 часто конфликтовала с Аньином при его жизни, даже добилась, чтобы ему был запрещён вход в дом отца. Теперь ничто не омрачало отношения супругов. Цзян Цин разделяла все взгляды мужа и участвовала во всех его затеях. Оба обожали танцы и часто устраивали вечеринки с музыкой. Жена-4 сама подводила к супругу хорошеньких девушек и потом закрывала глаза на его увлечения на стороне. Своему биографу впоследствии она сознавалась: «Секс влечёт к мужчине только в начале. Потом на передний план выходит власть».[403]
Постепенно росло и влияние Цзян Цин в партийной иерархии. Так совпало, что в марте 1953 года она опять оказалась в Москве. Ей выпала роль неофициально представлять Мао Цзедуна на похоронах Сталина, она стояла в почётном карауле у гроба покойного в Колонном зале Дома союзов. За похоронами 9 марта и рыдающими толпами на улице она могла наблюдать из окна своей больничной палаты.[404]
По возвращении в Китай жена-4 полностью взяла на себя управление хозяйством в доме супруга. Здоровье председателя ухудшалось, требовалось неустанное внимание медиков. Его врач писал потом:
«Он и раньше страдал от периодической бессонницы и неврозов, а в то время просто не мог сомкнуть глаз по несколько суток… Периоды без сна становились всё длиннее и длиннее. Он мог бодрствовать двадцать четыре и даже сорок восемь часов. Затем отключался на десять или двенадцать часов беспрерывного сна… Снотворное принималось в немыслимых дозах, но оно не помогало… Его бессонница была следствием политических баталий».[405]
Видимо, противоборство с соратниками было даже более изнурительным и опасным, чем война с японцами и Гоминьданом. А лестница к трону, казалось, только вырастала с каждым днём, делалась только длиннее.
Пламенный кубинец
В октябре 1948 года в светских новостях кубинской газеты «Диарио де ла Марина» появилось сообщение о бракосочетании Фиделя Кастро и Мирты Диаз-Баларт. Отец невесты был мэром города Бэйн, занимал видный пост в американской компании «Юнайтед Фрут», одно время выступал в роли юрист-консульта при президенте Батисте. Молодожёны, познакомившиеся в университете Гаваны, были молоды, красивы, обеспечены, влюблены друг в друга. Отец Мирты подарил им 10 тысяч долларов, чтобы они могли провести медовый месяц в Америке. Пикантная деталь: ещё одну тысячу добавил старый друг семьи невесты, бывший президент Кубы, Фульгенсио Батиста, мирно живший тогда не у дел во Флориде.[406]
В тени оставались обстоятельства, омрачавшие эту радужную картину. Жених в свои двадцать два года ещё нигде не работал, жил на ежемесячное пособие, присылаемое его отцом. Мир, окружавший его невесту, с этими сверкающими американскими автомобилями, нарядными виллами, ухоженными лужайками, клубами для гольфа, символизировал доминирующий статус великого северного соседа над Кубой, что вызывало ненависть Фиделя с ранних лет. Его участие во всевозможных политических начинаниях вызвало такую вражду соперничающих группировок радикальной молодёжи, что он вынужден был не расставаться с пистолетом ни днём, ни ночью, незаметно принёс его с собой даже в церковь на бракосочетание.[407]
Некоторые черты характера жениха вызывали тревогу у родственников невесты. Он легко переходил от вежливой обходительности к вспышкам несоразмерной сердитости. Было замечено, что он не склонен считаться с неудобствами окружающих. Также не любил животных, никогда не пел, и — что было уж совсем невероятно для кубинца — никогда не танцевал.[408]Брат невесты, Рафаэль Диаз-Баларт, впоследствии рассказывал, что они однажды ехали с компанией в машине по шоссе, и Фидель вдруг потребовал остановиться. Зачем? Ему захотелось поупражняться в стрельбе. Вдали паслось стадо коров. Он достал пистолет и открыл огонь по коровам. Попал или нет осталось за рамками рассказа.[409]
Вскоре после возвращения из США у молодых родился сын Фиделито. Поначалу он выглядел вполне здоровым, но вскоре заболел. Педиатры были в растерянности, не могли поставить диагноз. По прошествии некоторого времени Мирта случайно открыла причину. Она обнаружила, что её муж намеренно скармливает ребёнку в три раза больше молока из бутылочки, чем предписано врачами. «Зачем?!» — «Я хотел, чтобы он быстрее набирал вес и вырос сильнее всех сверстников», объяснил Фидель, ничуть не смущаясь.[410]
Революционная деятельность требовала частых отлучек Кастро из дома. Мирта оставалась с ребёнком одна в квартире, без помощи, без денег, порой без электричества, отключённого за неуплату. Фидель же пропадал на конспиративных поездках по стране и за границей, на тайных собраниях политических заговорщиков. Именно на одном из них он встретил молодую женщину, которая надолго заполонила его сердце.
Наталья (Нэти) Ревуалта, как и Мирта, принадлежала к верхним слоям кубинского общества, получила образование в Филадельфии, вышла замуж за успешного врача. Но она не смогла устоять перед обаянием смелого бунтаря. Они познакомились в ноябре 1952 года, а уже летом следующего года она активно участвовала в подготовке штурма казарм Монкада, печатала на машинке прокламации, вместе с другими женщинами шила военную форму для участников атаки. Ей же было поручено подобрать музыку для транслящии манифеста революционеров по радио в случае победы, и она выбрала национальный кубинский гимн, полонез Шопена и «Героическую симфонию» Бетховена.[411]
Когда Фидель оказался в тюрьме, Мирта регулярно навещала его, приносила чистое бельё, уносила записки соратникам и заявления в газеты. Он писал ей нежные письма, но одновременно отправлял ещё более страстные послания любовнице. Тюремный цензор, проверявший переписку заключённых, относился к ним сочувственно, только умолял не вставлять в текст политику. Но однажды он перепутал конверты и пламенное письмо Наталье попало в руки Мирты. Это переполнило чашу терпения жены и она подала на развод.[412]
Выйдя из тюрьмы, Кастро пытался уговорить возлюбленную последовать за ним в мексиканское изгнание. Но та, под давлением семьи, отказалась и вернулась к мужу. В апреле 1956 года у неё родилась дочка Алина, которой суждено было остаться единственной дочерью в обширном мужском потомстве Фиделя. Впоследствии, если у него заходил разговор с близкими друзьями об оставленной на Кубе любовнице, он повторял только одно: «Она опоздала на корабль… Она опоздала на корабль».[413]
Конечно, в Мексике нашлись женщины, поспешившие занять место «опоздавшей». Тереза Казузо была окружена почтением в кругах кубинских революционеров, потому что её муж, известный поэт и писатель Пабло Ториенте, погиб в гражданской войне в Испании, сражаясь против Франко. Эта женщина разрешила Кастро превратить её дом в настоящий склад оружия и боеприпасов, заготавливаемых для вторжения на Кубу.[414]
Были и другие красавицы, одаривавшие Фиделя своим вниманием в Мексике. При этом биографы раскопали, что не все женщины, прошедшие через его жизнь, сохранили тёплые воспоминания о нём. Одна рассказывала, что он продолжал курить в самые интимные моменты. Другая — что никогда не снимал ботинки и что всё кончалось через пять минут. Третья, наоборот, жаловалась, что он заманил её вечером на пляж и там три часа только разглагольствовал о политике.[415]
Из Мексики он внезапно позвонил бывшей жене и упросил её прислать к нему сына хотя бы на две недели. Мирта не смогла устоять перед внезапной вспышкой отцовских чувств, согласилась и вскоре горько сожалела о проявленной доброте. Фидель объявил, что он не может допустить, чтобы его сын рос в семье эксплуататоров и врагов кубинской свободы. (Мирта собиралась выйти замуж за сына кубинского посланника в ООН.) Понадобилось вмешательство мексиканской полиции, чтобы забрать мальчика, отвезти его в кубинское посольство и вернуть матери.[416]
Отец и сын встретились снова лишь три года спустя. Сияющее лицо десятилетнего Фиделито, въезжающего на танке рядом с отцом в покорённую Гавану, было запечатлено на миллионах газетных фотографий. В следующий раз он удостоился такого же внимания прессы, когда несколько лет спустя попал в серьёзную автомобильную аварию. Врачи готовили его к операции по удалению пробитой селезёнки, а Кастро в это время проводил интервью с журналистами на телевиденьи и отказывался преравать его. Он говорил и говорил, пока одна из женщин не осмелилась встать и потребовать, чтобы он немедленно ехал к постели тяжело раненого сына. Только тогда Кастро вспомнил об отцовских обязанностях, прервал интервью и поехал в больницу.[417]
Наверное, самым знаменитым актёрам Голливуда не доводилось купаться в таких потоках женского обожания, какие омывали нового повелителя Кубы. Но он старался не афишировать свою личную жизнь. Историкам пришлось приложить много усилий, чтобы раскопать и описать хотя бы несколько главных романов «команданте».
С семнадцатилетней Маритой Лоренц он познакомился на борту немецкого корабля «Берлин», который её отец привёл в гаванский порт в феврале 1959 года. После романтичной ночной прогулки по палубе с любезным хозяином страны последовало приглашение приехать на Кубу и принять участие в строительстве нового справедливого общества. Приглашение было принято, и вскоре Марита поселилась в квартире неподалёку от одной из резиденций Кастро. Дальше история «капитанской дочки» проступает лишь штрих-пунктиром, в котором можно обнаружить все элементы насыщенного детектива: тайные путешествия в Нью-Йорк и обратно, секретные контакты с ЦРУ, нежеланная беременность и попытки прервать её, и даже какая-то причастность к убийству президента Кеннеди.[418]
Глория Гайтан прибыла в Гавану из Колумбии, вместе со своей матерью, вдовой колумбийского политика, погибшего как раз в те недели, когда он вёл переговоры с приехавшим кубинским студентом Кастро. Фидель пригласил их на празднование первой годовщины кубинской революции и проявил необычайное внимание к обеим: навестил в отеле уже в день прибытия, провёл в беседах всю ночь, восхвалял погибшего. Глория настолько очаровала его, что между ними завязались долгие отношения, которые сама Глория называла «романтической дружбой». Она не вдавалась в детали, но говорила, что присутствие Кастро действовало на неё, как может действовать бурление природных сил, как зрелище вулкана, готового к извержению.
О мере интимности их отношений можно судить по пересказу одного диалога. Фидель однажды спросил её:
— Буэно, а что ты делаешь в постели с греческим профессором, которому повезло стать твоим мужем?
— Но это человек необычайного интеллекта, — уклончиво ответила Глория.
— Знаешь, если бы сам Карл Маркс превратился в женщину, этого было бы недостаточно, чтобы я женился на ней.[419]
Селия Санчес включилась в борьбу с режимом Батисты с самого начала. Она участвовала в гражданской войне в горах, организовывала переброску подкреплений на опасные участки, а также оружия, боеприпасов, продовольствия. На фотографиях тех лет она часто появляется рядом с Кастро среди других бойцов. После победы «фиделистов» Санчес становится самым доверенным помощником Кастро, исполняя обязанности секретарши, архивиста, бухгалтера, кассира, советчика. В её квартире он всегда мог укрыться от назойливых просителей, от журналистов, нежеланных визитёров, поклонниц. Она также занимала видные должности в правительственных учреждениях.[420]
Похоже, что Селия Санчес оказалась единственной из близких Фиделю женщин, которую он упоминает в своих опубликованных воспоминаниях. Причём называет её только по имени, будто все должны и так знать, кто такая «Селия» и какое место она занимала в его жизни. После её смерти в 1980 году её портрет появился на кубинской банкноте в одно песо, больницам, школам и улицам присваивали её имя, посвящённые ей мемориалы и памятники появлялись в разных городах.[421]
В то же время реальная семья Фиделя Кастро оставалась полностью скрытой от посторонних глаз. Только очень близкие знали о существовании «женщины из Тринидада». Далия Сото дел Валле происходила из культурной обеспеченной семьи. В юности гадалка предсказала ей, что она завоюет любовь великого человека. Когда это пророчество осуществилось в начале 1960-х, её родные были в страхе, они считали, что Кастро сделал её пленницей и может бросить в любой момент. Однако отношения продолжались, и от этого союза один за другим родились пятеро сыновей.[422]
Им всем были даны имена, начинающиеся на «А» — в память о любимом герое Фиделя, Александре Македонском. Все они, как и Фиделито, получили образование в СССР, но ни один не играл впоследствии заметной роли в политической жизни Кубы. Единственная фотография Далии, которую мне удалось отыскать в интернете, датирована 2010 годом. На ней она очень похожа на мать Фиделя, Лину Рус Кастро в её поздние годы. Если фрейдисты сумеют обыграть это сходство, перед нами могут открыться новые эдиповы глубины психологии кубинского диктатора.
Фидель Кастро умел притягивать и покорять людей, но с такой же силой мог и отталкивать их, даже близких родственников. Его сестра, Хуанита Кастро, активно поддерживала брата в годы революционной борьбы, в 1950-е ездила в США собирать деньги для дела освобождения Кубы от диктатуры Батисты. Но победа братьев и резкий перелом их курса в сторону коммунизма принесли ей горькое разочарование. После смерти матери ничто не удерживало её в родной стране, и в 1964 году, находясь в Мексике в гостях у сестры, она объявила о своём решении не возвращаться в Гавану. В следующем году она дала подробные показания в Вашингтоне Комиссии Конгресса по антиамериканской деятельности, описав положение дел под властью Фиделя Кастро.[423]
Другая близкая родственница, дочь Алина Родригес, рождённая Фиделю Натальей Ревуалта, объявила о своём желании эмигрировать уже в четырнадцать лет. Отец категорически запретил ей это и дал строжайшие предписания секретной службе ни в коем случае не допустить побега. Только в 1993 году Алине удалось, под гримом и париком, с фальшивым испанским паспортом, покинуть страну. Кастро был в ярости, грозил страшными карами нерадивым подчинённым. Алина поселилась в Майами и несколько лет спустя опубликовала автобиографию с описанием жизни в современной Кубе.[424]
Неизвестно, стал ли Фидель Кастро читать мемуары двух беглянок. Во всяком случае в своих семьсотстраничных воспоминаниях, названных «Моя жизнь», он не удостоил их комментарием.
Комментарий шестой: О МИФОЛОГИИ ЛЮБВИ
Не люби! Узнает жена —
Почернеет небо от крика.
Глеб ГорбовскийВсе герои этой книги были революционерами. Революция сметает старый жизненный уклад, стремится насадить новый. Но не следует забывать, что параллельно с революциями кровавыми в 20-м веке во всём мире протекала менее заметная революция нравов, переворачивавшая и изменявшая традиции, обычаи, верования, регулировавшие взаимоотношения мужчин и женщин. Долгая борьба суфражисток и феминисток увенчалась победами, которые казались немыслимыми в устойчивых империях: во многих странах женщины получили право участвовать в выборах и право на расторжение брака.
Возможно, этому способствовали трагические события Первой мировой войны. Ведь это мир, построенный мужчинами, допустил кровавый кошмар, не имеющий прецедентов в истории цивилизации. Не пора ли внести в него кардинальные перемены? Многие мужчины разделяли это разочарование и поддерживали законодательные реформы, расширявшие права женщин.
Увы, жизнь устроена таким образом, что расширять права какой-то группы населения удаётся только за счёт сужения или отнятия прав у других групп. В сегодняшнем мире это правило демонстрирует себя с пугающей безжалостностью. Расширяя права рабочих на забастовки, вы урезаете права остальных граждан на бесперебойное и недорогое удовлетворение их жизненных нужд. Защищая права подсудимых, урезаете моё право на защиту от воров и гангстеров, которые станут безнаказанно разгуливать по нашим улицам. Студенты учебных заведений получают право комплектовать учебные программы и класть ноги на стол, а заодно и терроризировать профессоров, лишая их свободы слова и заставляя всё время оглядваться на правила «политической корректности». Право на ношение оружия уменьшает мои шансы остаться в живых. И коненчо, право на лёгкий разрыв супружеских отношений превращает мои надежды на счастливую семейную жизнь в пустые мечтания.
Обращение наших героев с женщинами может послужить поучительным материалом для исследователя истории семьи. Все пятеро уже в середине жизни достигли статуса, который позволял им делать только то, что им хотелось, без оглядки на условности своего времени. За исключением Гитлера, все они имели многочисленные связи с разными женщинами, но все демонстрировали не раз, как они ценят семейные отношения, как страдают от их ухудшения и разрыва.
Посмею высказать предположение, что институт семьи для современного человека таит глубинную связь с культом продолжения рода и обожествления предков, которые были характерны почти для всех народов древности. Семья сделалась последней реальной ниточкой в бессмертие. Мы уже не поклоняемся терафимам, как библейский Лаван, или богам домашнего очага, но мы готовы жизнь отдать за детей и близких.
В гротескных глубинах «сталинщины», среди миллионов других, затаился жутковатый эпизод, бросающий отблеск на то, как много значит семья даже на краю гибели. По неизвестной причине в какой-то момент «большого террора» сотрудникам НКВД было приказано не расстреливать арестованных сразу, а непременно добиться от них признания вины в выдуманных и прпписанных им преступлениях. Кто-то подслушал разговор двух палачей в офицерской столовой следственной тюрьмы. «Вам хорошо, — говорил один другому, — вашей группе в этом месяце достались одни семейные. Таким пригрозишь арестом близких в случае запирательства, и они тут же подписывают любое признание и тихо идут на расстрел. А у нас почти одни только холостые. Среди них есть такие, что его хоть неделю пытай, он, гад, упрётся и будет только зубами скрипеть, а не сознается».
Спрашивается: если семья так важна и дорога людям, как могло случиться, что цивилизованные народы индустриального мира допустили такую эпидемию разводов? Последние данные статистики показывают, что половина заключаемых сегодня браков закончатся разводом. Сегодня трудно встретить человека, родившегося после Второй мировой войны и не пережившего в детстве ухода одного из родителей из семьи. По сути, вырастают поколения душевно травмированных новых беспризорников, которым не у кого было учиться доброте, честности, отзывчивости, правилам достойного поведения.
Думается, корни этого бедствия следует искать в медленной перемене взглядов на институт брака, протекавшей в 19-ом веке. Ещё в «Евгении Онегине» старая няня Татьяны Лариной на её вопрос «была ль ты влюблена когда-то?» отвечает: «И полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь». Профессиональная сваха вела переговоры между родителями жениха и невесты, стороны достигали уговора, и обручённых (обречённых?) вели под венец. Такие правила доминировали не только в крестьянской среде, но и в верхних слоях общества. У молодых не спрашивали согласия, порой они впервые видели друг друга уже в церкви. Конечно, такое безразличие к человеческим чувствам приводило к тому, что супружеские отношения часто были лишены тепла, доверия, взаимопонимания. Доходило и до трагических исходов.
Бунт против родительской власти в этом важнейшем деле поначалу выражался в побегах влюблённых (читай «Станционный смотритель»), в отказе идти под венец («Дубровский»), в тайных венчаниях с избранницей сердца (отец героя в «Дворянском гнезде»), даже в самоубийствах («Гроза»). Одновременно изящная словесность начала на все лады превозносить любовный жар как единственный критерий, единственную путеводную звезду, которой должен следовать человек в деле продолжения рода. Брак по сговору, по расчету осуждался, высмеивался, объявлялся насилием над свободным человеческим сердцем. Стихи, романсы, оперные арии прославляли искреннюю любовь-страсть, таинственно соединявшую сердца молодых людей, избравших друг друга. Деспотичная власть родителей отступала, живое чувство вступало в свои права — это казалось очередной победой прогресса и гуманизма!
В этом победном наступлении тонули голоса немногих скептиков, выражавших опасения, сомневавшихся в том, что столь серьёзное и долгое дело как создание и сохранение семьи может быть построено на таком изменчивом и быстротечном чувстве как страстная любовь. «С милым рай и в шалаше» звучит, конечно, красиво, но что произойдёт, когда придёт зима, замёрзнет ручей, обтекающий шалаш, заплачут народившиеся детишки? Или увянет одна любовь, зародится новая, к случайно встреченной «средь шумного бала», у подножия Кавказских гор, в «тёмных аллеях»?
Прозорливый юный мудрец Лермонтов предупреждал себя и своих современников:
Страшись любви: она пройдет, Она мечтой твой ум встревожит, Тоска по ней тебя убьет, Ничто воскреснуть не поможет.Скептикам затыкали рот, их объявляли бесчувственными реакционерами, новыми Монтекки и Капуллети, снова готовыми погубить Ромео и Джульетту. Волшебные голоса знаменитых певиц доносили до открытых благодарных сердец слушателей слова Кармен: «Любовь свободно мир чарует, законов всех она сильней!»
Как щедро, безоглядно, настойчиво, а порой и безалаберно русский язык пускает в дело слово «любовь»!
Я люблю свою жену.
Он любит картошку.
Мы любим рыбалку.
Все любят деньги.
«Она любила Ричардсона».
Как можно не любить цветы, звёздное небо, морской простор?!
Мастер словесного эпатажа, Владимир Маяковский, объявлял, что он «любит смотреть, как умирают маленькие дети».
И в этом сумбуре легко исчезает, теряется важнейшее различие между тем, что следовало бы именовать «любовь-страсть», «влюблённость» и «любовь-доброта».
Разница между ними — как разница между огнём костра и огнём в печи.
Огонь костра ярче, жарче, виден дальше, раздвигает ночной мрак на вёрсты кругом. Но он не может гореть вечно, рано или поздно потухнет.
Огонь в печи прорывается короткими проблесками в прорезях печной дверцы, вокруг него не станешь водить хоровод, им нельзя украсить фотоснимок. Но на нём можно сварить обед, он наполнит печь жаром, который разгонит окружающий холод, позволит выживать в доме, окружённом морозом и мраком.
В отстаивании права молодых людей на любовь-страсть, чуткие и чувствительные люди вошли в такой азарт, что наложили на неё непосильную обязанность: быть строительной площадкой, фундаментом для постройки семейного здания. Наоборот, любовь-доброта была отодвинута на задний план, приравнивалась к скучным, бытовым заботам. А что случится, когда любовь страсть истает, улетучится, когда её вытеснит новая? О, тогда мы разрешаем вам развестись и строить новую семью на новом фундаменте! То, что позади останутся развалины нескольких жизней в учёт не принималось.
Любовь-доброта, на которой только и можно строить семью, была объявлена второсортной, «ненастоящей», неотделимой от детских пелёнок, горшков, клистиров. Молодые люди, замороченные раздуваемым культом любви-страсти, после вступления в брак впадали в отчаяние. Яркий пример такого горестного разочарования мы находим в дневниковых записях Льва Толстого, датированных 1863 годом:
«До женитьбы я был игрок и пьяница. Но за прошедшие десять месяцев я впал в запой хозяйством и в этом запое стал маленьким и ничтожным, вверг себя в пошлость жизни, ненавистную мне с юности. Чего мне надо? Жить счастливо, то есть быть любимым женой и собой, а я ненавижу себя за это время. Даже когда пишу в дневнике, спрашиваю себя: а не фальшь ли? Не для неё ли, которая читает из-за плеча, я всё это пишу? Разве за эти месяцы не стал ты самым ничтожным, слабым, бессмысленным и пошлым человеком?»[425]
Эпидемия разводов преодолевает даже религиозные запреты, наложенные на них в католичестве, мусульманстве, ортодоксальном иудаизме. Проблема эта отнюдь не нова. Много раз иудеи вопрошали уже Христа, дозволяет ли Бог разводиться. И Он раз за разом отвечал, что разводящийся или берущий в жёны разведённую прелюбодействует, то есть нарушает седьмую заповедь. Тогда «говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». (Матфей, 19:9-10) В ответ на это следует разъяснение Христа, которое редко цитируется христианскими священнослужителями:
«Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чресла матери родились так; и есть скопцы, которых оскопили люди; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного». (Матфей, 19:11–12)
Отсюда ясно, что Христос прекрасно видел трудность соблюдения моногамного идеала. «Не разводись» подразумевало, конечно, и «не ищи других возлюбленных». Но осуществить это можно было, только сделавшись духовным скопцом. У многих ли хватит на это сил? Толстой, стремясь жить по заветам Христа, мучительно подавлял эротические порывы своей могучей натуры, только что не дошёл до отсечения пальца, как отец Сергий. Но секта скопцов, возникшая в его времена, довела притчу-метафору Христа до буквального воплощения.
Попробуем взглянуть на дилемму под другим углом. Любовь-страсть можно уподобить танцу вдвоём, а любовь-доброту, на которой строится семья, — долгому и нелёгкому походу вдвоём. Если мы признаем, что строительство семейного здания это труд, мы вправе ожидать, что к нему должны быть применимы правила, выработанные человечеством к другим видам трудовой деятельности. В ходе развития цивилизации выяснилось, что человеку абсолютно не по силам трудиться 365 дней в году, без перерывов и праздников. Уже в Ветхом завете один день в неделю объявлен священным, отведённым для отдыха от всех трудов. Календари всех народов пестрят всевозможными праздниками, иногда длящимися несколько дней.
Ну, а как обстояли дела с трудом семейной жизни? У многих народов возникли обычаи, позволявшие иметь передышку и от этой трудовой повинности. Библия переполнена осуждениями блуда, блудниц, блудодейства, но само обилие этих осуждений показывает, как распространено было явление, как велик был спрос на профессиональные услуги жриц любви. Храмовая проституция была распространена в Ханаане, Ассирии, Финикии, Кипре, Индии и в некоторых греческих полисах. У славянских народов дозволялось распутство в ночь на Ивана Купалы, у европейских — в дни карнавалов и маскарадов.
Однако все эти виды разрешённого блудодейства не представляли угрозы для целости семьи. Никто не ждал, что человек, урвавший глоток любви за плату, должен после этого оставить жену. В двадцатом же веке всё изменилось. Ослаб страх перед венерическими болезнями, перед нежеланной беременностью, перед горением в аду. Свободное общение мужчин и женщин в индустриальную эру погружает и тех, и других в океан соблазнов, проносящихся перед глазами, прижимающихся в метро, кружащихся в танцевальных залах. И всё яснее и грознее вырастает убеждение: люди, нарушающие супружескую верность, жаждут не секса — он у них есть и так, а продолжают вечную погоню за мечтой о новой свободной любви-страсти.
Прав был Лермонтов: «Тоска по ней тебя убьёт».
Человек оставлен перед жутким выбором: стань духовным скопцом, откажись от вечной мечты, или разрушь семью, изрань души самых дорогих тебе людей. Сколько миллионов подчинялись господствующей морали, выбирали второй вариант и потом с изумлением и горем оглядвывлись на случившееся: «Как я мог это сделать?!». Новый брак вскоре приносит те же разочаровния. В ситуации, когда глоток любви разрешается получить только ценой разрушения семьи, люди невольно вспоминают слова учеников Христа: «Тогда лучше не жениться». Любовь-доброта часто остаётся в сердце разведённого, он, по мере сил, продолжает заботиться об оставленных им. Но мать или отец, появляющиеся только по выходным, не могут заменить детям семью.
Конечно, люди ищут выход из этого тупика и пускаются на всевозможные уловки. Самый распространённый путь: тайные романы. Формально их осуждают, открывшись, они могут разрушить брак, но в основном окружающие предпочитают смотреть на них сквозь пальцы. Платонические отношения тоже могут утолять томящиеся души. Ведь сколько знаменитых героев любовных историй в мировой литературе даже ни разу не обменялись поцелуем: Данте и Беатриче, Гамлет и Офелия, Вертер и Шарлотта, Онегин и Татьяна, Сирано и Роксана. Вариант жизни втроём или вчетвером всплывает сотни раз в биографиях знаменитых людей, проникает он и в более широкие слои.[426]
Любопытный и поучительный парадокс представляет собой история отношений двух знаменитых кино-звёзд, Ричарда Бартона и Элизабет Тэйлор. Вот уж кто воплотил в жизнь строчку Овидия «ни с тобой, ни без тебя жить невозможно»! Они расходились-разводились, а потом сходились снова несколько раз. Каждый раз они в разлуке как бы накапливали необходимый заряд новизны и потом кидались в объятия друг друга словно в первый раз.[427]
Своеобразный обычай возник в послевоенные годы в советской России. Там поездка в дом отдыха или санаторий сделалась общепринытым способом утолять ненадолго любовное томление. Довлатов внёс в свои записные книжки подслушанный телефонный разговор: «Катя, это какой-то ужас! В доме отдыха совсем нет мужиков. Многие женщины вообще не отдохнули!». Я однажды спросил у соседа по санаторному пляжу: «Вы здесь с женой?». Он загадочно улыбнулся и сказал: «Ну, кто же ездит в Тулу со своим самоваром?».
Нравы и священные обычаи меняются медленно. Не пришёл, видимо, ещё момент, чтобы какой-нибудь новый Лютер прибил новые тезисы к дверям своей церкви или университетской кафедры, если не 95, то хотя бы пять.
1. Заставить человека перестать влюбляться так же трудно, как заставить петуха — не петь по утрам.
2. Добровольное любовное соитие — это всегда праздник радостного дарения себя друг другу. Эрос между супругами затуманен тем, что невозможно подарить кому-то нечто, чем другой уже владеет.
3. Бесценный мир семьи оказывается слишком уязвимым, если суды принимают мимолётный глоток любви на стороне как достаточный повод для развода.
4. При вступлении в брак следует разрешить людям добавлять в брачный договор указание срока: на 20, 15, 10 лет, с правом последующего продления и возобновления. Пожизненное обязательство легко превращает супругов из соратников в сокамерников.
5. В те же договоры следует разрешить включать число дней разрешённого отпуска от семейных обязательств и трудов.
Но никакого нового Лютера пока нигде не видать. Наоборот, защитники традиционных моральных правил сейчас перешли в мощное наступление. Кампания против «сексуальных домогательств» набирает такую силу, что сотни людей, без суда и следствия, подвергаются остракизму за какие-то давнишние попытки утолить хотя бы мимолётно свою жажду-мечту о проблеске любовного волнения. Презумпция невиновности забыта, любая женщина может вдруг направить обвиняющий палец на старинного ухажёра (желательно — достигшего заметного положения в обществе), и его жизнь будет разрушена.
Вдобавок к золотоносной жиле оформления разводов адвокатское племя получило новую статью доходов: раскапывать давнишние любовные увлечения богачей и вчинять им иски от «пострадавших», сохраняя при этом на лице благородную маску борца за улучшение нравов. 80 % адвокатов всего мира живёт в Америке, и им необходимо отыскивать всё новые и новые месторождния драгоценных металлов, чтобы оплачивать свои коттеджи, яхты, самолёты, гольфовые поля, ролс-ройсы.
Пяти нашим героям сильно не поздоровилось бы, если бы в их странах были разрешены иски за супружескую неверность или что-то подобное. Может быть, именно поэтому они первым делом покончили с независимым судопроизводством. Под их властью появлене на свет незаконорожденных только приветствовалось и их воспитанием занималась не семья, а комсомол, гитлерюгенд, хунвейбины, фиделисты.
Жители стран Третьего мира с недоверием и тревогой смотрят на то, что происходит в Европе и США. Обычаи и верования, скажем, католиков и мусульман гораздо строже регулируют брачные и семейные отношения. Что может предложить им здесь свободный демократический мир? Чем он спешит их облагодетельствовать, время от времени подгоняя «отстающих учеников» бомбами и ракетами?
Легко себе представить диалог между представителями народов, оказавшихся на разных ступенях цивилизации. Отставший допытывается у обогнавшего, как ему следует вести себя, чтобы сравнятся в достижениях и благополучии:
— Хорошо, в политической сфере вы требуете, чтобы мы вручали верховную власть избранным и сменяемым руководителям. Это нам понятно, во времена наших предков каждое племя избирало своего вождя. Но что вы имеете в виду, навязывая нам другую свою святыню — права человека? Означает ли это и полное равенство в правах мужчин и женщин, как мы это видим в ваших странах? То есть мы, католики и мусульмане, должны будем принять законы, разрешающие разводы, аборты, гомосексуальные связи? Вы хотите, чтобы моя жена получила право в любой момент уйти от меня, забрать детей и получить постановление суда, обязывающее меня оплачивать её безбедное и беспечное существование? Неужели вы не понимаете, что каждый мой соплеменник пойдёт на смерть, чтобы не допустить внедрения таких «прав человека»? Что «боинги» начнут врезаться в ваш отстроенный торговый центр, в Статую Свободы, в Эйфелеву Башню, а самосвалы будут взрываться на мостах, в туннелях, под ресторанами, а школы и кампусы университетов превратятся в стрельбища для наших снайперов-самоубийц?
Возвращаясь к началу этого комментария, можно задаться вопросом: «А чьи права урезаны расширением права на развод?» Увы, страдает самая бесправная часть человечества: дети. У них нет возможности писать петиции протеста, создать политичечскую партию, выйти на улицу с демонстрацией. Их голоса не слышны. Они часто даже ищут свою вину в разводе родителей, это остаётся психологической травмой в них на всю жизнь. Или, наоборот, способствует нагнетанию злобы и агрессивности, которые потом толкнут их в уличную шайку, гангстерскую банду, религиозный культ, партизанский отряд.
Часть вторая ВОЗНЕСЁННЫЕ И ОБОЖЕСТВЛЁННЫЕ
Летопись седьмая. ЛЕСТНИЦА К ТРОНУ
Под кремлёвской звездой
Лидеры большевиков были неплохо начитаны в мировой истории и хорошо помнили, что после революций, свергающих монархии, очень часто через несколько лет государства возвращаются к единовластию в форме той или иной диктатуры: Кромвель в Англии после свержения Стюартов, Бонапарт во Франции после свержения Бурбонов, Наполеон Третий — после свержения Луи-Филиппа в 1848 году. Не может ли что-то подобное случится в России после свержения династии Романовых?
В 1923 году Ленин уже тяжело болел и не мог эффективно исполнять обязанности непререкаемого вождя. Его ближайшие соратники с опаской вглядывались друг в друга: не замышляет ли кто-то прыгнуть в освобождающееся кресло и превратить его в трон? Создавались и распадались тайные коалиции членов Политбюро, плелись интриги, переписывались и передавались из рук в руки предсмертные напутствия и рекомендации Ильича.
Сталин поначалу не выглядел серьёзным соперником в предстоящей «скачке с препятствиями». Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Дзержинский явно превосходили его заслугами перед революцией, образованностью, ораторским мастерством. Тем более, сам Ленин предупреждал, что этот когда-то «славный грузин» слишком груб, чтобы оставлять его на посту генсека. Сталин, узнав об этих рекомендациях, написал заявление в ЦК с просьбой уволить его не только с занимаемой должности, но и из Политбюро. «Прошу распределить меня в Туруханский край, либо в Якутию, либо за границу на неважную работу», писал он.[428]
Заявление об отставке не было принято. После смерти Ленина в январе 1924 года начались попытки руководить страной коллективно, блокируя любые происки в сторону «бонапартизма». Даже создание внутрипартийных фракций категорически осуждалось. Ведь сам Ленин строго следовал принципам внутрипартийной демократии, выносил спорные вопросы на обсуждение и требовал, чтобы меньшинство подчинялось ясно выраженной воле большинства. Разве не должны мы следовать традициям, учреждённым вождём?
В этом последнем просвете демократии, сохранившимся в стране, попавшей под диктатуру большевиков, Сталин — великий манипулятор — разглядел манящую возможность прорваться к власти. Если последнее слово принадлежит большинству, значит необходимо трудиться над созданием послушного нам большинства. Ведь распределение командных постов в партии будет решаться делегатами, приезжающими на партийные съезды из провинции, — на их подготовку и отбор и следует обратить главное внимание.
Блестящие соперники Сталина воображали, что они по-прежнему смогут увлекать зал съезда своим красноречием, идеями, легендарной репутацией вождей революции. Сталин во всём этом им уступал. Зато он был лишён обычного для дальнозорких высокомерия по отношению к близорукому большинству. Он носил в себе его страсти и предрассудки, ему гораздо легче было притвориться «своим». Оставалось только проследить, чтобы на предстоящие съезды провинция присылала как можно больше людей, для которых жажда сплочения была важнее всего остального.
К этой гигантской работе Сталин привлёк нового сотрудника — Лазаря Кагановича. Малограмотный сапожник из еврейского местечка был зато невероятно трудолюбив и работоспособен. В роли заведующего орготделом ЦК он рассылал инструкторов, проверявших работу низовых организаций большевистской партии. Меньше чем за год были утверждены «нужные» партийные секретари в сорока трёх губерниях, обладавшие на местах властью, которая не снилась царским генерал-губернаторам.[429]
Отбор на руководящие посты и на роль делегатов съездов производился не по идеям и взглядам рассматриваемого кандидата, а по единственному критерию: насколько он готов слепо следовать указаниям и лозунгам вышестоящего. И этот отбор начал приносить свои плоды. Уже в январе 1925 года произошло невероятное: Троцкий был снят с поста наркома по военным и морским делам. Когда эта угроза ещё только нависала, сподвижники тайно уговаривали своего лидера совершить переворот: арестовать Сталина, Зиновьева и других его противников как изменников делу революции. Но выступить в роли Бонапарта военный нарком не решился.[430]
На его место был назначен герой Гражданской войны Михаил Фрунзе. Он прославился успешными боями с армией Колчака, победами на Туркестанском фронте, изгнанием войск Врангеля из Крыма. Но на посту наркома ему довелось провести меньше года. В октябре 1925 он, под давлением Политбюро, лёг на операцию разыгравшейся язвы желудка, во время которой и умер. Ходили слухи, что умереть ему помогли врачи-анестизиологи, которые перестарались, пуская в ход и эфир, и хлороформ в слишком больших дозах. Жена Фрунзе, убеждённая в том, что мужа зарезали намеренно, покончила с собой. Место наркома занял верный друг Сталина — Климент Ворошилов.[431]
Свержению Троцкого сильно способствовали Зиновьев и Каменев, но в конце того же года настала и их очередь. «Когда на 14-м съезде партии в декабре 1925 года они начали решительную атаку против большинства Политбюро и Сталина в частности, они могли опереться только на Ленинградскую организацию, которую подбирал Зиновьев как руководитель Ленинградской губернии. Этого было недостаточно, оппозиционеры потерпели решительный разгром». Против них было подано 559 голосов, за — 65.[432]
1926 год прошёл в скрытой борьбе различных группировок внутри Политбюро. Зиновьев ещё оставался руководителем Коминтерна, что придавало ему солидный вес. Мечта о мировой революции грела души старых партийцев, большие финансовые средства отправлялись на поддержку компартий в других странах. Чтобы ослабить эти группировки, Сталин начал рассылать прежних ленинских соратников на роли иностранных послов. Каменев оказался в Риме, Крестинский — в Берлине, Антонов-Овсеенко — в Праге, Раковский — в Париже.[433]
На загадку стремительно растущей популярности Сталина может бросить свет казалось бы незначительный эпизод, описанный в мемуарах Авторханова. Генсек выступал перед очередным пленумом ЦК, и кто-то из рядов посмел крикнуть ему:
— Коба, месяц назад ты говорил прямо противоположное!
По представлениям дальнозорких, оратор, пойманный на лжи или вопиющем противоречии самому себе, считается потерпевшим полное поражение в дискуссии. Можно только догадываться, как устаёт близорукий от этого строгого подчинения законам логики, которое всегда гарантирует ему поражение в спорах с дальнозорким умником. Если помнить об этом, станет понятно, почему зал встретил одобрительным смехом ответную реплику Сталина:
— И месяц назад было правильно то, что я говорил тогда, товарищи. А теперь обстоятельства изменились, и стало правильным то, что я говорю сегодня.[434]
Вырваться из-под власти холодных законов логического мышления, которые всегда отдают победу дальнозоркому, слиться с мудрым вождём, который не боится нарушать эти законы и всегда уверен в своей правоте, — какой соблазн!
Предчувствуя окончательное поражение, в 1927 году оппозиция предприняла несколько отчаянных шагов. Троцкий организовал подпольную типографию, чтобы опубликовать там свою программу и распространять её в виде листовок. 7 ноября в Москве и Ленинграде прошли демонстрации, участники которых несли транспоранты: «Да здравствуют вожди мировой революции — Троцкий и Зиновьев!»; «Повернём огонь направо — против кулака и нэпмана!». Подъехавшие на автомобилях красноармейцы разогнали и избили демонстрантов, изорвали плакаты.[435]
На состоявшемся в декабре 1927 года 15-ом съезде партии Сталин призвал оппозицию «отказаться от своих взглядов, открыто и честно перед всем миром… Она должна сама заклеймить ошибки, ею совершённые, и распустить все свои ячейки». Раскаяния не последовало, и съезд, под крики одобрения, утвердил исключение из партии Троцкого, Зиновьева, Каменева и ещё семи десятков известных большевиков.[436]
Празднуя победу, Сталин снова сделал широкий жест: на пленуме нового ЦК он отказался переизбираться на пост генерального секретаря. Оппозиция разгромлена, я сделал своё дело, можно возвращаться к коллективному руководству. Никто не сможет заподозрить меня в «бонапартизме»! Отставка снова, как и 1923 году, была отвергнута, Сталин остался на своём посту.[437]
Троцкого пришлось отправлять в Казахстанскую ссылку силой. Он заперся в комнате в квартире своего друга, но присланные охранники Молотова выломали дверь и понесли бывшего наркома вниз по лестнице. Тщетно его сын стучал в двери квартир, кричал: «Насилие над Троцким!». Ни одна дверь не открылась.[438] И не нашлось киножурналиста, который бы заснял эту сцену, чтобы порадовать вождя!
Сталину было мало убрать бывшего главнокомандующего Красной армии из Москвы. Пора было убирать его и из истории революции. К десятой её годовщине режиссёр Сергей Эйзенштейн срочно готовил кинобоевик «Октябрь». Внезапно в монтажной появился генсек и спросил:
— У вас есть в картине Троцкий?
— Да, — ответил режиссёр.
— Покажите эти кадры.
После просмотра Сталин категорически потребовал убрать из фильма этот персонаж.[439]
Мог ли режиссёр ослушаться? Конечно, нет. И пятнадцать лет спустя он талантливо и с увлечением в своём фильме «Иван Грозный» прославил предтечу Сталина, не уступавшего ему в кровавых «подвигах». Оказалось, что формула «история вынесет свой приговор» не так уж незыблема. Что эти приговоры можно пересматривать, отменять, корректировать. Что можно не только свергать памятники бывшим владыкам, но и перелопачивать память поколений в угоду новым властьимущим.
В 1928 году долгая «скачка с препятствиями» была практически закончена. Власть Сталина сделалась абсолютной, реальных соперников у него не осталось. Он неожиданно оказался лицом к лицу с задачей, к решению которой был абсолютно не готов. И не только он. Никто в России и никто за её пределами не знал, как нужно строить бесклассовое общество, в котором отменена частная собственность, сословное деление, церковь и все остальные скрепы, державшие государственные постройки прошлого.
Под ликторскими фасциями
Холодным ноябрьским утром 1922 года чиновник, входивший в здание итальянского Министерства внутренних дел, столкнулся с новым главой этого учреждения, который одновременно был и новым премьер-министром Италии.
— Сожалею о вашем нездоровье, — сказал Муссолини.
— Ваше сиятельство ошибается, — ответил чиновник. — Я вполне здоров.
— Тогда чем вы объясните своё появление на службе в одиннадцать часов, при том, что рабочий день начинается в девять?! — прокричал дуче, ударив себя кулаком по ладони. — Помощник, запишите его фамилию![440]
Депутатам парламента запомнилась первая речь премьера, произнесённая им перед притихшей палатой в том же ноябре. Уперев руки в бока, грозно насупившись, Муссолини обвёл ряды сверкающим взглядом и объявил:
— Вы знаете, что я могу распустить парламент. Могу завалить этот серый зал трупами или превратить в бивуак чернорубашечников. Могу заколотить входные двери. Но я не хочу этого делать… (Пауза) Пока… Для проведения назревших реформ мне необходима полная власть на два года. Потом состоятся новые выборы.[441]
Услышав, что, по крайней мере, на два года они сохранят свои места, депутаты вздохнули с облегчением и проголосовали за предоставление дуче диктаторских полномочий 270 голосами против 90.[442]
Скоро вся Италия могла почувствовать, что настали новые времена. Борьба с расхлябанностью чиновников привела к увольнению 35 тысяч служащих в самых разных ответвлениях управленческого аппарата. Освободившиеся места, как правило, доставались проверенным фашистам. Чтобы покончить с бедами транспортной системы, вводились строгие правила уличного движения, разметка мостовых, запрет на автомобильные гудки. Железные дороги несли большие потери от грабежей, но ворам пришлось умерить аппетиты, после введения вооружённой охраны в почтовых вагонах. Иностранные туристы не жалели похвал в адрес итальянских поездов, которые вдруг начали ходить по расписанию. Ежегодные убытки почтовой службы были сведены к нулю.[443]
«Чтобы преуспеть, надо работать!» — этот лозунг стал повсеместным. Ежедневно в прессе появлялись фотографии Муссолини, трудящегося не только за письменным столом, но и бок о бок с рабочими и крестьянами. То он укладывал кирпичи, то бил молотом по наковальне, то убирал урожай. Ему нравилось сниматься обнажённым по пояс, чтобы все могли видеть его могучую грудь. Итальянцы ценили многие перемены, связанные с его приходом к власти: восстановление восьмичасового рабочего дня, сокращение правительственных расходов, упрощение бюрократических процедур.[444]
Среди многих реформ незаметно прошло изменение статуса Королевской гвардии — она была переименована в Милицию национальной безопасности, слита с подразделениями чернорубашечников и обязана приносить присягу не королю, а дуче. Другая важная перемена была произведена в избирательной системе. По новому закону, партия, получившая больше голосов, чем другие, автоматически вознаграждалась двумя третями мест в парламенте. На выборах в апреле 1924 года фашисты получили 4,5 миллиона голосов, социалистическая оппозиция — 3 миллиона. По новым правилам, это дало сторонникам Муссолини 374 парламентских кресла.[445] Но на первом же заседании парламента бесстрашный социалист Джакомо Маттеоти выступил с гневным описанием того, какими методами фашисты добыли победу.
Он рассказал о том, что его соратникам по партии местные фашисты не давали возможности объезжать свои участки и выступать перед избирателями. Что один был просто застрелен в гостиной собственного дома. Что в местах для голосования людей, отказывавшихся подать голос за фашистов, могли избить до полусмерти. Что разрушение и поджоги помещений, принадлежавших социалистам, принесли ущерб в миллионы лир. Что угрозами и насилием людей лишили возможности свободно выражать свою волю, поэтому нынешний парламент следует распустить.[446]
Поднялся невообразимый шум, крики, стук сидений. Напрасно председатель звонил в свой колокольчик, призывал к порядку. В проходах началась драка, фашисты и социалисты сцеплялись друг с другом, валили на пол, хватали за горло. Муссолини сидел молча, с побледневшим лицом, глядя прямо перед собой. Потом встал, вышел из зала, обронив на ходу своим сторонникам: «Если бы вы не были такими трусами, никто не посмел бы выступить здесь с такой речью».[447]
А через три дня после своего выступления депутат Маттеоти внезапно исчез. Его поиски продолжались несколько недель. Наконец, 16 августа тело было найдено в неглубокой могиле, в двадцати километрах от Рима.[448] Начавшееся расследование привело к аресту четырёх фашистов, заподозренных в покушении. Постепенно выяснились подробности. Оказалось, что смелый депутат оказал отчаянное сопротивление убийцам. Свидетели видели, как четверо мужчин несли пятого, который отчаянно вырывался. Его с трудом удалось запихнуть на заднее сиденье подъехавшей машины, но тут же стекло её разлетелось от удара каблука похищенного. Борьба внутри продолжалась с такой яростью, что на следующий день двое похитителей вынуждены были обратиться в больницу с полученными травмами. Преступление было подготовлено настолько наспех, что у убийц даже не было заготовлено лопат, поэтому для рытья могилы они использовали инструменты, найденные в багажнике автомобиля. Возможно, они намеревались только избить свою жертву, но дело вышло из-под контроля.[449]
Волна возмущения катилась по стране. 150 оппозиционных депутатов парламента демонстративно покинули зал заседаний. На уличных плакатах с изображением Муссолини по ночам появлялись нарисованные капли крови. Даже младший брат Арнальдо упрекал его за то, что он окружил себя настоящими головорезами. Близким людям дуче жаловался: «Мои злейшие враги не могли причинить мне такого вреда, какой причинили друзья».[450] Он даже готов был пойти на пересмотр законов о голосовании и назначить новые выборы.
Однако созданная им партия не могла допустить, чтобы капитан корабля выпустил штурвал в такую минуту. В полдень 31 декабря 1924 года 33 партийных лидера из провинции вошли без приглашения в кабинет дуче во дворце Киджи. Нет, они прибыли не для поздравлений с Новым годом. Грозно приблизившись к огромному столу из красного дерева, они обрушили на дуче град обвинений.
— Разве так должен вести себя настоящий вождь?! Ты позволяешь оппозиции поносить фашизм, грозить преданным тебе бойцам, бросать их в тюрьмы! Когда мы шли за тобой на Рим, мы рисковали своими жизнями. А теперь ты готов предать нас врагам?!
В какой-то момент один из пришедших извлёк кинжал, всадил его в крышку стола и прокричал:
— Если ты хочешь погибнуть, погибай один! Мы не хотим умирать и не пойдём за тобой![451]
Видимо, это вторжение вернуло Муссолини решимость. Тем более, что король и мать короля оставались на его стороне. Уже третьего января 1925 года он выступил перед парламентом с речью ещё более грозной, чем та, которая звучала под теми же сводами двумя годами раньше:
— В последние месяцы ваши подрывные действия привели к тому, что народ спрашивает: «Да есть ли у нас правительство? Как мы можем подчиняться людям, которые позволяют так поносить себя?» Возникла ситуация, когда быть фашистом в Италии означает рисковать своей жизнью. Только за последние два месяца было убито одиннадцать фашистов, сожжено множество зданий, разрушены железнодорожные пути. Но этому пришёл конец. Это я сдерживал энергию фашизма, но теперь пришло время вернуть ему полноту власти. Италия, синьоры, хочет мира, хочет покоя, хочет мирно трудиться. И мы дадим ей это с любовью, если возможно, а если нет — то силой! Через сорок восемь часов вы увидите коренные перемены во всех углах страны![452]
С этого момента Италия стремительно начала сбрасывать остатки демократических риз, превращаться в откровенную полицейскую диктатуру. Все партии, кроме фашистской, были запрещены. Все оппозиционные газеты закрыты. Вместо судов присяжных правосудие творили специальные трибуналы под руководством военных судей, которые не позволяли адвокатам приводить свидетелей защиты. Убийцы Маттеоти получили по шесть лет тюрьмы, но через несколько месяцев были отпущены по амнистии.
В своей речи Муссолини выражал возмущение тем, что его сравнивали с руководителями большевистского ЧеКа в России. Но очень скоро в стране появилось ответвление полиции OVRA, являвшееся полным аналогом зловещей советской организации. Она имела сеть специальных агентов, вербовавших на роль тайных платных осведомителей тысячи консьержей, официантов, таксёров. В практику вошло подслушивание телефонных разговоров, вскрытие писем, слежка за теми, кто ездил за границу и встречался с иностранцами.[453]
Теперь никто не посмел бы марать уличные плакаты, прославляющие дуче. Даже за надпись на стене общественной уборной можно было попасть под арест. Под официальными портретами вождя теперь часто печатали слова, которые он прокричал в одной из речей, произнесённых с балкона дворца Киджи: «Если я иду вперёд, следуйте за мной! Если поверну назад — убейте меня! Если убьют меня — отомстите!».[454]
В условиях, когда организованное сопротивление режиму сделалось невозможным, отчаянный протест находил выход только в покушениях на жизнь дуче, которые последовали в изобилии. В ноябре 1925 года бывший депутат парламента от партии социалистов, Тито Занибони, был арестован со снайперской винтовкой в руках в номере отеля, откуда он готовился стрелять в главу государства, выступающего с балкона дворца Киджи. В апреле следующего года пуля из револьвера приезжей англичанки Виолеты Гибсон пробила ноздри фашистского лидера. В его проезжавший автомобиль бросил гранату один итальянский анархист — она отскочила от крыши и взорвалась на тротуаре, ранив несколько прохожих. Другой анархист, Антео Занбини, которому едва исполнилось пятнадцать лет, тоже выбрал местом атаки автомобиль, и его пуля пробила рукав мундира намеченной жертвы. Разъярённая толпа растерзала мальчишку на месте.[455]
Всё это привело к изданию нового закона, по которому покушение на жизнь Муссолини приравнивалось к покушению на жизнь короля и каралось смертью. Новый начальник полиции, Артуро Бочини, получил в своё распоряжение специальные подразделения численностью 12 тысяч агентов и бюджет в 500 тысяч лир. Среди его первых распоряжений был запрет для прохожих приближаться ближе чем на 500 метров к дому, где жил Муссолини.[456]
Помимо борьбы с оппозицией и подавления недовольных неуёмная энергия дуче выплёскивалась на сотни проектов в сфере хозяйства и экономики. Фашистская пропаганда восхваляла успехи Италии в индустриализации и сельском хозяйстве, но и многие иностранные наблюдатели отзывались о них с почтением. Официальные цифры давали такую картину: за десять лет фашистского правления построено 400 новых мостов, включая трёхкилометровый мост между Венецией и материком; проложено 4000 миль новых дорог; огромные акведуки начали доставлять воду в засушливые районы; телефонная связь в стране обслуживалась шестьюстами подстанциями; итальянские лайнеры курсировали по Средиземному морю и Атлантическому океану; вскоре открылась и авиационная линия Рим-Чикаго; проведено осушение 180 тысяч акров болот.[457]
Восхвалялись также и успехи в деле подавления мафии. Видимо, организованную преступность может победить только другая организованная преступность — большевистская, нацистская, фашистская. В Палермо прибыл новый префект, Чезаре Мори, которому разрешалось не следовать букве итальянских законов. Для начала он провёл клеймение миллиона лошадей и коров в Сицилии, чем крайне сократил доходы мафии от краж скота. Было также конфисковано 34 тысячи единиц огнестрельного оружия, арестовано 400 главарей, резко увеличены сроки заключения в тюрьмах. За пять лет статистика годовых убийств упала с 278 до 25.[458] Началась массовая эмиграция мафиозных боссов в США, где они нашли благодатную почву для применения своих талантов и методов и процветают там до сегодняшнего дня.
Многие крутые повороты в политической карьере Муссолини и его личной жизни приучили окружающих быть готовыми к любым неожиданностям. И всё же, кто бы мог предвидеть, что в какой-то момент этот яростный безбожник, поносивший Христа и религию, в конце 1920-х годов начнёт тайные переговоры с Ватиканом? Что могло толкнуть его на такой шаг? Влияние брата Арнальдо, сохранившего глубокую веру? Воспоминание о доброй матери, склонявшейся над его детской кроваткой с благословением на ночь? Или всё та же погоня за раздуванием популярности у широких масс?
Результатом секретных переговоров явилось подписание так называемого Латеранского соглашения, невероятно укрепившего позиции церкви в Италии. Католичество было объявлено официальной религией государства. Распятия снова разрешено было помещать на стенах в школах и больницах. Папа сделался суверенным правителем независимого государства Ватикан площадью 110 акров в самом центре Рима. За те территории, которые отошли под власть короны во времена Гарибальди, папскому престолу уплачивалась компенсация в 10 миллионов лир.[459]
Папа Пий XI имел основания быть довольным усилиями дуче, направленными на укрепление и защиту добродетели граждан. Ведь это он, придя к власти, закрыл в Риме 53 борделя, 23 тысячи винных лавок, запретил азартные игры, открыл детские приюты, установил возрастной порог для покупки алкогольных напитков — 16 лет. И главное, Муссолини выглядел последним надёжным защитником от коммунизма, уже показавшего в России, что ждёт служителей церкви в случае его победы.[460]
Примирение фашистского государства с церковью вызвало невероятный всплеск энтузиазма в стране. Парадные шествия и демонстрации заливали улицы городов по любому поводу. Муссолини любил обращаться к ним с балкона дворца, а также обожал принимать военные парады с участием танков, артиллерии, самолётов. Он и сам получил лицензию пилота, и это давало ему возможность внезапно нагрянуть в какой-нибудь город с ревизией, буквально свалившись на голову местного начальства, выпав из облаков.
Былые соратники и сообщники постепенно исчезали из его ближайшего окружения. Дино Гранди был отправлен послом в Лондон, Итало Балбо — губернатором в Ливию. Кого-то вынуждали уйти в отставку, кого-то даже отправляли в колонии для ссыльных, основанные на скалистых островах. Когда дуче однажды спросили, чем заслужил немилость партийный функционер, служивший верой и правдой восемь лет, ответ был: «Он слишком хорошо изучил меня». Верный помощник, участник марша на Рим, Чезаре Росси, вынужден был бежать во Францию уже в 1924 году. Но в 1928 его обманом заманили в Италию и бросили в тюрьму, где он просидел вплоть до свержения фашизма.[461]
Зато обожание народных масс только нарастало. Беременные женщины ставили его фотографию рядом с кроватью как амулет. Купальные костюмы с портретом дуче шли нарасхват. Люди отправлялись пешком на паломничество в Рим, только чтобы увидеть его. Когда он, под вспышками фотокамер, обнял и расцеловал каменщика, работавшего рядом с ним, тот объявил, что не будет теперь мыть лицо до конца жизни. Одна девушка из Калабрии прислала ему письмо, сообщая, что готовится выйти замуж и хотела бы, чтобы феодальное «право первой ночи» возродилось и чтобы дуче воспользовался им в её объятиях.[462]
Закрома тщеславия в душе Муссолини могли хранить и множество лестных отзывов от видных представителей других наций. Очень высоко ставил его британский министр иностранных дел, Остин Чемберлен. Махатма Ганди воскликнул: «Как жаль, что я не супермен наподобие Муссолини». «Гигантской фигурой в современной Европе» называл его архиепископ Кентенберийский. Такого же мнения были Томас Эдисон и даже Уинстон Черчилль.[463] Знаменитая литературная чета российских эмигрантов, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, посещали его в Риме и расписывали со знанием дела кровожадность безбожных большевиков.
В конце 1920-х итальянский торговый атташе в Берлине получил и переслал в канцелярию дуче длинное письмо от немецкого поклонника. Тот в конце послания просил о чести получить надписанную фотографию великого лидера фашистов. Муссолини чиркнул на листе: «Отказать».
Звали поклонника Адольф Гитлер.
Многие историки склонны искать причины победного шествия нацизма в Германии в несправедливых условиях Версальского мира, подписанных недальновидными победителями в 1919 году. Дескать, это жадность и близорукость политиков довели культурный немецкий народ до того, что он пошёл за Гитлером. При этом забывают, что Италия, оказавшаяся среди победителей, получившая территориальные и финансовые компенсации, с таким же энтузиазмом приняла фашизм и пошла за Муссолини на десять лет раньше. Гораздо более убедительной представляется точка зрения тех историков, которые считают, что вознесение всех диктаторов Европы в 1920-30-е годы было результатом страшного разочаровиния народов в старых формах государственной власти, при которых оказался возможным кровавый кошмар Первой мировой войны.
Под свастикой
Казалось бы, новый рейсканцлер, Адоьф Гитлер, поначалу был готов выполнять все обещания, которые он дал президенту Гинденбургу при вступлении в должность. Парламентское управление страной, наверное, остаётся в силе, раз правительство первым делом объявляет новые выборы в рейхстаг — разве не так? Правда, риторика нового кабинета министров становилась всё жёстче с каждым днём уже в феврале 1933 года. В декрете от 17 февраля новый рейхканслер строго рекомендовал полиции сотрудничать с отрядами эсесовцев и штурмовиков в охране порядка и не бояться, в случае необходимости, пускать в ход огнестрельное оружие.[464]
А тут, за неделю до выборов, случается событие, которое показывает всему немецкому народу, как упорны, коварны и опасны враги Германии. В Берлине загорелось здание рейхстага! Конечно, его подожгли коммунисты. Их агент Ван дер Люббе прибыл из Голландии с заданием сеять смерть и разрушение. Как одному человеку удалось устроить такой обширный пожар, следствие не уточняло. Почему преступник оставался в здании так долго, что его смогла схватить прибывшая на место полиция, тоже никто не спрашивал. Преступный заговор раскрыт, злодеи понесут неизбежную кару!
На следующий же день кабинет министров под председательством Гитлера принял чрезвычайный указ «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Была запрещена коммунистическая партия Германии. В течение нескольких дней были арестованы около четырёх тысяч коммунистов и множество лидеров социал-демократических и либеральных организаций, в том числе депутаты Рейхстага. Закрытие оппозиционных газет (коммунистическая «Роте Фане» была закрыта ещё до поджога) дало возможность успешно довести до конца избирательную кампанию.[465]
Несмотря на это, по итогам состоявшихся 5 марта 1933 года выборов в Рейхстаг национал-социалисты вновь не получили абсолютного большинства — им досталось только 288 мандатов из 647. Тогда они прибегли к тактике, которая до сих пор вела их от победы к победе: аресты неугодных, запугивание, избиения. На заседании рейхстага 23 марта 1933 года лидер социалистов Отто Велс выступил со смелой речью в защиту принципов гуманизма, законности, свободы, справедливости. В яростной ответной речи, прерываемой аплодисментами нацистов, Гитлер потребовал передачи ему всей полноты власти.[466]
Такой шаг представлял бы собой изменение конституции, для чего требовалось большинство в две трети голосов, которого у нацистов не было. Тогда по предложению гитлеровского рейхсминистра внутренних дел Вильгельма Фрика был аннулирован 81 мандат, который по итогам выборов должен был достаться коммунистам. Также в Рейхстаг не был допущен ряд избранных депутатов от СДПГ.
Эти меры в сочетании с договорённостями, достигнутыми с депутатами от ряда правых партий, позволили гитлеровцам 24 марта 1933 года провести через Рейхстаг так называемый «Закон в целях устранения бедствий народа и государства» (законопроект поддержал 441 депутат Рейхстага, только 84 социал-демократических депутата голосовали против). Этим актом имперскому правительству предоставлялось право издания государственных законов, в том числе таких, которые «могут отклоняться от имперской конституции». Первоначально было установлено, что закон будет действовать 4 года, но в дальнейшем его действие продлевалось, и он оставался в силе до самого конца правления Гитлера. Диктатура фюрера таким образом получала законодательное оформление.[467]
Одновременно шёл процесс захвата нацистами власти на местах. Повсюду устраивались манифестации так называемого «народного гнева». Нацистские демонстранты, большей частью штурмовики или партийные активисты, выстраивались перед ратушами и правительственными зданиями, требовали поднять знамя со свастикой и угрожали блокадой или штурмом зданий. В свою очередь, рейхсминистр внутренних дел, нацист Фрик, использовал это как предлог, чтобы вмешаться, ссылаясь на декрет о чрезвычайном положении. Он смещал земельное правительство и назначал комиссара, как правило, гауляйтера НСДАП, в компетенции которого находилась соответствующая земля, или другого руководящего национал-социалиста, а также в качестве уполномоченных — полицайпрезидентов (начальников полиции).
Антисемитская кампания перешла от пропаганды к реальным акциям. Призыв бойкотировать еврейские магазины не остался просто словами, напечатанными на газетной бумаге. Крепкие молодчики в коричневых и чёрных рубашках устраивали пикеты у входных дверей. Плакатам в их руках особую убедительность придавали дубинки, висевшие на поясах. Еврейские организации за рубежом откликнулись на это призывом бойкотировать немецкие товары. Для нацистских газет это было как масло в огонь, как новое подтверждение всемироного еврейского сговора против немецкого народа.[468]
Отделения социалистической партии закрывались одно за другим по всей стране. Активисты либо исчезали в тюрьмах, либо уезжали за рубеж. Отто Велс, вместе с другими лидерами, организовал штаб-квартиру партии в Праге. Другие партии самораспускались, их собственность подвергалась конфискации. В июле 1933 года был принят закон, запрещающий создание новых политических партий. Национал-социалисты остались монопольными хозяевами страны.[469]
Философ Фридрих Хаек в своей книге «Дорога к рабству» прослеживает, как пропаганда социализма в годы Веймарской республики прокладывала путь нацизму. «Молодёжь выросла в мире, где школа и печать изображали дух коммерческого предпринимательства позорным, а получение прибылей — аморальным, где нанять сотню людей на работу — это эксплуатация, а руководить тем же числом — почётно… Социалистические партии были очень сильны и могли бы добиться чего угодно, применив силу, но этого-то они и не хотели. Сами того не зная, они ставили перед собой задачу, которую могут осуществить только люди безжалостные и способные смести преграды общепринятой этики».[470]
В сфере международных отношений нацисты усиливали борьбу с постановлениями Версальского договора. На Конференции по разоружению в Женеве немецкий делегат в апреле требовал разрешения для Германии создать армию в 600 тысяч человек. Британия и Франция готовы были согласиться на 300 тысяч, при минимальном числе танков, самолётов и артиллерии. Когда немцы пригрозили вообще выйти из Лиги Наций, переговоры зашли в тупик.[471]
Программа срочного перевооружения страны была тем пунктом, в котором Гитлер и Вермахт были полностью единодушны. Но на своём пути к власти нацонал-социалисты в течение десяти лет опирались в значительной мере на силу штурмовых отрядов. А их лидер, Эрнст Рём, имел собственные идеи и амбиции в сфере взаимоотношений с армейским руководством. В мечтах он видел себя во главе армии штурмовиков, существующей параллельно с Вермахтом и имеющей свою структуру командования.
В феврале 1934 года состоялось совещание трёх силовых структур: нацистов, штурмовиков и военных. На нём Гитлер решительно отверг притязания штурмовиков, заставил Рёма пожать руку военному министру Бломбергу и принять его схему взаимоотношений, в которой штурмовикам отводилась роль спортивно-военной подготовки кадров для армии. Участники совещания поднали бокалы с шампанским, разошлись, но, оставшись среди своих, Рём обронил:
— То, что тут плёл этот смешной капрал, к нам не относится. На Гитлера нам полагаться нельзя, его придётся, по крайней мере, отправить в отпуск. Если он не пойдёт с нами, мы управимся и без него.[472]
Эти неосторожные слова были переданы Гитлеру. В воздухе повисла угроза путча штурмовиков. В июне 1934 года президент Гинденбург призвал к себе рейхсканцлера Гитлера и военного министра Бломберга. Тот объявил, что мирное существование страны находится под угрозой и если правительство не может отвести её, президенту следует объявить военное положение и тогда армия возьмёт ситуацию под контроль.[473]
Гитлер понял, что напряжение достигло критической точки. Тянуть дальше и откладывать решение конфликта, назревавшего годами, было невозможно. Он знал, насколько высок авторитет Рёма в кругах национал-социалистов. Никому нельзя было поручить свержение фигуры такого масштаба. Ему пришлось взять эту задачу на себя.
В замечательном фильме Лукино Висконти «Гибель богов» кадры, изображающие атаку на собрание лидеров штурмовиков, осуществлённую 30 июня 1934 года, — самые драматичные. Озёрная гладь под звёздным небом. Её почти бесшумно рассекают носы моторных барж, заполненных вооружёнными эсэсовцами. В гостинице на берегу съехавшиеся на свой съезд коричневорубашечники уже давно разошлись по своим спальням после речей и банкета. Им и в голову не пришло выставить охрану. Кто посмеет напасть на тех, кто уже десять лет наводил страх на всю страну?
Эсэсовцы беспрепятственно поднимаются по лестнице, тихо проходят по коридорам, потом разом врываются во все номера. Ошеломлённые полураздетые люди, прикрывая головы от ударов, выпрыгивают из постелей, ищут укрытия. Тщетно. Под дулами автоматов их выгоняют во двор, выстраивают у стен здания и открывают огонь. Дальше, крупным планом — окровавленные, полуголые тела.
Мы не ждём и не требуем от художника, создающего эпическое полотно, мелочного воспроизведения реальных событий. Но ремесло историка имеет свои строгие правила, и, следуя им, он скрупулёзно собирает хронологическую цепочку происходившего. Вот что разным исследователям удалось собрать на сегодняшний день:
Вечер 28 июня 1934 года. Адъютант Рёма в Мюнхене получает телефонное распоряжение фюрера лидерам штурмовых отрядов СА собраться в пригородном курорте Бад Вейси и ждать его для важного совещания.
Ночь на 30 июня. Самолёт с Гитлером и его свитой прибывает в аэропорт Мюнхена. Там его встречают офицеры Вермахта и докладывают, что днём в городе происходили демонстрации вооружённых штурмовиков, выкрикивавших угрозы в адрес фюрера.
Взбешённый Гитлер прибывает в Военное министерство Баварии и приказывает привести к нему двух местных группенфюреров СА. Он накидывается на приведённых, обвиняет их в предательстве и измене, собственноручно срывает с них наплечные значки и отправляет в тюрьму.[474]
6:30 утра. Несколько автомобилей в сопровождении полицейских патрульных машин подъезжают к гостинице Гансельбауэр в Бад Вейси. Гитлер, с пистолетом в руке, спешит вверх по лестнице, врывается в номер Рёма, срывает одеяло со спящего, обвиняет в подлейшем предательстве и, не слушая оправданий ошеломлённого соратника, приказывает отвезти его в тюрьму.
Другие лидеры СА, разместившиеся в соседних номерах (в том числе и любовная пара, спавшая в одной постели), тоже отправлены за решётку.
Днём, на собрании в Мюнхене, проходившем под охраной эсэсовцев, Гитлер объявил штурмовикам, что их руководство получило 12 миллионов марок из Франции как плату за его арест и убийство.
Расправа была быстрой и безжалостной. Шестеро лидеров СА, отмеченные в списке Гитлером лично, были расстреляны в тот же день.
Рёму объявили, что он приговорён к смерти, но имеет шанс покончить с собой. Вот пистолет с одним патроном — решайте. Рём не воспользовался «льготой» и десять минут спустя был застрелен в камере. В последующие дни казни подверглись ещё около двух сотен командиров штурмовиков. Численность СА была уменьшена на 40 %. Новым руководителем назначен Виктор Лютце — тот самый доносчик, который сообщил Гитлеру о словах, вырвавшихся у Рёма после совещания в феврале. Нацистская пресса заполнилась восхвалениями фюрера, который спас страну от кровавого раздора.[475]
А первого августа умер президент Гинденбург. Ему были устроены торжественные похороны, на которых Гитлер выступил с речью. Он обещал усопшему полководцу место не в христианском раю, но в чертогах Валхалы, где пируют все великие погибшие воины германских и скандинавских племён. Впоследствии похоронные торжества и поминовения погибших устраивались в Третьем Рейхе по любому поводу и с большой помпой. Видимо, в них фюрер видел возможность утолять народную жажду бессмертия, да и сам не знал других способов прикасаться к вечности. Ведь по его представлениям, как иронично заметил исследователь Тимоти Снайдер, первозданный рай был не садом, а траншеей.[476]
19 августа прошёл народный плебесцит, в котором 90 % голосовавших выразили одобрение новому порядку верховной власти в стране: пост президента сливался с постом рейхсканцлера. Мало того: Вермахт, даже без просьбы Гитлера, учредил новую присягу, принося которую каждый офицер и солдат клялся в верности лично фюреру. Власть его делалась абсолютной и неотменяемой.[477] Он мог бы повторить вслед за Людовиком Четырнадцатым: «Государство — это я».
В октябре 1934 года Германия вышла из Лиги наций. Теперь гонка вооружений могла начаться всерьёз.
Под серпом и молотом
Первого октября 1949 года в Пекине было провозглашено создание Китайской Народной Республики. Мао Цзедун и другие лидеры компартии стояли на трибуне под сводами дворцовой башни Тяньаньмэнь, возвышающейся над входом в императорский Запретный город, и приветствовали толпу внизу на площади. На торжественный митинг и демонстрацию собралось около 400 тысяч человек. В атмосфере общего ликования надежды на радостные перемены бурлили в душах демонстрантов. Но каким путём новое государство будет строить бесклассовое общество, очищенное от эксплуататоров? Этот вопрос повисал в тумане теорий, мечтаний, дискуссий, прожектов.[478]
Коммунистическому руководству предстояло решить множество проблем внешней и внутренней политики. В какой-то мере оно начало работать над установлением международных отношений ещё до конца войны. Американские и британские журналисты и политики активно контактировали со штабом Мао Цзедуна уже в 1944-45 годы, пытаясь уяснить, как он видит будущее Китая. На их головы сыпались хорошо заученные слова, именно те, которые они жаждали услышать: «новая демократия», «народное правительство», «либеральные реформы», «ничего общего с марксизмом-ленинизмом». Для индустриализации, неправда ли, Китаю понадобится экономическая и технологическая помощь, и конечно, эту помощь скорее смогут оказать США и Европа, а не Советский Союз.[479]
Возвращаясь домой, визитёры рисовали увиденное и услышанное в самых розовых тонах. Наоборот, режим Чан Кайши изображался как корумпированный, жестокий, далёкий от подлинной демократии. После двадцати лет гражданской войны в измученной стране легко было находить примеры нищеты, разорения, бессудных расправ, общего уныния. Престиж правительства националистов неуклонно падал в глазах Западного мира.
Вопреки всем сладкоголосым обещаниям, первые дипломатические шаги новосозданной республики были сделаны не в сторону США, а в сторону северного соседа. Мао давно просил Сталина о личном свидании, но тот почему-то под разными предлогами откладывал. Даже в 1949 году, когда победа явно склонялась на сторону коммунистов, Кремль продолжал поддерживать Гоминьдан. Доходило до того, что выдвигались планы раздела страны на две части: южную и северную. Только в ноябре желанное приглашение было получено, и председатель Мао отправился в Москву.
Но там его ждало горькое разочарование. Сталин встретился с ним для короткой беседы прямо в день приезда. Потом состоялся банкет по случаю семидесятилетия «вождя мирового пролетариата», где Мао смог произнести хвалебную речь. А дальше в течение месяца его удостаивали только коротких встреч с разными членами Политбюро. Его просьбы о свидании с генсеком или хотя бы о разговоре по телефону отклонялись. Было ли это демонстративным пренебрежением к гостю или просто проявлением дурного настроения — историки объясняют по-разнуому. Не исключено также, что Сталин был раздражён теми чертами характера Мао, которые подметил и описал в своё время посланец Коминтерна Бородин: «На совещаниях он явно скучает и томится речами других… Потом начинает говорить так, будто до него ничего не было сказано… Ему присущ непомерный апломб».[480]
К концу 1949 года у Сталина накопилось много поводов для недовольства. Югославский лидер Тито вдруг объявил о полном разрыве с Москвой. Израиль, получавший долгие годы поддержку Кремля в своей борьбе за выход из Британской империи, решительно занял абсолютно независимую позицию. Попытка блокады Западного Берлина провалилась благодаря устроенному союзниками воздушному мосту. Единственным важным достижением можно было считать успешное испытание атомной бомбы, осуществлённое в октябре 1949 года. Возможно, именно это событие заставляло Мао так страстно желать соглашения с СССР о дружбе и взаимопомощи и терпеть все удары по самолюбию.[481]
Соглашение, в конце концов, было подписано в феврале 1950 года, и Мао отбыл в Китай. По дороге он делал остановки и осматривал индустриальные центры Сибири. Но главный опыт, главный урок, который дала ему эта поездка заключался не в знакомстве со страной. Он увидел своими глазами, как ведёт себя человек, достигший абсолютной власти, какой стеной раболепного подчинения он окружён. Было ясно, что самому Мао придётся пройти ещё долгий путь, чтобы достичь такого статуса.
В 1950 году северокорейский лидер Ким Ир Сен вторгся в Южную Корею уверенный, что сможет завоевать её за несколько недель. Но когда американский главнокомандующий, Дуглас Маккартур, нанёс ответный удар, высадив мощный десант в непосредственной близости к Пхеньяну, надежды на быструю победу разлетелись. Ким воззвал о помощи к Мао Цзедуну, и тот послал на корейский полуостров огромную армию «китайских добровольцев». По свидетельству Чжоу Эньлая, сделано это было без санкции Сталина. Из этого видно, что с самого начала Китай не был марионеткой Москвы, как считалось на Западе.[482]
Хотя основная часть войск Чан Кайши укрылась на Тайване, вооружённое сопротивление власти коммунистов продолжалось во многих провинциях Китая. В борьбе с ним принимали участие 140 дивизий Народно-освободительной армии (около полутора миллиона бойцов). К концу 1951 года было уничтожено около двух миллионов противников нового режима. Также, в результате внутренних чисток погибло около двадцати тысяч бывших офицеров Гоминьдана, в своё время перешедших на сторону красных.[483]
В деревни из городов направлялись отряды партийных активистов, которые организовывали крестьянские комунны, насаждали новые местные власти, расправлялись с теми, кто был объявлен «землевладельцем» или «кулаком». Были учреждены «народные трибуналы», имевшие право выносить смертные приговоры. Иногда осуждённых расстреливали тут же на глазах у соседей, других отправляли в концлагеря. Такие же трибуналы появлялись и в городах, и действовали они не менее свирепо.[484]
Параллельно с открытыми расправами протекала тайная борьба в верхних эшелонах компартии. Расхождения взглядов партийных лидеров, в основном, касались темпов строительства нового общества. Такие деятели как Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Ден Сяопин склонялись к постепенным реформам. Их оппоненты, Гао Ган, Жао Шуши и другие, настаивали на форсировании процесса. Точно так же, как Сталин за тридцать лет до него, Мао Цзедун лавировал между внутрипартийными группировками, поддерживал то одних, то других. Летом 1953 года «умеренные» были вынуждены «покаяться» на пленуме ЦК, «признать свои ошибки». Но уже на следующем пленуме, по поручению Мао, Лю Шаоци обрушился на своих противников с обвинениями в «сектантстве», «фракционерстве» и организации заговора с целью захвата власти. Гао Ган был арестован и вскоре умер в тюрьме (по официальной версии — покончил с собой).[485]
1953 год ознаменовался двумя крупными событиями: в марте умер Сталин, а в июне было заключено перемирие в Корейской войне. Новый лидер Советского Союза, Никита Хрущёв, делал разные ходы для укрепления своего престижа. Одним из таких ходов ему виделась поездка в Китай с дружественным визитом. Он прибыл в Пекин осенью 1954 года и вёл себя там как доброжелательный заморский гость, засыпая хозяев дорогими подарками и обещаниями щедрой экономической помощи. По свойственному ему простодушию, он упускал из вида то, что такое поведение ставило под вопрос лидерство Москвы в мировом коммунистическом движении. Для Мао же визит российского генсека явился, конечно, крупной победой на дипломатическом фронте.[486]
Начиная с 1955 года процесс закрепощения крестьян в Китае вступил в свою заключительную фазу. Ещё раньше была объявлена государственная монополия на торговлю зерном, хлопком, растительным маслом. Запрещалась любая смена жительства, даже для поездки в соседний уезд требовалось специальное разрешение местной администрации. Давление на тех, кто отказывался вступить в комунны, доходило до того, что их выгоняли из домов и заставляли стоять на улице в мороз или жару до тех пор, пока они не дадут «добровольного согласия». Всё шло тем же путём, что и при создании колхозов в СССР. Из-за нехватки кормов начался падёж скота и домашней птицы. Крестьяне резали своих животных, зная, что зиму им всё равно не пережить. Хоть наедались в последний раз. Потом голод стал расползаться по стране ещё хуже, чем в дореволюционные времена.[487]
Среди политических аналитиков существует мнение, что голод в коммунистических странах создавался верховной властью искусственно, чтобы бегство населения в города обеспечило избыток дешёвой рабочей силы для успешного развития индустриализации. Если бы это было действительной целью, какой же смысл имело запрещение крестьянам покидать место жительства? На самом деле здесь, как и во многих других сферах жизни, решающую роль играл менталитет пришедших к власти близоруких и их неспособность строить выполнимые планы далеко вперёд.
Секретный доклад Хрущёва на XX съезде компартии, разоблачивший культ личности Сталина, получил сильный резонанс в Китае. Он напомнил китайским лидерам, как опасно передавать всю полноту власти одному диктатору, как быстро тот может обрушиться на бывших соратников. В апреле 1956 года на расширенном заседании Политбюро Чжоу Эньлай не побоялся критиковать идеи Мао Цзедуна, касавшиеся капиталовложений в городское строительство. Он указал на то, что их увеличение на два миллиарда юаней может привести к сильным перебоям в снабжении населения продуктами первой необходимости.[488]
В августе-сентябре 1956 года состоялся 8-ой съезд КПК. Доклад Хрущёва открыто не упоминался, советский путь к социализму восхвалялся, Китайская революция была объявлена победоносно успешной. Но из устава компартии исчезла формулировка: «Идеи Мао Цзедуна — наша путеводная звезда». Вместо неё появилась другая: «Компартия в своей деятельности руководствуется марксизмом-ленинизмом».[489]
Чтобы ослабить идейные позиции своих оппонентов, Мао Цзедун решил разыграть подобие «хрущёвской оттепели». В мае 1957 года неожиданно была объявлена кампания «пусть расцветают сто цветов». Да, компартия настолько уверена в правильности своей генеральной линии, что ей нет нужды бояться критических выступлений. Газетам было разрешено публиковать статьи, отражавшие широкий диапазон спорных политических и экономических идей. Тысячи самостоятельно мыслящих людей поверили в открывшийся просвет и засыпали печатные органы материалами, явно выходящими за прежние цензурные рамки.
Однако игра в плюрализм длилась только месяц. Уже в июне «Женьминь жибао» опубликовала редакционную статью, в которой открывала замысел властей. «С 8 мая по 7 июня наша газета и вся партийная печать по указанию ЦК почти не выступала против неправильных взглядов. Это было сделано для того, чтобы ядовитые травы могли разрастись пышно-пышно и народ увидел бы это и содрогнулся, поразившись, что в мире существуют такие явления. Тогда народ своими руками сможет уничтожить всю эту мерзость».
Конечно, «уничтожение мерзости» нельзя было доверить народу. Развернулась мощная кампания репрессий, направленных против интеллигенции. Ярлык «правый буржуазный элемент» был приклеен миллионам образованных людей. В лагеря «трудового перевоспитания» было отправлено полмиллиона человек, поверивших в «оттепель».[490] Это явилось своеобразной репетицией террора, который разразится восемь лет спустя и получит название «культурной революции».
Осенью в Москве торжественно отмечалась 40-я годовщина Октябрьской революции. Съехались делегации почти всех коммунистических партий. На одном из совещаний Мао Цзедун ошарашил собравшихся, изложив им свои взгляды на возможность термоядерной войны. «Да, половина человечества погибнет. Зато империализм будет стёрт с лица земли. Вскоре родятся новые люди, численность населения Земли восстановится и будет расти дальше». Наступило неловкое молчание. Его нарушил глава итальянской компартии Пальмиро Тольятти:
— Товарищ Мао Цзедун, а сколько, по-вашему, после атомной войны останется в живых итальянцев?
— Нисколько, — с философским спокойствием ответил Мао. — А почему вы считаете, что итальянцы так уж важны для человечества?[491]
Начиная с 1958 года отношения между Москвой и Пекином шли неуклонно вниз. Хрущёв утверждал, что в ожидании мировой революции мирное сосуществование с капитализмом возможно и допустимо. Мао клеймил такую позицию «ревизионизмом». В конфликте Китая с Индией СССР поддержал индусов. Он также отменил обещанные поставки атомной технологии Пекину. Летом 1960 года все советские советники были отозваны из Китая, больше трёхсот торговых контрактов разорваны.[492]
Коммунистический мир раскололся надвое, и Мао Цзедун оказался всевластным хозяином одной половины. Наступило время, когда он сможет, наконец, показать всем сомневавшимся, как быстро и успешно можно построить правильный коммунизм, если следовать его идеям.
Под бородой и беретом
Многие гангстерские и уличные банды имеют вступительный тест для новых членов: необходимо совершить преступление, предпочтительно — убийство. Знаток психологии толпы, Фидель Кастро, применял это правило для завлечения в свою армию народных масс. Уже в январе 1959 года он собрал во дворе президентского дворца несколько тысяч бедняков, выступил перед ними с пламенной речью, пересыпаемой риторическими лозунгами-вопросами: «Заслуживают ли военные преступники, служившие Батисте, расстрела?!». В ответ получал громогласное «Паредон!», то есть «к стенке!».[493]
Суды превратились в линчевание с участием толпы. В феврале того же года 43 лётчика военно-воздушных сил Кубы предстали перед военным трибуналом в Сантьяго. Они не пытались убежать с острова, готовы были служить новой власти, и суд оправдал их. Кастро примчался в город, вывел огромную толпу на улицы и потребовал отменить «несправедливый» приговор. С экрана телевизора он объяснял свою юридическую теорию: раз защита имеет право на апелляцию, значит и обвинение должно иметь такое же право. Новый суд приговорил лётчиков к 30 годам тюрьмы плюс 10 лет каторжных работ.[494]
Несмотря на всё это, ореол героя, свергнувшего жестокого тирана, продолжал сиять над головой Кастро в США, Канаде, Латинской Америке. Тысячи людей мечтали увидеть его, услышать, заразиться революционным энтузиазмом. Наконец, в апреле он согласился принять приглашение на съезд газетных редакторов в Вашингтоне. В аэропорту его самолёт встречали тысячи кубинцев и молодых американцев. Последние очень понравились Фиделю. «Я никогда не встречал таких, — говорил он. — До сих пор мне доводилось иметь дело только с колонизаторами».[495]
На всех своих выступлениях Кастро говорил именно то, что жаждала услышать его аудитория. Редакторам газет он обещал уважать свободу прессы. Членам Сенатского комитета по международным делам — сохранять неприкосновенность иностранной собственности на Кубе. Студентов Принстона уверял, что кубинской революции дóроги ценности гуманизма, что её главный лозунг — «хлеб и свобода!».[496]
У него также состоялась двухчасовая беседа с вице-президентом Никсоном. Тот потом комментировал эту встречу сдержанно, говорил, что, при всех своих заблуждениях, гость, по крайней мере, не был скучным. Кастро же остался очень недоволен общением, жаловался, что этот «сукин сын не проявил достаточно уважения и он ещё заплатит за это».[497]
Все выступления Кастро перепечатывались американской прессой и комментировались чуть ли не восторженно. Мало кто из журналистов заметил, что кубинский лидер упрямо и умело уходит от ответа на вопрос «когда же состоятся свободные выборы?». Другой неожиданностью явилось то, что он не просил об экономической помощи, не призывал делать капиталовложения. Даже его собственные экономические советники были удивлены этим. Им он объяснял, что отсталость стран Третьего мира происходит именно от того, что они впали в зависимость от иностранного капитала и что с этим следует покончить.[498]
По возвращении в Гавану он начал проводить политику, соответствующую этой марксистской догме. В январе 1960 года было объявлено о временной национализации трёх крупных иностранных нефтеперерабатывающих заводов. Дальше процесс национализации пошёл в разгон. Куба отказалась выплачивать американским нефтяным корпорациям долг в 50 миллионов долларов. Конфискациям подвергались сахарные заводы, элекстростанции, транспортные структуры, гостиницы, игорные дома. К середине лета ограбленные американские инвесторы подали около восьми тысяч исков на общую сумму три с половиной миллиарда.[499] Правительство Эйзенхауэра наложило эмбарго на ввоз кубинского сахара в США.
Образовавшимся вакуумом немедленно воспользовался Советский Союз. Он взялся поставлять нефть на Кубу и согласился получать сахар в уплату. Вспоминаю жалобы хозяек в России на то, что сахар стал пахнуть керосином, потому что его доставляли в тех же танкерах, которые привозили нефть на «Остров Свободы». Под шумок на Кубу стали прибывать русские специалисты и военные советники. Осенью Фидель Кастро и Никита Хрущёв прибыли в Нью-Йорк на заседание сессии ООН и упали в объятия друг друга. Всё шло к тому, что в Западном полушарии появится форпост коммунизма. Могло ли американское правительство допустить это?
Свержение кастровского режима вышло на первое место в ряду внешнеполитических задач США. В Гватемале ЦРУ начало готовить военный десант, в котором должны были принять участие кубинские антикастровцы. Проблема осложнялась тем, что приближались перевыборы президента. Свержение Кастро начала планировать администрация Эйзенхауэра, а осуществлять довелось новоизбранному президенту Кеннеди.
Возможно, именно поэтому знаменитая высадка десанта в Заливе Свиней в апреле 1961 года обернулась полным провалом. Американские бомбардировщики, управляемые кубинскими пилотами, нанесли удары по аэродромам на Кубе 15 апреля. Но Кастро, помня успешный удар израильтян по египетским самолётам на земле в начале войны 1956 года, рассредоточил свою авиацию на хорошо укрытых взлётных полосах. После налёта у него остались неповреждёнными четыре британских «Си Фьюри», три американских T-33s и один В-26. А похороны мирных жителей, погибших при бомбёжке, вылились в мощную демонстрацию всенародной ярости и возмущения против «врагов революции».[500]
Из дипломатических соображений Кеннеди делал всё возможное, чтобы скрыть участие Америки во вторжении в независимое государство. Кроме того, военные заверили его, что авиация противника уничтожена. Поэтому он не послал американские истребителя прикрыть с воздуха корабли, вёзшие боеприпасы и продовольствие десантникам, высадившимся на берег. Эти корабли были потоплены внезапно появившимися в небе уцелевшими бомбардировщиками Кастро. Полуторатысячный десант, успевший высадиться и закрепиться, сражался три дня с окружившей его 20-тысячной кубинской армией, но, оставшись без патронов, вынужден был сдаться в плен.
Впоследствии на Кеннеди сыпалось много упрёков за то, что он не послал самолёты прикрытия. Но думается, что даже доставка оружия и продовольствия не могла бы привести к победе. Да, изначально, в 1956 году, с Кастро высадилось на Кубу меньше сотни человек, но они проникли в горы, как микробы проникают в тело человека и постепенно распространяют болезнь. Тактика партизанской войны в корне отличается от тактики обычных сражений армия против армии, к которой привыкли американские генералы. Десант в полторы тясячи бойцов не мог победить регулярную хорошо подготовленную армию Кастро, поддержанную двумястами тысяч народной милиции.
Победа не вскружила голову Кастро. Он был уверен, что рано или поздно ему следует ожидать полномасштабного вторжения американцев на остров. Все силы были направлены на усиление обороноспособности армии, флота, авиации. Рауль Кастро объезжал все страны Восточного блока, заключал сделки на военные закупки. И во время одной из этих поездок Хрущёв, принимая гостя на своей даче, предложил (если верить его воспоминаниям) установить на Кубе ракеты дальнего действия, которые могли бы достигнуть любого города Восточной Америки. Это послужило началом целой цепи событий, приведших к конфликту в отношениях двух сверхдержав, вошедшему в историю под названием Карибский кризис октября 1962 года.[501]
Карибский кризис подробнейшим образом воссоздан в сотнях серьёзных книг, статей, исследований, даже кинофильмов, поэтому я позволю себе ограничиться лишь кратким упоминанием его. В судьбе нашего героя он сыграл немаловажную роль. Установка советских ракет на его острове поставила Кастро на перекрёсток важнейших мировых событий. Он мог почувствовать себя вершителем судеб миллионов людей. Но очень скоро ход конфликта оттеснил его на задний план. Противоборство свелось к поединку Кеннеди и Хрущёва или советского Политбюро и администрации американского президента. Тринадцать дней они обменивались посланиями, угрозами, требованиями, ультиматумами, а мир с замиранием ждал гибели в термоядерной войне.
27 октября 1962 года конфликт по поводу советских ракет на Кубе достиг своего пика. Советник Хрущёва, Фёдор Бурлацкий, позвонил из Кремля жене и сказал: «Бросай всё и увози семью из Москвы». Американский министр обороны, Роберт Макнамара вспоминал потом, что в этот день он вышел из Белого дома, залюбовался закатом и подумал: «А ведь это может быть последний закат, который я вижу в жизни». В значительной мере причиной предельного обострения ситуации явилось сбитие американского самолёта разведчика У-2 над Кубой советской зенитной ракетой.[502]
Кто отдал приказ о пуске ракеты? Ходили слухи, будто сам Кастро явился в расположение советских зенитных батарей и стал расспрашивать об их боевых возможностях. Дежурный командир объяснял ему действие пусковых механизмов, показал на экране радара светящееся пятно, указывавшее перемещения американского самолёта-разведчика. «А если бы это был бомбардировщик?», — спросил Кастро. «Я бы нажал на эту красную кнопку, и с вторгшимся врагом было бы покончено.» Якобы, услышав это объяснение, Кастро немедленно нажал на указанную кнопку, и ракета устремилась к цели. Самолёт был сбит, лётчик погиб. Потом военные историки разыскали имена советских офицеров, отдававших приказ о запуске, но на Кубе до сих пор считают, что это сделал сам Кастро.[503]
К счастью, враждующим сторонам удалось тогда достигнуть компромисса: СССР обязался демонтировать и забрать ракеты, установленные на Кубе; американцы за это сняли морское эмбарго, дали обещание не вторгаться на остров, а также убрать свои ракеты, установленные в Турции вблизи советских границ. Кастро был очень разочарован таким мирным исходом, считал это чуть ли не предательством со стороны Хрущёва, поносил его последними словами.[504]. Кроме того, он имел серьёзные основания опасаться покушений на свою жизнь со стороны ЦРУ. От агентов в Америке и от попавших в плен повстанцев он знал, что его убийство входило составной частью во все планы вторжений.
В секретных бумагах ЦРУ это назывлось «Операция Мангуст». С ведения и при участии Джона Кеннеди велись секретные переговоры с главарями мафии, которых пытались вовлечь в убийство кубинского лидера. Считалось, что раз они понесли большие убытки от конфискации игорных домов в Гаване, принадлежавших им, они могут быть заинтересованы в возвращении своей собственности. Плюс обсуждалось вознаграждение в размере 150 тысяч долларов. Гангстер Джон Росселли впоследствии рассказал журналисту Джеку Андерсону, что уже в феврале 1961 года представитель ЦРУ передал ему отравленные пилюли, которые должны были быть доставлены одному из приближённых «команданте».[505]
Кастро, имевший большой опыт в подготовке и осуществлении убийств, решил принять свои меры: подсунуть врагам псевдо-предателя, который якобы согласится убрать тирана. На эту роль был выбран некто Роландо Кубела. В своё время он был активным участником войны против Батисты, в 1956 году застрелил в ночном клубе начальника военной разведки. После победы революции возглавил влиятельный Союз студентов, упивался своей славой, носился по Гаване в огромном автомобиле, пока не задавил насмерть женщину. Этот несчастный случай подействовал на него так сильно, что он впал в депрессию, стал искать контакты с американцами, прощупывая возможность эмигрировать из Кубы. Это открылось, и тайная полиция поставила его перед выбором: ты либо идёшь в тюрьму за измену, либо принимаешь на себя роль псевдо-предателя и докладываешь нам о всех ходах ЦРУ. Выхода не было, арестованный согласился сотрудничать.[506]
Все действия, связанные с Кубелой, получили в ЦРУ название операция «АМ/ЛАШ». Он разъезжал по Европе и Америке, тайно встречаясь с американскими агентами. В сентябре 1963 года произошла встреча в Бразилии. Представитель ЦРУ снова подтвердил заинтересованность в свержении режима Кастро. Кубела потребовал, чтобы его снабдили планом действий, необходимыми орудиями убийства и свели с высокопоставленным представителем американских правящих кругов, желательно — с Робертом Кеннеди.
Нет сомнения, что информация об этой встрече, полученная от Кубелы, показала Кастро, что ЦРУ не оставит своих попыток убрать его со сцены. Именно в том же сентября он произнёс в бразильском посольстве в Гаване свои знаменитые угрозы: «Американские правители, замышляющие покушения на кубинских лидеров, должны знать, что они сами очень легко могут стать жертвами наших ответных действий».[507]
Гангстеры тем временем только делали вид, что они продолжают попытки уничтожения Кастро. К 1963 году они установили с ним очень выгодное деловое сотрудничество по переправке наркотиков в США из Южной Америки через кубинские порты. Исследователи оценивали годовой доход, получаемый «команданте» от этой торговли в 12 миллионов долларов. Как мы знаем, Кастро давно порывался убить какого-нибудь президента: кубинского Грау, доминиканского Трухильо, кубинского Батисту. Он лучше, чем ЦРУ, знал расценки на рынке заказных убийств. По моим прикидкам он должен был выложить гангстерам за убийство Кеннеди около 15 миллионов.[508]
Потеряв надежду на гангстеров, ЦРУ всё внимание сосредоточило на операции АМ-ЛАШ. На очередной встрече в Париже начальник отдела секретного ведомства, Десмонд Фитцджеральд, вручил Кубеле отравленное автоматическое перо с таким тонким шприцем, что укол его был нечуствительным для человека. По трагическому совпадению, встреча эта состоялась 22 ноября 1963 года.[509]
Утром того же дня, в Гаване, Кастро, великий мастер использовать западную прессу, приказал привезти к нему в загородную резиденцию французского журналиста Жана Даниэля, который до этого почти месяц тщетно пытался получить интервью у кого-нибудь из кубинских лидеров. Так вышло, что известие о событиях в Далласе — о, по чисто случайному совпадению! — пришло Фиделю Кастро как раз в тот момент, когда он беседовал с ошеломлённым своей удачей журналистом, и тот смог потом рассказать всему миру, как огорчён и встревожен был «команданте» сообщением о гибели американского президента. «Вот увидите, они попытаются обвинить нас, кубинцев, в этом преступлении», — сказал он.[510]
История убийства президента Кеннеди до сих пор вызывает жаркие споры. Главный предмет дискуссий: был заговор или стрелял убийца-одиночка? Туман не рассеялся даже после второго официального расследования, которое проводилось специальной комиссией Американского Конгресса в 1978-79 годах (Комитет Стокса) и пришло к выводу, что заговор имел место, но кто стоял за ним обнаружить не удалось. Я остаюсь при убеждении, что главная трудность состоит в том, что в этой трагедии переплелись целых три заговора: 1) попытки ЦРУ ликвидировать Кастро; 2) Кастро и мафия ликвидируют Кеннеди; 3) президент Джонсон и судья Эрл Уоррен сознательно уводят расследование на ложный путь, чтобы не вскрылось участие кубинцев. Они опасались, что американский народ в гневе потребует вторжения на Кубу, и мир снова окажется на грани термоядерной войны, как это случилось в октябре 1962 года.
Линдон Джонсон исполнил обещание, данное президентом Кеннеди, отказался от попыток вторжения на «остров свободы», перенёс пик борьбы с мировым коммунизмом в Юго-Восточную Азию. Но это не означало, что Кастро теперь мог спать спокойно. Операция АМ/ЛАШ продолжалась, и Фидель получал от Кубелы подробные отчёты о её ходе.[511] Возможно, именно поэтому его подозрительность по отношению к бывшим соратникам только возрастала, и пространство вокруг него пустело.
Процесс этот начался сразу после его прихода к власти. Уже летом 1959 года Кастро объявил изменником Мануэля Уррутиа, скромного судью, которого он сам же назначил президентом страны. Тому пришлось спасаться от толпы в посольстве Венесуэлы.[512] Героя войны, Хубера Матоса, возглавлявшего одну из провинций, тоже объявили предателем, получавшим деньги от иностранных посольств, судили вместе с подчинёнными ему офицерами, приговорили к двадцати годам тюрьмы. Другой известный участник революции, Камило Сиенфуэгос, внезапно исчез вместе с самолётом, на котором он летел в Гавану, и ни он, ни пилот, ни обломки самолёта никогда не была найдены.[513]
Один за другим соратники, верившие в идеалы свободы, гуманизма, демократии, покидали Кубу. Становилось всё более очевидным, что для Кастро революция не была средством достижения лучшего уровня жизни для его народа. Она была самоцелью, справедливой и прекрасной, потому что она оправдывала любые жестокости, лишения, ошибки, провалы. Ни в коем случае она не должна была иметь конца, даже победного. С первых же месяцев 1959 года началась рассылка революционных десантов в страны Южной Америки, а потом и Африки.
Когда во время одного из таких десантов в Боливии погиб Че Гевара (1966), на Кубе не осталось ни одного человека, авторитет и власть которого могли хотя бы отдалённо приблизиться к статусу «команданте». Божество не может иметь заместителей. Особенно если у него есть брат Рауль. У которого старший брат иногда спрашивал с усмешкой: «Знаешь, почему кубинцы никогда не убьют меня? Потому что они боятся, что ты займёшь моё место».
Комментарий седьмой: О ЖАЖДЕ СПЛОЧЕНИЯ
Я счастлив, что я этой силы частица,
Что общие даже слёзы из глаз.
Владимир Маяковский«Бьёт-ба-ра-бан! Бьёт-ба-ра-бан!
Левой!.. Левой!.. Ноги в сандалиях и тапках враз ударяют по асфальту шоссе, развевается знамя. Из окон посёлка, из калиток глазеют люди. Мы не смотрим на них, но знаем — они ошеломлены, они полны зависти и восхищения. Жалкие, бедные людишки! Они не идут с нами, в наших красно-белых рядах, их ноги не топают дружно и разом, сердца не вздрагивают от восторга единства и силы; они вообще нужны лишь для контраста, как граница, как берега для нашего могучего и неудержимого Мы.
Какое счастье быть Мы!».[514]
Так я пытался воссоздать воспоминание о счастье сплочения, впервые пережитом мною в пионерском лагере. Со временем эти детские восторги слабели, в студенческие годы обязательное участие в Первомайских демонстрациях воспринималось уже как тяжкая обязанность, от которой хотелось уворачиваться любыми способами. Но я вспоминаю этот свой пионерский экстаз каждый раз, когда вижу кинохронику, показывающую факельные шествия в Гитлеровской Германии, марши физкультурников в сталинской Москве, парады хунвейбинов с красными цитатниками Мао.
Почему человеческая жажда сплочения, мощно являющая себя в тысячах возможных форм, остаётся так мало изученной? Почему она до сих пор не признана как важнейшая сила любого исторического процесса? Почему даже после публикации замечательного труда Густава Лебона «Психология народов и масс» каждый новый фараон словно открывает её заново, осёдлывает и неожиданно для всех вылетает на вершину власти?
Думаю, связано это с тем, что научное и художественное познание истории человеческой цивилизации остаётся в ведении дальнозорких. Порыв к сплочению если и сохраняется с детства в их душах, то лишь в ослабленном виде как нечто, с чем серьёзный, разумный, взрослый человек должен постоянно бороться, чему ни в коем случае нельзя потакать. Их позиция: да, стадное чувство безусловно существует, но на то и дан человеку рациональный ум, чтобы преодолевать его. Дальнозоркий не склонен признать, что участие в публичном сжигании книг на кострах, в погромах, в скандировании приговора «к стенке» есть лишь внешние проявления глубинного порыва человеческой души: найти избавление от тревог и сомнений в отказе от собственного «Я», в слиянии с Мы.
Будем справедливы: появлялись дальнозоркие философы, пытавшиеся вглядеться в этот порыв.
Уже Руссо, сочиняя в назидание нам своего «естественного человека», по сути реализовал свою мечту о достижении беззаботности путём возврата к первобытной простоте. «Естественный человек хочет только жить и пребывать в безделье… Цивилизованный же постоянно в движении, работает до пота, готов загнать себя до смерти, способен даже проклясть жизнь ради обретения бессмертия… Если природа создала человека здоровым, то я не побоюсь заявить, что думающий человек — это просто животное с дефектом».[515]
Шопенгауэр, так увлекавшийся буддизмом, суфизмом, идеей резиньяции воли и достижения нирваны, в конце жизни склонялся к мысли, что отказ от собственной воли, от хотения есть единственный способ избавления от страданий.
Религиозный философ Владимир Соловьёв воспринимал собственную волю как главное препятствие, мешающее ему слиться с Софией-премудростью, с «девой радужных ворот»:
Деспот угрюмый, холодное «я», Гибель почуя, дрожит. Издалека лишь завидел тебя, Стихнул, бледнеет, бежит. Пусть он погибнет, надменный беглец…[516]Если возвышенный поэт-философ так рвётся избавиться от бремени собственного «Я», желает ему гибели, должны ли мы удивляться тому, что обычные люди, не имеющие такой душевной мощи, тоже ищут укрытия от его недремлющего ока в толпе соратников, соплеменников, единоверцев?
Немецкий теолог Поль Тиллих, вглядывавшийся в проблему «мужества быть», то есть самоутверждаться вопреки тревоге смерти, тревоге бессмыслицы, тревоге осуждения, выносил в отдельную главу выбор «коллективистского мужества», то есть «соучастия», самоутверждения себя в качестве частицы Мы.
Нам следует сразу провести границу между двумя возможными видами отказа от собственной воли:
Первый: уходя в монастырь, в отшельничество, в кибуц, в башню из слоновой кости, человек как бы подключает свою волю к накатанному кругу деятельности, которую ничей произвол изменить не может. Это можно уподобить мотору, который будет использован для вращения жерновов, насоса, молотилки — и только.
Второй: вступая в политическую партию, в религиозный культ, в преступную банду, человек избавляется от своего «Я», сливая его с неким Мы. Это можно уподобить сдаче мотора в аренду на полное усмотрение арендатора, как и для чего он будет использован.
И тот, и другой путь освобождает человека от главного бремени свободы — от ответственности за свои поступки. Но второй вдобавок также оставляет ему возможность утолять жажду самоутверждения. Да, я отказываюсь от своего индивидуального «Я», но мои возможности самоутверждаться в роли частицы «Мы» возрастают в сто, тысячу, миллион раз. А если мне удастся обожествить фюрера, дуче, генсека, партию, то и моя жажда бессмертия получит своё утоление.
Сейчас по телевизору часто показывают кинохронику из Северной Кореи. Несколько лет назад туда было разрешено приехать врачу-офтальмологу из Непала, освоившему современные методы лечения катаракты. Эта болезнь достигла в отсталой стране масштабов эпидемии. Врач провёл множество операций с помощью привезённого с собой оборудования и инструментов, и кинохроника показывала людей, впервые узревших. После снятия повязок они падали на колени полные благодарности. Перед врачом? О, нет — перед портретами двух первых Кимов, висевшими на стене.
Также показывали траурные процессии и рыдания в дни смерти этих вождей. Такое невозможно организовать, симулировать, инсценировать. Для близорукого большинства смерть вождя — это крах всего строя жизни, всей картины мира. Да, они знают, что все люди смертны, да, они помнят, что вождь — тоже человек, но в толпе соплеменников, обожествивших лидера, эти печальные факты легко отодвинуть на задворки сознания.
В странах свободного мира существует много возможностей для граждан утолять свою жажду сплочения разрешёнными безопасными путями. Можно присоединиться к болельщикам на трибунах спортивного стадиона и вместе испускать дружный вопль на каждый забитый гол. Рок-звезда на своём концерте доведёт зрителей до экстаза, раскачивая их в унисон ритмам ударника. Демонстрации «за» и «против» текут и текут по улицам городов.
Особая сфера — мистические и религиозные культы. Видимо, чего-то не хватало голливудским звёздам Тому Крузу и Джону Траволте, что они вступили в секту саентологов. Где черпают терпение и убеждённость последователи Свидетелей Иеговы? Почему мормонские мальчики в белых рубашках готовы оставить все увлечения юности и отправиться в двухлетний миссионерский поход по всему свету? Что привлекло миллионы последователей к проповеди корейского реверенда Сон Мён Муна?
Культы, которые в своей деятельности переходят рамки закона, привлекают меньше последователей. Но, видимо, опасность и недозволенность придают особую остроту переживаниям их членов, поэтому они возникают снова и снова и порой приводят к кровавым конфликтам. Небольшая группа, созданная Чарльзом Мэнсоном и получившая название «Семья», насчитывала всего около дюжины членов, но они так боготворили своего лидера, объявившего себя новым Христом, что без колебаний совершили по его приказу несколько ритуальных убийств в августе 1969 года. Объясняя следователям свои мотивы, они только без конца повторяли слово «любовь». На вопросы «где вы находились в такой-то день и час?» отвечали: «Время для нас не существует».[517]
Другие трагедии, связанные с культами, оборачивались не только убийствами, но и массовыми самоубийствами. Ведь самоубийство является предельной формой отказа от собственного «Я». Федеральные власти несколько недель пытались уговорить последователей Дэвида Кореша в Вэйко (Техас) мирно сдаться, но не смогли, и всё кончилось самосожжением восьми десятков членов секты (1993). Джим Джонс, основатель секты «Храм народов», объявлявший себя перевоплощением Христа, Будды и Ленина, сумел увлечь своей проповедью больше тысячи человек и уговорить их уехать в Гайану (1978), где они смогут начать новую совместную жизнь вдали от «прогнившего и обречённого американского общества». И все они потом дружно выпили отравленный пунш.
Каким образом Джим Джонс так сумел подчинить этих людей своей воле?
Пятеро наших фараонов имели абсолютную власть над своими подданными, но даже они не смогли бы заставить человека перед гибелью отравлять собственных детей, как это проделал Джим Джонс в Гайане. Американский конгрессмен Лео Райан, который попытался вмешаться и спасти хотя бы тех, кто разочаровался в культе, заплатил за это своей жизнью — охранники расстреляли его и несколько беглецов, когда они уже садились в самолёт. Сам Джим Джонс перед самоубийством записал на магнитофон заявление: «Это не массовое самоубийство, а акт революционного протеста». Трагедия в Гайане надолго останется самым страшным примером того, как люди добровольно идут на смерть ради счастья сплочения.
Внутренний порыв человека к сплочению фараоны не только используют для достижения власти, но и умело раздувают и направляют его, создавая образ Врага, против которого необходимо сплотиться. После изгнания буржуев и помещиков из России советская пропаганда начала нагнетать ненависть к кулакам, вредителям, шпионам, космополитам. Гитлер нашёл идеального Врага в «интернациональном еврее». У Мао Цзедуна на эту роль попали левые и правые уклонисты, пособники капитализма, ревизионисты, которым всем следовало «размозжить головы». Американский империализм и укрывшиеся во Флориде кубинские контрреволюционеры безотказно исполняли роль вечных врагов для кастровского режима. Один Муссолини недооценил важность роли Врага, надеялся сплотить итальянский народ мечтой о возрождении империи. Но он и поплатился за эту недооценку — единственный из пяти был свергнут с трона при жизни.
Многие военные конфликты в мировой истории решались не численностью армий, не качеством и количеством вооружений, а прежде всего силой народного сплочения. Именно в этом феномене следует искать объяснение многих парадоксальных побед, опрокидывающих законы арифметики: Финикийская республика против Вавилонской империи (6-й век до Р.Х), Афинская — против Персидской (5-й век до Р.Х.), Венецианская — против Турецкой (16-й век), Голландская — против Испанской (17-й век), Финская — против Сталинской (20-й), Вьетнам — против США, Израиль — против всего мусульманского мира.
Гитлер своим зверинным чутьём правильно оценил, что страны, противостоявшие ему в Европе в 1930-е годы, утратили дух народной сплочённости и не смогут противостоять его нападению. Но он забыл — или отказался замечать, — что вторжение реального врага может сплотить нацию даже сильнее, чем раздувание вымышленной угрозы. Англичане и русские, сплотившись, разбили его надежду на быструю победу, а потом, в союзе с подоспевшими американцами, разгромили и его армии.
Все фараоны, вступив на трон, волей-неволей оказывались у руля экономического корабля в своей стране. Попробуем в следующей главе-летописи вглядеться в их хозяйственную деятельность и понять, помогал ли им в этом талант сплачивать массы или, наоборот, оказывался помехой для «строительства пирамид».
Летопись восьмая: СТРОИТЕЛЬСТВО ПИРАМИД
Перевыполнение невыполнимых планов
В конце перестройки в журнале «Известия ЦК КПСС» были опубликованы воспоминания Марии Ильиничны Ульяновой (сестры Ленина). В них есть эпизод, относящийся к лету 1923 года. Ульянова в разговоре с больным братом передаёт ему горячий привет от Сталина, который его очень любит и переживает наступившее между ними охлаждение.
«— Могу я передать ему привет от тебя?
— Передай, — ответил Ленин холодно.
— Но, Володя, ведь Сталин — он всё же умный.
— Совсем он не умный, — ответил Ильич решительно и поморщившись.»[518]
Сотни историков и психологов пытались исследовать извивы Сталинского ума, отыскивать рациональное начало в его на вид диких ходах и решениях. Естественно, все они придерживались общепринятого представления о том, что следует вкладывать в понятие «умный»: это человек, который обычно высказывает правильные утверждения, приходит к верным умозаключениям. Мне до сих пор не довелось прочесть исследование, которое бы указало на кульбит, проделанный «мудрейшим вождём» с понятиями «верный — неверный», «правда — ложь». В его представлении правдой следует считать то, что он говорит в данный момент, а доказательством его правоты — то, что никто не посмеет возразить ему, а если посмеет, то горько пожалеет.
В 1926-28 годах оппозиция призывала «повернуть огонь в сторону кулака и нэпмана». Сталин громил её за это, а, разгромив, активно приступил к осуществлению её лозунгов и призывов. Из догматов марксизма, с юности засевших в его голове, самым прочным было убеждение в том, что главный источник богатства — не творческий труд, а эксплуатация. Отсюда следовало, что быстрый рост богатства государства будет достигнут тогда, когда оно доведёт интенсивность эксплуатации до предела. То есть без сентиментов обратит население в рабство. Ведь так поступали все богатейшие империи: Египетская, Китайская, Римская, Византийская, Испанская, Британская.
Конечно, слово рабство не годилось для нужд пропаганды. Ближайшей великой задачей социалистического государства провозгласили индустриализацию. Никакая оппозиция не посмеет поднять голос против этого прогрессивного лозунга. Но как вы можете использовать достижения технического прогресса, имея дело с крестьянином-единоличником? Ему будет не по силам приобрести трактор, комбайн, сеялку, сенокосилку. Значит нужно объединить крестьян в большие коллективные хозяйства, чтобы по бескрайним колхозным полям помчались современные машины, выращивающие и убирающие огромные урожаи, какие не снились людям при тёмном царизме. Кто-то смеет высказывать мнение, что на такие перемены следует отвести, по крайней мере, десять лет? А вот мы, большевики, осуществим их за десять месяцев!
Чтобы лично ознакомиться с положением дел в русской деревне, Сталин в начале 1928 года совершил поездку в Сибирь. Приехал в какую-то деревню неподалёку от Омска и стал агитировать крестьян сдавать хлеб государству по тем низким ценам, которые оно назначает. Тут кто-то из местных возьми да и крикни ему: «А ты, кацо, спляши нам лезгинку — может, тогда мы тебе хлебца-то и дадим».[519]
Ах, что ты наделал, сибирский шутник! Разве ты не слыхал, что горцы шуток в свой адрес не принимают? Что у кавказцев месть за насмешку или оскорбление — священный долг, который может передаваться из рода в род? И не тебя ли должны мы винить за то, что кошмар коллективизации, обрушившийся на страну в 1928–1933 годы, окрасился мощным зарядом личной мести вождя всему российскому крестьянству?
О том, что творилось в эти годы, написаны и опубликованы тысячи книг, статей, исследований. Как вооружённые продотряды из городов врывались в деревни и отбирали у крестьян дочиста весь урожай. Как местная голытьба, собранная в «Советы бедноты», помогала отыскивать зарытые в землю запасы. Как людей пытали, инсценировали расстрелы, подвешивали за шею, чтобы выбить запланированные государством хлебопоставки. Как в Сибирь шли и шли товарняки, набитые «кулаками» и их семьями, а когда лагеря переполнились, высылаемых стали выбрасывать в голой степи в загоны, окружённые колючей проволокой.
Яркой иллюстрацией к ужасу тех лет сохранилось письмо, написанное Шолоховым Сталину.
«…Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти… Ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю… В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребёнком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы её пустили с ребёнком погреться. Не пустили, потому что за помощь саботажникам полагались суровые наказания… Под утро ребёнок замёрз на руках у матери».[520]
Этот документ можно считать уникальным по двум причинам: а) Шолохов не побоялся написать его и остался живым и на свободе; б) Сталин ответил ему, то есть всё знал о происходящем.
В 1970-е годы старый псковский крестьянин рассказывал мне, как его отец спас всю их семью от раскулачивания. Во время НЭПа отец отделился от деревенской общины на хутор и проявил такие хозяйственные таланты и трудолюбие, что стал быстро богатеть. Тогда таких ласково называли «крестьяне-инициативники», а Бухарин публиковал в «Правде» статьи — «Богатейте и ничего не бойтесь». Но потом подули другие ветры, которые были отцу хорошо знакомы по временам «военного коммунизма». Он бросил своё хозяйство, собрал семью и привёз её к брату в деревню: «Пусти, Христа ради, жить у тебя в амбаре». Брат пустил, и когда нагрянули неласковые гости с наганами, отец уже был бедняк-бедняком, и его не тронули.
От голода умирали миллионы, но упоминание о нём было объявлено антисоветской агитацией и каралось десятилетним лагерным сроком. Был установлен строгий контроль за тем, чтобы информация о голоде не просачивалась за границу. Заезжим «розовым» либералам умело пускали пыль в глаза, так что обласканный Бернард Шоу назвал СССР «государством будущего». А Анри Барбюс объявил слухи о нехватке продовольствия в стране «вражескими измышлениями», Сталина же охарактеризовал так: «Лучшее в судьбе русского народа находится в руках человека, с головой учёного, лицом рабочего, в одежде простого солдата».[521]
Деревня вымирала, а экспорт зерна в Европу продолжался. В 1930 году было вывезено 48 миллионов пудов, в 1931 — 51, в 1932 — 18, даже в самом страшном 1933 — 10 миллионов.[522] Необходим был приток валюты, чтобы оплачивать закупаемые на Западе машины, станки, приборы, турбины, целые заводы. Пятилетний план по индустриализации призывали выполнить за четыре года. В ажиотаже начали продавать даже антикварные редкости, картины из коллекции Эрмитажа, старинные иконы.
Маркс не предупредил своих последователей о том, что, отказавшись от права частной собственности и рынка, они утратят возможность измерять и контролировать объёмы промышленного производства. Без наличия денежных единиц учёту поддавались только простейшие отрасли: добыча угля, нефти и руды, выплавка чугуна и стали, заготовки кирпичей и цемента, лесоповал. Любое усложнение ставило командную плановую экономику в тупик. Единственная внятная команда, выпускаемая соответствующими наркоматами, была «больше и быстрее».
Но «больше» — в каких единицах?
Планы заводов, выпускающих стальной прокат самого различного профиля, задавались в тоннах. Поэтому любое улучшение конструкций, приводящее к уменьшению их веса, грозило заводу «невыполнением плана». Применение прогрессивных облегчённых сплавов грозило тем же, и от него бежали как от огня.
Увеличивалась протяжённость железных дорог. Но по какому показателю можно вычислять выполнение плана железнодорожниками? По объёму перевозок? Тогда нужные тонно-километры можно добывать, загрузив вагоны до крыши и везя их за тысячу километров, не обращая внимания на то, что эти грузы нужнее в ближних городах.
Строились мощные гидроэлектростанции, но поблизости от них ещё не было промышленных объектов, готовых использовать производимую электроэнергию. Неважно, об этом пусть болит голова у плановых отделов других наркоматов. Наше дело сдать объект раньше срока и рапортовать об очередной победе социалистического способа производства.
Когда строился Беломоро-Балтийский канал, земляные работы осуществлялись заключёнными лагерей. Их труд измерять было несложно: перевезёт бригада заданное число тачек грунта за смену — получит питание с надбавкой (так называемая «котловка»). Когда обнаружилась нехватка инженеров-геодезистов, на помощь пришло ГПУ: арестовало несколько сотен дореволюционных специалистов и отправило их трудиться на «великой стройке социализма». Канал был закончен раньше срока, пропаганда трубила об очередной победе, но не упоминала о том, что глубина и ширина на многих участках оказались меньше запланированных. Тридцать лет спустя мы с друзьями проплыли по этому каналу на небольшом лесовозе, и капитан, взявший нас на борт, честно сообщил, что для морских судов он по-прежнему непроходим.
Исследователи, идолизирующие рациональное начало во всём происходящем, выстраивают такую модель: да, голод в деревне был организован намеренно, но это было необходимо для того, чтобы бегущие в город крестьяне обеспечили исчерпывающий ресурс дешёвой рабочей силы для промышленных предприятий. Однако они забывают, что социалистическая система планирования изначально иррационально ненасытима. Она нацелена только на бесконечное наращивание производства товаров и услуг независимо от того, есть на них спрос или нет, готовы ли другие отрасли использовать производимое или оно останется ржаветь на задворках, гнить на складах.
Следует помнить, что в течение целой декады ряды партийной иерархии, по указаниям вождя, пополнялись исключительно близорукими. Оказавшись на посту заводского парторга, такой выдвиженец должен был требовать у своего планового отдела поквартальных отчётов о выполнении плана. Естественно, оставшиеся в руководящем слое дальнозоркие должны были спрашивать у него: «Но в каких единицах мы должны измерять выполнение? Наш завод выпускает электромоторы, различающиеся по мощности, габаритам, весовым и монтажным характеристикам — больше ста различных моделей. Должны ли мы докладывать об их изготовлении по суммарному числу выпущенных единиц, или по общей мощности, или по весу, или по какому-то другому параметру?». Партийный секретарь не знал, что им ответить и, на всякий случай, писал донос в ГПУ о том, что на его предприятии затаились саботажники-вредители, тормозящие выполнение плана.
Так как Маркс ошибаться не мог, возникла необходимость искать виновных в буксировании плановой системы управления хозяйством. Процессы над «вредителями» начались уже в 1928. Конечно, жертвами их в первую очередь становились инженерно-технические работники, учёные, люди с образованием. Ведь товарищ Сталин объяснил, что с прогрессом социализма классовая борьба будет только обостряться, потому что эксплуататорские классы будут усиливать сопротивление.
Первым состоялся открытый суд над группой инженеров Донецкого угольного бассейна, так называемое «Шахтинское дело». Вредителями оказалось удобно объяснять и провалы в сельском хозяйстве. С 1928 по 1933 год имело место катастрофическое снижение поголовья скота: число лошадей уменьшилось с 32 миллионов до 17, крупного рогатого скора — с 60 до 33, свиней — с 28 до 10 и т. д.[523] В этом обвинили учёных-бактериологов во главе с профессором Каратыгиным — на закрытом суде всех приговорили к расстрелу. Так же закончился суд над работниками пищевой промышленности во главе с профессором Рязановым, обвинёнными в создании голода, — 48 расстрелянных. Вредительство в сфере планирования было приписано группе бывших меньшевиков.[524]
Планы пятилетки оказались провалены по всем основным показателям. Производство чугуна — 6 миллионов тонн вместо намеченных 17, нефти — 21 вместо 45, тракторов — 49 тысяч вместо 170, автомобилей — 24 тысячи вместо 200. Здесь одними «вредителями» дело не обошлось, пришлось привлекать «зарубежных врагов, засылающих шпионов». В 1934 году была осуждена и расстреляна группа работников Сибирского металлургического завода за «шпионаж в пользу Японии».[525]
Здесь будет уместно вернуться к началу данного фрагмента и вновь задаться вопросом: «Можно ли считать Сталина умным?». Как мы должны оценивать руководителя страны, который, нацелившись на подъём сельского хозяйства, начинает с того, что высылает и расстреливает два миллиона лучших крестьян? А нацелившись на индустриальный прогресс, уничтожает слой за слоем лучших образованных специалистов?
Может быть, к разгадке этого парадокса нас сможет приблизить эпизод из революционного прошлого Кобы. Каменев, находившийся вместе с ним в Туруханской ссылке, вспоминал один разговор. Во время совместного ужина зашла речь о том, что доставляет наибольшее удовольствие в жизни. Кто-то говорил о женщинах, кто-то об искусстве, кто-то о борьбе за освобождение пролетариата.
— Нет, — сказал разомлевший от вина Сталин. — Главное удовольствие: выбрать жертву, тщательно разработать план мести минута за минутой, осуществить её и отправиться спать.[526]
Примечательно начало этого застольного признания: «выбрать жертву». Вопрос «за что я мщу?» не возникает. Все кругом враги, все так или иначе заслуживают возмездия. Сотрудники ГПУ и НКВД иногда не без гордости роняли шутку: «Был бы человек, а дело на него найдётся».
Думаю, это даёт нам право предложить такую формулу:
Иосиф Джугашвили, он же Коба-Сталин, обладал умом цепким, способным хранить огромные объёмы информации. Но при этом его мозг был безнадёжно перегружен планами мести. Мести всем и за всё. У него просто не оставалось клеток, которые могли бы сравнивать выгоды и опасности разных решений, отличать правильные от неправильных, выполнимые от невыполнимых. Наилучшим решением в его глазах было то, которое обещало наиболее полное утоление жажды мести.
Вспомним: «Правильно то, что я говорю сегодня». А когда жизнь ставила его лицом к лицу с очередным поражением, результат был только один: напряжённый поиск того, кто заплатит за это поражение, кто станет очерёдной жертвой его мести. Единственное, что русско-грузинский фараон сумел произвести к 1934 году, причём в невероятных количествах — это СТРАХ. Страх сковал страну, но он же сыграл роль цемента, на котором держалась государственная постройка. Традиционный «страх Божий» растворился, исчез рядом со страхом перед обожествлённым вождём.
Исчезли также понятия «вины» и «невиновности». Карающий меч мог упасть на любого. А разве не так ощущал Бога праведник Иов? «Он губит и непорочного, и виновного; если этого Он поражает бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается; Земля отдана в руки нечестивых, лица судей её Он закрывает» (Иов, 9:22–24).
Любой из миллионов мучеников, ставших жертвой великого душегуба, согласился бы, что портрет, набросанный Иовом, вполне подошёл бы и «вождю мирового пролетариата».
В подражание Колизею
Наступление индустриальной эры требовало пересмотра многих экономических теорий. Специалисты должны были признать, что их вера в универсальную благотворность рынка, способного рано или поздно выправлять любые огрехи, дала сильные трещины. Да, разорение отсталого промышленного предприятия можно было считать положительным фактором в жизни хозяйственной системы. Но тысячи уволенных при этом работников оказывались лицом к лицу с нищетой, голодом, даже гибелью. Необходимо было принимать какие-то меры, и все проекты, нацеленные на борьбу с этими кризисными явлениями, неизбежно окрашивались чертами социализма. Пособия по безработице, права профсоюзов, обязанности нанимателей по отношению к своим работникам — всё это становилось темой жарких политических дебатов в Европе и Америке.
Меры, принимаемые для решения этих проблем итальянским фашизмом, вызывали горячий и часто сочувственный интерес. Можно ли пойти навстречу требованиям времени и при этом избежать трагических конфликтов, происходящих в СССР? Муссолини имел возможность опираться на искреннюю поддержку широких кругов в своей стране и за рубежом. Естественно, он не хотел выглядеть слишком явным пособником капитализма, в своих выступлениях и поведении постоянно изображал себя другом трудового народа. Как и Сталин, он не боялся противоречить самому себе. Поэтому на него могли ссылаться, от него могли ждать поддержки люди диаметрально противоположных политических убеждений.
Защитники частной собственности вздохнули с облегчением, когда убедились, что новый режим не покушается на права землевладельцев, не вводит контроль арендной платы, облегчает налоги, подавляет забастовочное движение, не грозит конфисковать барыши военного времени, как это собиралось сделать предыдущее демократическое правительство. С другой стороны, централизация власти позволила направлять большие средства в осушение болотистых территорий, в создание новых ферм и поселений, в распределение новых земельных участков среди сельской бедноты. Самая ранняя правительственная программа называлась «Зелёная революция», она была также известна как «Битва за хлеб». Её рекламные материалы часто украшались фотографиями дуче, обнажённого по пояс, подтаскивающего снопы к молотилке или размахивающего косой. Позднее была запущена «Комплексная мелиорация земель», давшая стране за 10 лет более 7700 тысяч гектаров пахоты.[527]
Первым министром финансов фашистского режима стал профессор экономики Альберто де Стефани. Он работал с таким энтузиазмом, что спал в кабинете и садился к столу в пять утра. Впервые за много лет ему удалось резко уменьшить бюджетный дефицит на 13 миллионов лир. Другие фашистские лидеры успешно боролись с убыточностью железных дорог и почтовой службы.[528] Первое в Европе автомобильное шоссе от Милана до Женевского озера было завершено в середине 1920-х.
В предыдущей главе перечислялись достижения Италии в строительстве школ, больниц, мостов, электростанций. Конечно, при отсутствии свободной прессы, пропаганда могла безудержно раздувать цифры успехов и трубить о победах. На самом деле развитию экономики сильно мешали бюрократизация и коррупция дорогостоящего аппарата фашистской системы. Попытки министра Де Стефани взимать налоги и с привилегированной элиты вызывали её раздражение, и, в конце концов, ей удалось свергнуть слишком честного министра.[529]
Настоящей новацией в экономике явилась итальянская схема корпоративной организации промышленного производства. В каждой области создавались управляющие органы, в которые входили и наниматели, и рабочие. В 1927 году была обнародована «Хартия труда», провозглашавшая создание корпоративного государства, в котором стачки и другие формы борьбы пролетариата объявлялись уголовным преступлением. Первая статья гласила: «Итальяснская нация является организмом, цели, жизнь и методы существования которого значат больше, чем цели и жизнь отдельных лиц и групп. Она представляет моральное, политическое и экономическое единство и целиком осуществляется в фашистском государстве».
Во имя «общих национальных интересов» соответственно основным отраслям экономики были созданы 22 корпорации, объединявшие в своих рядах предпринимателей, профсоюзы и всех трудящихся. Декларировалась политика «классового сотрудничества». Примечательно, что впоследствии аналогичную систему ввёл в Югославии коммунист Тито, и она худо-бедно работала почто сорок лет в стране, насыщенной этническими противоречиями и враждой.[530]
В 1929 году Муссолини объявил, что с прежним антогонизмом между капиталом и трудом покончено. Профсоюзы стали частью фашистской системы, их лидеров не выбирали рядовые члены, а назначали партийные боссы. Предприниматели подчинялись диктату режима, который гарантировал им надёжную рабочую силу. Самовольный уход с работы объявлялся преступлением, подлежащим наказанию. Они даже соглашались нанимать в первую очередь тех, кого рекомендовала фашистская партия.
В отличие от Советской России, Муссолини делал главный упор на усиление и развитие сельского хозяйства. Индустриализация в значительной степени двигалась вперёд усилиями частного капитала. Возможно, воспоминания о неделях голода, пережитого им в окопах Первой мировой войны, склоняли его смотреть на производство продовольствия как на важнейший аспект усиления обороноспособности страны. Он также не был склонен поощрять переселение крестьян в города, которые он объявлял «паразитическими структурами, оказывающими пагубное влияние на всё».[531]
Официальная пропаганда, по распоряжению дуче, даже начала фальсифицировать данные переписи населения, отражавшие быструю урбанизацию страны. Нет, Рим не должен стать промышленным центром! Его роль — быть столицей великой империи! Но потом начался перекос в другую крайность, и большие средства потекли в улучшение городского транспорта, электро- и водоснабжения, расширение сети больниц и клиник.
Муссолини с гордостью перечислял нововведения, сделанные для рабочих: восьмичасовой рабочий день, оплаченные отпуска, компенсации по болезни, пенсии по старости, выплаты за материнство. Конечно, мы всегда должны делать скидку на пропагандистский запал. Но даже такой глубокий писатель как Альберто Моравиа, натерпевшийся в своё время от фашистской цензуры, впоследствии находил много добрых слов о реформах дуче. «У него было дремучее непонимание внешнеполитических проблем. Если бы его внешняя политика была такой же умной, как внутренняя, то, думаю, он остался бы у власти».[532]
Престиж Италии сильно поднялся после примирения фашизма с Ватиканом. В течение столетий папский престол в Европе служил традиционным арбитром между христианскими монархами, играл примерно ту же роль, какая сегодня выполняелся Организацией объединённых наций. Даже русский православный царь Иван Третий считал необходимым отвечать на послания из Рима и оправдывать свои действия против католической Польши, которая покушается на «мою вотчину — Смоленск».
Сильное ужесточение режима началось, когда секретарём фашистской партии стал Акилле Стараче. Он примкнул к движению с самого начала и считал себя верным последователем Муссолини. Ему приписывают разворачивание антисемитской кампании в 1938 году, а также кампании против буржуазии. Как и дуче, он был впоследствии казнён в Милане в апреле 1945 года.
Детство и отрочество многих итальянских писателей и кинорежиссёров, прославившихся в послевоенные годы, пришлись на двадцатилетие фашистского правления. Эта эпоха по-разному воспроизведена в их творчестве. Коммунист Паоло Пазолини, создавший в конце жизни страшнющий фильм «Сто двадцать дней Содома», не показал в нём палачей в фашистской форме, но чётко указал, кого он имеет в виду, дав фильму второе название: «Салó». (Так назывался городок на севере Италии, который Муссолини сделал своей столицей в период 1943–1945).
Левые взгляды режиссёра Лины Вельтмюллер вполне вписывались в сюжетную канву её фильма «Любовь и анархия», герои которого в перерывах между страстными объятиями готовят убийство Муссолини.
В фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» фашисты изображены безжалостными идиотами, но и коммунисты порой ведут себя немногим лучше.
Федерико Феллини смотрит на эпоху 1930-х чаще с иронией, чем с осуждением. В фильме «Амаркорд» фашисты избивают местного бизнесмена, вливают в него касторку. В другой раз палят из пистолетов по колокольне, из которой загадочным образом раздаются звуки «Интернационала». Но на экране доминируют ностальгические воспоминания о юности, и в них чёрные рубашки и портупеи выглядят скорее костюмами маскарада.
В фильме Витторио де Сика «Чочара», по одноименному роману Моравиа, носителями ужаса выступают не столько немцы и итальяснские фашисты, сколько сама стихия войны, которая обрушивает на мать и дочь сначала бомбы с американских самолётов, бомбящих Рим, а потом бросает в руки арабских солдат, пришедших в Италию вместе с союзниками, которые насилуют обеих героинь. В другом его фильме «Сады Финзи Контини» изображены преследования и аресты евреев.
Режиссёр Франко Дзеффирелли в своём автобиографическом фильме «Чай с Муссолини» представляет дуче вполне разумным человеком, умеющим вести себя в приличном обществе, а чернорубашечников — стражами порядка, с трудом удерживающими в рамках непредсказуемые взрывы итальянских страстей.
Но каковы бы ни были свидетельства современников, историку, вглядывающемуся в ушедшую эпоху, важно помнить много раз подтверждённое правило:
Диктатор опережает соперников в борьбе за власть главным образом потому, что его жажда самоутверждения во много раз превосходит средний уровень. Когда он подчинит своей абсолютной власти всех жителей страны, его взор неизбежно начнёт искать объекты для покорения за её пределами.
А что могло послужить таким объектом для Муссолини?
На севере Италия граничила с Францией и Швейцарией, нападать на которые силёнок ещё не хватало. В Испании политическая обстановка грозила непредсказуемым взрывом, что требовало повышенной осмотрительности. Австрия явно являлась главным объектом покорения для другого диктатора, стремительно набиравшего мощь. Страны на восточном берегу Адриатического моря — Югославия, Албания, Греция — представлялись плохо защищёнными, но любая агрессия против них вызывала бурные протесты Лиги Наций, которая и так уже начала облагать Италию карательными экономическими санкциями.
Для расширения империи оставалась только бескрайняя Африка. И разве не с неё начал свои завоевания Наполеон?
Тем более, что в ней уже имелся захваченный плацдарм — Ливия и Сомали. Однако все остальные территории принадлежали крупным колониальным державам. Единственным просветом сияло последнее независимое государство — Абиссиния (Эфиопия). Ей-то и было суждено стать жертвой новоявленного итальянского Бонопарта в 1935-36 годах.
Начало Тысячелетнего рейха
Жительница Берлина поделилась с русской журналисткой воспоминаниями о временах, когда Гитлер пришёл к власти.
«Знаете, что творилось в Германии до 1933 года? Хаос, кризис, безработица. На улицах бездомные. Многие голодали. Инфляция такая, что моя мама, чтобы купить хлеб, брала мешок денег. Не сумку, а настоящий маленький мешок с ассигнациями. Нам казалось, что этот ужас никогда не кончится. И вдруг появляется человек, который останавливает падение Германии в пропасть. Я очень хорошо помню, в каком мы были восторге в первые годы его правления. У людей появилась работа, были построены дороги, уходила бедность».[533]
Улучшение экономической ситуации в Германии 1933-34 годов не было связано с какими-то прогрессивными реформами, проводимыми новым режимом. Первая мировая война не оставила тяжёлых ран на теле страны, она протекала, в основном, за её пределами. Гражданской войны удалось избежать. Социальная структура государства не была разрушена, индустриальный потенциал сохранился. Также сохранился многомиллионный слой профессиональных администраторов и менеджеров. Чего недоставало — прочной иерархической структуры привычного единовластия. Хаос демократического правления Веймарской республики оказался непосильным и разорительным бременем. Нацисты покончили с ним, и все шестерёнки государственной машины нашли друг друга и завертелись в привычном темпе.
Сам Гитлер уделял мало внимания конкретным проблемам управления. Его кабинет министров собирался в 1935 году 12 раз, в 1937 — шесть, а после 1938 года перестал собираться вовсе.[534] Дела велись причудливым порядком. Глава министерства или крупный администратор пытались поймать фюрера в хорошем настроении, изложить свою идею, получить его одобрение и потом выдавать собственный план за приказ, полученный от верховного правителя.
Расписание дня Гитлера оставляло мало пространства для встреч с соратниками. Он появлялся из своей спальни около двух часов дня, прочитывал обзор новостей, подготовленный для него пресс-секретарём, и садился за ланч. Потом следовала прогулка. Если он находился в своей горной резиденции, то шёл обязательно вниз, а там его и его спутников подхватывали автомобили и возвращали в особняк. Вдоль дороги часто стояли восторженные поклонники, специально приехавшие, чтобы взглянуть на боготворимого лидера. Почти каждый день завершался обязательным просмотром кинофильма, предпочтительно — комедии.[535]
Совсем по-другому Гитлер относился к подготовке своих речей. Он запирался в кабинете и диктовал машинисткам фрагменты, которые потом корректировал и монтировал в нужном порядке. Он мог вечер за вечером заниматься этим допоздна.[536] Некоторые слушатели потом находили в композициях его речей сходство с сюжетными ходами опер Вагнера: лирическая нерешительная увертюра в начале, нарастание драматизма и угрозы, яростная схватка светлых и тёмных сил, торжествующий победный финал.
Курт Людеке в своих воспоминаниях описал первое впечатление от услышанной им речи Гитлера.
«Он держал меня и всю аудиторию загипнотизированными силой своей убеждённости… Его призыв к германскому мужеству звучал как боевой клич, как священная истина нового откровения. Моё радостное возбуждение было сравнимо только с религиозным обращением. Я обрёл своего вождя и своё служение».[537]
Многие исследователи пытались искать источники убеждений Гитлера и называли разных авторов, прочитанных им к тридцати годам. Историк Кох-Хиллербрехт утверждает, что книгу Густава Лебона «Психология народов и масс» будущий фюрер прочёл страницу за страницей.[538] Действительно, в речах и писаниях Гитлера многое перекликается с идеями французского мыслителя, который писал:
«Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь судьбы наций…
Массы всегда обратятся к тем, кто будет говорить им об абсолютных истинах, и отвернутся от других. Чтобы быть государственным человеком, нужно уметь проникать в душу толпы…
Догматы, только что нарождающиеся, скоро получат силу старых догматов… Божественное право масс должно заменить божественное право королей…
Обращайтесь дурно с людьми, сколько вам угодно, убивайте их миллионами, вызывайте нашествия за нашествиями, и всё вам будет прощено, если вы обладаете достаточной степенью обаяния в глазах толпы и талантом для поддержания этого обаяния».[539]
Лебон писал свою книгу в конце 19-го века, когда ещё не были запущены в производство изобретения, позволяющие объединять не тысячные, а миллионные массы. В 1920-х годах все они появились одно за другим: микрофон, громкоговоритель, радио, кинохроника, стадион. И все предвиденья французского мыслителя начали воплощаться к изумлению европейской элиты. Она была просто ошеломлена происходящим. Привыкнув жить в иллюзии, что им известно, как вести народ к «светлому будущему», образованные люди были ошарашены готовностью и страстью, с которой народы ринулись за лозунгами площадных демагогов.
Материальное благополучие немецкой нации не казалось Гитлеру достаточно важной целью. Оно должно было произойти само собой как результат его гениальных политических озарений. Чем он хотел осчастливить немцев — это перестройкой их городов. Ещё до прихода к власти он сочинял планы реконструкции Берлина, Мюнхена, Нюрнберга. Веймар должен был быть украшен громадными зданиями, на берегу Химзее планировался университет партии, в Брауншвейге — академия для руководителей гитлерюгенда, в Лейпциге — фонтан с памятником Вагнеру, гипсовая модель которого уже стояла в мастерской скульптора.[540]
Большое внимание уделялось проектам, которые должны были показать всему миру успехи возрождённой Германии. В 1936 году начал трансатлантические полёты самый большой в мире дирижабль «Гинденбург», способный перевозить до сотни пассажиров и тонны груза. С большим успехом прошла в Берлине Олимпиада 1936 года. Тысячи приехавших зрителей могли увидеть мирную благополучную страну, открытую дружеским отношениям с соседями, населённую приветливыми людьми с вполне цивилизованными манерами. Антисемитские акции на время Олимпиады приказано было не проводить, людей на улицах не избивать, стёкла магазинов не бить.[541]
Без лишнего шума проходило мощное перевооружение армии. В обход и в нарушение положений Версальского договора, изготавливались истребители и бомбардировщики, подводные лодки и крейсера, танки и гаубицы. Экономика захлёбывалась, не могла справиться одновременно с военными нуждами и с продовольственными проблемами. Министр финансов Шахт призывал к замедлению гонки вооружений, но Гитлер не хотел обсуждать экономические вопросы.[542] Он часто цитировал слова Фауста: «Люблю я невозможного желать». Только в устремлении к невозможному, считал он, проявляется настоящий дух избранника богов, непостижимый для бюргерского сознания, только он способен быть так уверен в правильности всех своих решений.[543]
Нацисты сохранили частную собственность и рынок, но на этом рынке главным финансовым игроком сделалась невероятно разросшаяся бюрократическая машина государства. Она не была ограничена в своих аппетитах строгими правилами, границы между ней и свободной экономикой были размыты, что открывало бескрайние возможности для коррупции, взяточничества, прямых хищений. Партийные лидеры и местные гауляйтеры окружали себя роскошью, и их фюрер не делал серьёзных попыток призывать к экономии, наоборот, давал пример расточительности. Вдобавок к роскошным квартирам в Берлине и Мюнхене, он превратил своё альпийское поместье в Оберзальцбурге в особняк достаточно обширный, чтобы принимать иностранные посольства. К его услугам всегда был готов отдельный поезд из одиннадцати вагонов со спальными купе, несколько лимузинов и три частных самолёта.[544]
Расточительство и бесхозяйственность вскоре привели к подскоку безработицы, нехватке хлеба, жиров, мясных продуктов, росту недовольства в трудовых слоях. Чтобы преодолеть экономическую неурядицу, фюрер решил последовать примеру ненавистных большевиков и в конце 1936 года объявил о введении четырёхлетнего плана развития. Главными целями этого плана было снижение импорта продовольствия за счёт укрепления национального сельского хозяйства, чтобы иметь возможность тратить валюту только на закупки того, что было необходимо для военных целей: железная руда, нефть и нефтепродукты, алюминий, искусственный и натуральный каучук.[545]
По мере укрепления абсолютной власти Гитлера всё заметнее делалась та черта его характера, которую подметил уже друг юности Кубицек: гневливость. Он мог впадать в бешенство по самому неожиданному поводу. Один из современников вспоминал: «Черты лица фюрера искажались до неузнаваемости, он выкрикивал во всё горло самые грязные ругательства и барабанил кулаками по столу или по стене. Приступ прекращался так же внезапно, как начинался».[546]
Если Сталин больше всего на свете любил «мстить», то Гитлер, похоже, больше всего любил наводить страх. Стать серьёзной угрозой для соседних народов и их лидеров, всех этих Чемберленов, Блумов, Бенешей, делалось его «мечтой о невозможном» и предопределяло политические решения и поступки. Строительством великолепных зданий и стадионов можно было изумлять, но невозможно нагнетать страх. В мировой истории он легко находил знаменитые фигуры, которых мог зачислять в свои предшественники. «Чингизхан сознательно и со спокойным сердцем обрёк на смерть миллионы женщин и детей. Однако в истории он остался только как создатель великой империи», говорил он.[547]
Неизвестно, попадалась ли этому знатоку и любителю живописи репродукция с картины русского художника Верещагина «Апофеоз войны». Но похоже, что примериваясь к посмертной славе, он всё больше уверялся в том, что самыми долговечными оказываются пирамиды не из камня, а из человеческих черепов.
Большой скачок в борьбе с воробьями
Лена Дин-Савва имела право считать своё рождение в Москве 1937 года счастливой случайностью. Её родители, китайские коммунисты, учившиеся в Университете для трудящихся Востока, не планировали заводить ребёнка. Они рвались на родину, сражаться в рядах армии Мао Цзедуна и уже подали необходимые документы в больницу, чтобы избавиться от досадной помехи. Но вмешались исторические события, которые были вне их контроля.
Дело в том, что в СССР в 1936 году готовилась к публикации очередная перепись населения. К изумлению и огорчению «кремлевского горца», цифры её показали, что под его «гениальным» руководством число граждан страны сильно уменьшилось. Он решил принять срочные меры. Во-первых, приказал расстрелять «вредителей», проводивших «неправильную» перепись и подготовить новую, исправленную, которая и была опубликована только в 1939 году. Во-вторых, издал указ, запрещающий аборты. Поэтому родители Лены, придумывая имя для новорождённой девочки, включили в него слова «Син-Лин», что в переводе на русский означает «Новый указ».[548]
Лена росла в России, в интернате для детей иностранных коммунистов. С матерью она впервые встретилась тринадцатилетней, когда приехала вместе с другими детдомовцами в Китай. Родным языком для неё был русский, жизнь в новой стране одновременно манила и пугала. Может быть, поэтому её взгляд на происходившее в Китае остался непредвзятым, несмотря на все усилия политической индокринации, которой подвергали «репатриантов». В конце концов, ей удалось эмигрировать в США, где она написала и опубликовала книгу воспоминаний об эпохе «Большого скачка» и «Культурной революции», на которую я буду часто ссылаться.
В середине 1950-х в Китае шёл процесс объединения крестьян в коммуны. Он протекал с применением тех же методов, какие использовались в СССР при коллективизации. Упиравшихся и отказывавшихся могли избить, выгнать из дома на мороз, лишить запасов, сделанных на зиму. В некоторых областях деревенские дома разрушали и из их обломков строили бараки, в которые переселяли семьи новых «коммунаров».[549] Ради выполнения непосильных государственных поставок зерна деревенским жителям приходилось сокращать усилия по заготовке кормов, и это привело к беспрецедентному падежу скота. Дойдя до отчаяния, люди пытались убежать в город, но на все перемещения был наложен строгий запрет. Даже на поездку в соседнее село требовалось разрешение местной администрации. Участились случаи самоубийств.[550]
Похоже, что в голове Мао Цзедуна и других коммунистических лидеров глубоко укоренилась вера в то, что правильная мобилизация больших народных масс может делать чудеса. Решено было отправлять большие трудовые отряды горожан в сельские районы. Лена Дин, будучи студенткой, попала в один из таких отрядов. Их труд сводился к переноске огромных количеств земли без ясно поставленной цели. Под тяжестью коромысла с двумя корзинами грунта непривычные молодые люди за день изматывались так, что с трудом могли заставить себя подняться наутро. Раз в два дня приезжал грузовик и увозил совсем обессилевших обратно в город.[551]
«Это называлось трудовой закалкой, — вспоминает Лена. — Ещё мы участвовали в строительстве хранилищ для капусты. Нужно было спешить, чтобы убрать урожай с полей до заморозков. Опытные крестьяне пытались объяснять нашим руководителям, что капусту нельзя сваливать в кучи, потому что кочаны раздавят друг друга и начнут гнить. Но поставленные партией бригадиры требовали только быстрых темпов уборки и не хотели слушать никаких советов. Через две-три недели из хранилищ пошла такая вонь, что нельзя было нормально дышать. Гнилую капусту пришлось выгружать из хранилищ и вывозить в поля в виде удобрений. Крестьяне со слезами на глазах смотрели на такое безумство».[552]
Транспортировка и хранение сельскохозяйственной продукции оставались чёрной дырой в экономике любой коммунистической страны. Эти два процесса не вписывались в марксову схему производства, их нельза было спланировать и контролировать, поэтому тонны продовольствия гибли, не преодолев путь от поля до кастрюли хозяйки. Молоко, ждущее перевозки в неохлаждённых помещениях, скисало, консервные заводики не справлялись с урожаем помидоров, и они растекались красными лужами под колёсами стоящих в очереди грузовиков, зерновые не удавалось вовремя перевезти от молотилки до мельницы. Аналогичные проблемы существовали и в СССР. Вспоминаю овощехранилища в Москве 1970-х, куда нас по весне посылали выгребать сгнивший за зиму картофель.
Возникла необходимость находить виновных в буксовании сельского хозяйства. Одними из первых оказались воробьи. Вот кто склёвывает урожай прямо с колосьев! По всей стране началась охота за несчастными птицами. Их ловили сетями, травили всевозможными ядами. В кинохронике показывали грузовики, заваленные гирляндами дохлых воробьёв, нанизанных на прутья. Было объявлено социалистическое соревнование по истреблению опасных вредителей, чемпионов награждали грамотами и прославляли.
На фронте индустриализации главная задача тоже должна была быть решена при помощи энтузиазма масс. Мао объявил, что если каждый крестьянин у себя во дворе построит небольшую доменную печь и начнёт выплавлять сталь и чугун, шестисотмиллионный Китай скоро обгонит все капиталистические страны. Новая кампания покатилась по стране, как опустошительный пожар. Самодельные плавильни требовали огромное количество древесного угля, они пожирали миллионы деревьев, оставляя склоны холмов открытыми эрозии. В дело шли даже фруктовые деревья, деревянные амбары, домашняя мебель.
Также не было дано ясных указаний о том, где брать руду для металлургического скачка. В городах требовали собирать металлолом для переплавки. В деревнях металлических отходов не было, и крестьян заставляли бросать в печи вилы, лопаты, подковы, грабли, топоры, молотки, вёдра, мотыги колючую проволоку, гвозди, замки.[553] «Крестьяне не хотели кидать в печи свой сельскохозяйственный инвентарь, — вспоминает Лена Дин-Сава. — Тогда студенты из трудовых отрядов пошли собирать металл в их дворы и дома, вынимали котлы из печей и посуду из шкафов. Происходил грабёж среди бела дня».[554]
После доклада Хрущёва о Сталине и резкого охлаждения отношений с Советским Союзом вину за хозяйственные беды стало удобно сваливать на бывшего союзника. Тех, кто запаздывал присоединиться к новой кампании, клеймили ярлыком «ревизионист» и требовали срочного признания своих ошибок. Летом 1959 года генерал Пэн Дэхуай, герой Корейской войны, посмел написать письмо «великому кормчему», критикуя его политику «Большого скачка». Возмущённый Мао Цзедун объявил его «правым ревизионистом», обвинил в раскольнической деятельности, добился на пленуме ЦК осуждения и снятия с поста военного министра.[555]
В 1960 году народные бедствия, порождённые политикой коммунистических лидеров, усугубились разгулом стихий. Сначала случилась засуха, какой страна не знала с начала века. Она погубила посевы на огромных площадях. А потом начался сезон дождей и тайфунов, реки вышли из берегов. Хлипкие дамбы, наспех построенные с нарушением всех инженерных норм, не выдерживали напора, рушились, и вода заливала посевы. На половине обрабатываемой земли урожай либо сгорел, либо оказался затоплен.[556]
Начался такой голод, какого не могли припомнить даже глубокие старики. Измождённые люди бродили по дорогам и лесам в поисках пропитания. Обдирали листья и кору с деревьев, собирали червей, жуков и лягушек. Возобновилась охота на воробьёв — но теперь для того, чтобы сворить из них суп. В некоторых областях люди осушали пруды и собирали на дне улиток, ракушки, водяных змей, жаб.[557]
Началось массовое бегство в города, охватившее почти 10 миллионов человек. Многие не смогли достичь цели, умирали по дороге. Один житель северо-восточных районов вспоминал: «Весь путь от нашей деревни в город был устлан трупами. При этом из придорожных рвов доносились пронзительные детские вопли… Многие родители думали, что у их чад будет лучший шанс выжить, если их кто-нибудь подберёт. Рвы были достаточно глубокими, так что дети не могли из них выбраться, но их было хорошо видно с дороги, и некоторые прохожие могли и впрямь подобрать кого-нибудь».[558]
Пропаганда не скрывала масштабы бедствия, так как теперь его можно было свалить на разбушевавшуюся природу. Мао Цзедун объявил, что он перестаёт есть мясо из солидарности с голодающими, его примеру последовал Чжоу Эньлай и другие лидеры. И главное: в ноябре 1960 года ЦК выпустил директиву, разрешающую членам сельских коммун пользоваться небольшими приусадебными участками, выращивать на них овощи и заниматься подсобными промыслами.[559]
Необходимость хозяйственных реформ постепенно проникала в сознание коммунистических руководителей. В 1961 году было разрешено отдельным семьям работать не на общих полях коммуны, а как бы арендовать у неё участок и работать на нём «подрядным методом». В конце сезона аренда оплачивалась оговоренной частью урожая, а остаток семья могла считать своей собственностью.[560] По сути, это напоминало переход от барщины к оброку, который применялся во времена крепостного права.
Мера оказалась настолько эффективной, что положение с продовольствием в стране стало заметно улучшаться. Многие члены Политбюро, включая Лю Шаоци, Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина, призывали активно расширять её и внедрять повсеместно.
«Это чрезвычайный метод в чрезвычайной ситуации, — аргументировал один из самых радикальных реформаторов. — Назовите его разделением земли по дворам или закреплением заданий по дворам, смысл будет один и тот же. Государство столкнулось с колоссальными бедствиями, вызванными как стихией, так и людьми, и надо дать всем крестьянам… добиться успеха, как поётся в Интернационале, “своею собственной рукой”.»[561]
Но против новой кампании вдруг яростно восстал Мао Цзедун. В июле 1962 года он повёл громкую атаку на неё с трибуны и в печати. «Вы за социализм или за капитализм? — кричал он своим оппонентам. — Многие выступают за введение подрядной системы в масштабах всей страны, вплоть до раздела земли. Компартия выступает за раздел земли — слыханное ли дело!.. Идейная путаница зашла так далеко, что кое-кто утратил веру в коммунизм».[562]
Возможно, для Мао было неважно, улучшает подрядный метод ситуацию или нет. Он видел здесь только одно: признать, что страшный голод явился в значительной мере результатом его политики в деревне, было бы для него политическим самоубийством. К этому времени разрыв с СССР сделался окончательным, полторы тысячи советских экспертов и инженеров были отозваны на родину. Разоблачение культа личности продолжалось, это поветрие грозило проникнуть в мировое коммунистическое движение. А ведь отсюда — один шаг до свержения «мудрейших вождей» при жизни. Нет, этого нельзя было допустить. 18 июля ЦК срочно издал циркуляр, запрещающий пропагандировать семейный подряд. Крестьян, успевших ступить на новый путь, ждала та же судьба, которая выпала на долю откликнувшихся на кампанию «пусть расцветают сто цветов». А четыре года спустя начнётся месть реформаторам, которые посмели усомниться в мудрости «великого кормчего».
Горький кубинский сахар
Какая клевета — утверждать, будто коммунистические лидеры не шли в ногу с наукой в деле управления сельским хозяйством! Сталин внимательно прислушивался к советам главного хлебороба страны, академика Лысенко, а потом запустил программу лесозащитных полос по рекомендациям академика Вильямса. Мао Цзедун распахивал двери перед приезжавшими советскими агрономами и экспертами. А разве Хрущёв не пытался перенять лучшие американские достижения в деле выращивания кукурузы? Что касается Кастро, то он одного за другим приглашал иностранных специалистов, которым поручалось подвести прочную научную базу под его сельскохозяйственные мечты и озарения.
Конечно, скромный французский агроном Андре Войсон не рассчитывал на почести, какими его окружили на Кубе. Сам команданте встречал его самолёт, приземлившийся в аэропорту Гаваны в два часа ночи. Его лекции и рекомендации по устройству пастбищ были сделаны обязательным руководством для всех регионов. Когда он умер от сердечного приступа, ему были устроены государственные похороны, Кастро прославил его прощальной речью.[563]
Другой французский учёный, Рене Дюмон, возвращался на Кубу снова и снова, честно пытался понять логику сельскохозяйственных начинаний, проводимых на острове. Ему никак не удавалось расстаться с чисто научными методами отыскания связи между причинами и следствиями. Например, он пытался объяснять, что деревья на банановых плантациях умирают от того, что почва плохо осушена, а водоупорный слой содержит слишком много магнезиевых солей. В ответ он слышал, что фундаментом богатства станет преданность революционных масс делу общего преуспеяния.[564]
В отличие от товарища Сталина, разгромившего школу генетиков в своей стране, Фидель Кастро был просто зачарован возможностями, открывавшимися новой наукой. Его любимым проектом сделались попытки скрещивать разные породы коров, чтобы достигнуть невероятных удоев. Самой знаменитой стала корова, получившая прзвище Ubre Blanca — «Белое вымя». Из её молока планировалось изготавливать сыр камамбер, превосходящий вкусовыми качествами нормандский вариант. Когда корова умерла, безутешный команданте приказал сделать из неё чучело и поместить в музей. Нашёлся, правда, заезжий генетик-скептик, который объяснял, что скрещиванием можно создать одну особенную корову, но нельзя вывести новую породу. Его поспешили выслать из страны.[565]
Вера в безграничные возможности трудового энтузиазма масс была у председателя Кастро такой же сильной, как у председателя Мао. Его незаконнорожденной дочери, Алине Фернандес, довелось хлебнуть этого энтузиазма в студенческих трудовых отрядах. Она красочно описала их в своих воспоминаниях, когда ей удалось, после многих попыток, удрать с «острова свободы». «Нашу школу послали работать на плантации ананасов. На 500 человек там было всего 12 душевых кабинок, так что вскоре мы покрылись блохами и вшами. Нужно было сажать клубни, покрытые шипами. Месяцами мы горбатились там, с пересохшими ртами, обожжёнными плечами, и кожей, покрытой порезами и царапинами от колючек. Вечное чувство голода заставляло мечтать о конце работ, когда можно будет вернуться в город и наполнить желудок».[566]
В какой-то момент в голове Кастро родилась идея окружить Гавану кофейными плантациями. Немедленно тысячи рабочих были мобилизованы и отправлены трудиться над посадками. О том, чтобы предварительно исследовать почву, никто не посмел заикнуться. Она оказалась настолько непригодной, что через год все посаженные деревья захирели.[567]
Самая гигантская мобилизация трудовой энергии проводилась в 1969 году. Все на уборку сахарного тростника! Урожай в десять миллионов тонн тростника — вот наша цель! Всё остальное — на второй план! Праздники отменяются, работали и в Рождество, которое, кстати, с тех пор и не праздновалось на острове. В трудовой вакханалии должны были участвовать даже важные иностранные гости. На плантациях трудились партийные лидеры и их жёны, иностранные дипломаты, появлялся даже советский военный министр, маршал Андрей Гречко.[568]
Сахар оставался единственным продуктом, на котором государство зарабатывало иностранную валюту открыто. В предыдущей главе упоминалось активное участие в переброске наркотиков из Южной Америки в США. Были и другие источники, порой весьма неожиданные. Например — выкуп родственников. Если кубинскому эмигранту, осевшему во Флориде или в другом штате, удавалось разбогатеть, он имел возможность вступить в контакт со специально созданным кубинским учреждением «Интерконсальтант», которое разрешало кубинскому гражданину покинуть страну, при условии, что какая-то добрая душа уплатит за него 50 тысяч долларов. То же учреждение давало разрешение на брак с иностранцем — это стоило две тысячи.[569]
А нужда в долларах только возрастала с каждым годом. Расходовались они, главным образом, на закупки вооружения. Рауль Кастро без конца разъезжал по странам Восточной Европы, заключая сделки на приобретене автоматов, боевых катеров, бронемашин, гранат, вертолётов. Военные операции в странах Латинской Америки и Африки только расширялись, и всё закупленное немедленно шло в дело.
Существовали и другие статьи расходов, которые было невозможно покрыть кубинскими пезо. С момента прихода к власти Кастро не скупился на оплату политической рекламы в иностранной прессе. Приехав в Нью-Йорк на заседание ООН, кубинская делегация привезла с собой чемоданы наличных. Оттуда извлекались пачки долларов для тележурналистов NBC, которых заманивали приезжать на Кубу и делать программы о достижениях нового режима. Знаменитый французский фотограф Картье-Брессон получил 20 тысяч за серию снимков на тему «Фидель Кастро в США», которые потом перепечатывались в газетах всего мира.[570]
Если же журналист или либеральный политолог попадал в Гавану, его окружали вниманием и заботой, предоставляли номер в дорогом отеле, бесплатный транспорт, возили на курорты. И это помогало визитёру не замечать того, что в столице новой Кубы осталось только три ресторана, что на улицах больше велосипедных рикш, чем автомобилей, что морские пляжи загажены, а в гостиницах до сих пор употребляют полотенца с дореволюционных времён, на которых сохранились буквы H.H. — Hilton Hotel.[571]
Уровень жизни в стране падал катастрофически — и скрыть это было невозможно. Согласно оценке Мирового Банка, в 1952 году Куба занимала третье место среди стран Латинской Америки по экономическим показателям, уступая только Аргентине и Венесуэле. К 1981 году она скатилась на пятнадцатое.[572] Всё население получало скупые продовольственные рационы по карточкам. Карточки требовались и на многие товары ширпотреба. На человека полагалось два ярда ткани и две катушки ниток в год. Женщины делали себе платья из раскрашенной мешковины.[573]
Если бы рядового кубинца спросили «где живёт ваш лидер?», вряд ли он мог бы дать вразумительный ответ. Даже близкие люди не всегда знали, в какой из своих многочисленных резиденций он находится в данный момент. Это могло быть поместье в окрестностях Сантьяго-де-Куба или в Канделярии или особняк на 49-ой улице в Гаване. Когда он приезжал в свой охотничьий дом «Ла Вибора», какой-нибудь самолёт вооружённых сил получал приказ низко пролететь несколько раз над мангровыми зарослями, чтобы поднять в воздух утиные стаи. Для особо интимных и секретных свиданий использовался небольшой остров Кайо Педро, оборудованный всем необходимым для отдыха и развлечений.[574]
Ещё более таинственным было поместье в Барловенто. В него нельзя было попасть, двигаясь по земле, — только с моря. Об иностранных визитёрах, приезжавших туда, ничего не знала ни пограничная служба, ни Министерство внутренних дел. Именно туда прибывали для совещаний посланцы из Никарагуа, Панамы, Гренады, Чили, Венесуэлы и других латиноамериканских стран, в которых коммунизм пытался пускать корни.[575]
В подражание «Красному цитатнику» Мао, Кастро выпустил книжечку текстов под названием «Верным путём». Как и Мао, он оставался до последнего дня верным защитником идеалов марксизма. Любые попытки возврата к частному предпринимательству встречали его яростный протест. На Третьем Конгрессе компартии Кубы в 1986 году он в четырёхчасовой речи громил фермера, который успешно выращивал и продавал чеснок, а также бригаду ремесленников, догадавшихся скупать зубные щётки, расплавлять их и делать пластмассовый бисер для бус.[576]
Также он сохранял до конца жизни ту непостижимую способность подчинять людей своим чарам, о которой писал Густав Лебон. С ним искали встреч и общения такие политики, как Нельсон Мандела, Джимми Картер, Франсуа Миттеран, Сальватор Альенде, писатели Эрнст Хемингуэй, Грэм Грин, Габриэль Гарсия Маркес. Последний, навещая Кубу, получал в своё распоряжение мерседес-бенц с шофёром, номер-люкс в любом отеле, ежевечерние визиты «коменданте» и иногда, как особую милость, — выпуск на свободу очередного узника, «достаточно исправленного» годами, проведёнными в одиночной камере.[577]
Это покажется парадоксальным, но я готов сравнить Фиделя Кастро с другим персонажем испанской истории — идальго Дон Кихотом Ламанческим. Они похожи в двух своих главных свойствах: полном равнодушии к реальности и абсолютной уверенности в своей правоте и благородстве. Остаётся лишь небольшая разница в том, что Кастро разъезжал не на Россинанте, а на танке, и оставлял за собой развалины настоящих мельниц, жилых домов и прочих полезных зданий. В следующей главе мы попытаемся приблизиться к ответу на вопрос, почему кубинский народ вот уже полвека продолжает с энтузиазмом кричать «Вива Фидель!».
Комментарий восьмой: О НЕУМИРАЮЩЕМ КАИНЕ И ЖАЖДЕ МЕСТИ
И вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Валерий БрюсовС чего начинается история человечества в Библейских сказаниях после изгнания Адама и Евы из рая?
С братоубийства.
За что Каин убил Авеля?
Мы этого не знаем, Книга Бытия безмолствует. Сам всевидящий Господь не ведал о готовившемся преступлении, не предвидел, не знал, что оно случилось.
«Где Авель, брат твой?», спрашивает Он у Каина. (Бытие, 4:9) И только когда голос крови убитого возопил от земли, преступление раскрылось. Но ещё до этого Господь заметил, как поникло лицо Каина, когда Он «не призрел на дар его», не принял жертвоприношения.
В этой короткой истории каждая деталь, каждая строчка заслуживают внимания, истолкования, расшифровки.
Библейская легенда созревала в народе иудейском, когда он был ещё кочевником-пастухом. А рядом существовал процветающий земледельческий Египет — могучий, сверкающий, изобильный, манящий, ненавистный. Всё злое должно было исходить только оттуда. Поэтому Каин — земледелец, а добрый Авель — пастух овец.
Чем земледелец неугоден Богу? Он приносит в виде жертвы «плоды земли». Разве могут они порадовать Господа? То ли дело — жертвы, приносимые Авелем: ягнёнок, бараний жир. Объядение!
Но отвергая жертвоприношение, Бог самого Каина не отверг. Он полон заботы о нём. «Отчего ты огорчился? Почему поникло лицо твоё?» (Бытие, 4:6). Дальше следует поучение: делай доброе. А если будешь делать злое, грех уляжется у дверей души твоей. И он будет манить тебя неудержимо.
Первородный грех Адама и Евы состоял вовсе не в плотском совокуплении, как верят многие христиане, не читавшие Библию своими глазами. Там первым людям, как и всем живым творениям, предписано ясно: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». (Бытие, 9:7) Грех состоял в непослушании. Нарушив запрет Господа, Адам и Ева поели плодов с древа познания Добра и Зла и тем поднялись над другими тварями земными. Только человеку дано знать разницу между Добром и Злом и дарована свобода выбирать: делать доброе или злое. То есть «господствовать над грехом». Каин поддался греху, совершил злое. За это Бог покарал его изгнанием, отправил в скитания, но при этом пригрозил страшными карами тому, кто попытается отомстить Каину за содеянное им зло. (Бытие, 4:15)
Тема вражды между братьями всплывает в библейской легенде снова и снова. Даже близнецы Исав и Иаков не могут ужиться друг с другом. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своём: …я убью Иакова, брата моего». (Бытие, 27:41)
Иаков бежит в чужие края, трудится у дяди своего, Лавана, берёт в жёны дочерей его, Лию и Рахиль, рожает обильное потомство — и что же? Одного из сыновей своих, Иосифа, полюбил он больше других, и стал Иосиф объектом ненависти для братьев своих: за разноцветную одежду, подаренную отцом, за рассказы о дурацких сновидениях, в которых видел себя Иосиф окружённым всеобщим поклонением. Хорошо ещё, что не убили, а только продали в рабство за 20 серебренников. Отцу же принесли изорванную и окровавленную одежду — вот, мол, дикий зверь растерзал твоего любимца. (Бытие, 37:3-33)
Что мы находим общего во всех этих легендах о вражде между братьями? Какое горючее вещество питает пожар ненависти? Не видим ли мы вокруг себя тысячекратные повторения похожих драм? В которых многообразно и многолико вскипает одно и то же чувство: жажда мести за собственную обделённость.
В терминологии нашего исследования это явление может быть описано так: каждый раз, когда близорукий сталкивается в жизненном противоборстве с дальнозорким и переживает очередное поражение, он испытывает вспышку неодолимой вражды.
Постепенно жизненный опыт учит его не ввязываться в борьбу с дальнозорким по установленным правилам, а искать обходные обманные пути или применять грубое насилие. Создание государства оказалось возможным только там, где верховная власть обладала достаточной силой и авторитетом, чтобы охранять дальнозорких от вечно тлеющей враждебности близоруких. Пятеро наших фараонов, как и десятки других похожих тиранов, перевернули задачу с ног на голову. Они сделали то, об опасности чего предупреждал Аристотель уже двадцать три века назад: поставили свой корыстный интерес выше интересов государства.[578] В погоне за бескрайним расширением личной власти они изменили своей роли арбитра, перешли целиком на сторону близоруких и использовали энергию их вражды к дальнозорким для вознесения себя на орбиту абсолютной диктатуры.
Нельзя забывать о том, что не существует чёткой границы между дальнозоркими и близорукими. Если бы их различия поддавались математическому измерению и оценке по какому-то выбранному параметру, графический результат обследования, скорее всего, выразился бы кривой Гауса (Bell Curve).[579] Причём импульс ревнивой враждебности к обогнавшему, более одарённому мы обнаружим на любом участке этой кривой. Сальери не отравлял Моцарта, но чувства, приписанные ему Пушкиным, нам понятны и узнаваемы. Даже успешный писатель, учёный, врач может в глубине души позавидовать лауреату Нобелевской или какой-то другой престижной премии. И точно так же, на нижних участках кривой, нерадивый крестьянин будет смотреть со злобой на смышлёного и энергичного соседа и порадуется политическому катаклизму, который объявит соперника «кулаком», подлежащим «раскулачиванию».
Пятеро наших персонажей от рождения были наделены многими талантами и энергией. Эти дары безусловно обещали им достойное место в верхних участках шкалы неравенства. Внутри устойчивой государственной системы они все рано или поздно пробились бы наверх. Но им досталась эпоха гигантских социальных сдвигов и потрясений. Своё положение в нижних слоях общества они переживали как величайшее несчастье и несправедливость. «Как я ненавижу богатых!», — восклицал Муссолини. Каинова страсть разгоралась в их душах неудержимо. Под её давлением они совершали много недоброго, и грех, описанный в Книге Бытия, захватывал их души. Оставалось только найти красивое оправдание злобе, клокотавшей в сердце. И все пятеро нашли его в одном и том же: в жажде «справедливого возмездия».
В наши дни на жажду мести не принято смотреть с почтением или восхищением. Наоборот, ей принято искать оправдания. Чаще всего оправданием служит непомерность злодейства, кару за которое осуществляет смелый мститель. Но в далёком прошлом всё было не так. Кровная месть была священным долгом каждого члена племени. Только страх неизбежного возмездия часто удерживал руку обиженного, потянувшуюся в импульсивном порыве к ножу.
В племенных сообществах долг мести играл ту же роль, которую в государстве играют уголовные суды, тюрьмы и казни. Традиции эти живы у многих народов и до сих пор. Когда вчитываешься в описания обычаев кровной мести, многие дикие поступки героев этой книги вдруг получают если не смысл, то находят своё место в ткани воззрений людей на примитивных ступенях цивилизации. Да, вот так повёл бы себя «дикий друг степей» или член клана, племени, рода, только что спустившийся с гор, покинувший кочевье, переселившийся из вигвама в каменный дом.
Современные этнографы, изучавшие кровную месть у народов, застрявших на земледельческой стадии, обнаружили много интересных особенностей, ранее остававшихся в тени. Например, выяснилось, что смертельная вражда между семьями или кланами не обязательно начинается с пролития крови. Нанесённое оскорбление или обида тоже могут послужить яблоком раздора. Причём обиженный не обязан кому-то доказывать или объяснять, почему он посчитал обиду смертельной, требующей кровавого возмездия. Он так воспринял её — и этого достаточно.
С другой стороны, обида, нанесённая публично и оставленная без возмездия, покроет обиженного позором до конца жизни. Его семья может отвернуться от него, ему будет запрещено выступать на собраниях клана. Для многих такая ситуация выглядит страшнее смерти. Если человек умирает, не осуществив возмездия, его родичи обязаны взять на себя выполнение священного долга.
Кровавый раздор может тянуться десятилетиями, потому что каждое убийство рождает необходимость и неизбежность ответного убийства. Известный югославский политик и диссидент Милован Джилас описывал, как это происходило в его родной Черногории. В каждом поколении его предков были убийства, осуществлённые мстителями. Так погиб дед его отца, оба его деда, его отец и дядя. Страх перед мстительными врагами из собственного племени был сильнее страха перед иноверцами-турками, в империю которых входила Черногория.[580] Не этот ли разгул родовой мести привёл к тому, что черногорцы до сих пор остаются самым малочисленным из Балканских народов?
Где-то в незапамятные времена кровная месть укрепилась в верхних слоях общества в виде культа дуэлей. Правительства всех стран пытались запрещать дуэли и карать за них — тщетно. Александр Гамильтон, даже став христианином и осудив этот обычай, не посмел уклониться от дуэли с Аароном Бёрром и погиб. Муссолини в какой-то момент сделался неуёмным дуэлянтом, и как мы видели, у него не было недостатка в противниках, столь же уверенных в правомочности кровавой схватки.
Убийство женщины враждебного клана не считалось «искуплением». Если мужчинам приходилось порой, спасаясь от мстителей, запираться в доме на месяцы и годы, женщины продолжали трудиться в поле, отправлялись на базар продавать урожай и закупать необходимое. Но вот убийство сторожевой собаки требовало возмездия. Собака приравнивалась к воину, охранявшему дом.[581]
Здесь уместно вспомнить жутковатый и показательный эпизод из жизни Сталина. В конце 1920-х годов он отдыхал на Кавказе и ночью был разбужен собачьим лаем. В раздражении проснувшийся вождь отдал приказ найти и пристрелить собаку. Утром спросил, выполнен ли приказ. Смущённый начальник охраны сказал:
— Собака вместе с хозяином увезена далеко, товарищ Сталин. Вы её никогда больше не услышите.
— Почему не выполнен приказ? — гневно спросил генсек.
— Мы пожалели хозяина. Он слепой, и это его собака-поводырь.
— Мне жалостливая охрана не нужна. Поезжайте, пристрелите собаку и доложите о выполнении.[582]
В этом эпизоде проявились два важнейших свойства диктатора. Первое — абсолютная безжалостность. Второе — уверенность в том, что раз отданный приказ никогда не может быть отменён. Каждый подчинённый должен знать, что никакие обстоятельства не послужат оправданием невыполнения приказа и последуют суровые кары.
Традиции кавказских горцев, среди которых рос маленьких Сосо, ставили долг мести необычайно высоко. Недаром он с детства зачитывался историями о мстителе Кобе. В революционной пропаганде подпольщик Сталин, готовя теракты, призывал рабочих «мстить за товарищей, погибших при разгоне демонстраций».[583] В какой-то момент акт мести превратился для него из исполнения долга в главное наслаждение жизни. И из воспоминаний Каменева мы узнаём, что он не скрывал этого.
Случайно ли, что беспартийный большевик Маяковский рос, как и Сталин, вблизи города Гори и впитывал с детства мстительный дух Кавказа, который потом прорывался в его искренних строчках:
Горы злобы аж ноги гнут, Даже шея вспухает зобом, Лезет в рот, в глаза и внутрь, Оседая, влезает злоба.Итак, мы видим, что жажда мести вскипает в Каиновой душе ещё до встречи с тем, на кого месть изольётся. Серийные убийцы и террористы не затрудняют себя выбором жертв. Годятся любые — кто подвернётся, кто беззащитен, к кому легко подобраться. Когда ты мстишь за мрак в собственной душе, неважно, кто окажется в перекрестье ружейного прицела, кто летит во взрываемом самолёте, кто попадёт под колёса твоего мчащегося грузовика.
Однако в массовых убийствах, прокатившихся по странам, попавшим под власть новых фараонов, явно проступает какой-то рефрен, какой-то принцип отбора жертв. Особенно шокирующим он выглядит в странах победившего коммунизма, где миллионами гибли лойяльные подданные, уже не имевшие никакой собственности, ни словом, ни делом не покушавшиеся на установившийся режим. Кого убивали в СССР, Китае, Кубе, Вьетнаме, Камбодже? За что? Что нужно было сделать, чтобы избежать гибели?
Рациональный ум дальнозоркого честно вглядывается в исторические катаклизмы, пытается разглядеть скрытые силы, движущие ими. Но он остаётся глух и слеп к страстям близорукого большинства, потому что не испытывает их в адекватной степени. Одарённый не может понять, что испытываает обделённый. Он не может поверить, что всенародное обожание тирана есть искреннее выражение любви к тому, кто дал большинству бесценное благо: счастье сплочения в равенстве и непогрешимости.
К этому благу дальнозоркий остаётся слеп и равнодушен. Он клеймит его «стадным чувством». Иногда душа его может приоткрыться счастью сплочения, если его занесёт в карнавальное шествие. Или в толпу, празднующую Новый год на площади Таймс Сквэр в Нью-Йорке. Или начало белых ночей на Дворцовой площади в С.-Петербурге. Или на концерт рок-певца, где можно слиться с ликованием зрителей, ритмично раскачивающихся в такт барабану. Но пехотный парад, чеканящий шаг по мостовой? Ряды гитлер-югенд, застывшие в салюте с протянутой рукой? Колонны китайцев с портретами Мао и красными цитатниками, взнесёнными над головами? Ах, оставьте! Всё это делается исключительно из страха, под давлением тоталитарной власти.
Близоруким сплотиться легко, потому что они смотрят только на день, неделю, месяц вперёд. Дальнозоркие вглядываются в грядущее на год, десятилетие, век, вечность. Они даже между собой не могут найти общего языка, а уж с близорукими — тем более. Они пытаются рассказывать соплеменникам о бедах, которые видятся им впереди, которых можно было бы избежать, если бы приложить усилия в правильном направлении. Но инертное большинство не хочет мучить себя лишними усилиями, не верит пророчествам дальнозорких, накипает раздражением против них.
Дальнозоркий, как правило, переполнен желанием помогать близорукому. Но чтобы помогать, нужно получить право и возможность управлять. Если близорукий сопротивляется этому, нужно силой заставить его подчиниться. Такова была логика всех дальнозорких тиранов, дававшая им уверенность в своей правоте. Маркс доказал, что счастье народа невозможно без свержения капитализма, остаётся только осуществить его программу. Даже Муссолини и Гитлер оставались в глубине души социалистами, всегда готовыми поставить интересы государства выше интересов отдельного свободного предпринимателя.
К чему дальнозоркий оказывается совершенно неспособным — это к обожествлению фараона. Как он может поклоняться смертному человеку? А что будет, когда повелитель умрёт? Я останусь без божества? То, что остаётся лежать под пирамидой или в мавзолее, не может утолить мою жажду бессмертия. Дальнозоркому приходится насиловать себя, идя в первомайской демонстрации с портретом Сталина, восклицая «хайль Гитлер!», расклеивая дацзы-бао. Но только очень хорошие актёры могут убедительно сыграть эту роль. Остальные рано или поздно выдадут себя нехваткой энтузиазма.
Дальнозорким, погибавшим в сталинском терроре, казалось совершенно диким, что их объявляли «врагами народа», «шпионами», «изменниками родины». Но на глубинном экзистенциональном уровне эти ярлыки имели свой смысл. Если счастье народа заключается в единстве «здесь и сейчас», всякий, кто пытается жить «везде и всегда», изменяет своим современникам. Своим выпаданием из сплочённых рядов он ставит под сомнение истинность и неотменимость догматов, скрепляющих марширующие колонны. Разве такое можно простить?
Большевик Маяковский грозно вопрошал: «Кто там шагает правой?! Левой, левой, левой!». «Правые уклонисты» были объявлены достойными расправы и в СССР, и в Китае. Правда, вскоре за ними последовали и «левые». Любые уклонисты достойны расстрела — вот чему учила эпоха.
Всё вышесказанное отнюдь не следует истолковывать как простую схему: дескать близорукие Каины набросились на невинных дальнозорких Авелей. Человек, находящийся на любой ступени шкалы врождённого неравенства, на любом — верхнем или нижнем — участке кривой Гауса, может поддаться «греху, лежащему у сердца» и сделаться Каином. Но импульс к такому душевному перевороту будет реже возникать среди одарённых. Поэтому они часто не понимают, с какой силой и искренностью он пульсирует в душе обделённых. Ощущая вражду близоруких, дальнозоркие спешат интерпретировать её как результат невежества, науськивания, искусственного подогревания.
А кто может заниматься таким злостным нагнетанием вражды? Ну, конечно, властолюбцы, прорвавшиеся к трону или только рвущиеся к нему. Это для них важно сбить народ с правильного понимания того, кто его враги и кто друзья. Допустить, что народ — этот новый идол благонамеренного рационалиста — может ощущать его, дальнозоркого умника, опасным разрушителем счастья покоя, счастья уверенности, счастья невиноватости одарённый просто не в силах. Он будет упрямо повторять свои любимые лозунги: «Больше свободы! Услышьте голос народа! Все мнения имеют право быть оглашёнными!».
И 20-ый век показал, как быстро свобода оглашения мнений может превратиться во всеобщую оглашённость. Авель снова не понимал, почему ему нужно остерегаться Каина, Иаков — за что его ненавидит Исав, Иосиф с доверием шёл к братьям, замышлявшим его убийство.
Летопись девятая. ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ДАЛЬНОЗОРКИХ
«Канта — на Соловки!»
Обводя взглядом горизонт, мы порой замечаем облако дыма. Иногда в нём мелькают языки огня. «Ага — там пожар», говорим мы себе. Потом из новостей или рассказов очевидцев узнаём, что именно горело. Деревья и кустарники — лесной пожар. Или жилые дома, набитые всяким горючим барахлом. Трава в пересохшей степи. Торфянники в пересохших болотах. Гора мусора. Нефтяная скважина.
Обводя взглядом летописи истории, натыкаемся там и тут на горы окровавленных трупов. Понимаем — здесь пылал очередной пожар вражды. Чаще всего — межплеменной. Или религиозной. Бунты бедных против богатых или безвластных против власть имущих — десятки и сотни. И в каждом полыхает понятная нам, объяснимая вражда.
Но летописи двадцатого века ставят нас лицом к лицу с мучительной загадкой. Волны массового террора, прокатившиеся по коммунистическим странам, не имеют понятного объяснения. Что разделяло расстрелянных и расстреливавших? Почему толпы на стадионах и площадях требовали убивать ещё и ещё? Почему граница вражды была такой размытой, что палачи очень часто вдруг становились жертвами?
Надеюсь, что читатель этой книги уже готов услышать ответ, который собирается предложить её автор:
Горючим веществом пожаров, прокатившихся по коммунистическим странам, был Каинов грех, вражда обделённого к одарённому.
Сразу должен оговориться: я не чувствую в себе сил адекватно воспроизвести меру ужаса того, что творилось в сталинской России. Невозможно продолжать повествование нормальным человеческим языком и делать вид, будто, да, это просто цепь исторических событий, довольно страшных, но вполне поддающихся объективному описанию. По счастью, у многих замечательных историков хватило самообладания и сил написать убедительные и подробные труды об этой эпохе. «Большой террор» Роберта Конквеста, «Сталинщина» Романа Редлиха, «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына, «Сталин» Эдуарда Радзинского, «Технология власти» Абдурахмана Авторханова, «Номенклатура» Михаила Восленского и другие надолго останутся незаменимыми путеводителями по отпылавшему пожарищу.
Внесли свою лепту и писатели. Причём некоторые из них, уже уверенно владевшие манерой реалистической прозы, в какой-то момент почувствовали, что ей не по силам воссоздать происходившее, и перешли к фантасмагориям. Андрей Платонов написал «Котлован», Владимир Набоков — «Приглашение на казнь», Альбер Камю — «Чуму», Михаил Булгаков — «Мастера и Маргариту», Джордж Орвел — «1984». Интересно, если бы Данте перенёсся в наши времена, какими красками его фантазия изобразила бы круг ада, созданный марксистами-ленинцами? В виде озера, кишащего голодными крокодилами, и грешников, носящихся по окружающим холмам и сталкивающих в воду друг друга?
Мне такие полотна не по силам. Всё, на что я чувствую себя способным: добавить к картине несколько деталей, открывшихся мне в процессе чтения исторических книг и в рассказах живых свидетелей эпохи. В терроре погиб мой отец и его брат, арестам и высылкам подвергались мать, дед, обе бабушки, тётки. Сам я поставил своеобразный рекорд: прожил за колючей проволокой лагеря четыре года в возрасте от четырёх до восьми лет, а задержан за «шпионаж» был уже в четырнадцать лет.
В истории революционного движения в России первое открытое столкновение дальнозорких с близорукими произошло уже в 1903 году. На 2-ом съезде РСДРП споры между делегатами дошли до такого ожесточения, что произошёл раскол партии на большевиков и меньшевиков. Более образованная часть социал-демократов пошла за Мартовым и Плехановым. Но это не означает, что меньшевиков можно назвать «партией дальнозорких». Ленин и Троцкий, с их обострённым политическим нюхом, видели расклад политических сил в стране отнюдь не хуже. Но они ни в грош не ставили те абстрактные ценности, которые были дороги меньшевикам: демократия, справедливость, гуманизм, законность. Они боготворили силу и власть — здесь и сейчас — и большинство пошло за ними.
Дальнейшая история коммунистической партии переполнена внутренними конфликтами, образованием фракций, безжалостными чистками. Причиной исключения из «сплочённых рядов» редко называли какой-нибудь хозяйственный провал (это прощалось), но как правило — идейную незрелость, уклоны вправо или влево. На самом же деле отбор на отсев происходил по расплывчатому, мистическому, иррациональному критерию — «наш или не наш?».
Террор против дальнозорких начался сразу после конца гражданской войны, но поначалу он был избирательным. Гумилёва, например, присовокупили к сфабрикованному делу о заговоре и убили, а Горькому, который открыто нападал на политику большевиков, разрешили уехать. Осенью 1922 года выпустили также группу русских мыслителей и университетских преподавателей, посадив их на два немецких парохода и разрешив взять с собой только носильное бельё и одежду. Среди высланных были такие фигуры, как Николай Бердяев, С.Н. Булгаков, Иван Ильин, Николай Лосский, М.А. Осоргин, С.Е. Трубецкой. В историю это событие вошло под названием «Философский пароход».
В 1920-е годы ГПУ без труда заполняло свои подвалы и тюрьмы «классово-чуждыми», бывшими эсерами, анархистами, белогвардейцами, землевладельцами, чиновниками. Но постепенно число потенциальных жертв уменьшалось, уходило из жизни, пряталось под другими личинами. А карательные органы бездействовать не могли. Машина поневоле вступала в стадию разгона, начинала пожирать людей без особого разбора. Моего деда, бывшего члена совета директоров Украинбанка в Киеве, арестовывали повторно много раз уже в местах высылки. Он как бы использовался местными отделами ГПУ как «повторное топливо».
Отыскивать рациональные причины для вспышек иррациональной вражды — любимое занятие дальнозоркого. Пока он занят этим, ему кажется он имеет хоть какой-то контроль над происходящим. Я много раз восставал против этой тенденции, но порой и сам не могу удержаться от соблазна. Ведь что-то должно было случиться в 1934 году, чтобы кривая террора против дальнозорких резко пошла вверх? Казалось бы, именно к этому году власти начали окружать интеллигенцию вниманием, создали союзы писателей, художников, композиторов, выделили им щедрую финансовую поддержку. И «инженеры человеческих душ» с благодарностью откликались на заботу, послушно поехали, например, на корабле по Беломоро-Балтийскому каналу и славословили «стройку социализма», осуществлённую руками новых рабов — «зэков».
И всё же имели место два события, которые могли послужить толчком для усиления террора: 17-ый съезд коммунистической партии (январь-февраль) и убийство Кирова (декабрь).
Внешне съезд выглядел торжеством большевиков и их вождя. Он даже получил название «Съезд победителей». Но в его процедурных традициях оставался опасный атавизм внутрипартийной демократии: закрытое тайное голосование при избрании нового состава ЦК. И впоследствии историки, раскапывавшие архивы ВКПб, выяснили, что примерно в четверти бюллетеней со списками кандидатов, опущенных в урны, фамилия Сталина была вычеркнута.[584]
Скандальный результат удалось замять, на счётную комиссию оказали давление, и она объявила, что против вождя проголосовали не триста, а только три делегата. (Ох, отщепенцы!) Но Сталин-то узнал, какая крупная сила готова объединиться, чтобы отбросить его от рычагов управления. Он ведь сам любил провозглашать, что «У нас незаменимых нет!». А тут ещё честный Киров доложил ему, что группа большевиков из «старой гвардии» запрашивала его, не согласится ли он занять пост генерального секретаря.
— Конечно, я заявил им, чтобы они и думать забыли о таком варианте, — закончил свой рассказ верный соратник.
— Я тебе этого не забуду, — пообещал Сталин.[585]
Мы имеем право отнести двусмысленность реплики на счёт того, что русский не был для Сталина родным языком и какие-то оттенки он мог упускать из вида. Историки до сих пор спорят о мере его замешанности в убийстве Кирова. Как говорил Черчилль, внутренние конфликты кремлёвских заправил — это как драка бульдогов под толстым ковром, разобраться в происходящем невозможно. Во всяком случае факт убийства руководителя Ленинградской организации был сполна использован для раздувания новых теорий заговоров и диверсий, за которое заплатили своими жизнями сотни, если не тысячи людей.[586]
Далее наступило странное затишье. Оппозиционеры покаялись в своих заблуждениях, согласились занять скромные позиции в пропагадном аппарате, восхваляли «вождя мирового пролетариата»: Зиновьев — в журнале «Большевик», Бухарин — в газете «Правда». Бывший соратник Троцкого, Карл Радек, опубликовал книгу «Зодчий социалистического общества», а потом возглавил комиссию по разработке новой «сталинской» конституции.[587] Что же должно было произойти в тёмных извивах мозга «кремлёвского горца», чтобы он начал Большой террор не только против старой гвардии большевиков, но и против командного состава собственной армии?
Всякому человеку свойственно любить то дело, с которым он справляется хорошо. Лучше всего у товарища Сталина получались РАССТРЕЛЫ. Столкнувшись с любой проблемой, он первым делом искал, кого следует расстрелять для её исправления. Это слово часто встречается в его выступлениях, он смакует его, включает в свои директивы, даже в рекомендации, которые он рассылал лидерам иностранных компартий. Но всё же традиционно внутрипартийные раздоры большевиков было не принято кончать смертной казнью. Исключение из партии, понижение в должности, ссылка — только не «высшая мера». Однако традиция эта умирала. За два десятилетия партия пополнилась сотнями тысяч близоруких, которые горели желанием заменить стариков на тёплых местах. И если даже «отправить их к праотцам» — то почему бы и нет? Сталин знал, что он найдёт опору в юных карьеристах.
Кроме этого соображения, я хочу предложить аналитическому уму моего читателя вглядеться в некоторые события, случившиеся в 1936 году.
Одно из них всем хорошо известно: в Испании началась гражданская война. Как она должна была выглядеть в глазах полновластного правителя, только что начавшего игры в конституционные свободы? Она должна была служить грозным предупреждением о том, что недовольные генералы могут восстать и за два месяца дойти со своими армиями до стен столицы. И кто защитит его от них? От всех этих героев российской гражданской войны — Тухачевского, Блюхера, Егорова, Уборевича?
О втором событии говорить было запрещено, но все о нём знали — неурожайное лето 1936 года привело к новой вспышке голода. После катастрофы коллективизации страна кое-как выживала при поддержке урожаев с приусадебных участков, которые крестьянам разрешили иметь при условии, что они вступили в колхоз. Но тут этого скудного источника не хватило, сообщения о ропоте поступали из всех губерний. Шли доклады о людоедстве, об убийствах детей, о вспышках тифа, о том, что люди стали питаться падалью, картофельной ботвой, корой деревьев.[588]
Третье событие долго оставалось мало кому известно, о нём мы узнаём из мемуаров Черчилля. Там он пересказывает историю, которую поведал ему в 1944 году чешский президент в изгнании, Эдвард Бенеш. В 1936 году шли тайные переговоры между Берлином и Прагой. Гитлер предлагал гарантировать чехам неприкосновенность их территории в обмен на обещание сохранять нейтралитет в случае возможного франко-германского конфликта. Бенеш объявил немецким дипломатам, что он сможет дать ответ только после того, как закончатся идущие сейчас переговоры о заключении союза с Москвой. Те усмехнулись и посоветовали ему поспешить, потому что, по данным немецкой разведки, в СССР созрел заговор между старой большевистской гвардией и верхушкой Красной армии, нацеленный на свержение Сталина. Социалист Бенеш немедленно передал эту информацию главе первого социалистического государства.[589] Мог ли тот, при его параноидальной подозрительности и мнительности не поверить полученным данным?
Террор, обрушившийся на военных, поражает своими масштабами и стремительностью. Роберт Конквест приводит такие цифры погибших, взятые из советских источников: маршалы — трое из пяти; командующие армией — 13 из 15; адмиралы — 8 из 9; корпусные командиры — 50 из 57; командиры дивизий —154 из 186; общая численность уничтоженных офицеров — около 43.000.[590] На место квалифицированных профессионалов военного дела были выдвинуты необученные новички. Красная армия была настолько ослаблена, что оказалась неспособна, при огромном численном и техническом превосходстве, разгромить небольшую финскую армию в войне 1939-40 года.
Осенью 1940 года инспекция пехотных войск обнаружила, что среди 225 командиров полков нет ни одного выпускника Военной академии имени Фрунзе, а 200 окончили только курсы для младших лейтенантов.[591] Писатель Виктор Суворов пытался убедить нас, что с такой армией Сталин в 1941 году тайно планировал напасть на диктатора, только что покорившего половину Европы.[592] Успех его книги лишний раз показывает нам, что интеллектуал будет хвататься за любое объяснение, лишь бы не остаться лицом к лицу с простым ужасом необъяснимого.
Мы снова оказываемся перед мучительной загадкой: зачем, зачем, зачем он так последовательно в течение 25 лет своего правления уничтожал ЛУЧШИХ — лучших крестьян, лучших инженеров, лучших учёных, лучших военных? Известный диссидент и правозащитник Валерий Чалидзе назвал свою книгу о Сталине «Победитель коммунизма». Он считает, что именно целенаправленное уничтожение партии большевиков и результатов Октябрьской революции было сознательной целью тирана. Но уничтожить миллионы людей можно только в том случае, если другие миллионы будут со страстью и увлечением помогать тебе в этом. Как он мог навербовать себе такое количество соратников и пособников?
По моему мнению, эта вербовка невидимо протекала в период его борьбы с Троцким за власть.
Всякий нормальный человек, хоть близорукий, хоть дальнозоркий рад принять участие в борьбе со злым, жестоким, несправедливым, особенно если это не требует больших усилий. Массовая пропаганда большевиков была расфасована в простые привлекательные пакеты. Вот собственники обманом завладели богатством, короли и князья обманом захватили власть, попы объявили себя единственными владельцами истины — покончить со всем этим выглядело торжеством справедливости, призыв «отречёмся от старого мира» горячо отзывался в сердцах. Но когда революции в разных странах победили, зло и несправедливость почему-то не исчезли. Наоборот, к ним добавились новые раздоры, тиранство, голод. Кто-то, какой-то тайный враг должен был стоять за всем этим.
Троцкий и его последователи пытались представить на роль тайного врага всё того же безотказного буржуя-помещика. Но тот теперь оказывался за границей, нужно было начинать новую войну, на которую у людей пока не было сил, особенно с таким хорошо вооружённым врагом. Сталин и сталинисты отыскали другой объект для народного гнева — дальнозоркого умника, живущего рядом, раздражающего своей прытью, вечно вылезающего наверх.
Этот был так близко, так невыносимо удачлив, так легко обгонял близорукого соседа во всех жизненных делах и занятиях! А кто мог посвятить себя шпионажу, диверсиям, саботажу, вредительству, заговорам? Для всего этого требовалось хитроумие, сосредоточенность, целеустремлённость, энергия. Такие дела были просто не под силу близорукому. Неважно, под какой маской прятался дальнозоркий, к какой партии он примыкал в данный момент. Тайная полиция должна была уметь отличать его, обнаруживать и карать. Ну, а если он сумеет затесаться в её собственные ряды, то и там ему не должно быть пощады, даже если его зовут Ягода, Ежов или Крыленко.
Пережившая ужас сталинщины Анна Ахматова описала его в незабываемыз стихах:
И когда обезумев от муки, Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки Паровозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корчилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами «чёрных марусь».Традиция русской интеллигенции «искать правду в народе», «идти в народ», «исполнять волю народа» довлеет над поэтессой, и она использует эпитет, который я принять не могу. Русь не была безвинной. Кто расхаживал в кровавых сапогах вдоль колючей проволоки лагерей? Кто крутил баранки «чёрных марусь»? Кто, глядя им вслед, с торжеством бросал зловещее «Там раберутся!»? Кто заполнял залы и площади, вопил «Смерть шпионам!»? Кто прославлял державного душегуба, молился на его портреты? Кто с радостью завладевал амбаром раскулаченного, заполнял освободившуюся должность репрессированного, вселялся в квартиру высланного?
И вся так называемая «передовая» русская интеллигенция от Пестеля до Желябова, от князя Кропоткина до графа Толстого, от Чернышевского до Горького, в течение века работавшая над тем, чтобы лишить смысла слова «грех», «милосердие», «сострадание», «совесть», объявить их орудием угнетения, «поповщиной», приложила руку к тому, что душа народа открылась Каинову греху: извечной вражде обделённого к одарённому.
Для режима дальнозоркий был опасен и неугоден тем, что только в его душе могли зреть семена протеста, критики, восстания. Для близорукого большинства он представлял угрозу самому бесценному — счастью сплочения. Дружная работа по его искоренению была поставлена на индустриальные рельсы. Из центра на места отправлялись плановые задания: обнаружить и арестовать столько-то врагов народа. Перевыполнение плана приветствовалось и вознагаждалось. Потоки доносов, конечно, текли в отделения ГПУ-НКВД, но особой нужды в них не было. Любой задержанный, не зная за собой никакой вины и веря, что его арестовали по недоразумению, поначалу легко отвечал на вопросы о своих знакомых и родственниках, и этого было достаточно для отправки «чёрных марусь» по новым адресам. Ведь дальнозоркие имеют странную привычку общаться и встречаться только друг с другом.
В моих глазах, единственное истолкование Большого террора должно звучать так: это была война близоруких против дальнозорких, возглавленная и направляемая вождём, охваченным ненасытимым чувством мести всему миру за мрак в собственной душе.
Жертвы террора искали спасения, пытались понять, за что их хватают и бросают за решётку. Спаслись только те, кто догадался заранее уехать куда-нибудь в глушь, с глаз долой, чтобы не попасть в расстрельные списки. Их не искали. Когда ночью раздался стук в дверь одного ленинградского литературоведа, жена вдруг вцепилась в него и стала умолять шёпотом: «Не открывай! Не открывай!». Через некоторое время стук прекратился, и они услышали за дверью переговоры ночных гостей: «Наверное, уехали куда-нибудь… Ну, ладно, возьмём из квартиры напротив… Не возвращаться же с пустыми руками».
Предвижу, что моя теория встретит много возражений. Будут приведены десятки частных примеров жертв террора, попавших в водоворот совсем случайно, не выделявшихся никакими обычными приметами дальнозоркости. (Взять тех же несчастных соседей ленинградского литературоведа!) Но этот критерий отбора жертв массового террора будет всплывать снова и снова во всех коммунистических режимах, вплоть до Камбоджи, где, за неимением «Кантов», его упростили до предела: «Бей горожан!».
В итальянских тюрьмах
В отличие от российских большевиков, режим Муссолини не сразу захлопнул выезд за границу. Многие видные деятели итальянской политики и культуры, неспособные ужиться с фашистским государством, успели воспользоваться этим и эмигрировать во Францию, Англию, США. Среди них были бывший премьер-министр Франческо Нитти, лидеры социалистов Филипо Турати и Пьетро Ненни, либерал Карло Роселли, коммунист Пальмиро Тольятти, историк Гаэтано Сальверини, физик Энрико Ферми, дирижёр Артуро Тосканини.[593]
Но режим не мог допустить, чтобы уехавшие вообразили себя в безопасности и спокойно занимались антифашистской пропагандой. В ноябре 1926 года был принят новый закон, пятая статья которого гласила: «Любой гражданин, который позволит себе, находясь за границей, распространять фальшивую, преувеличенную или тенденциозную информацию и слухи, чернящие жизнь в государстве, подрывающую репутацию и кредит страны, подлежит тюремному заключению сроком от пяти до пятнадцати лет, а также лишению гражданства и конфискации имущества».
То, что могло ожидать политического эмигранта за рубежом, ярко изображено в знаменитом фильме Бертолуччи «Конформист». В нём тайная полиция Италии осуществляет ликвидацию профессора, нашедшего убежище в Швейцарии. Тонкая деталь: убийцы не могут подобраться к своей жертве вплотную, потому что образованный и культурный человек моментально распознает в них чужаков и порвёт всякие контакты. Поэтому полиция подключает к операции тёртого журналиста (его блистательно играет Жан Трентиньян), умеющего войти в доверие к беглецу. Профессор принимает журналиста «за своего», не скрывает от него ни места жительства, ни планов поездки через горы. Получив эту информацию, агенты устраивают засаду на пустынной дороге и убивают опасного эмигранта, а заодно и его спутницу.
Сам Муссолини, конечно, не участвовал в избиениях, поджогах, пытках, убийствах. Но если кто-то вызывал его неудовольствие, он просто звонил в местную фашистскую организацию и предлагал им «проучить», «задать жару». Всё же однажды французская газета смогла раздобыть и опубликовать факсимиле его письма префекту Турина с просьбой «сделать жизнь тяжёлой» для видного антифашиста Пьеро Гобетти. Последовало избиение, в результате которого неугодный оказался в больнице, сломанное ребро проткнуло ему лёгкое.[594]
К 1930 году фашизация Италии была завершена. Независимые газеты перешли под фашистский контроль или были закрыты. При этом полиция забирала списки подписчиков, которые превращались в её архивах в списки подозреваемых. Оппозиционные партии запрещались, свободные выборы ушли в прошлое. Палата депутатов стала лишь средством придания фашистским декретам видимости национального одобрения. Сенаторы были готовы в случае необходимости надевать чёрные рубашки.[595]
Реальное сопротивление режиму продолжалось, но оно могло активно действовать только из-за границы. В 1929 году Карло Роселли основал движение «Справедливость и свобода», которое открыто объявляло своей целью свержение диктатуры. Причём оно отвергало и монархию, и церковь, ставило своей целью создание демократической республики. Вместе с пятью тысячами других итальянских антифашистов Роселли и его брат приняли участие в гражданской войне в Испании. Впоследствии итальянская тайная полиция добралась до них во Франции и убила обоих.[596]
Поэт и драматург Лауро де Бозис возглавил группу либерально-монархического направления. 3 октября 1931 года он долетел от Марселя до Рима на маленьком самолёте и начал разбрасывать листовки над улицами и площадями с призывами к итальянцам вернуть себе утраченные свободы. Во Францию смелый поэт не вернулся, и никто так и не узнал, что стало с его самолётом.[597]
Для тех дальнозорких, кто оставался внутри страны, у фашистов существовало много способов «сделать жизнь тяжёлой». Достаточно было жеста или слова, чтобы попасть в чёрные списки намеченных жертв. Племянник бывшего премьер-министра, Франческо Нитти, попытался положить букет цветов на то место, где было обнаружено тело убитого социалиста Маттеоти, в годовщину его гибели. Последовал арест, тюрьма и отправка в ссылку на остров Липари сроком на пять лет. Ни следствие, ни предъявление обвинения, ни суд в таких случаях не требовались.[598]
На строительство специальных лагерей фашисты не тратились. К их услугам для заключения нежелательных элементов было много небольших скалистых островов у берегов Сицилии и Сардинии. Названия Липари, Устика, Панза, Лампедуза скоро приобрели в Италии такой же зловещий смысл, какой в СССР получило название Соловки.
Жизнь в поселениях ссыльных строго регулировалась администрацией. Гулять разрешалось только в определённых местах и в определённые часы. В любой момент мог быть объявлен вызов на площадь для переклички. Суммы, отпускаемые на пропитание, были ничтожными и постоянно уменьшались. Посылки от родных просматривались и часто конфисковывались под вымышленными предлогами.[599]
Особенной жестокостью прославился комендант поселения на острове Лампедуза. Он щёлкал кнутом и грозил использовать его на всяком, кто усомнится в могуществе фашизма. Власть его была безграничной, но иногда узники указывали ему на то, что неделю назад он объявлял обязательным правило поведения прямо противоположное тому, что он требует сегодня. «О, как я устал от этих умников! — восклицал комендант. — Вы все слишком образованы для меня! Нет сил спорить с вами! Предлагаю лучше лёгкий способ решения любого вопроса: выходим в поле, я снимаю мундир — и сходимся на кулаках. Ну, есть желающие?».[600]
Простого отказа вступить в фашистскую партию было достаточно для того, чтобы сделаться изгоем. Один ветеран войны рассказывал, как фашисты в его городке поначалу льстили ему и объясняли, что такой смелый солдат, конечно, должен вступить в их ряды. Он упрямо отказывался, и тогда началось. В его доме вдруг был устроен обыск. Потом начались аресты по вздорным обвинениям: заговорщик, поджигатель, агитатор. Никаких доказательств не было, через пару дней его выпускали из тюрьмы, но пятно на репутации оставалось. Вскоре ни один работодатель в округе не решался дать постоянное место такому «ненадёжному» работнику.[601]
Вторжение в жизнь заподозренного в антифашизме устраивалось в несколько ступеней. Сначала в дом являлись члены Национальной милиции безопасности в форме и устраивали тщательный обыск. Даже если им не удавалось найти инкриминирующих улик, они убеждались, что в доме нет оружия. После этого шайка фашистских энтузиастов-погромщиков врывалась в дом уверенная в своей безопасности. Этим мало было просто избить свою жертву. Важнее было унизить: заставить глотать касторку или съесть живую жабу. Но иногда избиения могли закончиться и смертью, как это случилось с видным редактором газеты «Ил Мондо», Джованни Амендола.[602]
Если преследование антифашиста доходило до судебного разбирательства, мало кто решался выступить в роли адвоката. В Мантуе один коммунист был обвинён в разжигании классовой ненависти. Член парламента Буффони взялся защищать его, понадеявшись на свою юридическую неприкосновенность. Ему удалось отвести обвинение, но подслественный был тут же осуждён по другой статье. А смелого адвоката разъярённая толпа фашистов подкараулила на перроне вокзала и жестоко избила.[603]
Особую ненависть у Муссолини вызывали организации масонов. Их ложи закрывались, почти во всех речах дуче масонство упоминалось как один из главных противников фашизма. Многие черты в истории этого движения позволяют интерпретировать его как первую попытку создания международного объединения дальнозорких. Некоторые историки считают, что создание Соединённых Штатов Америки было в основном результатом их деятельности — ведь половина отцов-основателей были масонами. Другой показательный факт: в 1830-е годы в Америке близорукое большинство прониклось такой враждебностью к этому движению, что в стране появились десятки газет, раздувавших свои тиражи исключительно антимасонскими материалами.
Дружба и взаимопонимание с Ватиканом длились недолго. Уже через три месяца после Латеранского соглашения Муссолини закрыл пять тысяч католических детских клубов. Он считал, что воспитание подрастающего поколения должно оставаться целиком в веденьи государства. Лозунг был: «Книга и мушкет — вот что должно быть в руках молодого фашиста». Возмущённый папа велел передать дуче, что тех, кто превращает себя в идолов, приравниваемых к Богу, народ рано или поздно свергает.[604]
Писатель Карло Леви, высланный в глухую деревню на юге Италии, писал о том, что местные крестьяне относились к ссыльным по-доброму, но они не имели понятия о политической жизни. Для них противоборство фашистов с антифашистами было просто «раздорами тех парней в Риме». «Христос никогда не заглядывал в эти края, так же, как миновали его надежда, время, связь причины и следствия, разум, история… Времена года сменяют друг друга, как и три тысячи лет назад… Никакая весть, божественная или человеческая, не проникала в эту упорную бедность».[605]В этих строчках проглядывает грустное дальнозоркого, который живёт, не веря в библейское пророчество о том, что «кроткие наследуют землю». (Матфей, 5:5)
В послевоенные годы итальянскаие интеллектуалы, пережившие фашистскую эру, склонны были снисходительно отзываться о том, что происходило тогда. Философ Бенедетто Кроче указывал на то, что тайная полиция OVRA выглядит почти гуманной рядом с ОГПУ и Гестапо. Писатель Альберто Моравия считал, что во внешней политике Муссолини наделал много чудовищных глупостей, а со внутренними делами справлялся не так уж плохо.[606] Тема преследований и арестов евреев затронута в картине Витторио де Сика «Сад Финци Контини», однако у зрителя в памяти остаётся лишь очаровательная Доминик Санда и её близкие, а стук в дверь в финале — это явление безликой Судьбы. Федерико Феллини в очаровательном фильме «Амаркорд» создаёт атмосферу карнавала, в которой фашисты проходят скорее как маскарадные персонажи, изображающие злодеев, чем как преступники, принёсшие стране океаны горя и страданий. Но в этом фильме к дальнозорким можно отнести только фигуру рассказчика, иронично комментирующего происходящее из безопасного далека.
Не свидетельствует ли это о том, что в 1930-е годы Италия была успешно и эффективно очищена от дальнозорких?
«Книги — в костёр, евреев — в газовые камеры!»
Оголтелый, иррациональный антисемитизм Гитлера, вылетавший слюной на микрофон, вырос не на пустом месте. Во второй половине 19-го века эпидемия этой болезни расползалась по миру. В 1890-е годы Франция раскололась на два враждебных лагеря из-за «Дела Дрейфуса». Сотни тысяч евреев бежали из Российской империи от погромов. Публикация «Протоколов сионских мудрецов» дала миллионам читателей возможность заменить евреями прежние разновиднсти объяснения мирового зла: ведьм, нечистую силу, масонов.
Знаменитый композитор Рихард Вагнер, я полагаю, не мог не видеть восхищённых слушателей музыки Мендельсона в концертных залах, не мог не слышать их восторженных отзывов. Признать, что он просто обделён способностью воспринимать её, было бы для него слишком унизительно. И он засел громоздить теорию о еврейской ущербности в сфере искусства, о фальши, пронизывающей всё, что исходит от еврея.
Мог ли меломан Гитлер остаться равнодушным к теориям своего кумира? К его заявлениям о вторичности Мендельсона? Который, якобы, всё лучшее, что у него есть, заимствовал у немецкого гения Баха. И не только музыка — настоящая поэзия тоже недоступна для еврея. Ибо он всегда пишет на чужом для него языке. Вот и Генрих Гейне никогда бы не мог привлечь внимания к своим стихам, если бы жил во времена Гёте.[607]
К моменту начала работы над «Мейн Кампф» уже вышла в переводе на немецкий язык и другая книга, которой суждено было войти в собрание священных текстов антисемитизма. Знаменитый американский лидер автомобильной индустрии, Генри Форд Старший, опубликовал в собственной газете, а потом и в виде четырёхтомника труд под названием «Международный еврей — главная проблема мира».[608]
Для работы над этим «исследованием» было нанято несколько профессиональных историков, политологов, экономистов, этнографов. Сам Форд выступал в роли руководителя проекта. Композиция книги базировалась на нашумевшем тексте «Протоколы сионских мудрецов». Названия глав давали ясное представление, о чём пойдёт речь: «Политическая программа евреев»; «Как они используют власть»; «Жертвы или преследователи?»; «Большевизм и сионизм»; «Захват евреями театра и кинематографа». Каждой главе предпосылался отрывок из «Протоколов».
Книга расходилась миллионными тиражами, была переведена на тридцать языков. Споры вокруг неё кипели в Америке и Европе. После серьёзных раскопок специалистам удалось обнаружить памфлет «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье», написанный французским сатириком Морисом Жоли в 1864 году. Текстуальные совпадения «Диалога» с «Протоколами» были настолько разительны, что у серьёзных историков не осталось сомнений: «Протоколы» — фальшивка, сочинённая с использованием «Диалога» неизвестным антисемитом в конце 19-го века. Но Генри Форд не смутился и объявил: «Неважно, кто написал Протоколы. В них описано то, что случилось на наших глазах в сегодняшнем мире. Поэтому мы имеем право считать их подлинными».[609]
Выше уже упоминалось о том, что Гитлер повесил портрет Генри Форда в своём кабинете, что он обширно использовал его книгу при работе над «Мейн Кампф». Остаётся только изумляться тому, что историк Ян Кершоу даже не упоминает имя Форда в тысячестраничной биографии Гитлера. Может быть, он не хотел касаться больной темы разгула антисемитизма в США в период между двумя мировыми войнами?
Немецкий антисемитизм не был изобретением или созданием будущего фюрера, он пронизывал все слои общества. С первых же дней возникновения Веймарской республики он начал прорываться яростными публикациями, речами, даже убийствами. Лидер Баварской советской республики, еврейский журналист Курт Эйснер, был убит уже в феврале 1919 года немецким офицером с аристократическими корнями. Генерал Людендорф был убеждённым антисемитом и доходил до того, что, призывая президента Гинденбурга не вручать Гитлеру пост рейсканцлера, аргументировал это тем, что тот, якобы, является марионеткой сионистов.[610]
То, что началось в Германии сразу после прихода Гитлера к власти, Мао Цзедун с полным правом мог бы назвать «немецкой культурной революцией». Если в советской России погромы церквей и поругание икон осуществлялись отрядами комсомольцев, в немецких университетских городах торжественным сжиганием книг занимались в основном гитлерюгенд, студенты и вовлечённые в шабаш профессора. Каждый должен был начать с собственной домашней библиотеки, извлечь с полок тома, объявленные «антигерманскими», и принести их на площадь. При свете факелов, под звуки музыки и громких речей в огонь летели книги Георга Бернгарда, Теодора Вольфа, Гауптмана, Германа Гессе, Карла Каутского, Эриха Кёстнера, обоих Маннов, Карла Маркса, Эриха Ремарка, Лиона Фейхтвангера, Зигмунда Фрейда и сотен других авторов.
Поначалу преследование евреев сводилось к организации бойкотов их магазинов, увольнению из всех государственных учреждений, к спорадическим избиениям. Главная волна террора обрушилась на социалистов, коммунистов, членов религиозных организаций. Этих арестовывали тысячами, держали в камерах без предъявления обвинений. Один свидетель описал на Нюренбегском процессе, как в берлинской тюрьме людей избивали железными палками, резиновыми жгутами, плетьми, без всякой цели, просто утоляя садистские инстинкты.[611] Словно хотели быть уверенными, что, в случае выхода на свободу, заключённый не захочет возвращаться к политической деятельности.
Массовые аресты проходили под руководством Гиммлера и Гейдриха. В Баварии и Пруссии только в марте-апреле было арестовано около десяти тысяч коммунистов и социалистов, в июле это число удвоилось. Отто Велс и другие лидеры социалистов бежали в Прагу, где основали штаб-квартиру партии в изгнании. В июле дошла очередь до активистов католических партий, две тысячи были отправлены за решётку.[612]
В такой атмосфере началось массовое бегство немецких интеллектуалов из страны. Но оно затруднялось тем, что далеко не у всех были средства для жизни за рубежом. Даже хорошо обеспеченный Томас Манн испытывал трудности, живя в Швейцарии. Ещё хуже финансовых затруднений эмигрантов терзало чувство отчаяния и безнадёжности при виде того, что творилось на их родине, привыкшей гордиться своей культурой, своими традициями гуманности и честности.
Томас Манн писал в дневнике 1933 года: «Несмотря на всю неуёмную ненависть между коммунистами и нацистами, новый режим стремительно идёт к тому, чтобы учредить в стране некий национал-большевизм… Под личиной борьбы с марксизмом и сионизмом на самом деле происходит изгнание всех гуманистических и интеллектуальных элементов… За этим стоит ненависть примитивного сознания ко всему утончённому, сложному, что они объявляют антигерманским и встречают яростным протестом… Родство между коммунизмом и нацизмом порождено тем, что они созданы одинаковыми историческими ситуациями, они так же неразделимы, как капитализм и марксизм». Чувствуя свою несовместимость с режимом, Томас Манн подал заявления о выходе из Прусской академии искусств, из Германской академии, из Пен-Клуба, из Комитета Лиги Наций и других официальных учреждений.[613]
Тысячи историков, политологов, философов пытались вглядеться в загадку живучести антисемитизма. Розеншток-Хьюсси, сам крещённый еврей, с иронией предложил такой ответ: «Еврейство — это не материальное свойство, а некое “слишком много”. Слишком много милосердия, слишком много проворства, слишком много понимания, слишком много самоотрицания, слишком много самовлюблённости — вот в чём заключается эксцентричность евреев и исходящая от них опасность».[614]
Один полемист обронил фармацевтическую метафору: «Антисемитизм так популярен, потому что это лучшее обезболивающее лекарство от сложности мира». Если мне когда-нибудь доведётся разрабатывать эту тему детально, я попытаюсь проследить её связь всё с тем же Каиновым грехом. Антисемитизм — это вариация вражды обделённого к одарённому. Какое сгущение дальнозорких должно ощущаться в гуще народа, религия которого отрицает все материальные изображения божества, требует постоянного устремления внутреннего взора верующего ввысь и вдаль? За эту постоянную хроническую дальнозоркость их преследовали во все века и будут преследовать дальше.
Гитлер умело манипулировал общественным мнением за границей. Когда представитель Ватикана призвал его ослабить преследования евреев, он возразил: «Я только продолжаю то, чем Святая Римская церковь занималась в течение полутора тысяч лет». Когда о том же просили видные учёные, он отвечал: «Я вовсе не антисемит… Это просто беда евреев, что они так тесно идентифицировали себя с марксизмом».[615] Давая интервью американскому журналисту, уверял его, что принятие расовых законов нацелено исключительно на защиту евреев и что благодаря им антисемитизм в Германии ослабел.[616]
«У него для каждого найдётся своя отдельная ложь», заметил Томас Манн в дневнике. Больше того, в «Мейн Кампф» мы можем найти настоящий панегирик лжи: «Сознательная ложь, интриги и уловки были первым шагом, сделав который человек стал отличаться от животных».[617]
Вся картина мира в сознании Гитлера сводилась к взаимодействию и противоборству природных сил. Нации и расы боролись за выживание точно так же, как боролись биологические виды. Сильнейшие выживут, слабым суждено погибнуть. Упрощённый дарвинизм служил ему для интерпретации всех загадок истории и политики. Если германская раса не уничтожит еврейскую, она погибнет сама. Религии не было места в его картине мира, она была порождением невежества ушедших в прошлое веков.
Любое отклонение от расистских теорий объявлялось еврейской пропагандой. Понятия солидарности людей, общечеловеческой морали, усилия по достижению мира — всё лишь хитрые уловки, нацеленные на достижение еврейского доминирования. Капитализм и коммунизм одинаково порождены еврейским духом. Поражения Германии в Первой мировой войне можно было бы избежать, если бы вовремя отправить несколько сотен евреев в газовые камеры.
Изгнание и уничтожение дальнозорких привело к замедлению научного прогресса в Германии. Только в конце 1943 года нацистские лидеры осознали, как далеко противник обогнал их в сфере военно-технических изобретений, таких как радарные установки, прицельное бомбометание, акустические приборы, шифровка и дешифровка радиосигналов. Был отдан секретный приказ демобилизовать из армии 2000 молодых учёных и инженеров, многие из которых включились в создание ракет ФАУ-1 и ФАУ-2.[618]
В марте 1940 года Геббельс записал в дневнике: «Фюрер увидел в кинохронике Сталина, и тот ему очень понравился». Гитлер постоянно возвращался к вопросу, стоит ли ему встретиться лично с большевистским вождём. В письме Муссолини он подробно объяснял, что Сталин теперь стал нормальным диктатором, с которым можно вести переговоры. В годы войны он даже поговаривал о том, чтобы оставить его управлять завоёванной Россией.[619]
Впоследствии многие исторические события подтвердили верность политической интуиции Томаса Манна, подметившего близость нацизма и большевизма. Восточная Германия легко вошла в коммунистический блок и стала на сорок лет форпостом коммунизма в Европе. Бывшие нацисты довольно легко находили себе рабочие места в рядах восточногерманской тайной полиции Штази. Сам Сталин, разгромив Гитлера, четыре года спустя сделался продолжателем его дела уничтожения евреев, назвав его «борьбой с космополитизмом». После разгрома «Антифашистского еврейского комитета» и пыток «убийц в белых халатах» ему оставался всего один шаг для постройки в Биробиджане филиалов Дахау и Освенцима. Но, видимо, услышал Господь молитвы народа Своего и в последний момент пережал кровеносный сосудик в голове нового фараона.
Под палками хунвейбинов
Идеологические нападки на писателей, поэтов, драматургов были постоянной частью коммунистической пропаганды в Китае. Продолжая эту линию, Цзян Цин стала в начале 1965 года убеждать своего мужа, что пропущенная цензурой пьеса одного хорошо зарекомендовавшего себя автора является на самом деле скрытой идеологической диверсией. Там один смелый чиновник говорит императору династии Мин: «Раньше ещё ты делал кое-что хорошее, а что ты делаешь теперь? Исправь ошибки! Дай народу жить в счастье… Ты считаешь, что во всём прав, и потому отвергаешь критику!». Разве не сквозит здесь аналогия с критикой, которую генерал Пэн Дехуай осмелился недавно обрушить на вождя? Разве не пытается драматург взять на вооружение прошлое, чтобы очернить настоящее?[620]
Многие аспекты культурной жизни давно вызывали гневную критику Мао. Он считал, что время, отводимое на лекции, надо сократить, «что время студентов нужно тратить на активное участие в классовых битвах… Нынешний метод образования калечит таланты, калечит молодёжь… Читать столько книг! Это нужно прекратить… Нынешний метод проведения экзаменов — это метод обращения с врагом… В списывании нет ничего постыдного… Всю систему образования следует менять», говорил он на собраниях.[621]
Можно было подумать, что в председателе Мао шестьдесят лет спустя проснулся незадачливый школьный прогульщик и дал волю накопленному в детстве гневу на наставников, которые заставляли его корпеть над учебниками, зазубривать ненужные ему премудрости, дрожать перед экзаменами. Он только что не цитировал фамусовскую формулу: «Чтоб зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь!». И он мог быть уверен, что среди учащейся китайской молодёжи он найдёт много горячих сторонников.
Параллельно с движением в сторону упрощения всех сторон культурной жизни, шла настойчивая работа по выявлению всяческого инакомыслия. Лена Дин-Савва к тому времени работала в Бюро переводов при китайском ЦК КПК. Естественно, она должна была подать заявление на вступление в партию. Партийный лидер её звена объяснил ей, что она обязана раз в месяц подавать письменный рапорт о своих мыслях, о прочитанных книгах, о встреченных людях, обо всём, что её тревожит и смущает. Такой же отчёт надо давать устно своей ячейке каждые две недели. Всё это называлось «преподнесение партии своего красного сердца».[622]
Стараясь быть честной, наивная Лена созналась в письменном отчёте, что её тревожат разговоры с отцом, вернувшимся из СССР в конце 1950-х. Там он был арестован в годы Большого террора и провёл в лагерях почти 20 лет. Понятно, что его комментарии о советской системе и Сталине резко расходились с линией официальной китайской пропаганды. Каков же был ужас неопытной девушки, когда ей сообщили, что её рапорт отправлен по месту работы её отца![623]
В 1965 году Мао Цзедун имел весьма серьёзные основания для тревоги. Свержение Хрущёва в октябре 1964 года показало, что да — такое возможно! Коммунистический лидер может лишиться власти в результате «дворцового переворота». Если его соратники-соперники в Политбюро сумеют договориться, собрать внезапно Пленум ЦК и вынести на голосование все его ошибки, приведшие к голоду в стране, ему может выпасть похожая судьба. В отличие от Сталина, у Мао к этому моменту ещё не было отлаженного и послушного аппарата карательных органов, чтобы провести Большую чистку сверху. Мысли его напряжённо искали выхода и, как всегда, соскальзывали к привычному и послушному инструменту: тёмным страстям народных масс.
Начало было положено в мае 1966 года. Специально созданная Группа по проведению Культурной революции инициировала выступление нескольких студентов Пекинского университета против парткома и ректората. На стене столовой они вывесили большое дацзыбао с обвинениями руководства в ревизионизме и отступлениях от линии «председателя Мао». Председатель немедленно выразил студентам свою поддержку, приказал перепечатывать их обвинения в газетах. Новая кампания начала распространяться по стране стремительно, как лесной пожар. Повсюду протестующие студенты, получившие название хунвейбинов, стали нападать на университетское и местное партийное руководство. Вскоре к ним присоединились и группы молодых рабочих — цзаофаней.[624]
Мао Цзедун начал лично выступать на площади Тяньаньмань, выражая свою поддержку протестующим. «Бунт — дело правое!» — таков был лозунг. Сотни тысяч молодых китайцев кинулись штурмовать поезда, мечтая попасть в столицу и увидеть вождя своими глазами. Лена Дин-Савва так описала это нашествие:
«Пекин кипел — работа в учреждениях прекратилась, учёба в школах и вузах тоже остановилась, школьники и студенты всей страны вышли на улицы. Чтобы им было удобнее “заниматься революцией”, транспорт, включая поезда, был бесплатно предоставлен для их пользования. Когда бунтующая молодёжь оказалась в Пекине, всем учреждениям было приказано предоставлять им жильё, кормить и возить по Пекину в целях ознакомления с политическим движением. Ко мне в квартиру поместили шесть подростков пятнадцати лет. Я отдала им все одеяла и простыни, а сами мы спали, не раздеваясь».[625]
Мао был в центре событий, в осенние месяцы он выступал перед ликующими толпами хунвейбинов восемь раз. Эти митинги-парады собирали миллионы участников. Сенсацией стал заплыв по реке Янцзы, устроенный председателем. Семидесятидвухлетний старик находился в воде больше часа, проплыв девять миль под возгласы тысяч зрителей на берегу. Благодаря быстрому течению реки, он побил десяток мировых рекордов в плавании, о чём писали газеты всего мира. Председатель мировой ассоциации пловцов с сарказмом предложил ему принять участие в следующих Олимпийских играх.[626]
Лена Дин-Савва не могла уклониться от участия в рейдах хунвейбинов, но по возможности она пыталась заступаться за намеченные жертвы. «Милицейские участки выгребали из своих архивов личные дела “врагов народа” и передавали этой зелёной молодёжи. Те вламывались в указанные квартиры и дома и расправлялись с хозяевами как хотели. Тысячи людей погибли от рук подростков, которые забивали их до смерти. Когда я однажды попыталась вступиться, меня обвинили в том, что я защищаю контрреволюционера. Затем потребовали машину, чтобы увезти из дома всё дорогостоящее».[627] То есть, стимул грабежа присутствовал во всех этих атаках как некий приз.
Публичные избиения назывались «митинги критики и борьбы». Инструкции, даваемые Мао Цзедуном полиции, сводились к следующему: «Нежелательно, чтобы людей забивали до смерти… Но когда ненависть масс к врагам народа перехлёстывает через край, её удержать невозможно, так что и не пытайтесь… Нужно поддерживать постоянную связь с хунвейбинами, сотрудничать с ними, снабжать их информацией о людях пяти категорий: землевладельцы, богатые крестьяне, вредные элементы, реакционеры, правые уклонисты».[628]
Понятно, что под последние три категории можно было подвести любого человека. Для рядовых злопыхателей, подверженных «болезни красных глаз» (так в Китае называют зависть), наступила звёздная пора. Достаточно было анонимного доноса, чтобы удар обрушился на твоего недруга или соперника. Окончательный выбор оставался за погромщиками. И он, как правило, был безошибочным, ибо близорукий опознаёт дальнозорких по манере поведения, по взгляду, по интонациям, по словарному запасу. Охота за ними шла по всей стране, достигала даже таких удалённых районов, как Тибет и Внутренняя Монголия. Порой шайки местных хунвейбинов сталкивались с приезжими, а порой объединялись с ними, чтобы громить храмы, убивать монахов, избивать тех, кто побогаче.[629]
В городах атакам подвергались, главным образом, люди, занимавшие руководящие посты в партийных и административных учреждениях, в системе образования, в индустрии, в культурных сферах. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Даже формальный председатель правительства страны, Лю Шаоци, испытал облегчение, когда Мао Цзедун пригласил его для дружеской беседы. Они вспоминали долгий путь, пройденный вместе, трудную работу по адаптации марксистской философии к условиям Азии. Мао очень советовал соратнику перечитать некоторые труды Гегеля и Дидро, призывал заботиться о здоровье. Лю Шаоци ушёл обнадёженный. А два дня спустя погромщики с красными повязками на рукавах ворвались в его дом и вытащили вместе с женой на «митинг критики и борьбы».[630]
Свидетель описал, что происходило там. «Лю Шаоци и его жену Ван Гуанмэй окружила толпа. Хунвейбины толкали, пинали и били их. На Лю разорвали рубашку. Его дёргали за волосы. Когда я протиснулся поближе, то увидел, как кто-то заломил ему назад руки в то время, как другие старались нагнуть его вперёд… Это у них называлось “делать аэроплан”. В конце концов им удалось согнуть его пополам, и он чуть не ткнулся лицом в грязь. Его пинали и били по лицу. А солдаты из центрального полка охраны по-прежнему не хотели вмешиваться».[631]
Публичные избиения Лю Шаоци продолжались несколько месяцев, на них заставляли смотреть и его детей. Толпы на стадионах ликовали, кинокамеры не останавливались, и потом ленты кинохроники разлетались по стране. Смешно думать, что Мао не видел их. В отличие от Гитлера и Сталина, предпочитавших осуществлять террор втайне, «великий кормчий» явно упивался зрелищной стороной, возрождавшей традиции римского цирка. Мучения Лю Шаоци продолжались два года, он умер в ссылке, куда его отправили под вымышленным именем, не обеспечив ни нормальным жильём, ни медицинской помощью.[632]
Судьба генерала Пэндэхуая была не лучше. «Группа молодчиков ворвалась к нему в дом, схватила и доставила в столицу, где его посадили в тюрьму. Пэна мучили и избивали более ста раз, сломав рёбра, искалечив лицо и отбив лёгкие… То и дело его таскали на митинги критики и борьбы. Престарелый маршал непрерывно стонал, с трудом говорил. Из тюрьмы он написал Мао: “С самым последним приветом к вам! Желаю вам долгих лет жизни!” Он умер в 1974 году».[633]
Через похожий ад прошла мать Лены Дин-Савва. Занимая важный пост в крупном индустриальном предприятии, она пыталась заступиться за подчинённых ей инженеров, объявленных «врагами народа», и за это получила ярлык «советская шпионка». Началось обычное в таких случаях «хождение по мукам». «Мать стояла часами на коленях на всех митингах, её заставляли в сопровождении бунтовщиков ходить по университетскому двору, бить в гонг и кричать “Я враг народа, хотела идти по капиталистическому пути!” Её публично унижали и оскорбляли».
Она попыталась уехать с детьми в Чаншу, но там её арестовали прямо на вокзале. Ночью хунвейбины начали пытать её, всаживали иглы под ногти, вырывали волосы, всю ночь не разрешали встать с колен. На следующее утро все стены зданий Университета были покрыты дацзыбао, где крупными буквами перечислялись её преступления. Матери на шею повесили огромную доску с надписью “советская шпионка Лин На”. Её заставляли стоять в кузове грузовика… и стали таскать по всем учебным заведениям и по главным улицам Чанши». Не выдержав всего этого, в мае 1968 года она повесилась в камере.[634]
Сотни жертв культурной революции не выдерживали мучений, кончали с собой. Общее число погибших установить невозможно, приблизительные оценки колеблются от двух до четырёх миллионов. Но Мао Цзедун не собирался останавливаться. В письме Цзян Цин он писал, что «дьяволят надо выпускать каждые семь-восемь лет… Очистительный шторм, прокатываясь по стране, возвращает ей порядок».[635] Избиение старшего поколения молодёжью он интерпретировал как понятную ему «борьбу классов» и ликовал.
Весь кошмар протекал под лозунгами «размозжим головы контрреволюционерам» и «защитим председателя Мао». Но если погромщиков спрашивали, что нужно изменить в стране, единственный вразумительный ответ, который они могли дать, был: «отменить вступительные экзамены в вузы».[636] Это показывает, что сознание близоруких к этому моменту уже обнаружило тот выросший в общественной жизни барьер, который отсеивал их от дальнозорких, отсекал путь наверх. И импульс сломать, уничтожить этот барьер подогревал их разрушительную энергию.
Активным участником и руководителем «Великой пролетарской культурной революции» был генерал Линь Бяо. В течение многих лет он оставался верным соратником «председателя Мао», занимал самые высокие посты, вплоть до поста министра обороны (1959–1971). Но, как это всегда бывает при единовластии, на самой верхушке пирамиды рано или поздно становится тесно. Подстрекаемый женой Мао Цзедун всё больше охладевал к генералу, открыто критиковал его. Понимая, что его ждёт судьба Лю Шаоци, Линь Бяо решился на побег.
В сентябре 1971 года он и его семья тайно погрузились в траспортный военный самолёт и вылетели в направлении СССР. Наутро из Внешней Монголии пришло сообщение, что там в пустыне найдены обломки разбившегося самолёта с девятью обгоревшими трупами внутри. Причина катастрофы осталась неизвестной, скорей всего потому, что никто не был заинтересован в честном расследовании. Официальная версия: разбился при неудачной попытке аварийного приземления. Но в официальный отчёт вкралась подозрительная деталь: обломки были найдены разбросанными на площади в 10 квадратных километров. Такой разброс возможен только при случае взрыва в воздухе.[637]
Мао Цзедун умер в 1976 году, и немедленно закипела неизбежная борьба за власть. Она очень скоро закончилась арестом вдовы Цзян Цин и трёх её ближайших помощников. Арестованные были отданы под суд, названы «Бандой четырёх» и объявлены виновными во всех эксцессах Культурной революции. К списку злодеев был также причислен и покойный маршал Линь Бяо. Имя «великого кормчего» осталось незапятнанным, никакого разоблачения культа личности не последовало.
В застенках «Острова свободы»
Въезжая в январе 1959 года на танке в Гавану, Фидель Кастро ещё не знал, что в скором времени он станет коммунистом. Полвека спустя он будет уверять своего биографа, что марксизм-ленинизм служил ему путеводной звездой с юных лет и что на бунт против Батисты его вдохновила работа Ленина «Что делать?»[638] На самом деле всю информацию о коммунизме он получал от брата Рауля и Че Гевары. Плюс новейшая история Европы демонстрировала ему две привлекательные черты: уверенное распространение коммунистических идей по всему свету и безразличие коммунистических лидеров к мнениям избирателей.
Ещё в апреле 1959 года, во время поездки по США, в ответ на вопрос ведущего программы NBC «на чьей вы стороне в противоборстве коммунизма и демократии?», он со страстью объявлял: «Демократия — мой идеал… Я не согласен с идеями коммунизма… Для меня нет сомнений, на чью сторону становиться… Неужели вы думаете, что я допущу коммунизм к проникновению в созданную мной армию?.»..[639]
В этот поворотный момент Кастро не мог не оглядываться на события 1920-30-х годов в европейских странах. Там, как мы знаем, приобрели огромную силу революционные движения, нацеленные на коренные перемены в социальной структуре государств. Социалисты, коммунисты, анархисты состязались в применении насилия для расширения своего влияния. Возникновение и быстрые успехи фашистов в Италии, нацистов в Германии, фалангистов в Испании были защитной реакцией консервативных слоёв, не желавших радикального переворота. Благонамеренные готовы были терпеть насилие, применяемое Муссолини, Гитлером, Франко, потому что видели в них единственный противовес, способный остановить «красных».
На Кубе армия, победившая Батисту, включала множество политических сегментов самого разного толка и окраски. Уже в процессе войны они нередко вступали в конфликты, доходившие до прямой конфронтации. Кастро понимал, что этих испытанных воинов невозможно приструнить уговорами, идеями, обещаниями, что очень скоро ему придётся выбирать между политическими группировками победителей. Его решение определилось фактором, перевесившим в его глазах все остальные: только коммунисты не требовали от него проведения всеобщих выборов, только коммунистическая система оставляла возможность безграничной пожизненной власти «лидера максимо». Он, ведь, ещё в университетские годы отшучивался от звавших его к себе коммунистов, говоря: «Только при условии, что я получу роль Сталина».[640]
Судя по всему, решение ступить на путь присоединения к коммунистам Кастро принял в январе 1960 года. Именно тогда началась массированная национализация американской собственности на острове, объём которой превысил три миллиарда долларов. Расчёт строился на том, что в год президентских выборов правительство США не сможет принять никаких эффективных ответных контрмер. Наложенное на Кубу нефтяное эмбарго не произвело заметного эффекта, ибо в кубинские порты вскоре пошли танкеры из СССР.
Массовый террор на острове начался уже в 1959 году. Поначалу он ограничивался охотой за сторонниками Батисты. Все, кто служил в армии диктатора и не успел снять и спрятать военную форму, становились добычей созданной Политической полиции. Мальчишек-новобранцев, вступивших в своё время в армию, потому что там платили и кормили, могли приговорить к смерти. Их привозили к мелким свежевырытым рвам, расстреливали из пулемётов, и бульдозеры быстро засыпали братскую могилу. Трупы не отдавали родственникам, опасаясь, что публичное оплакивание может привести к беспорядкам.
В отличие от Китая, террор на Кубе не злоупотреблял зрелищными элементами. Расстрелы происходили во дворе тюрьмы по ночам, никакие фотографы или кинохроника туда не допускались. Трупы увозили в простых гробах и закапывали на удалённых кладбищах без всякой маркировки. Солдат, участвовавший в процедуре, получал 5 песо и три дня увольнительной.[641]
Там, где судебная процедура имела место, она была откровенным фарсом. Циничный председатель суда объяснял обвиняемому: «Твой адвокатский менталитет лишает тебя возможности правильно понять происходящее. Всё, что скажет твой защитник, какие доказательства он приведёт, каких свидетелей попросит вызвать, не имеет никакого значения. И то, что думает прокурор или председатель суда, тоже абсолютно неважно. Приговор заранее вынесен отделом политической полиции Г-2, и нам остаётся только утвердить его».[642] Закончив свою речь, председатель вернулся к чтению книги комиксов, время от времени оборачиваясь к двум судебным заседателям и показывая им самые смешные картинки. По окончании представления заседатели ставили отпечаток большого пальца рядом с подписью председателя под приговором — они были неграмотны.[643]
Бывали обстоятельства, при которых судебный фарс опускался. Вдруг в коридоре тюрьмы появлялась процессия немолодых женщин, одетых в чёрное. Они шли вдоль дверных решёток, вглядываясь в лица узников. Время от времени та или другая вскидывала руку, указывала на кого-то из заключённых и восклицала: «Это он, он убил моего сына!». Такого «свидетельства» было достаточно. Обвинённого уводили и расстреливали в ту же ночь.[644]
Для распознавания еретиков средневековая церковь использовала разные приёмы, руководствовалась особыми приметами. В Швейцарии секта вальденцев буквально исполняла завет Христа «не клянитесь вовсе», поэтому их обнаружить было очень просто: потребовать поклясться в чём-нибудь очевидном, и еретик выдаст себя отказом. В России 17-го века староверов обнаруживали по тому, как они осеняли себя крестным знамением — по старинке двумя перстами, а не тремя, как повелел патриарх Никон. На Кубе 20-го века присоединение к коммунистам Фиделя Кастро дало лёгкий способ обнаруживать его противников. В миллионах экземпляров были отпечатаны наклейки с надписью: «Если Фидель коммунист — я тоже». Эти бумажки следовало наклеивать на двери дома, на бампер автомобиля, на шезлонг в саду, на футболку.[645]
В какой-то момент табличка с этим лозунгом была поставлена на рабочий стол одного молодого чиновника в почтовом ведомстве. По своим взглядам тот был противником диктатуры Батисты, но оставался верующим христианином. Признать себя последователем коммунизма он не мог, поэтому осмелился табличку убрать. Он ожидал, что это может грозить ему увольнением. Но он был абсолтно не готов к полному краху жизни, который последовал как кара за этот поступок.
Несколько дней спустя он спал в своём доме, и его разбудило дуло автомата, прижатое к его щеке. Несколько агентов политической полиции вели обыск в комнате. Ничего инкриминурующего не нашли и увели молодого человека с собой, пообещав родителям, что он скоро вернётся.[646]
Последовало несколько допросов, после чего его привели в комнату, где уже находилось несколько незнакомых ему людей. Всех заставили сесть рядом на скамье, включили яркие лампы и начали снимать фотоаппаратами и кинокамерой. На следующий день фотографии появились в газетах с подписью: «Банда террористов, нанятая Си-Ай-Эй и обнаруженная органами Политической полиции».[647]
Молодого человека звали Армандо Вальядарес. Он вернулся домой только 22 года спустя. Его мемуары о пережитом в тюрьме можно уподобить «Архипелагу Гулагу» Солженицына. Или Дантову «Аду». «Охранники начали толкать и колоть заключённых примкнутыми штыками. Мы видели, как те побежали, и было страшно смотреть, как кровь капала с их ног, как темнели от крови штаны. Один споткнулся, упал, и охранник прыгнул на него всей тяжестью. Остальные начали пинать его, пока он не потерял сознание и не остался лежать там в луже крови».[648]
Принудительный труд заключённых, конечно, имел место, но не в таких масштабах, как в СССР или Китае. «Живая цепь тянулась от каменоломни до места погрузки. Мы передавали камни из рук в руки… Иногда острые края резали ладони, но цепь не останавливалась, и вскоре мы передавали куски гранита, потемневшие от крови. Если уронишь камень, ритм движения собъётся и десятник подбежит и начнёт избивать тебя».[649]
Похоже, что тюрьмы были превращены в фабрики, производившие главный цементирующий материал для постройки кастровского государства: СТРАХ. «Я лежал на полу, и они избивали меня кусками кабеля. Каждый удар был как прикосновение раскалённого докрасны железа, но вдруг я испытал самую страшную, самую свирепую боль в своей жизни. Это один из охранников прыгнул всей тяжестью на мою сломанную, пульсирующую болью ногу».[650]
В книге есть фотографии узников. Рядом с именами идут краткие пояснения: «жертва биологических экспериментов; задохнулся в закрытом грузовике во время перевозки; убит при попытке к бегству; получил огнестрельное ранение в гениталии; заколот штыками; ранен девятью пулями, когда пытался помочь товарищу; руки изрублены мачете».[651]
Параллельно с террором шло последовательное разрушение старой культуры. Статуи прежних президентов были разбиты, неугодные книги уничтожались. Когда друг детства команданте, Роландо Амадор, бежал с «острова свободы», он оставил дома библиотеку из двадцати тысяч томов. Вся она была отправлена в утиль. Вся коллекция музея в Карденасе, включавшая знаменитые собрания раковин, бабочек и древнеримских монет, была либо разорена, либо отправлена в Россию.[652]
Чтобы направить кубинских интеллектуалов в правильное идейное русло, с ними было проведено несколько воскресных собраний в Национальной библиотеке в Гаване. Перед началом каждого собрания Кастро демонстративно расстёгивал портупею и выкладывал пистолет на стол. Символика жеста была слишком понятна каждому слушателю. Собрания походили на суд, в котором команданте был и судьёй, и коллегией присяжных.[653]
Не прошло и года после победы «фиделистов», как кубинская революция «начала пожирать своих детей». Даже самые преданные сторонники и соратники Кастро по революционным боям могли вдруг оказаться за решёткой. Узники тюрьмы Ла Кабана были изумлены, когда к ним бросили Умберто Сори Марина, автора свирепого закона, по которому многие из них были осуждены. Ему грозила смертная казнь по обвинению в участии в заговоре, и его мать, в доме которой Кастро не раз обедал, бросилась к ногам команданте, умоляя пощадить сына. Тот погладил её по голове и сказал:
— Не бойся. Ничего плохого не случится с Умберто, обещаю тебе.
В ту же ночь Сори Мартин был расстрелян.[654]
Уже ранние наставники юного Кастро замечали, что ложь слетала с его языка легко и естественно, а порой даже и без видимой цели. Удачный обман радовал его, а разоблачение ничуть не смущало. В 1982 году, по личной просьбе французского премьер-министра, социалиста Франсуа Миттерана, команданте согласился выпустить из тюрьмы Вальядареса, который сумел к тому времени прославиться своими стихами, сочиняемыми в камере и тайно пересылаемыми на волю. Теперь нужно было объяснить миру, за что талантливого поэта продержали в камере 22 года. Состряпали легенду: он был сотрудником секретной полиции Батисты, совершил много серьёзных зверств. Подготовили для показа иностранным журналистам пакет документов с фотографией и перечнем примет: цвет глаз, рост, вес. Всё верно, тот самый Вальядарес в молодости. Только забыли, что при Батисте в стране пользовались фунтами и дюймами, указали вес в килограммах, а рост в метрах.[655] Видимо, если слишком рьяно избавляешься от дальнозорких, у тебя не остаётся и сотрудников, способных правильно помнить прошлое.
Освобождённый Вальядарес уехал в Америку и в 1988 году был назначен представителем США в Комиссии ООН по правам человека. Его книга вышла в 1986 году (русское название «С надеждой в сердце»), она была переведена на несколько языков, но, похоже, не смогла серьёзно омрачить образ легендарного борца с мировым империализмом. В своей «Автобиографии» Кастро уделяет Вальядаресу две страницы, спокойно повторяет ложь о службе в секретной полиции Батисты, добавляет к ней обвинение в подкладывании бомб.[656] Не мог же он допустить, чтобы показания какого-то поэта помешали ему рассылать по всему свету отряды и целые армии «барбудос», которые учили другие народы идти «верным путём», не жалея пуль, гранат, мин, снарядов.
Комментарий девятый: О БАНАЛЬНОСТИ ЗЛА И КРОВОЖАДНОСТИ ДОБРА
Как подковы куёт за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Осип Мандельштам«Нет ничего нового под солнцем», объявил Экклезиаст три тысячи лет назад (Эккл., 1:9). И действительно, что нового мы можем найти в волнах террора, описанных в данной главе? Вглядываясь в анналы истории, мы обнаруживаем десятки таких же массовых расправ, которые верховная власть обрушивала на лояльных, послушных подданных.
Чаще всего жертвами становились этнические или религиозные меньшинства. Англия изгоняет евреев (1290), Испания — тоже евреев (1492), а потом и морисков (1609). Во Франции гугенотов избивают в 1572 (Варфоламеевская ночь), потом в 1685 (отмена Нантского эдикта). В России обрушиваются на староверов (1650-е), в Турции — на греков (1820-е) и армян (1915).
Иногда террор преследовал главным образом цель наживы. Римские императоры Калигула, Нерон, Домициан сделали конфискации имущества казнённых постоянной статьёй дохода. Французский король Филипп Четвёртый хорошо нажился на разгроме рыцарского ордена Тамплиеров (1307–1312), проходившем, как положено, с публичными судами, признаниями обвинямых, полученными в результате немыслимых пыток, сожжениями. Казна Ивана Грозного очень скоро опустела бы, если бы он отказался от казней бояр, от военно-грабительских походов на собственные города Новгород и Псков, от выбивания батогами из собственных воевод тех денег, которые те награбили во время воеводства в провинции (16-й век).
Убийства и изгнания политических противников были широко использованы римским диктатором Суллой, английским королём Генрихом Восьмым и его дочерью Марией Кровавой (16-й век), французскими якобинцами (1792–1794).
Но в веке 20-ом произошло много такого, что могло бы изумить мудреца Экклезиаста и заставить его признать, что нечто новое иногда случается на свете.
Сначала великие физики вгляделись в нижние слои мира материального и сумели обнаружить там огромные запасы энергии, которые, при умелом манипулировании, можно превратить в термоядерное оружие.
В те же годы великие властолюбцы вгляделись в нижние слои мира духовного и обнаружили там в микрочастицах отдельных душ заряды дремлющей братоубийственной вражды, оседлав которую можно прорваться на вершину абсолютной власти. Но чтобы разжечь мощный пожар вражды, нужно запастись хорошей растопкой. Такой растопкой оказалась особая порода дальнозорких, которой подошло бы название «спасители человечества». Их образы кочевали уже в художественной литературе 19-го века, чаще всего в обличье революционно настроенных молодых людей.
Выше, в Комментарии № 3, уже шла речь о том, что бороться со злом, с несправедливостью, за истину, добро, свободу — занятие необычайно увлекательное! И какой престиж и славу они приносят смелым борцам! Зло и несправедливость коварны, они окружают себя прочными крепостными стенами, одолеть их нелегко. И неизбежно возникает вопрос: какие человеческие жертвы можно принести на алтарь священной борьбы?
В литературе герой Достоевского на протяжении всего романа мучается вопросом: можно ли зарубить старуху-процентщицу ради победы добра? У Стендаля Жюльен Сорель демонстрирует приверженность простой арифметике: «я готов погубить троих ради спасения четверых». Но в реальной жизни ни Желябов, ни Каляев, ни Гаврила Принцип, ни Рамон Меркадер, ни тысячи их соумышленников и сообщников не сомневались в правомочности творимых ими кровопролитий.
Пятеро наших героев с юности вступили в ряды смелых революционеров, преодолевали опасности, рисковали своими жизнями. И конечно, они мечтали об успехе своего дела. Кризисный момент в их жизненном пути мог наступить тогда, когда победа над понятными врагами была достигнута, а счастье человечества оставалось таким же далёким и недостижимым. Что им оставалось? Все пятеро начали сочинять себе врагов, лишь бы не лишаться своего любимого занятия.
У крупных деспотов есть свои радости и удовольствия, которые простым людям неизвестны. Про императора Нерона, уже обожествлённого, в Древнем Риме рассказывали такую историю. Однажды он ужинал в узком кругу приближённых, и вдруг на него напал неудержимый приступ смеха. Сотрапезники спросили, что стало причиной веселья небожителя.
— Ох, боюсь, вы меня не поймёте, — ответил Нерон, вытирая слёзы из глаз. — Боюсь, вы не сумеете оценить юмор происходящего.
Придворные настаивали, и тогда владыка сознался:
— Я вдруг представил, что каждому из вас в любой момент могу отрубить голову.
И вновь залился звонким смехом.
Не напоминает ли это нам радость Сталина, слушающего рассказы палачей о казни Зиновьева и Бухарина? Приветливость Мао в последней беседе с Лю Шаоци? Игру в отзывчивость Фиделя Кастро и его лживое обещание матери Сори Марина не казнить её сына?
Максималист Нерон мечтал о том, чтобы у римского народа была одна голова и чтобы её можно было отрубить одним ударом. Но, похоже, другие тираны получают особое удовольствие от отрубания не всех голов, а лишь торчащих над средним уровнем. Этим головам остаётся в предсмертные минуты только горько сожалеть, вспоминая, сколько усилий они приложили, помогая фараону разжигать пожар вражды. И ради чего? Ради спасения человечества? А сколько голов они поотрубали сами на долгом пути?
Пять фараонов оставили за собой такой широкий кровавый след, что нам трудно разглядеть за ним какие-то их человеческие черты. Но представляется многозначительным тот факт, что все пятеро были, как и Нерон, причастны к тем или другим видам художественного творчества. Гитлер и Сталин уже в детстве пели в церковном хоре, потом один всерьёз занимался живописью и архитектурой, другой писал стихи. Мао Цзедун оставался предан поэзии до конца жизни, даже его «Красный цитатник» сочинён поэтом. В ораторском искусстве Муссолини, Гитлер и Кастро достигли таких профессиональных высот, что им могли бы позавидовать афинские софисты и римские риторы.
Но главным талантом и увлечением всех пятерых был шоу-бизнес. Режиссуре парадов, шествий, торжественных похорон, юбилейных торжеств, партийных съездов они уделяли огромное внимание. Даже показательные судебные процессы строились по законам зрелищ, и миллионы зрителей следили за ними с огромным вниманием, хотя исход был так же предрешён, как гибель гладиатора на арене.
Организаторам зрелищ в цирках Древнего Рима для успеха были необходимы три элемента: оголодавшие дикие звери, послушные, беспомощные христиане и публика на скамьях, приходящая в восторг от вида растерзанных тел. Два первых элемента у наших фараонов были в наличии всегда. Чекисты, фашисты, гестаповцы, хунвейбины, фиделисты искали новые жертвы неутомимо. Мирное население было послушно и забыло, как сопротивляться произволу с оружием в руках. Зрители жаждали зрелищ. Но как узнать, какие именно жертвы приведут их в наибольший восторг?
Мы вправе допустить, что у фараонов для решения этого вопроса не было другого компаса, кроме их собственных страстей. В своей душе они громче всего слышали голос Каиновой жажды: подавлять, унижать, даже уничтожать того, кто в чём-то тебя превосходит. Они исходили из допущения, что близорукое большинство разделяет с ними эту страсть, и оказались правы. Во всех пяти странах террор обрушился прежде всего на дальнозорких.
Даже в Германии, где пропаганда объявляла евреев низшей расой, в верхних эшелонах идеологов циркулировала другая формула. Евреи подлежали уничтожению, потому что интеллектуально они были сильнее немцев и представляли угрозу для существования немецкого племени. Это мнение не раз выражал Адольф Эйхман в своих дневниках, которые он вёл, живя в Буэнос-Айресе под вымышленным именем, пока израильская разведка не выследила его, не похитила и не увезла на суд в Иерусалим (1960).
Ханна Арендт в своей нашумевшей книге «Банальность зла» пытается изобразить нацистского преступника, виновного в гибели миллионов, просто послушным автоматом, выполнявшим приказы вышестоящих. Именно к этому сводилась стратегия адвоката Эйхмана на суде. Ведь долг старательного чиновника состоит в том, чтобы следовать директивам и распоряжениям начальства — разве не так? Начальство Эйхмана было судимо и казнено в Нюрнберге, возмездие состоялось — в чём же можно сегодня обвинять простого исполнителя?
Но пятьдесят лет спустя другая исследовательница, Беттина Стангнет, сумела разыскать множество дневников, мемуаров, интервью, писем аргентинского периода, не попавших в материалы суда, и выпустила книгу «Эйхман до Иерусалима», рисующую оберштурмбанфюрера СС в совершенно другом свете. В ней перед читателем предстаёт человек, полный сильных страстей и убеждений, гордящийся своими «подвигами», видящий себя смелым воином, защищавшим любимый немецкий народ от смертельной опасности. Уничтожение шести миллионов оказалось недостаточным, объявлял он, нужно было довести число до десяти миллионов. Депортацию 400 тысяч евреев из Будапешта в Освенцим, проведённую им, называл «шедевром изобретательности… никто ни до, ни после не смог повторить чего-нибудь подобного».[657]
Ханна Арендт изображала Эйхмана ничтожным бюрократом, послушно выполняющим волю вышестоящих, не потому что она поддалась демагогии его адвоката. У неё был более серьёзный стимул для написания книги именно в таком ключе. Ей нужно было преодолеть противоречие, перед которым неизбежно оказывается мыслитель и политик, всю жизнь идолизировавший свободу творческого самовыражения и самоутверждения, отстаивавший право на революционный протест. Если мы докажем, что Эйхман уничтожал евреев, действуя как механический автомат, противоречие не возникает. Если же мы допустим, что в его поведении всё было обусловлено стремлением выразить именно его самые сокровенные верования и упования, что он воображал себя творцом величайших перемен в судьбе человечества, противоречие возникает и ударяет нас в лоб обухом вопроса: «Так ли хороши и желанны политические свободы, проповедуемые нами, в государстве, густо населённом эйхманами, гиммлерами, геббельсами, сталиными, муссолини»?
Среди дальнозорких объявить кого-то или что-то «банальным» означает низвести явление на уровень не заслуживающего внимания, не стоющего усилий по исправлению. Превыше всего дальнозоркий ценит творчество, свободное самовыражение, уникальность таланта. В своих политических взглядах склоняется к поддержке таких государственных форм, которые обеспечат максимальную охрану этих ценностей. Именно такая позиция очень часто превращает его в идеальную «растопку» для пожаров, раздуваемых потенциальными фараонами. Предъявляя устойчивым режимам невыполнимые требования расширения свобод, дальнозоркие расшатывают фундамент государства, готовят почву для революции, из хаоса которой и будут выскакивать десятки фараонов — увы, совсем не банальных.
Чемпионат душегубов 20-го века вынес наверх трёх бесспорных финалистов: Сталина, Гитлера, Мао Цзедуна. Но это лишь до тех пор, пока мы оцениваем их «спортивные результаты» по абсолютному числу загубленных ими людей. Если же мы попробуем сравнивать состязавшихся тиранов, соотнося число жертв с численностью населения их стран, результаты могут оказаться другими. Тогда с тройкой абсолютных рекордсменов смогут соперничать камбоджийский Пол Пот, гаитянский Дювалье, иракский Саддам Хусейн, северокорейский Ким Ир Сен, ливийский Каддафи, египетский Насер, тот же Фидель Кастро. И всех их будет нелегко подвести под эпитет «банальный».
Например, разве можно отказать в творческой оригинальности, проявленной товарищем Сталиным при использовании древнеазиатской традиции системы заложничества? Ведь он не только гарантировал послушность нужных ему людей, помещая в лагерь их близких: у Ахматовой — сына, у Цветаевой — дочь, у Пастернака — возлюбленную (Ивинскую), у Шостаковича — тоже возлюбленную (Генриэту Домбровскую), у Молотова — жену (Жемчужную). Он ещё придумал не сообщать родственникам о казни их близких, формулировать приговор судебной тройки как «заключение без права переписки». Миллионы людей, продолжая надеяться, вели себя тише воды. Заставить даже мёртвых служить своим политическим целям — разве для этого не требуется воображение?
А Гитлер? Хорошо зная мировую историю, он мог помнить, что накануне Варфоломеевской ночи католики Парижа незаметно рисовали мелом крест на дверях своих соседей-гугенотов. Но он также хорошо знал законопослушность граждан немецкого государства. И он просто выпустил указ, обязывающий евреев самим нашить на свою одежду жёлтую звезду. Это ли не проявление творческой смекалки?
Мао Цзедун, который во многих своих кампаниях подражал Сталину, в одном важном вопросе повёл себя по-другому. Зачем нам тратить время и деньги на строительство лагерей, тюрем, подъездных железных дорог? Мы упростим процесс до предела: пошлём палачей прямо в дома «врагов народа». И ликование народных масс было наградой изобретательному постановщику зрелищ.
Если мы будем помнить о художественной жилке наших героев, многие их поступки могут предстать в новом свете или хотя бы получить подобие объяснения. Да, мы ценим в людях объективность, скромность, терпимость. Но кому нужен объективный, скромный, терпимый художник? Разве он может создать что-нибудь неповторимое, новое? В их мире постоянно идёт междуусобная война, царит нетерпимость к творчеству других, история искусств переполнена баталиями разных творцов и их группировок. И это просто печальный поворот судьбы, что у режиссёра Сталина оказались в руках средства довести до логического конца своё отталкивание от творчества режиссёров Мейерхольда и Михоэлса.
Выше говорилось о том, что все пятеро фараонов не раз демонстрировали незаурядную смелость перед лицом физической опасности. Однако оставалась одна вещь, которой они втайне очень боялись: СТАТЬ ПОСМЕШИЩЕМ. А им случалось совершать много нелепых ошибок, попадаться на явном вранье, изрекать несусветную чушь, которые легко можно было подвергнуть осмеянию. И из чьих уст могла бы вырваться ядовитая стрела насмешки? Кто всегда готов острить, иронизировать, глумиться даже над великим и священным? Кто собирается по вечерам на тесных кухнях и травит анекдоты, даже про Маркса, Ленина и других вождей? Всё он, всё тот же потенциальный фракционер, изменник, диверсант, саботажник — неуловимый и вездесущий дальнозоркий. И остаётся единственный способ не стать смешным в его глазах: сделаться таким страшным, что ядовитая ухмылка замёрзнет на губах насмешника.
В этом смысле показательна несоразмерная ненависть Сталина к Зощенко. За что можно было так свирепо накинуться на писателя, честно смешившего миллионы советских граждан, никогда не допускавшего идеологических промахов, послушно подписывавшего письма в газеты с осуждением «шпионов и врагов народа»? Сам Зощенко был изумлён, он никогда не чувствовал себя противником режима. Все обвинения в его адрес, перечисленные в докладе Жданова, выглядят жалко и неубедительно.
Я уверен, что главной причиной ненависти «лучшего друга писателей» была опубликованная уже в 1930-е годы «Голубая книга». Когда Сталин читал включённые туда бесподобные саркастические описания монархов, тиранов, завоевателей, римских пап, он не мог не примеривать их к себе. Вот умрёшь, и непременно «пойдёшь в посмешище — найдётся щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит… Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши… Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкопёры, либералы проклятые! Чортово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас всех, да чорту в подкладку!».[658]
Пойду дальше и рискну высказать предположение, что и в судьбе Зиновьева и Бухарина роковую роль сыграл страх вождя сделаться посмешищем посмертно. Они оба к концу 1930-х были лишены всякой власти и влияния, не представляли для «Кобы» никакой угрозы, публично признавали его мудрость и правоту. Но живой свидетель, лично знавший тебя в течение двадцати лет, всегда может извлечь при желании из памяти горы совершённых тобой глупостей, промахов, смехотворных заявлений, не говоря уже о прямых преступлениях. Допустить, что его давнишние оппоненты переживут его и потом дадут волю своим острым перьям, вождь просто не мог. То же самое двигало им, когда он отправлял убийц к Троцкому, который как раз к 1940 году, находясь в Мексике, заканчивал двухтомную биографию своего врага.
Наследники фараонов постепенно обнаруживали, что избавляться от дальнозорких можно и более мягкими способами, чем террор: открывая возможность для эмиграции. Беспрецедентная кампания по выезду советских евреев «для воссоединения семей», начавшаяся в 1972 году, дала возможность уехать почти двум миллионам, это выпустило накопившийся пар и позволило режиму просуществовать ещё пятнадцать лет. Примеру СССР последовал Кастро, в апреле 1980 года он разрешил уехать с острова 125 тысячам желающих, на американских кораблях, спешно перевозивших их во Флориду из порта Мариэль. Операция на официальном языке называлась «избавление от мусора». К толпе рвущихся на свободу добавили 25 тысяч уголовников, среди которых было несложно замешать пополнение для кубинской агентуры в США. Дальнозорким вьетнамцам так и не удалось найти постоянного пристанища в мире, но они продолжали бежать из страны по морю миллионами после падения Сайгона.
Вечное противоборство дальнозорких и близоруких привело в 20-ом веке к распаду нескольких государств. Та половина, в которой возобладали дальнозоркие, начала стремительно процветать и обгонять другую половиу по всем экономическим показателям. Люди продолжали с риском для жизни перебегать из Восточной Германии в Западную, из Северной Кореи — в Южную, из Китая — в Тайвань и Гонгконг. То же самое происходило и во Вьетнаме в период 1954–1963, пока в борьбу не вмешались Соединённые Штаты.
После ухода французов из Индокитая (1954) страна распалась на две части. В северной укрепились коммунисты во главе с Хо Ши Мином, в Южной к власти пришёл решительный националист Нго Динь Дьем. Он приложил усилия к тому, чтобы помочь обосноваться на юге миллиону вьетнамцев, бежавших с севера от «красных». Его методы правления были вполне диктаторскими, однако при президенте Эйзенхауэре американская администрация смотрела на это сквозь пальцы и помогала Южному Вьетнаму деньгами и оружием.
Но правительство Джона Кеннеди, исповедовавшее либерально-демократические идеалы, воображало, что с мировым коммунизмом можно бороться, не нарушая принципов гуманности и демократии. Оно нашло президента Нго Динь Дьема недостаточно «добрым» и поддержало заговор южновьетнамских генералов. В первых числах ноября 1963 года Нго Динь Дьем был свергнут и убит. Этот исторический эпизод непременно должен быть включён в исследование темы «кровожадность добра», если такое исследование когда-нибудь состоится.
Начать его надо будет издалека, со времён, скажем, Блаженного Августина, который демонстрировал свою доброту, утверждая, что для еретика гораздо лучше сгореть один раз в пламени земного костра, чем страдать вечно в геене огненной. Все крестовые походы должны найти место в таком исследовании, включая походы детей, — ведь все они были нацелены на добрую помощь братьям христианам в Палестине. Следует также пересмотреть историю инквизиции: ведь она передавала осуждённого в руки светских властей, с призывом не забывать о доброте: «наказать с возможной мягкостью» (эта формула подразумевала костёр). Не забыть бы и доброту русских императоров в 18–19 веках, избегавших применять смертную казнь в России, но разрешавших заменять её безграничным числом ударов кнута или шпицрутенов. И когда исследователь дойдёт до века 21-го, его не должен смущать тот факт, что торжество добрых намерений слишком часто оборачивалось серьёзными кровопролитиями.
Сегодня защитники добра имеют на вооружении лучшие ракеты, самые большие авианосцы, новейшие танки, быстрейшие самолёты. Их порой встречают непониманием, подозревают в корыстных намерениях. Но будем надеяться, что рано или поздно жители Белграда поймут и признают, что два месяца в 1999 году их подвергали бомбёжкам абсолютно бескорыстно. А жители Ирака возблагодарят за все разрушения и жертвы, причинённые вторжением США и гражданской войной. А граждане Ливии научатся ценить демократию и перестанут убегать из своих разбомбленных городов. А афганский пастух поймёт, что пилот в вертолёте, сбрасывающий ему на голову шрапнельные гранаты, желает ему только добра.
Какая всё-таки сила — добро!
Неправ был философ Владимир Соловьёв, давая своей главной книге название «Оправдание добра». Добро не нуждается в оправданиях. Наоборот, оно само служит лучшим оправданием многих кровопролитий и массовых убийств.
Летопись десятая. НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ
Генералиссимус
За 65 лет, прошедших со дня смерти Сталина, тысячи историков оставили свой след в исследовании его жизни, характера, убеждений, привычек, страстей. Он оставался загадкой при жизни для многих — остаётся таковой и сегодня. Для учёного загадки истории и мироздания — что дичь для охотника. Он стремится выследить её, подкрасться, расставить капканы и ловушки, убрать все отвлекающие помехи и, наконец, схватить и с торжеством представить восторженной публике разгадку.
В своей деятельности он также приближается к работникам юридических профессий: следователю, адвокату, прокурору, судье. Когда преступление налицо, улики имеются в достаточном объёме, защитники закона начинают исследование мотивов преступника, поиски смягчающих или отягчающих обстоятельств. Ведь Гегель объяснил нам, что всё существующее разумно, подчиняется законам логики, что беспричинных поступков и событий не бывает. Кажется, остался единственный вид преступлений, о котором не принято спрашивать, что двигало преступником: изнасилования. Человек стремится утолять вожделение, половой акт доставляет ему огромное удовольствие — здесь всё понятно и знакомо каждому.
Товарищ Сталин в минуту застольного откровения признался, что для него самое большое удовольствие в жизни: победно завершить хорошо продуманную месть и после этого отправиться спать (видимо, чтобы смаковать победу). Мне до сих пор не попадалось историческое исследование, которое всерьёз отнеслось бы к этому застольному признанию и использовало его как ключ к разгадке многих его поступков и решений. Болшинство аналитиков приписывает ему какую-нибудь необъявленную тайную цель, скрытую программу действий — воцариться над Европой, стать новым Чингисханом, внезапно напасть на Гитлера, дойти до Ганга и Ламанша — и дальше с азартом нанизывют на выбранную нить раскопанные ими исторические детали, подтверждающие их версию, и отбрасывают очевидные факты, опровергающие её. В своей деятельности они похожи на адвоката, который замалчивает или ставит под сомнение всё, что может повредить его клиенту. И клиентом для него здесь является его версия.
В последние десятилетия «сталиниана» всё сильнее склоняется если не в сторону открытой апологетики, то хотя бы к частичной реабилитации и пересмотру. Мне попадались труды с такими названиями: «Возрождение законности при Сталине», «Оклеветанный вождь», «Ложь Хрущёва» и тому подобное. Авторы не столько стремятся оправдать сталинские преступления, сколько пытаются вернуть себе и нам веру в осмысленность происходящего в мире. Допустить, что малообразованный безжалостный душегуб смог вознестись над половиной планеты, слишком страшно. И конечно, самый частый последний адвокатский аргумент: «Он разгромил Гитлера».
Думаю, эта тенденция в сегодняшней историографии даёт мне право внести свою лепту в исправление перекоса и выступить с пародией на биографов нового фараона. Он ведь так боялся попасть в комедию — не пора ли кому-то взять на себя роль «щелкопёра и бумагомараки»? Понятно, что ни один читатель не сможет принять всерьёз предложенную ниже версию взаимоотношений Сталина и Гитлера в первые годы Второй мировой войны. Мне лишь хотелось показать, что анализ поведения «вождя народов» в этот период возможно оставить в рамках здравого смысла лишь в том случае, если допустить, что он действовал как преданный и честный союзник фюрера.
Заранее приношу извинения читателям, которые найдут неуместными иронию, сарказм и фарс в разговоре о таком трагическом событии как Вторая мировая война. Им я разрешаю пропустить следующий далее отрывок.
Транскрипты тайных радио-переговоров, протекавших между Сталиным и Гитлером в 1938–1943 годы
Март, 1938
СТАЛИН: Адольф, спешу поздравить тебя с присоединением Австрии. Хорошо представляю себе твоё ликование. Вернуть под свою власть родину, которая когда-то отринула тебя, — я испытал нечто подобное, когда мы в 1922 году вернули Грузию под власть Москвы.
ГИТЛЕР: Благодарю. А тебя, кажется, можно поздравить с завершением очистки страны от учеников Ленина. Но этот Бухарин — вы, кажется, дружили с ним семьями?
СТАЛИН: Дружба дружбой, а политика важнее. Ты ведь тоже расправился со старым другом Рёмом без колебаний. Тут один из осуждённых, когда-то спасший мне жизнь, прислал мне из камеры письмо, в котором спрашивал: «Ты хоть знаешь, что такое благодарность?». Я ему ответил: «Знаю. Это собачья добродетель».
ГИТЛЕР: Коммунистам, которые укрывались в Австрии, теперь не поздоровится. Кто-то из них попытается удрать к тебе. Они до сих пор не заметили, что в святом деле уничтожения коммунистов ты меня на сегодняшний день обогнал. Ликвидировать весь командный состав Красной армии! Повторяешь подвиги своего идола, Ивана Грозного, изводишь бояр под корень?
Ноябрь, 1938
СТАЛИН: Знаешь ли ты, Адольф, что в твоём бескровном захвате Чехословакии есть и доля моей заслуги? Почему? Потому что эти олухи в Лондоне и Париже больше всего боятся, что мы с тобой заключим союз. Из-за этого и подписали Мюнхенское соглашение. Не знают, что такой союз уже существует и исправно работает.
ГИТЛЕР: Теперь нам с тобой нужно обсудить следующие объекты: Польша и Испания. Пока был жив Пилсудский, с поляками приходилось считаться. Я даже заключил с ними пакт о ненападении. Но теперь это обычная демократическая рухлядь, и долго терпеть её у себя под боком я не намерен. Что касается Испании, там дело идёт к победе Франко, а он управится с коммунистами не хуже нас с тобой. Беда лишь в том, что он не страдает, как ты это окрестил, «собачьей добродетелью». Несмотря на всю мою помощь самолётами и другим оружием, он выберет остаться там единственным хозяином, ни мне, ни Муссолини границы не откроет.
СТАЛИН: Да, приходит нам пора посидеть над картой Европы и заранее провести черту, чтобы потом не вышло недоразумений. Присылай при первой возможности Риббентропа, я сделаю свои намётки, и он их увезёт к тебе для утверждения.
Август, 1939
СТАЛИН: Ну вот, тайное стало явным. Германия и СССР заключили пакт. Дипломатическая шушера в шоке, ломает голову, что будет дальше. Но отдай должное дисциплине зарубежных коммунистов: «Раз Сталин так сделал, значит это правильно».
ГИТЛЕР: Шумят, орут, свистят — а из-за чего? Ведь подписать пакт о ненападении — это шаг в сторону мира, разве не так? Но знаешь, я раньше не замечал за тобой склонности к юмору. Заставить моего бедного Риббентропа на банкете пить за здоровье еврея Кагановича! Он потом, вернувшись в посольство, не мог отплеваться.[659]
СТАЛИН: Ты бы ещё больше оценил мой юмор, если бы увидел, где я велел повесить большой транспарант с надписью «Наша цель — коммунизм!».
ГИТЛЕР: Где же?
СТАЛИН: Над артиллерийским училищем. Также прошу оценить, что, где можно, я иду навстречу вашим предпочтениям. Вот заменил еврея Литвинова русским Молотовым на посту министра иностранных дел.
ГИТЛЕР: Ты недооцениваешь мою борьбу с еврейской заразой. Когда-нибудь ты прозреешь. Ведь поскреби любого еверея — и на свет выглянет коммунист.
СТАЛИН: Хорошо, сделаю тебе маленький подарок к славному дню подписания пакта. У меня в лагерях сидят несколько десятков бывших комминтерновцев из Германии и Австрии. Пошлю их к тебе в гестапо. Найдёшь среди них и евреев, и коммунистов.[660]
Март, 1940
ГИТЛЕР: Помнишь, я тебе говорил, что французы и британцы войну из-за Польши мне объявят, а армии с места не двинут. Мои генералы просто штаны обмочили от страха, когда я приказал им начать вторжение, — но вышло по-моему. Теперь, за прошедшие два года мы успели инкорпорировать весь военный арсенал австрийцев и чехов, так что скоро все увидят, что такое обновлённый вермахт. А почему ты так надолго застрял в Финляндии? Собирался захватить за две недели, а провозился четыре месяца, да и то ради маленького приграничного района.
СТАЛИН: Очередь финнов ещё придёт. Где-то в будущем я планирую их всех переселить куда-нибудь подальше, например в Казахстан — пусть погреются.[661] Сейчас мне нужна армия для оккупации Прибалтики и Бессарабии.
ГИТЛЕР: Слушай, а что ты намерен делать с польскими военнопленными? Не хотелось бы, чтобы они были отпущены по домам.
СТАЛИН: А что тебя тревожит?
ГИТЛЕР: Получил информацию, что в Лондоне британцы формируют легион из поляков. Нежелательно, чтобы те, кто сейчас сидит у тебя в плену, сумели пробраться в этот легион. Особенно — офицеры.
СТАЛИН: Хорошо, от этой головной боли я тебя избавлю — обещаю.
Июль, 1940
СТАЛИН: Ну, и как выглядит Париж с Эйфелевой башни?
ГИТЛЕР: А представляешь, они сохранили тот самый вагон в Компьене, в котором унижали немцев двадцать лет назад. Я заставил французов подписывать капитуляцию в том самом вагоне. Ты знаешь толк в наслаждении местью — мог бы оценить. Благодарю тебя за исправные поставки продовольствия и бензина. Но Геринг говорит, что для атак на Лондон ему понадобится чуть ли не вдвое больше нефтепродуктов. Сможешь увеличить?
СТАЛИН: Отдам распоряжения. Хотя тут раздаются недовольные голоса, что мы снабжаем своего возможного противника. Ты не представляешь, сколько народу я уже отправил в лагеря за клевету на нашего верного союзника, за антигерманские настроения. Любые попытки укреплять западную границу объявлены провокационными действиями, грозящими нашему союзу. Официальная позиция на сегодняшний день: главная опасность СССР грозит с востока, со стороны Японии.
ГИТЛЕР: Твой Жуков год назад дал хороший урок японцам в Монголии, вряд ли они сунуться снова. У них свои проблемы. Америка и Лига наций душат их нефтяным эмбарго за вторжение в Китай. Сегодня для любой индустриальной страны отрезать нефть — это смерть. Мы и на себе могли это почувствовать. Без твоих поставок нашим танкам было бы просто не покрыть расстояние до Парижа.
Май, 1941
СТАЛИН: Адольф, ты планировал начать «Барбаросу» в начале мая. Что случилось?
ГИТЛЕР: Это всё проклятые сербы. Мне нужно было обезопасить свой тыл для наступления на Восток, чтобы англичане не могли ударить по моим наступающим войскам через Балканы. Югославия уступила нажиму, их премьер в Вене подписал акт о союзе и дружбе. И вдруг генералы в Белграде во главе с каким-то Симовичем устроили мятеж, свергли королевское правительство, порвали союз с Германией.
СТАЛИН: Да, от балканских народов всегда можно ждать беды. Они хуже кавказцев, совершенно непредсказуемы.
ГИТЛЕР: Мне пришлось направить туда 20 дивизий с авиацией и танками. Сейчас там идёт зачистка, Белград уже взят. Из-за этого пришлось отложить «Барбаросу» до июня.[662]
СТАЛИН: А хватит ли у тебя времени дойти до Москвы до холодов? Война в Финляндии показала, что снежные сугробы могут тормозить танки не хуже бетонных надолбов.
ГИТЛЕР: Надеюсь, что с твоей помощью — одолеем.
СТАЛИН: Буду стараться. Хотя давят на меня без устали. Требовать вслух не смеют, но всё время подкладывают на стол разведданные о ваших приготовлениях. То сообщают, что ваше посольство в Москве на глазах пустеет. То положили на стол список гауляйтеров, которых ты назначил управлять завоёванными районами СССР. С припиской: «Из надёжного источника». Я приписал: «Пошлите ваш источник в трах-тарарах-мать-не-мать!».
Ночь с 21 на 22-е июня, 1941
СТАЛИН: Знаю, знаю, что началось. Меня посмели разбудить в три часа ночи. Требуют приказа немедленно открыть ответный огонь.
ГИТЛЕР: Не мог бы ты потянуть ещё часа два-три? Тогда юнкерсы успеют долететь до твоих аэродромов как раз к рассвету. Ты ведь запрещал их рассредоточивать и маскировать.
СТАЛИН: Я объявлю, что необходимо сначала удостовериться — не провокация ли это отдельных немецких генералов? Мол, не могу поверить, чтобы наш верный союзник, немецкий фюрер, был способен на такое вероломство. Пошлю Молотова в ваше посольство получить официальное объявление войны.[663]
ГИТЛЕР: Ты заметил, что я выбрал для атаки тот самый день, когда в Россию вторгся Наполеон? Правда, он кончил там не лучшим образом.
СТАЛИН: Это потому, что у него не было такого помощника, как я. Пока всё идёт как задумано. Но одна вещь сегодня меня обеспокоила. То, каким тоном со мной говорил Жуков, сообщая о начале бомбёжек.
ГИТЛЕР: Опасаешься, что может повториться югославский вариант? Генералы скинут тебя и начнут воевать всерьёз?
СТАЛИН: Я, взяв трубку, не сразу ответил, и он почти закричал: «Вы меня слышите? Немцы бомбят наши города!». Таким тоном со мной давно никто не смел говорить.
2 июля, 1941
СТАЛИН: Произошло то, что мы с тобой вообще-то предвидели, но недооценили. Ты ведь знаешь, что главный инструмент моего правления — страх. Я окружил себя людьми, которые знают, что бывает за малейшее несогласие со мной, за малейший протест. Мы не учли, что после твоего вторжения страх перед тобой сильно потеснит и ослабит страх передо мной.
ГИТЛЕР: Кто-нибудь ещё посмел кричать на тебя?
СТАЛИН: Симптомы и знаки посыпались один за другим. Несколько дней назад я позвонил маршалу Тимошенко, и он посмел не взять трубку. Взбешённый я поехал в Наркомат обороны и стал требовать отчёт о положении дел на юго-западном фронте. А Тимошенко мне — профессорским тоном: «Сначала нужно собрать и проанализировать все данные, и только потом представить правдивый и ясный отчёт». И смотрит на меня как на студента-второгодника.[664] Я так растерялся, что ничего не сказал и уехал к себе на дачу. Заперся там, на звонки не отвечал.
ГИТЛЕР: Прямо как твой Иван Грозный. Тоже заперся в монастыре и ждал, чтобы его умоляли вернуться на трон.
СТАЛИН: Честно говоря, я был готов и к сербскому варианту. Вчера утром — слышу, к даче подъехало несколько машин. «Всё, думаю, конец, приехали арестовать. Припомнят все поражения прошедшей недели, обвинят в измене». Выглянул в окно — нет, военных не видно, только члены Политбюро. Тоже раньше бы не посмели явиться сюда без вызова. Предлог у них был такой — они придумали создать Государственный комитет обороны. Со мной во главе. Видимо поняли, что если генералитет сговорится скинуть меня, они все полетят в тартарары вместе со мной. Я милостиво дал согласие вернуться к управлению. Завтра выступлю по радио перед всей страной.[665]
8 ноября, 1941
СТАЛИН: Ну вот, сибирские дивизии начали прибывать к Москве. Вчера участвовали в Параде на Красной площади. Твои генералы уже могли почувствовать, что это совсем другие солдаты. Под Ельней они здорово врезали твоим, заставили отступить. Три месяца я удерживал их на востоке, доказывал, что японцы могут воспользоваться ослаблением границы. Но мне уже смеют возражать, смеют проявлять инициативу.
ГИТЛЕР: Твои генералы перестают слушаться тебя — это печально. Но вот если бы ты научился отдавать приказы нашим двум главным врагам — снегу и морозу, — это бы решило дело.
СТАЛИН: Знаешь, иногда я мечтаю снять маску, открыть людям смысл нашей великой борьбы. Мы с тобой обожествили силу и власть — что может быть превыше этих богов? Для нас главным врагом, подлежащим уничтожению, остаётся тот, кто обожествил какую-нибудь абстрактную идею, — хоть невидимого бога, хоть сияющий коммунизм, хоть гуманную демократию. Они для нас — осквернители алтаря, кощунствующие еретики. Неужели большинство ещё не созрело, чтобы принять истинность наших богов и отшатнуться от ложности остальных?
ГИТЛЕР: Трудность в том, что сила и власть приходят и уходят. Недаром египетские фараоны строили пирамиды, которые стоят до сих пор. Они символизировали вечность и неразрушимость. Я пообещал немцам почти вечный Тысячелетний рейх — пока это работает.
СТАЛИН: Ты умеешь находить наших единоверцев в других странах и передавать им временную власть. Петен во Франции, Квислинг в Норвегии, Йозеф Тисо в Словакии, Хорти в Венгрии… Я пытаюсь следовать твоему примеру. Скажем, в Китай главная доля помощи из Москвы идёт не коммунистам Мао Цзедуна, а националистам Чан Кайши.[666]
Июнь, 1942
СТАЛИН: Итак, я вижу, что ты отказался от нового наступления на Москву. Почему?
ГИТЛЕР: Вспомнил опыт шведского Карла Двенадцатого. Он тоже понял, что по выжженной опустошённой земле наступать невозможно. Когда коммуникации растягиваются на тысячи километров, да ещё по территории с враждебным населением, снабжение армии становится невыполнимой задачей.
СТАЛИН: До сих пор я помогал тебе как мог. В прошлом году запретил отступление под Киевом в сентябре, и ты смог взять в окружение 500 тысяч. В этом послал армию генерала Власова на безнадёжный прорыв блокады Ленинграда, и она вся попала к тебе в плен. В марте, вопреки яростным возражениям Жукова, приказал наступать на Харьков, и ты получил ещё триста тысяч. Но мои генералы учатся обходиться без моих приказов, и это может плохо кончиться.[667] А агентов НКВД не пошлёшь арестовывать маршала, у которого под ружьём полмиллиона солдат.
Январь, 1943 (прощальный разговор)
СТАЛИН: Похоже, что Сталинград становится поворотным пунктом. Каждый разбомблённый дом превращается в крепость, и одной роты смелых солдат довольно, чтобы удерживать её. Кроме того, оборонная промышленность творит чудеса. На эвакуированных заводах она вдвое-втрое увеличила производство самолётов, танков, орудий по сравнению с мирным временем. Даже в осаждённом Ленинграде заводы продолжают работать, почти всё снабжение армии ракетными снарядами для «катюш» идет оттуда.
ГИТЛЕР: Паулюс засыпает меня радиограммами из Сталиграда, просит разрешения оставить город, отступить. Геринг обещал организовать снабжение по воздуху, но не справляется.
СТАЛИН: Не пора ли тебе расстрелять твоего Геринга? Воздушную битву за Англию он проиграл, высадку американцев в Марокко предотвратить не смог. Это нетрудное дело — разбомбить на земле полторы тысячи русских самолётов, которые я ему подставил в первый день войны.[668]
ГИТЛЕР: Я мог бы помочь Паулюсу, если бы сейчас не продолжались бои в Северной Африке, вокруг Эл Аламейна. Там у Роммеля 300 тысяч немцев, да столько же итальянцев. Если отнять у них авиацию, их разобьют, и мы потеряем доступ к арабским нефтяным вышкам. Ты требуешь у союзников открытия Второго фронта в Европе, но по сути война уже идёт на два фронта.
СТАЛИН: К сожалению, Адольф, этот наш разговор должен стать последним. Мой радиооператор вёл себя как-то странно, пришлось его ликвидировать, чтобы не разболтал о наших беседах. Кроме того, мои генералы явно затевают большую наступательную операцию по окружению армии Паулюса. Два года я приказывал «наступать, наступать, ни шагу назад». Не смогу я вдруг повернуть на 180º и приказать «не наступайте». Но что бы ни случилось в будущем, обещаю тебе: священную борьбу с коммунистами, евреями, гуманистами и прочей идеалистической швалью я буду вести до последнего вздоха.
ГИТЛЕР: А я подтверждаю своё обещание: после завоевания России и превращения в немецкую колонию ты станешь её монархом.
Конец транскриптов
Как ни парадоксально, эта пародийная версия может быть поддержана сенсационным документом, найденным в Национальном архиве США:
«19 июля 1940 года. Лично и конфиденциально… помощнику Государственного секретаря США… По только что поступившим данным из конфиденциального источника информации, после немецкого и русского вторжения в Польшу и её раздела Гитлер и Сталин тайно встретились во Львове 17 октября 1939 года. На этих тайных переговорах они подписали военное соглашение взамен исчерпавшего себя пакта. Искренне ваш Дж. Эдгар Гувер».[669]
Существовало такое соглашение или нет, мы никогда не узнаем. Но всё поведение «гениального полководца» в последующие полтора года становится осмысленным, только если мы поверим, что он сознательно действовал в интересах Германии. В противном случае мы должны будем признать генералиссимуса просто недоумком, упрямство и жестокость которого стоили России много миллионов зря загубленных жизней.
Вся хвалёная мудрость «вождя мирового пролетариата» сводилась к трём правилам жизни: никому не верить, никому не сострадать, никого не прощать. В отношениях с Гитлером он нарушил все три правила. Скорее всего он не читал «Мэйн Кампф», в котором фюрер уже в 1925 году расписывал свои планы в отношении России: сначала заключить с ней договор, а потом — напасть.[670]
Важнейший вклад, сделанный Сталиным в победу над Германией: летом 1941 года он прекратил (или приостановил) преследование и избиение дальнозорких. Даже наоборот, выпустил из лагерей десятки тысяч специалистов высокого разряда, которым удалось дожить до этого момента. Делалось это лихорадочно поспешно, но с чётким осознанием того, кто именно сможет помочь делу обороны. Писатель Марк Поповский описывает в своей книге «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого», как знаменитому хирургу генеральскую форму доставили в лагерь не всю сразу и он пару дней расхаживал в зэковском бушлате и штанах с лампасами.
С лета 1941 года дальнозоркие смогли выходить не только из лагерей, но и из своего вынужденного подполья и занимать руководящие посты в промышленности и армии. Страна начала высвобождать задавленные в ней силы и таланты, и произошёл перелом в ходе войны. О нём можно сказать то, что написал Толстой о разгроме Наполеона: «…Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но целесообразностью… поднималась, опускалась и гвоздила врага, пока не погибло всё нашествие».
Потом история войны была переписана и расфасована в «Десять сталинских ударов», изукрашена поэмами, романами, кинофильмами и песнями, до сих пор достающими до каждого русского сердца. «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!» стала почти гимном военных лет. И всё сказанное в этой подглавке не отменяет простой истины: фигура Сталина, такого, каким он был, оставалась необходимым условием победы. Отдельные тактические и стратегические решения, которые он упрямо навязывал своим маршалам, могли быть незрелыми, даже глупыми, но они клали конец спорам военачальников, и машина войны, подчиняясь его единой и непререкаемой воле, срывалась с места и в рёве и грохоте моторов бросалась «гвоздить врага»..
Дуче
Генерал армии южан Роберт Ли однажды сказал: «Хорошо, что война так ужасна. Иначе мы могли бы полюбить её». Видимо, именно это должно было случиться с Бенито Муссолини, когда он в 1914 году порвал с соратниками по социалистической партии, отказался от принципов пацифизма, поддерживавшихся ею, и сделался ярым националистом и проповедником вступления Италии в войну.[671] Аргументы, приводимые им в «Автобиографии» — «над Францией нависла угроза, а это означало угрозу для свободы во всей Европе», — звучат неубедительно. Он просто «полюбил войну», и, даже хлебнув её ужасов в обледеневших окопах и получив два десятка осколочных ранений, оставался верен этой любви до конца жизни.
Его страсть к дуэлям тоже была проявлением его принадлежности к касте воинов, к кшатриям. Также его сочувственное восхищение действиями поэта д’Аннунцио, захватившего хорватский город Фиуме, показывает, как рано он начал мечтать о военном расширении Италии, о превращении её в империю — наследницу славы Древнего Рима. Сделавшись диктатором, он в 1923 году, под раздутым предлогом, временно оккупировал греческий остров Корфу. Чуть ли не половина бюджета страны шла на перевооружение, парады и военные учения сделались любимым времяпрепровождением дуче. Массу времени он уделял пошиву мундиров для своих появлений на публике.
С начала 1930-х авторитет Италии в вопросах европейской политики начинает играть заметную роль. В 1934 году возникла угроза аннексии Австрии Германией, и несколько итальянских дивизий были придвинуты к границе, чтобы воспрепятствовать этому.[672] А в следующем году итальянская армия втроглась в последнее независимое государство Африки — Абиссинию, — и в мае 1936 маршал Бадольо вступил в столицу — Аддис Абебу. Страна была включена в растущую империю. Лига Наций выразила решительный протест, но итальянцы в большинстве своём ликовали и устраивали своему вождю торжества и парады по случаю победы.[673]
Когда в 1936 началась гражданская война в Испании, Муссолини решительно принял сторону Франко. У того были трудности с переправкой войск из Марокко на Пиренейский полуостров, и Италия предоставила ему транспортные самолёты для этой цели. Боевые самолёты итальянского производства тоже вскоре начали принимать участие в боях. Корпус из семидесяти тысяч итальянских добровольцев влился в армию Франко.[674]
С 1937 года начинается быстрое сближение с гитлеровской Германией. Оба диктатора наносят дружеские визиты друг другу, координируют свои ходы во внешней политике. Теперь Муссолини уже не возражает против присоединения Австрии к Германии. Летом 1938 года в Италии вступают в силу антиеврейские законы по образцу немецких. Были запрещены браки между евреями и итальянцами. Евреям запрещалось занимать посты в правительственных учреждениях, школах, судах, открывать новые магазины. Если они приехали в Италию из других стран недавно, они подлежали высылке.[675]
Италия была приглашена принять участие в Мюнхенской конференции, созванной для разрешения чехословацкого кризиса (сентябрь, 1938). Муссолини, используя своё неплохое знание немецкого, английского, французского, курсировал между делегатами, часто принимая на себя роль арбитра. Впоследствии это дало ему основания объявлять: «Я спас Европу от войны».[676] Уместно вспомнить, что эту роль также приписывал себе британский премьер-министр Чемберлен. Но также не следует забывать, что все эти «миротворцы» с самого начала поддались шантажу и угрозам Гитлера и не допустили на конференцию самих чехов — делили их страну без их участия.
Итальянцы благославляли своего дуче, но он — впервые в жизни — не радовался народной поддержке. Как же так? Он неустанно зовёт народ на подвиги по расширению империи, а люди приветствуют достижение мира? «Мне не достаёт настоящего материала, — жаловался Муссолини. — Микельанджело нуждался в прочном мраморе, чтобы высекать из него статуи. Если бы в его распоряжении была только глина, то он не произвёл бы на свет ничего, кроме горшков. Народ, который на протяжении шестнадцати столетий был только наковальней, не может за несколько лет превратиться в молот… Это стадо баранов, превращённое искусством в бесхребетное существо…».[677]
Для поднятия воинского духа в стране Муссолини весной 1939 года осуществил завоевание Албании. Но даже армейское командование не относилось с сочувствием к его военным эскападам. Генералы слишком хорошо знали, насколько Италия не готова к серьёзной войне. Её экономические успехи были в огромной степени пропагандным мифом. «В артиллерии на вооружении находились орудия, применявшиеся ещё в 1918 году; так называемые механизированные дивизии испытывали такую нехватку автомобилей, что для парадов одалживали их у полиции… Военно-воздушные силы тоже находились в жалком состоянии, так же как и военно-морской флот… Сам Муссолини в конце лета 1939 года должен был признать, что из семидесяти дивизий, числящихся в итальянской армии, только десять пригодны для ведения военных операций».[678]
Именно в таком состоянии застало Италию начало Второй мировой войны. Многие в стране считали, что лучше всего было бы последовать примеру Франко и сохранять нейтралитет. Но мог ли человек с характером Муссолини сделать такой выбор? Всё детство он был драчуном, в юности стал революционером, потом — солдатом, потом — бунтарём. Параллельно с этим — безудержным дуэлянтом. Драка, схватка, «упоение боем» были его природой, сутью его бытия. Даже его отношения с женщинами, как мы видели, включали элементы безжалостной схватки. Даже те, кто покушался на его жизнь, казались ему нормальной частью жизненного процесса — у него не было к ним ненависти, он даже не каждого казнил. Так мог ли он остаться в стороне от того гигантского побоища, которое разгоралось в мире совсем близко от него?
И всё же он колебался почти целый год. Однако ошеломительные успехи Германии в войне на континенте, видимо, не только разбудили военный азарт прирождённого кшатрия, но и предопределили выбор союзника. 10 июня 1940 года Италия, имевшая пакт о союзных отношениях с Германией, объявила войну Франции — уже практически разбитой — и Великобританиии — всё ещё грозной повелительнице всей акватории Средиземного моря.
В роли главнокомандующего дуче оказался перед многими трудностями, на большинство которых он предпочитал закрывать глаза. Ни армия, ни народ не хотели воевать с сильными противниками. Индустрия не могла обеспечить вооружённые силы новой техникой в достаточных количествах. Снабжение бензином едва покрывало нужды мирного времени. Сельское хозяйство за 18 лет диктатуры оказалось невозможно поднять до уровня достаточного для нужд государства, просто размахивая в поле косой, большую часть продовольствия в конце 1930-х всё ещё приходилось импортировать. Выбранный союзник проводил свою политику мало считаясь с партнёром, часто оповещал его о своих ходах задним числом.
Первые серьёзные военные действия начались в Северной Африке в конце лета 1940 года. Муссолини приказал маршалу Родолфо Грациани начать наступление из Ливии на британские войска в Египте. Весь итальянский генералитет был против этой операции. Проблема была в том, что дуче и его генералы совершенно по-разному представляли себе соотношение сил. Муссолина так радовался любым хорошим вестям с фронта и приходил в такую ярость от плохих, что многие из его министров стали скрывать от него правду, докладывая только о положительных моментах, ещё и сильно приукрашивая их. Например, они уверили его, что потенциал британского флота в Средиземном море ослаблен на 50 %. На самом же деле английские корабли и самолёты продолжали эффективно топить итальянские транспортные суда, пытавшиеся доставлять военное снаряжение и другие грузы в Африку.[679]
На заседании совета министров Муссолини пригрозил маршалу Грациани отставкой, если он через неделю не начнёт наступление на Египет. Тот подчинился. 13 сентября шесть пехотных дивизий и восемь танковых батальонов двинулись вперёд. Им удалось отвоевать 60 миль, и дуче ликовал. Но очень скоро контрнаступление англичан заставило итаьлянцев перейти к обороне. Их положение всё ухудшалось, боеприпасы и продовольствие кончались, и в декабре англичане захватили столько пленных, что в пустыне их пришлось размещать на огороженных площадках размером в две сотни акров.[680]
Тем временем, осенью 1940 года Гитлер, не извещая своего союзника и не консультируясь с ним, внезапно оккупировал Румынию. Для него этот шаг был критически важным, он давал ему доступ к месторождениям нефти. Но Муссолини посчитал поведение фюрера оскорбительным и решил продемонстрировать независимость от него: без предупреждения напасть на Грецию. «Гитлер всегда ставил меня перед совершившимся фактом, — заявил дуче. — На этот раз я намерен отплатить ему той же монетой. Он узнает из газет, что я оккупировал Грецию. Таким образом будет восстановлено равновесие в наших отношениях.»[681]
Сортировка разведданных снова проходила по принципу «верить только самым оптимистичным». Сообщения о том, что Греция имеет под ружьём армию в 240 тысяч, отметались, на веру принимались версии, предполагавшие, что только 30 тысяч находятся в боевой готовности. В конце октября 1940 года итальянские войска вторглись в Грецию из Албании и встретили там такое упорное сопротивление, что вместо ожидаемой двухнедельной кампании были вскоре остановлены, а потом и отброшены, прижаты к морю.[682]
Гитлеру пришлось посылать большие контингенты войск на помощь своему зарвавшемуся союзнику. В Африку прибыл генерал Роммель, который сумел, с относительно небольшими силами, оттеснить англичан назад к границе Египта. В отличие от маршала Грациани, он всегда находился в своём танке во главе наступающих колонн.[683] В Грецию войска пришлось посылать через восставшую Югославию с боями. (Белград был взят 18 апреля 1941 года.) Эта непредвиденная операция отвлекла сотни тысяч солдат и заставила Гитлера отложить на шесть недель план «Барбаросса» — запланированное вторжение в Россию.[684]
О подготовке нападения на СССР Гитлер тоже не информировал дуче заранее. Тот узнал о случившемся лишь в ночь с 21 на 22 июня. И не смог удержаться от возгласа: «Ну всё, мы проиграли войну!». Тем не менее, он не посчитал возможным для себя порвать союз с Германией и выйти из войны. Своей волей, не советуясь с генералитетом, предложил Гитлеру послать в Россию итальянский экспедиционный корпус. Войска начали прибывать на восточный фронт в августе 1941 года, приняли участие в боях на Украине, а в следующем году корпус был использован германским командованием и в Сталинградской битве. В конечном итоге, число итальянцев, посланных в Россию, достигло 200 тысяч.[685]
И в Африке, и на Балканском полуострове, и в России итальянские подразделения, воевавшие в союзе с немцами, с ведома и согласия Муссолини переходили под стратегическое командование германского генштаба. Легко себе представить, чем это оборачивалось для них. Оказавшись в российских снегах без зимнего обмундирования, они вдобавок страдали от нехватки транспорта, продовольствия, топлива, медикаментов. В критических ситуациях немецкие генералы могли просто конфисковать всё это у них и передать своим солдатам, тоже находившимся в отчаянном положении.[686] Бедствия итальянской армии на Восточном фронте ярко отображены в фильме Витторио де Сика «Подсолнухи», с участием Софи Лорен и Марчелло Мастрояни (1970).
Весной 1943 года ужесточились бомбёжки итальянских городов авиацией союзников. Нехватка продовольствия и топлива дошла до такого уровня, что по Северной Италии прокатилась волна забастовок на оборонных заводах, организованная коммунистами. Солдаты, посланные подавлять их и охранять штрейхбрейкеров, братались с забастовщиками. Помощь от Германии углём и бензином резко сократилась, Восточный фронт был важнее. Требования выхода из войны делались всё громче. Генерал Витторио Амброзио решился бросить в лицо Муссолини: «Ты не найдёшь фашиста, который поддерживал бы тебя, ты остался в полном одиночестве».[687]
Высадка военного десанта союзников в Сицилии (июль, 1943) и последовавший захват её показали, что немцам придётся изыскивать где-то мощные подкрепления, если они хотят удержать Италию под своим контролем. Параллельно с массовыми выражениями народного протеста, в кругах королевского двора и генералитета зрел заговор, нацеленный на свержение дуче. К концу июля у заговорщиков всё было готово для решительных действий. В воскресенье 25 числа Муссолини явился на очередную аудиенцию к королю, что делалось дважды в неделю уже 20 лет.
— Ситуация в стране весьма тревожна, дорогой дуче, — сказал король. — Верховный совет фашистов выразил вам недоверие. На всех фронтах мы терпим поражения, народные волнения только усиливаются. Боюсь, у вас в стране не осталось ни одного друга, кроме меня.
Избалованный двадцатью годами абсолютной власти, Муссолини неосторожно промолвил:
— Если бы положение было, действительно, таким серьёзным, мне следовало бы подать прошение об отставке.
— И я его тут же принимаю, — поспешно сказал король.
— Поверьте, я приложу все усилия, чтобы обеспечить вашу личную безопасность.
Дальше всё пошло быстро по плану заговорщиков. Во дворе дуче вынудили сесть в подготовленную машину скорой помощи, новая охрана набилась вслед за ним. Уже темнело, когда фургон въехал в ворота казармы на окраине Рима. Утром следующего дня итальянцы узнали, что правительство сменилось, что во главе теперь стоит маршал Бадольо. Вслух он объявлял, что Италия останется верной союзу с Германией, но втайне отправил доверенного офицера в нейтральный Лиссабон, где тот вступил в контакт с британским послом и известил его, что новое правительство готово к переговорам о выходе страны из войны.[688]
О судьбе самого Муссолини население Италии долго ничего не знало. Заговорщики прятали его в удалённых районах, несколько раз тайно перевозили из одного места в другое. Но в первые же дни после переворота Гитлер принял твёрдое решение приложить усилия к спасению своего союзника. Среди офицеров СС, имевших опыт десантных операций, он выбрал капитана Отто Скорцени и в разговоре с глазу на глаз объявил ему:
— У меня есть для вас очень важное задание… Муссолини — мой друг и верный товарищ по оружию… Я не могу оставить без помощи величайшего сына Италии в этот трудный для него момент. Для меня дуче — воплощение древнего величия Рима. При новом правительстве Италия отречётся от нас. Я останусь верен своему старому союзнику и дорогому другу. Его нужно немедленно спасти.[689]
Операцию по вызволению Муссолини многие историки сравнивали по дерзости и успешности с освобождением израильских заложников в Энтеббе (1976). Было выяснено, что пленник содержался в высокогорном отеле на плато Гран-Соссо. Подниматься к нему надо было на фуникулёре. 12 сентября на узкую площадку за зданием вдруг один за другим стали бесшумно приземляться планеры с немецкими десантниками. Первым выскочил итальянский офицер в форме и, громко крича «не стрелять! Не стрелять!», побежал к дверям. Солдаты охраны и карабинеры были в растерянности. Трёхлетняя привычка относиться к немцам как к союзникам на какое-то время будто парализовала их. Бывший повелитель Италии был освобождён без единого выстрела и несколько дней спустя в Берлине пожимал руку своего спасителя.[690]
Война тянулась ещё почти два года, и теперь она полыхала на территории Италии. Северная половина страны была оккупирована немцами, и они оказывали упорное сопротивление войскам союзников, с боями продвигавшимся на север. С начала 1944 года стало набирать силу партизанское движение, руководимое по большей части коммунистами. Оно выражалось, главным образом, в актах террора, саботажа, убийствах немецких военных и фашистских лидеров. Немцы отвечали на это массовыми расстрелами заложников, что, конечно, вызывало волны ненависти к оккупантам. Взрыв бомбы, спрятанной в мусорной машине, остановившейся рядом с военным грузовиком, стоил жизни тридцати трём немецким солдатам. На следующий день 335 мирных итальянцев было расстреляно на Ардеатинской дороге и тут же зарыто в братской могиле.[691]
Эти страшные годы впоследствии были отображены во многих прославленных итальянских фильмах. Луиджи Коменчини снял фильм «Все по домам» (1960), отражающий судьбу итальянского офицера (актёр Альберто Сорди), которого переворот июля 1943 года заставляет переосмыслить свою судьбу и повернуть оружие против немцев. Фильм Роберто Росселлини «Рим открытый город» (1945) поражал сценами озверения людей во время войны. Этот фильм считается началом итальянского неореализма. Эпическая картина Бертолуччи «Двадцатый век» (1976, другое название — «1900»), конечно, не могла обойти стороной драму внутреннего раздора в стране, практически вылившегося в гражданскую войну (1943–1945).
Муссолини был поставлен немцами во главе марионеточного государства Социальная республика, созданного на территории Северной Италии. Его власть была ограничена множеством запретов, здоровье ухудшалось, уныние накатывало всё чаще. «Я ощущаю себя капитаном тонущего корабля: корабль гибнет на моих глазах, а я вцепился в маленький плотик среди бушующих волн, всецело во власти стихии».[692] Но стоило ему съездить в Германию и повидаться с Гитлером, как бодрость возвращалась к нему. Похоже, фюрер умел каким-то образом вселять надежду и оптимизм в своих сторонников. Неважно, что русские наступают с востока, что союзники высадились в Нормандии и приближаются к Парижу! Нет, ещё не всё потеряно, никаких переговоров о перемирии! Когда Муссолини показали испытания ракет ФАУ-1, он возликовал, уверовал, что это чудо-оружие перевернёт ход войны.
Иногда он спрашивал у кого-нибудь из близких, каким он предстанет в анналах истории. Что ж, ему не довелось сделаться великим завоевателем, не удалось возродить Римскую империю. Но в категориях племенной ментальности, свойственной касте кшатриев, он прожил «правильную» жизнь: неутомимо сражался с врагами, встречал смерть лицом к лицу много раз, не умер в собственной постели, а погиб изрешечённый пулями. Если бы он был из племени викингов, на пиру в залах Валгаллы, под взглядом бога Одина, его ждало бы почётное место за столом и чаша, всегда наполненная вином.
Фюрер
Мировая история переполнена именами знаменитых завоевателей. И почти в каждом веке найдётся завоеватель-чемпион, обогнавший других по размерам захватов: Навуходонасор Вавилонский, Кир Персидский, Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь и так далее. Их всех можно разделить на два разряда: строители империй и завоеватели-наркоманы, то есть те, для кого война была самоцелью. Именно такие стали чемпионами в трёх последних столетиях: Карл Двенадцатый Шведский в 18-ом, Наполеон Первый французский в 19-ом и Адольф Гитлер немецкий в 20-ом.
Страсти, ментальность и демагогию таких полководцев хорошо спародировал чешский писатель Карел Чапек. Один из рассказов цикла «Апокрифы» представляет собой письмо, которое якобы пишет Александр Македонский своему учителю — Аристотелю — из очередного военного похода. В нём он благодарит великого философа за любовь к миру, внушавшуюся ему с раннего детства, и объясняет, что, ведь, единственной причиной для выступления его войска в первый поход был тот факт, что Эллада, самим фактом своего существования, угрожала южным границам Македонии. Он был уверен, что после победы можно будет вложить мечи в ножны. Но случилось непредвиденное: теперь его восточным границам стала угрожать Персия. «Что было делать, дорогой учитель? Пришлось снова садиться на коня».
Все разглагольствования фюрера о жизненном пространстве для Германии похожи на кальку с этого пародийного письма. Он привлекает тени завоевателей прошлого, например Чингис-хана. «Наша сила заключается в быстроте и беспощадности. Чингиз-хан сознательно и со спокойным сердцем обрёк на смерть миллионы женщин и детей. Однако в истории он остался только как великий создатель империи… Так и я посылаю на Восток мои части “Мёртвая голова”, приказывая им сурово и безжалостно убивать мужчин, женщин и детей, которые являются поляками по крови и языку. Только так мы сможем завоевать жизненное пространство, в котором столь нуждаемся».[693]
Здесь фюрер бессовестно передёргивает. Ибо Чингис-хан был таким же завоевателем-наркоманом, как и он сам. Строительство империй его не интересовало, покорённые монголами территории сразу распались после его смерти. Точно так же распалась огромная империя Александра Македонского. Чапек вкладывает в его уста мечты о завоевании Китая. Точно так же Гитлер обсуждал планы того, что он будет делать после покорения России: вторгнется в Турцию, Иран, Ирак.[694]
Логика поведения завоевателей-наркоманов повторяется из века в век: раз на западе я упёрся в пока непреодолимую стену, я пойду покорять восток. Вопросы о том «ради чего?», «есть ли у меня ресурсы?», «чего это будет стоить моей стране?» не возникают или легко заметаются под ковёр. Карл Двенадцатый своими походами на Польшу, Турцию и Россию довёл шведских крестьян до того, что они, спасаясь от набора в армию, калечили себя или убегали в леса. Наполеоновская Франция смогла послать под Ватерлоо только стариков и мальчишек. Такой же состав армии мы наблюдаем в кадрах немецкой кинохроники, снятых в последние дни обороны Берлина.
Но ведь поначалу было покорение двух третей Европы. Разве не нужна была для этого военная гениальность вождя?
Здесь прежде всего необходимо вспомнить, что представляла собой Европа в 1930-е годы. Люди были истерзаны экономическим кризисом и страшными воспоминаниями о Первой мировой войне. Социализм и пацифизм казались им заветными словами, золотыми ключиками к светлому будущему без войн. А немецкий фюрер только и говорил о социальной справедливости и необходимости мира. Неважно, что он добавлял к слову «социализм» слово «национальный». Он зато принёс своему народу стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Он также выглядел щитом против страшного большевизма. Ни австрийцы, ни чехи, ни норвежцы, ни румыны не хотели всерьёз воевать против него. В мае 1940 года французы уже сдавались в плен целыми подразделениями под командой офицеров. Ну, как тут не завоевать дюжину-другую независимых государств?
Конечно, первым немецким победам на западном фронте очень помогло прекраснодушие лидеров демократического мира. Оборонительную линию Мажино они решили провести не до Ла-Манша, а до бельгийской границы. «Ведь противник не посмеет пустить танковые колонны через территорию независимой страны. Его все осудят!» На востоке головотяпство Сталина, верившего клочку бумаги с подписями Молотова и Риббентропа больше, чем воплям собственной разведки, сыграло роковую роль летом 1941 года.
Но дальше всё пошло не так гладко. Англия оказалась не по зубам Геринговской люфтваффе, её покорение пришлось отложить на потом. Также пришлось отложить на шесть недель и вторжение в СССР из-за упрямых и непредсказуемых сербов. Сама Россия оказалась слишком велика даже для миллионной механизированной армии, вторгшейся в неё 22 июня 1941 года. Попытки одновременно взять и Москву, и Ленинград провалились, в сентябре защитники Северной столицы почувствовали ослабление напора, потому что немцам потребовалось перебросить большие резервы на центральное направление. Туда же были отправлены войска, освободившиеся после взятия Киева (26 сентября). Но время для атаки на Москву было безнадёжно упущено. В октябре ударили сильные морозы, а также подоспели сибирские дивизии. В ноябре немецкое наступление захлебнулось, а в декабре началось успешное советское контрнаступление.
В исследовании поступков и решений любого военного лидера можно приводить сотни аргументов «за» и «против», указывать на ошибки или, наоборот, представлять те же решения верхом прозорливости. Но необходимо помнить о том, что сам Гитлер своих ошибок никогда не признавал. Что бы ни случалось, он оставался в своих глазах прав всегда и во всём. Если стратегический план проваливался, это происходило не потому что он был невыполним, а потому что генералы и солдаты оказались неспособны воплотить в жизнь гениальные озарения фюрера.
Решения принимались импульсивно, приказы отдавались и потом никогда не отменялись. Одним из таких истеричных решений было объявление войны Америке сразу после Перл-Харбора. Союзнические соглашения трёх держав (Германии, Японии, Италии), так называемая «Ось Берлин-Рим-Токио», с трудом заключённые летом 1940 года, отнюдь не включали обязательств военного участия одного из созников в военных конфликтах другого. То, что война США была объявлена уже 11 декабря, то есть четыре дня спустя после нападения японцев, показывало, что времени на серьёзное обдумывание просто не было. И произошло это как раз тогда, когда вермахт потерпел первое серьёзное поражение под Москвой, когда британский флот доминировал в мировом океане, а авиация успешно отбивала атаки на Лондон и другие английские города.
Как можно было в такой момент ввязаться в войну с таким могучим противником?
Изоляционистские настроения тогда были ещё очень сильны в США. На выборах 1940 года президент Рузвельт победил в значительной мере потому, что обещал не посылать американцев на поля сражений в Европе. Ему приходилось придумывать всевозможные уловки, чтобы отправлять помощь англичанам в обход прерогативы Конгресса. Теперь Гитлер развязал ему руки, и военные поставки в Англию и Россию пошли из Америки потоком.
Не проявилась ли здесь снова свойственная Гитлеру страсть «невозможного желать»? Его представления об Америке складывались из причудливых клочков. В феврале 1919 года ему довелось увидеть грузовики с американскими военнопленными, возвращавшимися домой из Германии после окончания Первой мировой войны. Американцы показались ему образцами здоровья и силы, достойными воплощать высшую расу. В одной из речей 1929 года он сказал: «Эта страна является краеугольным камнем белой расы… Она заселена высокими людьми с хорошей кровью. В течение столетия мы посылали туда лучший человеческий материал… Сила её не в стомиллионном населении, а в расовой ценности этих ста миллионов».[695]
О распространённости расистских и про-нацистских убеждений в США он мог судить по таким фигурам, как Генри Форд Старший, знаменитый лётчик Чарльз Линдберг, дипломат Джозеф Кеннеди и многим другим. Ему было известно о создании его сторонниками в Америке молодёжных лагерей, в которых юноши и девушки воспитывались в духе гитлерюгенда. Не надеялся ли он, что в Вашингтоне к власти придут сторонники нацизма? Во всяком случае, в Германии были созданы курсы по подготовке будущих администраторов оккупированной немцами Америки.
Служение «высокому идеалу» торжества высшей расы, естественно, требовало жертв. В обсуждении одной планировавшейся операции танковый генерал Гудериан заметил, что она будет чревата большими потерями. Фюрер осадил его, заявив, что такой аргумент не следует принимать во внимание. Выше уже говорилось, что сострадания он был лишён начисто. Его министр вооружений Альберт Шпеер приводит в своих воспоминаниях такую сцену:
«Когда мы с фюрером сели за богато накрытый стол в вагоне-ресторане, мы не сразу заметили, что на соседнем пути стоит военный эшелон. Из теплушек на сидящих за столом пристально смотрели голодные измученные немецкие солдаты, которых перебрасывали с Восточного фронта в тыл, некоторые из них были ранены. Увидев подобную сцену всего в двух метрах от своего окна, Гитлер вскочил. Однако он не стал приветствовать солдат и вообще как-то реагировать на них. Вместо этого он приказал быстро опустить шторы.»[696]
В конце Первой мировой войны Гитлер своими глазами мог увидеть, до какой степени изобретение танка меняло всю стратегию окопных баталий. В своих кампаниях против Польши (1939) и Франции (1940) он умело использовал этот опыт. Но в боях на море ему участвовать не довелось, и он по старинке готов был делать ставку на строительство супер-линкоров и броненосцев. Судьба «Бисмарка», потопленного британскими бомбардировщиками уже через несколько недель после выхода в море (27 мая, 1941), продемонстрировала необходимость пересмотра военно-морской доктрины.
Германские верфи перестроились на выпуск подводных лодок и в этом достигли важных успехов. Число судов союзников, потопленных в Атлантике и в Северных морях, росло с каждым месяцем. Эпопея подводной войны ярко воспроизведена в английском фильме «Ключ» (1958, Софи Лорен и Вильям Холден) и немецком «Дас Бот» (1981). Перевес Германии на этом фронте сохранялся до лета 1943 года, когда американцам удалось создать радарную установку, засекающую подводную лодку, всплывшую для подзарядки аккумуляторов. Пятьдесят бомбардировщиков, оборудованных такими радарами, были передислоцированы из Тихого океана в районы маршрутов грузовых конвоев, везущих военное снаряжение из США в Англию и Россию, и число немецких подводных лодок стало стремительно уменьшаться.
В марте 1942 года, выступая на митинге памяти героев, Гитлер пообещал до конца лета уничтожить Красную армию. Но все операции, которые он проводит в течение следующего года, напоминают не просто поведение азартного игрока, а такого, который любит перебегать от стола к столу и делать ставки на разных рулетках. В мае разгораются битвы за Харьков и за Крым, но одновременно в Африке стартует немецко-итальянское наступление на Эл Аламейн. В июле захвачен Севастополь, Ворошиловград, Ростов, начинается наступление на Сталинград, но одновременно крупные танковые части посланы к северным отрогам Кавказского хребта.[697]
Такое разбрасывание сил не могло пройти безнаказанно. Уже в ноябре успешное контрнаступление советских войск ослабило натиск на Сталинград и Кавказ. В Африке немцы вынуждены очистить Тобрук и Бенгази, а вскоре и Триполи. 30 января 1943 года 300-тысячная немецкая армия, окружённая в Сталинграде, вынуждена капитулировать, ибо все её попытки прорвать окружение провалились. Но, как всегда, вина за это была возложена не на фюрера, который запретил фельдмаршалу Паулюсу отступить, когда это было ещё возможно, а на других военачальников. Со своих постов были сняты генералы Гальдер, Редер, Роммель, который был вынужден отступить в Африке перед мощным напором англичан под командой генерала Монтгомери.[698]
В 1943 году Гитлер продолжает вести войну в том же стиле. Приказывает начать наступление под Курском в те самые дни, когда началась высадка американцев в Сицилии и Южной Италии. В июле Муссолини свергнут, 8 сентября Италия заключает перемирие с союзниками. Казалось бы, тут можно было смириться с утратой не очень ценного союзника и сосредоточиться на задачах Восточного фронта. Но нет, челюсти крокодила не умеют разжиматься. Двадцать дивизий, которые так нужны для сдерживания Красной армии, переброшены в Италию и целый год пытаются сдержать продвижение союзников на север.
Психодинамика Гитлера, как впрочем и остальных четырёх персонажей этой книги, напоминает манёвры мощного бульдозера, в который забыли вмонтировать задний ход. Доехав до прочной стены, он не может объехать её — только сокрушить. Шведский дипломат Свен Хедин был поражён манерой, в какой фюрер вёл переговоры. «Его тактика сводилась к тому, чтобы навязать собеседнику свою волю. При этом его совершенно не интересовало, что тот хотел или думал».[699]
Эта метода далеко не всегда приносила ему победу. При личной встрече с Франко он семь часов пытался уговорить его вступить в союз с Германией и разрешить немецким войскам пройти к Гибралтару, чтобы отбить у англичан этот ключ к Средиземному морю, — тщетно. Предельное возмущение испанским диктатором выразилось в обронённом замечании: «В его лице есть что-то еврейское». В переговорах с Японией Гитлер так и не смог убедить их в превосходстве арийской расы, и текст соглашения пришлось формулировать в самых расплывчатых фразах. Реванш за такие провалы он брал на банкетах и ужинах с соратниками в своей резиденции. Там говорил только он, и все обязаны были выслушивать в десятый раз его бесконечно повторявшиеся истории.
Возможно, это равнодушие к мнениям и чувствам окружающих способствовало тому, что он проглядел заговор военных летом 1944 года. Те были приведены в отчаяние военной ситуацией, они не верили в чудо-оружие — ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2. Единственное спасение виделось им в свержении фюрера и заключении сепаратного мира с западными странами. Двадцатого июля они организовали взрыв в бункере, где проходило совещание с участием Гитлера. Несколько человек погибло, но сам он чудом выжил и тут снова продемонстрировал свою невероятную способность сохранять спокойствие в любых обстоятельствах: три часа спустя, с рукой на перевязи и с пластырем на лбу, он встречал на вокзале Муссолини, чей приезд был запланирован на тот день.
Бункер в Берлине сделался его последним прибежищем в заключительные недели войны. Туда ему приносили донесения, оттуда он рассылал приказы, там собирал военные совещания. Ева Браун и любимая собака оставались при нём неотлучно. Взрывы американских и английских бомб и русских снарядов сотрясали землю над его головой. Можем ли мы надеяться, что в эти дни он испытал хотя бы в малой степени такую же боль, страх и отчаяние по поводу рухнувших надежд, какие он причинил сотням миллионов людей на земле?
Последние кадры кинохроники, снятые в апреле 1945 года, показывают очень постаревшего больного человека, с парализованной левой рукой, который идёт перед шеренгой детей в военной форме, напутствуя их на защиту столицы Тысячелетнего рейха, окружённой русскими войсками. В своём полном провале и разгроме он обвинял весь немецкий народ, оказавшийся недостойным такого фюрера! Чтобы наказать его, из бункера рассылались приказы войскам при отступлении взрывать все жизненно необходимые здания и сооружения, уцелевшие от бомбёжек: мосты, больницы, водокачки, электростанции, пекарни.
И ещё он играл в кубики. Перед ним на столе был устроен миниатюрный макет его родного Линца, и он сосредоточенно переставлял игрушечные здания и церкви, планируя великую перестройку, которую он собирался осуществить после победы. О, профессора Венской и Мюнхенской академий искусств! Почему вы не оценили таланты молодого человека, стучавшегося в ваши двери в начале века? Как знать — если бы вы приняли его на архитектурный факультет, может быть, вся история столетия пошла по другому?
Кормчий
Партизанские войны сделались самым распространённым видом вооружённых конфликтов наших дней. Тем не менее они ускользают от объективного изучения, остаются окутанными густыми облаками секретности и дезинформации. Число бойцов, характер вооружений, источники снабжения, дислокация подразделений, отношения с местным населением — всё остаётся тайной. Когда смелый американский журналист Эдгар Сноу пробрался в расположение армии Мао Цзедуна (1936), он был вынужден принимать на веру всё, что тот ему скажет, если это не выходило за рамки правдоподобия, и включать в свою книгу «Красная звезда над Китаем».[700]
Гражданская война в Китае почти на всём своём протяжении оставалась именно партизанской войной коммунистов против Национального правительства Чан Кайши. Мао провёл на ней больше двадцати лет своей жизни, краткая хронология событий приведена выше в Летописи пятой. Там часто встречается выражение «Красная армия отбивает третий, четвёртый, пятый карательный поход войск Гоминьдана». При ближайшем рассмотрении оказывалось, что красным подразделениям просто удалось в очередной раз ускользнуть, раствориться в горах, лесах, мелких деревушках. «Великий поход» 1935 года — это история самого длинного отступления коммунистов на северо-запад. Войска Чан Кайши были оснащены оружием индустриальной эры — авиацией, танками, артиллерией. У красных ничего этого не было. Зато у них была отработана эффективная тактика подчинения своей власти населения сельских районов, превращения местных жителей в источник снабжения продовольствием, жильём, одеждой, а также в резерв, из которого можно было вербовать подкрепления.
Некоторые члены Политбюро КПК настаивали на том, чтобы атаковать города, но Мао Цзедун упорно вёл операции только в сельской местности, за что подвергался критике и даже в какой-то момент был снят с командных постов в Красной армии (1933).[701] После вторжения Японии в Китай коммунистам на некоторое время удаётся заключить союз с Гоминьданом для совместного противостояния агрессии. Но опять же, регулярные бои — армия против армии — вели войска Чан Кайши, а коммунисты применяли тактику партизанской войны за линией фронта.
Идейные расхождения между националистами Чан Кайши и коммунистами были сгущены вокруг организации деревенских союзов. Правительство Гоминьдана категорически запрещало принимать в эти союзы люмпенов и неимущую голытьбу. Если деревня попадала под власть красных, они отменяли эти запреты, и беднота, уравненная в правах с обеспеченными, начинала теснить их, бесчинствовать, всячески унижать. Хуже того, окрестные шайки бандитов тоже объявляли себя законными крестьянскими союзами и начинали безнаказанный грабёж населения.[702]
Мао в своих трудах подводил теоретическую базу под разгул насилия в деревнях. «Революция не званый обед, не литературное творчество, не рисование и не художественная вышивка. Революция — это бунт, беспощадное действие одного класса, свергающего власть другого класса. Нужно полностью свергнуть власть шэньши, а самих шэньши повалить на землю, да ещё придавить ногой… Попросту говоря, в каждой деревне необходим кратковременный период террора».[703]
В годы войны с Японией влияние и авторитет Мао Цзедуна неуклонно росли. В 1942 году он провёл большую чистку в рядах КПК и выпустил работу под названием «Новая демократия». Известный политолог Лю Шаоци объявил его создателем нового, азиатского варианта марксизма. В 1945 году 7-ой съезд КПК принял новый устав партии, в котором говорилось, что «идеи Мао Цзедуна являются путеводной звездой для китайских коммунистов». Он избран председателем ЦК, Политбюро и Секретариата.[704]
После капитуляции Японии в августе 1945 года была сделана ещё одна попытка вступить в союз с Гоминьданом, но она не удалась. Начался последний этап гражданской войны. К этому моменту американцы начали активно поддерживать Чан Кайши. Но его армия утратила контроль над самым важным для неё плацдармом — Маньчжурией, которая была оккупирована советскими войсками. Коммунисты начали одерживать одну победу за другой. В январе 1949 года они вошли в Пекин, в апреле-мае — в Нанкин и Шанхай. Остатки армии националистов укрылись на острове Тайвань. В октябре Мао провозглашает создание Китайской народной республики, а себя — главой её правительства.[705]
После подписания пакта о дружбе и взаимопомощи с СССР (январь, 1950) на Западе установилось мнение, что Китай сделался очередным саттелитом Москвы. Но очень скоро Мао показал, что, при всём его почтении к Сталину, он способен принимать самостоятельные решения. О вступлении Китая в Корейскую войну на стороне Северной Кореи (октябрь, 1950) в Москве узнали от находившегося там Чжоу Эньлая и были крайне удивлены тем, что молодая республика решилась вступить в противоборство с государством, имеющим на вооружении атомную бомбу.[706]
Привычная для китайцев тактика партизанской войны оказалась неприменимой в Корее. Вы не можете терроризировать местных жителей, языка которых вы не знаете, не можете заставить их снабжать вас продовольствием, вступать в ваши ряды, давать убежище. Китайским подразделениям приходилось сражаться лицом к лицу с американской армией, оснащённой новейшим оружием, закалённой в недавних боях с японцами. Потери «китайского корпуса добровольцев» были ужасными, особенно от бомбёжек и артиллерийского огня. В первые же дни под бомбами погиб старший сын Мао Цзедуна, Аньин, хотя он находился не на передовой, а при штабе.[707]
После окончания Корейской войны в 1953 году Мао правил страной больше двух десятилетий. За эти годы Китай не ввязался ни в одну серьёзную внешнюю войну. Он выпускал десятки и сотни «последних серьёзных предупреждений» американскому флоту, блокировавшему подступы к Тайваню, он ввязался в пограничный конфликт с Индией из-за Тибета (1962), он послал хунвейбинов, вооружённых «красными цитатниками», отбивать у русских спорный остров Даманский на границе, проходившей по фарватеру реки Уссури, но в остальном избегал провоцировать окружавшие его державы. И это при том, что в 1964 году ему удалось создать свою атомную бомбу, а в 1967 — и водородную.
Справедливо будет задаться вопросом: откуда такое миролюбие в политике нового фараона, который до этого провоевал 22 года, не выпуская ружья из рук?
Один из воможных ответов: в отличие от Муссолини и Гитлера, Мао не был завоевателем-наркоманом. Война для него была средством достижения власти — не самоцелью. Став диктатором, он обнаружил, что тиранство над подданными и внутрипартийная борьба вполне утоляли его властолюбивые инстинкты, его жажду самоутверждения. Он был хорошим мастером партизанской войны, умел вовлекать в неё тёмные слои крестьянской массы. Но для войны с применением современного оружия ему понадобились бы специалисты более высокого класса, настоящие боевые генералы — а зависеть от них он ни в коем случае не хотел.
Один из близких соратников Мао Цзедуна, Чен Хансхенг, много лет спустя так обрисовал его характер в беседе с американским историком Гаррисоном Солсбери: «Он был переполнен ненавистью. Он и Сталин были очень похожи, хотя ни тот, ни другой не признали бы этого. Мао завидовал Лю Шаоци, он завидовал своим лучшим командирам — Пэн Дахуэю, Хи Лонгу, Линь Бяо. Это объясняет многое в его поведении».[708]
Мао даже удерживался от вмешательства в войну во Вьетнаме, десять лет полыхавшую у него под боком. Куда девалась солидарность коммунистов всего мира?! Поставки оружия Ханою гораздо легче было бы осуществлять через сухопутную границу с соседом, чем везти их из СССР по морю вокруг всего азиатского континента. Но это означало бы оказывать помощь проклятым московским ревизионистам, осмелившимся критиковать Сталина. Нет, ни за что!
Война против собственных дальнозорких гораздо сильнее привлекала «Великого Кормчего». У этого противника было по крайней мере одно весьма привлекательное свойство: безоружность. Вооружённое сопротивление режиму время от времени оказывали жители Тибета. В 1959 году они подняли восстание, пытаясь вернуть себе независимость, утраченную в 1951. Их лидеру, Далай-ламе Четырнадцатому, вместе с тысячами сторонников, удалось бежать из страны и вывезти множество документов о зверствах карателей, что позволило поднять вопрос о намеренном геноциде маленького народа.
Вскоре после смерти Мао Цзедуна (1976) случились события, долго считавшиеся теоретически невозможными: войны между коммунистическими государствами. Сначала в ноябре 1978 Вьетнам напал на соседнюю Камбоджу, сверг воцарившегося там главу «красных кхмеров», Пол Пота, и назначил управлять своего ставленника. Так как Китай в это время был союзником Камбоджи, он ответил на это вторжением во Вьетнам через северную границу. Военные действия длились всего месяц (февраль-март, 1979), но обе армии потеряли примерно по 30 тысяч каждая.
Хотя Китай не предпринимал военных авантюр для расширения территории коммунистического лагеря, он способствовал этому другими путями. На его примере коммунистические ячейки других земледельческих государств убеждались в том, что не только пролетариат можно поднять на революционную борьбу, но и крестьянскую массу. Партизанские соединения, используя тактику Красной армии Китая, продемонстрироали живучесть и боеспособность во многих странах Третьего мира. «Фиделисты» на Кубе, сандинисты в Никарагуа, ФАРК в Колумбии, вьетконг во Вьетнаме, «красные кхмеры» в Камбодже — все так или иначе учились у создателя «азиатского варианта марксизма».
Повстанческое движение «Сияющий путь» («Синдеро Луминосо») в Перу открыто объявило «маоизм» своей идеологической платформой. По мнению «синдеристов», другие коммунистические страны впали в грех «ревизионизма». Созданный в 1970 году профессором философии Абимаэлем Гусманом «Сияющий путь» терроризировал страну в течение десятилетий. Ему не удалось свергнуть правительство Перу, он был вынужден уйти в подполье и будет там ждать своего часа, когда экономический или политический кризис ослабит государственный организм настолько, что он сделается снова уязвим для бациллы коммунизма.
Парламентская демократия западного образца оказалась для многих земледельческих стран слишком сложной конструкцией, чтобы выстроить её у себя и на ней успешно преодолеть бурные пороги на входе в индустриальную эру. Одна за другой они терпят крушение и возвращаются к тем или иным формам тоталитаризма, которые могут удерживать их на плаву, но не дают возможности преодолеть пороги. Нам пришла пора вглядеться в судьбу страны, превратившей революцию в самоцель, а на индустриализацию махнувшей рукой. Куба под властью Фиделя Кастро на полвека сделалась рассадником марксизма-ленинизма во всём мире.
Команданте
Нет, великого завоевателя из Фиделя Кастро не получилось. Да он, похоже, и не стремился к этому. У него была другая страсть: повсюду, где только можно, разжигать пожары революций или гражданских войн. Он имеет шансы заслужить титул самого успешного поджигателя 20-го века. Если помечать флажками на глобусе те страны, в которых ему это удалось, в глазах начнёт рябить. А если добавить к ним те, в которых он приложил руку к уже тлеющему огню, число флажков удвоится.
В своей революционной юности он носился с идеей объединения испаноязычных государств Западного полушария в единый Испанистан. Сделавшись повелителем Кубы, немедленно стал совершать шаги в этом направлении. Уже в апреле 1959 года отряд в 80 человек отплыл из Кубы с заданием «освободить Панаму». Но этот план провалился, и «освободителям» пришлось сдаться Панамской национальной гвардии.[709] Летом корпус в 200 бойцов был отправлен на самолётах в Доминиканскую республику, чтобы начать там гражданскую войну и свергнуть диктатуру Трухильо. Регулярные войска этой страны устроили засаду у места приземления и уничтожили почти весь десант. Такая же судьба постигла другой отряд, месяц спустя посланный свергать диктатора Дювалье (Папу Дока) в Гаити.[710]
Прямая вооружённая конфронтация с США в 1961–1962 годах, описанная выше в Летописи седьмой, показала, что Фидель Кастро способен эффективно руководить военными операциями самого разного характера. Дерзость, с которой он противостоял самой могучей державе мира, необычайно подняла его престиж. Вашингтон принял решение оставить Кубу в покое, пик борьбы с коммунизмом переместился в Юго-Восточную Азию, и Кастро смог вернуться к разжиганию революционных пожаров в Западном полушарии.
О появлении в их стране партизанских групп жители благополучной Венесуэлы узнали по начавшимся сериям взрывов на улицах столицы — Каракоса. Для разжигания революционных настроений на Гаити кубинские самолёты сбрасывали крестьянам портативные радиоприёмники, настроенные только на пропагандистское радио Гаваны. Подпольные ячейки стали появляться в Эль Сальвадоре, Гондурасе, Коста-Рике, на островах Карибского архипелага. Даже страны с относительно устойчивой демократией — Уругвай, Чили, Аргентина — не смогли предотвратить проникновение кубинских агитаторов.[711]
Бывший телохранитель Фиделя, Хуан Рейналдо Санчес, впоследствии описал, как происходила подготовка и тренировка засылаемых революционеров и террористов. Главный лагерь Пунто Сера де Гуанабо располагался в пятнадцати милях к востоку от Гаваны. На лесистой территории площадью примерно в четыре квадратных мили были выстроены коттеджи для проживания обучающихся, столовые, здания для классных занятий, стрельбища, карьеры для испытания взрывчатых веществ. На отдельной площадке стояли два самолёта и вертолёт, прикреплённые к земле, на которых можно было обучать методам захвата воздушного транспорта и заложников.[712]
В этом лагере огромное значение придавалось секретности. Группы курсантов из разных стран должны были жить отдельно, питаться в столовых и пользоваться стрельбищами в разное время, перемещаться по территории в миниавтобусах, и если автобусы проезжали навстречу друг другу, пассажирам следовало опускать лицо в колени.[713] Неизвестно, делалось ли это для того, чтобы личности проходящих обучение не стали известны полиции их стран, или из опасения, что они установят прямые контакты, создадут новые межнациональные союзы и тем лишат Кубу её роли главного центра всей подрывной деятельности.
Курс этой «Академии революционеров» был рассчитан на четыре или шесть месяцев. По приблизительным оценкам, его оканчивали полторы тысячи курсантов в год. Около 90 % лидеров повстанческих групп в Южной Америке были выпускниками Гуантонабо.[714] Но обучались здесь и террористы из других регионов мира: баскские сепаратисты ЕТА, ирландцы из IRA, палестинцы из ПЛО и ФАТХа, марокканцы из Полисарио, чёрные пантеры из США. Особенную известность приобрели такие «выпускники», как Ильич Рамирес Санчес (Карлос Шакал), братья Даниэль и Умберто Ортега (будущие марксистские правители Никарагуа), Абимаэль Гузман, основавший движение «Сияющий путь» в Перу.[715]
Гавана проявляла большой интерес и к Африканскому континенту. Уже в 1961 году она посылала оружие алжирским повстанцам, воевавшим за независимость от Франции. В 1965 году Че Гевара появился в Конго в сопровождении группы кубинцев и пытался организовать там партизанское движение из различных левых группировок. Ему удалось образовать армию из нескольких тысяч и вступить в бой с наёмниками из Европы, защищавшими правительство страны, но успеха эти отряды не имели. В широких массах населения доминировали тайные общества «симба», ставившие своей целью уничтожение всех белых, включая и «освободителей». Через полгода Че вернулся на Кубу.[716]
Историки считают, что к этому моменту его отношения с Кастро сильно охладели, но не могут с уверенностью указать на причину. Неизвестно даже, согласился ли команданте на экспедицию в Боливию или Че уехал туда в конце 1966 года самовольно. Боливийские коммунисты отказались поддержать кубинского эмиссара, потому что он предъявлял им невыполнимые требования: прекратить слушаться приказов из Москвы и перейти в полную зависимость от Гаваны.[717]
Отряд, который удалось создать Че, не превышал и сотни бойцов. Он провёл несколько стычек с частями боливийского спецназа, получившими тренировку под руководством американских инструкторов. Отступая вдоль русла реки в джунглях, повстанцы устроили ночной привал, и их голоса услышала местная крестьянка, которая поспешила сообщить об этом военным. Те подкрались к привалу и напали на отряд врасплох. После короткого боя он был разбит, и Че попал в плен. Он вёл себя вызывающе, грубил боливийским офицерам, советовал им не спешить с его расстрелом, потому что живой он стоит гораздо больше, чем мёртвый. Те не послушались и расстреляли его, не утруждая себя судебным фарсом.[718]
Историки отмечают сходство судьбы Че Гевары с судьбами других близких соратников Кастро по революционной борьбе. Если кто-то из них приобретал авторитет и приближался по своему статусу в революционном движении к самому команданте, он вскоре исчезал или погибал загадочной смертью. Называли имена Камило Сиенфуэгоса, Франка Пайса, Хубера Матоса, Сори Марина.[719] Даже брат Рауль часто исчезал из страны, отправленный с дипломатическими или торговыми заданиями за границу.
В 1971 году произошло событие, которого давно можно было ожидать: в одной из стран Южной Америки к власти, в результате нормальных демократических выборов, пришёл убеждённый марксист. Сальватор Альенде, избранный президентом Чили, решительно начал проводить социалистические реформы. Кастро примчался повидаться со своим единомышленником и провёл в стране целый месяц. Он выступал перед восторженными толпами в столице, поздравлял чилийский народ, «выбравший верный путь», обещал плодотворное сотрудничество с Кубой. Параллельно он внедрял своих агентов в ключевые структуры чилийской администрации и прессы. Ему даже удалось привлечь на свою сторону дочь Альенде, Беатрис, которая вскоре вышла замуж за кубинского дипломата, аккредитованного в Чили.[720]
Но социалистические реформы приживались плохо, в стране нарастало напряжение. Ситуация напоминала Испанию 1936 года. Угроза гражданской войны стала реальной, и армейские офицеры решили предотвратить её, устроив военный переворот. 11 сентября 1973 года президентский дворец был атакован с земли и воздуха, защитники его быстро рассеяны. Сам Альенде, осознав безнадёжность ситуации, застрелился из автомата, подаренного ему Фиделем Кастро. Дарственная надпись гласила: «Сальвадору Альенде, моему товарищу по оружию». Страну возглавил генерал Пиночет, которого называли «чилийским Франко». Как заметила американский историк Энн Гейер: «Кастро не удалось построить в Чили социализм, но он сильно посодействовал концу демократии в стране».[721]
В следующем году перед неугомонным поджигателем открылись новые манящие горизонты — теперь в далёкой Африке. Португалия внезапно объявила, что она оставляет свои колонии — Анголу и Мозамбик. Загорелась борьба за власть в двух новых независимых странах между различными политическими группировками. Разве можно было упустить такую возможность? Конечно, нет.
Используя контакты, остававшиеся у Гаваны в Африке со времён миссии Че Гевары, Кастро сумел установить связь с марксистской группировкой MPLA. Армия кубинских «барбудос» была срочно посажена в самолёты и на корабли и отправлена на «чёрный континент». 7 ноября 1975 года команданте лично провожал экспедиционный корпус, облачённый в штатскую одежду и прячущий автоматы в туристских чемоданах.[722]
Впоследствии Кастро объявлял, что его армия была призвана на помощь законным правительством Анголы. На самом деле, в стране в этот момент ещё не существовало никакого правительства. Были обещаны всеобщие выборы, в которых могли бы принять участие различные партии. Но марксистская группировка MPLA сумела первой войти в столицу Луанду и с помощью кубинцев утвердиться там как верховная власть. О выборах было забыто. Южноафриканская республика попыталась помешать этой узурпации и послала войска — её обвинили в интервенции и агрессии. Кубинцы начали получать регулярную помощь оружием из СССР и сумели отбить вторжение южноафриканцев.[723]
Здесь нужно вспомнить стратегический расклад сил противоборства Западного мира с красной угрозой в 1970-е. Конец вьетнамской войны развязал руки Москве. Вся помощь, которая раньше шла Ханою, теперь могла направляться в другие горячие точки планеты. Зенитные ракеты, переброшенные в Египет, нанесли тяжёлый урон израильской авиации в войне Судного дня (осень 1973). Сирия получила советские Миги и танки, что позволило ей грозить Израилю, вмешаться в гражданскую войну в Ливане. Камбоджа и Лаос попали под власть коммунистов (1975). А главное, США находились в состоянии политического паралича после поражения во Вьетнаме и свержения президента Никсона в результате Уотергейтского скандала. Их готовность сопротивляться распространению коммунизма ослабла.
На этом фоне Кастро выглядел победоносным конквистадором далёких земель. Он совершил триумфальный проезд по африканским странам, посетил Алжир, Ливию, Египет, Эфиопию, Сомали, Танзанию, Мозамбик. Весной 1977 года он выступил в Анголе перед своими войсками. В полуторачасовой речи восхвалял кубинское оружие, кубинскую револючию, себя и снова расписывал свою мечту об объединении южно-американских стран в одно государство с одним президентом.[724] И никто из слушателей не стал спрашивать его о том, кого он видит кандидатом на этот пост.
Идея объединения стран Латинской Америки не была монополией Фиделя Кастро. В значительной мере она была реализована уже в виде Организации Американских Государств (ОАГ), созданной в 1948 году. Президент Венесуэлы, Ромуло Бетанкур, который пришёл к власти за год до Кастро, свергнув диктатора Маркеса Переса Хименеса, тоже был энтузиастом такого объединения. Однако, встретившись с Кастро, он решительно отверг его идейные принципы, а впоследствии даже добился исключения Кубы из ОАГ (1962; в 2009 исключение было отменено, но Куба отказалась воспользоваться отменой).[725]
Тем не менее, к 1978 году многим казалось, что мечта команданте начинает сбываться. Загорелись гражданские войны в Никарагуа и Эль Сальвадоре. Кроме Кубы, повстанцам оказывали финансовую помощь Венесуэла и Коста-Рика. Однако Кастро играл и другую важную роль в этих конфликтах. Он использовал свой авторитет для того, чтобы выступать в роли арбитра во время споров между партизанскими лидерами. В Никарагуа ему удалось уговорить их действовать солидарно, и в 1979 году диктатор Сомоза был свергнут.[726] Власть перешла к коммунистическому правительству братьев Ортега.
Кубинским контингентом в Никарагуа командовал генерал Арнальдо Очоа. У этого военачальника был длинный список заслуг перед кубинской революцией. Он участвовал в боях в Сиера-Маэстро, в Заливе Свиней (1961), возглавлял кубинские войска в боях в Анголе, Эфиопии, Сомали.[727] В 1980 году ему было присвоено почётное звание Национального героя Кубы — и до самой смерти он оставался единственным кубинцем, удостоенным такой чести.
Его звезда начала заходить в 1988 году. К этому времени война в Анголе достигла своего пика во время шестимесячной битвы при Квито-Канавале, с применением танков и авиации, между кубинцами и марксистским правительством с одной стороны и южноафриканцами и прозападной группировкой УНИТА (возглавляемой Джонасом Савимби) с другой. В ходе боёв Кастро пытался отдавать команды из Гаваны, а Очоа либо выдвигал альтернативные планы, либо просто игнорировал невыполнимые приказы далёкого главнокомандующего. Обе воюющие стороны объявили себя победителями, но, так или иначе, южноафриканцы вскоре должны были вывести свои войска из страны. Однако, как справедливо замечает в своей книге Хуан Санчес, никому ещё не сходила с рук попытка возражать Кастро да ещё оказываться правым при этом.[728]
В начале 1989 года Кастро не мог не чувствовать, что почва уходит у него из-под ног. В СССР горбачёвская перестройка набирала силу, вскоре потепление отношений между двумя сверхдержавами привело к разрушению Берлинской стены. Для Москвы Куба постепенно превращалась из форпоста коммунизма в Западном полушарии в неудобного и дорогостоющего союзника. Кастро был не из тех, кто послушно подчиняется обстоятельствам и без боя идёт на дно. Однако выбранный им способ остаться на плаву и восстановить престиж ошеломил всех на Кубе и за её пределами. 24 апреля 1989 года национальный герой, генерал Очоа, был арестован и отдан под суд по обвинению в торговле наркотиками и коррупции.
Дальше всё стремительно развивалось по накатанному сценарию показательных процессов в коммунистических странах. Опять на открытом суде выступали свидетели, подтверждавшие все пункты обвинения. Опять защите разрешено было только просить о милосердии. Очоа мог бы признать справедливость обвинений, добавив лишь одну существенную деталь: все действия, связанные с наркоторговлей, совершались им с ведома и по прямому приказу самого Кастро. Вместо этого он лишь объявил: «Если даже мне будет грозить смертная казнь, моя последняя мысль будет о Фиделе и о великой революции, которую он дал нашему народу».[729]
Почему все жертвы показательных судов принимали покаянную позу? Может быть, им обещали помилование в случае покорного следования сценарию? Или гарантировали безопасность детей и близких? (У Очоа была семья, очень дружившая с семьёй Рауля Кастро.) Или для них, как это убедительно показал Артур Кёстлер в своём романе «Тьма в полдень», было невозможно признать, что вся их жизнь была посвящена служению ложным идеалам, воплощённым в чудовищном лидере?
Специальный военный суд нашёл Очоа виновным и приговорил к смерти. Пять дней спустя Кастро созвал государственный совет, составленный из 29 самых видных военных и гражданских лидеров страны, и все они должны были индивидуально утвердить приговор. Среди них был и Рауль Кастро, которому пришлось поставить свою подпись под смертным приговором близкому другу.
Однако и этого показалось мало Каиновой душе команданте. Он приказал заснять казнь генерала на видео и заставил всех членов своей семьи, включая жену, Далию де Сото, и брата Рауля, а также охранников, слуг и домашнего врача смотреть ленту. Она была беззвучной, но зрители могли ясно видеть, как автомобили въезжают ночью на территорию каменоломни, в которой была устроена взлётная полоса. Как Очоа выходит из машины, высоко держа голову, и идёт к стене. Как отказывается от повязки на глаза. Как что-то выкрикивает палачам. И потом рушится на землю под градом пуль.[730]
Историки впоследствии выдвигали разные версии мотивов, двигавших ненасытным властолюбцем. Посмею и я предложить свою. Весь кровавый фарс был задуман и проведён с единственной целью: послать предупреждение брату Раулю. Будучи военным министром, тот был непосредственным начальником генерала Очоа. Не исключено, что Рауль в какие-то моменты становился на сторону своего подчинённого в его стратегических спорах с команданте. В принципе, вступив в тайный сговор друг с другом, эти двое могли устроить военный переворот в стране. Теперь же Фиделю ничего не стоило бы объявить брата соучастником преступлений казнённого и тоже отдать под суд.
В подтверждение этой версии можно привести драматичный поворот последующих событий: после просмотра ленты с расстрелом Рауль впал в страшный непробудный запой. Во время многочисленных визитов в Россию он пристрастился к водке и теперь глушил её бутылка за бутылкой. Сотрудникам военного министерства неделями не удавалось поймать его трезвым, добиться от него ответов на свои вопросы, получить какие-то распоряжения. Жена, боясь, что всё кончится самоубийством, воззвала к Фиделю, умоляя вмешаться. Тот милостиво согласился, и Хуану Санчесу довелось подслушать монолог, которым он усовещивал своего брата:
— Как ты мог пасть столь низко? Ты даёшь ужасный пример своей семье и охране. Если ты обеспокоен тем, что тебя может постигнуть судьба Очоа, то позволь напомнить тебе, что он не был моим братом. Ты и я были с детства одно. Нет, судьба Очоа тебе не грозит, если только… если ты не будешь продолжать это позорное поведение. Говорю тебе как брат: как только ты покончишь с пьянством, я выступлю по радио и буду восхвалять твои заслуги перед страной.[731]
Рауль нашёл в себе силы нажать на тормоза, и Фидель исполнил своё обещание.
После развала СССР Куба потеряла главный источник материальной поддержки, и её военная активность резко пошла на убыль. Но политический авторитет Фиделя Кастро оставался очень высоким, и в 1999 году он сумел воспользоваться им: при поддержке «лидера максимо» на президентских выборах в Венесуэле победил марксист Уго Чавес. Богатая нефтью и газом страна начала неизбежный спуск в болото коммунистической нищеты. Сегодня она приведена на грань полного разорения, хозяйство разрушено, население бежит в соседние страны. Но Кастро, передавший в последние годы жизни власть Раулю, до последнего дня оставался убеждённым марксистом и гордился тем, что он сделал для своего народа и для десятков других.
Комментарий десятый: ПРО КАИНА, МАРКСА И КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД ПЛАНЕТОЙ
Ах, война, что ты, подлая, сделала!
Вместо свадеб — разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим…
Булат ОкуджаваИз-за чего происходят войны? Ответа на этот вопрос искали сотни и тысячи мыслителей. И в конце 19-го века всё большую популярность приобретал ответ Карла Маркса: «Виновниками военных пожаров являются тщеславие монархических властителей и ненасытная жадность эксплуататоров-буржуев, их неуёмная жажда обогащаться любой ценой». Значит, единственной надеждой на установление мира на земле будет: свергнуть всех монархов и отменить само понятие частной собственности.
Первая мировая война выглядела подтверждением марксистских догматов: её затеяли монархи, раздували буржуи в погоне за новыми колониальными владениями, а сопротивлялись ей социалисты в разных странах, даже шли в тюрьму за свой пацифизм. Слово «социализм» стало паролем надежд на политические перемены, как после Французской революции стали паролем слова «эгалите, либерте». Но, словно в насмешку, Вторая мировая война была развязана тремя лидерами социалистами: Гитлером, Сталиным, Муссолини.
Право собственности не раз было предметом нападок и осуждения задолго до Карла Маркса. Уже в Первом столетии Христос призывал: «Продай имение своё и раздай нищим… и следуй за мной» (Мф.: 19–21). Этот призыв сыграл огромную роль в распространении христианства по всему миру. Многие были убеждены, что мирские сокровища — соблазн и помеха всему священному. Общие трапезы, общее жильё, одинаковое облачение включались как обязательные требования в уставы христианских монастырей.
Коммунистические утопии всплывали почти во всех революционных и религиозных движениях истории. В 15-ом веке в гуситском движении большую силу имели табориты, которые призывали всё сделать общим. Того же требовали последователи Томаса Мюнцера во время Крестьянской войны в Германии в веке 16-ом. В Англйской революции 17-го века «подлинные левеллеры», возглавляемые Джерардом Уинстенли, выходили на пустыри и начинали обрабатывать их, утверждая, что дар Божий — земля не может быть чьей-то собственностью. К отказу от собственности звали и многие французы — Сен-Симон, Бабёф, Прудон и другие.
Чем же отличалась проповедь Маркса от теорий и лозунгов его предшественников? Что придало ей силу неодолимого соблазна, находившего отклик в миллионах сердец, у людей самых разных племён, народов, вероисповеданий, социальных слоёв, у дальнозорких и близоруких? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, нам следует вернуться к описанному выше свойству человеческой души, которое мы назвали: «Каинова жажда мести за собственную обделённость».
Маленький или большой Каин живёт в сердце каждого человека. В своей жажде самоутверждения каждая личность вступает в соперничество с окружающими её соплеменниками и может иногда дойти до крайних жестокостей и даже преступлений. Но одновременно, с развитием цивилизации, человек начинает осознавать спасительную важность ограничений, накладываемых на его волю религиозными заповедями, моральными требованиями, сводом законов. Он готов терпеть их и подчиняться им, пока система этих запретов выглядит незыблемой. Однако если революция разрушает систему, его жажда бунта против неё вырывается наружу и начинает крушить всё направо и налево.
В душе близорукого система моральных запретов отождествляется с властью вышестоящих слоёв. В душе дальнозоркого, который в стабильном государстве обычно вынесен в правящий класс, нарастает протест против верховной власти, потому что она постоянно одёргивает его, заставляет считаться с чувствами большинства. Холодным умом дальнозоркий может сознавать, что близорукое большинство только-только вышло из стадии дикости, что верховная власть, с её полицией, тюрьмами и всякими жестокостями, необходима, чтобы удерживать зверя в народной душе. Но голос холодного рассудка звучит слабее, чем голос страстей, и не может удерживать дальнозоркого от утоления страсти к ниспровержению. Лозунги «мечами сбивайте короны!», «зовите народ к топору» прорываются наружу, как струйки дыма из склонов вулкана перед извержением.
И тут на сцене появляется Карл Маркс. И для дальнозорких, и для близоруких наукообразность его теорий таила необычайную привлекательность. Стройная схема сменяющих друг друга общественных формаций рождала надежду на то, что хаос мировой истории можно упорядочить. Примитивный общинно-родовой строй сменяется рабовладельческим государством, далее следует феодализм, потом — капитализм, который теперь пришла пора переделывать в социализм, чтобы потом достичь сияющего благополучия коммунизма. Всё выглядело таким научно-выверенным, неопровержимым. А венчала всё ТЕОРИЯ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ.
Вот в каждом государстве мы видим класс трудящихся и господствующий над ним класс эксплуататоров. Прогресс цивилизации осуществляется не творчеством труженников, инженеров, учёных, путешественников, зодчих, мыслителей, а борьбой классов. Каждый раз, когда трудовой класс поднимается на борьбу и свергает власть господ, человечество делает скачок вперёд. Каждая победная революция есть благо, ибо в её пожаре, в грязи и крови, рождается нечто новое и небывалое.
Какое облегчение!
Логично, научно доказано, что моя затаённая, подавляемая жажда мести не является каиновым грехом, проклятьем человечества, а наоборот — движущей созидательной силой его развития. Да здравствует классовая борьба!
Такая схема мышления несла в себе оправдание самых глубинных тёмных страстей человеческой души. Близорукий, глядя на поставленного над ним дальнозоркого начальника, мог думать: «Нет, не потому я хочу с тобою покончить, что ты смышлённее, образованнее, энергичнее меня, а потому что ты есть безжалостный эксплуататор, обманом захвативший власть надо мной». Дальнозоркий, глядя на властьимущего, мог думать: «Нет, не потому ты сужаешь рамки дорогой мне свободы в государстве, что народ не дозрел до неё и может начать бунтовать, а потому что стремишься удержаться у власти, сохранить порядок, вознёсший тебя над остальным населением и надо мной в том числе».
Религиозные заповеди «не убий», «не лги», «не бери чужого», само понятие «греха» были объявлены обманом, «опиумом для народа», сочинённым классом эксплуататоров для господства над угнетёнными. До тех пор пока общество построено на эксплуатации, любые моральные принципы остаются обманом, служащим сохранению власти меньшинства. Только когда право собственности будет разрушено, станет возможным справедливо оценивать моральную ценность того или иного человека.
Близорукое большинство неспособно быстро усваивать уроки истории. Все провалы марксистских догматов в реальной политической жизни не ослабляют притягательности теории. Красное знамя развевается сегодня едва ли в десятке государств, но в других странах наследие Маркса продолжает храниться в сердцах миллионов. Коммунистические партии и коммунистические идеи сохраняют свою силу и влияние на всех континентах. Даже в США на выборах 2016 года открытый социалист Берни Сандерс чуть не прорвался на роль кандидата в президенты от демократической партии.
Придание высокого мотива самым банальным злодействам действует как ведро бензина, выплеснутое в пожар. Одно дело откликнуться на «Бей жидов!» и совсем другое — на «Бей жидов, спасай Россию». Одно дело — просто поджечь помещичий дом, и другое — способствовать этим актом мировому прогрессу.
К сожалению, марксизм был далеко не первым политическим движением, использующим приём «высокой миссии», и вряд ли останется последним. Вся эпоха крестовых походов разогревалась горячим призывом «освободить Гроб Господень». Колониальные захваты оправдывались необходимостью принести свет христианства диким туземцам. Наоборот, США напали в 1898 году на испанскую империю под предлогом борьбы с несправедливостью колониализма.
Политический национализм избирает в качестве своей «высокой миссии» процветание и усиление своего народа. Ему всегда будет противостоять интернационализм, для которого превыше всего — процветание и безопасность человечества. Именно эта разница позиций провела линию раздела между воюющими сторонами во Второй мировой войне. Германия, Италия, Япония избрали своей святыней национализм и были разгромлены. Англия, Америка, Россия объявили своей сверх-задачей прогресс и объединение человечества — на христианско-демократической или коммунистической основе — и оказались победителями.
Элемент интернационализма сближал коммунистов СССР с капиталистическими странами и позволил им создать прочный союз, продержавшийся до конца войны. Попытка же союза между Гитлером и Сталиным провалилась, потому что всякое интернациональное начало для настоящего националиста неприемлемо. Если «Германия превыше всего», другим высоким ценностям места не остаётся. Знаменательно, что лидеры националистов почти все закончили насильственной и позорной смертью, а лидеры демократического и коммунистического интернационализма умерли от старости в своих постелях. (Правда, им не достанется почётного места за пиршественным столом в чертогах Валгаллы, но это и не включалось в их упования.)
Классовая борьба играла свою роль в истории, но не она является двигателем прогресса цивилизации, а свободное творчество людей во всех сферах общественной жизни. Поэтому, как было сказано в предисловии, пришло время отказаться от сетки координат, предложенной Марксом, и выстроить её не по социальным формациям, а по ступеням технологического прогресса: от охотничье-племенной стадии народ переходит к кочевому скотоводству, затем возникает эра осёдлых земледельческих государств и далее — индустриальная эра.
Почти весь двадцатый век ушёл у России на переход из земледельческой эры в индустриальную. Она успешно, хотя и со страшными жертвами, провела его под красным знаменем, что ещё больше подняло престиж марксизма. Сегодня тем же путём пытаются идти Китай, Вьетнам, Северная Корея и несколько других стран. Однако конец холодной войны и распад СССР показали, что коммунистический путь не является ни идеальным, ни единственно возможным. Израиль, например, сумел совершить этот переход не под серпом и молотом, а под шестиконечной звездой. Десятки других стран в Азии, Африке, Южной Америке стоят перед необходимостью индустриализации и наверняка будут искать себе и другие знамёна для подъёма на следующую ступень.
Зелёное знамя ислама всё чаще появляется над народами, созревшими для перехода. Иран, Пакистан, Индонезия, Турция, все арабские страны, похоже не видят для себя другой альтернативы. Красное знамя имело множество оттенков, от югославского до камбоджийского. Зелёное сегодня тоже видоизменяется, даже перекрашивается порой в чёрное (ИГИЛ). Однако, индустриальный мир, скорее всего, не готов к тому, чтобы оставаться пассивным наблюдателем. Всё чаще он выбирает для себя «высокую миссию» в том, чтобы критиковать, осуждать, направлять отставшие народы.
«Вы избрали неправильный путь, — всё чаще объявляют индустриальные страны народам Третьего мира. — Мы поможем вам исправить вашу жизнь, выстроить её в соответствии с высокими идеалами, выработанными нами. Даже если для этого вас придётся немного побомбить, это только пойдёт вам на пользу».
За прошедшие полвека США вмешивались во внутренние дела десятков государств — дипломатическим давлением, экономическими рычагами, а часто и просто военным вторжением. Этому вмешательству подверглись Китай, Корея, Куба, Вьетнам, Босния, Сербия, Афгинистан, Ирак, Ливия и другие. Роль «высокой миссии» играет «распространение демократии во всём мире». Другие формы управления государством заранее исключаются. Неважно, что в Третьем мире только монархии и диктатуры демонстрируют некоторую устойчивость. Надутые воздухом благих намерений демократии навязывают даже народам, только начинающим вводить в школах обязательное обучение и овладевать грамотой.
О трудностях и опасностях преждевременного введения демократии писали ещё русские философы как раз накануне Февральской революции 1917 года. Иван Ильин предупреждал: «Демократия может быть уместна, целесообразна и политически оправдана в одних государствах, и может быть совершенно неподходяща, прямо гибельна в других… Нет единого государственного строя, который был бы наилучшим для всех стран и народов… Демократия — труднейший режим… Она предполагает исторический навык, приобретённый народом в результате долгого опыта и борьбы; она предполагает в народе культуру законности, свободы и правосознания; она требует от человека политической силы суждения и живого чувства ответственности. А что делать там, где всего этого нет?»[732]
Особенно трагическими были попытки вводить демократию там, где народы ещё не изжили племенные традиции, где лояльность к соплеменнику и вражда к чужаку были главными векторами общественной жизни. В значительной мере это происходило в Дарфуре, в Анголе, в Конго и самое страшное — в Руанде. Там «экстремисты из племени Хуту, составлявшего большинство в стране, в 1994 году сбили самолёт, в котором летел избранный президент, и попытались уничтожить племя Тутси, насчитывавшее около миллиона человек. В течение ста дней погибли 800 тысяч — в основном Тутси, но также и те Хуту, которые отказывались участвовать в резне. После этого армия Тутси, составленная из эмигрантов, проживавших в Уганде, вторглась в страну, и Хуту вынуждены были бежать от мстителей в Конго и Танзанию. Вскоре весь этот район погрузился в оргию насилий. По приблизительным оценкам в Великой войне погибло до трёх миллионов человек, главным образом, от голода и болезней».[733]
Сегодня навязывание демократии не созревшим для неё народам только набирает разгон. Если они упираются или просто ведут себя не по нашим правилам, можно перестать оказывать им финансовую помощь, а то и припугнуть бомбёжками. Если продолжают упираться, можно послать наземные войска.
Кампании в Афганистане и Ираке тянутся уже дольше Вьетнамской, и конца им не видно. Их не удостаивают словом «война». Нет, это просто операции по укреплению безопасности в странах, идущих «верным путём» в светлое царство Демократии. Солдатские гробы летят и летят в Вашингтон на Арлингтонское кладбище, но такова уж цена свободы. Нужна ли этим народам свобода, хотят ли они её или предпочли бы стабильность и безопасность под жёстким правлением — такой вопрос задавать просто неприлично.
Мир Ислама сопротивляется внедрению западных идеалов с особенным упорством. Как верно заметил американский политолог Сэмюэл Хантингтон, «то, что мы называем универсализмом, мусульмане называют империализмом».[734] Западные идеалы оказываются слишком гибкими, и при их внедрении постоянно применяются двойные стандарты. Нарушение прав человека в Китае будет сурово осуждаться, но то, что происходит с этими правами в Саудовской Аравии, редко попадает на страницы американских газет. Сербов тащили в Гаагский трибунал за их обращение с албанцами Косова. Но Запад дружно молчал, когда в 1995 году хорватская армия, поддержанная США, вторглась в анклав Крайина и вынудила к эмиграции сотни тысяч сербов, живших там веками.[735]
Хорошо когда роль главного врага свободы играет диктатор. Его можно свергнуть, как свергли Саддама Хусейна, Муамара Каддафи, Слободана Милошевича, и спокойно дожидаться расцвета демократии и свободы на расчищенном месте. Но что делать, если расцвет всё не происходит и не происходит? Ведь нельзя усомниться в универсальности наших ценностей. Значит, надо искать какого-то скрытого врага, который тайно ставит рогатки на светлом пути, отравляет ядом пропаганды ростки демократии.
Начиная с 2014 года на роль всемогущего тайного врага свободы дружно выдвигается Россия. Неважно, что это именно она в 1991 году объявила — впервые в истории — Украину свободным независимым государством. И миллионы русских людей, живших на территории этой советской республики, с доверием приняли участие в демократических переменах. Они участвовали в выборах Рады и многочисленных президентов, сменявших друг друга. Ведь успехи европейских демократических стран были так очевидны. И в их конституциях записана обязательная защита прав национальных меньшинств. Может быть, всё это сработает и у нас?
Но вот наступил момент, когда прозападного президента Ющенко на выборах победил пророссийский Янукович. И тут все правила демократии мгновенно изменились. Оказалось, что проигравшему на выборах меньшинству не обязательно ждать следующих выборов. И что свергать неугодных президентов может не только военная хунта, но и толпа националистов, собравшаяся на главной площади столицы. И американские сенаторы и дипломаты примчатся на площадь и станут подбадривать и вдохновлять бунтовщиков. И это ни в коем — ни в коем! — случае нельзя считать вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Это просто некоторые новации и усовершенствования демократических принципов, которым мы будем вас обучать.
Всякая революция начинает искать в прошлом своих героев. Для украинских «самостийщиков» главным критерием отбора сделалось слово «независимость». Но почему они не выбрали Богдана Хмельницкого, Мазепу, Скоропадского, хотя бы Петлюру? Или близорукие не умеют смотреть так далеко назад, и их взор достигает только более близких во времени Степана Бандеры и Романа Шухевича? А для утоления Каиновой страсти им вполне достаточно руздувать ненависть к сегодняшней России, разрушать памятники советским генералам, сеять раскол в православной церкви, запрещать русский язык.
Политические мудрецы призывают нас учиться у истории. Но эти уроки оставляют слишком широкий простор для разных интерпретаций. Пять наших героев были большими мастерами этого дела. Каждый выбрал себе в далёком прошлом фигуру по вкусу и окружил её ореолом. Сталину стал дорог царь Иван Грозный, и он поручил режиссёру Эйзенштейну и актёру Черкасову вытравить из сознания русских людей полубезумного сыноубийцу, нарисованного Репиным, заменить его величественным самодержцем, создателем «всея Руси». Муссолини продолжал поклоняться Наполеону вопреки напоминаниям жены о печальной судьбе французского императора. Гитлер гордился тем, что был не менее беспощаден, чем Чингис-хан. Мао отыскал в длинной китайской истории самого жестокого императора Лю Бана, которому следовало всё простить за создание великой империи Хань. Кастро оставался поклонником Александра Македонского, но уроки практического правления брал у Сталина и Гитлера.
И всё же нечто поучительное можно извлечь из трёх последних тысячелетий пребывания людей на Земле. А именно — выбранный высокий идеал не всегда приведёт к тем результатам, которые грезились революционерам.
Если мы скажем «вера превыше всего», мы очень легко можем попасть под власть инквизиции.
Если «равенство» — под власть якобинцев или большевиков.
«Сила» — под власть фашистов и нацистов.
«Закон» — его легко оседлают профессиональные адвокаты Робеспьер, Ленин, Кастро.
«Справедливость» — окажемся под властью хаоса, ибо справедливость у каждого своя.
Эпилог. СОСТЯЗАНИЕ В БЛИЗОРУКОСТИ
Про фараонов прежних и будущих
Пять исторических фигур, выведенных в этой книге, отличаются друг от друга так, как могут отличаться только персонажи в хорошей драме или трагедии. И тем не менее, временами в них проглядывают черты сходства, которые хочется высветить и описать отдельно. Вдруг путём такого сравнения нам удастся создать некий прототип диктатора, который поможет политикам будущего опознавать рвущегося наверх властолюбца и заранее выстраивать прочную оборону против него.
«Вышли мы все из народа»
Это явно относится ко всем пятерым. Их всех в детстве окружала деревенская жизнь, не обременённая сложностями культуры. Разве что один Муссолини мог почерпнуть от отца, пописывавшего статьи, какие-то абстрактные научные или политические идеи. Всем остальным пришлось впоследствии докапываться до ценностей цивилизации самостоятельно. В их окружении не было людей, от которых они могли бы заразиться благоговейным отношением к миру искусства, они оставались в этой сфере прагматиками до конца жизни.
Насилие, пронизывавшее их жизнь, казалось естественным, как дождь и ветер, холод и жара. Их били родители, они дрались со сверстниками, уличные драки взрослых тоже случались не раз, иногда и с поножовщиной. В окружающих горах и лесах скрывались бандиты, и их налёты на жителей долины часто оканчивались кровопролитием. Сострадание казалось знаком слабости, пустить его в душу было всё равно, что разоружаться перед лицом врага, крадущегося за углом.
Они вышли из простонародья, поэтому никогда не могли чувствовать себя на равных в культурной среде. Это рождало в них завистливое раздражение, порой переходившее в ненависть. Зато они получили возможность глубже узнать и прочувствовать страсти близорукого большинства. Благодаря этому они получили огромное преимущество в политической борьбе с более культурными соперниками. Те только воображали, что они знают народную массу, народные чаяния. «Конечно, народ хочет того же, что и мы, — больше свободы!». И никто из дальнозорких не посмел вслух спросить: «А не включает ли это и чаяние свободы от нас?».
«А ты недоучка, крохотный божик…»
Эту строчку Маяковского каждый из пяти фараонов мог бы прокричать Творцу. Все пятеро выросли воинственными безбожниками. В конце 19-го века атеизм набирал силу, сам превращался в своего рода религию. Матери всех пятерых оставались преданы церковным традициям, зову свыше, но их сыновья очень рано начали богохульствовать, кощунствовать, смеяться над верующими. Страсть ниспровержения, описанная выше в Комментарии третьем, клокотала во всех пятерых с пугающей силой.
Религиозная догматика так очевидно входила в противоречие с достижениями науки, что воспринималась лишь как инструмент духовного порабощення, используемый священнослужителями. Здесь запрещались вопросы и сомнения ищущего ума, не оставалось ни щёлки, ни просвета для него. Обязательные молебны по нескольку раз в день не могли утолить жажду прикосновения к чему-то бессмертному. Примечательно, что ни наши герои, ни другие заметные диктаторы 20-го века не получили воспитания в протестантской или иудейской среде. Католицизм, православие, конфуцианство учат, главным образом, правилам поведения, на живое религиозное чувство смотрят с опаской.
Властолюбец относится к Богу как к сопернику, с которым приходится делить власть над душами подданных. В истории религий это много раз реализовалось драматическим противоборством между церковными лидерами и монархами. Иоанн Златоуст против византийского императора, Фома Кентерберийский (Бекет) против Генриха Второго в Англии, Томас Мор против Генриха Восьмого, митрополит Филипп против Ивана Грозного, патриарх Никон против Алексея Романова — все эти примеры показывают, как опасно было оставлять двоевластие в этой сфере. Церковным лидерам пришлось дорого расплачиваться за попытки отстоять право человека «отдавать Богу Богово».
Много раз конфликт разрешался тем, что светский властелин просто ставил себя во главе церковной иерархии. Так поступил Генрих Восьмой в Англии, Франциск Первый во Франции, Пётр Первый в России. Римские императоры пошли ещё дальше, объявив себя богами. Муссолини и Сталин в зрелые годы смягчили свой атеизм, нашли полезным восстановить какие-то права церкви и использовать её влияние в своих целях. Гитлер считал иудео-христианство частью еврейского заговора и относился к нему соответственно. Мао Цзедун и Кастро оставались непримиримыми врагами всех религиозных институтов. Все пятеро соглашались с тем, что религиозному учению не было места в воспитании молодых поколений. И уж конечно, на денежных знаках должны были появляться только новые святые.
Моральные ценности больше не санкционировались небесами, плоды с Дерева познания Добра и Зла не попадали на полки магазинов, появлялись только на чёрном рынке. Официально хорошим объявлялось то, что помогало пролетариату, революции или высшей расе. В СССР у литературных редакторов была придумана формула для отказа в публикации новой рукописи: «В ней слишком много абстрактного гуманизма».
Гуманизм допускался, но только тот, который соглашался служить революционным задачам. Мораль, как и всё остальное в духовном мире, была лишь «продуктом классовой борьбы». Недаром Мао в молодости так увлёкся немецким философом Паульсеном, утверждавшим, что абсолютных моральных ценностей не существует, что каждая эпоха и каждое общество вырабатывают свои.[736] Заповедь «не укради» выглядела ненужной там, где собственность была отменена. Заповедь «не убий» казалась смехотворной рядом с призывами расправляться без жалости с классовыми врагами. Бессмертие сводилось к строительству пирамид или к гибели на поле брани.
«Знание — сила»
Наши герои были обделены богатством, знатностью, чинами. И вдруг они обнаружили, что есть всем доступные золотые россыпи, называемые знания. Завладев ими, человек получал неожиданные возможности подниматься наверх. Все пятеро жадно припали к книжному роднику. На школьные занятия они тратили хорошо если 10 % умственной энергии, и при их способностях, этого оказывалось достаточно. Остальная энергия шла на беспорядочное заглатывание сотен томов, содержавших сведения по самым разным предметам.
Эта добыча расширяла их кругозор и одновременно приносила престиж. В глазах окружающих они приобретали атрибуты, обычно характеризующие правящие слои. Мао в детстве даже научился срезать собственного отца цитатами из Конфуция. В открытых диспутах они часто выходили победителями, и это добавляло им самоуверенности. В среде, окружавшей их, не могло быть сильных оппонентов, которые легко ловили бы их на передергиваниях и ставили на место. Преподать дисциплину мышления им было некому. От этого самоуверенность только возрастала, а любая демагогия срабатывала и становилась лёгким и любимым оружием. Критерием успеха становилось не «приблизиться к истине», а «заставить оппонента умолкнуть». Хоть в чём-то признать его правоту было равносильно признанию его победы в споре. Отстаивая неопровержимость своих суждений, они к любому сомнению относились как к опасному микробу, прячущемуся в пробирке с надписью «объективность».
Потом во всех пяти странах произошли революции, отменившие старые ценности, вводившие новые и прежде всего — свободу слова. Любая попытка заставить говоруна подчиняться хотя бы обычной логике, объявлялась покушением на новую святыню. В такой атмосфере рёв пещерного человека мог быть объявлен реализацией этой свободы. Поэты футуристы, во главе с Маяковским, не только требовали, чтобы их бессмысленные «тыр-быр-мыр» были признаны поэзией, но и врывались на важные совещания и вносили в них свою лепту, оглушительно выкрикивая «долой!».
Во все сферы культурной и политической жизни со всех сторон проникали орды воинственных недоучек, с которыми не было сладу, которые вносили полный хаос в привычные порядки. Представители старых режимов пытались сопротивляться, уговаривать, объяснять. Это было сравнимо с ситуацией, в которой профессиональную футбольную команду заставили бы играть против племени индейцев. Те начали бы хватать мяч руками, выбегать за границу поля, пускать в ход кулаки, а профессионалы пытались бы играть по правилам. Нетрудно догадаться, кто окажется победителем в такой игре.
«Труд — проклятье»
За грех непослушания Творец обрёк человека на непрерывный труд: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Бытие, 3:19). Богоборчество новых фараонов заходило так далеко, что все они отказывались подчиниться этому уделу. Как правило, человек в индустриальном мире проводит много времени в поисках работы, радуется получив её, старается сохранить, страшится потерять. Все пятеро наших героев, при всех их талантах и неуёмной энергии, ненавидели работу по найму и делали всё возможное, чтобы избежать её.
Они предпочитали голодать, лишь бы иметь возможность заниматься только тем, что их интересовало. Сталин заходил в этом так далеко, что довёл до полного истощения и смерти молодую жену. Муссолини в какой-то момент согласился на преподавательскую работу, но часто прогуливал и очень скоро бросил. В Швейцарии он должен был изголодаться всерьёз, если набросился на тех двух туристок и вырвал у них бутерброды, которыми они собирались закусить. Гитлер предпочитал жить в ночлежке на крохотную пенсию за отца и редкие продажи акварелей, чем наняться куда-то. Молодой Мао, попав в армию, жил впроголодь, но отказывался сам ходить за водой к дальнему колодцу, нанимал для этого других солдат. Кастро, закончив университет, год числился адвокатом в Гаване, но нет сведений, что он что-то заработал, жил на чек, присылаемый отцом.[737]
Конечно, все пятеро могли оправдывать своё отношение к труду отвращением к любой форме эксплуатации. Возможно, это придавало их речам и статьям горячность и искренность, каких не было у других, более умеренных революционеров. Наверное, они верили, что хотят спасти народ от жестокого рабства. Да, над трудовым человеком не стояли больше надсмотрщики с бичами, но было достаточно одного — невидимого — по имени ГОЛОД. Разве не благим делом было бы избавить труженика от этого нового рабства? Откуда же возьмётся пропитание для всех, жильё, одежда? А вот мы построим новый мир, в котором всё будут делать машины.
До участия в трудовом процессе наши герои снисходили только в том случае, когда его можно было сделать частью пропагандного шоу-бизнеса. Сталин разрешал показывать себя на экране, окапывающим дерево, Муссолини — запихивающим снопы в молотилку, Кастро — убирающим сахарный тростник. Гитлер считал свои занятия живописью и архитектурой достаточной данью труду. Мао, если решал появиться в деревне, предупреждал об этом заранее. Немедленно начинались авральные работы по завозу в выбранное поселение продуктов со всей округи. Капуста, картофель, морковь, корзины с рисом, помидоры, яблоки, тыквы выкладывались на обочины дороги. Довольный Мао обходил их, улыбался, спрашивал: «Что вы будете делать со всей этой едой?».
Верил ли он в это показное изобилие? Представлял ли себе реальные масштабы голода в стране? Или, вслед за Бернардом Шоу, Габриэлем Маркесом, Эдгаром Сноу предпочитал видеть только то, что хотел увидеть? Кто может проникнуть в загадочные глубины души поэта, которого не пугает даже перспектива атомной войны?
У человека, как правило, есть два способа заполучить то, что ему нужно: трудом или насилием. Фараоны, возглавившие коммунистические страны, с молодых лет чувствовали свою солидарность с теми, кто выбирал насилие. Им легко было находить общий язык с уголовниками, погромщиками, лесными и горными бандитами, хунвейбинами, деревенской голытьбой. Оставалось формировать из них продотряды, или комитеты деревенской бедноты, или одевать в форму штурмовиков, чтобы запустить процесс ограбления труженника на полную мощность. Те, кто считает любой труд рабством, верят, что работа заключённых будет такой же эффективной, как труд свободных, и не колеблясь отправляют миллионы в лагеря. Сталин дошёл до того, что создавал трудовые тюрьмы даже для учёных и изобретателей.
«Как славно быть солдатом… ни в чём не виноватым…»
Все пятеро родились кшатриями, все прошли через войну. Вид трупов на поле боя был им привычным, не вызывал никаких ненужных эмоций. Число убитых и раненых оставалось холодной статистикой и редко подвергалось проверке. Подручные Сталина в годы войны старались порадовать вождя и часто сообщали ему неправдоподобно завышенные цифры потерь противника. Он размягчался и не спрашивал, каким образом удалось сосчитать число трупов, если Красная армия отступила и поле боя осталось за врагом. Военный опыт укреплял и усугублял привычку наших героев распоряжаться, доминировать, отдавать команды, карать за невыполнение.
Война разрушает моральные нормы поведения человека, об этом убедительно писал уже Лев Толстой: «Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления».[738] Прошедшим войну потом трудно бывает вернуться к шкале этических ценностей, их душа остаётся покрыта затвердевшими шрамами. Наверняка, она наложила свой отпечаток и на нашу пятёрку.
Да, во многом они были похожи друг на друга. Но делает ли это их своего рода исключениями? Разве не было в их окружении соперников, которые могли бы сравняться с ними в жестокости и беспощадности, если бы судьба вынесла их на вершину власти? Например, если бы в 1923 году ЦК приняло прошение Сталина об отставке, лидером, скорее всего, сделался бы Троцкий. Взяв на себя роль российского Бонапарта, он мог бы превратить страну в вариант кастровской Кубы: рассылал бы отряды «добровольцев» во все европейские страны, где только разгорались коммунистические пожары, раздувал гражданские войны, поднимал бы красное знамя над городами и сёлами. Его авторитет среди компартий Европы был гораздо выше, чем у Сталина, не исключено, что при его руководстве и поддержке коммунисты смогли бы победить даже в Италии и Германии.
Наверное, нам следует оставить надежду на то, что будущих фараонов кто-то научится распознавать на подходе к стартовой площадке и предотвращать их запуск на орбиту абсолютной власти. Важнее вглядеться в природу тех сил, которые осуществляют «запуск ракеты», постараться понять, есть ли у нас какие-то рычаги, которыми можно влиять на дальность и направление полёта.
О слепоте дальнозорких
За что люди могут возненавидеть друг друга? За обиду, за угнетение, за причинённый ущерб, за обман, за клевету и за тысячу других недобрых дел. Но выше мы уже отметили, что со времён Каина тот, кто в чём-то отстал, чем-то обделён, не станет искать других оправданий для вскипающего в нём чувства вражды к обогнавшему его ближнему. Это чувство остаётся иррациональным, беспричинным, поэтому оно не вписывается в систему представлений дальнозоркого о мире. Оно для него остаётся таким же невидимым, как для обычного глаза — инфракрасные лучи. Отыскивать причину любого явления остаётся неодолимым порывом рационального ума. Он скорее согласится принять явно ошибочное истолкование, чем остаться вовсе без объяснения.
Типичным примером такого самоослепления явились Мюнхенские переговоры осенью 1938 года. Лидеры Англии, Франции, Чехии оказались перед дилеммой: либо признать, что «страдания немецкого меньшинства в чешских Судетах» есть реальная причина воинственных поползновений Гитлера, либо допустить, что перед ними иррациональный маньяк, обуянный страстью к войне как таковой. При всём их опыте и уме, Невил Чемберлен, Эдуард Даладье, Эдвард Бенеш не были готовы к встрече с наркоманом войны. Они не могли впустить в цепь своих рассуждений иррациональный элемент и спасовали перед фюрером.
Чтобы удовлетворить мировое общественное мнение, диктаторы часто устраивают инсценировку «агрессии» со стороны соседа, на которого они готовятся напасть. В августе 1939 года, за пару дней до вторжения в Польшу, Гитлер инсценировал нападение польского подразделения на пограничный немецкий городок, для чего туда были завезены «трупы жертв», польское оружие и конфедератки, якобы оставленные нападавшими. Сталин перед нападением на Финляндию в ноябре 1939 года устроил артиллерийский обстрел русского поселка на Карельском перешейке, якобы проведённый финскими орудиями.
Представляется трагикомичным, что, зная всё о возникшем обряде инсценировки агрессии, «вождь мирового пролетариата» так серьёзно подавлял все попытки укреплять оборону западной границы СССР в 1939-41 годы. Не провоцировать немцев! Не давать им повода для агрессии! Как будто успел забыть, что в новом мире «повод для агрессии» будет придуман и разыгран нападающей стороной в тот момент, когда ей это удобно. А когда на него напали без всякой инсценировки, что он имел в виду, посылая Молотова в немецкое посольство ночью с 21 на 22-ое июня? Спросить у посла: «Вы всерьёз нас бомбите или это, быть может, случайная провокация отдельных немецких генералов?»
В послевоенных политических конфликтах слепота дальнозорких ко всему иррациональному много раз приводила к трагическим или тупиковым ситуациям. Все попытки помирить израильтян с палестинцами строятся на иллюзии, что удовлетворение «справедливых требований изгнанного народа» может стать фундаментом мирных отношений. Но когда на переговорах в Кэмп Дэвиде в июле 2000 года тогдашний премьер Израиля Эхуд Барак вдруг сделал именно это, лидер палестинцев Ясир Арафат растерялся и стал извиваться ужом, объясняя, почему мир всё равно невозможен. Американский президент Билл Клинтон продолжал давить на него, и тогда тот сознался: «Хотите ускорить мои похороны? Меня убьют, как убили египтяне своего Анвара Садата за мир с Израилем».
Вражда и ненависть далеко не всегда являются реакцией на какие-то агрессивные действия. Гораздо чаще они вскипают и раздуваются как оправдание собственных слабостей, как объяснение провалов в строительстве мирной жизни. Есть люди, которые живут какой-то выбранной ими ненавистью, но есть и народы, делающие похожий выбор. Ирландцы на века сделали ненависть к Англии фундаментом своего мировоззрения. Пакистанцы объектом вражды выбрали Индию. Курды и армяне — Турцию. Тамилы — Шри Ланку. Албанцы — Сербию. Сегодня Украина пытается строить всю идеологию на ненависти к России и русским. Ведь так удобно списать холод в жилищах и пустоту в холодильниках на наличие могучего соседа, с которым надо всеми силами бороться. Националистическая пропаганда пирует.
Миротворческие усилия обычно рождаются в среде дальнозорких, ими же и направляются. «Что должен сделать ваш противник, чтобы вы перестали нападать на него? — спрашивают они у того из враждующих, который выглядит более агрессивным. — Каковы ваши условия мира?». В ответ получают длинный список жалоб, внешне выглядящих оправданными и справедливыми. Но никогда не услышат ответ правдивый: «Заключение мирного договора — это и есть самое худшее для нас. Чем мы станем самоутверждаться, тешить свою гордость, привлекать к себе внимание всего мира, если нам запретят стрелять, взрывать, поджигать, забрасывать камнями нашего родного, единственного, заклятого врага»?
Жажда самутверждения остаётся самой сильной страстью человека и вполне иррациональной. То есть, опять же, недоступной взгляду дальнозоркого миротворца. Американский президент Вудро Вилсон, создавая в 1919 году Лигу Наций, настаивал на том, чтобы каждый народ и каждое государство получили право на суверенность и самоопределение. При этом он добавлял, что народам, которые выберут жить под властью авторитарных режимов, не должно быть места в Лиге. Эта идеология оказалась неосуществимой для реализации, но до сих пор используется США как оправдание свержения неугодных правительств — они, дескать, захватили власть с нарушением правил Святой Демократии.
В устойчивых государственных системах дальнозоркий живёт отдельно от народной массы и плохо знает её. Он вознесён над ней и истолковывает её враждебность несправедливостью социального неравенства. Но начиная с середины 19-го века вторжение Индустриальной эры произвело гигантское перемешивание разных слоёв населения во всех европейских странах. Близорукие в нижных слоях общества вдруг получили доступ к образованию, работа по найму стала вытеснять работу в своём хозяйстве, на своём поле, в своей мастерской, поезда и пароходы обеспечили неслыханную для прежних веков мобильность. Социальный статус перестал предопределяться сословием, в котором человек родился.
Эти перемены разрушили прежние скорлупки безопасности — деревенскую общину, ремесленный цех, церковный приход. Миллионы людей оказались брошены в бурлящий поток нового мира абсолютно беззащитными. Нищета, болезни, преступления захлестнули народную массу. Сострадание дальнозорких толкало их отыскивать причины этих бедствий, искать путей избавления от них и неизбежно производило вскипание революционных настроений во всех странах, вступивших на путь индустриализации.
Новые революционеры вдохновлялись победами американской и французской революций конца 18-го века, идеология которых строилась на главном догмате равенства людей. Сословное разделение общества объявлялось несправедливым, реакционным, нелепым, ненужным. Дальнозоркие воображали, что, разрушив существовавшую структуру этажей неравенства, они обретут больше свободы для реализации своих талантов. Увы, этого не произошло. Всюду, где революции победили, вместо прежнего жёсткого распорядка чинов, званий, богатства, на них обрушился террор близоруких под знамёнами и лозунгами большевиков, фашистов, нацистов, хунвейбинов, красных кхмеров, фиделистов.
Эти страшные уроки не пошли впрок. Дальнозоркий не может и не хочет увидеть, как много тревоги, сомнений, страхов, унижений вносит в жизнь близоруких его дар «предвидеть и предусматривать», как легко новым фараонам объявить его главным врагом, вредителем, шпионом, изменником, правым или левым уклонистом. С догматом равенства дальнозоркому расстаться не по силам. Поэтому причину окружающей его враждебности он будет искать не в экзистенциональной своей отделённости от большинства, а в глупых, злых, корыстных политиках, манипулирующих близорукой массой в своих интересах.
Примечательно, что дальнозоркий относится отрицательно к своему правительству независимо от того, какой режим установился в его стране. Невероятное расширение свобод в России, освободившейся от коммунизма, не изменило отношения дальнозоркого к власть имущим. Он по-прежнему не знает и не хочет знать страстей и чаяний близоруких и никогда не допустит мысли, что кремлёвские правители, будучи сами ближе к народной массе, знают её лучше и лучше чувствуют, где пришла пора провести границу «нельзя».
Живя в добровольной самоизоляции от народной массы, дальнозоркие вырабатывают свой кодекс поведения, свои критерии того, что следует считать допустимым, правильным, достойным, похвальным. С этими критериями они и подходят к оценке поведения того правительства, которое им досталось. Они отказываются признать главной задачей верховной власти подавление вражды между различными группами и этносами, защиту одних от других, что требует порой суровых мер, применения насилия. «Если бы вы вели себя по нашим правилам, демон вражды исчез бы из страны!», — говорят они тем, кто стоит у руля. Но те упрямо пытаются выполнять свою трудную работу теми методами, которые худо-бедно будут срабатывать, и этим навлекают на себя проклятья дальнозорких.
Выше уже говорилось о том, что дальнозорким трудно утолять жажду сплочения, потому что их взор проникает в толщу Неведомого на разную глубину и в разных направлениях. Но жажда эта живёт в них и не может остаться неутолённой. В советские времена интеллигенция была сплочена против Политбюро и КГБ. А что делать теперь, когда эти учреждения исчезли? По привычке, оппозиция дружно противостоит правительству, но никогда не признает, что устами Думы с ними говорит близорукое большинство. Нет, дальнозоркий уверен, что большинство было одурачено официальной пропагандой, с которой и нужно неустанно бороться, и открывать народу глаза на злоупотребления властей.
В Америке люди больше заняты самоутверждением, идёт непрерывное состязание всех со всеми в разных сферах жизни. Жажда сплочения находит утоление, когда человек примыкает к политической партии, к религиозному культу, к борьбе за гражданские права, за сохранность природы или другие прогрессивные начинания. Но в глубине души дальнозоркий чувствует, что этого маловато. Что такой полноты общенационального сплочения, какую имеют жители авторитарных стран, он не достигает. Оно было пережито народом в двух мировых войнах, и память о нём хранится, постоянно оживляемая новыми книгами, фильмами, песнями, мемуарами, торжествами. Страна воюет почти непрерывно на протяжении вот уже ста двадцати лет, но никогда — на своей территории. Весь ужас войны, испитый европейцами, американцам неведом, они легко поддаются ностальгическим воспоминаниям о счастье неслыханного национального слияния.
В этой книге подробно описано, какую огромную роль отводили новые фараоны созданию образа ВРАГА. Нечто подобное случилось и в Америке в 1898 году без всяких тиранов, при очень миролюбивом президенте. На роль врага попала дряхлеющая Испанская империя. Вдруг оказалось, что вражда с ней радостно возбуждает людей самых разных слоев, профессий, умонастроений. Гуманисты считали освобождение колониальных народов таким же священным делом, как освобождение негров. Промышленные магнаты видели огромные перспективы для вкладов в военную промышленность. Выпускники Вест-Пойнта давно не имели повода обнажить свои сабли, прозябали без настоящего применения вот уже больше тридцати лет. Газетные империи Херста и Пулитцера состязались друг с другом, раздувая сенсационные описания страданий узников лагерей на Кубе, на Карибских островах, на Филиппинах. Фанатики войны вроде Теодора Рузвельта призывали вообще изгнать испанский флаг из Западного полушария. И вопреки сопротивлению президента Маккинли произошла опустошительная война, которая надолго погрузила «освобождённые» народы в хаос гражданских смут и бедствий.
Военная лихорадка, охватившая тогда Соединённые Штаты, получила название «джингоизм» (jingoism), а её энтузиастов называли «джингоистами». Природу её можно считать близкой к тому, что русский философ Лев Гумилёв обозначил термином «пассионарность». Впоследствии, в годы «холодной войны», роль опасной и враждебной силы, «империи зла», играл коммунистический лагерь. Но когда он рухнул, наступила некоторая растерянность. Военные вторжения на Балканы, в Ирак, Афганистан, Ливию не производили нужного эффекта. И тут вдруг политики, газетчики, профессора, военные стали замечать, что безотказной поддержкой пользуются любые действия или заявления, направленные против выбирающейся из «коммунистического рая» России.
Все обвинения в её адрес принимались на веру, «презумпция невиновности» была забыта. В московской тюрьме умирает адвокат, его британский партнёр объявляет это намеренным убийством, и американский конгресс единогласно принимает «Закон Магнитского» (2012), накладывающий всевозможноые кары на отдельных россиян и целые учреждения. Сотрудник лаборатории, контролирующей использование допинга спортсменами, бежит на Запад, здесь объявляет, что он торговал запрещёнными препаратами не для собственной выгоды, а по приказу российского Министерства спорта, — этого голого обвинения оказывается достаточно, чтобы лишить десятки российских спортсменов и всю команду спортсменов-инвалидов права на участие в Олимпиаде 2016 года.
Дальше — больше.
Наука статистика и теория вероятностей скажут нам, что для шестисот образованных людей абсолютно невозможно иметь одинаковое мнение по какому-то сложному вопросу. То, что американский конгресс раз за разом голосует за любые антироссийские санкции единогласно, показывает, что, без вмешательства какого-нибудь фараона, он достиг такой сплочённости, какой могли хвастать только гитлеровский рейхстаг или сталинский Верховный совет. Поведение западных политиков по отношению к сегодняшней России вполне укладывается в анализ психологии толпы, предложенный Густавом Лебоном в книге «Психология народов и масс»:
«Односторонность и преувеличение чувств толпы ведут к тому, что она не знает ни сомнений, ни колебания… всегда впадает в крайности. Высказанное подозрение тотчас превращается в неоспоримую очевидность. Чувство антипатии и неодобрения, едва зарождающиеся в отдельном индивидууме, в толпе тотчас же превращаются у него в самую свирепую ненависть».[739]
Вторжение ментальности дальнозорких в мировую политику можно отнести к 1919 году, когда на Версальской конференции президент Вудро Вильсон вдохновил делегации стран, победивших в Первой мировой войне, на создание Лиги Наций. Была сделана попытка расширить догмат равенства людей и строить новые международные отношения на ещё более нелепом принципе равенства народов. Конференции предстояло решать судьбы десятков новых государств, возникших при распаде четырёх империй — Германской, Австрийской, Российской, Турецкой. Считалось, что народы сами должны выбирать свою судьбу. Но если народ вдруг выберет монархическое правление, автократию, олигархию или, не дай Бог, колониализм, такому народу предоставлять членство в Лиге Наций не следовало.
В своих решениях на Версальской конференции делегаты опирались на обширный исторический опыт предыдущих поколений, на философские труды различных мыслителей, на своё понимание природы человека. Но они не могли оценить, какие огромные перемены во все привычные для них соотношения политических сил вносили технические достижения индустриальной эры. Они не готовы были принять новую реальность, заключавшуюся в том, что иррациональные порывы толпы, которыми раньше можно было пренебречь, теперь усиливались в 10, 20, 30 раз. Что речь политического демагога, раньше прочитывавшаяся тысячами читателей газет, теперь будет мгновенно услышана миллионами радиослушателей. Что заговорщики, раньше тайно собиравшиеся в укромных местах, теперь получили в свои руки телеграф и телефон и могут рассылать команды своим сообщникам на тысячи километров. Что кинохроника разнесёт по городам и странам жуткие кадры с преступлениями выбранного ВРАГА — еврея, буржуя, попа, агрессора — с такой эффективностью, что толпа будет взвинчена на смертельную борьбу с ним.
После долгих дебатов сошлись на половинчатом решении: для народов, явно несозревших до демократического правления, учреждался период созревания, во время которого они будут управляться какой-нибудь из крупных держав по мандату, данному Лигой. Подмандатные страны возникли на Ближнем Востоке, в Африке, в Юго-Западной Азии. Открытые пожары отпылавших военных конфликтов настолько владели сознанием участников конференции, что глубинное горение вражды между дальнозоркими и близорукими не попадало в круг их исканий, не казалось серьёзной проблемой. Понадобились страшные извержения варварства в веке 20-ом, чтобы ищущий ум человечества хотя бы направил испытующий взор в эту сторону.
Близорукие наступают
В большинстве демократических государств наших дней политическое противоборство протекает между двумя главными партиями: демократы и республиканцы в США, лейбористы и консерваторы в Англии, социал-демократы и христианские демократы в Германии. В самом общем виде разницу между идейной направленностью этих двух движений можно охарактеризовать разницей лозунгов, которые были бы уместны на их знамёнах: «Да здравствует справедливость!» у первой и «Да здравствует свобода!» — у второй.
Выработка конкретной политики, партийной программы, продвижение лидеров находится в ведении дальнозорких. Близорукое большинство, обладающее правом голоса, остаётся объектом партийной пропаганды, его интересы, верования, порывы внимательно изучаются аналитиками обеих партий, и результаты этих исследований используются в предвыборной борьбе. То, что в последние десятилетия победа той или иной партии достигается за счёт ничтожного перевеса в числе поданных голосов, указывает на отсутствие глубоких принципиальных расхождений между соперниками.
Однако параллельно с открытым противоборством главных партий в глубине демократических стран всегда протекает скрытая борьба за влияние между близорукими и дальнозоркими. Есть много политических проблем, на которые близорукий и дальнозоркий неизбежно будут смотреть по-разному. Потепление климата, скорее всего, оставит первого равнодушным, а второго подтолкнёт выйти на демонстрацию с плакатом. Рост национального долга встревожит, в первую очередь, дальнозоркого, его антипод махнёт рукой и оставит внукам расхлёбывать эту кризисную ситуацию. Накатывающие волны иммигрантов из Третьего мира вызовут возмущение близорукого и побудят его голосовать за немедленное строительство высокой стены на границе, дальнозоркий же станет вглядываться в цифры рождаемости в стране, в принципы гуманности, ратовать за помощь отсталым странам, взвешивать всевозможные «за» и «против».
В отличие от новых фараонов, дальнозоркий остаётся в плену у дорогих ему принципов честного диалога. Он верит, что приводимые аргументы должны быть хорошо взвешены, допущения — в границах логики, информация — абсолютно правдивой. Будущий фараон начнёт с того, что отбросит все эти ограничения. Он лучше знает близорукого, знает, как тот легко поддаётся раздуванию страхов, взвинчиванию ненависти, несбыточным мечтаниям. Вся пропагандная система исследуемой нами пятерки была рассчитана исключительно на близоруких — потому все они так безжалостно избавлялись от дальнозорких в своих странах.
До воцарения нового фараона в Америке ещё далеко, но есть много симптомов, которые указывают на зарождение новой волны иррационального джингоизма в стране. Оно связано с тем, что близорукое большинство в демократических странах ведёт незаметное и победное наступление на многих фронтах и вносит свою ментальность в различные сферы общественной жизни. Другого и нельзя ожидать, если вы избираете своим основополагающим догматом «правоту большинства». Такой выбор автоматически ослабляет или даже исключает участие дальнозорких в жизни страны. В сегодняшней Америке требуется немалая смелость для вступления на путь профессионального политика, дипломата, судьи. Далеко не всякий будет готов подвергнуть себя и своих близких тому безжалостному раскапыванию своего прошлого и настоящего, которому его наверняка подвергнут армии журналистов, прокуроров, сборщиков налогов, добровольных стражей политкорректности.
Избирателям в демократических странах, соблазнённым и возбуждённым догматом равенства, становится мало того, что они имеют право голосовать. Они уже пытаются управлять вместо избранных губернаторов, судить вместо избранных судей, отдавать распоряжения вместо избранных шерифов. Институт выборщиков, включённый в первоначальную конституцию, оставлявший окончательный исход выборов в руках дальнозорких, совершенно забыт и отброшен, оставлен лишь как пустая формальность.
История упадка и гибели многих блестящих республик античности и средневековья демонстрирует нам роковую неизбежность этого процесса. Уже Аристотель писал о том, что в развитых республиках «народ есть монарх — как бы одно лицо, состоящее из многих… И властвовать он хочет монархически, не подчиняясь закону, но деспотируя… Такая демократия соответствует тирании. Характер власти там и здесь один и тот же. В обоих случаях власть деспотически относится к лучшим людям государства».[740]
В Америке достаточно вглядеться в любую административную структуру, чтобы обнаружить там и тут продвижение ментальности близоруких. В системе образования, например, уже давно процветает обратный расизм: поблажки и льготы этническим меньшинствам, обязательные квоты для преподавательского состава и для приёма студентов, пересмотры учебных программ в сторону упрощения. Причём неизбежное снижение уровня образованности выпускников прикрывается ярлыками, взятыми из словаря дальнозорких: духовный рост, индивидуальная ответственность, раскрепощение, самовыражение.
Принцип «защиты прайваси» оказался слишком абстрактным для близорукого большинства. В фильме 1953 года «Римские каникулы» Грегори Пек играет благородного журналиста, который отказывается передать в печать скандальные фотоснимки британской принцессы, оказавшиеся у него в руках. Сорок лет спустя такой поступок вызвал бы, в лучшем случае, насмешку, в худшем — привёл бы к краху карьеры. Журналистам позволено наперегонки раскапывать и выставлять напоказ любовные истории действующих политиков и даже президентов.
К катастрофическим результатам привёл прорыв близоруких в сфере здравоохранения. Традиционная уверенность в том, что рыночный подход является наиболее эффективным, привела к тому, что государственные страховые компании Медикер и Медикейд, оплачивавшие медицинское обслуживание бедных, притворились просто очень крупными операторами, действующими на этом участке рынка. Расценки на отдельные операции, процедуры, анализы оказалось возможно кое-как фиксировать и контролировать, но только врачу оставлено было решать, какие из них необходимы, а без каких можно обойтись. Находясь под постоянным требованием повышения доходности своего офиса или клиники, врач не может быть объективным в своём решении, он невольно будет тяготеть к прописыванию новых и дорогих процедур, ссылаясь на заботу о здоровье пациента.
Это привело к тому, что в начале 21-го века над Медикером и Медикейдом нависла угроза банкротства. Чтобы отвести её, родилась идея частично переложить расходы на пациента. При президенте Обаме начали вводить законы, которые обязывали каждого гражданина страны иметь медицинскую страховку. Нужно быть не просто близоруким, но уже слепым, чтобы не видеть, каким образом такая форма оплаты кладёт конец самой идее свободного рынка. Человека, под угрозой суда и штрафа, заставляют заранее оплачивать услуги врача, которые, возможно, ему не понадобятся, о качестве которых он не имеет никакого представления.
В конце декабря 2018 года в печати появилось сообщение о том, что один федеральный судья в Техасе объявил Обама-кару антиконституционным законом. Неизвестно, поможет ли это затормозить её внедрение. Видимо, есть в таком псевдорешении проблем медицинского обслуживания какая-то невероятная привлекательность для администраторов и законодателей. Во всяком случае, кандидат в президенты Мит Ромни, будучи губернатором Массачусетса, уже успел внедрить её в своём штате.
В фармакологии близорукость «добрых» законодателей уже привела к непоправимому перекосу ценообразования. Логика «гуманистов» сводилась к следующему: «Мы не можем уследить за себестоимостью разработки и изготовления лекарства. Единственный выход — платить цену, объявленную производителем, в надежде, что рыночная конкуренция сгладит чрезмерные скачки цен». Но в фармакологии нет «нормальной конкуренции». Каждая фирма может разработать новую разновидность давно опробованного лекарства, взять патент на неё, убрать с рынка все прежние вариации и взвинтить продажную цену в десятки раз. Самые скандальные вздорожания попадали в газеты, но это не смогла ослабить тенденцию. И теперь сотням тысяч американских стариков, не имеющих страховки на лекарства, приходится вскладчину нанимать автобус и ехать за нужными препаратами в Канаду, где безумие ещё не зашло так далеко, как в США.
Наконец, в 2016 году фигура президента Трампа взлетела на политическом горизонте как символ победного наступления близоруких. Его самоуверенность и полное отсутствие политического опыта импонировали многим избирателям. «Он бизнесмен, человек дела! Он покончит с Вашингтонской бесплодной болтовнёй!». «Государством должен управлять бизнесмен!» звучит почти так же картинно, как ленинское «государством сможет управлять кухарка». Но жизнь показала, что главным талантом президента-бизнесмена оказалась маниакальная страсть увольнять всех сотрудников и министров, выражавших несогласие с ним.
Летом 2018 года он ступил на путь, который был опробован другим американским президентом девяносто лет назад и привёл тогда весь мир к Великой депрессии. Ведь увеличить богатство страны так просто! Нужно только поднять пошлины на ввозимые и экспортируемые товары, и потоки золота потекут в государственную казну.
Принято считать, что толчком для начала Великой депрессии послужил крах нью-йоркской биржи осенью 1929 года. Эта версия особенно продвигалась политиками и журналистами, склонными к идеям социализма. Виноват рынок — как славно! Видимо, Трамп не читал книгу Тома Соуэлла, в которой тот так убедительно показывает, что безработица и депрессия начались, когда президент Герберт Гувер резко поднял тарифы на экспорт летом 1930 года. Другие страны вынуждены были последовать его примеру. Не крах биржи, а замедление мирового товарооборота привело к катастрофическим последствиям.[741]
Неизвестно, приведёт ли торговая война, начатая Трампом, к мировой депрессии такого же масштаба, как в 1930-е. Но, увы, уже ясно, что его политические противники в борьбе с ним проявляют такую же близорукость, как и он. Демократическая партия, травмированная поражением на президентских выборах 2016 года, изо всех сил раздувает версию, по которой американский избиратель был грубо и коварно обманут. Кем? Ну, конечно, этой новой «империей зла» — Россией! Это русские хакеры и русские дипломаты и скрытые агенты влияния, посылаемые Кремлём, действуя через интернет, сумели одурачить американский народ и заставили его избрать такого непредсказуемого президента.
Никто не спрашивает, зачем русским это понадобилось. Никто не задаётся вопросом, почему политические партии, борющиеся друг с другом, не используют хакеров в предвыборных кампаниях, но готовы идти на другие нарушения закона ради победы. Не спрашивают, потому что в глубине души знают, что хакеры могут быть полезным орудием в промышленном и военном шпионаже, но в пропагандном плане они ничего добиться не могут. Зато они очень удобны для того, чтобы объявлять Москву и Пекин новой нечистой силой. Сам термин «хакерская атака» звучит так убедительно! Атака! Мы атакованы! Необходимо защищаться! И новые миллиарды долларов текут и текут в бюджет Пентагона.
В Европе дело обстоит немногим лучше. Там наступление близоруких на многих участках фронта возглавили женщины. В Германии бывшая комсомолка Восточной Германии Ангела Меркель распахнула двери в страну миллионам африканских и азиатских беженцев, веря, что привить им правила цивилизованной жизни не составит труда. («Ведь все люди равны!») Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард подписывает миллиардные займы киевским бандеровцам и только время от времени журит их за коррупцию и угнетение русского православного меньшинства. (Которое, при честном подсчёте, вполне может оказаться большинством.) Точно так же ведёт себя министр иностранных дел Европейского союза, Федерика Магерини, на переговорах по Донбасу. Премьер-министр Британского королевства Тереза Мэй своими играми с референдумом о членстве в ЕС привела страну на грань распада и теперь пытается замазать это, раздувая всё ту же безотказную русскую угрозу. Наконец, как апофеоз, мэром столицы когда-то великой империи стал мусульманин.
В Средние века удобным объяснением всех бед сделались колдуны, ведьмы, еретики, евреи и многообразные разновидности нечистой силы. Сегодня на ту же роль успешно проталкиваются все таинственные изобретения индустриальной эры.
Книги, обвиняющие во всём кремлёвских лидеров, оснащённых кибер-оружием, новейшими ядами и допингами, таинственными лучами, имеют такой же успех, какой имела сто лет назад книга Генри Форда «Международный еврей — главная проблема мира».
На краю термоядерного апокалипсиса
Александр Македонский, Аттила, Мухаммед, Чингисхан, Тамерлан — все эти завоеватели вели за собой народы, оказавшиеся в стадии перехода из эры племенных кочевий в эру оседлого земледелия. Но грозные нашествия переходного периода могли происходить и без наличия выдающегося лидера. Скандинавские племена викингов-норманнов терзали земледельческую Европу в течение двух веков, и вели их безвестные вожди. Точно так же вторжение турок-османов, а затем и турок-сельджуков в Византийскую империю не было связано с каким-нибудь громким именем. В середине 17 века в Корею и Китай вторглись племена манчжуров, основавшие там свою династию.
В книге «Грядущий Аттила» я попытался вглядеться в политические и экономические структуры четырёх народов, находящихся в переходной стадии сегодня: палестинцев, египтян, саудовцев, пакистанцев. Задача была — понять, насколько вероятна возможность опустошительной военной агрессии со стороны этих народов под водительством какого-нибудь нового фанатичного Осамы Бин Ладена.
Исследование показало, что агрессивность и готовность к кровопролитному противоборству у этих народов близка к точке кипения. В таком же состоянии находятся сегодня Сирия, Йемен, Ирак, Ливия, но в них агрессивность прорвалась гражданскими войнами. Там, где этого не произошло, кипение продолжается. Недавно в новостях в очередной раз показали миллионные демонстрации разгневанных мусульман. Искажённые ненавистью лица, сжатые кулаки. Что же вызвало этот бурный протест? Оказалось, что Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор молодой женщине, несправедливо обвинённой в оскорблении пророка Мухаммеда. Требование повесить её — вот что сплотило миллионные толпы. Ведь за такое преступление фанатичные мстители расстреляли в Париже редакцию сатирического журнала Шарли Хебдо. Кощунствующие насмешники — не ждите пощады!
Сколько времени пакистанцы будут терпеть свой Верховный суд и другие атрибуты их надувной демократии? И где гарантия, что в их следующем военном конфликте с Индией они не применят атомную бомбу? В обеих странах избранные лидеры гибнут насильственной смертью один за другим, покушения на политиков сделались обычным делом. Пакистан выглядит вполне созревшим для воцарения нового фараона — близорукого, безжалостного и вооружённого бомбой.
Сегодня на роль нового красного фараона претендует северокорейский лидер Ким Чин Ын. Он грозит Америке ядерным оружием и ракетными ударами по Аляске и Гаваям. В его распоряжении армия, вышедшая на пятое место в мире по численности. Следующим его шагом может быть приобретение подводной лодки, оснащённой ракетами дальнего действия. Что если ударить такой ракетой из неизвестной точки Тихого океана по Сан-Франциско или Лос-Анджелесу и объявить организатором провокации Россию или Китай? Станет ли Вашингтон требовать доказательств или поспешит «нанести ответный удар» по указанному «виновнику»? Зачем Киму воевать с супердержавами, когда можно так эффектно стравить их друг с другом? А великий кормчий Мао учил нас, что бояться термоядерной войны не следует.
Вторжение в Ирак в 2003 году показало, что ложного обвинения в наличии оружия массового уничтожения может быть достаточно, чтобы захваченная джингоизмом сегодняшняя Америка начала полномасштабную войну. Если в мусульманском мире агрессивность вскипает в гуще близоруких, в США и Европейском союзе она нагнетается, по большей части, дальнозоркими, научившимися не видеть, не знать, не помнить. Когда глава НАТО Йенс Столтенберг призывает говорить с Россией языком силы, он должен заставить себя и своих слушателей забыть, что речь идёт о стране с огромным ядерным и ракетным арсеналом. Добиться перевеса в силе над ней возможно только в том смысле, что «мы сможем убить каждого русского не пять раз, как они нас, а восемь или десять». То, что и одного раза достаточно, как-то растворилось в воинственном угаре последнего десятилетия.
Во второй половине 20-го века мир пережил много критических ситуаций, кровавых конфликтов, военных пожаров. И всё же при таком высоком накале вражды, разделявшей противников в годы холодной войны, ни разу не возникло момента, когда бы русский и американский солдат стреляли друг в друга. (Разве что сбивали ракетой самолёт-разведчик.) Думается, это чудо оказалось возможным потому, что в верхних слоях руководства обоих лагерей работало достаточное число дальнозорких, способных держать в своём воображении картины термоядерного апокалипсиса. Сохранение мира на базе принципа MAD (Mutual Assured Destruction — Полное взаимное уничтожение) сработало, и в конце 1980-х Рейган и Горбачёв смогли сесть за стол переговоров и подписать серию соглашений, ограничивавших атомные и ракетные арсеналы.
Что должно было произойти, чтобы тридцать лет спустя эти соглашения оказались под угрозой отмены? Чтобы забыт был добровольный распад СССР и отказ России от насаждения коммунизма во всём мире? Чтобы на уровне Пентагона и НАТО всплывали разговоры об «ограниченной термоядерной войне»? (Как насчёт «контролируемого извержения вулкана»?) Чтобы любая форма сотрудничества с Россией объявлялась чуть ли не государственной изменой? Что кое-кто уже призывает лишить её права «вето» в Совете Безопасности ООН и отключить от интернета? Что ей стало возможно предъявлять бездоказательные обвинения в любых прегрешениях и при этом милостиво добавлять: «Даём вам два месяца, чтобы доказать свою невиновность»?
Человек, верующий в Бога, может нам сказать, что вовсе не стратегия MAD спасала мир в годы Холодной войны, а Всевышний, по бесконечному милосердию Своему, удерживал человечество от последнего безумия. Видимо, пришло время и нам направить свой взор туда, где люди испокон века искали и находили надежду и утешение.
Религиозные блуждания индустриальной эры
При всём многообразии племён и народов, населявших Землю, мы можем обнаружить в их культурах несколько базовых абстрактных понятий, пользовавшихся всеобщим одобрением и поддержкой: правда, справедливость, красота, совесть. Но за кем оставалось право решать, что можно считать правдивым, красивым, справедливым? Как правило, эта роль передоверялась некой высшей силе, представление о которой составляло религиозную жизнь народа. Уже Сократ задавался вопросом: «Потому ли боги любят добро, что оно — хорошо, или добро хорошо, потому что его любят боги?».
Когда мы вглядываемся в историю перехода кочевых народов на ступень оседлого земледелия, мы видим, что повсюду эта трансформация сопровождалась религиозной революцией. Десятки кочевых племён, вливаясь в тело Римской империи, должны были отказаться от своих верований и примкнуть к общегосударственной религии. На эту роль не годились многочисленные вечно ссорившиеся боги Олимпа и Парнаса. Верховная власть в лице императора Константина (272–337) выбрала среди существовавших в стране культов мало известную, но отстоявшую свою веру в веках преследований иудейскую секту, и объявила государственной религией христианство.
Позднее аналогичная революция произошла на Аравийском полуострове. Неграмотный пророк по имени Мухаммед был так вдохновлён верованиями иудеев и христиан в Единого Всемогущего и Всеведающего Бога, что стал проповедовать его своим собратьям-арабам. Племена кочевников-бедуинов, до этого без конца воевавшие друг с другом, вдруг сделались братьями по вере и, объединившись, сумели завоевать огромные территории под знаменем Ислама.
Развитие трёх ветвей монотеизма — католичества, православия, мусульманства — происходило по одинаковой схеме. Их догматика и символика, ради приумножения численности обращённых, всё больше подлаживались под ментальность близоруких, с их жаждой чудесного и красочного, что крайне затрудняло участие дальнозорких в религиозной жизни. Реформация 16–17 веков совершила прорыв в этой тенденции, поэтому протестантские страны сумели вырваться вперёд при переходе на индустриальную ступень. В мире же Ислама все реформаторские движения были задавлены, поэтому он так безнадёжно отстаёт на пути цивилизации.
Невольно задаёшься вопросом: переживаемый нами сегодня переход земледельческих народов в индустриальную эру не таит ли внутри себя какую-то скрытую религиозную компоненту, таинственным образом влияющую на происходящие события?
На первый взгляд, сравнение с переходом в земледельческую эру не кажется правомочным. Рука об руку с научным прогрессом в Европе и Америке победно распространялся атеизм, который, казалось бы, клал конец религиозным исканиям, раздорам и войнам.
«Бог умер!» — объявил в конце 19-го века немецкий философ Фридрих Ницше.
Ему вторил француз Лебон: «Сегодня небеса остаются пусты».
Дальнозоркий русский мыслитель Николай Бердяев писал: «Мы не привыкли даже думать, что с представителями нашего духовенства… можно спорить о животрепещущих вопросах».[742]
Но всё изменится, и аналогия станет правомочной, если мы попробуем взглянуть на воинствующий атеизм как на разновидность новой религии, в которой роль верховного арбитра отнята у небожителей и отдана человеческому разуму. Его научные достижения и технические изобретения окружили его таким ореолом, что по своей власти над душами людей, он стал сравним с древнеримским императором. Отменить все прежние верования и узурпировать трон верховного судьи сначала в России, а потом и во многих других странах, сделалось естественным следующим шагом.
Законы разума казались наилучшим средством объединения людей в согласии и мире. Что бы там ни писал Иммануил Кант в своей «Критике чистого разума», «Логика» Аристотеля оставалась непоколебленной и давала простые и выполнимые инструкции, как отличать правду от лжи, правильные суждения от неправильных. Бескрайние возможности манипулирования и имитации правды оставались до поры скрытыми от взора новообращённых атеистов.
Понятно, что эта новая религия завоевала, в первую очередь, сердца дальнозорких. Сколько веков им приходилось сгибаться перед диктатом церкви, делать вид, что они верят в ангелов и чертей, в непорочное зачатие, в воскрешения из мёртвых, в превращение воды в вино, в адские муки, в покупку райского блаженства за приличную цену, в лечебные свойства молитв и святых мощей! Они пытались утолять свой порыв к высокому и загадочному, создавая тайные общества либертинцев, вольнодумцев, масонов, нигилистов.
Близорукие отнеслись к религиозному перевороту с недоверием, но не воспротивились ему с оружием в руках, как это случалось много раз при введении христианства в Древнем Риме. Гражданские войны новой эры разгорались главным оброзом вокруг вопросов о справедливости, как их формулировали политические страсти. Справедливо ли держать чёрных в рабстве? А справедливо лишать белых южан их имущества и заставлять менять устоявшийся за полтора века порядок жизни? Справедливо ли, что один живёт в особняке на Неве, а другой — в ночлежке с клопами? Что один владеет всеми пароходами на реке Янцзы, а другой должен всю жизнь гнуть спину на рисовом поле? Политические раздоры теперь раздирали народы и даже отдельные семьи с такой же безжалостностью, с какой когда-то убивали друг друга католики и протестанты, шииты и сунниты.
Здесь нужно сразу оговориться: революция атеизма не сумела проникнуть за бастионы, выстроенные католиками и мусульманами. Народы, исповедующие эти религии, как правило, сохраняют догматику и традиции своей церкви, но зато они сильно запаздывают в переходе на индустриальную ступень. Их враждебность к народам, ушедшим вперёд, часто проявляется в разных актах насилия, в террористических атаках и даже в военных действиях. Судьбе дальнозорких в этих странах не позавидуешь, они живут под постоянным гнётом, что проявляется в отсутствии заметных достижений в науке, искусстве, экономике. Если есть возможность, они часто эмигрируют на Запад. Жизнь их под властью мусульманских диктаторов, таких как Гамаль Абдель Насер, Саддам Хусейн, Муамар Каддафи, была ничем не лучше, чем жизнь под властью коммунистических атеистов — Кастро, Пол Пота, трёх северокорейских Кимов.
Выше, в Летописи девятой, было описано, с каким усердием пятеро новых фараонов избавлялись от дальнозорких в своих странах. Правомочно предположить, что и будущие фараоны станут проводить такую же политику. Более того, враждебность близоруких может оттеснить дальнозорких от заметного участия в общественной жизни страны ещё до появления на сцене нового диктатора. Ему останется только встать во главе готовой к агрессии толпы и повести её на самоубийственные военные авантюры.
В своё время введение монотеистических религий рождало надежду на то, что они приведут к ослаблению религиозной вражды. Но очень часто происходило обратное: горячность веры новообращённых приводила к кровопролитным столкновениям по поводу незначительных разночтений священных текстов, обрядных установлений. Можно ли причащаться хлебом и вином или только хлебом? Хлебом с солью или опресноками? Крестное знамение совершать двумя пальцами или тремя?
Христианство безжалостно подавляло языческие культы, но оно не могло подавить в человеке страсть к многобожию, к пантеону богов, среди которых можно было бы выбрать самого любимого, установить с ним интимную связь, приносить ему жертвы, но одновременно иметь возможность и обидеться на него, поссориться, перейти к другому. Как писал Густав Лебон, «под общим названием христиан мы находим в Европе настоящих язычников, как, например, нижнебретонца, молящегося идолам, фетишистов, как испанца, обожествляющего амулеты, политеистов как итальянцев, почитающих за различные божества мадонн каждого селения».[743]
Античное язычество осталось в нашей культуре великолепными произведениями литературы и философии, живописными фресками, храмами, мраморными статуями. Возможно, такая же судьба ждёт и всё духовное богатство христианской эпохи. Но такой исход не является неизбежным. Человеческий разум бежит в атеизм от окаменевшей церковной догматики, но его продолжает манить к себе живой родник веры. Церковь и вера соотносятся друг с другом как кубок и вино. Если кубок дал трещину, человек может перелить вино веры в другой. Это случалось со многими знаменитыми богоискателями и, надо полагать, с миллионами рядовых верующих.
Творческая работа философов, теологов, художников продолжает расширять круг наших познаний и обнаруживает, что противоречия, ранее казавшиеся непреодолимыми, вдруг складываются в единый гармоничный узор. Взять, например, теорию естественного отбора. Сколько яростных споров породила она, какие дебаты и даже суды гремели между её сторонниками и противниками! Но вот один за другим начали выходить в свет такие труды, как «Творческая эволюция» Анри Бергсона, «Феномен человека» Пьера Тейяра де Шардена, «От пчелы до гориллы» Реми Шовена, и всё яснее становилось, что, хотя эволюция в мире животных и растений является неоспоримым фактом, она не могла происходить путём накопления случайных улучшений различных органов, ибо эти улучшения не передаются по наследству на генном уровне.
Другое природное явление, не получающее объяснения по теории Дарвина — симбиоз. Кто должен был появиться раньше — пчёлы или цветы со сладким нектаром, которые приманивают пчёл запахом и яркими расцветками? Если считать, что и то, и другое требовало миллионов лет для своего развития, как они могли ждать появления друг друга? Кто питал пчёл до появления цветов, и кто опылял цветы, пока не было пчёл? Такие недоумения неизбежно возрождают мысль о невидимом Творце, планирующем и синхронизирующем процесс эволюции.
Для тех, кто обоготворил разум, камнем преткновения в религиозных верованиях является необходимость верить в чудеса. Атеисты восхищаются наглядными чудесами индустриальной эры — этого им достаточно. Воздушный шар братьев Монгольфье летит над Елисейскими полями, самолётик братьев Райт поднимается над американской саванной, телескопы Гринвичской обсерватории точно предсказывают затмения солнца и луны — вот чем можно и нужно восхищаться. Конечно, когда ультразвуковой прибор показывает нам, что происходит в животе беременной женщины, это может вызвать оправданный восторг. Но восхищение позволяет нам забыть об изначальном чуде зачатия.
Неважно, что оно происходило и будет происходить миллиарды раз. Нашему разуму, при всей его гордыне, не по силам ясно вообразить, каким образом две микроскопические клетки, соединившись в матке, начинают уверенно строить организм взрослого человека, в сотни раз превосходящий по своей сложности любую изобретённую нами машину. Мысль о невидимой Творящей силе неизбежно рождается в нашем мозгу, манит, чарует.
А что если этот загадочный Творец не закончил свою работу в семь дней, как учит Библия, а продолжает её, и мы живём в День Восьмой? Что если мы не только продукт Его трудов, но и соучастники их, нужные Ему для работы над земной цивилизацией? Ведь и на Земле любой Хозяин не сам трудится на поле своём, а раздаёт задания работникам своим. Что если неудержимый порыв к свободе, который каждый из нас ощущает в своей душе, есть дарованный Им инструмент необходимый, чтобы мы могли справиться с порученной нам работой? Какой заманчивой осмысленностью наполняет жизнь каждого человека такой взгляд!
Да, мы видим, что всё вокруг нас происходит по неизменным законам. Мы изучаем их, называем Природой и отмахиваемся от мысли о каком-то Творце. Но когда мы обращаем взор на самих себя, мы обнаруживаем огромные поля непредсказуемых поступков и эмоций. Наши психологи строят теории, пытаясь упрятать проблеск свободы обратно в мир причинно-следственных связей. Но сознание религиозного человека сопротивляется этому. Да, говорит оно, Творец распоряжается камнем и водой, жаром и холодом, ветром и огнём. Но человек Ему нужен не покорным и слепым, а свободным и зрячим. Даже если жажда свободы доводит его порой до бунта против Хозяина. Ибо только свободным он может отыскивать путь в катакомбах неведомого и справляться с порученной ему работой продолжения Творения
Вводимое в этой книге представление об экзистенциальной разнице между близорукими и дальнозоркими, казалось бы, кладёт конец надеждам на возможность достижения прочного мира между людьми. Опыт показывает, что ничто не вызывает такого протеста, как осознание неравенства. Для близорукого допустить, что он от рождения обделён тем, что получили другие, будет мучительно. Но и дальнозоркие не будут рады осознанию этого разделения. У них отнимется уверенность в собственной правоте и справедливости, они осознают, что в жизненном состязании с современниками они изначально имеют огромные преимущества.
Как можно ослабить неизбежную здесь горечь и тех, и других? Пожалуй, нет другого пути, кроме как снова апеллировать к задачам Творения. Ведь каждый шаг усложнения мира связан с внесением элемента неравенства «строительных материалов». Клетки, составляющие глаз, ухо, мозг, железы живых существ, окружены большей заботой, чем мышцы, кости, хрящи. Даже растущее дерево представляет собой сложный конгломерат разных элементов. Поэтическое сознание порой допускает сравнение его с человеческим государством.
В разные времена года разные клетки играют в нём ведущую роль. По весне на первое место выходят те, что составляют почки, ростки, цветы, зеленеющие листья. К концу лета — те, что образуют плоды и семена. Осенью и зимой главной задачей становится выдерживать ветер, мороз, размыв почвы — с этим должны справляться клетки ствола, коры, ветвей, корней.
Может быть, и нам пришла пора поучиться у живого дерева? Разве так уж трудно уступить дальнозорким главную роль в процессах роста и расцвета цивилизации в государстве? А близоруким — заботу о прочности, морозоустойчивости, выживании в условиях засухи? Не к этому ли призывал уже Платон в своём проекте идеального Полиса, когда обозначал врождённую разницу между людьми названиями четырёх металлов?
Увы, ни он, ни все последующие философы за прошедшие 24 столетия не научили нас, как при рождении отличать золотого ребёнка от серебряного, медного, железного, чтобы пометить их всех кастовым кружком на лбу и исключить все последующие споры. Так неужели битвы за равенство всех со всеми будут продолжаться до скончания веков?
Правда, если близорукость восторжествует, ждать конца веков останется совсем недолго.
Опубликовано в журнале "Семь искусств" №№ 5,2018-3,2019.
Примечания
1
Подробно противоборство между отставшими народами и ушедшими вперёд исследовано в моих книгах «Метаполитика» (Самиздат — 1973, Россия — Ленинград: Лениздат, 1991) и «Грядущий Аттила» (С.-Петербург: Азбука, 2009.)
(обратно)2
См. мою книгу «Практическая метафизака», появившуюся в Самиздате в 1970; американское издание Энн Арбор, «Ардис», 1980; российское — Москва, «Захаров», 2006.
(обратно)3
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р.23.
(обратно)4
, p. 26.
(обратно)5
Красильников Борис. «Любовные истории Сталина и Гитлера» (Москва: Крук-престиж, 2006), стр. 6, 9.
(обратно)6
Montefiore, op. cit., p. 29.
(обратно)7
Ibid.
(обратно)8
Ibid., pp. 35–36.
(обратно)9
Ibid., p. 40.
(обратно)10
Ibid., p. 43.
(обратно)11
Ibid., p. 49.
(обратно)12
Ibid., p. 31.
(обратно)13
Ibid., p. 33.
(обратно)14
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 35.
(обратно)15
Montefiore, op. cit., p. 47.
(обратно)16
Ibid., p. 50–51.
(обратно)17
Ibid., p. 49.
(обратно)18
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 34.
(обратно)19
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 7.
(обратно)20
Collier, op. cit., p. 34.
(обратно)21
Ibid., p. 37.
(обратно)22
Ibid.
(обратно)23
Ibid., p. 35.
(обратно)24
Mussolini, Benito. My Autobiography (New York: Dover Publications, Inc., 2006), p. 5.
(обратно)25
Ibid., p. 4.
(обратно)26
Хибберт, ук. ист., стр. 9.
(обратно)27
Collier, op. cit., p. 37.
(обратно)28
Хибберт, ук. ист., стр. 11.
(обратно)29
Mussolini, op. cit., p. 11.
(обратно)30
Хибберт, ук. ист., стр. 7.
(обратно)31
Кох-Хиллербрехт, Манфред. «Homo-Гитлер. Психограмма диктатора» (Минск: Попурри, 2003), стр. 115.
(обратно)32
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), p. 2.
(обратно)33
Ibid., p. 5.
(обратно)34
Ibid., p. 6.
(обратно)35
Hitler, Adolf. Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Co., 1999), p. 6.
(обратно)36
Ibid., p. 14.
(обратно)37
Кох-Хиллербрехт, ук. ист., стр. 85.
(обратно)38
Там же, стр. 87.
(обратно)39
Hitler, op. cit., p. 8.
(обратно)40
Kershaw, op. cit., p. 9.
(обратно)41
Buck, Pearl. The Good Earth. Пулитцеровская премия 1931 года.
(обратно)42
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 11.
(обратно)43
Там же, стр. 12.
(обратно)44
Там же, стр. 15.
(обратно)45
Там же, стр. 24.
(обратно)46
Там же, стр. 19.
(обратно)47
Там же, стр. 22.
(обратно)48
Там же, стр. 23.
(обратно)49
Snow, Edgar. Red Star Over Chinа (New York: Grove Press, 1968), р. 131.
(обратно)50
Ibid., p. 136.
(обратно)51
Панцов, ук. ист., стр. 25.
(обратно)52
Там же, стр. 34.
(обратно)53
Там же, стр. 35.
(обратно)54
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 23.
(обратно)55
Ibid.
(обратно)56
Ibid., p. 25.
(обратно)57
Ibid., p. 24.
(обратно)58
Castro, Fidel & Ramonet, Ignacio. My Life. A Spoken Autobiography (New York: Scribner, 2006), p. 54.
(обратно)59
Ibid., p. 59.
(обратно)60
Ibid., p. 65.
(обратно)61
Ibid., p. 40.
(обратно)62
Ibid., p. 39.
(обратно)63
Ibid., p. 30.
(обратно)64
Ibid., p. 35.
(обратно)65
Geyer, op. cit., p. 32.
(обратно)66
Castro, op. cit., p. 79.
(обратно)67
Ibid., p. 72.
(обратно)68
Ibid., p. 73.
(обратно)69
Ibid., p. 75.
(обратно)70
Ibid., p. 17.
(обратно)71
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р. 55.
(обратно)72
Ibid., p. 56.
(обратно)73
Ibid., p. 63.
(обратно)74
Ibid., pp. 63. 91.
(обратно)75
Перевод Л. Котюкова.
(обратно)76
Montefiore, op. cit., p. 59.
(обратно)77
Ibid., p. 65.
(обратно)78
Ibid., p. 66.
(обратно)79
Стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин».
(обратно)80
Montefiore, op. cit., p. 69.
(обратно)81
Ibid., p. 80.
(обратно)82
Ibid., p. 71.
(обратно)83
Ibid.
(обратно)84
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 12.
(обратно)85
Там же, стр. 15
(обратно)86
Там же, стр. 14.
(обратно)87
Там же, стр. 15.
(обратно)88
Там же.
(обратно)89
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 46.
(обратно)90
Хибберт, ук. ист., стр. 18.
(обратно)91
Там же, стр. 25.
(обратно)92
Mussolini, Benito. My Autobiography (New York: Dover Publications, Inc., 2006), p. 12.
(обратно)93
Le Bon, Gustave. The Psychology of Peoples (New York: 1912), p. 119.
(обратно)94
Mussolini, op. cit., p. 13.
(обратно)95
Ibid.
(обратно)96
Хибберт, ук. ист., стр. 29.
(обратно)97
Kershaw, Ian. Hitler. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), p. 10.
(обратно)98
Ibid., p. 12.
(обратно)99
Ibid., p. 20.
(обратно)100
Ibid., p. 18.
(обратно)101
Ibid., p. 22.
(обратно)102
Hitler, Adolf. Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Co., 1999), p. 62.
(обратно)103
Ibid., p. 65.
(обратно)104
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р. 264–265.
(обратно)105
Kershaw, op. cit., p. 50.
(обратно)106
Ibid., p. 49–51.
(обратно)107
Ibid., p. 52–53.
(обратно)108
Ibid., p. 59–60.
(обратно)109
Ibid., p. 58.
(обратно)110
Ibid., p. 62.
(обратно)111
Панцев, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 51.
(обратно)112
Там же, стр. 37.
(обратно)113
Там же, стр. 55.
(обратно)114
Там же, стр. 59.
(обратно)115
Там же, стр. 55.
(обратно)116
Snow, Edgar. Red Star Over China (New York: Grove Press, 1968), р. 142.
(обратно)117
Ibid., p. 143.
(обратно)118
Ibid., p. 145.
(обратно)119
Ibid., p. 147.
(обратно)120
Панцев, ук. ист., стр. 57.
(обратно)121
Там же, стр. 72.
(обратно)122
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 37.
(обратно)123
Ibid., p. 39.
(обратно)124
Castro, Fidel & Ramonet, Ignacio. My Life. A Spoken Autobiography (New York: Scribner, 2006), p. 100.
(обратно)125
Geyer, op. cit., p. 42–43.
(обратно)126
Ibid., p. 52.
(обратно)127
Ibid., p. 39.
(обратно)128
Ibid., p. 40.
(обратно)129
Ibid.
(обратно)130
Ibid.
(обратно)131
Ibid., p. 51.
(обратно)132
Ibid., p. 38.
(обратно)133
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р.77.
(обратно)134
, p. 75.
(обратно)135
, p. 95.
(обратно)136
, p. 103.
(обратно)137
(обратно)138
, p. 104.
(обратно)139
, p. 107.
(обратно)140
, p. 114.
(обратно)141
, p. 126.
(обратно)142
Ефимов Игорь. «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущёв» (Тенафлай: Эрмитаж, 1987), стр. 49.
(обратно)143
Montefiore, op. cit., p. 147.
(обратно)144
, p. 113.
(обратно)145
, p. 172.
(обратно)146
, p. 174,
(обратно)147
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 38.
(обратно)148
(обратно)149
, p. 41.
(обратно)150
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 15.
(обратно)151
Там же, стр. 23.
(обратно)152
Там же, стр. 19.
(обратно)153
Там же, стр. 21.
(обратно)154
Там же, стр. 20.
(обратно)155
Там же, стр. 19.
(обратно)156
Collier, op. cit., p. 43.
(обратно)157
Хибберт, ук. ист., стр. 27.
(обратно)158
Там же, стр. 28.
(обратно)159
Там же.
(обратно)160
Collier, op. cit., p. 46.
(обратно)161
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), p. 72.
(обратно)162
Hitler, Adolf. Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Co., 1999), p. 62.
(обратно)163
Kershaw, op. cit., p. 74.
(обратно)164
, p. 89.
(обратно)165
Le Bon, Gustave. The Psychology of Peoples (New York: 1912), p. 113.
(обратно)166
Hitler, op. cit., pp. 374, 377.
(обратно)167
, p. 107.
(обратно)168
, p. 661.
(обратно)169
, p. 382.
(обратно)170
, p. 385.
(обратно)171
Kershaw, op. cit., p. 89.
(обратно)172
Hitler, op. cit., p. 105.
(обратно)173
Kershaw, op. cit., p. 106.
(обратно)174
, p. 96.
(обратно)175
, p. 103.
(обратно)176
, p. 108.
(обратно)177
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 61.
(обратно)178
Там же, стр. 63.
(обратно)179
Там же, стр. 87.
(обратно)180
Там же, стр. 105.
(обратно)181
Там же, стр. 150.
(обратно)182
Там же, стр. 169.
(обратно)183
Там же, стр. 196.
(обратно)184
Там же, стр. 191.
(обратно)185
Там же, стр. 203.
(обратно)186
Snow, Edgar. Red Star Over China (New York: Grove Press, 1968), р. 159.
(обратно)187
Панцов, ук. ист., стр. 204.
(обратно)188
Там же, стр. 215.
(обратно)189
Castro, Fidel & Ramonet, Ignacio. My Life. A Spoken Autobiography (New York: Scribner, 2006), p. 81.
(обратно)190
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 49.
(обратно)191
Castro, op. cit., p. 95.
(обратно)192
Geyer, op. cit., p. 55.
(обратно)193
, p. 60.
(обратно)194
, p. 63.
(обратно)195
Castro, op. cit., p. 97.
(обратно)196
Geyer, op. cit., p. 81.
(обратно)197
, p. 84.
(обратно)198
, p. 66.
(обратно)199
, p. 87.
(обратно)200
, p. 88.
(обратно)201
, p. 90.
(обратно)202
, p. 91.
(обратно)203
, p. 96.
(обратно)204
, p. 99.
(обратно)205
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 63.
(обратно)206
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р.165.
(обратно)207
, p. 162.
(обратно)208
, p. 163.
(обратно)209
, p. 135.
(обратно)210
, p. 137.
(обратно)211
, p. 136.
(обратно)212
, p. 144.
(обратно)213
, p. 204.
(обратно)214
, p. 246.
(обратно)215
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 34.
(обратно)216
Там же, стр. 35.
(обратно)217
Mussolini, Benito. My Autobiography (New York: Dover Publications, Inc., 2006), p. 18.
(обратно)218
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 49.
(обратно)219
, p. 50.
(обратно)220
, p. 51.
(обратно)221
, p. 52.
(обратно)222
, p. 53.
(обратно)223
, p. 55.
(обратно)224
, p. 56.
(обратно)225
, p. 58.
(обратно)226
, p. 60.
(обратно)227
Mussolini, Rachele. An Intimate Portrait (New York: William Morrow & Co., 1974), p. 35.
(обратно)228
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 43.
(обратно)229
Hitler, Adolf. Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Co., 1999), р. 661.
(обратно)230
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), р. 110.
(обратно)231
, p. 109.
(обратно)232
, p. 118.
(обратно)233
, p. 118.
(обратно)234
, p. 126.
(обратно)235
, p. 128.
(обратно)236
, p. 129.
(обратно)237
, p. 135.
(обратно)238
, p. 136.
(обратно)239
(обратно)240
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 219.
(обратно)241
Там же, стр. 245.
(обратно)242
Там же, стр. 248.
(обратно)243
Там же, стр. 249.
(обратно)244
Там же, стр. 252.
(обратно)245
Там же, стр. 255.
(обратно)246
Там же, стр. 260.
(обратно)247
Там же, стр. 264.
(обратно)248
Snow, Edgar. Red Star Over China (New York: Grove Press, 1968), р. 166.
(обратно)249
Панцов, ук. ист., стр. 285.
(обратно)250
Snow, op. cit., p. 167.
(обратно)251
Castro, Fidel & Ramonet, Ignacio. My Life. A Spoken Autobiography (New York: Scribner, 2006), р. 115.
(обратно)252
, p. 107.
(обратно)253
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 112.
(обратно)254
Castro, op. cit., p. 110.
(обратно)255
, p. 122.
(обратно)256
Geyer, op. cit., p. 117.
(обратно)257
, pp. 115–116.
(обратно)258
Castro, op. cit., p. 130.
(обратно)259
Ibid., p. 132.
(обратно)260
Geyer, op. cit., p. 128–129.
(обратно)261
Ibid., p. 131.
(обратно)262
Альтамира-и-Кревеа, Рафаэль. «История Средневековой Испании» (Москва: 1951), т. 1, стр. 178.
(обратно)263
Хаек, Фридрих. «Дорога к рабству» (London: Nina Karsov, 1983), стр. 45.
(обратно)264
Гиппиус Зинаида. «Петербургские дневники. 1914–1919» (Нью-Йорк: Телекс, 1990), стр. 78–80.
(обратно)265
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 112.
(обратно)266
Там же, стр. 111.
(обратно)267
Там же, стр. 113.
(обратно)268
Гиппиус, ук. ист., стр. 134–135.
(обратно)269
Там же, стр. 164.
(обратно)270
Deutscher, Isaac. The Prophet Armed. Trotsky: 1879–1921 (Oxford: University Press, 1954), p. 347.
(обратно)271
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р.332.
(обратно)272
Радзинский, ук. ист., стр. 123.
(обратно)273
Там же, стр. 124.
(обратно)274
Montefiore, op. cit., p. 342.
(обратно)275
Радзинский, ук. ист., стр. 128.
(обратно)276
Mussolini, Benito. My Autobiography (New York: Dover Publications, Inc., 2006), р. 96.
(обратно)277
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 62.
(обратно)278
Ibid
(обратно)279
Ibid
(обратно)280
Ibid, p. 60.
(обратно)281
Ibid, p. 62.
(обратно)282
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 49.
(обратно)283
Mussolini, op. cit., p. 125.
(обратно)284
Ibid, p. 129.
(обратно)285
Хибберт, ук. ист., стр. 13.
(обратно)286
Collier, op. cit., p. 13.
(обратно)287
Ibid, p. 26.
(обратно)288
Ibid, p. 19.
(обратно)289
Mussolini, op. cit., p. 131.
(обратно)290
Хибберт, ук. ист., стр. 52.
(обратно)291
Mussolini, Rachele. An Intimate Portrait (New York: William Morrow & Co., 1974), р. 57.
(обратно)292
Collier, op. cit., p. 33.
(обратно)293
Ibid, p. 63.
(обратно)294
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), р. 145.
(обратно)295
Ibid, p. 202.
(обратно)296
Hitler, Adolf. Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Co., 1999), p. 660.
(обратно)297
Kershaw, op. cit., p. 190.
(обратно)298
Ibid, p. 196.
(обратно)299
Sowell, Thomas. Intellectuals And Society (New York: Basic Books, 2009), pp. 70–72.
(обратно)300
Kershaw, op. cit., p. 223.
(обратно)301
Ibid, p. 231.
(обратно)302
Ibid, p. 226.
(обратно)303
Ibid, p. 227.
(обратно)304
Ibid, p. 229.
(обратно)305
Ibid, p. 231.
(обратно)306
Ibid, p. 199.
(обратно)307
Ibid, p. 240.
(обратно)308
, p. 243.
(обратно)309
, p. 255.
(обратно)310
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 281.
(обратно)311
Snow, Edgar. Red Star Over China. New York: Grove Press, 1968.
(обратно)312
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 140.
(обратно)313
Ibid, p. 143.
(обратно)314
Ibid, p. 151.
(обратно)315
Ibid, p. 153.
(обратно)316
Castro, Fidel & Ramonet, Ignacio. My Life. A Spoken Autobiography (New York: Scribner, 2006), p. 182.
(обратно)317
Geyer, op. cit., p. 159.
(обратно)318
Castro, op. cit., p. 183.
(обратно)319
Geyer, op. cit., p. 182.
(обратно)320
Ibid
(обратно)321
Ibid, p. 169.
(обратно)322
Ibid, p. 173.
(обратно)323
Ibid, p. 179.
(обратно)324
Ibid, p. 183.
(обратно)325
Ibid, p. 184.
(обратно)326
Ibid, p. 189.
(обратно)327
Ibid, p. 186.
(обратно)328
Ibid, p. 193.
(обратно)329
Castro, op. cit., p. 202.
(обратно)330
Ibid, p. 200.
(обратно)331
Geyer, op. cit., p.???.
(обратно)332
Ibid, p. 199.
(обратно)333
Ibid, p. 205.
(обратно)334
Плутарх. «Сравнительные жизнеописания» (Москва: 1961), т. 1, стр. 59.
(обратно)335
Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of the Nations (Homewood, IL: R. D. Irwin, 1963), v. 1, p. 302.
(обратно)336
Красильников Борис. «Любовные истории Сталина и Гитлера» (Москва: Крук-Престиж, 2006), стр. 22–23.
(обратно)337
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), p.141.
(обратно)338
, p. 186.
(обратно)339
, p. 191.
(обратно)340
Красильников, ук. ист., стр. 30.
(обратно)341
Montefiore, op. cit., p. 226.
(обратно)342
Красильников, ук. ист., стр. 43.
(обратно)343
Там же, стр. 53.
(обратно)344
Там же, стр. 48.
(обратно)345
Там же, стр. 68.
(обратно)346
Там же, стр. 90.
(обратно)347
Там же, стр. 88.
(обратно)348
Там же, стр. 104.
(обратно)349
Там же, стр. 107.
(обратно)350
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), р. 38.
(обратно)351
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 13.
(обратно)352
Mussolini, Rachele. An Intimate Portrait (New York: William Morrow & Co., 1974), р. 14.
(обратно)353
, p. 20
(обратно)354
, p. 73.
(обратно)355
, p. 75.
(обратно)356
, pp. 76, 78.
(обратно)357
Collier, op. cit., p. 106.
(обратно)358
, p. 132.
(обратно)359
, p. 371.
(обратно)360
, p. 375.
(обратно)361
, p. 146.
(обратно)362
, p. 147.
(обратно)363
, p. 194.
(обратно)364
, p. 377.
(обратно)365
Mussolini, Rachele, op. cit., p. 1.
(обратно)366
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), р. 18.
(обратно)367
, p. 23.
(обратно)368
Hanfstaengl, Ernst. Hiler: The Missing Years. London: Eyre & Spottiswood, 1957. Küdecke, Kurt G.W. I Knew Hitler. New York: AMS Press, 1937.
(обратно)369
Machtan, Lothar. The Hidden Hitler (New York: Basic Books, translated from German, 2002), р. 32.
(обратно)370
Kershaw, op. cit., pp. 11–13.
(обратно)371
Ford, Henry. The International Jew. The World’s Foremost Problem. Dearborn, Michigan: Dearborn Independent, 1920, 4 vols.
(обратно)372
Machtan, op. cit., p. 51.
(обратно)373
Красильников Борис. «Любовные истории Сталина и Гитлера» (Москва: Крук-престиж, 2006), стр. 229.
(обратно)374
Machtan, op. cit., p. 166.
(обратно)375
Красильников, ук. ист., стр. 237–238.
(обратно)376
Machtan, op. cit., p. 159.
(обратно)377
, p. 163–164.
(обратно)378
Kershaw, op. cit., p. 5.
(обратно)379
, p. 219.
(обратно)380
, p. 220.
(обратно)381
Красильников, ук. ист., стр. 240.
(обратно)382
Machtan, op. cit., p. 277.
(обратно)383
Красильников, ук. ист., стр. 249.
(обратно)384
Там же, стр.???.
(обратно)385
Там же, стр. 258-59.
(обратно)386
Там же, стр. 254-55.
(обратно)387
Фильм «Каррингтон», 1995.
(обратно)388
Mussolini, Rachele. An Intimate Portrait (New York: William Morrow & Co., 1974), р. 146–147.
(обратно)389
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), р. 117.
(обратно)390
Красильников, ук. ист., стр. 290.
(обратно)391
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 33.
(обратно)392
Там же, стр. 141.
(обратно)393
Там же, стр. 28.
(обратно)394
Там же, стр. 398.
(обратно)395
Там же, стр. 434.
(обратно)396
Там же, стр. 438.
(обратно)397
Там же, стр. 471.
(обратно)398
Salisbury, Harrison The New Emperors. China in the Era of Mao and Deng (Boston: Little, Brown & Co., 1993), р. 66.
(обратно)399
Панцов, ук. ист., стр. 470.
(обратно)400
Там же, стр. 473.
(обратно)401
Там же, стр. 509.
(обратно)402
Salisbury, op. cit., p. 117.
(обратно)403
Панцов, ук. ист., стр. 517.
(обратно)404
Там же, стр. 544.
(обратно)405
Там же, стр. 575.
(обратно)406
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), р. 73.
(обратно)407
, p. 68.
(обратно)408
, p.???.
(обратно)409
, p. 77.
(обратно)410
, p. 112–113.
(обратно)411
, p. 134.
(обратно)412
, p. 151.
(обратно)413
, p. 149.
(обратно)414
, p. 15.
(обратно)415
, p. 153–54.
(обратно)416
, p. 221.
(обратно)417
, p. 224.
(обратно)418
, p. 225.
(обратно)419
, p. 224.
(обратно)420
.
(обратно)421
Geyer, op. cit., p. 334.
(обратно)422
Testimony of Juanita Castro Ruz. Washington: US Government Printing Office, 1965.
(обратно)423
Fernandez, Alina. Castro’s Daughter: an Exile’s Memoir of Cuba. New York: Random House, 1998.
(обратно)424
(обратно)425
Цитируется по книге Игоря Ефимова «Ясная Поляна» (Новосибирск, СИС, 2015), стр. 34–35.
(обратно)426
Bragg, Melvyn. Richard Burton. A Life. Boston: Little, Brown & Co., 1988.
(обратно)427
Bragg, Melvyn. Richard Burton. A Life. Boston: Little, Brown & Co., 1988.
(обратно)428
Хлевнюк Олег. «Сталин. Жизнь одного вождя» (Москва: АСТ, 2015), стр. 120.
(обратно)429
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 191.
(обратно)430
Там же, стр. 234.
(обратно)431
Там же.
(обратно)432
Хлевнюк, ук. ист., стр. 123.
(обратно)433
Радзинский, ук. ист., стр. 237.
(обратно)434
Авторханов Абдурахман. «Происхождение партократии». Frankfurt: Possev-Verlag, 1983. (Не имея источника под рукой, цитирую по памяти.)
(обратно)435
Радзинский, ук. ист., стр. 240-41.
(обратно)436
Там же, стр. 242.
(обратно)437
Хлевнюк, ук. ист., стр. 134.
(обратно)438
Радзинский, ук. ист., стр. 243.
(обратно)439
Там же, стр. 242.
(обратно)440
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 64.
(обратно)441
Mussolini, Benito. My Autobiography (New York: Dover Publications, Inc., 2006), p, 145.
(обратно)442
Collier, op. cit., p. 66.
(обратно)443
, p. 65.
(обратно)444
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 61.
(обратно)445
Collier, op. cit., p. 73.
(обратно)446
(обратно)447
, p. 75.
(обратно)448
Хибберт, ук. ист., стр. 73.
(обратно)449
Collier, op. cit., p. 79.
(обратно)450
, p. 82.
(обратно)451
, p. 86.
(обратно)452
Mussolini, op. cit., p. 172–173.
(обратно)453
Collier, op. cit., p. 92.
(обратно)454
, p. 91.
(обратно)455
Mussolini, op. cit., p. 176–177.
(обратно)456
Collier, op. cit., p. 91.
(обратно)457
, p. 108–109.
(обратно)458
(обратно)459
, p. 95.
(обратно)460
, p. 96.
(обратно)461
, p. 113.
(обратно)462
, p. 111.
(обратно)463
, p. 93.
(обратно)464
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), p. 273.
(обратно)465
, p. 276.
(обратно)466
, p. 282.
(обратно)467
(обратно)468
, pp. 285–287.
(обратно)469
, pp. 289–290.
(обратно)470
Хаек, Фридрих. «Дорога к рабству» (London: Nina Karsov, 1983), pp. 150, 156.
(обратно)471
Kershaw, op. cit., p. 299.
(обратно)472
, p. 305.
(обратно)473
, p. 308.
(обратно)474
, p. 310.
(обратно)475
, p. 313–314.
(обратно)476
Snyder, Timothy. “Hitler’s World.” New York Review of Books. 24, 2015.
(обратно)477
Kershaw, op. cit., p. 318.
(обратно)478
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 515.
(обратно)479
Там же, стр. 495–496.
(обратно)480
Там же, стр. 508.
(обратно)481
Встреча Сталина и Мао Цзедуна в Москве интересно интерпретирована и воссоздана в романе Нодара Джина «Учитель» (Москва: Вагриус, 1998).
(обратно)482
Salisbury, Harrison The New Emperors. China in the Era of Mao and Deng (Boston: Little, Brown & Co., 1993), p. 115.
(обратно)483
Панцов, ук. ист., стр. 532.
(обратно)484
Там же, стр. 533.
(обратно)485
Там же, стр. 553.
(обратно)486
Там же, стр. 560.
(обратно)487
Там же, стр. 569, 575.
(обратно)488
Там же, стр. 585.
(обратно)489
Там же, стр. 589.
(обратно)490
Там же, стр. 599.
(обратно)491
Там же, стр. 604.
(обратно)492
Salisbury, op. cit., p. 28.
(обратно)493
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 212.
(обратно)494
, pp. 213–214.
(обратно)495
, p. 231.
(обратно)496
, pp. 233, 241.
(обратно)497
, p. 235.
(обратно)498
, p. 226
(обратно)499
, p. 257.
(обратно)500
, p. 272.
(обратно)501
, pp. 287–288).
(обратно)502
Ferguson, Neill. The War of the World (New York: Penguin Books, 2006), p. 599.
(обратно)503
Geyer, op. cit., p. 291.
(обратно)504
, p. 292.
(обратно)505
Blakey, G. Robert, and Billings, Richard N. The Plot to kill the President (New York: Times Books, 1981), рр. 54, 59.
(обратно)506
Ефимов Игорь. «Кто убил президента Кеннеди?» (Москва: Терра, 1991), стр. 259.
(обратно)507
Blakey, op. cit., p. 143.
(обратно)508
Ефимов, ук. ист., стр. 261.
(обратно)509
Там же, стр. 258.
(обратно)510
Там же, стр. 277.
(обратно)511
Там же, стр. 260.
(обратно)512
Geyer, op. cit., pp. 244–246.
(обратно)513
, pp. 214–217.
(обратно)514
Ефимов Игорь. «Как одна плоть» (Энн Арбор: Ардис, 1981), стр. 77–78.
(обратно)515
Rousseau, Jean-Jacques. The First and Second Discourses (New York: St. Martin’s Press, 1964), pp. 178–179.
(обратно)516
Владимир Соловьёв. Стихотворения (Ленинград: «Советский писатель», 1974), стр. 63.
(обратно)517
Cyriax, Oliver, Wilson, Colin, Wilson Damon. Encyclopedia of Crime (Woodstock, NY: The Overlook Press, 2006), pp. 275–276.
(обратно)518
Хлевнюк Олег. «Сталин. Жизнь одного вождя» (Москва: АСТ, 2015), стр. 102.
(обратно)519
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 249.
(обратно)520
Хлевнюк, ук. ист., стр. 175.
(обратно)521
Радзинский, ук. ист., стр. 275, 288.
(обратно)522
Там же, стр. 276.
(обратно)523
Хлевнюк, ук. ист., стр. 128.
(обратно)524
М. Геллер, А. Некрич. «Утопия у власти» (London: Overseas Publication Interchange, 1986), стр. 887.
(обратно)525
Хлевнюк, ук. ист., стр. 181.
(обратно)526
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), p.295.
(обратно)527
Белоусов А. «Бенито Муссолини» (Москва: АСТ-Пресс, 1999), стр. 63.
(обратно)528
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 65.
(обратно)529
, p. 113.
(обратно)530
.
(обратно)531
(обратно)532
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 93.
(обратно)533
#comment-8269.
(обратно)534
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), р. 323.
(обратно)535
Ibid, p. 325.
(обратно)536
, p. 326.
(обратно)537
, p. 114.
(обратно)538
Кох-Хиллербрехт, Манфред. «Homo-Гитлер. Психограмма диктатора». (Минск: Попурри, 2003), стр. 168.
(обратно)539
Le Bon, Gustave. The Psychology of Peoples (New York: 1912).
(обратно)540
Кох-Хиллербрехт, ук. ист., стр. 159.
(обратно)541
Kershaw, op. cit., p. 359/
(обратно)542
(обратно)543
Кох-Хиллербрехт, ук. ист., стр. 147, 153.
(обратно)544
Kershaw, op. cit., p. 327.
(обратно)545
, 368.
(обратно)546
Кох-Хиллербрехт, ук. ист., стр. 162.
(обратно)547
Там же, стр. 150.
(обратно)548
Дин-Савва Лена. «Из Москвы да в Пекин» (Тенафлай: Эрмитаж, 1999), стр.5.
(обратно)549
Salisbury, Harrison E. The New Emperors. China in the Era of Mao and Deng (Boston: Little, Brown & Co., 1993), р. 145.
(обратно)550
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 569, 575.
(обратно)551
Дин-Савва, ук. ист., стр. 199.
(обратно)552
Там же, стр. 201.
(обратно)553
Salisbury, op. cit., p. 149.
(обратно)554
Дин-Савва, ук. ист., стр. 201.
(обратно)555
Панцов, ук. ист., стр. 630.
(обратно)556
Там же, стр. 636.
(обратно)557
Там же, стр. 637.
(обратно)558
Там же, стр. 638.
(обратно)559
Там же, стр. 645.
(обратно)560
Там же, стр. 654.
(обратно)561
Там же.
(обратно)562
Там же, стр. 656.
(обратно)563
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), р. 329.
(обратно)564
, p. 330.
(обратно)565
, p. 329.
(обратно)566
Fernandez, Alina. Castro’s Daughter. An Exile’s Memoir of Cuba (New York: St. Marin’s Griffin, 1999), p. 125.
(обратно)567
Geyer, op. cit., p. 327.
(обратно)568
, p. 321.
(обратно)569
Fernandez, op. cit., p. 173.
(обратно)570
Geyer, op. cit., p. 264.
(обратно)571
, p. 335–336.
(обратно)572
, p. 388.
(обратно)573
Fernandez, op. cit., p. 122.
(обратно)574
Geyer, op. cit., p. 16.
(обратно)575
(обратно)576
, p. 382.
(обратно)577
Fernandez, op. cit., p. 177.
(обратно)578
Politics (Oxford: 1885), vol. 1, p. 79.
(обратно)579
Herrnstein, Richard J., & Murray, Charles. The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life. New York: The Free Press, 1994.
(обратно)580
Boehm, Christopher. Blood Revenge (Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1994), p. 61.
(обратно)581
, p. 111.
(обратно)582
Авторханов Абдурахман. «Технология власти». Франкфурт: Посев, 1983. Не имея источника под рукой, привожу эпизод по памяти.
(обратно)583
Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р. 127.
(обратно)584
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 328.
(обратно)585
Там же, стр. 327.
(обратно)586
Хлевнюк Олег. «Сталин. Жизнь одного вождя» (Москва: АСТ, 2015), стр. 191.
(обратно)587
Радзинский, ук. ист., стр. 318.
(обратно)588
Хлевнюк, ук. ист., стр. 221.
(обратно)589
Churchill, Winston. Memoirs of the Second World War (Boston: Houghton Mifflin Co., 1987), р. 130.
(обратно)590
Conquest Robert. The Great Terror (New York: Oxford University Press, 1990), р. 450.
(обратно)591
Суворов Виктор. «Ледокол» (1968–1981).
(обратно)592
(обратно)593
Leeds, Christopher. Italy under Mussolini (Avon, England: Wayland Publishers, 1972), p. 87.
(обратно)594
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 69.
(обратно)595
Там же, стр. 76.
(обратно)596
Leeds, op. cit., p. 88.
(обратно)597
, p. 89.
(обратно)598
, p. 79.
(обратно)599
, p. 81.
(обратно)600
, p. 82.
(обратно)601
, p. 78.
(обратно)602
, p. 84.
(обратно)603
, p. 86.
(обратно)604
, pp. 104–105.
(обратно)605
, p. 98.
(обратно)606
Хибберт, ук. ист., стр. 88, 93.
(обратно)607
Wagner, Richard. A Compendium of Prose Works on Music and Drama (New York: E.P.Dutton & Co., 1980), pp. 58, 52.
(обратно)608
Ford, Henry. The International Jew. The World’s Foremost Problem (CT, Mansfield Centre: Martino Publishing, 2011).
(обратно)609
, p. 6.
(обратно)610
Кох-Хиллербрехт, Манфред. «Homo-Гитлер. Психограмма диктатора». (Минск: Попурри, 2003) стр. 197.
(обратно)611
Kershaw, Ian. A Biography (New York: W.W. Norton & Co., 2008), р.302.
(обратно)612
, pp. 279, 289, 290.
(обратно)613
Mann, Thomas. Diaries 1918–1939 (New York: Harry N. Abrams, Inc., 1982), рр. 148, 153, 181.
(обратно)614
Розеншток-Хюсси Ойген. «Великие революции. Автобиография западного человека» (Tenafly N.J.: Hermitage Publishers, 1999), стр. 187.
(обратно)615
Mann, op. cit., p. 161.
(обратно)616
Кох, ук. ист., стр. 24.
(обратно)617
Там же, стр. 27.
(обратно)618
Там же, стр. 39.
(обратно)619
Там же, стр. 104.
(обратно)620
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 664.
(обратно)621
Там же, стр. 671.
(обратно)622
Дин-Савва Лена. «Из Москвы да в Пекин» (Тенафлай: Эрмитаж, 1999), стр. 177.
(обратно)623
Там же, стр. 184.
(обратно)624
Панцов, ук. ист., стр. 672.
(обратно)625
Дин-Савва, ук. ист., стр. 233.
(обратно)626
Панцов, ук. ист., стр. 675.
(обратно)627
Дин-Савва, ук. ист., стр. 234.
(обратно)628
Salisbury, Harrison E. The New Emperors. China in the Era of Mao and Deng (Boston: Little, Brown & Co., 1993), p. 248.
(обратно)629
, p. 237.
(обратно)630
, p. 268.
(обратно)631
Панцов, ук. ист., стр. 680.
(обратно)632
Там же, стр. 682.
(обратно)633
Там же, стр. 680.
(обратно)634
Дин-Савва, ук. ист., стр. 236, 238.
(обратно)635
Salisbury, op. cit., p. 247.
(обратно)636
, p. 237.
(обратно)637
Панцов, ук. ист., стр. 709.
(обратно)638
Castro, Fidel & Ramonet, Ignacio. My Life. A Spoken Autobiography (New York: Scribner, 2006), р. 90.
(обратно)639
Valladares, Armando. Against All Hope. A Memoir of Life in Castro’s Gulag (San Francisco: Encounter Books, 2001), p. 4.
(обратно)640
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro. (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 52.
(обратно)641
Valladares, op. cit., p. 34.
(обратно)642
, p. 26.
(обратно)643
, p. 23.
(обратно)644
, p. 28.
(обратно)645
, p. 3.
(обратно)646
, p. 1.
(обратно)647
, p. 7.
(обратно)648
, p. 43.
(обратно)649
, p. 194.
(обратно)650
, p. 135.
(обратно)651
, pp. with photos.
(обратно)652
Geyer, op. cit., p. 326.
(обратно)653
, p. 285.
(обратно)654
Valladares, op. cit., p. 27.
(обратно)655
, p. 337.
(обратно)656
Castro, op. cit., pp. 448–450.
(обратно)657
Stangneth, Bettina. Eichman Before Jerusalem. New York: Alfred A, Knopf, 2014.
(обратно)658
Гоголь Н.В. «Ревизор» (Москва: Гос. Изд. Худ. Литературы, 1949), т. 4, стр. 89.
(обратно)659
Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 472.
(обратно)660
Там же, стр. 273.
(обратно)661
Там же, стр. 277.
(обратно)662
Churchill, Winston. Memoirs of the Second World War (Boston: Houghton Mifflin Co., 1987), р. 423.
(обратно)663
Хлевнюк Олег. «Сталин. Жизнь одного вождя» (Москва: АСТ, 2015), стр. 274.
(обратно)664
Там же, стр. 280.
(обратно)665
Там же, стр. 282.
(обратно)666
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 498..
(обратно)667
Хлевнюк, ук. ист., стр. 304.
(обратно)668
Там же, стр. 277.
(обратно)669
Радзинский, ук. ист., стр. 475.
(обратно)670
Hitler, Adolf. Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Co., 1999), р. 660.
(обратно)671
Collier, Richard. Duce! A Biography of Benito Mussolini (New York: The Viking Press, 1971), p. 47.
(обратно)672
, p. 116.
(обратно)673
Хибберт, Кристофер. «Бенито Муссолини. Биография» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1998), стр. 108.
(обратно)674
Collier, op. cit., p. 136.
(обратно)675
, p. 148.
(обратно)676
, p. 156.
(обратно)677
Хибберт, ук. ист., стр. 215.
(обратно)678
Там же, стр. 210.
(обратно)679
Там же, стр. 215–216.
(обратно)680
Там же, стр. 223.
(обратно)681
Там же, стр. 217.
(обратно)682
Collier, op. cit., pp. 179–180.
(обратно)683
Хибберт, ук. ист., стр. 224.
(обратно)684
Collier, op. cit., p. 180.
(обратно)685
Хибберт, ук. ист., стр. 230.
(обратно)686
Там же.
(обратно)687
Collier, op. cit., p. 188.
(обратно)688
Хибберт, ук. ист., стр. 339.
(обратно)689
Там же, стр. 351.
(обратно)690
Там же, стр. 360.
(обратно)691
Там же, стр. 414.
(обратно)692
Там же, стр. 420.
(обратно)693
Кох-Хиллербрехт, Манфред. «Homo-Гитлер. Психограмма диктатора» (Минск: Попурри, 2003), стр. 150.
(обратно)694
Там же, стр. 153.
(обратно)695
Там же, стр. 105.
(обратно)696
Там же, стр. 118.
(обратно)697
/Хронология_Второй_мировой_войны.
(обратно)698
(обратно)699
Кох-Хиллербрехт, ук. ист., стр. 120.
(обратно)700
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 746.
(обратно)701
Там же, стр. 745.
(обратно)702
Там же, стр. 245.
(обратно)703
Там же, стр. 249.
(обратно)704
Там же, стр. 747.
(обратно)705
Там же.
(обратно)706
Salisbury, Harrison The New Emperors. China in the Era of Mao and Deng (Boston: Little, Brown & Co., 1993), р. 115.
(обратно)707
Панцов, ук. ист., стр. 549.
(обратно)708
Salisbury, op. cit., p. 144.
(обратно)709
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro (Boston: Little, Brown & Co., 1991), p. 222.
(обратно)710
Sanchez, Juan Reinaldo. The Double Life of Fidel Castro (New York: St. Martin Griffin Edition, 2016), p. 97.
(обратно)711
Geyer, op. cit., p. 307.
(обратно)712
Sanchez, op. cit., p. 93.
(обратно)713
, p. 99.
(обратно)714
, p. 94.
(обратно)715
Sanchez, op. cit., pp. 94–95.
(обратно)716
Geyer, op. cit., p. 309.
(обратно)717
, p. 313.
(обратно)718
, p. 317.
(обратно)719
, pp. 310–311.
(обратно)720
Sanchez, op. cit., p. 103.
(обратно)721
Geyer, op. cit., p. 339.
(обратно)722
, p. 346.
(обратно)723
, p. 347.
(обратно)724
, p. 349.
(обратно)725
Sanchez, op. cit., p. 174.
(обратно)726
, p. 118.
(обратно)727
, p. 225.
(обратно)728
, p. 226.
(обратно)729
Geyer, op. cit., p. 384–85.
(обратно)730
Sanchez, op. cit., p. 241.
(обратно)731
, p. 243.
(обратно)732
Иван Ильин. Наши задачи, в двух томах (Париж-Москва: МП «Рарог», 1992), т. 2, стр. 270–272.
(обратно)733
Ferguson, Niall. The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West (New York: The Penguin Press, 2006), p. 631.
(обратно)734
Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), р. 184.
(обратно)735
там же, p. 283.
(обратно)736
Панцов, Александр. «Мао Цзедун» (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 55.
(обратно)737
Geyer, Georgie Anne. Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro. (Boston: Little, Brown & Co., 1991), р. 93, 109.
(обратно)738
Толстой Лев. «Война и мир» (Москва: Собрание соч. в 20 томах, 1911), том 7, стр. 6.
(обратно)739
Le Bon, Gustave. The Psychology of Peoples (New York: 1912), р. 118.
(обратно)740
Politics (Oxford: 1885), р. 112.
(обратно)741
Sowell, Thomas. Intellectuals and Society (New York: Basic Books, 2009), рр. 71–72.
(обратно)742
Бердяев Николай. «Политический смысл революционного брожения в России (СПб, 1903), стр. 72.
(обратно)743
Le Bon, op. cit., p. 89.
(обратно)





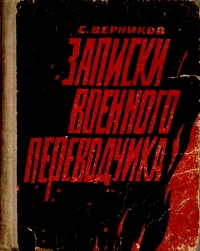

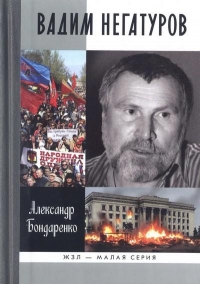
Комментарии к книге «Пять фараонов двадцатого века», Игорь Маркович Ефимов
Всего 0 комментариев