Федор Иванович Тютчев «Я встретил вас…»
© Чагин Г. В., повесть «Поэт гармонии и красоты», составление и комментарии, 1997
© Калита Н. И., иллюстрации, 1997
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2017
* * *
Поэт гармонии и красоты (О жизни и творчестве Ф. И. Тютчева)
Начало биографии
Любителям поэзии хорошо известно четверостишие Федора Ивановича Тютчева, которое он написал на последнем десятке своей долгой, полной событиями жизни:
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить; У ней особенная стать — В Россию можно только верить.Трудно, да, пожалуй, и вряд ли возможно измерить этим «аршином общим» и сам жизненный и творческий путь великого русского поэта. Не случайно, что даже самые близкие Федору Ивановичу люди часто теряли всякую возможность понять его мятущуюся душу.
«Он мне представляется одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души. – Так записывает о нем свои впечатления старшая дочь поэта, Анна Федоровна, наиболее близкая ему по мыслям и чувствам. – Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображение, но в нем есть что-то жуткое и беспокойное…»
Понять его до конца представлялось возможным только долго общавшимся с ним. И видимо, далеко не случайно, что первым биографом поэта стал муж Анны Федоровны, общественный деятель и публицист Иван Сергеевич Аксаков – сын известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Ивану Сергеевичу это было сделать легче, чем кому-либо другому, ибо известно, что дневниковых записей Тютчев никогда не вел, писем не хранил и совершенно не беспокоился о том, насколько полно и точно дойдут до потомков факты его биографии. Не только как член тютчевской семьи, но и как особенно близкий поэту по общественно-политическим взглядам человек, Иван Сергеевич вполне имел право быть его первым биографом. Не последнюю роль сыграл в этом и писательский талант И. Аксакова.
Уже через восемь месяцев после смерти поэта, в марте 1874 года, в одном из своих писем к Федору Васильевичу Чижову, писателю-славянофилу, Аксаков сообщал: «Я занят с утра до ночи и часть ночи; тороплюсь кончить свою работу о Тютчеве и по поводу Тютчева… Я знаю, вы не любите Тютчева или относитесь к нему с предубеждением, но беру с вас слово вперед: прочесть мою книгу от доски до доски».
Трудился Иван Сергеевич в имении жены Турово на Оке, Серпуховского уезда, в небольшом уютном двухэтажном домике с видом на зеленую пойму красавицы реки.
К лету биография была написана. Но опубликованная в сентябрьском номере журнала «Русский архив» работа была распоряжением правительства конфискована. Слишком популярен был тогда Аксаков, общественный деятель и журналист, своими статьями нередко вызывавший недовольство правящих кругов. И очередная возможность публикации его воззрений в связи с именем Тютчева, видимо, испугала цензуру. Поэтому отдельным изданием «Биография Федора Ивановича Тютчева» появилась на свет только в 1886 году. С тех пор, с аксаковских времен, полнее и достовернее Ивана Сергеевича о Тютчеве пока не сказал никто. Поэтому почитатели тютчевской поэзии до сих пор читают лишь о каких-то отдельных сторонах его жизни или творчества, сожалея, что нельзя за один раз прочесть все о всем Тютчеве. Да и возможно ли это на самом деле?..
«На первой дней моих заре…»
Примерно в тридцати километрах от древнего городка Углича лежит село Знаменское, получившее, вероятно, свое распространенное название на Руси по стоявшей в нем церкви. Кто знает, может быть, сам родоначальник славной фамилии «храбрый муж Захарий Тутчев» получил эти земли на Ярославщине от московского великого князя Дмитрия Иоанновича Донского за свою дипломатическую и ратную службу на благо зарождающегося Российского государства. С незапамятных времен служилые дворяне и ратники Тютчевы нередко встречаются среди владельцев земель в Мышкинском, Угличском и Кашинском уездах. Скорее всего, именно в селе Знаменском в 1688 году родился и прадед поэта, Андрей Данилович Тютчев, походный журнал которого с рассказами о многих ратных приключениях его владельца вполне мог читать потом и его знаменитый правнук.
Родом из-под Углича был и дед поэта, статный красавец Николай Андреевич Тютчев, секунд-майор и инженер, после выхода в отставку ставший помещиком, а затем и уездным предводителем дворянства (с последней четверти XVIII века) Брянского уезда, Орловской губернии. В 1762 году он по совету родственников выбрал в жены небогатую, но видную и домовитую владелицу подгородного села Овстуг, Пелагею Денисовну Панютину. Стараниями их и их детей Овстуг за долгие полтора столетия станет богатой родовой усадьбой Тютчевых.
Третий сын Николая Андреевича, Иван Николаевич Тютчев (1768–1846), получил образование в Петербурге, в основанном Екатериной II Греческом корпусе. В 1798 году он женился на Екатерине Львовне Толстой (1776–1866) и примерно в это же время вышел в отставку в чине поручика. Несколько лет семья прожила в Овстуге, где у молодых родились первенец Николай (1801–1870) и 23 ноября 1803 года будущий поэт Федор. После появления других детей Тютчевы все чаще подолгу гостили в Москве у тетки Екатерины Львовны, графини Анны Васильевны Остерман, а потом, когда пришла пора учения старших сыновей, купили дом в Армянском переулке в декабре 1810 года.
Главой семьи считалась Екатерина Львовна. «Маменька» – так ее называли все в доме. Происходя по матери из рода Римских-Корсаковых, она приходилась племянницей известному военачальнику, генералу Александру Михайловичу Римскому-Корсакову, сподвижнику А. В. Суворова. Ее мать, Екатерина Михайловна, умерла в 1788 году, оставив мужу, Льву Васильевичу Толстому, одиннадцать детей – трех сыновей и восемь дочерей. Старших детей отдали в учение, а большинство младших взяли на воспитание родственники. Так Екатерина Львовна в двенадцать лет попала к своей бездетной тетке, Анне Васильевне.
Муж тетки, граф Федор Андреевич Остерман (в честь кого и был, скорее всего, назван поэт), сенатор, действительный тайный советник, служил некоторое время московским генерал-губернатором, был богат, имел собственные дома в Москве и Петербурге. В одном из таких домов в древней столице, в приходе церкви Трех Святителей на Кулишках, и провела свое детство Екатерина Толстая, мать поэта, через которую он приходился родней известным дворянским родам Толстых и Остерманов.
Аксаков, узнавший Екатерину Львовну уже в преклонном возрасте, характеризовал ее как «женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитою до болезненности». «Ипохондрией» в те времена называли преувеличенное внимание к состоянию собственного здоровья. Эта склонность к преувеличению собственных недугов не помешала матери большого семейства дожить до глубокой старости, почти до порога своего девяностолетия.
Благодаря доброму, незлобивому характеру отца, Ивана Николаевича, в семье Тютчевых всегда царила спокойная, благожелательная обстановка. «Смотря на Тютчевых, – записывал в юности в своем дневнике университетский приятель поэта Михаил Петрович Погодин, – думал о семейном счастии. Если бы все жили так просто, как они».
Отец поэта, по свидетельству того же Аксакова, слыл человеком рассудительным, «с спокойным, здравым взглядом на вещи», отличался «необыкновенным благодушием, мягкостью, редкой чистотою нравов», но, к сожалению, «не обладал ни ярким умом, ни талантами».
Первым биографом Ивана Николаевича стал сын Федор, воспевший в стихах добрые качества отца. Юному стихотворцу тогда еще не исполнилось и одиннадцати лет, и чтение им стихотворения, по крайней мере у родителей, всегда вызывало слезы восторга. Стихотворение было написано ко дню рождения отца, 13 ноября, по всей вероятности 1814 года, и называлось «Любезному папеньке!»:
В сей день счастливый нежность сына Какой бы дар принесть могла! Букет цветов? – но флора отцвела, И луг поблекнул и долина…Конечно, не только для того, чтобы сделать отцу приятное в день его рождения, сын называет его «Друг истинный добра и бедных покровитель». За добрым советом, зная, что редко получат отказ, шли к Ивану Николаевичу и его дворовые, и овстугские крестьяне. Был он и хлебосольным хозяином, мог поделиться с нуждающимися деньгами. Не только жена и дети, но и слуги не слышали от него грубого слова.
1814 год. Появление первых стихотворений одного из будущих величайших поэтов России совпало со многими выдающимися событиями. Страна, только что победившая армию Наполеона, переживала громадный национальный подъем. Это было время повсеместного зарождения свободолюбивых идей, время появления первых тайных обществ в России. Прошедшая Отечественная война 1812 года уже становилась достоянием истории.
«Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године (имеется в виду 1812 год. – Г. Ч.), – писал Аксаков, – но не могла же она не оказать сильного, непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию, – что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить…» И хотя о событиях тех лет поэт много позже вспоминал лишь в двух стихотворениях «Наполеон» (1832–1850) и «Неман» (1853), годы войны для него не прошли бесследно.
В становлении поэтического таланта Тютчева большую роль сыграл его учитель русской словесности, Семен Егорович Раич, начавший занятия со своим питомцем в Овстуге весной 1813 года. Сын сельского священника Амфитеатрова, взявший себе литературный псевдоним по названию родного села Рай-Высокое, Раич после окончания семинарии не пошел по духовной стезе, увлекся стихами, мечтая поступить в Московский университет. «Маленький ростом, какой-то чернокожий, тщедушный, почти монах по образу жизни, он любил в стихах своих выражать наслаждение жизнью – буянил в стихах…» – немного желчно, но, в общем, верно вспоминал о нем Ксенофонт Алексеевич Полевой, критик, журналист, один из редакторов «Московского телеграфа». А до осуществления своей мечты Раич пошел в домашние учителя.
«…Провидению угодно было вверить моему руководству Ф. И Тютчева, вступившего в десятый год жизни, – напишет Семен Егорович в автобиографии. – Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года через три он уже был не учеником, а товарищем моим, – так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум!»
Переезд Тютчевых в Москву и житье в их доме в Армянском переулке Раича вполне устраивали. До Московского университета, куда он начал готовиться для поступления, было рукой подать. Устраивало его и летнее пребывание со своим воспитанником в подмосковном имении Тютчевых Троицком в Теплых Станах.
«Это время было одной из лучших эпох моей жизни, – записывал в биографии стареющий Раич. – С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладостных часах, когда, бывало, весной и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф[едором] И[вановичем] выходили из дому, напасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений Поэзии!»
Современники Семена Егоровича отмечали его отличное знание «классических поэтов римских и итальянских», большие способности поэта в «преподавании детям благородных семейств уроков в русской словесности». Бесспорно, что Раич приобщил Тютчева к итальянскому языку, зажег в нем любовь к латинской поэзии, сделал Горация кумиром юного поэта. Отсюда и множество ранних подражаний шедеврам латинской поэзии, встречавшихся в юношеских произведениях Тютчева.
В 1818 году Раич закончил университет со степенью кандидата прав и вновь вернулся к своим обязанностям домашнего учителя Федора Тютчева. «Вступив снова в дом Тютчевых, – вспоминал Семен Егорович, – я успел приготовить ученика своего к университету, посещал с ним частные лекции Алексея Федоровича Мерзлякова и слушал профессоров словесного факультета».
Мерзляков, светило словесного факультета Московского университета, более четверти века состоявший его деканом, был весьма колоритной фигурой московского общества. По свидетельству «Биографического словаря профессоров и преподавателей Императорского Московского университета», он «был невысокого роста, широкоплечий и плотный, грудь имел широкую, голову большую. Волосы на ней были обстрижены почти в кружало. Из-под густых бровей и длинных ресниц светились серые глаза, исполненные огня и жизни. Лицо овальное, но скулы выпуклые, рот широкий; нижняя губа несколько выдавалась, особенно во время чтения. Голос его был густ, громок, но не совсем ясен. Стихи читал он нараспев, иногда усиливая, иногда умягчая звуки голоса. Бывал почетным гостем на больших обедах, оратором за столом и в гостиной, которого все слушали. Был добр, мягкосердечен, незлобив. Очень любили студенты».
Бывал Мерзляков частым гостем и в хлебосольном доме Тютчевых, особенно с тех пор, когда младший сын Ивана Николаевича, Феденька (к тому времени три младших сына Ивана Николаевича уже умерли во младенчестве, и роль младшего теперь отводилась юному поэту), стал посещать частный пансион, который держал при своем доме маститый профессор, постоянно нуждаясь в дополнительных заработках. Вскоре Мерзляков начал выделять своего юного воспитанника, радуясь его первым стихотворным опытам.
Посещал Тютчев вместе с Раичем и Общество любителей российской словесности, созданное при Московском университете в 1811 году. Мерзляков, будучи одним из основателей Общества, и там покровительствовал своему юному воспитаннику. На тридцать третьем заседании Общества было прочитано стихотворение Тютчева «Вельможа (Подражание Горацию)». Уже на следующем заседании, 30 марта 1818 года, опять же по рекомендации Мерзлякова, юный поэт и его учитель Семен Егорович Амфитеатров были приняты в сотрудники Общества.
Конец 1817-го и начало 1818 года были для Тютчева по всем статьям полны многими литературными впечатлениями, памятными встречами. Еще 28 октября 1817 года в доме в Армянском переулке произошло важное событие. На обед к Ивану Николаевичу Тютчеву пожаловал поэт Василий Андреевич Жуковский, недавно официально назначенный преподавать русский язык в императорской семье и вот теперь приехавший вместе с ней в древнюю столицу. И эта встреча не прошла бесследно для юного поэта.
Примерно через полгода Иван Николаевич, заботясь о дальнейшей литературной судьбе сына, решил вместе с ним продолжить знакомство с маститым поэтом, навестить Жуковского. Рано утром 17 апреля он повел Федора в Кремль. Василий Андреевич, находясь при дворе, разместился в одной из келий Чудова монастыря.
О впечатлениях той поры Федор Иванович за три месяца до своей кончины продиктует жене проникновенные строки:
На первой дней моих заре, То было рано поутру в Кремле, То было в Чудовом монастыре, Я в келье был и тихой и смиренной, Там жил тогда Жуковский незабвенный…Встречался Тютчев с Жуковским и на заседаниях Общества любителей российской словесности. Согласно его уставу, сотрудники должны были ежегодно представлять по крайней мере по одному своему сочинению. Это неукоснительно соблюдал и Тютчев. На следующий год, на сорок первом заседании, 8 марта, С. В. Смирнов, один из лучших чтецов Общества, прочел перед собравшимися «Послание Горация к Меценату…», «…перевод сотрудника Ф. И. Тютчева». Это была своеобразная вариация на тему 29-й оды Горация из третьей книги «Од». «Послание…» стало первым опубликованным произведением юного поэта. Напечатано оно было в 14-й части «Трудов» Общества за 1819 год.
Увлеченный в то время Горацием и подражая ему, Тютчев как бы входил в лагерь русских поэтов конца XVIII – начала XIX века. А Мерзляков был для юного стихотворца своеобразной живой связью с ними, ибо хорошо знал собратьев по Парнасу, считал себя их современником. Понятна поэтому опека Мерзлякова, который дал Федору Тютчеву рекомендацию в сотрудники Общества, а потом рекомендовал для поступления в университет, участвовал в приемных экзаменах и, наконец, после успешных экзаменов писал прошение о зачислении своего ученика в студенты.
А еще через год, опять-таки не без рекомендации Алексея Федоровича, как одному из способнейших в стихосложении студентов, Тютчеву поручили сочинить оду на торжественный ежегодный акт университета. И Тютчев написал одическое стихотворение «Урания», за которое получил похвальный лист и приобрел благосклонность университетского начальства.
Тесные дружеские отношения, поддерживавшиеся потом на протяжении долгих лет, сложились у Федора Ивановича со студентом словесного отделения, бывшего старше его курсом, Михаилом Петровичем Погодиным. Разночинец, сын управляющего имениями графа И. П. Салтыкова, Погодин все годы учения вынужден был давать частные уроки детям в богатых дворянских семьях, чем практически и жил. Не исключено, что услугами Погодина, более прилежного в учении, пользовался и Тютчев, особенно когда дело касалось приближающихся экзаменов, а нужных конспектов у младшего из друзей под руками не оказывалось.
Чаще всего Федор Иванович и Михаил Петрович встречались в селе Троицком, под Москвой. Рядом в Знаменском, имении князей Трубецких, Погодин служил домашним учителем. Именно там летом 1820 года он начал вести дневник. Этому дневнику прежде всего мы обязаны сохранением множества интересных подробностей о студенческой и вообще московской жизни Тютчева. Погодин много и охотно записывал о своих отношениях с юным поэтом, об их бесчисленных разговорах, мыслях, круге чтения, о русских и европейских авторах понравившихся обоим книг.
«Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву, – отмечал он в августе 1820 года, – разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе… об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо… Еще разговаривал о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? О препятствиях у нас к просвещению…»
Уже одно перечисление европейских писателей вызывает уважение к друзьям, младшему из которых не исполнилось еще и семнадцати, делает честь их начитанности и широте кругозора. В числе прочитанных авторов, например, Христофор Виланд, немецкий писатель, создавший живую литературную форму рассказа, автор в то время известных романов «Арагон» и «Абдеритяне»; англичанин Джозеф Аддисон, автор знаменитой трагедии «Катон», в которой он призывал служить гражданским идеалам, беря в пример Древний Рим.
Подчеркивает их любознательность и имя выдающегося немецкого писателя-баснописца и драматурга Готхольда Лессинга, сыгравшего видную роль в истории немецкой философии и общественной мысли. А сколько ночей провели юноши над захватывающим чтением знаменитой «Исповеди» – романа Жан Жака Руссо, в котором автор не побоялся рассказать правду о самом себе! А известные трактаты Блеза Паскаля? Но любимым поэтом и драматургом Тютчева всегда оставался Фридрих Шиллер, стихотворения которого он вскоре с наслаждением начнет переводить.
Годы учения Погодина, Тютчева и их сверстников считались «патриархальною эпохою» Московского университета. «Студенческая жизнь, – вспоминал знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов, – до кончины императора Александра I была привольная. Мы не видывали попечителя – князя Оболенского, да и с ректором – Антонским – встречались вступающие в университет кутилы и забияки (видимо, имелись в виду нравоучительные беседы с ними. – Г. Ч.). Несмотря на это, я не помню ничего особенно неприличного. Скорее выдавалась и поражала нас наружность у профессоров, так как одни из них, в своих каретах четверкою, с ливрейными лакеями на запятках… казались нам важными сановниками, а другие… ездившие на ваньках, во фризовых шинелях – имели вид преследуемых судьбою париев».
Можно сказать, что университетские науки после неплохой домашней подготовки давались юноше сравнительно легко. Знание с детства французского и немецкого языков, широкие интересы Тютчева, эрудиция преподавателей, хороший круг друзей в определенной мере дают представление о том, как сформировался человек, о котором десять лет спустя, даже не подозревая о большом поэтическом таланте его, Иван Васильевич Киреевский скажет, что «у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам…».
Внимательное знакомство с юношеским периодом жизни поэта и подскажет нам секрет того, как мог в довольно средней дворянской семье вырасти по-европейски образованный дипломат, которого вскоре после начала его дипломатической службы, в середине двадцатых годов прошлого века, величайший немецкий поэт Генрих Гейне будет считать одним из своих лучших русских друзей. Известный немецкий философ Фридрих Шеллинг также высоко оценит ум и знания юного русского дипломата.
Успехи сына в науках, его внутреннее возмужание было замечено и родителями. Они дали повод маменьке попытаться с помощью протекций и родственных связей помочь Федору окончить университет в два года вместо трех и устроиться поскорее на службу.
В августе 1821 года Погодин пишет одному из университетских приятелей: «Тютчеву, кажется, вышло разрешение на экзамен. Князь Андрей Петрович Оболенский (попечитель) был у графини Остерман-Толстой, тетки Тютчева, и сказывал ей, что дело идет уж из Питера». Это и было дело о разрешении Тютчеву сдачи экзаменов за полный курс окончания университета. При этом было принято во внимание, что юный поэт три года был вольнослушателем, когда он вместе с Раичем посещал университет до поступления в него.
Результаты экзаменов превзошли все ожидания, о чем и был составлен соответствующий акт, в котором, в частности, говорилось, что «Тютчев не только достоин звания действительного студента, но и звания кандидата словесных наук…». Это утверждение «в кандидатском достоинстве» состоялось 23 ноября 1821 года, в день восемнадцатилетия Федора Тютчева, а через три недели он уже держал в руках аттестат об окончании Московского университета «в степени кандидата Отделения словесных наук».
Шли к концу и посещения поэтом Общества любителей российской словесности. На пятьдесят шестом заседании Общества один из лучших чтецов его Федор Федорович Кокошкин прочитал тютчевское «Весеннее приветствие стихотворцам», которое вскоре было опубликовано в двадцатой части «Трудов» Общества. И наконец, 18 марта 1822 года, когда Тютчев уже был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел и находился в Петербурге, С. В. Смирнов читал переложение Тютчевым элегии Ламартина «Уединение», опубликованное потом сразу в нескольких изданиях под заголовком «Одиночество».
Последний раз Тютчев присутствовал на заседании Общества 27 мая 1822 года, вскоре по возвращении из Петербурга, где его родственник, известный герой Кульмской битвы, генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман-Толстой, выхлопотал для племянника должность сверхштатного чиновника при русской дипломатической миссии в баварской столице. Тютчев прощался с друзьями, старыми профессорами, с известными поэтами Москвы.
«Он едет, – писал Погодин в дневнике, – при посольстве в Мюнхен. Чудесное место. Он спросил меня о московских, я его о петербургских литературных новостях. Дал слово писать из Мюнхена».
А через две недели в дорожной карете поэт вместе со своим покровителем Остерманом-Толстым выедет за последний шлагбаум Москвы. На козлах кареты, рядом с кучером, будет восседать его старый дядька, Николай Афанасьевич Хлопов, «ходивший за дитятею с его четырехлетнего возраста».
Свободолюбивые порывы
Еще во времена учения Тютчева в университете многие из его сверстников-студентов зачитывались первыми вольнолюбивыми стихотворениями молодого Пушкина, широко расходившимися в списках в обеих столицах. Особенно популярны были пушкинские «Деревня» и «Вольность», чтение которых повсеместно преследовалось, возбранялось начальством. Но разве грозными указаниями можно было что-либо запретить, особенно молодежи? Тем более что в Петербурге и Москве уже широко вело агитацию пришедшее на смену Союза спасения новое, более законспирированное и организованное общество Союз благоденствия. И о его существовании кое-кто из дворянской молодежи догадывался.
Трудно предположить, что знал об этом Тютчев, но он как-то незаметно для себя оказался в тесном кругу настоящих и бывших членов тайных обществ. Любимый учитель Раич вступил в члены Союза благоденствия. Вскоре туда же вступил и двоюродный брат поэта, живший с ним в одном доме, питомец училища колонновожатых Алексей Шереметев. С начала двадцатых годов в дом Тютчевых, к жившей у них тетке Федора, Надежде Николаевне Шереметевой, мечтавшей выдать замуж свою младшую дочь Анастасию, зачастил Иван Дмитриевич Якушкин, один из видных деятелей тайных обществ. Часто бывали в доме в Армянском переулке и друзья Николая Тютчева и Алексея Шереметева по училищу колонновожатых – Петр Муханов, Александр Корнилович и другие молодые люди, ставшие в дальнейшем членами Северного и Южного тайных обществ. Всех их знавал Федор Тютчев, был с ними в хороших отношениях, а с некоторыми даже дружил. И не было здесь ничего удивительного.
О подобном много лет спустя писал в своих воспоминаниях декабрист Александр Розен: «Члены общества собирались в своих кружках, все знали их по их умственным занятиям, по их жизни благонравной, по заслуженному уважению, которое явно им оказывалось и в полках, и в обществе; так мудрено ли, что наблюдатели, жаждавшие познаний и значения в обществе, пристали к ним и сделались членами сперва литературных и учебных обществ, а потом политических?»
Но, как оказалось, не все «наблюдатели, жаждавшие познаний», примкнули к тайным обществам. В дальнейших событиях по разную сторону баррикад оказались, например, высокопоставленные военные – братья Михаил и Алексей Орловы, выпускники училища колонновожатых братья Петр и Павел Мухановы и другие. Хорошо еще, если те, которые не примкнули к тайным обществам, оказались лишь в роли сторонних наблюдателей развивающихся революционных событий. А ведь были среди них и прямые пособники действий правительства.
1 ноября 1820 года Погодин записывает в дневнике: «Говорил с Тютчевым о молодом Пушкине, об оде его „Вольность“, о свободном, благородном духе мыслей, появившемся у нас с некоторого времени…» Чтение подобных вольнолюбивых стихов чаще всего происходило в кружке Раича, который жил в это время на Большой Дмитровке, при училище колонновожатых, преподавая русскую словесность младшему сыну начальника училища генерал-майора Н. Н. Муравьева. Многие питомцы этого учебного заведения могли догадываться о той роли, которую играл в организации тайных обществ старший сын Николая Николаевича, полковник Генерального штаба Александр Николаевич Муравьев. Их любимым преподавателем был член литературного кружка Раича штабс-капитан Петр Колошин, также один из организаторов Союза спасения. Заниматься поэзией к Семену Егоровичу приходили юноши из самых разных семей москвичей. Кружку покровительствовал даже генерал-губернатор Москвы князь Дмитрий Владимирович Голицын. Кроме Тютчева и Погодина кружок посещали юный князь Владимир Федорович Одоевский, Степан Петрович Шевырёв – будущий профессор Московского университета, Дмитрий Петрович Ознобишин, Николай Васильевич Путята, дочь которого впоследствии выйдет замуж за сына Тютчева Ивана Федоровича, и другие. Многие из них станут в дальнейшем известными литераторами, деятелями русской культуры.
Делая запись в дневнике, Погодин еще не подозревал, что у его приятеля уже готов ответ на оду Пушкина. В начале ноября Федор сделал последние поправки и набело переписал стихотворение, назвав его «К оде Пушкина на Вольность»:
Огнем свободы пламенея И заглушая звук цепей, Проснулся в лире дух Алцея — И рабства пыль слетела с ней…Обличительные строки Пушкина, направленные против тиранов древности (а на самом деле разящие современных!), как будто находят сочувствие у Тютчева. В них он видит пробуждение «духа Алцея» – греческого поэта-тираноборца VII–VI веков до н. э., – во время которого искры от «огня свободы» Божьим пламенем «ниспадали на чела бледные царей». Но далее в стихотворении, приветствуя способность Пушкина «вещать тиранам закоснелым» святые истины свободы, Тютчев в то же время призывает его только «смягчать» сердца царей, но ни в коей мере не «тревожить» их. Ратуя за спокойствие и рассудительность в поэтических строках, Тютчев категоричен в сохранении «блеска» царского венца, самой монархии.
В стихотворении «К оде Пушкина на Вольность» заметно, что политическое мировоззрение семнадцатилетнего Тютчева в ту пору отмечено чертами ограниченного свободомыслия, сочетающегося с твердой приверженностью к устоям русского монархического строя. Мало того, в пушкинской оде были такие места, которые заставили Тютчева – питомца стародворянского гнезда, принадлежащего к привилегированному классу, – с опаской насторожиться. Ему почудилось в словах Пушкина, что в «Вольности» тот слишком смело играет о огнем. Например, он в открытую напоминает тиранам мира, в частности царю Александру I, об убийстве Павла I в Михайловском замке в Петербурге 11 марта 1801 года.
То, что Тютчев написал – пусть даже и столь осторожный, по мнению друзей, – ответ на оду, способствовало его скорому определению к гражданской службе. Про стихотворение узнала маменька Екатерина Львовна и пришла в ужас: «Как мог мой Федор написать „тиранам закоснелым“, подумать только! А если прознаются про это в Петербурге? Ведь вот, Сашка Пушкин: уехал в ссылку на перекладных – Аракчеев небось не дремлет. Не помогут нам тогда и влиятельные родственники, и друзей нужных не сыщешь!»
Тогда-то и появилось прошение студента Тютчева о разрешении ему досрочно сдать экзамены за полный курс учения в университете. Маменька хотела поскорее убрать сына из университета, который она с некоторых пор не без основания считала рассадником крамольных мыслей. Так и оказался юный дипломат в карете, увозящей его в благонамеренную баварскую столицу.
Мировоззрение Тютчева характеризует и его стихотворение «14-ое декабря 1825», написанное им, скорее всего, во второй половине 1826 года по слухам и официальным сведениям, доходившим из России в Мюнхен. Но этому сочинению предшествовал более чем полугодовой отпуск, который молодой камер-юнкер (это звание он получил, кстати, в честь торжеств по поводу рождения великой княжны Александры, 14 июня 1825 года) с 11 июня того же года проводил в Москве.
«Увидел Тютчева, приехавшего из чужих краев, – записывал Погодин в дневнике 20–25 июня. – Говорил с ним об иностранной литературе, о политике, образе жизни тамошней и пр. Мечет словами, хотя и видно, что он там не слишком много занимался делом; он пахнет Двором. – Отпустил мне много острот. „В России канцелярия и казармы. – Все движется около кнута и чина. – Мы знали афишку, но не знали действия и т. п.“».
Это как будто бы отличное от взглядов двора мнение юного дипломата, кажется, больше походило на высказывания будущих декабристов. Но как будет видно дальше, о выступлении декабристов, которое он вполне мог наблюдать воочию из окон дома дяди Остермана на Английской набережной в тот памятный для России день 14 декабря 1825 года, он выскажет свое мнение в стихах.
Ну а тогда, летом 1825 года, в доме отца, в Армянском переулке, вновь зажили два брата – Николай, капитан Гвардейского генерального штаба, и Федор, дипломат. Отдельный вход на третий этаж со своими комнатами чуть позже получил и бывший в Москве проездом их двоюродный брат, лейтенант 8-го гвардейского экипажа, будущий декабрист Дмитрий Иринархович Завалишин. Надежда Николаевна Шереметева ожидала здесь зятя Ивана Дмитриевича Якушкина с семьей. Молодежь часто ездила в гости, где в светских и литературных гостиных особенно в ходу были списки новых стихотворений Пушкина и Грибоедова.
«Привезенным мною экземпляром „Горе от ума“, – вспоминал Завалишин, – немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович… и Николай Иванович, офицер Гвардейского генерального штаба, а также и племянник Ивана Николаевича Алексей Васильевич Шереметев, живший у него в доме…
Как скоро убедились, что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие были наполнены самыми грубыми ошибками и представляли, сверх того, значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах и прочли, между прочим, у кн. Зинаиды Волконской, за что и чтецам и мне порядочно-таки намылила голову та самая особа, которая в пьесе означена под именем кн. Марьи Алексеевны».
Спустя примерно полгода после своего возвращения в Мюнхен Тютчев написал о том событии стихотворение «14-ое декабря 1825», по всей вероятности выразив в нем свое отношение к происшедшему тогда. Начиналось оно такими словами:
Вас развратило Самовластье, И меч его вас поразил…Из мемуарной и эпистолярной литературы нам известно, что под словом «Самовластье» обычно подразумевают самодержавие. Отсюда у поэта и мысль о том, что самодержавие своим произволом, неисполнимыми посулами «развратило» граждан, в том числе декабристов, и они – «жертвы мысли безрассудной» – поднялись против крепостнического строя. Но в то же время это «Самовластье», его карающий «меч» поразили членов тайных обществ, ибо на стороне царизма был «неподкупный» закон. Интересно, что во второй строфе стихотворения Тютчев сравнивает царское правительство, царизм с «вековой громадой льдов», с «вечным полюсом», растопить который, конечно, не хватило бы всей «вашей крови скудной». По всей видимости, поэт считает бесцельной гибель декабристов, «скудная» кровь которых не оставляет после себя никаких следов.
В этом стихотворении, как видим, ярко проявился противоречивый характер его творца, так и не выразившего своего четкого отношения к происшедшему в России событию.
«Тебя ж, как первую любовь…»
О личных встречах Пушкина и Тютчева историки литературы, биографы поэтов, вероятно, так и не смогут сказать ничего положительного. Думается, что одна из таких встреч могла произойти в их далеком детстве, перед самой войной 1812 года, когда они одновременно жили с родителями в Белокаменной. Как известно, Александр Пушкин вместе с дядей Василием Львовичем Пушкиным выехал в Петербург для определения в Лицей в июле 1811 года. А до этого племянник с дядей часто бывали в красивом особняке – «доме-комоде» Трубецких на Покровке. Туда же для завязывания знакомств родители Тютчевы нередко отправляли старших сыновей, Николеньку и Феденьку. Трубецкие устраивали для своих детей и детей московской знати детские балы с танцами.
Братья Тютчевы всегда были необычайно стеснительны, дичились незнакомых детей. Однажды на таком детском балу они увидели кудрявого непоседливого мальчика, чем-то смешившего Александрину Трубецкую, младшую дочь хозяев. «Кто это?» – спросил брата Феденька. «Сашенька Пушкин, племянник Василья Львовича, поэта», – ответил старший брат и подвел младшего к смеющимся детям поближе. Возможно, так в первый и в последний раз встретились два будущих русских поэта, о чем, естественно, быстро потом забыли.
Прошли годы. И Тютчев, восторгаясь европейской поэзией, не забывал и про свою, российскую. Он уже знал про ранние успехи в поэзии Пушкина, начал следить за его творчеством, читал стихотворения и в списках, и в отдельных изданиях. Пример тому – ода «Вольность». Очень возможно, что и Пушкин вскоре узнал о стихотворном ответе на его оду еще никому не известного московского студента. Об этом Александру Сергеевичу мог сообщить его кишиневский приятель, «душа души» поэта, бывший питомец училища колонновожатых, прапорщик Владимир Горчаков, который, будучи в Москве, заезжал в гости к Алексею Шереметеву в Армянский переулок и слушал там стихи Тютчева.
«В этих стихах, как мне кажется, – вспоминал позднее Горчаков, – видны начатки сознания о назначении поэта, благородность направления, а не та жгучесть, которая почасту только что разрушает, но не творит…» Вот тогда-то, вернувшись в Кишинев, Горчаков и мог рассказать Пушкину о литературных новостях Москвы, показать другу список-отклик юного поэта на его знаменитую оду.
Прошло еще десятилетие. Даже уехав за границу на долгие годы, Федор Иванович не переставал следить за новыми произведениями собрата по перу и спорить с вновь приобретенными приятелями о достоинствах пушкинских стихов.
Характерно в этом отношении письмо Тютчева к приятелю по службе в Мюнхене Ивану Сергеевичу Гагарину, которое явилось как бы продолжением их нескончаемых разговоров о достоинствах русской поэзии и прозы. В письме были, в частности, и такие строки: «Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики, которая составляет язву или, скорее, первородный грех французского ума. Вот отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами…»
А Гагарин быстро оценил поэтический талант своего мюнхенского друга, поэтому при переезде на службу в Петербург решил незамедлительно обнародовать стихи Тютчева в «Северной Пальмире», выбрав для них в издатели самого Пушкина, его журнал «Современник». И осуществил он передачу подборки стихотворений редактору журнала через Василия Андреевича Жуковского и Петра Андреевича Вяземского, которым также чрезвычайно понравились стихи, привезенные из Германии.
«Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное его стихов, – вспоминал известный публицист-славянофил Юрий Федорович Самарин. – Он носился с ними целую неделю…» С тютчевскими стихотворениями, полученными еще и от Раича из Москвы, составилась значительная подборка, ее Пушкин с друзьями даже хотел выпустить отдельной книжкой. Но эту затею не удалось тогда осуществить, зато в третьем номере «Современника» за 1836 год его издатель поместил сразу шестнадцать больше всего понравившихся ему стихотворений. Все они были объединены общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» и подписаны инициалами Ф. Т. Видимо, подпись была сделана по желанию автора, который и раньше неоднократно практиковал подобное, отличаясь полным равнодушием к литературной известности. Еще восемь стихотворений Тютчева были опубликованы в следующем, четвертом номере журнала.
Не обошлось и без трудностей. Наряду с запрещением цензурой статьи самого редактора журнала о Радищеве, «Записки о древней и новой России» Николая Михайловича Карамзина, было запрещено и стихотворение Тютчева «Два демона ему служили…». Цензор обвинял автора в неясности мысли, «которая может вести к толкам, весьма неопределенным».
Навсегда испортила цензура и второе стихотворение Тютчева «Не то, что мните вы, природа…», вторая и четвертая строфы из этого стихотворения чем-то не понравились тому же цензору и по его указанию были вычеркнуты. В самый последний момент Пушкину все же удалось поставить на место выброшенных строк отточия, а сами строки оказались утерянными безвозвратно.
Так закончилась эта история с публикацией двадцати четырех стихотворений Тютчева в известном литературном журнале. Стихотворения поэта продолжали публиковаться в „Современнике“ и после смерти Пушкина, вплоть до 1840 года. Не исключена возможность, что многие из них были отобраны для публикации еще Александром Сергеевичем и выходили потом как бы с его молчаливого благословения.
Слухи о хлопотах Пушкина за произведения авторов «Современника» не могли не дойти до Тютчева. И поэтому понятна его давняя мечта о встрече, теперь уже личной, с поэтом, чьи произведения давно уже стали знаменем всей читающей России. Можно было понять и всю его горечь и досаду от мысли, что не успел. Не успел застать живого Пушкина – опоздал всего на три месяца.
Приехав с семьей в 1837 году в отпуск в Россию и бродя в одиночестве по летнему Петербургу, Тютчев как бы намеренно искал встреч с теми знакомыми, которые могли бы ему еще раз рассказать о трагедии, случившейся в конце января. Его друг Гагарин через много лет в письме за ноябрь 1874 года вспоминал об одной такой встрече с поэтом: «Однажды я встречаю Тютчева на Невском проспекте. Он спрашивает меня, какие новости; я ему отвечаю, что военный суд только что вынес приговор Геккерну (Дантесу). – К чему он приговорен? – Он будет выслан за границу в сопровождении фельдъегеря. – Уверены ли вы в этом? – Совершенно уверен. – Пойду, Жуковского убью».
Можно вполне допустить, что за давностью лет Гагарин слишком приблизительно изложил свой разговор с Федором Ивановичем. Но не вызывает сомнения то, что Тютчев глубоко к сердцу принял все случившееся в Петербурге в его отсутствие. Вот откуда злой сарказм в его словах – ответах Ивану Сергеевичу Гагарину. И что же еще ему оставалось говорить, когда подлый убийца величайшего русского поэта был всего лишь в сопровождении фельдъегеря выслан за границу?
Так ясно представляется долго бродивший по пустынным петербургским улицам поэт. Уставший, полный грустных дум, возвратился он наконец в гостиницу. И хотя за окнами было совсем светло – белые ночи царили в это время года, – он велел задернуть шторы и принести свечи. Долго он глядел на оплывающий воск и наконец взялся за перо. Мысли сами ложились на бумагу, их не надо было подгонять:
Из чьей руки свинец смертельный Поэту сердце растерзал?..Это стихотворение получило потом краткое название «29-ое января 1837». Через некоторое время Тютчев, совершенно не заботящийся о дальнейшей судьбе своих произведений, подарил рукопись тому же Гагарину, в бумагах которого она и пролежала около сорока лет. О публикации ее в то время нечего было и думать. Стихотворение увидело свет только после смерти автора, оно было опубликовано в 1875 году в газете-журнале «Гражданин».
А журнал «Современник» и после гибели Пушкина стараниями его друзей продолжал радовать своих читателей. Теперь одним из его ревностных подписчиков стал Тютчев. Продолжить подписку на очередной год он просил одного из новых редакторов журнала, князя Вяземского: «Благоволите, князь, простить меня за то, что, не имея положительно никаких местных знакомств, я беру на себя смелость обратиться к вам с просьбой не отказаться вручить кому следует причитающиеся с меня 25 рублей за подписку на 4 тома „Современника“. В первом из них есть вещи прекрасные и грустные. Это поистине замогильная книга, как говорил Шатобриан, и я могу добавить с полной искренностью, что то обстоятельство, что я получил ее из ваших рук, придает ей новую цену в моих глазах. Примите, князь, уверение в моем особом уважении.
Ф. Тютчев»
Через некоторое время поэт опять надолго прощался с Родиной. На этот раз он отправлялся на пост старшего секретаря русской дипломатической миссии в Турине.
«Я встретил вас…»
Характеризуя творческий процесс Тютчева, Аксаков писал, что «стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов». В отношении «иных поэтов» все правильно: у большинства из них стихи действительно можно назвать «плодом труда». Стихи же Тютчева можно вполне считать плодом раздумий его души, души мятущейся или негодующей, влюбленной или ненавидящей, как бы поэтическим завершением его духовной мысли. Поэтому вполне уместны слова первого биографа, что поэт «не писал» стихи, а «только записывал», и чаще всего «на первый попавшийся лоскут» бумаги.
Но, как кажется, есть у поэта одно стихотворение, которое он писал почти всю творческую жизнь, и думается, не напиши он ничего более, кроме этого стихотворения, то и тогда он бы мог стать на ту высоту, на которой стоит сейчас. Ведь значение поэта никогда не определялось количеством написанного…
Редко кто сейчас не знает этих замечательных строк о любви, которые теперь чаще поются, нежели декламируются:
Я встретил вас – и все былое В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое — И сердцу стало так тепло…Можно предположить, что поэт начал писать эти строки еще в цветущей юности, а закончил уже в преклонном возрасте, почти полвека спустя. Но и в начале зарождения этих строк, и тогда, когда стихотворение было окончено, Тютчевым владело одно и то же чувство, которое он бережно нес в себе столько лет и в котором не побоялся признаться на самом краю жизни. И обращено это чувство было к Амалии Максимилиановне Крюднер.
Они познакомились, вернее всего, во второй половине 1823 года, когда, приписанный сверхштатным чиновником к русской дипломатической миссии в Мюнхене, двадцатилетний Федор Тютчев уже освоил свои немногочисленные служебные обязанности и стал чаще появляться в великосветском обществе. Пятью годами моложе его была графиня Амалия Лерхенфельд. Она была побочной дочерью принцессы Турни-Таксис, родной сестры королевы Луизы – матери императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. Отец Амалии, дипломат, граф Максимилиан Лерхенфельд, был в тридцатых годах XIX века баварским посланником в Петербурге. Разное положение в обществе юной графини и незнатного русского дипломата с лихвой окупалось их влечением, которое молодые люди почувствовали друг к другу с первых встреч.
Пятнадцатилетняя красавица быстро взяла под свое покровительство превосходно воспитанного, чуть застенчивого молодого человека. Теодор (так, на немецкий манер, звали теперь Федора Ивановича) и Амалия совершали частые прогулки по зеленым, полным древних памятников улицам Мюнхена. Их восхищали и поездки по дышащим стариной предместьям, и дальние прогулки в карете к прекрасному голубому Дунаю, с шумом пробивающему дорогу сквозь восточные склоны Шварцвальда. О тех временах осталось слишком мало сведений, но зато картины прошлого воссоздают многие стихотворные воспоминания Тютчева. И среди них одно из главных: «Я помню время золотое…»
Это как раз то стихотворение, вспоминая которое Николай Алексеевич Некрасов в своей статье «Русские второстепенные поэты» замечал, что от него «не отказался бы и Пушкин». К мюнхенскому периоду первой любви поэта можно отнести еще стихотворение «К. Н.» («Твой милый взор, невинной страсти полный…»), «К Нисе», «Проблеск» и, может быть, еще и другие, о которых можно только догадываться, ибо поэт не любил раскрывать свои сердечные тайны.
Во всяком случае, за год их знакомства, того самого «времени золотого», Тютчев был настолько очарован своей юной избранницей, что стал всерьез подумывать о женитьбе. Графиня в свои шестнадцать лет выглядела очаровательно, у нее было много поклонников, что, видимо, вызывало ревность поэта. В числе ее поклонников оказался и барон Александр Сергеевич Крюднер, второй секретарь русского посольства, коллега Тютчева. Набравшись смелости, Федор Иванович решился просить руки Амалии. Но простой русский дворянин показался ее родителям не такой уж выгодной партией для их дочери, и они предпочли ему барона Крюднера.
По настоянию родителей Амалия, несмотря на нежные чувства, которые она питала к Тютчеву, все же дала согласие на брак с Крюднером. Юный дипломат был совершенно убит горем. Тогда-то, по семейным преданиям, и должна была, по всей вероятности, произойти дуэль Федора Тютчева с кем-то из его соперников или даже с одним из родственников Амалии. Но дуэль, к счастью, не состоялась…
Неизвестно, пожалела ли потом Амалия Максимилиановна о своем замужестве, но дружеские чувства к поэту сохранила и при каждом удобном случае оказывала Федору Ивановичу любую, хоть малую, дружескую услугу. Она-то и привезла в Петербург Гагарину тютчевские стихотворения, потом частично напечатанные в пушкинском «Современнике».
А Федор Иванович отчего-то считал ее брак не вполне удачным. Уже после переезда Крюднеров в Россию он пишет родителям в январе 1837 года: «Видите ли вы иногда г-жу Крюднер? Я имею основания предполагать, что она не так счастлива в своем блестящем положении, как бы я того для нее желал. Милая, прелестная женщина, но какая несчастливая! Она никогда не будет так счастлива, как она того заслуживает. Спросите ее, когда вы ее увидите, помнит ли она еще о моем существовании…»
Время покажет, что ни она, ни он не забудут своей юной привязанности. А вот была ли, по утверждению Тютчева, несчастливой женщина, вызывавшая восхищение величайших поэтов XIX века? Так, Генрих Гейне, живя после Мюнхена во Флоренции, в одном из писем сообщает Тютчеву: «Я ходил в Трибуну принести дань восхищения Венере Медицейской. Она поручила мне передать привет ее сестре, божественной Амалии». И видимо, не зря сравнивает ее великий немецкий поэт с богиней красоты. Эта «божественная Амалия» – та самая баронесса Крюднер, которая в свой приезд в Петербург очарует и Александра Сергеевича Пушкина.
О ее появлении в Северной столице рассказывают письма князя Вяземского жене в июле 1833 года. Сообщая о вечере у графини Бобринской, он добавляет: «…была тут приезжая саксонка, очень мила, молода, бела, стыдлива. Я обещал Люцероде (саксонский посланник в Петербурге. – Г. Ч.) сказать тебе, что он ее не казал людям из ревности, а выпустил в свет только перед самым отъездом ее».
На другой день, в письме от 25 июля, он доверительно пишет жене о встрече Пушкина с Крюднер: «Вчера был вечер у Фикельмона… было довольно вяло. Один Пушкин, palpitoit de l’interêt du moment («трепеща от волнения»), краснея, поглядывал на Крюднершу и несколько увивался вокруг нее». И еще через несколько дней, в новом письме, Петр Андреевич сообщал: «Вчера Крюднерша была очень мила, бела, плечиста. Весь вечер пела с Виельгорским немецкие штучки. Голос ее очень хорош».
В тридцатых годах XIX века, когда Тютчев еще находился за границей, Амалия Максимилиановна не переставала блистать в свете, восхищая своим умом, красотой не только мужчин, но и женщин. Так, по поводу бала 21 января 1837 года у австрийского посланника Фикельмона Александра Петровна Дурново запишет в своем дневнике: «Крюднер действительно очень красивая, такая прекрасная кожа, черты такие тонкие».
Располагая большими связями при русском дворе, будучи близко знакомой с всесильным графом Бенкендорфом, она через него оказывала Федору Ивановичу и его семье дружеские услуги. Амалия Максимилиановна, например, во многом способствовала переезду Тютчевых в Россию и получению Федором Ивановичем должности переводчика в Департаменте различных податей и сборов.
Поэт всегда страшно неудобно чувствовал себя, принимая эти услуги. Но иного выхода у него, обремененного большой семьей и нередко долгами, просто не было. Еще из Мюнхена в письме к Гагарину в Петербург, хваля душевные качества Крюднер, он добавляет: «Мне, само собою разумеется, до смерти хочется написать госпоже Амалии, но мешает глупейшее препятствие. Я просил ее об одном одолжении, и теперь мое письмо могло бы показаться желанием о нем напомнить. Ах, что за напасть! И в какой надо было быть мне нужде, чтобы так испортить дружеские отношения!.. И однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным».
Так и читаешь между строк, что она до сих пор для него много значит… В своей долгой жизни они встречались не часто. Но эти редкие встречи радовали обоих. Например, в июле 1840 года они встретились в Тагернзее – живописной местности недалеко от Мюнхена, где Тютчевы и Крюднеры отдыхали семьями.
Описывая в письме родителям свой отдых, Тютчев с радостью и в то же время с оттенком грусти сообщает им: «Вы знаете мою привязанность к госпоже Крюднер и можете легко себе представить, какую радость доставило мне свидание с нею. После России это моя самая давняя любовь. Ей было четырнадцать лет, когда я увидел ее впервые. А сегодня 2 (14) июля четырнадцать лет исполнилось ее старшему сыну. Она все еще очень хороша собой, и наша дружба, к счастью, изменилась не более, чем ее внешность».
Дружен был по-прежнему Федор Иванович и с мужем Амалии Максимилиановны, бароном Александром Сергеевичем Крюднером. Александр Сергеевич был даже шафером на свадьбе поэта…
С годами Тютчев и Амалия Максимилиановна встречались все реже и реже. Еще в 1842 году барон Крюднер был назначен военным атташе при русской дипломатической миссии в Швецию. В 1852 году он скончался. Через некоторое время его вдова вышла замуж за графа Николая Владимировича Адлерберга, генерал-майора, впоследствии финляндского генерал-губернатора, члена Государственного совета. У Тютчева были свои заботы – увеличение семьи, служба, которая так и осталась ему в тягость…
И все-таки судьба еще дважды подарила им дружеские свидания, ставшие достойным эпилогом их многолетней привязанности. В июле 1870 года Федор Иванович лечился в Карлсбаде. В это время сюда, на целебные воды, съезжалась европейская и русская знать, многие были знакомы Тютчеву. Но самой радостной для него стала встреча с Амалией Максимилиановной, которая с мужем также приехала на лечение.
Прогулки с пожилой, но все еще сохранившей привлекательность графиней вдохновили поэта на одно из самых прекрасных стихотворений. 26 июля, возвратившись в гостиницу после прогулки, он на одном дыхании написал свое стихотворное признание: «Я встретил вас – и все былое…» И здесь, вопреки своей привычке не давать заглавия интимным стихотворениям или, во всяком случае, скрывать их за ничего не значащими буквами, он поставил впереди своего сочинения вполне определенные инициалы: К. Б. Но и они мало бы что сказали любителю поэзии, не будь в стихотворении до сердечного трепета знакомого признания про «время золотое». Да и сам поэт, возвратившись на Родину, поведал своему другу и сослуживцу по Комитету цензуры иностранной Якову Петровичу Полонскому, кому оно посвящено. И Полонский подтвердил потом, что инициалы К. Б. обозначают сокращение переставленных слов: баронессе Крюднер.
Последняя их встреча произошла 31 марта 1873 года, когда у своей постели уже разбитый параличом поэт вдруг увидал Амалию Максимилиановну. Лицо его сразу просветлело, в глазах показались слезы. Он долго молча на нее смотрел, не произнося от волнения ни слова.
А на следующий день Федор Иванович продиктовал несколько слов в Москву дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюднер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй». Амалия Крюднер пережила своего поэта на пятнадцать лет.
К сожалению, стихотворение «К. Б.» при жизни Тютчева не успело получить широкой известности. Напечатанное впервые в 1870 году, в декабрьском номере небольшого петербургского журнала «Заря», органа позднего славянофильства, оно было почти забыто. И лишь спустя двадцать два года, как новое, оно было опубликовано в «Русском архиве».
Стихотворение не было замечено и большими русскими композиторами. Музыку на эти стихи писали в конце XIX века С. Донауров и позже А. Спирро, но эта музыка больше напоминала медленный вальс, чем песню или романс, и поэтому не прижилась. Ближе всего к исполняемой ныне мелодии подходила музыка талантливого русского композитора Л. Малашкина, автора оперы «Илья Муромец» и симфонии «Жизнь художника», достигшего своего творческого расцвета в конце семидесятых годов XIX века и примерно тогда же написавшего романс на стихи Тютчева.
А возрождением романса мы обязаны замечательному российскому певцу Ивану Семеновичу Козловскому, который начал исполнять романс «Я встретил вас…» в своей аранжировке в начале пятидесятых годов XX века. Этот романс много лет назад он, в свою очередь, услышал от народного артиста Ивана Михайловича Москвина и потом записал его по памяти. Простая задушевная мелодия полюбилась слушателям, легко запоминались и волнующие слова романса. Его запели повсюду. И теперь с каждым годом он становится все популярнее, так же как стихотворение величайшего русского поэта.
«Опять увиделся я с вами…»
В феврале 1826 года, вскоре по возвращении из полугодового отпуска в Россию, Тютчев, опять-таки по страстной любви, женился на вдове одного из российских дипломатов барона Александра Петерсона, Элеоноре Петерсон, урожденной графини Ботмер. Вероятно, этот брак поначалу можно было считать гражданским. О тайном браке Тютчева упоминает Генрих Гейне. В то время Элеонора, вероятно лютеранского вероисповедания, решала еще и свои наследственные дела после смерти мужа, что и объясняло отсрочку в законном бракосочетании. В 1829, 1834 и 1835 годах у Тютчевых родились дочери Анна (в замужестве Аксакова), Дарья и Екатерина.
Ничто, казалось бы, не могло омрачить счастливого для поэта брака, он не переставал восхищаться заботливостью и практичностью жены в их материальных затруднениях в связи с увеличивающейся семьей. Осенью 1837 года Тютчев после отпуска в Россию получает назначение на пост первого секретаря русской дипломатической миссии в Турин и отправляется туда пока один. И вот в июне 1838 года, когда Элеонора Тютчева с дочерьми плыла к мужу, на пароходе «Николай I» случился пожар. Мужественная женщина спасла детей, но от сильной простуды и нервного потрясения тяжело заболела и 27 августа того же года умерла в Турине. Тютчев очень переживал смерть жены; по свидетельству дочерей, за ночь, проведенную у гроба Элеоноры, он совершенно поседел, а ведь тогда ему исполнялось всего лишь тридцать пять лет.
В июле 1839 года произошло бракосочетание Тютчева с баронессой Дернберг, которое поэт совершил «ради покоя и воспитания своих детей». Эрнестина Федоровна действительно оказалась заботливой матерью трем дочерям Федора Ивановича, а ему – подлинным другом и советчицей на всю их долгую совместную жизнь. В новой семье у поэта родились дочь Мария (1840), сыновья Дмитрий (1841) и Иван (1846). Уже во втором браке Тютчев окончательно решает возвращаться в Россию. Свое желание он осуществляет в сентябре 1844 года, высадившись с парохода в Кронштадте вместе с женой и детьми Марией и Дмитрием.
Как мы уже говорили, Тютчев родился в Овстуге. Но так уж сложилась жизнь его, что буквально по пальцам можно было пересчитать годы, когда он посещал свое родовое гнездо. Но и вдали от родных мест память о красотах придеснянского края никогда не покидала поэта. И как доказательство любви к родине поэт оставил нам стихи, написанные на Брянщине. Пожалуй, одни из самых лучших в его поэзии.
В 1846 году Тютчеву наконец предстояло более чем через четвертьвековую разлуку побывать в Овстуге. И тому было немало причин. В первую очередь надо было вместе с недавно вышедшим в отставку братом, Николаем Ивановичем, заехать в Москву из Петербурга, где поэт обосновался с семьей, чтобы после свиданий с матерью и сестрой Дарьей Ивановной Сушковой вдвоем отправиться в Овстуг – решать наследственные дела.
Эта встреча родных состоялась в самом начале августа. «На этот раз я приехал в Москву в великолепный вечер, – писал Федор Иванович жене. – Я смотрел ради вас на ее купола и пестрые крыши, но что касается меня, то мне уже ни на что не хотелось смотреть…»
Действительно, 1846 год начался для поэта трудно. Сперва это были хлопоты по службе. Но к 15 февраля они успешно разрешились: Тютчев был назначен чиновником особых поручений VI класса при государственном канцлере. Затем состоялся переезд семьи на новую квартиру, в дом их дальнего петербургского родственника Сафронова на Марсовом поле. А тут пришла тяжелая весть: 23 апреля в Овстуге умер отец. Глаза ему закрыл единственный находившийся рядом из близких людей верный дворецкий, Матвей Иванович Богданов, бывший пятью годами старше барина. Екатерина Львовна, по-видимому, не успела приехать на похороны из Москвы, и это ее и сыновей очень огорчало. Подоспели и радостные события – 30 мая у Тютчевых родился сын, которого в честь деда назвали Иваном.
И вот теперь, после всех петербургских хлопот, предстояла еще поездка для родственного раздела имения. Это дело для Федора Ивановича представлялось самым неприятным, и в нем он целиком полагался на брата. Встречи же с родным гнездом он и желал, и боялся. Оттого и нервничал, оттого и появлялось у него раздражение в письмах жене.
Подробно делясь горем с женой, Федор Иванович чувствовал временное облегчение и поэтому вспоминал все новые и новые подробности. «Я пишу тебе в кабинете отца – в той самой комнате, где он скончался. Рядом его спальня, в которую он уже больше не войдет. Позади меня стоит угловой диван – на него он лег, чтобы больше уже не встать. Стены увешаны старыми, с детства столь знакомыми портретами – они гораздо меньше состарились, нежели я. Перед глазами у меня старая реликвия – дом, в котором мы некогда жили и от которого остался лишь один остов, благоговейно сохраненный отцом для того, чтобы со временем, по возвращении моем на родину, я мог бы найти хоть малый след, малый обломок нашей былой жизни… Старинный садик, 4 больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов во сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, – все это помещается на участке в несколько квадратных сажен…»
Как точно все запечатлелось в памяти, а от этого становится еще тоскливее. «Уехать, скорее уехать», – решает он. И пусть жалко остающегося для решения множества дел брата Николая, он здесь долго не останется. Скорее в Москву, а потом в столицу, к семье, до следующей встречи с Овстугом.
Не до стихов ему было тогда. Стихи появятся потом, в следующие его приезды. А сейчас вместо стихов он напишет подробные письма матери и жене, ставшие со временем бесценными свидетельствами первых дней свидания поэта с родиной после долгой разлуки.
Тютчева недаром называют певцом природы. И надо думать, что полюбил он ее не в блестящих гостиных Мюнхена и Парижа, не в туманных сумерках чиновного Петербурга и даже не в патриархальной Москве первой четверти XIX века. Красота русской природы с юных лет вошла в сердце поэта с полей и лесов, окружающих его милый Овстуг, с тихих, застенчивых придеснянских лугов и рощ, необозримых голубых небес родной Брянщины.
Правда, свои первые стихи о природе Тютчев написал еще в Германии. Там родилась его «Весенняя гроза». Вот как она выглядела в «немецком» варианте, впервые напечатанная в 1829 году в журнале «Галатея», который издавал в Москве Раич:
Люблю грозу в начале мая: Как весело весенний гром Из края до другого края Грохочет в небе голубом!И вот как эта первая строфа звучит уже в «русской» редакции, то есть переработанная поэтом после возвращения в Россию:
Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом.«Характер переработки, в особенности дополнительно введенная в текст вторая строфа, указывает на то, что эта редакция возникла не ранее конца 1840-х годов. Именно в это время наблюдается в творчестве Тютчева усиленное внимание к передаче непосредственных впечатлений от картин и явлений природы», – пишет К. В. Пигарев в своей монографии о поэте. И стихи Тютчева, в которых описываются картины природы, встречающиеся поэту по дороге из Москвы в Овстуг и обратно, подтверждает, например, яркое стихотворение «Неохотно и несмело…». Оно было написано 6 июня 1849 года, как раз тогда, когда Тютчев вновь приехал в Овстуг.
Через неделю после приезда в усадьбу Федор Иванович, обходя знакомые места, узнавая сад, старые липы, росшие еще в его далеком детстве, написал другие, ставшие потом хрестоматийными строки:
Итак, опять увиделся я с вами: Места немилые, хоть и родные…Правда, здесь слово «немилые» заставляет сомневаться в подлинных чувствах поэта к Овстугу. Но, к счастью, сохранилась в черновом варианте и другая строчка стихотворения, в которой слово «немилые» заменено Федором Ивановичем на «печальные».
И с тех пор в редкие приезды в имение поэт буквально одаривает нас прекрасными стихотворениями о родине, создав целый овстугский цикл картин природы. Одним из главных в нем стало стихотворение «Чародейкою Зимою…». И хотя в тот приезд все вокруг было засыпано пушистым снегом, стояла чуткая тишина и не было за окном привычного для Тютчева шума предновогоднего, праздничного Петербурга, ни тени уныния не слышится в голосе поэта, встретившего приход 1853 года в родном доме Овстуга.
Даже в ненастное время осени, несмотря на хлябь размытых брянских дорог, неудобство на постоялых дворах, грязь, клопов и мух, душа Федора Ивановича оттаивает при виде родных мест. Возникает потребность в карандаше и бумаге, чтобы высказать поэтическими строками переполнявшие душу чувства. Так случилось и 22 августа 1857 года, когда поэт вместе с дочерью Дарьей направлялся из Овстуга в Москву. Дорога утомляла, отец и дочь дремали. И вдруг он берет из ее рук листок с перечнем почтовых станций и дорожных расходов и на его обратной стороне начинает что-то записывать. Дарья все поняла и, видя, как рука отца нетерпеливо дрожит, а подскакивающая на ухабах коляска не дает писать, берет у него карандаш и бумагу и сама под диктовку записывает очередное чудное стихотворение, известное нам теперь по первой строчке «Есть в осени первоначальной…».
Лев Николаевич Толстой, вспоминая строки из этого стихотворения: «Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде», говорил известному пианисту, одному из своих лучших друзей, Александру Борисовичу Гольденвейзеру: «Здесь это слово „праздной“ как будто бессмысленно и не в стихах так сказать нельзя, а между тем этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление. В уменье находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер».
Чем старше становился поэт, тем большую глубину и философичность приобретали его произведения о родном крае. Здесь и обожествление природы, и стремление точнее разгадать ее тайны. Ярким примером тому было его стихотворение «Природа – сфинкс. И тем она верней…». А иногда поэт писал такие лирические стихотворные деревенские картинки, которые, кажется, во всем были равны «бытовым» шедеврам кисти Федотова, Поленова, Репина… Примером тому могло служить его стихотворение «В деревне», к сожалению, не всегда входящее в сборники лучших стихотворений Тютчева.
Последний раз Федор Иванович был в Овстуге в августе 1871 года. Он уже почувствовал, что это его последняя встреча с Брянщиной. Оттого и объезжал как бы действительно в последний раз издавна полюбившиеся ему окрестности Овстуга. А в поездках неизменно рождались и новые стихи. Одно из них – «От жизни той, что бушевала здесь…» – особенно ярко раскрывает философские размышления человека, стоящего на краю жизни, его душевные сомнения в мимолетности нашей жизни на земле… Менее чем через два года и поэт отправится в эту «всепоглощающую и миротворную бездну».
«Не отказался бы и Пушкин»
Сороковые годы XIX века для русской литературы характеризовались почти полным отсутствием стихотворений даже в крупных периодических изданиях. Это в определенной степени подчеркивалось и в критических статьях Виссариона Григорьевича Белинского, видевшего «в вытеснении стихов прозой своего рода признак зрелости литературы». Как будто бы солидарен с этим высказыванием был и Тютчев, который с 1841 по 1849 год не напечатал ни одного своего стихотворения.
И вот редактор «Современника» Н. А. Некрасов в январской книжке журнала за 1850 год, сетуя на подобную несправедливость, публикует большую статью «Русские второстепенные поэты». В ней он утверждает, что в России не выродились поэты, у многих из них лишь проявляется пока «недостаток самобытности», который может быть преодолен дальнейшим совершенствованием таланта. Далее Некрасов берется «показать, что еще недавно поэтов с истинным талантом у нас являлось более, чем привыкли считать». И одним из главных аргументов он выставляет опубликованные в третьем и четвертом номерах пушкинского «Современника» подборки под названием «Стихотворения, присланные из Германии».
Несмотря на такой странный заголовок, Некрасов уверен, «что автор их наш соотечественник» и что «стихотворения г. Ф. Т. принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии». Удивительно, что редактор столичного журнала еще не знал, по-видимому, автора понравившихся ему произведений, хотя Тютчев уже вовсю блистал в петербургских и московских салонах острословием и знанием международной политики. Зато в афишировании своих поэтических талантов Федор Иванович действительно был крайне щепетилен.
В статье Некрасов всячески подчеркивает достоинства стихотворений «г. Ф. Т.» «в живом, грациозном, пластически верном изображении природы», к которым «присоединяется мысль, постороннее чувство, воспоминание». Особенно щедр автор статьи на похвалы отдельных стихотворений, как, например, «Я помню время золотое…», от авторства которого, как он говорит, «не отказался бы и Пушкин».
Столь подробный разбор и практически полное цитирование многих из опубликованных Пушкиным стихотворений Тютчева обратили на себя внимание читающей публики и вскоре сделали известным подлинное имя автора.
«Видите ли Ф. И. Тютчева? – спрашивал поэт-славянофил Алексей Степанович Хомяков в январе 1850 года в своем письме одного из адресатов. – Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него… Не стыдно ли молчать, когда Бог дал такой голос?»
Всеобщая похвала подтолкнула к деятельности и автора. В апрельской книжке журнала «Москвитянин», который редактировал давний приятель Погодин, помещены были (но опять без подписи) «Наполеон», «Поэзия» и «По равнине вод лазурной…». Стихотворения были снабжены чрезвычайно интересным примечанием: «Мы получили все эти стихотворения (вместе с десятью, которые будут помещены в следующем номере) от поэта, слишком известного всем любителям русской словесности. Пусть читатели порадуются вместе с нами этим звукам и отгадывают имя». Редактор, несмотря на восхищение стихотворениями друга, видимо, поторопился объявить его «слишком известным».
Первым задумал исполнить пожелание Некрасова на издание стихотворений поэта муж сестры Федора Ивановича, Н. В. Сушков. Николай Васильевич в 1851–1854 годах занимался составлением и выпуском литературного сборника «Раут», имел в этом определенный опыт, который и хотел приложить к выпуску томика стихотворений Тютчева. В примечании к подборке стихов в «Рауте» на 1852 год издатель даже объявил, что «в нынешнем году будет напечатано полное собрание стихотворений Тютчева». Сушковым была уже изготовлена писарская копия значительного числа тютчевских стихотворений, которую послали на просмотр самому автору. Но по неизвестным причинам это собрание стихотворений так и не осуществилось, зато у литературоведов появился новый документ – так называемая «Сушковская тетрадь». Она стала ценным подспорьем для издания всех последующих собраний сочинений поэта.
В конце концов Тургенев «уговорил» Тютчева на издание сборника его произведений. А так как Иван Сергеевич был членом редколлегии «Современника», то с его помощью и было опубликовано в приложении к мартовскому 1854 года выпуску этого журнала девяносто два стихотворения поэта и еще девятнадцать в майском номере «Современника». Кроме этой большой работы Тургенев в апрельском выпуске журнала добавил к приложению и свое дружеское напутствие к стихам: «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В нем он продолжил вместе с Некрасовым открытие «одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина». «Г-н Тютчев может сказать себе, что он… создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет» – так закончил Иван Сергеевич свое вступление.
«Я встречался с ним раз десять в жизни…»
В феврале 1873 года, узнав, что Тютчев очень тяжело болен, Лев Николаевич Толстой с грустью писал о нем своей тетке Александре Андреевне Толстой: «…вы не поверите, как меня это трогает. Я встречался с ним раз десять в жизни; но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки…»
Какая обнаженно-точная характеристика дана величайшим русским писателем замечательнейшему русскому поэту, мысли которого он чаще всего разделял, а поэзию нередко даже ставил превыше любой другой. Многое из того, о чем писал и думал поэт, станет Толстому ближе и дороже именно в зрелом возрасте: Лев Николаевич был моложе Федора Ивановича на четверть века.
Почти двадцать пять лет длилось их чувство приязни и взаимного глубокого уважения, но, к сожалению, так сложилась жизнь, что встречались они всего лишь «раз десять в жизни». И хотя у нас нет доподлинно точных сведений даже об этих десяти встречах, можно с уверенностью сказать, что большинство из них произошло в Москве.
Но вот первая-то встреча точно произошла в Петербурге. «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, – вспоминал много лет спустя в беседе с Гольденвейзером Толстой, – Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих севастопольских рассказов, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно».
Встрече этой предшествовало множество горестных для России событий. Еще в самом начале Крымской войны большая прозорливость, прекрасное знание международной обстановки позволили поэту предвидеть ее позорный конец. В июне 1854 года он пишет из Москвы жене в Овстуг о том, что Россия стоит «накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции…».
А в это время, полный патриотических чувств, рвется к театру военных действий двадцатишестилетний Лев Толстой. 7 ноября 1854 года подпоручик Толстой прибывает в осажденный Севастополь и через пять месяцев попадает на самый опасный участок обороны города – 4-й бастион. Уже в первые дни восторг и гордость за русские войска сменяются у него возмущением и негодованием на их неподготовленность к военным действиям. И появляются мысли, сходные с тютчевскими. В дневнике за 23 ноября он записывает: «Больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться. Все идет навыворот… Грустное положение – и войска, и государства».
Все увиденное и прочувствованное молодой писатель спешит изложить на бумаге. Так рождаются его знаменитые «Севастопольские рассказы». Первый – «Севастополь в декабре месяце» – появляется в некрасовском «Современнике» в июне 1855 года. Рассказ своей достоверностью и чистым языком вызвал восторг у всей передовой русской интеллигенции. Восхищен этим рассказом был и Тютчев. Он по нескольку раз перечитывал особо понравившиеся ему места, цитировал их знакомым.
Постоянно сталкиваясь по службе с действиями правительственной цензуры, Тютчев по-своему негодует по поводу ее стараний «приуменьшить потери врага в наших донесениях». Особенно он возмущался, когда это делал сам канцлер Нессельроде. «И вот такие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных потрясений, когда-либо возмущавших мир!» – пишет он жене.
И, отправляясь в отпуск в начале августа 1855 года в Овстуг через Москву, Федор Иванович не перестает думать о войне. 13 августа, приехав в Рославль, в пристанционной гостинице он пишет свое грустно-пророческое стихотворение «Вот от моря и до моря…», в конце которого прямо предсказывает трагический конец войне: «Уж не кровь ли ворон чует Севастопольских вестей?»
И действительно, несмотря на героизм защитников Севастополя, в августе город пришлось оставить. «Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах», – писал 4 сентября 1855 года Лев Николаевич Татьяне Александровне Ергольской.
Эта грустная весть застала Тютчева в Москве, когда он вернулся из Овстуга. Дочь его Анна тоже находилась в это время в Первопрестольной. 3 сентября она запишет в своем дневнике: «Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его не раздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы…»
Восторгаясь героическими защитниками Севастополя, поэт хорошо понимал, что оставление города не их вина. Две недели спустя он прямо напишет жене о том, кто был главным виновником поражения России в этой войне: «Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах». Этот «злосчастный человек» – Николай I.
И очень понятно было желание Федора Ивановича поскорее увидеть автора «Севастопольских рассказов», чтобы из уст очевидца услышать всю правду о крымских событиях.
Встреча их произошла, скорее всего, 21 или 22 ноября 1855 года, когда Толстой приехал в Петербург, ибо 23 ноября Лев Николаевич в офицерском мундире с недавно полученным за военные отличия орденом Святой Анны 4-й степени, приехал на вечер к Тургеневу, у которого в этот день составлялось письмо-адрес великому русскому актеру Михаилу Семеновичу Щепкину по случаю пятидесятилетия его сценической деятельности. У Тургенева собрался весь цвет литературного Петербурга: Тютчев, Гончаров, Писемский, Майков, Дружинин…
Знаменитым поэтом, как вспоминал о нем Толстой, Тютчев вряд ли еще был, хотя и имел уже свою первую книжку стихов. Поэт больше блистал в аристократических салонах своими меткими высказываниями, острыми политическими анекдотами. Да и сам Лев Николаевич до встречи с Федором Ивановичем вряд ли читал что-то из его стихотворений.
«Когда-то Тургенев, Некрасов и Ко едва могли уговорить меня прочесть Тютчева… Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта…» – признавался он сам. И так восхищался произведениями поэта не только Лев Николаевич. Если кто-либо брал в руки маленький поэтический сборник Тютчева из 110 стихотворений, отпечатанный в 1854 году в петербургской типографии Э. Праца, то приходил в восторг.
Журнал «Современник» на своих страницах как бы скрепил дружбу писателя и поэта, почти одновременно опубликовавших там свои произведения. Менее чем через два года после опубликования статьи «Русские второстепенные поэты» со стихотворениями Тютчева появилось и первое произведение Толстого – повесть «Детство». И здесь фамилия автора была скрыта за инициалами Л. Н.
После переезда в Москву, поближе к своему имению Ясная Поляна, нанося визиты многочисленным московским родственникам и знакомым, молодой Толстой, считавшийся завидным женихом, познакомился у гостеприимных Сушковых с их прелестной племянницей, третьей дочерью поэта от первого брака Екатериной. Вскоре Толстой почувствовал, что Екатерина Тютчева начала ему «спокойно нравиться». Федор Иванович, приезжая в Москву, встречал Льва Николаевича у родственников, и, видимо, это ему было приятно.
Слух о скорой помолвке прошел по Москве.
Весть об ухаживаниях Толстого дошла даже до путешествовавшего по Италии Тургенева. 24 февраля 1858 года он пишет Фету: «Правда ли, что Толстой женится на дочери Тютчева? Если это правда, то я душевно за него радуюсь». Но свадьба так и не состоялась – молодые люди не нашли общего языка, – и постепенно началось взаимное охлаждение.
С годами Толстой все больше находил сокровенного в поэзии Тютчева. Ряд встреч, а особенно последняя, происшедшая на самом закате жизни поэта, подтвердила их душевное единство.
Подходило к концу лето 1871 года. В начале августа Тютчев приезжает в Москву, а 14 августа он уже в Овстуге. Теплое лето вызывает приятные ощущения. С утра он просит заложить коляску и, чувствуя, что вряд ли когда еще вернется сюда, хочет еще раз объехать все окрестности, проститься со знакомыми с детства местами.
В поездках он всегда доверяется кучеру, а сам предается воспоминаниям или дремлет, изредка вздрагивая на ухабах проселочной дороги. Нередко заезжают они в село Вщиж, некогда бывшее удельным княжеством и около которого с той поры сохранилось несколько курганов. В детстве братья Николай и Федор любили их исследовать: любым придорожным камнем они стучали по верху кургана и снизу им отдавался гул пустоты.
А иногда Федор Иванович велел отвезти себя в небольшое село Хотылево, расположенное на высоком, очень живописном берегу реки Десны. Село когда-то, по рассказам бабушки, принадлежало одному из их предков и тоже было знаменито большим курганом, расположенным за селом, на берегу реки. В народе этот курган назывался Кудеяровым, и в нем, по преданиям, жил со своей шайкой атаман разбойников Кудеяр. В былые времена Федор тоже любил взбираться на его вершину, но на этот раз старый поэт даже не стал вылезать из коляски, посмотрел вокруг, а потом приказал поворачивать домой.
Через несколько дней ему и здесь все стало немило, он засобирался в Москву. Выехал Тютчев 20 августа 1871 года и через день уже приехал в Белокаменную. Тут же, чтобы не беспокоилась жена, дал ей телеграмму: «Утомительно, но нескучно. Много спал. Приятная встреча с автором „Войны и мира“».
Эта последняя встреча поэта и писателя произошла в железнодорожном вагоне и произвела на обоих очень большое впечатление. Толстой с восторгом сообщает Фету 24–26 августа: «Ехавши от вас, встретил я Тютчева в Черни и четыре станции говорил и слушал, и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубоко настоящего, умного старика».
Лев Николаевич долго находился под впечатлением этой встречи. Спустя три недели он пишет Николаю Николаевичу Страхову, известному публицисту, с которым был в дружеских отношениях: «Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы 4 часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил…»
А еще через год с небольшим, в начале 1873 года, узнав, что Тютчев разбит параличом, и предчувствуя, что больше никогда не увидит своего любимого поэта, Лев Николаевич пишет тетке А. А. Толстой, вспоминая, сколько же встреч у них произошло за долгие годы знакомства, и приходит к выводу, что около десяти.
Все чаще в трудные минуты жизни Толстой читает произведения Тютчева, находя в этом отдохновение своей мятущейся душе. Анна Константиновна Черткова, жена друга и издателя произведений Толстого, вспоминает, например, о том, как однажды, в конце восьмидесятых годов XIX века, у Толстых обсуждали программу одного из сборников стихотворений, который был бы доступен массовому читателю. И вдруг: «„Что же это вы забыли моего любимого поэта?.. Ну конечно, Тютчев! – говорит Лев Николаевич, покачивая головой. – Как же это вы забыли его? Впрочем, не только вы, его все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел… Он слишком серьезен, он не шутит с музой, как мой приятель Фет… И все у него строго: и содержание, и форма. Вы знаете какое-нибудь стихотворение его?“
Я называю: „Слезы людские…“ – „Да, и это, но есть и лучше этого, например „Silentium!“. Никто не помнит? Так вот я вам скажу, если не забыл еще…
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои…“ —начинает он тихо и проникновенно, просто и глубоко трогательно… Голос его слегка дрожит от внутреннего волнения… В памяти быстро запечатлелась вся его фигура во время чтения: вот он сидит, откинувшись на спинку сиденья, руки положил на ручки кресла, голову немного склонил на грудь и ни на кого не глядит, а устремил взгляд куда-то вперед, – но не вверх, а скорее вниз, в землю… Голос его звучит глухо и грустно… Чувствуется, что он сам пережил то, о чем говорит поэт. Чувствуется глубокое страдание одинокой души, и становится до слез жалко его…»
Катятся к закату и годы Толстого. Он часто болеет. В это время его навещает А. Б. Гольденвейзер. «Заговорили о Тютчеве, – вспоминал Александр Борисович об одном таком посещении писателя в 1899 году. – На днях Льву Николаевичу попалось в „Новом времени“ его стихотворение „Сумерки“. Он достал по этому поводу их все и читал больной.
Лев Николаевич сказал мне: „Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет, – это истинное искусство. Или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его“».
Лев Николаевич начал прерывающимся голосом:
Тени сизые смесились…Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: „Все во мне, и я во всем!..“ – голос его оборвался…»
«У мысли стоя на часах…»
Вскоре после возвращения Тютчева из-за границы началась его новая служба: с 1848 года старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел, а с апреля 1858 года и до самой смерти – Председателя Комитета цензуры иностранной. В конце сороковых годов XIX века началась и его публицистическая деятельность. 12 апреля 1848 года Тютчев продиктовал жене свою статью на французском языке «La Russie et la revolution» («Россия и Революция»). В следующем году, осенью, он решает обобщить свои раздумья по вопросам истории и политики, связанные с Европой, в большом трактате, «La Russie et l Occident» («Россия и Запад»), в который в качестве восьмой главы вошла бы и предыдущая статья.
Уже названия работ раскрывали темы, тогда волновавшие не только автора статей, но и общественные круги России и Европы. Поэтому имя поэта стало часто упоминаться и в частных разговорах, и в прессе. В начале 1850 года появляется оказавшаяся последней в этой серии статья Тютчева «La Papaute et la questio Romaine» («Папство и Римский вопрос»).
Публицистическая деятельность и служба в цензуре не могли не свести поэта с редактором и публицистом Иваном Сергеевичем Аксаковым, а потом и прочно сдружить этих двух выдающихся умов России середины XIX века. Знакомство их началось еще осенью 1846 года.
Иван Сергеевич был третьим сыном Сергея Тимофеевича Аксакова, автора знаменитых произведений «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». С 1826 года Аксаковы постоянно жили в Москве, и у них в доме собирались на огонек многие известные литераторы и ученые. В тридцатых – сороковых годах XIX века субботние вечера у Аксаковых стали местом, где велись игравшие важную роль в жизни России споры виднейших русских деятелей культуры и литературы, будущих славянофилов.
К моменту знакомства с Тютчевым Иван Аксаков уже окончил закрытое привилегированное учебное заведение – Училище правоведения в Петербурге, где преподавали тогда многие профессора Царскосельского лицея. Потом он находился на службе в Сенате, был на редкость работоспособным и исполнительным чиновником, но службой тяготился. Смелые суждения Ивана Сергеевича о существующих порядках в России явились поводом обвинить его в политической неблагонадежности. Широта суждений, незаурядность молодого человека понравились Тютчеву, и между ними, несмотря на разницу в возрасте, установились теплые отношения.
Около пяти лет потом они почти не встречались, но с начала пятидесятых годов XIX века Тютчев и Аксаков все более сближаются. И тот и другой трезво оценивают обстановку в России накануне надвигающейся войны с Англией и Францией, как честные люди и патриоты своей Родины не могут молчать об этом. Надо сказать, что инициатива здесь принадлежала Ивану Сергеевичу. Сначала в письмах к родным и друзьям он выступает с критикой крепостного права, высказывается по поводу несовершенства административного аппарата, о своей оппозиции к режиму Николая I. А впоследствии, будучи редактором целого ряда московских периодических изданий, Аксаков многие свои мысли излагает уже на их страницах. За что страдает, получив даже прозвище «страстотерпца цензуры всех эпох и направлений».
Тютчев же, имея большой опыт дипломатической работы и хорошо зная соотношение сил в Европе, предугадывает назревающую Крымскую войну, осуждая при этом политику царизма перед позорной бойней. Предчувствуя надвигающиеся события, он сравнивает свои ощущения с ощущениями человека, запертого в карете, которая «катится по все более и более наклонной плоскости», и вдруг замечающего, что «на козлах нет кучера». Сразу вспоминаются написанные поэтом строки:
О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги…А вот как писал о Николае I Аксаков писательнице Надежде Степановне Кохановской: «Я считаю его… тупоумнейшим человеком, служившим верою и правдою своим убеждениям фельдфебельским… я считаю Николая Павловича просто душегубцем: никто не сделал России такого зла, как он».
Тютчев же откликнулся на кончину царя так:
Не Богу ты служил и не России, Служил лишь суете своей…Помня о трех больших статьях поэта конца сороковых годов XIX века, в основном касающихся политической обстановки в Европе, министр иностранных дел князь Александр Михайлович Горчаков посоветовал Тютчеву помещать свои статьи в «Journal du Nord». На что Федор Иванович не без иронии ответил, «что он мог бы сказать только то, что не следует говорить» (намек на свое недовольство ведением Россией войны), поэтому и решает воздержаться от публикаций. Будучи почти в приятельских отношениях с будущим российским канцлером, Тютчев мог себе позволить подобные высказывания.
Но Горчаков не останавливается и предлагает поэту быть редактором «нового журнала или чего-то в этом роде». Но Тютчев по-прежнему и здесь видит немало затруднений для себя и отказывается. Зато он составляет для Горчакова записку «О цензуре в России», которая произвела известное впечатление в придворных кругах. Видимо, эта записка и стала основным доводом к назначению Тютчева в апреле 1858 года Председателем Комитета цензуры иностранной с оставлением в ведомстве Министерства иностранных дел.
Интересно, что и Аксаков и Тютчев, несмотря на запрет правительства, будучи за границей, встречались с Александром Ивановичем Герценом. А потом и некоторые произведения обоих были опубликованы в запрещенных в России герценовских изданиях. Первым посетил Герцена в августе 1857 года в Лондоне Аксаков, после чего у них установились деловые и дружеские отношения. А через год, в четвертой книжке герценовской «Полярной звезды», были напечатаны судебные сценки Ивана Сергеевича «Присутственный день уголовной палаты». Затем Аксаков в течение нескольких лет был одним из тайных корреспондентов Герцена.
Видимо, об этой переписке знал Тютчев. Он в марте 1865 года дважды встречался с Герценом в Париже. Встреча эта произвела на Герцена большое впечатление, ибо через день после второй встречи, 11 марта, в письме к Николаю Платоновичу Огареву он отозвался о поэте с большой похвалой. Это подтверждает, кстати, давнее знакомство Герцена с поэзией Тютчева, которую он высоко ставил. Ценил он поэта как превосходного собеседника, считал умнейшим человеком. Герцен же первой публикацией поместил в январской книжке «Колокола» за 1864 год стихотворение Тютчева «Гуманный внук воинственного деда…» (Его светлости князю А. А. Суворову).
Конечно же и Аксаков горячо любил и ценил поэтический талант Тютчева. Поэтому, когда он вплотную начал заниматься редакторской деятельностью, в его изданиях непременно появлялись стихотворения поэта. Весной 1858 года Иван Сергеевич наконец получил разрешение на издание собственной газеты «Парус», а потом стал редактором и журнала «Русская беседа», основного органа печати славянофилов. И вот в десятой книжке «Русской беседы» за 1858 год появилось шесть новых стихотворений Тютчева.
Среди них есть одно, которое наиболее полно выражало тревожащие поэта мысли накануне предстоящей реформы – освобождения крестьян от крепостной зависимости. Это видно уже в первых строках стихотворения.
Над этой темною толпой Непробужденного народа Взойдешь ли ты когда, Свобода, Блеснет ли луч твой золотой?..Несмотря на отдельные либеральные высказывания поэта, нельзя забывать, что принадлежал-то он к привилегированному классу. Взгляды его чаще всего совпадали с теми, которых придерживались и в правительственных кругах. Ну а если они в чем-то и не совпадали, то за свои «крамольные» высказывания Тютчев вряд ли мог подвергнуться серьезным преследованиям.
Правда, чем больше он служил в Комитете, тем больше убеждался в невозможности внесения каких-либо улучшений в действия цензуры, реальности здоровых контактов с правительством. «У меня на днях была неприятность в министерстве, – сообщает он жене однажды, – все по поводу этой злосчастной цензуры… Не будь я так нищ, я с наслаждением бросил бы им в лицо содержание, которое я получаю, и открыто сразился бы с этим стадом скотов».
Среди стихотворных острот того времени сохранилась у поэта одна, касающаяся непосредственно российской цензуры, ее руководителей:
Печати русской доброхоты, Как всеми вами, господа, Тошнит ее – но вот беда, Что дело не дойдет до рвоты.Нередко, защищая Аксакова как редактора и издателя московских газет, Тютчев не боялся выступать и против всесильного в 1860-е годы Председателя Комитета министров и министра внутренних дел Петра Александровича Валуева. Когда однажды на заседании цензурного комитета Валуев решил закрыть одну из аксаковских газет, «чтобы, – как вспоминал один из очевидцев, – легальными путями санкционировать решение правительства, все члены смолчали и преклонились перед волею министра, председательствующего на этом заседании, за исключением одного. Этот один был Председатель Комитета цензуры иностранной Ф. И. Тютчев, который объявил в совете, что он ни с требованием министра, ни с решением совета согласиться не может, а затем встал и вышел из заседания, потряхивая своею белою головою».
Заседавший тут же писатель Иван Александрович Гончаров встал и, подойдя к Тютчеву, пожал ему с волнением руку и сказал: «Федор Иванович, преклоняюсь перед вашею благородною решимостью и вполне вам сочувствую, но для меня служба – насущный хлеб старика».
Вернувшись домой, Тютчев написал и послал Валуеву свою отставку.
С большим уважением относился Тютчев к отцу И. С. Аксакова, Сергею Тимофеевичу Аксакову. В свой приезд в Москву в мае 1857 года Федор Иванович навестил Сергея Тимофеевича. Старый писатель тогда уже редко выходил из дома и просил друзей чаще навещать его. Как всегда, поэт был очень радушно встречен Аксаковым, и эта встреча глубоко его тронула.
«Это симпатичный старец, – рассказывал потом Тютчев, – несмотря на его несколько чудну́ю наружность, благодаря длинной бороде, спадающей на грудь, и наряду, придающему ему вид старого заштатного дьякона». В долгой беседе с поэтом Сергей Тимофеевич поведал ему о своих писательских планах, о намерении напечатать отрывок из рукописи «Детские годы Багрова-внука».
Симпатии поэта зачастую разделяли и его дети, особенно старшая дочь Анна, бывшая ближе всех к отцу. В начале 1858 года она тоже познакомилась с И. С. Аксаковым. Темой беседы стала недавно вышедшая книга его отца «Детские годы Багрова-внука», которая очень понравилась Анне Федоровне. Иван Сергеевич, в свою очередь, посоветовал Тютчевой, тогда фрейлине жены Александра II, регулярно вести дневник, ибо «через двадцать лет эта эпоха, все значение которой мы в настоящее время не можем оценить, будет предоставлять огромный интерес…». Аксаков словно предугадывал, что дневники Анны Федоровны станут потом ценными историческими документами и будут уже в XX веке изданы в двух томах под названием «При дворе двух императоров».
Дочь поэта, как и ее отец, во многом разделяла взгляды Ивана Сергеевича и даже стала оказывать ему некоторую помощь, имея большие связи при дворе. А помощь Аксакову в то время требовалась неоднократно. Критика действий правительства, антикрепостнические статьи, печатавшиеся в его газете «Парус», привели в конце концов к закрытию газеты.
Но Аксаков все же не оставляет мечты о собственном московском издании – трибуны для его публицистики, выступлений единомышленников. В течение шестидесятых – семидесятых годов он последовательно добивается разрешения на выпуск газет «День», «Москва», «Москвич», становится их редактором, но и они, будучи «слишком опасными» для правительства, закрываются одна за другой.
Все эти годы не прекращается регулярная переписка и встречи Тютчева и Аксакова. Они видятся во время частых наездов поэта в Москву. Например, 5 сентября 1865 года Аксаков пишет Анне Федоровне в Петербург: «Нынче я вышел из дому… и встретился с Ф. И. Тютчевым, который шел ко мне. Он взял меня под руку, и мы с ним проходили с лишком полтора часа, разговаривая. Думаю, что сделали верст десять. Очень хвалил мою статью…»
Федор Иванович еще не догадывается, что Иван Сергеевич и его дочь питают большие симпатии друг к другу и уже договорились о предстоящей свадьбе. Вскоре отец узнает об этом. В письме к невесте Иван Сергеевич пишет, как воспринял эту весть отец. Когда они встретились 10 сентября того же года, Федор Иванович «с рыданиями бросился» на шею своему будущему зятю.
И потом Иван Сергеевич подробно описывает Анне все последующие встречи с ее отцом и его реакцию на их предстоящий брак. 1 октября он пишет: «Меня очень, очень радует, что Федор Иванович доволен, что он рад, что эта радость его несколько умиротворяет. Мне бы хотелось, чтобы он меня любил, но я думаю, что ни ему, ни мне не к лицу насиловать наши отношения на короткие прежде времени…»
12 января 1866 года состоялась свадьба в небольшой домашней церкви на Поварской улице. Тютчев из Москвы, как всегда, подробно описал весь ритуал свадебного обряда в письме жене в Петербург: «В очень хорошенькой домовой церкви было не более двадцати человек. Было просто, прилично, сосредоточенно… Когда возложили венцы на головы брачующихся, милейший Аксаков в своем огромном венце, надвинутом прямо на голову, смутно напоминал мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнес установленные обрядом слова с большой убежденностью, – и я полагаю или, вернее, уверен, что беспокойный дух Анны найдет наконец свою тихую пристань…»
Поэт гармонии и красоты
Во второй половине XIX века в русскую словесность начало входить новое философское понятие – так называемое космическое сознание. К небольшому числу избранных – высокоинтеллектуальных людей, обладавших «космическим» сознанием, – причислили и поэтов, среди которых одно из главных мест отвели Федору Ивановичу Тютчеву. И сделали это раньше других сами поэты.
Одним из первых сделал это Афанасий Афанасьевич Фет, так описав свое впечатление от стихотворений Тютчева, вышедших впервые отдельной книжкой в 1854 году: «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом, поэзии! Если бы я не боялся нарушить права собственности, то снял бы дагерротипически все небо Ф. Тютчева с его звездами 1-й и 2-й величины, т. е. переписал бы все его стихотворения. Каждое из них – солнце, т. е. самобытный светящий мир, хотя на иных и есть пятна; но, думая о солнце, забываешь о пятнах».
И только в наши дни, с их космической устремленностью, повсеместным духовным ростом народа, великий русский поэт нашел наконец своего массового читателя. Понятны поэтому и большие тиражи его поэтических книг, и тютчевский томик стихов на борту многоместного российского космического корабля, и даже та картина Вселенной, нарисованная поэтом задолго до первого полета человека в космос, в его «космическом» стихотворении «Как океан объемлет шар земной…».
Теперь-то мы знаем, что «космическая» тема, тема мироздания, является одной из наиболее ярких граней поэтического таланта Тютчева. Но тогда, на заре рождения целой гениальной плеяды поэтов XIX века, было, видимо, простым совпадением, что и первое стихотворение – «На новый 1816 год» («Уже великое небесное светило…») – начиналось с описания Вселенной.
Уже великое небесное светило, Лиюще с высоты обилие и свет, Начертанным путем годичный круг свершило И в ново поприще в величии грядет!..Естественно, еще невозможно было ждать от двенадцатилетнего отрока ясного видения мировых процессов во Вселенной, философского осмысления окружающей природы. Но зато в его первых стихотворениях было немало удачных подражаний великим пиитам, и это можно было даже зачесть в актив юности. В этом угадывалось похвальное стремление походить на «настоящих» стихотворцев, следовать им. Несмотря на выспренность слога, приветствие юного поэта новому, 1816 году впечатляет.
Со временем одаренность поэта породила у него и сознание «особой моральной экзальтации», «обостренности нравственного чутья», привела к «космическому» сознанию, этому «вселенскому чувству», пронзившему потом многие его произведения. А обостренность всех духовных сил рождала и подлинные шедевры поэзии, настоящие картины мироздания, которые Федор Иванович «рисовал» в таких стихотворениях, как, например, «Видение» («Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья…»).
Чем старше становился поэт, тем яснее проявлялась и его внутренняя раздвоенность. С одной стороны – светская жизнь с ее утомительными раутами, блестящими балами, долгими бдениями в модных гостиных. С другой – душевное одиночество, неудовлетворенность окружением, тоска по чему-то большому, несбыточному. Его интеллект страдал в поисках себе подобных и чаще всего не находил их. Мучила бессонница, в возбужденном мозгу одна за другой всплывали фантастические картины Вселенной. Изображения ночи получались четче, явственнее дневных, и тогда появлялись «ночные» стихотворения, подобные «Бессоннице» («Часов однообразный б ой…»).
Всегда интересны свидетельства современников о тайнах творчества поэта. Вот, например, что писал о них И. С. Аксаков: «Поэзия не была для него осознанною специальностью… общественным, официальным положением или же такою обязанностью, которую и сам поэт… признает за собой, признают и другие за ним»; «Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по профессии»; «Его поэзия… вполне субъективна; ее повод – всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только выражался»; «Из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека…».
«Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле», – писал Тютчев, в афористичной формуле определяя истоки своей поэзии. И сам старался никогда не забывать эти истоки.
В поэзии Тютчева шестидесятых годов XIX века во многом отражено отношение поэта к происходящим тогда событиям, и, в частности, к борьбе славянских народов за свое освобождение. По убеждению Тютчева, Россия должна была стать «стеной», защитой для балканских народов от иноземных захватчиков. Об этой «стене» он писал, например, в своем стихотворении «Славянам» («Они кричат, они грозятся…»):
Ее не раз и штурмовали — Кой-где сорвали камня три, Но напоследок отступали С разбитым лбом богатыри… Стоит она, как и стояла, Твердыней смотрит боевой: Она не то, чтоб угрожала, Но… каждый камень в ней живой! …………………….. Как ни бесись вражда слепая, Как ни грози вам буйство их, — Не выдаст вас стена родная, Не оттолкнет она своих. Она расступится пред вами И, как живой для вас оплот, Меж вами встанет и врагами И к ним поближе подойдет.Вспоминается, что как раз эти и другие тютчевские стихи наиболее сильно звучали во время Великой Отечественной войны, придавая мужества воинам нашей армии и напоминая им про любовь Родины-матери. Стихи читали и в тылу, и нередко на передовой, о чем в советской мемуарной литературе неоднократно упоминалось.
Последние годы жизни поэта были связаны со многими утратами. Смерть унесла мать, старшего сына, внучку Марию, младшую, самую любимую дочь, наконец, всю жизнь покровительствовавшего ему старшего брата Николая. Тютчев устал от смертей…
Дни сочтены, утрат не перечесть, Живая жизнь давно уж позади, Передового нет, и я, как есть, На роковой стою очереди́…Смерть для поэта уже не представляется столь далекой и страшной. Он философски ожидает ее, не ужасается скорому ее приходу.
Две силы есть – две роковые силы, Всю жизнь свою у них мы под рукой, От колыбельных дней и до могилы, — Одна есть Смерть, другая – Суд людской…«У меня нет ни малейшей веры в мое возрождение, – пишет он незадолго до смерти дочери Анне, – во всяком случае, нечто кончено, и крепко кончено для меня. Теперь главное в том, чтобы уметь мужественно этому покориться. Всю нашу жизнь мы проводим в ожидании этого события, которое, когда настает, неминуемо преисполняет нас изумлением. Мы подобны гладиаторам, которых в течение целых месяцев берегли для арены, но которые, я уверен, непременно бывали застигнуты врасплох в тот день, когда им предписывалось явиться…»
И все-таки жизнелюбие, постоянная работа мысли брали свое даже у разбитого параличом поэта. Он постоянно просил, требовал, чтобы к нему допускали всех, кто приезжал справляться о его здоровье. А потом просил, чтобы помогли ему еще почувствовать жизнь вокруг себя, регулярно сообщали свежайшие политические новости. Умирающий не переставал удивлять близких ясностью мысли.
Наконец, «ранним утром 15 июля 1873 года лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса, – писал Аксаков, – глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль, – он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова, – он, казалось, весь уже умер, но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось оно мыслью, как в этот миг, рассказывали потом присутствовавшие при его кончине… Вся жизнь духа, казалось, сосредоточилась в одном этом мгновении, вспыхнула разом и озарила его последнею верховною мыслью… Через полчаса вдруг все померкло, и его не стало… Он просиял и погас».
Геннадий Чагин
Стихотворения
Проблеск
Слыхал ли в сумраке глубоком Воздушной арфы легкий звон, Когда полуночь, ненароком, Дремавших струн встревожит сон?.. То потрясающие звуки, То замирающие вдруг… Как бы последний ропот муки, В них отозвавшися, потух! Дыханье каждое Зефира Взрывает скорбь в ее струнах… Ты скажешь: ангельская лира Грустит, в пыли, по небесах! О, как тогда с земного круга Душой к бессмертному летим! Минувшее, как призрак друга, Прижать к груди своей хотим. Как верим верою живою, Как сердцу радостно, светло! Как бы эфирною струёю По жилам небо протекло! Но ах, не нам его судили; Мы в небе скоро устаем, — И не дано ничтожной пыли Дышать Божественным огнем. Едва усилием минутным Прервем на час волшебный сон, И взором трепетным и смутным Привстав, окинем небосклон, — И отягченною главою, Одним лучом ослеплены, Вновь упадаем не к покою, Но в утомительные сны. <Не позднее осени 1825 г.>К Н.
Твой милый взор, невинной страсти полный, Златой рассвет небесных чувств твоих Не мог – увы! – умилостивить их — Он служит им укорою безмолвной. Сии сердца, в которых правды нет, Они, о друг, бегут, как приговора, Твоей любви младенческого взора, Он страшен им, как память детских лет. Но для меня сей взор благодеянье; Как жизни ключ, в душевной глубине Твой взор живет и будет жить во мне: Он нужен ей, как небо и дыханье. Таков горе́ духов блаженных свет, Лишь в небесах сияет он, небесный; В ночи греха, на дне ужасной бездны, Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет. 23 ноября 1824 г.Весенняя гроза
Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной и шум нагорный — Все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила. <Не позднее весны. 1828 г.; Начало 50-х гг.>К оде Пушкина на вольность
Огнем свободы пламенея И заглушая звук цепей, Проснулся в лире дух Алцея — И рабства пыль слетела с ней. От лиры искры побежали И вседробящею струей, Как пламень Божий, ниспадали На чела бледные царей. Счастлив, кто гласом твердым, смелым, Забыв их сан, забыв их трон, Вещать тиранам закоснелым Святые истины рожден! И ты великим сим уделом, О муз питомец, награжден! Воспой и силой сладкогласья Разнежь, растрогай, преврати Друзей холодных самовластья В друзей добра и красоты! Но граждан не смущай покою И блеска не мрачи венца, Певец! Под царскою парчою Своей волшебною струною Смягчай, а не тревожь сердца! <1820>14-ое декабря 1825
Вас развратило Самовластье, И меч его вас поразил, — И в неподкупном беспристрастье Сей приговор Закон скрепил. Народ, чуждаясь вероломства, Поносит ваши имена — И ваша память от потомства, Как труп в земле, схоронена. О жертвы мысли безрассудной, Вы уповали, может быть, Что станет вашей крови скудной, Чтоб вечный полюс растопить! Едва, дымясь, она сверкнула На вековой громаде льдов, Зима железная дохнула — И не осталось и следов. <1826, не ранее августа>Могила Наполеона
Душой весны природа ожила, И блещет всё в торжественном покое: Лазурь небес, и море голубое, И дивная гробница, и скала! Древа́ кругом покрылись новым цветом, И тени их, средь общей тишины, Чуть зыблются дыханием волны На мраморе, весною разогретом… Давно ль умолк Перун его побед, И гул от них стоит доселе в мире. ……………………….. ……………………….. И ум людей великой тенью полн, А тень его, одна, на бреге диком, Чужда всему, внимает шуму волн И тешится морских пернатых криком. <Не позднее 1828 г.; начало 50-х гг.>Cache-cache[1]
Вот арфа ее в обычайном углу, Гвоздики и розы стоят у окна, Полуденный луч задремал на полу: Условное время! Но где же она? О, кто мне поможет шалунью сыскать, Где, где приютилась сильфида моя? Волшебную близость, как бы благодать, Разлитую в воздухе, чувствую я. Гвоздики недаром лукаво глядят, Недаром, о розы, на ваших листах Жарчее румянец, свежей аромат: Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах! Не арфы ль твоей мне послышался звон? В струнах ли мечтаешь укрыться златых? Металл содрогнулся, тобой оживлен, И сладостный трепет еще не затих. Как пляшут пылинки в полдневных лучах, Как искры живые в родимом огне! Видал я сей пламень в знакомых очах, Его упоенье известно и мне. Влетел мотылек, и с цветка на другой, Притворно-беспечный, он начал порхать. О, полно кружиться, мой гость дорогой! Могу ли, воздушный, тебя не узнать? <Не позднее 1828 г.>Летний вечер
Уж солнца раскаленный шар С главы своей земля скатила, И мирный вечера пожар Волна морская поглотила. Уж звезды светлые взошли И тяготеющий над нами Небесный свод приподняли Своими влажными главами. Река воздушная полней Течет меж небом и землею, Грудь дышит легче и вольней, Освобожденная от зною. И сладкий трепет, как струя, По жилам пробежал природы, Как бы горячих ног ея Коснулись ключевые воды. <Не позднее 1828 г.>Видение
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья, И в оный час явлений и чудес Живая колесница мирозданья Открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах, Беспамятство, как Атлас, давит сушу; Лишь Музы девственную душу В пророческих тревожат боги снах! <Не позднее первой половины 1829 г.>Бессонница
Часов однообразный бой, Томительная ночи повесть! Язык для всех равно чужой И внятный каждому, как совесть! Кто без тоски внимал из нас, Среди всемирного молчанья, Глухие времени стенанья, Пророчески-прощальный глас? Нам мнится: мир осиротелый Неотразимый Рок настиг — И мы, в борьбе, природой целой Покинуты на нас самих; И наша жизнь стоит пред нами, Как призрак на краю земли, И с нашим веком и друзьями Бледнеет в сумрачной дали; И новое, младое племя Меж тем на солнце расцвело, А нас, друзья, и наше время Давно забвеньем занесло! Лишь изредка, обряд печальный Свершая в полуночный час, Металла голос погребальный Порой оплакивает нас! <Не позднее 1829 г.>Утро в горах
Лазурь небесная смеется, Ночной омытая грозой, И между гор росисто вьется Долина светлой полосой. Лишь высших гор до половины Туманы покрывают скат, Как бы воздушные руины Волшебством созданных палат. <Не позднее 1829 г.>Последний катаклизм
Когда пробьет последний час природы, Состав частей разрушится земных: Все зримое опять покроют воды, И Божий лик изобразится в них! <Не позднее 1829 г.>Снежные горы
Уже полдневная пора Палит отвесными лучами, — И задымилася гора С своими черными лесами. Внизу, как зеркало стальное, Синеют озера струи, И с камней, блещущих на зное, В родную глубь спешат ручьи. И между тем как полусонный Наш дольний мир, лишенный сил, Проникнут негой благовонной, Во мгле полуденной почил, — Горе́, как божества родные, Над издыхающей землей Играют выси ледяные С лазурью неба огневой. <Не позднее 1829 г.>К N. N.
Ты любишь, ты притворствовать умеешь, — Когда в толпе, украдкой от людей, Моя нога касается твоей — Ты мне ответ даешь – и не краснеешь! Всё тот же вид рассеянный, бездушный, Движенье пе́рсей, взор, улыбка та ж… Меж тем твой муж, сей ненавистный страж, Любуется твоей красой послушной. Благодаря и людям и судьбе, Ты тайным радостям узнала цену, Узнала свет: он ставит нам в измену Все радости… Измена льстит тебе. Стыдливости румянец невозвратный, Он улетел с твоих младых ланит — Так с юных роз Авроры луч бежит С их чистою душою ароматной. Но так и быть! в палящий летний зной Лестней для чувств, приманчивей для взгляда Смотреть, в тени, как в кисти винограда Сверкает кровь сквозь зелени густой. <Не позднее 1829 г.>«Еще шумел веселый день…»
Еще шумел веселый день, Толпами улица блистала, И облаков вечерних тень По светлым кровлям пролетала. И доносилися порой Все звуки жизни благодатной — И всё в один сливалось строй, Стозвучный, шумный и невнятный. Весенней негой утомлен, Я впал в невольное забвенье; Не знаю, долог ли был сон, Но странно было пробужденье… Затих повсюду шум и гам, И воцарилося молчанье — Ходили тени по стенам И полусонное мерцанье… Украдкою в мое окно Глядело бледное светило, И мне казалось, что оно Мою дремоту сторожило. И мне казалось, что меня Какой-то миротворный гений Из пышно-золотого дня Увлек, незримый, в царство теней. <Не позднее 1829 г.; 1851 г.>Вечер
Как тихо веет над долиной Далекий колокольный звон, Как шорох стаи журавлиной, — И в шуме листьев замер он. Как море вешнее в разливе, Светлея, не колыхнет день, — И торопливей, молчаливей Ложится по долине тень. <Конец 20-х гг.>Полдень
Лениво дышит полдень мглистый, Лениво катится река, И в тверди пламенной и чистой Лениво тают облака. И всю природу, как туман, Дремота жаркая объемлет, И сам теперь великий Пан В пещере нимф покойно дремлет. <Конец 20-х гг.>ЛЕБЕДЬ
Пускай орел за облаками Встречает молнии полет И неподвижными очами В себя впивает солнца свет. Но нет завиднее удела, О лебедь чистый, твоего — И чистой, как ты сам, одело Тебя стихией божество. Она, между двойною бездной, Лелеет твой всезрящий сон — И полной славой тверди звездной Ты отовсюду окружен. <Конец 20-х гг.>«Ты зрел его в кругу большого света…»
Ты зрел его в кругу большого света — То своенравно-весел, то угрюм, Рассеян, дик иль полон тайных дум, Таков поэт – и ты презрел поэта! На месяц взглянь: весь день, как облак тощий, Он в небесах едва не изнемог, — Настала ночь – и, светозарный Бог, Сияет он над усыпленной рощей! <Конец 1829 г. – начало 1830 г.>«В толпе людей, в нескромном шуме дня…»
В толпе людей, в нескромном шуме дня Порой мой взор, движенья, чувства, речи Твоей не смеют радоваться встрече — Душа моя! о, не вини меня!.. Смотри, как днем туманисто-бело Чуть брезжит в небе месяц светозарный, Наступит ночь – и в чистое стекло Вольет елей душистый и янтарный! <Конец 1829 г. – начало 1830 г.>«Душа хотела б быть звездой…»
Душа хотела б быть звездой, Но не тогда, как с неба полуночи Сии светила, как живые очи, Глядят на сонный мир земной, — Но днем, когда, сокрытые как дымом Палящих солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом. <Не позднее 1830 г.>«Как океан объемлет шар земной…»
Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами; Настанет ночь – и звучными волнами Стихия бьет о берег свой. То глас ее: он нудит нас и просит… Уж в пристани волшебный ожил челн; Прилив растет и быстро нас уносит В неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, — И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены. <Не позднее начала 1830 г.>Конь морской
О рьяный конь, о конь морской, С бледно-зеленой гривой, То смирный, ласково-ручной, То бешено-игривый! Ты буйным вихрем вскормлен был В широком Божьем поле; Тебя он прядать научил, Играть, скакать по воле! Люблю тебя, когда стремглав, В своей надменной силе, Густую гриву растрепав И весь в пару и мыле, К брегам направив бурный бег, С веселым ржаньем мчишься, Копыта кинешь в звонкий брег И – в брызги разлетишься!.. <1830>«Здесь, где так вяло свод небесный…»
Здесь, где так вяло свод небесный На землю тощую глядит, — Здесь, погрузившись в сон железный, Усталая природа спит… Лишь кой-где бледные березы, Кустарник мелкий, мох седой, Как лихорадочные грезы, Смущают мертвенный покой. <1830>Успокоение
Гроза прошла – еще курясь, лежал Высокий дуб, перунами сраженный, И сизый дым с ветвей его бежал По зелени, грозою освеженной. А уж давно, звучнее и полней, Пернатых песнь по роще раздалася, И радуга концом дуги своей В зеленые вершины уперлася. <1830>Двум сестрам
Обеих вас я видел вместе — И всю тебя узнал я в ней… Та ж взоров тихость, нежность гласа, Та ж прелесть утреннего часа, Что веяла с главы твоей! И все, как в зеркале волшебном, Все обозначилося вновь: Минувших дней печаль и радость, Твоя утраченная младость, Моя погибшая любовь! <1830>Безумие
Там, где с землею обгорелой Слился, как дым, небесный свод, — Там в беззаботности веселой Безумье жалкое живет. Под раскаленными лучами, Зарывшись в пламенных песках, Оно стеклянными очами Чего-то ищет в облаках. То вспрянет вдруг и, чутким ухом Припав к растреснутой земле, Чему-то внемлет жадным слухом С довольством тайным на челе. И мнит, что слышит струй кипенье, Что слышит ток подземных вод, И колыбельное их пенье, И шумный из земли исход!.. <1830>Странник
Угоден Зевсу бедный странник, Над ним святой его покров!.. Домашних очагов изгнанник, Он гостем стал благих богов!.. Сей дивный мир, их рук созданье, С разнообразием своим, Лежит развитый перед ним В утеху, пользу, назиданье… Чрез веси, грады и поля, Светлея, стелется дорога, — Ему отверста вся земля, Он видит всё и славит Бога!.. <1830>«Оратор римский говорил…»
Оратор римский говорил Средь бурь гражданских и тревоги: «Я поздно встал – и на дороге Застигнут ночью Рима был!» Так!.. но, прощаясь с римской славой, С Капитолийской высоты Во всем величье видел ты Закат звезды ее кровавой!.. Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был — И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил! <Не позднее 1830 г.>Весенние воды
Еще в полях белеет снег, А воды уж весной шумят — Бегут и будят сонный брег, Бегут и блещут и гласят… Они гласят во все концы: «Весна идет, весна идет! Мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперед!» Весна идет, весна идет! И тихих, теплых, майских дней Румяный, светлый хоровод Толпится весело за ней. <Не позднее 1830 г.>«Как над горячею золой…»
Как над горячею золой Дымится свиток и сгорает, И огнь, сокрытый и глухой, Слова и строки пожирает, Так грустно тлится жизнь моя И с каждым днем уходит дымом; Так постепенно гасну я В однообразье нестерпимом!.. О Небо, если бы хоть раз Сей пламень развился по воле, И, не томясь, не мучась доле, Я просиял бы – и погас! <Не позднее 1830 г.>Silentium![2]
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звезды в ночи, — Любуйся ими – и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими – и молчи. Лишь жить в себе самом умей — Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, — Внимай их пенью – и молчи!.. <Не позднее 1830 г.>«Через ливонские я проезжал поля…»
Через ливонские я проезжал поля, Вокруг меня все было так уныло… Бесцветный грунт небес, песчаная земля — Всё на душу раздумье наводило. Я вспомнил о былом печальной сей земли — Кровавую и мрачную ту пору, Когда сыны ее, простертые в пыли, Лобзали рыцарскую шпору. И, глядя на тебя, пустынная река, И на тебя, прибрежная дуброва, «Вы, – мыслил я, – пришли издалека, Вы, сверстники сего былого!» Так! вам одним лишь удалось Дойти до нас с брегов другого света. О, если б про него хоть на один вопрос Мог допроситься я ответа!.. Но твой, природа, мир о днях былых молчит С улыбкою двусмысленной и тайной,— Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный, Про них и днем молчание хранит. <Начало октября> 1830«Песок сыпучий по колени…»
Песок сыпучий по колени… Мы едем – поздно – меркнет день, И сосен, по дороге, тени Уже в одну слилися тень. Черней и чаще бор глубокий — Какие грустные места! Ночь хмурая, как зверь стоокий, Глядит из каждого куста! <Октябрь> 1830Осенний вечер
Есть в светлости осенних вечеров Умильная, таинственная прелесть: Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный, легкий шелест, Туманная и тихая лазурь Над грустно-сиротеющей землею, И, как предчувствие сходящих бурь, Порывистый, холодный ветр порою, Ущерб, изнеможенье – и на всем Та кроткая улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовем Божественной стыдливостью страданья. 1830Листья
Пусть сосны и ели Всю зиму торчат, В снега и метели Закутавшись, спят. Их тощая зелень, Как иглы ежа, Хоть ввек не желтеет, Но ввек не свежа. Мы ж, легкое племя, Цветем и блестим И краткое время На сучьях гостим. Все красное лето Мы были в красе, Играли с лучами, Купались в росе!.. Но птички отпели, Цветы отцвели, Лучи побледнели, Зефиры ушли. Так что же нам даром Висеть и желтеть? Не лучше ль за ними И нам улететь! О буйные ветры, Скорее, скорей! Скорей нас сорвите С докучных ветвей! Сорвите, умчите, Мы ждать не хотим, Летите, летите! Мы с вами летим!.. 1830«Сей день, я помню, для меня…»
Сей день, я помню, для меня Был утром жизненного дня: Стояла молча предо мною, Вздымалась грудь ее волною, Алели щеки, как заря, Все жарче рдея и горя! И вдруг, как солнце молодое, Любви признанье золотое Исторглось из груди ея… И новый мир увидел я!.. 1830Альпы
Сквозь лазурный сумрак ночи Альпы снежные глядят; Помертвелые их очи Льдистым ужасом разят. Властью некой обаянны, До восшествия Зари Дремлют, грозны и туманны, Словно падшие цари!.. Но Восток лишь заалеет, Чарам гибельным конец — Первый в небе просветлеет Брата старшего венец. И с главы большого брата На меньших бежит струя, И блестит в венцах из злата Вся воскресшая семья!.. 1830Mal’aria[3]
Люблю сей Божий гнев! Люблю сие, незримо Во всем разлитое, таинственное Зло — В цветах, в источнике прозрачном, как стекло, И в радужных лучах, и в самом небе Рима. Все та ж высокая, безоблачная твердь, Все так же грудь твоя легко и сладко дышит, Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет, Все тот же запах роз, и это всё есть Смерть!.. Как ведать, может быть, и есть в природе звуки, Благоухания, цвета и голоса, Предвестники для нас последнего часа И усладители последней нашей муки. И ими-то Судеб посланник роковой, Когда сынов Земли из жизни вызывает, Как тканью легкою свой образ прикрывает, Да утаит от них приход ужасный свой! 1830Весеннее успокоение
О, не кладите меня В землю сырую — Скройте, заройте меня В траву густую! Пускай дыханье ветерка Шевелит травою, Свирель поет издалека, Светло и тихо облака Плывут надо мною!.. <Не позднее начала 1832 г.>«На древе человечества высоком…»
На древе человечества высоком Ты лучшим был его листом, Воспитанный его чистейшим соком, Развит чистейшим солнечным лучом! С его великою душою Созвучней всех на нем ты трепетал! Пророчески беседовал с грозою Иль весело с зефирами играл! Не поздний вихрь, не бурный ливень летний Тебя сорвал с родимого сучка: Был многих краше, многих долголетней, И сам собою пал, как из венка! <1832>Problème
С горы скатившись, камень лег в долине. Как он упал? никто не знает ныне — Сорвался ль он с вершины сам собой, Иль был низринут волею чужой? Столетье за столетьем пронеслося: Никто еще не разрешил вопроса. 15 января 1833 г.; 2 апреля 1857 г.Сон на море
И море и буря качали наш чёлн; Я, сонный, был предан всей прихоти волн. Две беспредельности были во мне, И мной своевольно играли оне. Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, Окликалися ветры и пели валы. Я в хаосе звуков лежал, оглушен, Но над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно-яркий, волшебно-немой, Он веял легко над гремящею тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир — Земля зеленела, светился эфир, Сады-лавиринфы, чертоги, столпы, И сонмы кипели безмолвной толпы. Я много узнал мне неведомых лиц, Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, По высям творенья, как Бог, я шагал, И мир подо мною недвижный сиял. Но все грезы насквозь, как волшебника вой, Мне слышался грохот пучины морской, И в тихую область видений и снов Врывалася пена ревущих валов. <1833>Арфа Скальда
О арфа скальда! Долго ты спала В тени, в пыли забытого угла; Но лишь луны, очаровавшей мглу, Лазурный свет блеснул в твоем углу, Вдруг чудный звон затрепетал в струне, Как бред души, встревоженной во сне. Какой он жизнью на тебя дохнул? Иль старину тебе он вспомянул — Как по ночам здесь сладострастных дев Давно минувший вторился напев, Иль в сих цветущих и поднесь садах Их легких ног скользил незримый шаг? 21 апреля 1834 г.«Я лютеран люблю богослуженье…»
Я лютеран люблю богослуженье, Обряд их строгий, важный и простой — Сих голых стен, сей храмины пустой Понятно мне высокое ученье. Не видите ль? Собравшися в дорогу, В последний раз вам вера предстоит: Еще она не перешла порогу, Но дом ее уж пуст и гол стоит, — Еще она не перешла порогу, Еще за ней не затворилась дверь… Но час настал, пробил… Молитесь Богу, В последний раз вы молитесь теперь. 16 сентября 1834 г.«Из края в край, из града в град…»
Из края в край, из града в град Судьба, как вихрь, людей метет, И рад ли ты или не рад, Что нужды ей?.. Вперед, вперед! Знакомый звук нам ветр принес: Любви последнее прости… За нами много, много слез, Туман, безвестность впереди!.. «О, оглянися, о, постой, Куда бежать, зачем бежать?.. Любовь осталась за тобой, Где ж в мире лучшего сыскать? Любовь осталась за тобой, В слезах, с отчаяньем в груди… О, сжалься над своей тоской, Свое блаженство пощади! Блаженство стольких, стольких дней Себе на память приведи… Все милое душе твоей Ты покидаешь на пути!..» Не время выкликать теней: И так уж этот мрачен час. Усопших образ тем страшней, Чем в жизни был милей для нас. Из края в край, из града в град Могучий вихрь людей метет, И рад ли ты или не рад, Не спросит он… Вперед, вперед! <Между 1834 г. и апрелем 1836 г.>«О чем ты воешь, ветр ночной…»
О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно?.. Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шумно? Понятным сердцу языком Твердишь о непонятной муке — И роешь и взрываешь в нем Порой неистовые звуки!.. О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой! Из смертной рвется он груди, Он с беспредельным жаждет слиться!.. О, бурь заснувших не буди — Под ними хаос шевелится!.. <Начало 30-х гг.>«Поток сгустился и тускнеет…»
Поток сгустился и тускнеет И прячется под твердым льдом, И гаснет цвет, и звук немеет В оцепененье ледяном, — Лишь жизнь бессмертную ключа Сковать всесильный хлад не может: Она всё льется – и, журча, Молчанье мертвое тревожит. Так и в груди осиротелой, Убитой хладом бытия, Не льется юности веселой, Не блещет резвая струя, — Но подо льдистою корой Еще есть жизнь, еще есть ропот — И внятно слышится порой Ключа таинственного шепот. <Начало 30-х гг.>«В душном воздуха молчанье…»
В душном воздуха молчанье, Как предчувствие грозы, Жарче роз благоуханье, Звонче голос стрекозы… Чу! за белой, дымной тучей Глухо прокатился гром; Небо молнией летучей Опоясалось кругом… Жизни некий преизбыток В знойном воздухе разлит, Как божественный напиток, В жилах млеет и горит! Дева, дева, что волнует Дымку персей молодых? Что мутится, что тоскует Влажный блеск очей твоих? Что, бледнея, замирает Пламя девственных ланит? Что так грудь твою спирает И уста твои палит?.. Сквозь ресницы шелковые Проступили две слезы… Иль то капли дождевые Зачинающей грозы?.. <Начало 30-х гг.>«Что ты клонишь над водами…»
Что ты клонишь над водами, Ива, макушку свою? И дрожащими листами, Словно жадными устами, Ловишь беглую струю?.. Хоть томится, хоть трепещет Каждый лист твой над струей… Но струя бежит и плещет, И, на солнце нежась, блещет, И смеется над тобой… <Начало 30-х гг.>«Вечер мглистый и ненастный…»
Вечер мглистый и ненастный… Чу, не жаворонка ль глас?.. Ты ли, утра гость прекрасный, В этот поздний, мертвый час?.. Гибкий, резвый, звучно-ясный, В этот мертвый, поздний час, Как безумья смех ужасный, Он всю душу мне потряс!.. <Начало 30-х гг.>«И гроб опущен уж в могилу…»
И гроб опущен уж в могилу, И все столпилося вокруг… Толкутся, дышат через силу, Спирает грудь тлетворный дух. И над могилою раскрытой, В возглавии, где гроб стоит, Ученый пастор, сановитый, Речь погребальную гласит… Вещает бренность человечью, Грехопаденье, кровь Христа… И умною, пристойной речью Толпа различно занята… А небо так нетленно-чисто, Так беспредельно над землей… И птицы реют голосисто В воздушной бездне голубой… <Начало 30-х гг>«Восток белел. Ладья катилась…»
Восток белел. Ладья катилась, Ветрило весело звучало, — Как опрокинутое небо, Под нами море трепетало… Восток алел. Она молилась, С чела откинув покрывало, — Дышала на устах молитва, Во взорах небо ликовало… Восток вспылал. Она склонилась, Блестящая поникла выя, — И по младенческим ланитам Струились капли огневые… <Начало 30-х гг.>«Как птичка, раннею зарей…»
Как птичка, раннею зарей Мир, пробудившись, встрепенулся… Ах, лишь одной главы моей Сон благодатный не коснулся! Хоть свежесть утренняя веет В моих всклокоченных власах, На мне, я чую, тяготеет Вчерашний зной, вчерашний прах!.. О, как пронзительны и дики, Как ненавистны для меня Сей шум, движенье, говор, крики Младого, пламенного дня!.. О, как лучи его багровы, Как жгут они мои глаза!.. О ночь, ночь, где твои покровы, Твой тихий сумрак и роса!.. Обломки старых поколений, Вы, пережившие свой век! Как ваших жалоб, ваших пеней Неправый праведен упрек! Как грустно полусонной тенью, С изнеможением в кости, Навстречу солнцу и движенью За новым племенем брести!.. <Начало 30-х гг.>«Душа моя – Элизиум теней…»
Душа моя – Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных, Ни помыслам годины буйной сей, Ни радостям, ни горю не причастных. Душа моя, Элизиум теней, Что общего меж жизнью и тобою! Меж вами, призраки минувших, лучших дней, И сей бесчувственной толпою?.. <Начало 30-х гг.>«Над виноградными холмами…»
Над виноградными холмами Плывут златые облака. Внизу зелеными волнами Шумит померкшая река. Взор постепенно из долины, Подъемлясь, всходит к высота́м И видит на краю вершины Круглообразный светлый храм. Там, в горнем неземном жилище, Где смертной жизни места нет, И легче и пустынно-чище Струя воздушная течет. Туда взлетая, звук немеет, Лишь жизнь природы там слышна И нечто праздничное веет, Как дней воскресных тишина. <Начало 30-х гг>«Нет, моего к тебе пристрастья…»
Нет, моего к тебе пристрастья Я скрыть не в силах, мать-Земля! Духов бесплотных сладострастья, Твой верный сын, не жажду я. Что пред тобой утеха рая, Пора любви, пора весны, Цветущее блаженство мая, Румяный свет, златые сны?.. Весь день, в бездействии глубоком, Весенний теплый воздух пить, На небе чистом и высоком Порою облака следить; Бродить без дела и без цели И ненароком, на лету, Набресть на свежий дух синели Или на светлую мечту… <1835>«Как сладко дремлет сад темно-зеленый…»
Как сладко дремлет сад темно-зеленый, Объятый негой ночи голубой, Сквозь яблони, цветами убеленной, Как сладко светит месяц золотой!.. Таинственно, как в первый день созданья, В бездонном небе звездный сонм горит, Музыки дальней слышны восклицанья, Соседний ключ слышнее говорит… На мир дневной спустилася завеса; Изнемогло движенье, труд уснул… Над спящим градом, как в вершинах леса, Проснулся чудный еженочный гул… Откуда он, сей гул непостижимый?.. Иль смертных дум, освобожденных сном, Мир бестелесный, слышный, но незримый, Теперь роится в хаосе ночном?.. <1835>«Тени сизые смесились…»
Тени сизые смесились, Цвет поблекнул, звук уснул — Жизнь, движенье разрешились В сумрак зыбкий, в дальний гул… Мотылька полет незримый Слышен в воздухе ночном… Час тоски невыразимой!.. Всё во мне, и я во всем!.. Сумрак тихий, сумрак сонный, Лейся в глубь моей души, Тихий, темный, благовонный, Всё залей и утиши. Чувства – мглой самозабвенья Переполни через край!.. Дай вкусить уничтоженья, С миром дремлющим смешай! <1835>«Какое дикое ущелье…»
Какое дикое ущелье! Ко мне навстречу ключ бежит — Он в дол спешит на новоселье… Я лезу вверх, где ель стоит. Вот взобрался я на вершину, Сижу здесь, радостен и тих… Ты к людям, ключ, спешишь в долину — Попробуй, каково у них! <1835>«С поляны коршун поднялся…»
С поляны коршун поднялся, Высоко к небу он взвился; Всё выше, дале вьется он И вот ушел за небосклон. Природа-мать ему дала Два мощных, два живых крыла А я здесь в поте и в пыли, Я, царь земли, прирос к земли!.. <1835>«Я помню время золотое…»
Я помню время золотое, Я помню сердцу милый край. День вечерел; мы были двое; Внизу, в тени, шумел Дунай. И на холму, там, где, белея, Руина замка вдаль глядит, Стояла ты, младая фея, На мшистый опершись гранит. Ногой младенческой касаясь Обломков груды вековой; И солнце медлило, прощаясь С холмом, и замком, и тобой. И ветер тихий мимолетом Твоей одеждою играл И с диких яблонь цвет за цветом На плечи юные свевал. Ты беззаботно вдаль глядела… Край неба дымно гас в лучах; День догорал; звучнее пела Река в померкших берегах. И ты с веселостью беспечной Счастливый провожала день; И сладко жизни быстротечной Над нами пролетала тень. <Не позднее апреля 1836 г.>«Там, где горы, убегая…»
Там, где горы, убегая, В светлой тянутся дали, Пресловутого Дуная Льются вечные струи… Там-то, бают, в стары годы, По лазуревым ночам, Фей вилися хороводы Под водой и по водам; Месяц слушал, волны пели, И, навесясь с гор крутых, Замки рыцарей глядели С сладким ужасом на них. И лучами неземными, Заключен и одинок, Перемигивался с ними С древней башни огонек. Звезды в небе им внимали, Проходя за строем строй, И беседу продолжали Тихомолком меж собой. В панцирь дедовский закован, Воин-сторож на стене Слышал, тайно очарован, Дальний гул, как бы во сне. Чуть дремотой забывался, Гул яснел и грохотал… Он с молитвой просыпался И дозор свой продолжал. Всё прошло, всё взяли годы — Поддался и ты судьбе, О Дунай, и пароходы Нынче рыщут по тебе. <Не позднее апреля 1836 г.>«Сижу задумчив и один…»
Сижу задумчив и один, На потухающий камин Сквозь слёз гляжу… С тоскою мыслю о былом И слов в унынии моем Не нахожу. Былое – было ли когда? Что ныне – будет ли всегда?.. Оно пройдет — Пройдет оно, как всё прошло, И канет в темное жерло́ За годом год. За годом год, за веком век… Что ж негодует человек, Сей злак земной!.. Он быстро, быстро вянет – так, Но с новым летом новый злак И лист иной. И снова будет всё, что есть, И снова розы будут цвесть, И тёрны тож… Но ты, мой бедный, бледный цвет, Тебе уж возрожденья нет, Не расцветешь! Ты сорван был моей рукой, С каким блаженством и тоской, То знает Бог!.. Останься ж на груди моей, Пока любви не замер в ней Последний вздох. <Не позднее апреля 1836 г.>«Зима недаром злится…»
Зима недаром злится, Прошла ее пора — Весна в окно стучится И гонит со двора. И всё засуетилось, Всё ну́дит Зиму вон — И жаворонки в небе Уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет И на Весну ворчит. Та ей в глаза хохочет И пуще лишь шумит… Взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, у бегая, В прекрасное дитя… Весне и горя мало: Умылася в снегу И лишь румяней стала Наперекор врагу. <Не позднее апреля 1836 г.>Фонтан
Смотри, как облаком живым Фонтан сияющий клубится; Как пламенеет, как дробится Его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он Коснулся высоты заветной — И снова пылью огнецветной Ниспасть на землю осужден. О смертной мысли водомет, О водомет неистощимый! Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя мятет? Как жадно к небу рвешься ты!.. Но длань незримо-роковая, Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты. <Не позднее апреля 1836 г.>«Яркий снег сиял в долине…»
Яркий снег сиял в долине, — Снег растаял и ушел; Вешний злак блестит в долине, Злак увянет и уйдет. Но который век белеет Там, на высях снеговых? А заря и ныне сеет Розы свежие на них!.. <Не позднее апреля 1836 г.>«Не то, что мните вы, природа…»
Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык… ………………………. …………………….. …………………….. Вы зрите лист и цвет на древе: Иль их садовник приклеи́л? Иль зреет плод в родимом чреве Игрою внешних, чуждых сил?.. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. Они не видят и не слышат, Живут в сём мире, как впотьмах, Для них и солнцы, знать, не дышат И жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, Весна в груди их не цвела, При них леса не говорили И ночь в звездах нема была! И языками неземными, Волнуя реки и леса, В ночи не совещалась с ними В беседе дружеской гроза! Не их вина: пойми, коль может, Органа жизнь глухонемой! Увы, души в нем не встревожит И голос матери самой! <Не позднее апреля 1836 г.>«Еще земли печален вид…»
Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась… Душа, душа, спала и ты… Но что же вдруг тебя волнует, Твой сон ласкает и целует И золотит твои мечты?.. Блестят и тают глыбы снега, Блестит лазурь, играет кровь… Или весенняя то нега?.. Или то женская любовь?.. <Не позднее апреля 1836 г.>«И чувства нет в твоих очах…»
И чувства нет в твоих очах, И правды нет в твоих речах, И нет души в тебе. Мужайся, сердце, до конца: И нет в творении творца! И смысла нет в мольбе! <Не позднее апреля 1836 г.>«Люблю глаза твои, мой друг…»
Люблю глаза твои, мой друг, С игрой их пламенно-чудесной, Когда их приподымешь вдруг И, словно молнией небесной, Окинешь бегло целый круг… Но есть сильней очарованья: Глаза, потупленные ниц В минуты страстного лобзанья, И сквозь опущенных ресниц Угрюмый, тусклый огнь желанья. <Не позднее апреля 1836 г.>«Вчера, в мечтах обвороженных…»
Вчера, в мечтах обвороженных, С последним месяца лучом На веждах, томно озаренных, Ты поздним позабылась сном. Утихло вкруг тебя молчанье, И тень нахмурилась темней, И груди ровное дыханье Струилось в воздухе слышней. Но сквозь воздушный завес окон Недолго лился мрак ночной, И твой, взвеваясь, сонный локон Играл с незримою мечтой. Вот тихоструйно, тиховейно, Как ветерком занесено, Дымно-легко, мглисто-лилейно Вдруг что-то по́рхнуло в окно. Вот невидимкой пробежало По темно брезжущим коврам, Вот, ухватясь за одеяло, Взбираться стало по краям, — Вот, словно змейка извиваясь, Оно на ложе взобралось, Вот, словно лента развеваясь, Меж пологами развилось… Вдруг животрепетным сияньем Коснувшись персей молодых, Румяным, громким восклицаньем Раскрыло шелк ресниц твоих! <Начало 1836 г>29-ое января 1837
Из чьей руки свинец смертельный Поэту сердце растерзал? Кто сей божественный фиал Разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он Пред нашей правдою земною, Навек он высшею рукою В «цареубийцы» заклеймен. Но ты, в безвременную тьму Вдруг поглощенная со света, Мир, мир тебе, о тень поэта, Мир светлый праху твоему!.. Назло людскому суесловью Велик и свят был жребий твой!.. Ты был Богов орга́н живой, Но с кровью в жилах… знойной кровью. И сею кровью благородной Ты жажду чести утолил — И, осененный, опочил Хоругвью горести народной. Вражду твою пусть Тот рассудит, Кто слышит пролитую кровь… Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!.. <Май – июль 1837 г.>1-ое декабря 1837
Так здесь-то суждено нам было Сказать последнее прости… Прости всему, чем сердце жило, Что, жизнь твою убив, ее испепелило В твоей измученной груди!.. Прости… Чрез много, много лет Ты будешь помнить с содроганьем Сей край, сей брег с его полуденным сияньем, Где вечный блеск и долгий цвет, Где поздних, бледных роз дыханьем Декабрьский воздух разогрет. <Декабрь 1837 г.>Итальянская villa
И распростясь с тревогою житейской, И кипарисной рощей заслонясь, — Блаженной тенью, тенью элисейской, Она заснула в добрый час. И вот, уж века два тому иль боле, Волшебною мечтой ограждена, В своей цветущей опочив юдоле, На волю Неба предалась она. Но Небо здесь к земле так благосклонно!.. И много лет и теплых южных зим Провеяло над нею полусонно, Не тронувши ее крылом своим. По-прежнему в углу фонтан лепечет, Под потолком гуляет ветерок, И ласточка влетает и щебечет… И спит она… и сон ее глубок!.. И мы вошли… всё было так спокойно! Так всё от века мирно и темно!.. Фонтан журчал… Недвижимо и стройно Соседний кипарис глядел в окно. …………………………. Вдруг всё смутилось: судорожный трепет По ветвям кипарисным пробежал, — Фонтан замолк – и некий чудный лепет, Как бы сквозь сон, невнятно прошептал. Что это, друг? Иль злая жизнь недаром, Та жизнь, – увы! – что в нас тогда текла Та злая жизнь, с ее мятежным жаром, Через порог заветный перешла? Декабрь 1837 г.«Давно ль, давно ль, о Юг блаженный»
Давно ль, давно ль, о Юг блаженный, Я зрел тебя лицом к лицу — И ты, как Бог разоблаченный, Доступен был мне, пришлецу?.. Давно ль – хотя без восхищенья, Но новых чувств недаром полн — И я заслушивался пенья Великих Средиземных волн! И песнь их, как во время оно, Полна гармонии была, Когда из их родного лона Киприда светлая всплыла… Они всё те же и поныне — Всё так же блещут и звучат; По их лазоревой равнине Святые призраки скользят. Но я, я с вами распростился — Я вновь на Север увлечен… Вновь надо мною опустился Его свинцовый небосклон… Здесь воздух колет. Снег обильный На высотах и в глубине — И холод, чародей всесильный, Один здесь царствует вполне. Но там, за этим царством вьюги, Там, там, на рубеже земли, На золотом, на светлом Юге, Еще я вижу вас вдали: Вы блещете еще прекрасней, Еще лазурней и свежей — И говор ваш еще согласней Доходит до души моей! Декабрь 1837 г.«С какою негою, с какой тоской влюбленной…»
С какою негою, с какой тоской влюбленной Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем! Бессмысленно-нема… нема, как опаленный Небесной молнии огнем! Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной, Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц… Но скоро добрый сон, младенчески-беспечный, Сходил на шелк твоих ресниц — И на руки к нему глава твоя склонялась, И, матери нежней, тебя лелеял он… Стон замирал в устах… дыханье уравнялось — И тих и сладок был твой сон. А днесь… О, если бы тогда тебе приснилось, Что будущность для нас обоих берегла… Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась, Иль в сон иной бы перешла. <Конец 1837 г.>«Смотри, как запад разгорелся…»
Смотри, как запад разгорелся Вечерним заревом лучей, Восток померкнувший оделся Холодной сизой чешуей! В вражде ль они между собою? Иль солнце не одно для них И, неподвижною средою Деля, не съединяет их? <Не позднее начала 1838 г.>Весна
Как ни гнетет рука судьбины, Как ни томит людей обман, Как ни браздят чело морщины И сердце как ни полно ран; Каким бы строгим испытаньям Вы ни были подчинены, — Что устоит перед дыханьем И первой встречею весны! Весна… она о вас не знает, О вас, о горе и о зле; Бессмертьем взор ее сияет, И ни морщины на челе. Своим законам лишь послушна, В условный час слетает к вам, Светла, блаженно-равнодушна, Как подобает божествам. Цветами сыплет над землею, Свежа, как первая весна; Была ль другая перед нею — О том не ведает она: По небу много облак бродит, Но эти облака ея; Она ни следу не находит Отцветших вёсен бытия. Не о былом вздыхают розы И соловей в ночи поет; Благоухающие слезы Не о былом Аврора льет, — И страх кончины неизбежной Не свеет с древа ни листа: Их жизнь, как океан безбрежный, Вся в настоящем разлита. Игра и жертва жизни частной! Приди ж, отвергни чувств обман И ринься, бодрый, самовластный, В сей животворный океан! Приди, струей его эфирной Омой страдальческую грудь — И жизни божеско-всемирной Хотя на миг причастен будь! <Не позднее 1838 г.>День и ночь
На мир таинственный духо́в, Над этой бездной безымянной, Покров наброшен златотканый Высокой волею богов. День – сей блистательный покров — День, земнородных оживленье, Души болящей исцеленье, Друг человеков и богов! Но меркнет день – настала ночь; Пришла – и с мира рокового Ткань благодатную покрова, Сорвав, отбрасывает прочь… И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ей и нами — Вот отчего нам ночь страшна! <Не позднее начала 1839 г.>«Не верь, не верь поэту, дева…»
Не верь, не верь поэту, дева; Его своим ты не зови — И пуще пламенного гнева Страшись поэтовой любви! Его ты сердца не усвоишь Своей младенческой душой; Огня палящего не скроешь Под легкой девственной фатой. Поэт всесилен, как стихия, Не властен лишь в себе самом; Невольно кудри молодые Он обожжет своим венцом. Вотще поносит или хвалит Его бессмысленный народ… Он не змиею сердце жалит, Но, как пчела, его сосет. Твоей святыни не нарушит Поэта чистая рука, Но ненароком жизнь задушит Иль унесет за облака. <Не позднее начала 1839 г.>«Живым сочувствием привета…»
Живым сочувствием привета С недостижимой высоты, О, не смущай, молю, поэта! Не искушай его мечты! Всю жизнь в толпе людей затерян, Порой доступен их страстям, Поэт, я знаю, суеверен, Но редко служит он властям. Перед кумирами земными Проходит он, главу склонив, Или стоит он перед ними Смущен и гордо-боязлив. Но если вдруг живое слово С их уст, сорвавшись, упадет И сквозь величия земного Вся прелесть женщины мелькнет, И человеческим сознаньем Их всемогущей красоты Вдруг озарятся, как сияньем, Изящно-дивные черты, — О, как в нем сердце пламенеет! Как он восторжен, умилен! Пускай служить он не умеет, — Боготворить умеет он! <Октябрь> 1840«Глядел я, стоя над Невой…»
Глядел я, стоя над Невой, Как Исаака-великана Во мгле морозного тумана Светился купол золотой. Всходили робко облака На небо зимнее, ночное, Белела в мертвенном покое Оледенелая река. Я вспомнил, грустно-молчалив, Как в тех странах, где солнце греет, Теперь на солнце пламенеет Роскошный Генуи залив… О Север, Север-чародей, Иль я тобою околдован? Иль в самом деле я прикован К гранитной полосе твоей? О, если б мимолетный дух, Во мгле вечерней тихо вея, Меня унес скорей, скорее Туда, туда, на теплый Юг… 21 ноября 1844 г.Колумб
Тебе, Колумб, тебе венец! Чертеж земной ты выполнивший смело И довершивший наконец Судеб неконченное дело, Ты завесу расторг божественной рукой — И новый мир, неведомый, нежданный, Из беспредельности туманной На Божий свет ты вынес за собой. Так связан, съединен от века Союзом кровного родства Разумный гений человека С творящей силой естества… Скажи заветное он слово — И миром новым естество Всегда откликнуться готово На голос родственный его. 1844Море и утес
И бунтует и клокочет, Хлещет, свищет и ревет, И до звезд допрянуть хочет, До незыблемых высот… Ад ли, адская ли сила Под клокочущим котлом Огнь геенский разложила — И пучину взворотила И поставила вверх дном? Волн неистовых прибоем Беспрерывно вал морской С ревом, свистом, визгом, воем Бьет в утес береговой, — Но спокойный и надменный, Дурью волн не обуян, Неподвижный, неизменный, Мирозданью современный, Ты стоишь, наш великан! И озлобленные боем, Как на приступ роковой, Снова волны лезут с воем На гранит громадный твой. Но о камень неизменный Бурный натиск преломив, Вал отбрызнул сокрушенный, И струится мутной пеной Обессиленный порыв… Стой же ты, утес могучий! Обожди лишь час, другой — Надоест волне гремучей Воевать с твоей пятой… Утомясь потехой злою, Присмиреет вновь она — И без вою, и без бою Под гигантскою пятою Вновь уляжется волна… 1848«Еще томлюсь тоской желаний…»
Еще томлюсь тоской желаний, Еще стремлюсь к тебе душой — И в сумраке воспоминаний Еще ловлю я образ твой… Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной везде, всегда, Недостижимый, неизменный, Как ночью на небе звезда… 1848«Неохотно и несмело…»
Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы, Дальний гром и дождь порой… Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые Все сердитей и смелей. Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонула Вся смятенная земля. 6 июня 1849 г.«Итак, опять увиделся я с вами…»
Итак, опять увиделся я с вами, Места немилые, хоть и родные, Где мыслил я и чувствовал впервые И где теперь туманными очами, При свете вечереющего дня, Мой детский возраст смотрит на меня. О бедный призрак, немощный и смутный, Забытого, загадочного счастья! О, как теперь без веры и участья Смотрю я на тебя, мой гость минутный, Куда как чужд ты стал в моих глазах, Как брат меньшой, умерший в пеленах… Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный Был для души моей родимым краем — Не здесь расцвел, не здесь был величаем Великий праздник молодости чудной. Ах, и не в эту землю я сложил Всё, чем я жил и чем я дорожил! 13 июня 1849 г.«Тихой ночью, поздним летом…»
Тихой ночью, поздним летом, Как на небе звезды рдеют, Как под сумрачным их светом Нивы дремлющие зреют… Усыпительно-безмолвны, Как блестят в тиши ночной Золотистые их волны, Убеленные луной… 23 июля 1849 г.«Когда в кругу убийственных забот…»
Когда в кругу убийственных забот Нам всё мерзит – и жизнь, как камней груда, Лежит на нас, – вдруг, знает Бог откуда, Нам на душу отрадное дохнет, Минувшим нас обвеет и обнимет И страшный груз минутно приподнимет. Так иногда, осеннею порой, Когда поля уж пусты, рощи голы, Бледнее небо, пасмурнее долы, Вдруг ветр подует, теплый и сырой, Опавший лист погонит пред собою И душу нам обдаст как бы весною… 22 октября 1849 г.«По равнине вод лазурной…»
По равнине вод лазурной Шли мы верною стезей, — Огнедышащий и бурный Уносил нас змей морской. С неба звезды нам светили, Снизу и́скрилась волна, И метелью влажной пыли Обдавала нас она. Мы на палубе сидели, Многих сон одолевал… Всё звучней колеса пели, Разгребая шумный вал… Приутих наш круг веселый, Женский говор, женский шум. Подпирает локоть белый Много милых, сонных дум. Сны играют на просторе Под магической луной — И баюкает их море Тихоструйною волной. 29 ноября 1849 г.«Вновь твои я вижу очи…»
Вновь твои я вижу очи — И один твой южный взгляд Киммерийской грустной ночи Вдруг рассеял сонный хлад… Воскресает предо мною Край иной – родимый край Словно прадедов виною Для сынов погибший рай… Лавров стройных колыханье Зыблет воздух голубой, Моря тихое дыханье Провевает летний зной, Целый день на солнце зреет Золотистый виноград, Баснословной былью веет Из-под мраморных аркад… Сновиденьем безобразным Скрылся Север роковой, Сводом легким и прекрасным Светит небо надо мной. Снова жадными очами Свет живительный я пью И под чистыми лучами Край волшебный узнаю. <1849>«Слезы людские, о слезы людские…»
Слезы людские, о слезы людские, Льетесь вы ранней и поздней порой… Льетесь безвестные, льетесь незримые, Неистощимые, неисчислимые, — Льетесь, как льются струи дождевые В осень глухую, порою ночной. <Осень 1849 г.>«Как он любил родные ели…»
Как он любил родные ели Своей Савойи дорогой! Как мелодически шумели Их ветви над его главой!.. Их мрак торжественно-угрюмый И дикий, заунывный шум Какою сладостною думой Его обворожали ум!.. <1849>«Как дымный столп светлеет в вышине!..»
Как дымный столп светлеет в вышине! — Как тень внизу скользит неуловима!.. «Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, Не светлый дым, блестящий при луне, А эта тень, бегущая от дыма…» <1848 или 1849>Русской женщине
Вдали от солнца и природы, Вдали от света и искусства, Вдали от жизни и любви Мелькнут твои младые годы, Живые помертвеют чувства, Мечты развеются твои… И жизнь твоя пройдет незрима, В краю безлюдном, безымянном, На незамеченной земле, — Как исчезает облак дыма На небе тусклом и туманном, В осенней беспредельной мгле… <1848 или 1849>Наполеон
I Сын Революции, ты с матерью ужасной Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе… Не одолел ее твой гений самовластный!.. Бой невозможный, труд напрасный!.. Ты всю ее носил в самом себе… II Два демона ему служили, Две силы чудно в нем слились: В его главе – орлы парили, В его груди – змии вились… Ширококрылых вдохновений Орлиный, дерзостный полет, И в самом буйстве дерзновений Змииной мудрости расчет. Но освящающая сила, Непостижимая уму, Души его не озарила И не приблизилась к нему… Он был земной, не Божий пламень, Он гордо плыл – презритель волн, — Но о подводный веры камень В щепы разбился утлый чёлн. III И ты стоял – перед тобой Россия! И, вещий волхв, в предчувствии борьбы, Ты сам слова промолвил роковые: «Да сбудутся ее судьбы!..» И не напрасно было заклинанье: Судьбы откликнулись на голос твой!.. Но новою загадкою в изгнанье Ты возразил на отзыв роковой… Года прошли – и вот, из ссылки тесной На родину вернувшийся мертвец, На берегах реки, тебе любезной, Тревожный дух, почил ты наконец… Но чуток сон – и по ночам, тоскуя, Порою встав, он смотрит на Восток, И вдруг, смутясь, бежит, как бы почуя Передрассветный ветерок. <Не позднее начала 1850 г.>«Святая ночь на небосклон взошла…»
Святая ночь на небосклон взошла, И день отрадный, день любезный Как золотой покров она свила, Покров, накинутый над бездной. И, как виденье, внешний мир ушел… И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь, и немощен и гол, Лицом к лицу пред пропастию темной. На самого себя покинут он — Упра́зднен ум, и мысль осиротела — В душе своей, как в бездне, погружен, И нет извне опоры, ни предела… И чудится давно минувшим сном Ему теперь все светлое, живое… И в чуждом, неразгаданном, ночном Он узнаёт наследье родовое. <Между 1848 г. и мартом 1850 г>Поэзия
Среди громов, среди огней, Среди клокочущих страстей, В стихийном, пламенном раздоре, Она с небес слетает к нам — Небесная к земным сынам, С лазурной ясностью во взоре — И на бунтующее море Льет примирительный елей. <Не позднее начала 1850 г.>Рим ночью
В ночи лазурной почивает Рим. Взошла луна и овладела им, И спящий град, безлюдно-величавый, Наполнила своей безмолвной славой… Как сладко дремлет Рим в ее лучах! Как с ней сроднился Рима вечный прах!.. Как будто лунный мир и град почивший — Все тот же мир, волшебный, но отживший!.. <Не позднее начала 1850 г.>Венеция
Дож Венеции свободной Средь лазоревых зыбей, Как жених порфирородный, Достославно, всенародно Обручался ежегодно С Адриатикой своей. И недаром в эти годы Он кольцо свое бросал: Веки целые, не годы (Дивовалися народы), Чудный перстень воеводы Их вязал и чаровал… И чета в любви и мире Много славы нажила — Века три или четыре, Все могучее и шире, Разрасталась в целом мире Тень от львиного крыла. А теперь? В волнах забвенья Сколько брошенных колец!.. Миновались поколенья, — Эти кольца обрученья, Эти кольца стали звенья Тяжкой цепи наконец!.. <Не позднее начала 1850 г.>«Кончен пир, умолкли хоры…»
Кончен пир, умолкли хоры, Опорожнены амфоры, Опрокинуты корзины, Не допиты в кубках вины, На главах венки измяты, — Лишь курятся ароматы В опустевшей светлой зале… Кончив пир, мы поздно встали — Звезды на небе сияли, Ночь достигла половины… Как над беспокойным градом, Над дворцами, над домами, Шумным уличным движеньем С тускло-рдяным освещеньем И бессонными толпами, — Как над этим дольным чадом, В горнем выспреннем пределе Звезды чистые горели, Отвечая смертным взглядам Непорочными лучами… <Не позднее начала 1850 г.>«Пошли, Господь, свою отраду…»
Пошли, Господь, свою отраду Тому, кто в летний жар и зной Как бедный нищий мимо саду Бредет по жаркой мостовой; Кто смотрит вскользь через ограду На тень деревьев, злак долин, На недоступную прохладу Роскошных, светлых луговин. Не для него гостеприимной Деревья сенью разрослись, Не для него, как облак дымный, Фонтан на воздухе повис. Лазурный грот, как из тумана, Напрасно взор его манит, И пыль росистая фонтана Главы его не освежит. Пошли, Господь, свою отраду Тому, кто жизненной тропой Как бедный нищий мимо саду Бредет по знойной мостовой. Июль 1850 г.На Неве
И опять звезда ныряет В легкой зыби невских волн, И опять любовь вверяет Ей таинственный свой чёлн. И меж зыбью и звездою Он скользит как бы во сне, И два призрака с собою Вдаль уносит по волне. Дети ль это праздной лени Тратят здесь досуг ночной? Иль блаженные две тени Покидают мир земной? Ты, разлитая как море, Пышноструйная волна, Приюти в твоем просторе Тайну скромного челна! Июль 1850 г«Как ни дышит полдень знойный…»
Как ни дышит полдень знойный В растворенное окно, В этой храмине спокойной, Где всё тихо и темно, Где живые благовонья Бродят в сумрачной тени, В сладкий сумрак полусонья Погрузись и отдохни. Здесь фонтан неутомимый День и ночь поет в углу И кропит росой незримой Очарованную мглу. И в мерцанье полусвета, Тайной страстью занята, Здесь влюбленного поэта Веет легкая мечта. <Июль 1850 г.>«Не рассуждай, не хлопочи!..»
Не рассуждай, не хлопочи!.. Безумство ищет, глупость судит; Дневные раны сном лечи, А завтра быть чему, то будет. Живя, умей всё пережить: Печаль, и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит – и слава богу! <Июль 1850 г.>«Под дыханьем непогоды…»
Под дыханьем непогоды, Вздувшись, потемнели воды И подернулись свинцом — И сквозь глянец их суровый Вечер пасмурно-багровый Светит радужным лучом. Сыплет искры золотые, Сеет розы огневые И уносит их поток. Над волной темнолазурной Вечер пламенный и бурный Обрывает свой венок… 12 августа 1850 г.«Обвеян вещею дремотой…»
Обвеян вещею дремотой, Полураздетый лес грустит… Из летних листьев разве сотый, Блестя осенней позолотой, Еще на ветви шелестит. Гляжу с участьем умиленным, Когда, пробившись из-за туч, Вдруг по деревьям испещренным, С их ветхим листьем изнуренным, Молниевидный брызнет луч. Как увядающее мило! Какая прелесть в нем для нас, Когда, что так цвело и жило, Теперь, так немощно и хило, В последний улыбнется раз!.. 15 сентября 1850 г.Два голоса
1 Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, Хоть бой и неравен, борьба безнадежна! Над вами светила молчат в вышине, Под вами могилы – молчат и оне. Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги: Бессмертье их чуждо труда и тревоги; Тревога и труд лишь для смертных сердец… Для них нет победы, для них есть конец. 2 Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, Как бой ни жесток, ни упорна борьба! Над вами безмолвные звездные круги, Под вами немые, глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком Глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком, Тот вырвал из рук их победный венец. <1850>«Смотри, как на речном просторе…»
Смотри, как на речном просторе, По склону вновь оживших вод, Во всеобъемлющее море За льдиной льдина вслед плывет. На солнце ль радужно блистая, Иль ночью в поздней темноте, Но все, неизбежимо тая, Они плывут к одной мете. Все вместе – малые, большие, Утратив прежний образ свой, Все – безразличны, как стихия, — Сольются с бездной роковой!.. О, нашей мысли оболыценье, Ты, человеческое Я, Не таково ль твое значенье, Не такова ль судьба твоя? <Не позднее весны 1851 г.>«О, как убийственно мы любим…»
О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей! Давно ль, гордясь своей победой, Ты говорил: она моя… Год не прошел – спроси и сведай, Что уцелело от нея? Куда ланит девались розы, Улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы Горючей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, При первой встрече роковой, Ее волшебный взор, и речи, И смех младенчески-живой? И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, Был мимолетным гостем он! Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была, И незаслуженным позором На жизнь ее она легла! Жизнь отреченья, жизнь страданья! В ее душевной глубине Ей оставались вспоминанья… Но изменили и оне. И на земле ей дико стало, Очарование ушло… Толпа, нахлынув, в грязь втоптала То, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мученья, Как пепл, сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточенья, Боль без отрады и без слёз! О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!.. <Первая половина 1851 г.>«Не знаю я, коснется ль благодать…»
Не знаю я, коснется ль благодать Моей души болезненно-греховной, Удастся ль ей воскреснуть и восстать Пройдет ли обморок духовный? Но если бы душа могла Здесь, на земле, найти успокоенье, Мне благодатью ты б была — Ты, ты, мое земное провиденье!.. <Апрель 1851 г>Первый лист
Лист зеленеет молодой. Смотри, как листьем молодым Стоят обвеяны березы, Воздушной зеленью сквозной, Полупрозрачною, как дым… Давно им грезилось весной, Весной и летом золотым, — И вот живые эти грезы, Под первым небом голубым, Пробились вдруг на свет дневной… О, первых листьев красота, Омытых в солнечных лучах, С новорожденною их тенью! И слышно нам по их движенью, Что в этих тысячах и тьмах Не встретишь мертвого листа. Май 1851 г.«Не раз ты слышала признанье…»
Не раз ты слышала признанье: «Не стою я любви твоей». Пускай мое она созданье — Но как я беден перед ней… Перед любовию твоею Мне больно вспомнить о себе — Стою, молчу, благоговею И поклоняюся тебе… Когда, порой, так умиленно, С такою верой и мольбой Невольно клонишь ты колено Пред колыбелью дорогой, Где спит она – твое рожденье — Твой безымянный херувим, — Пойми ж и ты мое смиренье Пред сердцем любящим твоим. <1851>Наш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек отчаянно тоскует… Он к свету рвется из ночной тени И, свет обретши, ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, Невыносимое он днесь выносит… И сознает свою погибель он, И жаждет веры – но о ней не просит… Не скажет ввек, с молитвой и слезой, Как ни скорбит перед замкнутой дверью: «Впусти меня! – Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!..» 10 июня 1851 г.Волна и дума
Дума за думой, волна за волной — Два проявленья стихии одной: В сердце ли тесном, в безбрежном ли море, Здесь – в заключении, там – на просторе, — Тот же все вечный прибой и отбой, Тот же все призрак тревожно-пустой. 14 июля 1851 г.«Не остывшая от зною…»
Не остывшая от зною, Ночь июльская блистала… И над тусклою землею Небо, полное грозою, Все в зарницах трепетало… Словно тяжкие ресницы Подымались над землею, И сквозь беглые зарницы Чьи-то грозные зеницы Загоралися порою… 14 июля 1851 г.«В разлуке есть высокое значенье…»
В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье, И рано ль, поздно ль пробужденье, А должен наконец проснуться человек… 6 августа 1851 г.«Как весел грохот летних бурь…»
Как весел грохот летних бурь, Когда, взметая прах летучий, Гроза, нахлынувшая тучей, Смутит небесную лазурь И опрометчиво-безумно Вдруг на дубраву набежит, И вся дубрава задрожит Широколиственно и шумно!.. Как под незримою пятой, Лесные гнутся исполины; Тревожно ропщут их вершины, Как совещаясь меж собой, — И сквозь внезапную тревогу Немолчно слышен птичий свист, И кой-где первый желтый лист, Крутясь, слетает на дорогу… 1851«День вечереет, ночь близка…»
День вечереет, ночь близка, Длинней с горы ложится тень, На небе гаснут облака… Уж поздно. Вечереет день. Но мне не страшен мрак ночной, Не жаль скудеющего дня, — Лишь ты, волшебный призрак мой, Лишь ты не покидай меня!.. Крылом своим меня одень, Волненья сердца утиши, И благодатна будет тень Для очарованной души. Кто ты? Откуда? Как решить, Небесный ты или земной? Воздушный житель, может быть, — Но с страстной женскою душой. 1 ноября 1851 г.Предопределение
Любовь, любовь – гласит преданье — Союз души с душой родной — Их съединенье, сочетанье, И роковое их слиянье, И… поединок роковой… И чем одно из них нежнее В борьбе неравной двух сердец, Тем неизбежней и вернее, Любя, страдая, грустно млея, Оно изноет на конец… <1851 или начало 1852 г.>«Не говори: меня он, как и прежде, любит…»
Не говори: меня он, как и прежде, любит, Мной, как и прежде, дорожит… О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, Хоть, вижу, нож в руке его дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, Увлечена, в душе уязвлена, Я стражду, не живу… им, им одним живу я — Но эта жизнь!.. О, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно… Не мерят так и лютому врагу… Ох, я дышу еще болезненно и трудно, Могу дышать, но жить уж не могу. <1851 или начало 1852 г.>«О, не тревожь меня укорой справедливой…»
О, не тревожь меня укорой справедливой! Поверь, из нас из двух завидней часть твоя: Ты любишь искренно и пламенно, а я — Я на тебя гляжу с досадою ревнивой. И, жалкий чародей, перед волшебным миром, Мной созданным самим, без веры я стою — И самого себя, краснея, сознаю Живой души твоей безжизненным кумиром. <1851 или начало 1852 г.>«Чему молилась ты с любовью…»
Чему молилась ты с любовью, Что, как святыню, берегла, Судьба людскому суесловью На поруганье предала. Толпа вошла, толпа вломилась В святилище души твоей, И ты невольно постыдилась И тайн и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья Души, парящей над толпой, Ее спасали от насилья Бессмертной пошлости людской! <1851 или начало 1852 г.>«Я очи знал, – о, эти очи…»
Я очи знал, – о, эти очи! Как я любил их, – знает Бог! От их волшебной, страстной ночи Я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре, Жизнь обнажающем до дна, Такое слышалося горе, Такая страсти глубина! Дышал он грустный, углубленный В тени ресниц ее густой, Как наслажденье, утомленный И, как страданье, роковой. И в эти чудные мгновенья Ни разу мне не довелось С ним повстречаться без волненья И любоваться им без слёз. <Не позднее начала 1852 г.>Близнецы
Есть близнецы – для земнородных Два божества, – то Смерть и Сон, Как брат с сестрою дивно сходных — Она угрюмей, кротче он… Но есть других два близнеца — И в мире нет четы прекрасней, И обаянья нет ужасней, Ей преда ющего сердца… Союз их кровный, не случайный, И только в роковые дни Своей неразрешимой тайной Обворожают нас они. И кто в избытке ощущений, Когда кипит и стынет кровь, Не ведал ваших искушений — Самоубийство и Любовь! <Не позднее начала 1852 г.>«Ты, волна моя морская…»
Mobile сотте l’onde[4].
Ты, волна моя морская, Своенравная волна, Как, покоясь иль играя, Чудной жизни ты полна! Ты на солнце ли смеешься, Отражая неба свод, Иль мятешься ты и бьешься В одичалой бездне вод, — Сладок мне твой тихий шепот Полный ласки и любви; Внятен мне и буйный ропот, Стоны вещие твои. Будь же ты в стихии бурной То угрюма, то светла, Но в ночи твоей лазурной Сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, В зыбь твою я опустил, И не камень самоцветный Я в тебе похоронил. Нет – в минуту роковую, Тайной прелестью влеком, Душу, душу я живую Схоронил на дне твоем. Апрель 1852 г.Памяти в. А. Жуковского
1 Я видел вечер твой. Он был прекрасен! В последний раз прощаяся с тобой, Я любовался им: и тих, и ясен, И весь насквозь проникнут теплотой… О, как они и грели и сияли — Твои, поэт, прощальные лучи… А между тем заметно выступали Уж звезды первые в его ночи… 2 В нем не было ни лжи, ни раздвоенья — Он все в себе мирил и совмещал. С каким радушием благоволенья Он были мне Омировы читал… Цветущие и радужные были Младенческих первоначальных лет… А звезды между тем на них сводили Таинственный и сумрачный свой свет… 3 Поистине, как голубь, чист и цел Он духом был; хоть мудрости змииной Не презирал, понять ее умел, Но веял в нем дух чисто голубиный. И этою духовной чистотою Он возмужал, окреп и просветлел. Душа его возвысилась до строю: Он стройно жил, он стройно пел… 4 И этот-то души высокий строй, Создавший жизнь его, проникший лиру, Как лучший плод, как лучший подвиг свой, Он завещал взволнованному миру… Поймет ли мир, оценит ли его? Достойны ль мы священного залога? Иль не про нас сказало божество: «Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!» <Конец июня 1852 г.>«Сияет солнце, воды блещут…»
Сияет солнце, воды блещут, На всем улыбка, жизнь во всем, Деревья радостно трепещут, Купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, Любовью воздух растворен, И мир, цветущий мир природы, Избытком жизни упоен. Но и в избытке упоенья Нет упоения сильней Одной улыбки умиленья Измученной души твоей… 28 июля 1852 г.«Чародейкою Зимою…»
Чародейкою Зимою Околдован, лес стоит — И под снежной бахромою, Неподвижною, немою, Чудной жизнью он блестит. И стоит он, околдован, — Не мертвец и не живой — Сном волшебным очарован, Весь опутан, весь окован Легкой цепью пуховой… Солнце зимнее ли мещет На него свой луч косой — В нем ничто не затрепещет, Он весь вспыхнет и заблещет Ослепительной красой. 31 декабря 1852 г.Неман
Ты ль это, Неман величавый? Твоя ль струя передо мной? Ты, столько лет, с такою славой, России верный часовой?.. Один лишь раз, по воле Бога, Ты супостата к ней впустил — И целость русского порога Ты тем навеки утвердил… Ты помнишь ли былое, Неман? Тот день годины роковой, Когда стоял он над тобой Он сам – могучий южный демон, И ты, как ныне, протекал, Шумя под вражьими мостами, И он струю твою ласкал Своими чудными очами?.. Победно шли его полки, Знамена весело шумели, На солнце искрились штыки, Мосты под пушками гремели — И с высоты, как некий бог, Казалось, он парил над ними И двигал всем и всё стерег Очами чудными своими… Лишь одного он не видал… Не видел он, воитель дивный, Что там, на стороне противной, Стоял Другой – стоял и ждал… И мимо проходила рать — Всё грозно-боевые лица, И неизбежная Десница Клала на них свою печать… И так победно шли полки, Знамена гордо развевались, Струились молнией штыки, И барабаны заливались… Несметно было их число — И в этом бесконечном строе Едва ль десятое чело Клеймо минуло роковое… <5–7 сентября 1853 г.>Последняя любовь
О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, — Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье. Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность… О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадежность. <Между 1852 и началом 1854 г.>Лето 1854
Какое лето, что за лето! Да это просто колдовство — И как, прошу, далось нам это Так ни с того и ни с сего?.. Гляжу тревожными глазами На этот блеск, на этот свет… Не издеваются ль над нами? Откуда нам такой привет?.. Увы, не так ли молодая Улыбка женских уст и глаз, Не восхищая, не прельщая, Под старость лишь смущает нас. <Начало августа 1854 г.>«Увы, что нашего незнанья…»
Увы, что нашего незнанья И беспомо́щней и грустней? Кто смеет молвить: до свиданья Чрез бездну двух или трех дней? 11 сентября 1854 г.На новый 1855 год
Стоим мы слепо пред Судьбою, Не нам сорвать с нее покров… Я не свое тебе открою, Но бред пророческий духов… Еще нам далеко до цели, Гроза ревет, гроза растет, — И вот – в железной колыбели, В громах родится Новый год… Черты его ужасно строги, Кровь на руках и на челе… Но не одни войны тревоги Несет он миру на земле! Не просто будет он воитель, Но исполнитель Божьих кар, — Он совершит, как поздний мститель, Давно обдуманный удар… Для битв он послан и расправы, С собой несет он два меча: Один – сражений меч кровавый, Другой – секиру палача. Но для кого?.. Одна ли выя, Народ ли целый обречен?.. Слова неясны роковые, И смутен замогильный сон… <Конец 1854 г. или начало 1855 г.>«Пламя рдеет, пламя пышет…»
Пламя рдеет, пламя пышет, Искры брызжут и летят, А на них прохладой дышит Из-за речки темный сад. Сумрак тут, там жар и крики, Я брожу как бы во сне, — Лишь одно я живо чую: Ты со мной и вся во мне. Треск за треском, дым за дымом, Трубы голые торчат, А в покое нерушимом Листья веют и шуршат. Я, дыханьем их обвеян, Страстный говор твой ловлю… Слава богу, я с тобою, А с тобой мне – как в раю. 10 июля 1855 г.«Так, в жизни есть мгновения…»
Так, в жизни есть мгновения — Их трудно передать, Они самозабвения Земного благодать. Шумят верхи древесные Высоко надо мной, И птицы лишь небесные Беседуют со мной. Всё пошлое и ложное Ушло так далеко, Всё мило-невозможное Так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, И мир в моей груди, Дремотою обвеян я — О время, погоди! <Июль 1855 г.>«Эти бедные селенья…»
Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя. 13 августа 1855 г.«Вот от моря и до моря…»
Вот от моря и до моря Нить железная скользит, Много славы, много горя Эта нить порой гласит. И, за ней следя глазами, Путник видит, как порой Птицы вещие садятся Вдоль по нити вестовой. Вот с поляны ворон черный Прилетел и сел на ней, Сел и каркнул, и крылами Замахал он веселей. И кричит он, и ликует, И кружится всё над ней: Уж не кровь ли ворон чует Севастопольских вестей? 13 августа 1855 г.«О вещая душа моя…»
О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге Как бы двойного бытия!.. Так, ты – жилица двух миров, Твой день – болезненный и страстный, Твой сон – пророчески-неясный, Как откровение духов… Пускай страдальческую грудь Волнуют страсти роковые — Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть. 1855«Молчи, прошу, не смей меня будить…»
<Из Микеланджело>
Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать – удел завидный… Отрадно спать, отрадней камнем быть. 1855«Не Богу ты служил и не России…»
Не Богу ты служил и не России, Служил лишь суете своей, И все дела твои, и добрые и злые, — Всё было ложь в тебе, все призраки пустые: Ты был не царь, а лицедей. <1855>«Всё, что сберечь мне удалось…»
Всё, что сберечь мне удалось, Надежды, веры и любви, В одну молитву все слилось: Переживи, переживи! 8 апреля 1856 г.Н. Ф. Щербине
Вполне понятно мне значенье Твоей болезненной мечты, Твоя борьба, твое стремленье, Твое тревожное служенье Пред идеалом красоты… Так узник эллинский, порою Забывшись сном среди степей, Под скифской вьюгой снеговою, Свободой бредил золотою И небом Греции своей. 4 февраля 1857 г.«Над этой темною толпой…»
Над этой темною толпой Непробужденного народа Взойдешь ли ты когда, Свобода, Блеснет ли луч твой золотой?.. Блеснет твой луч и оживит, И сон разгонит и туманы… Но старые, гнилые раны, Рубцы насилий и обид, Растленье душ и пустота, Что гложет ум и в сердце ноет, — Кто их излечит, кто прикроет?.. Ты, риза чистая Христа… 15 августа 1857 г.«Есть в осени первоначальной…»
Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора — Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера… Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь уж пусто всё – простор везде, — Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко еще до первых зимних бурь И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле… 22 августа 1857 г.«Смотри, как роща зеленеет…»
Смотри, как роща зеленеет, Палящим солнцем облита, А в ней какою негой веет От каждой ветки и листа! Войдем и сядем над корнями Дерев, поимых родником, — Там, где, обвеянный их мглами, Он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, В полдневный зной погружены, И лишь порою крик орлиный До нас доходит с вышины… <Конец> августа 1857 г.«В часы, когда бывает…»
В часы, когда бывает Так тяжко на груди, И сердце изнывает, И тьма лишь впереди; Без сил и без движенья, Мы так удручены, Что даже утешенья Друзей нам не смешны, — Вдруг солнца луч приветный Войдет украдкой к нам И брызнет огнецветной Струею по стенам; И с тверди благосклонной, С лазуревых высот Вдруг воздух благовонный В окно на нас пахнет… Уроков и советов Они нам не несут, И от судьбы наветов Они нас не спасут. Но силу их мы чуем, Их слышим благодать, И меньше мы тоскуем, И легче нам дышать… Так мило-благодатна, Воздушна и светла, Душе моей стократно Любовь твоя была. <Не позднее апреля 1858 г.>«Она сидела на полу…»
Она сидела на полу И груду писем разбирала, И, как остывшую золу, Брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы И чудно так на них глядела, Как души смотрят с высоты На ими брошенное тело… О, сколько жизни было тут, Невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут, Любви и радости убитой!.. Стоял я молча в стороне И пасть готов был на колени, И страшно грустно стало мне, Как от присущей милой тени. <Не позднее апреля 1858 г.>Успокоение
Когда, что звали мы своим, Навек от нас ушло И, как под камнем гробовым, Нам станет тяжело, — Пойдем и бросим беглый взгляд Туда, по склону вод, Куда стремглав струи спешат, Куда поток несет. Одна другой наперерыв Спешат, бегут струи На чей-то роковой призыв, Им слышимый вдали… За ними тщетно мы следим — Им не вернуться вспять… Но чем мы долее глядим, Тем легче нам дышать… И слезы брызнули из глаз — И видим мы сквозь слёз, Как все, волнуясь и клубясь, Быстрее понеслось… Душа впадает в забытье, И чувствует она, Что вот уносит и ее Всесильная волна. 15 августа 1858 г.«Осенней позднею порою…»
Осенней позднею порою Люблю я царскосельский сад, Когда он тихой полумглою Как бы дремотою объят, И белокрылые виденья, На тусклом озера стекле, В какой-то неге онеменья Коснеют в этой полумгле… И на порфирные ступени Екатерининских дворцов Ложатся сумрачные тени Октябрьских ранних вечеров — И сад темнеет, как дуброва, И при звездах из тьмы ночной, Как отблеск славного былого, Выходит купол золотой… 22 октября 1858 г.На возвратном пути
I Грустный вид и грустный час — Дальний путь торопит нас… Вот, как призрак гробовой, Месяц встал – и из тумана Осветил безлюдный край… Путь далек – не унывай… Ах, и в этот самый час, Там, где нет теперь уж нас, Тот же месяц, но живой, Дышит в зеркале Лемана… Чудный вид и чудный край — Путь далек – не вспоминай… II Родной ландшафт… Под дымчатым навесом Огромной тучи снеговой Синеет даль – с ее угрюмым лесом, Окутанным осенней мглой… Все голо так – и пусто-необъятно В однообразии немом… Местами лишь просвечивают пятна Стоячих вод, покрытых первым льдом. Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья — Жизнь отошла – и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе. Как свет дневной, его тускнеют взоры, Не верит он, хоть видел их вчера, Что есть края, где радужные горы В лазурные глядятся озера… <Конец> октября 1859 г.Декабрьское утро
На небе месяц – и ночная Еще не тронулася тень, Царит себе, не сознавая, Что вот уж встрепенулся день, — Что, хоть лениво и несмело Луч возникает за лучом, А небо так еще всецело Ночным сияет торжеством. Но не пройдет двух-трех мгновений, Ночь испарится над землей, И в полном блеске проявлений Вдруг нас охватит мир дневной… Декабрь <1859>Е. Н. Анненковой
И в нашей жизни повседневной Бывают радужные сны, В край незнакомый, в мир волшебный, И чуждый нам и задушевный, Мы ими вдруг увлечены. Мы видим: с голубого своду Нездешним светом веет нам, Другую видим мы природу, И без заката, без восходу Другое солнце светит там… Все лучше там, светлее, шире Так от земного далеко… Так разно с тем, что в нашем мире, — И в чистом пламенном эфире Душе так родственно-легко. Проснулись мы, – конец виденью, Его ничем не удержать, И тусклой, неподвижной тенью, Вновь обреченных заключенью, Жизнь обхватила нас опять. Но долго звук неуловимый Звучит над нами в вышине, И пред душой, тоской томимой, Все тот же взор неотразимый, Все та ж улыбка, что во сне. 1859«Хоть я и свил гнездо в долине…»
Хоть я и свил гнездо в долине, Но чувствую порой и я, Как животворно на вершине Бежит воздушная струя, — Как рвется из густого слоя, Как жаждет горних наша грудь, Как все удушливо-земное Она хотела б оттолкнуть! На недоступные громады Смотрю по целым я часам, — Какие росы и прохлады Оттуда с шумом льются к нам! Вдруг просветлеют огнецветно Их непорочные снега: По ним проходит незаметно Небесных ангелов нога… <Октябрь 1860 г.>На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского
У Музы есть различные пристрастья, Дары ее даются не равно; Стократ она божественнее счастья, Но своенравна, как оно. Иных она лишь на заре лелеет, Целует шелк их кудрей молодых, Но ветерок чуть жарче лишь повеет — И с первым сном она бежит от них. Тем у ручья, на луговине тайной, Нежданная, является порой, Порадует улыбкою случайной, Но после первой встречи нет второй! Не то от ней присуждено вам было: Вас юношей настигнув в добрый час, Она в душе вас крепко полюбила И долго всматривалась в вас. Досужая, она не мимоходом Пеклась о вас, ласкала, берегла, Растила ваш талант, и с каждым годом Любовь ее нежнее все была. И как с годами крепнет, пламенея, Сок благородный виноградных лоз, — И в кубок ваш все жарче и светлее Так вдохновение лилось. И никогда таким вином, как ныне, Ваш славный кубок венчан не бывал. Давайте ж, князь, подымем в честь богине Ваш полный, пенистый фиал! Богине в честь, хранящей благородно Залог всего, что свято для души, Родную речь… расти она свободно И подвиг свой великий доверши! Потом мы все, в молитвенном молчанье, Священные поминки сотворим, Мы сотворим тройное возлиянье Трем незабвенно-дорогим. Нет отклика на голос, их зовущий, Но в светлый праздник ваших именин Кому ж они не близки, не присущи — Жуковский, Пушкин, Карамзин!.. Так верим мы, незримыми гостями Теперь они, покинув горний мир, Сочувственно витают между нами И освящают этот пир. За ними, князь, во имя Музы вашей, Подносим вам заздравное вино, И долго-долго в этой светлой чаше Пускай кипит и искрится оно!.. <Конец февраля 1861 г.>«Я знал ее еще тогда…»
Я знал ее еще тогда, В те баснословные года, Как перед утренним лучом Первоначальных дней звезда Уж тонет в небе голубом… И все еще была она Той свежей прелести полна, Той дорассветной темноты, Когда, незрима, неслышна, Роса ложится на цветы… Вся жизнь ее тогда была Так совершенна, так цела И так среде земной чужда, Что, мнится, и она ушла И скрылась в небе, как звезда. 27 марта 1861 г.«Играй, покуда над тобою…»
Играй, покуда над тобою Еще безоблачна лазурь; Играй с людьми, играй с судьбою, Ты – жизнь, назначенная к бою, Ты – сердце, жаждущее бурь. Как часто, грустными мечтами Томимый, на тебя гляжу, И взор туманится слезами… Зачем? Что общего меж нами? Ты жить идешь – я ухожу. Я слышал утренние грезы Лишь пробудившегося дня… Но поздние, живые грозы, Но взрыв страстей, но страсти слезы, Нет, это все не для меня! Но, может быть, под зноем лета Ты вспомнишь о своей весне… О, вспомни и про время это, Как о забытом до рассвета Нам смутно грезившемся сне. 25 июля 1861 г.При посылке Нового Завета
Не легкий жребий, не отрадный, Был вынут для тебя судьбой, И рано с жизнью беспощадной Вступила ты в неравный бой. Ты билась с мужеством немногих, И в этом роковом бою Из испытаний самых строгих Всю душу вынесла свою. Нет, жизнь тебя не победила, И ты в отчаянной борьбе Ни разу, друг, не изменила Ни правде сердца, ни себе. Но скудны все земные силы: Рассвирепеет жизни зло — И нам, как на краю могилы, Вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью О книге сей ты вспомяни — И всей душой, как к изголовью, К ней припади и отдохни. 1861«Иным достался от природы…»
Иным достался от природы Инстинкт пророчески-слепой — Они им чуют, слышат воды И в темной глубине земной… Великой Матерью любимый, Стократ завидней твой удел — Не раз под оболочкой зримой Ты самое ее узрел… 14 апреля 1862 г.Н. И. Кролю
Сентябрь холодный бушевал, С деревьев ржавый лист валился, День потухающий дымился, Сходила ночь, туман вставал. И все для сердца и для глаз Так было холодно-бесцветно, Так было грустно-безответно, — Но чья-то песнь вдруг раздалась… И вот, каким-то обаяньем, Туман, свернувшись, улетел, Небесный свод поголубел И вновь подернулся сияньем… И все опять зазеленело, Все обратилося к весне… И эта греза снилась мне, Пока мне птичка ваша пела. <1863>«Утихла биза… Легче дышит…»
Утихла биза… Легче дышит Лазурный сонм женевских вод — И лодка вновь по ним плывет, И снова лебедь их колышет. Весь день, как летом, солнце греет, Деревья блещут пестротой, И воздух ласковой волной Их пышность ветхую лелеет. А там, в торжественном покое, Разоблаченная с утра, Сияет Белая гора, Как откровенье неземное. Здесь сердце так бы все забыло, Забыло б муку всю свою, Когда бы там – в родном краю — Одной могилой меньше было… 11 октября 1864 г.«Как неразгаданная тайна…»
Как неразгаданная тайна, Живая прелесть дышит в ней — Мы смотрим с трепетом тревожным На тихий свет ее очей. Земное ль в ней очарованье, Иль неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, А сердце рвется обожать… 3 ноября 1864 г.«О, этот Юг, о, эта Ницца!..»
О, этот Юг, о, эта Ницца!.. О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, Подняться хочет – и не может… Нет ни полета, ни размаху — Висят поломанные крылья, И вся она, прижавшись к праху, Дрожит от боли и бессилья… 21 ноября 1864 г.«Весь день она лежала в забытьи…»
Весь день она лежала в забытьи, И всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь – его струи По листьям весело звучали. И медленно опомнилась она, И начала прислушиваться к шуму, И долго слушала – увлечена, Погружена в сознательную думу… И вот, как бы беседуя с собой, Сознательно она проговорила (Я был при ней, убитый, но живой): «О, как все это я любила!» ………………………. Любила ты, и так, как ты, любить — Нет, никому еще не удавалось! О Господи!.. и это пережить… И сердце на клочки не разорвалось… <Октябрь – декабрь 1864 г.>«Как хорошо ты, о море ночное…»
Как хорошо ты, о море ночное, — Здесь лучезарно, там сизо-темно… В лунном сиянии, словно живое, Ходит, и дышит, и блещет оно… На бесконечном, на вольном просторе Блеск и движение, грохот и гром… Тусклым сияньем облитое море, Как хорошо ты в безлюдье ночном! Зыбь ты великая, зыбь ты морская, Чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, Чуткие звезды глядят с высоты. В этом волнении, в этом сиянье, Весь, как во сне, я потерян стою — О, как охотно бы в их обаянье Всю потопил бы я душу свою… <Январь> 1865«Когда на то нет Божьего согласья…»
Когда на то нет Божьего согласья, Как ни страдай она, любя, — Душа, увы, не выстрадает счастья, Но может выстрадать себя… Душа, душа, которая всецело Одной заветной отдалась любви И ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови! Он милосердый, всемогущий, Он, греющий своим лучом И пышный цвет, на воздухе цветущий, И чистый перл на дне морском. 11 января 1865 г.«Есть и в моем страдальческом застое…»
Есть и в моем страдальческом застое Часы и дни ужаснее других… Их тяжкий гнет, их бремя роковое Не выскажет, не выдержит мой стих. Вдруг все замрет. Слезам и умиленью Нет доступа, все пусто и темно, Минувшее не веет легкой тенью, А под землей, как труп, лежит оно. Ах, и над ним в действительности ясной, Но без любви, без солнечных лучей, Такой же мир бездушный и бесстрастный, Не знающий, не помнящий о ней. И я один, с моей тупой тоскою, Хочу сознать себя и не могу — Разбитый челн, заброшенный волною, На безымянном диком берегу. О Господи, дай жгучего страданья И мертвенность души моей рассей: Ты взял ее, но муку вспоминанья, Живую муку мне оставь по ней, — По ней, по ней, свой подвиг совершившей Весь до конца в отчаянной борьбе, Так пламенно, так горячо любившей Наперекор и людям и судьбе, — По ней, по ней, судьбы не одолевшей, Но и себя не давшей победить, По ней, по ней, так до конца умевшей Страдать, молиться, верить и любить. <Конец> марта 1865 г.«Певучесть есть в морских волнах…»
Est in arundineis modulatio musicaripis[5].
Певучесть есть в морских волнах, Гармония в стихийных спорах, И стройный мусикийский шорох Струится в зыбких камышах. Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в природе, — Лишь в нашей призрачной свободе Разлад мы с нею сознаем. Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник? И от земли до крайних звезд Все безответен и поныне Глас вопиющего в пустыне, Души отчаянной протест? 11 мая 1865 г.Другу моему Я. П. Полонскому
Нет боле искр живых на голос твой приветный — Во мне глухая ночь, и нет для ней утра… И скоро улетит – во мраке незаметный — Последний, скудный дым с потухшего костра. 30 мая 1865 г.«Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…»
Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло С того блаженно-рокового дня, Как душу всю свою она вдохнула, Как всю себя перелила в меня. И вот уж год, без жалоб, без упреку, Утратив все, приветствую судьбу… Быть до конца так страшно одиноку, Как буду одинок в своем гробу. 15 июля 1865 г.«Молчит сомнительно Восток…»
Молчит сомнительно Восток, Повсюду чуткое молчанье… Что это? Сон иль ожиданье, И близок день или далек? Чуть-ч у т ь белеет темя г ор, Еще в тумане лес и долы, Спят города, и дремлют селы, Но к небу подымите взор… Смотрите: полоса видна, И, словно скрытной страстью рдея, Она все ярче, все живее — Вся разгорается она — Еще минута – и во всей Неизмеримости эфирной Раздастся благовест всемирный Победных солнечных лучей. <25 или 29> июля 1865 г.Накануне годовщины 4 августа 1864 г.
Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня… Тяжело мне, замирают ноги… Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею — Улетел последний отблеск дня… Вот тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, Завтра память рокового дня… Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня? 3 августа 1865 г.«Как неожиданно и ярко…»
Как неожиданно и ярко, На влажной неба синеве, Воздушная воздвиглась арка В своем минутном торжестве! Один конец в леса вонзила, Другим за облака ушла — Она полнеба обхватила И в высоте изнемогла. О, в этом радужном виденье Какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье, Лови его – лови скорей! Смотри – оно уж побледнело, Еще минута, две – и что ж? Ушло, как то уйдет всецело, Чем ты и дышишь и живешь. 5 августа 1865 г.«Ночное небо так угрюмо…»
Ночное небо так угрюмо, Заволокло со всех сторон. То не угроза и не дума, То вялый, безотрадный сон. Одни зарницы огневые, Воспламеняясь чередой, Как демоны глухонемые, Ведут беседу меж собой. Как по условленному знаку, Вдруг неба вспыхнет полоса, И быстро выступят из мраку Поля и дальние леса. И вот опять все потемнело, Все стихло в чуткой темноте — Как бы таинственное дело Решалось там – на высоте. 18 августа 1865 г.«Нет дня, чтобы душа не ныла…»
Нет дня, чтобы душа не ныла, Не изнывала б о былом, Искала слов, не находила, И сохла, сохла с каждым днем, Как тот, кто жгучею тоскою Томился по краю родном И вдруг узнал бы, что волною Он схоронен на дне морском. 23 ноября 1865 г.«Как ни бесилося злоречье…»
Как ни бесилося злоречье, Как ни трудилося над ней, Но этих глаз чистосердечье — Оно всех демонов сильней. Всё в ней так искренно и мило, Так все движенья хороши; Ничто лазури не смутило Ее безоблачной души. К ней и пылинка не пристала От глупых сплетней, злых речей; И даже клевета не смяла Воздушный шелк ее кудрей. 21 декабря 1865 г.«Тихо в озере струится…»
Тихо в озере струится Отблеск кровель золотых, Много в озеро глядится Достославностей былых. Жизнь играет, солнце греет, Но под нею и под ним Здесь былое чудно веет Обаянием своим. Солнце светит золотое, Блещу т озера струи… Здесь великое былое Словно дышит в забытьи; Дремлет сладко, беззаботно, Не смущая дивных снов И тревогой мимолетной Лебединых голосов… <Июль> 1866«Когда дряхлеющие силы…»
Когда дряхлеющие силы Нам начинают изменять И мы должны, как старожилы, Пришельцам новым место дать, — Спаси тогда нас, добрый гений, От малодушных укоризн, От клеветы, от озлоблений На изменяющую жизнь; От чувства затаенной злости На обновляющийся мир, Где новые садятся гости За уготованный им пир; От желчи горького сознанья, Что нас поток уж не несет И что другие есть призванья, Другие вызваны вперед; Ото всего, что тем задорней, Чем глубже крылось с давних пор, — И старческой любви позорней Сварливый старческий задор. <1–3> сентября 1866 г.«Умом Россию не понять…»
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить. 28 ноября 1866 г.«Как ни тяжел последний час…»
Как ни тяжел последний час — Та непонятная для нас Истома смертного страданья, — Но для души еще страшней Следить, как вымирают в ней Все лучшие воспоминанья… 14 октября 1867 г.«Опять стою я над Невой…»
Опять стою я над Невой, И снова, как в былые годы, Смотрю и я, как бы живой, На эти дремлющие воды. Нет искр в небесной синеве, Все стихло в бледном обаянье, Лишь по задумчивой Неве Струится лунное сиянье. Во сне ль все это снится мне, Или гляжу я в самом деле, На что при этой же луне С тобой живые мы глядели? Июнь 1868 г.Пожары
Широко, необозримо, — Грозной тучею сплошной, Дым за дымом, бездна дыма Тяготеет на д землей. Мертвый стелется кустарник, Травы тлятся, не горят, И сквозит на крае неба Обожженных елей ряд. На пожарище печальном Нет ни искры, дым один, — Где ж огонь, злой истребитель, Полномочный властелин? Лишь украдкой, лишь местами, Словно красный зверь какой, Пробираясь меж кустами, Пробежит огонь живой! Но когда наступит сумрак, Дым сольется с темнотой, Он потешными огнями Весь осветит лагерь свой. Пред стихийной вражьей силой Молча, руки опустя, Человек стоит уныло, Беспомо́щное дитя. 16 июля 1868 г.«В небе тают облака…»
В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно зеркало стальное… Час от часу жар сильней, Тень ушла к немым дубровам, И с белеющих полей Веет запахом медовым. Чудный день! Пройдут века — Так же будут, в вечном строе, Течь и искриться река И поля дышать на зное. 2 августа 1868 г.Мотив Гейне
Если смерть есть ночь, если жизнь есть день — Ах, умаял он, пестрый день, меня!.. И сгущается надо мною тень, Ко сну клонится голова моя… Обессиленный, отдаюсь ему… Но всё грезится сквозь немую тьму — Где-то там, над ней, ясный день блестит И незримый хор о любви гремит… <1868 или начало 1869 г.>«Нам не дано предугадать…»
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, — И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать… 27 февраля 1869 г.«Две силы есть – две роковые силы…»
Две силы есть – две роковые силы, Всю жизнь свою у них мы под рукой, От колыбельных дней и до могилы, — Одна есть Смерть, другая – Суд людской. И та и тот равно неотразимы, И безответственны и тот и та, Пощады нет, протесты нетерпимы, Их приговор смыкает всем уста… Но Смерть честней – чужда лицеприятью, Не тронута ничем, не смущена, Смиренную иль ропщущую братью — Своей косой равняет всех она. Свет не таков: борьбы, разноголосья — Ревнивый властелин – не терпит он, Не косит сплошь, но лучшие колосья Нередко с корнем вырывает вон. И горе ей – увы, двойное горе, — Той гордой силе, гордо-молодой, Вступающей с решимостью во взоре, С улыбкой на устах – в неравный бой, Когда она, при роковом сознанье Всех прав своих, с отвагой красоты, Бестрепетно, в каком-то обаянье Идет сама навстречу клеветы, Личиною чела не прикрывает, И не дает принизиться челу, И с кудрей молодых, как пыль, свевает Угрозы, брань и страстную хулу, — Да, горе ей – и чем простосердечней, Тем кажется виновнее она… Таков уж свет: он там бесчеловечней, Где человечно-искренней вина. Март 1869 г.«Природа – сфинкс. И тем она верней…»
Природа – сфинкс. И тем она верней Своим искусом губит человека, Что, может статься, никакой от века Загадки нет и не было у ней. Август 1869 г.«Как нас ни угнетай разлука…»
Как нас ни угнетай разлука, Но покоряемся мы ей — Для сердца есть другая мука, Невыносимей и больней. Пора разлуки миновала, И от нее в руках у нас Одно осталось покрывало, Полупрозрачное для глаз. И знаем мы: под этой дымкой Все то, по чем душа болит, Какой-то странной невидимкой От нас таится – и молчит. Где цель подобных искушений? Душа невольно смущена, И в колесе недоумений Верти́тся нехотя она. Пора разлуки миновала, И мы не смеем, в добрый час, Задеть и сдернуть покрывало, Столь ненавистное для нас! 14 октября 1869 г.Ю. Ф. Абазе
Так – гармонических орудий Власть беспредельна над душой, И любят все живые люди Язык их темный, но родной. В них что-то стонет, что-то бьется, Как в узах заключенный дух, На волю просится, и рвется, И хочет высказаться вслух… Не то совсем при вашем пенье, Не то мы чувствуем в себе: Тут полнота освобожденья, Конец и плену и борьбе… Из тяжкой вырвавшись юдоли И все оковы разреша, На всей своей ликует воле Освобожденная душа… По всемогущему призыву Свет отделяется от тьмы, И мы не звуки – душу живу, В них вашу душу слышим мы. 22 декабря 1869 г.К. Б.
Я встретил вас – и всё былое В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое — И сердцу стало так тепло… Как поздней осени порою Бывают дни, бывает час, Когда повеет вдруг весною И что-то встрепенется в нас, — Так, весь обвеян дуновеньем Тех лет душевной полноты, С давно забытым упоеньем Смотрю на милые черты… Как после вековой разлуки, Гляжу на вас, как бы во сне, — И вот – слышнее стали звуки, Не умолкавшие во мне… Тут не одно воспоминанье, Тут жизнь заговорила вновь, — И то же в вас очарованье, И та ж в душе моей любовь!.. 26 июля 1870 г.«Брат, столько лет сопутствовавший мне…»
Брат, столько лет сопутствовавший мне, И ты ушел, куда мы всё идем, И я теперь на голой вышине Стою один, – и пусто всё кругом. И долго ли стоять тут одному? День, год-другой – и пусто будет там, Где я теперь, смотря в ночную тьму И – что со мной, не сознавая сам… Бесследно всё – и так легко не быть! При мне иль без меня – что нужды в том? Всё будет то ж – и вьюга так же выть, И тот же мрак, и та же степь кругом. Дни сочтены, утрат не перечесть, Живая жизнь давно уж позади, Передового нет, и я, как есть, На роковой стою очереди. 11 декабря 1870 г.«От жизни той, что бушевала здесь…»
От жизни той, что бушевала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась, Что уцелело, что дошло до нас? Два-три кургана, видимых поднесь… Да два-три дуба выросли на них, Раскинувшись и широко и смело. Красуются, шумят, – и нет им дела, Чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих – лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной. 17 августа 1871 г.«Все отнял у меня казнящий Бог…»
Все отнял у меня казнящий Бог: Здоровье, силу воли, воздух, сон, Одну тебя при мне оставил он, Чтоб я ему еще молиться мог. 1873Комментарии
Настоящий сборник стихотворений Тютчева составлен на основе остающихся на сегодняшний день, на наш взгляд, лучших предшествующих изданий произведений поэта, подготовленных его правнуком, известным русским литературоведом К. В. Пигаревым: Ф. И. Тютчев. Лирика. Т. 1 и 2. М.: Наука, 1966, и Ф. И. Тютчев. Сочинения в двух томах. Т. 1. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1984.
Комментарии к стихотворениям носят в основном разъяснительно-биографический характер. Там, где для разъяснений приводятся материалы других комментаторов, делается специальная оговорка в тексте примечаний.
Даты написания стихотворений указаны по тем изданиям, которые послужили основой для настоящего сборника. (В отдельных случаях они проверены составителем заново.) Ввиду ограниченности объема сборника мы приняли решение давать комментарии не ко всем стихотворениям.
С. 75. Проблеск. – Воздушная арфа (или Эолова арфа) – музыкальный инструмент в виде ящика, в котором натянуты струны, звучащие от движения воздуха.
С. 76. К Н. («Твой милый взор, невинной страсти полный…»). – Посвящено, скорее всего, графине Амалии Лерхенфельд (1808–1888) и относится к самому концу 1824 г., времени получения Тютчевым отказа на руку мюнхенской красавицы.
С. 77. Весенняя гроза. – Геба — в греческой мифологии богиня вечной юности, разносившая богам нектар. Зевесов орел – символ верховного бога Зевса.
С. 79. Могила Наполеона. – Наполеон Бонапарт (1769–1821) – император Франции. Вначале Наполеон был погребен на острове Святой Елены, где он умер, а в 1840 г. его останки перевезли в Париж. Стихотворение написано не позднее 1828 г., а переработано к началу 1850-х гг. Две строки точек обозначают цензурный пропуск при первой публикации в 1829 г. Перун — бог грома и молнии. Здесь: гром (слав. миф.).
С. 80. Cache-сache. – Сильфида — дух воздуха, легкое подвижное существо. Вероятно, можно отнести к первой жене поэта, Элеоноре Тютчевой.
С. 81. Видение. – Живая колесница мирозданья — планета Земля. Атлас (или Атлант) – гигант, держащий на своих плечах небесный свод. Муза – изящное вдохновение (гр. миф.).
С. 84. Снежные горы. – Дольний — земной. Горе – вверху.
К N.N. – Перси — груди. Аврора — богиня утренней зари. Адресат неизвестен.
С. 87. Полдень. – Пан – бог долин, лесов, стад и пастухов. Нимфа — в греческой мифологии невеста, девушка. Полдневный час считался у древних греков священным.
Лебедь. – В этом стихотворении, как замечал Ю. Н. Тынянов, «сопоставление (символическое) орла с лебедем было излюбленным в европейской поэзии, причем в этом символическом состязании побеждал орел. У Тютчева победа за лебедем». (Юр и й Т ы н я н о в. Архаисты и новаторы. «Прибой», 1923. С. 363–364.)
С. 88. «Ты зрел его в кругу большого света…» – Образ месяца, видимого днем, в этом и следующем стихотворении, подсказан чтением одной из глав третьей части «Reisebilder» («Путевых картин») Гейне, вышедшей в свет в декабре 1829 г. (указ. К. В. Пигарева). Можно предположить, что и стихотворение обращено к Гейне, хотя того уже не было в Мюнхене.
С. 91. Двум сестрам. – К кому обращено стихотворение – неизвестно. «Несомненно, – замечал Тынянов, – в стихах Тютчева – самая надежная поэтическая летопись его интимной жизни». (Ю. Н. Тынянов. Поэтика, история литературы, кино. М.: Наука, 1977. С. 365.) Но если это так, то как найти ключ к ней? К тому же и большинство стихотворений поэта не имеют ни конкретного адресата, ни даты написания.
С. 93. Цицеро́н – римский политический деятель и оратор (106—43 до н. э.). Я поздно встал… – перефразировка слов Цицерона, которым очень интересовался Тютчев. «Скорблю, что я, выступивши в жизни, как бы в дорогу, с некоторым опозданием, – прежде, чем был окончен путь, погрузился в эту ночь республики» («Brutus, sive dialogus de claris oratoribus» – «Брут, или Диалог о знаменитых ораторах», XCVI, 330). Капитолийская высота – главный из семи холмов, на которых расположен Рим. Закат звезды ее кровавой!.. – Речь идет о гибели потопленной в крови Римской республики, идеологом которой был Цицерон.
С. 96. «Через ливонские я проезжал поля…» – Ливонией в Средние века называлась территория Латвии и Эстонии. Кровавой и мрачной порой поэт называет тот период в истории Ливонии, когда она в 1202–1562 гг. находилась под владычеством духовно-рыцарского Ордена меченосцев. Пустынная река — Западная Двина.
«Песок сыпучий по колени…» – Написано, вероятно, на возвратном пути из Петербурга в Мюнхен осенью 1830 г., когда Тютчев приезжал в отпуск в Россию. Строки: Ночь хмурая, как зверь стоокий, / Глядит из каждого куста!.. – вызвали у Некрасова сравнение со стихами М. Ю. Лермонтова из «Мцыри»:
И миллионом темных глаз / Смотрела ночи темнота / Сквозь ветви каждого куста, которые, по его мнению, «значительно теряют в своей оригинальности и выразительности». (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 2 07.)
C. 97. Осенний вечер. – Вот мнение об этом и других стихотворных шедеврах Тютчева, высказанное другим великим поэтом России. «Каждый его стих, – говорил Н. А. Некрасов, – хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно, и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце…» (Н. А. Некрасов. Т. IX. С. 207.)
С. 100. Mal’aria. – Навеяно автору описанием окрестностей Рима в романе Ж. де Сталь «Коринна, или Италия». «Нездоровый воздух – бич жителей Рима, он угрожает городу полным опустением; но именно поэтому роскошные сады, расположенные в пределах Рима, имеют еще большее значение. Коварное действие вредоносного воздуха не дает себя знать никакими внешними признаками: когда его вдыхаешь, он кажется чистым и очень приятным, земля щедра и обильна плодами, прелестная вечерняя прохлада успокаивает после дневного палящего зноя, но во всем этом таится смерть!..» (Сталь де Ж. Коринна, или Италия. М., 1969. С. 87.)
С. 101. «Н а древе человеческом высоком…» – Написано на смерть Гёте, умершего 22 марта 1832 г. Тютчев неоднократно переводил произведения Гёте, ценил его поэзию.
С. 102. Сон на море. – Тютчев, как никто другой, мог через стихи изобразить, романтически преобразив в душе, увиденное и перечувствованное когда-то или несколько дней назад. Таково его стихотворное описание грозы на воде («Под дыханьем непогоды…», см. далее). В стихотворении «Сон на море» поэт также мог изобразить свое морское путешествие во второй половине 1833 г. с дипломатическим поручением из Мюнхена в Грецию.
С. 102. Ар фа скальда. – Скальдами в древние времена назывались народные певцы Норвегии и Исландии.
С. 103. «Я лютеран люблю богослуженье…» – Первая жена поэта была лютеранского вероисповедания. Вероятно, поэтому он не раз бывал вместе с нею в лютеранских церквах. В автографе стихотворения в конце текста стоит дата: «Тагернзее. 16/28 сентября 1834». Озеро Тагернзее в Баварии, неподалеку от Мюнхена, было одним из любимых мест отдыха семейства Тютчевых.
С. 104. «Из края в край, из града в град…» – Стихотворение является вариацией на тему стихотворения Гейне «Es treibt dich fort / von Ort zu Ort…» («Тебя несет из края в край…»).
С. 106. «В душном воздухе молчанье…» – Ланиты — щеки (устар.).
С. 109. «Восток белел. Ладья катилась…» – Ветрило — парус (устар.). Въш, – шея (устар.).
«Как птичка, раннею зарей…» – Пеня – выговор, упрек, укор.
С. 110. «Душа моя – Элизиум теней…» – Элизиум — в греческой мифологии загробный мир, где блаженные души пребывают в царстве теней.
С. 111. «Нет, моего к тебе пристрасть я…» – Синель — сирень (устар.).
С. 114. «Я помню время золотое…» – Обращено к баронессе Амалии Крюднер (Лерхенфельд).
С. 115. «Там, где горы, убегая…» – Пресловутый Дунай — преславный, известный, знаменитый. Фея – русалка.
С. 118. Фонтан. – Стихотворение выражает мысль, характерную для Тютчева, «об одновременном величии и бессилии человеческого разума».
С. 119. «Не то, что мните вы, природ а…» – Одно из стихотворений Тютчева, впервые напечатанных А. С. Пушкиным в журнале «Современник» № 3. К сожалению, 14 июля 1836 г. Петербургский цензурный комитет по предложению цензора А. Л. Крылова исключил несколько строк из этого стихотворения.
С. 123. 29-ое января 18 3 7. – Посвящено дуэли и гибели Пушкина.
С. 124. 1-ое декабря 1837. – Посвящено прощанию поэта в Генуе с Эрнестиной Дернберг (урожд. баронессы Пфеффель, 1810–1894), которая после внезапной кончины Эл. Ф. Тютчевой (1800–1838) все-таки стала его женой (17 июля 1839).
С. 125. Итальянская villa. – …тенью элисейской… – В данном случае эпитет «элисейская» обозначает то же, что и «блаженная» (от античного элизиум – место пребывания праведных душ).
С. 126. «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…» – Написано по возвращении из Генуи в Турин, где жила семья поэта и где он сам служил первым секретарем русской дипломатической миссии. Стремление если не воочию, то хотя бы в мечтах к итальянскому теплу будет потом не раз сквозить в стихотворениях поэта.
С. 128. Весна («Как ни гнетет рука судьбины…»). – Одно из любимых стихотворений Л. Н. Толстого. 1 мая 1858 г. он писал А. А. Толстой: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же от души. Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья.
И ринься бодрый, самовластный, В сей животворный океан.
Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки». (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949. С. 265.)
С. 130. «Живым сочувствием привета…» – Посвящено великой княгине Марии Николаевне (1819–1876), дочери Николая I, с которой поэт познакомился осенью 1840 г. в Тагернзее. Знакомство оказалось для него удачным: в 1845 г. Мария Николаевна содействовала Тютчеву в помещении его дочерей Дарьи (1834–1903) и Екатерины (1835–1882) в Смольный институт благородных девиц в Петербурге, покровительствовала старшей дочери поэта Анне в назначении ее во фрейлины в декабре 1852 г.
С. 132. «Глядел я, стоя над Невой…» – 2 октября 1844 г. с парохода «Николай I», на котором Тютчев с семьей приплыл в Россию, был брошен якорь в гавани Кронштадта. И вот 21 ноября, по прошествии всего полутора месяцев, поэт уже тоскует по местам, «где солнце греет». Исаак-великан — Исаакиевский собор в Петербурге, названный в честь святого Исаака Далматского. Построен в 1818–1858 гг. по проекту архитектора А. А. Монферрана.
Колумб. – Поэт использует вариацию заключительных строк стихотворения Ф. Шиллера «Колумб»: «С гением природа в вечном союзе, – что один обещает, сдержит наверное другая».
С. 133. Море и утес. – Сочинено поэтом в год написания им статьи «Россия и Революция». В нем обыгрываются образы моря как символа революционного Запада и утеса – как символа самодержавной России. И. С. Аксаков подметил, что «относительно стремительности, силы, красивости стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения». (И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 118.)
С. 134. «Еще томлюсь тоской желаний…» – Посвящено памяти первой жены поэта, Элеоноры Тютчевой, скончавшейся 28 августа/9 сентября 1838 г. в Турине, где и похоронена.
С. 135. «Неохотно и не смело…» – Написано по дороге из Москвы в Овстуг. Ранее имело заглавие «Гроза доро́гой».
С. 136. «Итак, опять увиделся я с вами…» – Написано по поводу встречи с Овстугом. В черновом варианте стихотворения вместо слов «места немилые» стоит «печальные». Как брат меньшой, умерший в пеленах… – Поэт, вероятно, вспоминает брата Василия, умершего младенцем в 1812 г., когда семья Тютчевых спасалась от французов на Ярославщине. Ах, и не в эту землю я сложил Всё, чем я жил и чем я дорожил! – воспоминания о погребенной в Италии первой жене.
С. 139. «Вновь твои я вижу очи…» – Киммерийской грустной ночи… – Автор намекает на «печальную область» Киммерию, упоминаемую в «Одиссее» Гомера. Край иной – Италия, которую поэт чаще всего упоминал в тоскливом настроении или при наступлении морозов в России. Стихотворение датируется 1849 г., но, вероятно, эту дату можно и еще конкретизировать. Осенью 1849 г. в Петербург на гастроли приехала известная итальянская певица Джулия Гризи (1811–1869). 19 октября того же года Эрн. Ф. Тютчева в письме к князю П. А. Вяземскому пишет «об Итальянской опере, которая в этом году достигла чрезвычайной поэтичности и большого артистического блеска». И далее она продолжала: «Вчера давали „Норму“, другой такой Нормы, как Гризи, нет… Я восхищена тем, как верно она передает муки ревности, терзающей душу страстную и решительную…» (Литературное наследство, т. 97, кн. вторая. М., 1989. С. 236). Муки ревности были близки жене поэта, так как у него в это время как раз начиналось увлечение юной Еленой Денисьевой. Сам же Тютчев, сидя на спектакле, вновь любовался прекрасными очами певицы-итальянки Джулии Гризи, которую он, скорее всего, слушал еще в Италии в 1838–1839 гг. Вот она-то, думается, и могла быть тем самым адресатом стихотворения.
С. 140. «Как он любил родные ели…» – Посвящено известному французскому поэту-романтику, Альфонсу Ламартину (1790–1869), стихи которого Тютчев читал еще студентом и перевел его элегию «L’isolement» («Одиночество»). Этот перевод имел успех и уже в 1822 г. был напечатан четыре раза в разных изданиях.
С. 141. Русской женщине. – Стихи впоследствии были приведены в статье Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» и охарактеризованы как «безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими натурами в России» (Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 т. М., 1963. Т. 6. С. 137).
Наполеон. – Стихотворный цикл, складывавшийся на протяжении многих лет и ныне состоящий из трех стихотворений.
Первое: «Сын Революции…» дает характеристику Наполеону – отголосок того, что писал о нем Шатобриан: «Детище нашей революции, он поразительно похож на свою мать»; «рожденный главным образом для того, чтобы разрушать, Буонапарте несет зло в самом себе».
Второе: «Два демона ему служили…» Оно писалось под впечатлением высказанного в публицистических очерках Гейне «Французские дела», где в характеристиках автора Наполеон был «гением», «в голове которого гнездились орлы вдохновения, между тем как в сердце вились змеи расчета». (Г. Гейне. Собр. соч. Т. 5. М., 1958. С. 263–264.)
Третье: «И ты стоял – перед тобой Россия!» – поведало о бесславном конце императора Франции Наполеона Бонапарта. Вещий волхв… – мудрец, чародей, колдун, волшебник. Да сбудутся ее судьбы!.. – цитата из приказа Наполеона по армии при переходе через реку Неман 22 июня 1812 г.: «Россия увлекаема Роком: да свершатся ее судьбы». Под новою загадкою в изгнанье подразумеваются слова Наполеона, сказанные им на острове Святой Елены, куда он был сослан: «Через пятьдесят лет Европа будет либо под властью революции, либо под властью казаков». На родину вернувшийся мертвец… – В 1840 г. останки Наполеона были перевезены с острова Святой Елены в Париж; …смотрит на Восток… – Под Востоком Тютчев подразумевал Россию.
С. 144. Поэзия. – «Примирительный елей…» Елей – оливковое масло, деревянное масло. Святой елей – освященный по обрядам церкви, для помазания христиан в разных случаях.
С. 145. Венеция. – В первых двух строфах стихотворения вспоминается обряд «обручения» венецианских дожей с Адриатическим морем, справлявшийся ежегодно вплоть до конца XVIII в. Дожем назывался высший правитель в республиках Генуэзской и Венецианской. Расцвет Венецианской республики относится к XII–XV вв. Тень от львиного крыла – намек на крылатого льва, эмблему святого Марка, считавшегося покровителем Венеции. Эти кольца стали звенья Тяжкой цепи наконец!.. – С 1814 по 1866 г. Венеция в составе Ломбардо-Венецианского королевства находилась под владычеством Австрии.
С. 146. «Кончен пир, умолкли хоры…» – Амфора – употреблявшийся у греков и римлян большой кувшин из обожженной глины, с узким горлышком и двумя ручками по сторонам. С тускло-рдяным освещеньем… – Рдеть – гореть. Выспреннем – высочайшем.
С. 146. «Пошли, Господь, свою отраду…» – В статье «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» И. С. Тургенев писал: «…такие стихотворения, каковы: „Пошли, Господь, свою отраду…“ – и другие пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом». (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Т. V. М.; Л., 1963. С. 427.)
С. 147. На Неве. – Это стихотворение можно считать началом знаменитого «денисьевского» стихотворного цикла Тютчева, в который, по нашим подсчетам, вошло двадцать четыре пьесы. Оно подсказывает и примерную дату начала «последней» любви Федора Ивановича и Елены Александровны Денисьевой (1826–1864), племянницы инспектрисы Смольного института А. Д. Денисьевой, в классе которой учились дочери поэта Дарья и Екатерина (См.: Г. Чагин. «О ты, последняя любовь…». Женщины в жизни и поэзии Ф. И. Тютчева. СПб., 1996).
С. 148. «Как ни дышит полдень знойный…» – Стихотворение как раз «денисьевского» цикла.
С. 149. «Под дыханьем непогоды…» – Стихотворное описание бури, случившейся во время водного путешествия поэта с дочерью Анной и Еленой Денисьевой в начале августа 1850 г. на остров Валаам.
С. 150. Два голоса. – Это стихотворение было одним из любимых стихотворений А. Блока. Его он даже намеревался поставить эпиграфом к своей драме «Роза и крест».
С. 152. «Смотри, ка к на речном просторе…» – Мета – цель (устар.).
С. 153. «О, как убийственно мы любим…» – Одно из самых трагических стихотворений начала «денисьевского» цикла, в котором обнаженно выражено раскаяние поэта в том, что его любовь стала «ужасным приговором» для такого юного создания.
С. 154. «Не знаю я, коснется ль благодать…» – У Тютчева совсем немного стихотворений, обращенных к жене Эрнестине Федоровне. Но, к счастью, сохранилось это, заменившее собой, может быть, не один десяток других, ненаписанных… В апреле 1851 г., когда поэт уже давно страстно влюблен в Елену Денисьеву, он вдруг, тайком от обеих женщин, пишет свое любовное признание и жене, давно уже своей, близкой… и вкладывает этот листочек со стихами, с пометой: «Для вас (чтобы прочесть наедине)» в ее альбом-гербарий. Стихи эти пролежали незамеченными двадцать четыре года, до мая 1875 г. По поводу этого стихотворения И. С. Аксаков сказал: «Стихи эти замечательны не столько как стихи, сколько потому, что бросают луч света на сокровеннейшие, интимнейшие брожения его сердца к его жене… Но что особенно поразительно и захватывает сердце, это то обстоятельство… что она об этих русских стихах не имела никакого понятия…В 1851 г…она еще не настолько знала по-русски, чтобы понимать русские стихи, да и не умела еще разбирать русского писанья Ф[едора] И[вановича]… Каков же был ее сюрприз, ее радость и скорбь при чтении этого привета замогильного, такого привета, такого признания ее подвига жены, ее дела любви!» (К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. С. 149–150.)
С. 156. «Не раз ты слыша ла признанье…» – Обращено к Е. А. Денисьевой вскоре после рождения у нее дочери Елены (20 мая 1851 – 2 мая 1865).
Наш век. – Днесь – ныне, сегодня, в сей день. «Впусти меня! – Я верю, Боже мой!..» – перефразировка евангельского изречения (Мк. IX, 24).
С. 157. «Неостывшая от зною…» – Зеницы – зенки, очи, глаза.
С. 160. «Не говори: меня он, как и прежде, любит…» – Эти стихи, отнесенные к «денисьевскому» циклу, написаны так, что они могли бы прозвучать как из уст Елены Александровны, так и Эрнестины Федоровны. (См.: Г. Чагин. «О ты, последняя любовь…» С. 76–78.)
С. 164. Памяти В. А. Жуковского. – С Жуковским у Тютчева была связана вся поэтическая жизнь, от начала и до конца. Жуковский фактически благословил Тютчева на поэзию, побывав в доме его родителей, когда их сын только еще становился на стезю стихотворчества.
Жуковскому же посвящено одно из самых последних стихотворений Тютчева, находившегося уже почти на смертном одре: «На первой дней моих заре…» (а п р е л ь 1873). Он были мне Омировы читал… Омир – Гомер. В августе 1847 г. Жуковский в Эмсе действительно читал Тютчеву свой перевод «Одиссеи» Гомера. Лишь сердцем чистые, те узрят Бога! – несколько перефразированное евангельское изречение (Мф. V, 8).
С. 165. «Сияет солнце, воды блещу т…» – Стихотворение написано Тютчевым в Петербурге, вскоре после его возвращения из Овстуга, где его семья, по обыкновению, проводила очередное лето. Не имея постоянной квартиры, Федор Иванович на этот раз поселился у друзей, на Каменном острове.
С. 166. «Чародейкою Зимою…» – Написано, вероятно, уже по приезде в Овстуг, хотя в автографе дата: «31 декабря 1852». В дневнике старшей дочери поэта Анны записано: «1 января 1853 г. Папа приехал сегодня во время всенощной…»
Неман. – Ранее стихотворение печаталось под заглавием: «Проезжая через Ковно». Ковно – старое название Каунаса. 2 сентября 1853 г. Тютчев выехал из Варшавы в Россию. «Усталость и ужасная скука», испытанные им во время «48-часового заключения в почтовой карете», вынудили поэта отдохнуть в Ковно два с половиной дня. В письме жене вместе со стихотворением «Неман» он пояснял: «Эти стихи, о которых я тебе говорил, навеяны Неманом. Чтобы их уразуметь, следовало бы перечитать страницу из истории 1812 г.». Южный демон – намек на корсиканское происхождение Наполеона. Стоял Другой… – можно предположить, что это М. И. Кутузов.
С. 169. Лето 1854. – Стихотворению предшествовало примерно неделей ранее посланное жене письмо от 5 августа 1854 г.: «Какие дни! Какие ночи! Какое чудное лето! Его чувствуешь, дышишь им, проникаешься им и едва веришь этому сам. Что мне кажется особенно чудесным – это продолжительность, невозмутимая продолжительность этих хороших дней, выдающая какое-то доверие, называемое удачею в игре. Уж не отменил ли Господь окончательно в нашу пользу дурную погоду?» (Старина и Новизна, кн. 19. Петроград, 1915. С. 87–88.)
С. 170. На новый 1855 г од. – Стихотворение впервые было опубликовано в «Русском архиве» (1867, вып. 12, стлб. 1638) под заглавием «На новый 1855 год» и продолжало так публиковаться. В изд.: «Ф. И. Тютчев. Полн. собр. соч. Л., 1957. С. 203, 363–364. Составитель, правнук поэта К. В. Пигарев, справедливо предложил заглавие «1856», основываясь на том, что в автографе ГПБ, в альбоме Г. П. Данилевского, ему предшествуют строки: «С.-Петербург, 31 декабря 1855». Я не свое тебе открою… – намек на модное в светских кругах того времени увлечение спиритизмом («столоверчением»), которому поддался и Тютчев.
С. 171. «Пламя рдеет, пламя пышет…» – Обращено к Е. А. Денисьевой. Сообщено в редакцию «Русской старины» поэтом Я. П. Полонским, получившим эти стихи от сына поэта и Денисьевой Федора Федоровича Тютчева (1860–1916).
С. 172. «Эти бедные селенья…» – Написано в Рославле, Смоленской губернии, по пути из Москвы в Овстуг. Стихотворение в разные годы вызывало восхищение у Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Т. Г. Шевченко, Н. Г. Чернышевского, не раз упоминавших его и даже цитировавших.
С. 173. «Вот от моря и до моря…» – Нить железная… – телеграфная линия. Стихи проникнуты мрачными предчувствиями, вызванными осадой Севастополя во время Крымской войны 1854–1855 гг.
С. 174. «О вещая душа моя!..» – Как Мария… – Имеется в виду Мария Магдалина, раскаявшаяся евангельская грешница.
«Не Богу ты служил и не России…» – Стихотворение является эпиграммой-эпитафией Николаю I, умершему, 18 февраля 1855 г.
С. 175. «Всё, что сберечь мне удалось…» – Обращение к жене Эрнестине Федоровне, написанное в день ее рождения, 8 апреля 1856 г.
Н. Ф. Щербине. – Посвящено поэту Николаю Федоровичу Щербине (1821–1869), в творчестве которого видное место занимали античные темы и мотивы.
«Над этой темною толпой…» – С начала августа 1857 г. Тютчев проводил свой отпуск с семьей в Овстуге, где пробыл около трех недель. Церковный праздник Успения Пресвятой Богородицы, проводившийся в селе 15 августа, и дал повод к написанию стихотворения. А отражало оно думы поэта о предстоящей крестьянской реформе.
С. 176. «Есть в осени первоначальной…» – Стихи пришли к поэту внезапно, в неспеша ехавшей карете по дороге из Овстуга в Москву 22 августа 1857 г. Федор Иванович взял в руки первый же попавшийся на глаза листок с перечнем почтовых станций и дорожных расходов и стал писать на его обратной стороне. Но, видимо, тряская дорога сбивала и руку, и мысли, и поэт передал листок дочери Дарье, которая и закончила стихотворение под диктовку отца.
С. 177. «В часы, когда бывает…» – Посвящено памяти первой жены поэта, Элеоноры Федоровны Тютчевой.
С. 178. «Она сидела на полу…» – Можно отнести стихотворение как к Эрнестине Тютчевой, так и к Е. А. Денисьевой. Присущая – присутствующая.
С. 179. Успокоение. – Вольный перевод, стихи на тему стихотворения немецкого поэта-романтика Н. Ленау «Blik in den Strom» («Взгляд в поток»).
С. 180. «Осенней позднею порою…» – Белокрылые виденья – лебеди. Порфирные ступени – ступени из порфи́ра, горнокаменной первозданной породы, близкой к граниту.
С. 181. На возвратном пути. – Оба стихотворения написаны по дороге из Кёнигсберга в Петербург. С 9 мая по начало ноября 1859 г. Тютчев находился в Европе с дипломатическими поручениями и в отпуске, на лечении.
С. 182. Е. Н. Анненковой. – Посвящено Елизавете Николаевне Анненковой (1840–1886), в замужестве княгине Голицыной. Годом ранее этого Тютчев написал восемнадцатилетней красавице первое, на французском языке, стихотворение: «D’une fille du Nord, chètive et languissante…» («Неужто томною, болезненной девицей, / Что в северных лесах живет…»). Но, вероятно, разница в летах все же останавливала поэта от прилюдных ухаживаний за ней.
С. 183. «Хоть я и свил гнездо в долине…» – Датировка стихотворения внушает сомнение. Понятна правота К. В. Пигарева, предположившего его написание в Женеве. Действительно, в октябре 1860 г. Тютчев был в Женеве вместе с Е. А. Денисьевой, и там, в октябре, родился их сын Федор, будущий бытописатель.
С. 184. На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского. – Вошло в брошюру «Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности академика кн. Петра Андреевича Вяземского». (СПб., 1861. С. 20–21.) Стихотворение было прочитано 2 марта 1861 г. П. А. Плетневым на банкете, устроенном Академией наук в честь пятидесятилетней литературной деятельности Вяземского. С князем Тютчева связывали многолетние приятельские отношения.
С. 187. «Я знал ее еще тогда…» – Адресат стихотворения не установлен.
«Играй, покуда над тобою…» – Кому посвящено стихотворение, не установлено.
С. 188. При посылке Нового Завета. – Поэт обращается к старшей дочери Анне (21 апреля 1829, Мюнхен – 11 августа 1889, Сергиев Посад, Моск. губ.). С 1866 г. – замужем за И. С. Аксаковым. Под «нелегким жребием» Тютчев имеет в виду раннее сиротство дочери, тяжелое привыкание к мачехе, придворную службу (Анна Федоровна была фрейлиной императрицы Марии Александровны, а потом – воспитательницей ее дочери). А. Ф. Тютчевой принадлежат записки «При дворе двух императоров». М., 1928–1929 (в двух частях).
С. 189. «Иным достался от природы…» – Стихотворное послание к Афанасию Афанасьевичу Фету (1820–1892), посланное одновременно с другим: «Тебе сердечный мой поклон…» Давний и преданный поклонник поэзии Тютчева, Фет в книге «Мои воспоминания» не раз дает прекрасные зарисовки о нем, еще в конце 1850-х гг. пишет восторженную статью «О стихотворениях Ф. Тютчева», посвящает ему несколько стихотворений, давая в них оценку его поэзии:
…Муза, правду соблюдая, Глядит, а на весах у ней Вот эта книжка небольшая Томов премногих тяжелей.
С. 189. Н. И. Кролю. – Посвящено поэту и драматургу Николаю Ивановичу Кролю (1823–1871).
С. 190. «Утихла биза… Легче дышит…» – Написано в один из самых трагических для Тютчева дней, через два месяца после смерти Е. А. Денисьевой, в Женеве. Биза – местное название северного ветра, дующего на Женевском озере. Сонм – сход, сборище; здесь: художественный образ. Белая гора – дословный перевод Montblanc («Монблан»). Одной могилой меньше было… – Имеется в виду могила Денисьевой на Волковом кладбище в Петербурге.
С. 191. «Как неразгаданная тайна…» – Посвящено императрице Марии Александровне (1824–1880), жене Александра II. На автографе стихотворения помета: «Ницца. 3 ноября 1864». А чуть раньше, 27 октября, фрейлина императрицы, вторая дочь поэта Дарья писала сестре Екатерине: «Императрица очень добра ко мне, я каждый день обедаю у нее, а вчера был приглашен и папа, который блистал на этом обеде…» (Литературное наследство, т. 97, кн. вторая. М., 1989. С. 361.)
«О, этот Юг, о, эта Ницца!..» – Посвящено памяти Е. А. Денисьевой. Тютчев прожил в Ницце до 4 марта 1865 г. «Странную роль сыграла Италия в моей жизни… – писал он дочери Анне весной 1865 г. – Дважды являлась она передо мной, как роковое видение, после двух самых великих скорбей, какие мне суждено было испытать…» (Первая скорбь – смерть Эл. Тютчевой.)
С. 193. «Когда на то нет Божьего согласья…» – Посвящено дочери поэта Дарье Федоровне Тютчевой (12 апреля 1834, Мюнхен – 13 апреля 1903, Петербург). Передавая стихотворение дочери, Тютчев сделал внизу следующую приписку на французском языке: «Моя милая дочь, храни это на память о нашей вчерашней прогулке и разговоре, но не показывай никому… Пусть это будет иметь значение лишь для нас двоих… Обнимаю и благословляю тебя от всего сердца. Ф. Т.». Эту тайну отца и дочери не разглашали в семье – она заключалась в увлечении девушки самим императором и резко отрицательном отношении к этому ее отца. Дарья Тютчева так и не вышла замуж.
С. 193. «Есть и в моем страдальческом застое…» – Посвящено воспоминанию о Е. А. Денисьевой.
С. 195. «Певучесть есть в морских волнах…» – Мусикийский – музыкальный. Мыслящий тростник – образ, восходящий к известному афоризму Б. Паскаля: «Человек не более как самая слабая тростинка в природе, но это – тростинка мыслящая» («Pеnseеs» – «Мысли»). Написано в Петербурге, во время поездки Тютчева с сестрой Елены Денисьевой Марией Александровной Георгиевской, которой поэт изливал свою душу, на Острова.
Друг у моему Я. П. Полонскому. – Дружеское послание Якову Петровичу Полонскому (1819–1898), сослуживцу Тютчева по Комитету цензуры иностранной, в ответ на его также стихотворное послание «Ночной костер зимой у перелеска». Полонский долгое время ухаживал за дочерью Федора Ивановича Марией и даже делал ей предложение.
С. 196. «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…» – Воспоминание о Е. А. Денисьевой, обращенное, скорее всего, к Александру Ивановичу Георгиевскому (1829–1911), который, как никто другой, знал многое из отношений Тютчева с его «последней любовью» и даже оставил о них воспоминания. (Литературное наследство, т. 97, кн. вторая. М., 1989. С. 104–162.)
«Молчит сомнительно Восток…» – Стихотворение в аллегорической форме выражает мечты Тютчева о политическом и национальном возрождении восточных славян. Мнение же по этому поводу И. С. Аксакова: «Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока… Однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то не подчинился ей, а вылился свободно и независимо». («Биография…» С. 118.)
С. 197. «Как неожиданно и ярко…» – Это стихотворение и идущее следом «Ночное небо так угрюмо…» написаны в августе 1865 года в Овстуге, где поэт проводил свой очередной отпуск. Были любимыми стихотворениями Л. Н. Толстого.
С. 199. «Нет дня, чтобы душа не ныла…» – Несколько стихотворений поэта (в том числе и это), посвященных его «последней любви», хранилось в семье Георгиевских, а потом перешло к сыну Денисьевой, Ф. Ф. Тютчеву. Он, в свою очередь, опубликовал их в журнале «Исторический вестник», т. XCIII, 1903, июль. С. 202–208, вместе со своей статьей «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии». В день написания стихотворения, 23 ноября 1865 г., поэту исполнилось 62 года.
«Как ни бесилося злоречье…» – Биографы поэта, хотя и сомневаясь, относят его к Надежде Сергеевне Акинфиевой (1839–1891), урожд. Анненковой, внучатой племяннице кн. A. M. Горчакова. Поговаривали, что дядя, старше племянницы более чем на сорок лет, был влюблен в нее и даже предполагал жениться на ней. Но можно все же предположить, что стихотворение относится к Е. А. Денисьевой. (См.: Г. Чагин. «О ты, последняя любовь!..»)
С. 200. «Тихо в озере струится…» – Во второй половине 1860-х гг., в связи с возрастом, усталостью, Тютчев все чаще проводит летние дни вблизи Петербурга, в Царском Селе. Там и написано это стихотворение в июле 1866 г. «Оракул наших дней», провидец, мог ли он тогда предположить, что ровно через семь лет, в том же июле и в том Царском, он закончит дни свои.
С. 200. «Когда дряхлеющие силы…» – Стихотворение обращено к кн. П. А. Вяземскому, которого было за что критиковать. Во-первых, князь нападал на редактора «Московских ведомостей», браня его за откровенный национализм (а Тютчев был близок к редакции московской газеты), а во-вторых, Вяземский нападал на роман Л. Н. Толстого «Война и мир», что также претило Федору Ивановичу. Интересны и две последние строчки стихотворения, в которых поэт, справедливо упоминая «старческую любовь» свою и кн. А. М. Горчакова, критикует «сварливый, старческий задор» Вяземского.
С. 201. «Как ни тяжел последний час…» – Стихотворение – наглядный пример тому, как сохранялись иногда произведения поэта. Так, во время очередного заседания Совета Главного управления по делам печати, членом которого был и Тютчев, редактор «Правительственного вестника» граф П. И. Капнист заметил, что поэт «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу». Этим и не преминул воспользоваться Капнист, взявший экспромт «на память о любимом им поэте».
С. 202. «Опять стою я над Невой…» – Посвящено памяти Е. А. Денисьевой.
Пожары. – Стихи навеяны зрелищем лесных пожаров под Петербургом летом 1868 г.
С. 203. «В небе тают облака…» – Написано во время отдыха Тютчева в Овстуге, на хуторе Гостиловка.
С. 204. Мотив Гейне. – Вольный перевод стихотворения Г. Гейне «Der Tod, das ist die kuhle Nacht…» («Книга песен. – Опять на родине».)
С. 208. Ю. Ф. Абазе. – Посвящено музыкантше и певице Юлии Федоровне Абазе (ум. 1915). Была дружна с Гуно и Листом, принимала участие в основании Русского музыкального общества (1859—1860-е гг.). Оставила небольшие воспоминания (Русская старина, 1909, т. 140, № 11. С. 332–334).
С. 208. К. Б. («Я встретил вас – и всё былое…») – По свидетельству Я. П. Полонского, буквы в заглавии обозначают перестановку сокращенных инициалов – «Баронесса Крюднер». Но, думается, слова поэта «Я вспомнил время золотое…» сами перенесут нас на почти полвека назад, в «золотое время» страстной любви Теодора Тютчева к незабвенной Амалии Лерхенфельд, его «божественной Амалии».
С. 209. «Брат, столько лет сопутствовавший мне…» – Посвящено памяти брата поэта, Николая Ивановича Тютчева (9 июня 1801, Овстуг – 8 декабря 1870, Москва). Написано по дороге из Москвы в Петербург, после похорон брата. Одно из любимых стихотворений правнука поэта, Кирилла Васильевича Пигарева (1911–1984), директора Музея-усадьбы Мураново имени Ф. И. Тютчева в 1949–1981 гг.
С. 210. «От жизни той, что бушевала здесь…» – Поднесь – поныне, по сей день, до сего дня. В стихотворении отразились впечатления поэта от его поездки в село Вщиж, Брянского уезда, Орловской губернии, некогда бывшее удельным княжеством. И поныне здесь сохранились древние курганы, ведутся раскопки археологов.
С. 211. «Все отнял у меня казнящий Бог…» – Обращено к жене поэта, Эрнестине Федоровне Тютчевой. Написано во время предсмертной болезни в 1873 г.
Г. Чагин
Примечания
1
Игра в прятки (фр.).
(обратно)2
Молчание! (лат.)
(обратно)3
Зараженный воздух (ит.).
(обратно)4
Непостоянная, как волна (фр.).
(обратно)5
Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках (лат.).
(обратно)
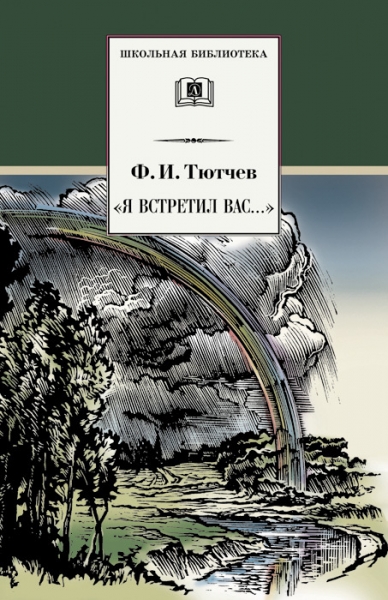



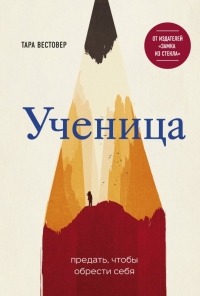


Комментарии к книге ««Я встретил вас…»», Федор Иванович Тютчев
Всего 0 комментариев