Тимофей Баженов Дикие истории. Дневник настоящего мужика
Посвящается Валентине Алексеевне Ивановой, врачу-терапевту, моей любимой бабушке, пожалуй, единственному человеку в моей жизни, обладавшему поистине мужским характером.
Тимофей Баженов© Баженов Т.Т., текст, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
От автора
Сначала я хотел написать эту книгу как практическое руководство, учебник для настоящих мужиков. Быстро набросал план из сорока пяти пунктов, который возглавляли такие громкие позиции, как «великодушие», «хладнокровие», «смелость»… Я хотел подробно и по пунктам разобрать каждое из этих качеств и рассказать о том, как развить их в себе. Эта хвастливая задача показалась мне выполнимой.
Потом задумался и понял, что многих качеств во мне нет или они недостаточно развиты. Я мог бы написать эти главы, опираясь лишь на свой профессионализм. Но это показалось мне нечестным. Я не хотел писать со знанием дела о том, чего сам не достиг. Однако я, безусловно, мужчина. У меня нет детей, но я уже вошел в возраст, когда могу по-отечески направить дитя на путь истинный. Сейчас многие дети растут без отцов. Не только девочки, но и мальчики. Мир стремительно теряет формы, приданные ему Богом в момент сотворения. Нас окружают женоподобные мужчины и мужеподобные женщины. Мужчины не стесняются плакать и закатывать истерики. Женщины матерятся как извозчики. Процветает культ чревоугодия. Это ненормально и плохо. Написание книги о том, каково это — быть мужчиной по-настоящему, я счел делом правильным и богоугодным.
Эта книга не о том, как правильно подавать руку дамам и открывать перед ними двери. И не про то, как я целую им ручки, дарю цветы и подношу им сумки… Хотя именно этого ждут настоящие женщины от настоящих мужчин. В книге нет советов о том, как брать на себя ответственность и как выглядеть брутально. Потому что мужчина должен не просто выглядеть как мужчина, а быть им. Эта книга о моей молодости, в которой были ситуации на грани жизни и смерти, страха и бесстрашия.
Сидя у костра, я часто размышляю о своей жизни и о тех историях, которые поведал здесь.
Я ЧЕЛОВЕК, ПОЭТОМУ ПРИЗНАЮ, ЧТО МЕСТО СТРАХУ В ЖИЗНИ МУЖЧИНЫ ЕСТЬ ВСЕГДА. БЫЛ СТРАХ И В МОЕЙ ЖИЗНИ. НО ТЕПЕРЬ ЕГО НЕТ. КАЖДЫЙ БОРЕТСЯ СО СТРАХАМИ ПО-СВОЕМУ…
Кто-то в определенных случаях умеет брать на себя риски и ответственность. Кто-то просто избегает рискованных ситуаций. У меня свои способы.
Рассказать коротко о том, что настоящий мужчина всегда тоскует о первобытных ощущениях, — сложно. Но я тоскую и ищу их. Эта книга о приключениях и большой жизненной закалке, которую может дать не только природа. Эта книга об удивительных животных, они часто человечнее людей, и о людях, которые иногда ведут себя так, как не позволит себе ни один зверь. Она о странствиях по самым дальним и опасным уголкам Земли. Я везде побывал и много повидал. Борода стала седой. Теперь хочу поделиться с вами историями моей жизни. Наверное, ее — жизнь — и нужно считать главной инструкцией по сборке настоящего мужчины. Итак, я вытер руки об штаны и сел писать.
Глава 1 Как правильно какать
Это была поздняя осень 1979 года. Листьев на деревьях почти не осталось. С неба сыпался дождь, капли которого были густыми и содержали в себе кристаллы льда. Часть пути я прошел своими ногами, но быстро устал. Для таких случаев у моей бабушки с собой была складная брезентовая коляска. Она предложила мне сесть в нее, для того чтобы ноги отдохнули. Мне не сиделось. Я вертелся в коляске, выскакивал и садился обратно.
— Бабушка, уже домой хочется!
— Мы же только два часа гуляем…
— Я нагулялся.
Наш дом был далеко, у самой железной дороги. Мы же находились в полутора километрах от него.
— Ты что… какать хочешь? — угрожающе спросила бабушка.
Это было неприятно. Я давно и сильно хотел какать, но говорить об этом боялся, так как предполагал, чем это закончится. Но терпения уже не было, и мне пришлось признаться. Как и многие дети, я не любил и стеснялся совершать туалет в общественных уборных. Незнакомые толчки не внушали мне доверия. Мне не нравился их запах. Не нравился холод грязного, заплеванного фаянса. Я был уверен, что мои штаны, полежав спущенными на грязном полу, станут причиной какой-нибудь чесотки. Я стеснялся чужих людей, которые могли заметить меня во время испражнения. Бабушка о такой моей особенности знала. И я знал, что бабушка о ней знает. И я не хотел этого больше всего в жизни. Но мы развернулись под проливным дождем и пошли в сторону Останкинского парка. В прямо противоположную сторону от теплого, белого, родного унитаза. Я решил расхотеть. И почти сделал это к тому времени, как грязная тропа завела нас в самую глубь дубовой рощи, посаженной когда-то графом Шереметевым для услаждения взора крепостной актрисы Параши Жемчуговой. Мы подошли к раскидистому дубу.
— Лезь на дерево! — холодно и непримиримо приказала бабушка.
Я стоял-то уже неуверенно, переминался с ноги на ногу. Но полез. Сижу на дереве. Плачу.
— Что? — спрашивает бабушка.
— Домой хочу… Какать хочу…
— Снимай штаны, — говорит бабушка.
— Зачем? — спрашиваю я сквозь слезы.
— Сейчас срать будешь.
— Я так не хочу, — отвечаю я.
— Не хочешь, тогда слезай с дерева.
Я слезаю, весь мокрый, дождь со снегом, темнеет… Еще погуляли минут десять.
— Не могу! Надо что-то делать…
— Полезай на дерево!
Я лезу.
— Снимай штаны!
Снимаю.
— Сри!
Плачу, сру.
— А зачем это все? — спрашиваю я сквозь слезы.
А бабушка и говорит:
— ТИМА… ТЫ — МУЖИК! А ВДРУГ ВОЙНА? А ТЫ ПАРТИЗАН. СИДИШЬ НА ДЕРЕВЕ С ВИНТОВКОЙ. А ВНИЗУ — ВРАГИ. ТЫ ЧТО ИМ СКАЖЕШЬ? «ИЗВИНИТЕ, Я КАКАТЬ ХОЧУ»? ОНИ ТЕБЯ УБЬЮТ И С ГОВНОМ СОЖРУТ. БУДЬ ВЫШЕ ЭТОГО! СРИ ВРАГАМ НА ГОЛОВУ С ВЫСОКОГО ДУБА!
* * *
Мое спартанское детство, возможно, сейчас ужаснет читателей и читательниц, не пришедших в себя от современных «мамских» форумов, где воспитание детей представляется иначе. Однако не прошло и двадцати лет, как я оказался на войне. В руках у меня была не винтовка, а самый настоящий и самый надежный автомат в мире — автомат Калашникова.
Сидел я не на дереве, а в оконном проеме полностью разрушенной пятиэтажки. Вечерело. Была глубокая осень, листьев на деревьях почти не осталось. С неба капали крупные капли, густые от кристаллов льда. Полов и перекрытий в доме не было. Я сидел высоко и ждал, когда наступит ночь. И боялся, что пар, который валил из-под бронежилета, выдаст мое местонахождение. Внизу были враги. И я исполнил завет своей бабушки, когда стемнело…
* * *
Нет больше той улицы Академика Королева. Все теперь изменилось. Спилили вековые дубы, которые росли прямо из асфальта на дороге, которая вела от нашего дома к дубовой роще. Заасфальтировали шестигранные бетонные плиты. Нужно сказать, что во времена моего детства улица Академика Королева была военным аэропортом стратегического назначения. Взлетно-посадочная полоса длиной две тысячи триста метров могла принимать самые тяжелые транспортные самолеты, привод полосы находился в телебашне, а рулежка там, где сейчас экскурсионный комплекс. Не было раньше газона, разделявшего встречную-поперечную полосу, но, правда, и машин столько не было.
Никогда больше не сядут самолеты на эту дорогу. Может, оно и к лучшему. А дуб в парке до сих пор стоит. Совсем недавно под ним была у меня фотосессия. Я рекламировал один очень брутальный мужской товар. Гламурные барышни суетились вокруг меня, пудрили, говорили: «Как загадочно вы улыбаетесь, Тимофей. Этот атрибут вам очень к лицу. Лучше моделей и не найти. Вы, конечно, странный, но такой брутал! Настоящий мужчина!»
А потом их продюсер, юноша в зауженных джинсах, с голыми щиколотками, с бритыми висками и напомаженной бородкой, спросил:
— А не подскажете, где здесь туалет?
А я ему и говорю:
— Не знаю…
И руки об штаны вытер.
МУЖЧИНА ВСЕГДА ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ
Глава 2 Рыбалка
Я люблю рыбалку. И уже какаю правильно. Прошел год. Наступило лето. Меня повезли на писательские дачи в районе Сходни. Трава зеленая, листва густая, холодина несусветная. В те годы (1981-й) лета были очень холодными. Писательская дача — огромный барак. В этом бараке у нас только одна комната. В комнате есть печка, точнее говоря, ее устье. Топить нужно каждый день! Еще бы — в доме ребенок маленький! А на улице плюс двенадцать и непрерывный дождь. Да вот одна незадача, топить-то печку нужно из нашей комнаты, а теплая стенка — в соседней комнате, где начальники отдыхают.
Собираем мы с бабушкой веточки и начальников греем. Бабушка в то лето сшила себе ватник из чего попало, а маме халат меховой. А когда свободное время было, полиэтиленовые пакеты штопала. Это тогда большая редкость была, но вещь нужная, в пакете хлеб неделю не черствеет, не плесневеет.
Я тоже хотел шить. Я всегда хотел быть похожим на бабушку. Но бабушка, если замечала в моих руках иголку и нитку, переставала со мной разговаривать, обзывалась и била по рукам.
— Не мужское это дело — шитье! — говорила она.
В детстве я проводил много времени с ней на кухне. Она готовила пищу, а я играл в детскую посудку, позаимствованную у соседки — маленькой девочки. Наливал в кастрюльку воду, ставил на батарею, сыпал в нее соль и сахар, рвал туда бумажки. Суп варил. Длилось это недолго. Бабушка заметила, что я занимаюсь не мужским делом, и приказала меня больше не кормить. Отлучение от пищи очень быстро помогло мне сформировать мужское сознание. С тех пор я прекрасно знаю, какие дела должны делать мужчины, а какие дела отведены женщинам. Когда я стал взрослее, бабушка расширила мое сознание. Она спросила, знаю ли я гениальных поэтов-женщин. Я назвал Цветаеву и Ахматову, но бабушка сказала, что поэтессы они хорошие, однако с Пушкиным, Лермонтовым и Бродским их сравнить нельзя. Потом она спросила:
— Почему все гениальные повара — мужчины, а? Почему лучшие парикмахеры — мужчины? Почему хирурги — мужчины, водители — мужчины и космонавты — мужчины? А потому, Тима, что мужчина может делать все то же, что и женщина, и все — лучше, чем женщина. А женщина может делать женскую работу, а в остальном лишь подражает мужчине. Плохо или хорошо — неважно. Но подражает.
Когда я стал взрослее, освоил многие женские дела. Шью, готовлю, выращиваю цветы, даже неплохо стригу. Но каждый раз, выполняя эту работу, понимаю, что устать от нее не имею права, так как моя расчетная мощность значительно выше.
Так о чем я? О рыбалке.
Бабушка показала мне, как срезать ореховый прут, из булавки мы согнули крючок, а из маленькой гайки сделали грузило. Поплавком послужило голубиное перо. Я отправился на маленький Сходненский пруд. Брезгливостью я никогда не отличался, поэтому жирные червяки легко насаживались на крючок-булавку. Правда, рыба была своеобразная. Клевали только ротаны. Эти маленькие полосатые рыбки с огромными головами приехали в российские водоемы из Америки. Их привезли аквариумисты. Рыбки были похожи на маленьких прозрачных ящериц. Их огромные головы значительно превосходили размером небольшие тельца. Я принес их домой целый бидон.
Бабушка сказала:
— Хочешь готовить — готовь то, что добыл.
Чистить такую мелочь неумелыми детскими руками был сущий ад, на каком-то этапе бабушка стала помогать.
Пришла соседка и говорит:
— Валентина Алексеевна, зачем вы чистите этих червей? Их же никто есть не будет!
Ошибалась соседка. Все лето я ходил на рыбалку и мы с бабушкой ели ротанов. Вкуснее рыбы я в жизни не пробовал.
И навсегда запомнил:
ЕСЛИ УБИЛ — НУЖНО СЪЕСТЬ. ЕСЛИ НЕ ГОЛОДЕН — НЕ ОХОТЬСЯ! ЕСЛИ НА СТОЛЕ СТОИТ ЕДА — ЕШЬ И ХВАЛИ ЕЕ! ЕСЛИ НЕВКУСНО, ЕШЬ ВСЕ РАВНО — САМ ГОТОВИЛ.
Печень
Однажды я отправился в долгую командировку, снимать про Северный флот. В наше распоряжение был выделен буксир ледокольного типа «Кингисепп». Это довольно большой корабль. Я взошел на борт и сразу почувствовал запах солярки. Он показался мне очень приятным. На «Кингисеппе» нам предстояло жить и работать два месяца.
Я познакомился с капитаном и боцманом. Мы вышли в море. Подошло время первого обеда. Накрыли нам в кубрике. Все это происходило во времена скудного финансирования нашей армии. Капитан сразу извинился. Сказал, что на борту есть только капуста и мука. Значения этому мы не придали: ели щи, хлеб, пирожки с капустой. На ужин, завтрак и обед. Меню было определено на каждый день. У капитана был спирт. И капустное разнообразие стало отличной закуской. Спиртом мы все это щедро запивали и не бедствовали. К концу первой недели мы все передружились и прекрасно проводили время.
Однажды вечером капитан пригласил меня на рыбалку. Он сказал, что мы идем добывать рыбу к чаю. Словосочетание «рыба к чаю» меня несколько удивило, но я, конечно, согласился. Было интересно.
Мы взяли с собой по стаканчику спирта и вышли на корму. Матрос без слов понял намерения капитана: моментально метнулся за ближайшую серую дверь с овальными краями и принес оттуда огромную катушку белой синтетической веревки, которой в магазинах упаковывают торты.
Была черная ночь. Ветер с солеными каплями рвал на нас одежду. Но капитан явно намеревался отдохнуть на рыбалке душой и телом. Он навалился на перила левым локтем, в правой руке поднял стакан и почти шепотом произнес:
— За клев!
Мы выпили. Тем временем матрос расчехлил кормовое орудие и засунул руку в ствол почти по локоть. Он копался там и кряхтел. Его бушлат вымок насквозь, как, впрочем, и наша одежда… «Кингисепп» качало. Вокруг нас было только море. Мы смаковали спирт, и он, испаряясь, оставлял на наших потрескавшихся губах ощущение ледяной маслянистости.
Наконец матрос исхитрился и достал из ствола большую ценность — загнутый крючком гвоздь.
— Слава богу, товарищ капитан второго ранга… — прошипел искатель. — Я уж думал, в порту сп… Украли. Вот он!
Почему этот гвоздь был настолько ценен и почему его так тщательно прятали в стволе боевого орудия, я выяснить не смог. Но дальше произошла самая удивительная в моей жизни рыбалка.
Капитан надел катушку с веревкой на гаечный ключ. Взял ключ за два конца. Вручил мне привязанный к веревке волшебный гвоздь. И скомандовал:
— Забрасывай!
Я к тому времени уже ничему не удивлялся, но задал все же уточняющий вопрос о наживке. Капитан ответил:
— Сейчас ты увидишь, как богата наша Родина… Забрасывай!
Я забросил гвоздь в пучину морскую. Веревка стала стремительно убегать с катушки. Когда вымоталось метров пятьдесят, капитан остановился.
— Все. Тяни, — сказал он.
— Чего тянуть? — не понял я.
— Рыбу к чаю тяни!
Я начал выбирать из воды мокрую веревку, а капитан быстро наматывал ее обратно на катушку. Скоро в руках почувствовалось сопротивление. Веревка натягивалась и дергалась из стороны в сторону. А через минуту я выдернул на палубу огромную треску, она была зацеплена гвоздем за спину.
Я был поражен. Мы забрасывали в волны голый гвоздь раз пятнадцать, и ни разу невод не вернулся с тиною морскою.
Каждый раз мы вынимали рыбину. За хвост, за живот, за голову…
— Там, под водой, рыба наша без просветов стоит. Когда гвоздь через них протискивается, по-любому какую-то да зацепит, — пояснил капитан, когда мы, покачиваясь, шли за матросом, тащившим мешок с треской в камбуз.
Меню стало разнообразнее. Рыба к чаю после капустной диеты оказалась очень кстати. В каждой рыбине была печень граммов на шестьсот. И я научился ее вкусно готовить.
МОЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ
Печень трески положите в стеклянную банку, туда же один горошек черного перца, пол чайной ложки соли, лист лаврушки. Банку закройте и поставьте в кастрюлю с кипятком. Через час в банке будет граммов сто желтого масла и свежайшая печень трески.
Символ Северного флота — полярная сова. Она была изображена на самой верхней точке нашего корабля, под капитанской рубкой. В обед мы навернули печени с булкой, запили капустным бульоном и спиртом и пошли в рубку. Капитан был настроен решительно. Он сообщил, что скоро покажет нам, салагам, настоящий шторм.
«Кингисепп» изрядно качало. Волна была довольно высокая. Но капитан уверял, что мы находимся в спокойном месте. А вот в девяти милях к северу бушует настоящий шторм. Конечно, туда мы и направились.
Очень скоро волна усилилась. Перед нами сплошной стеной вставал снег с дождем. «Дворники» на корабле устроены совсем не так, как на машине. В центр лобового стекла встроен мотор. На вал мотора закреплено стекло, вырезанное в форме круга. Мотор раскручивает стекло, и капли, повинуясь центробежной силе, разлетаются во все стороны. Все, что мы видели, можно было рассмотреть только через это круглое окно-иллюминатор. Волны действительно были гигантскими. Размером с пятиэтажку.
Я поступил так же, как и все, кто находился в рубке. То есть пристегнул брючную портупею к поручню у штурвала. «Кингисепп» вставал вертикально на корму и, падая вниз, со страшным скрежетом бился днищем о волны. Иногда мы обрушивались носом в бездну и тогда бились кормой. По громкой связи доложили, что в камбузе от стены оторвался титан и обварил кока кипятком. Пробраться к коку на помощь мы не могли, так как по коридору из конца в конец летал холодильник. Двигатель забарахлил. Связь пропала. Счастливый капитан уснул пьяным сном. Наверное, если бы его не пристегнули в углу рубки, он вел бы себя подобно освобожденному холодильнику.
Стемнело. Неожиданно я почувствовал приступ тошноты. Запах солярки теперь казался мне губительным. А печень трески неукротимо просилась обратно в пучину морскую и казалась самой отвратительной едой в мире. Я вспомнил, что все лишнее при кораблекрушениях бросают за борт. И решил не держать в себе то, что особо не держалось. Я вышел из рубки. Было темно. И с облегчением вернул в темные воды печень трески.
Каким-то чудом через несколько часов мы оказались на спокойной воде. Видимо, я уснул, а когда проснулся, обнаружил, что вся команда построена на носу.
БОДРЫЙ И ЗЛОЙ КАПИТАН ГРОМКО И ТРЕЗВО ПЕРЕКРИКИВАЛ ЧАЕК, АКТИВНО РАЗМАХИВАЯ РУКОЙ В СТОРОНУ РУБКИ. ПОД НЕЙ ГОРДО КРАСОВАЛСЯ СИМВОЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА — ПОЛЯРНАЯ СОВА. ЗАБЛЕВАННАЯ МНОЙ.
Я поднял глаза и понял свою ошибку — сова была прямо под рубкой. В темноте я не разобрался. Почему-то мне казалось, что содержимое моего желудка вылетает в бушующие воды.
Пришлось признаться. Инцидент был исчерпан. Капитан объяснил мне, что тошнит всех, даже таких морских волков, как он. И привел морскую поговорку: «Для морячка потравить — все равно что для бабы родить». По всей видимости, это означало «обычное дело».
В результате шторма «Кингисепп» сломался. Волна все еще была высокой. И мы пережидали непогоду в Териберской бухте. Ночью в нашу дверь постучали. Вошли двое с овчаркой. Все осмотрели и вышли. Выяснилось, что шторм был таким сильным, что с палубы атомного ракетного крейсера «Петр Великий» смыло моряка. Теперь его искали. Чтобы было понятно, поясню, что в шторм до восьми баллов «Петра» даже не качает. Значит, было больше девяти баллов.
* * *
Недавно я был в Астрахани на очень дорогой рыбалке. В компании очень богатых людей. Рыбачили мы вместе, а после рыбалки я готовил. Все ели и хвалили. Действительно было вкусно… Мои компаньоны спросили меня:
— А вы, Тимофей, какую рыбу любите?
Я ответил:
— Ротанов!
Мне сказали, поморщившись:
— Это же мерзость. Не рыба, а наживка.
А я говорю:
— Вы просто готовить не умеете…
И руки об штаны вытер.
МУЖЧИНА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВЕРЕДЛИВЫМ
Глава 3 Про подарки
Я люблю подарки. Люблю дарить и люблю получать. Так всегда было. На мой третий день рождения мама подарила мне прекрасную машину из алой пластмассы, бабушка — меховую собаку. Этот подарок до сих пор со мной, зовут собаку Томка. Бабушка по отцу — носки. Она начала вязать их после моего рождения, два юбилея пропустила, и теперь носки были безнадежно малы.
А дед был инженер. Он думал только о железной дороге. О ней он думал хорошо. А обо всем остальном — плохо. Во всех смыслах. В смысле — он в принципе плохо думал и думал плохо. Меня он любил. Ему так казалось. Он подарил мне электробритву «Харьков». Зачем трехлетнему ребенку электробритва, дед не подумал. Наверное, на вырост. Этот подарок понравился мне больше остальных. Я решил с ним уединиться. Перед зеркалом в дальней комнате я стал искать на себе волосы. На голове «Харьков» не брал — длинноваты. У меня была прическа «под горшок», и да, я был блондином. Больше волос на теле не было. Пришлось брить брови. Но они быстро кончились.
«Харьков» не давал мне покоя еще много лет. Наконец волосы пошли расти повсюду. Но… «Харьков» не брил. Видимо, был создан для детских бровей. Потом я сделал из него тату-машинку, но это совсем другая история. А пока…
Пока меня без бровей нашла бабушка.
Очень сильно отругала. Я плакал. Она отругала меня за то, что я плакал. И я не плакал. Пришла очередь деда. Он не плакал, но готов был застрелиться из наградного оружия. И, наверное, сделал бы это, но бабушка забрала пистолет. Вечером пришел отец. Он забыл, что я родился. Конечно, он не заметил перемен в моей внешности. Увидев, что семья в горе, стал выяснять, в чем дело.
БЫЛО
СТАЛО
— Смотри. Бровей нет, — сказала бабушка. — Дед бритву подарил.
— Хорошо, что не автомат Калашникова, — ответил отец.
Все стали смеяться. Всем надоело злиться за этот день. Дед шутки не понял, но хохотал зычно — чтобы не отличаться от умных. Я тоже улыбался. Мне была приятна общая разрядка. Настроение было хорошим. Я проследил, куда бабушка спрятала бритву. А главное, я знал, к чему стремиться, чего хотеть.
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА. ОЧЕНЬ СКОРО Я ЗНАЛ ЕГО УСТРОЙСТВО НАИЗУСТЬ. ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ПОЧУВСТВОВАТЬ ЕГО ТЯЖЕСТЬ, Я ЗНАЛ, КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ.
Брови мучительно долго не росли. И брить было нечего. Эта модель бритвы была с ключиком. Заводная. Большая ценность у советских людей. Не зависит от розетки. Я разобрал бритву: ведомые ножи приводились в действие шпиньком-эксцентриком. Я еще не придумал, как это применить. Но запомнил.
* * *
Прошло семнадцать лет. Все мечты, казалось, сбылись. В руках у меня был автомат. Мы лежали в ванной. На втором этаже. Я в ванне, а Андрюха на полу. Головы поднять не могли. Можно было попробовать уйти через дверной проем. Но это точно минус один. А нас всего два. Можно через пролом под раковиной, на первый этаж. Но это только ночью. А ночь — вот она. Специально они громко разговаривают. На психику давят. Но я знаю такие штучки. В ванной — бритва «Харьков». На эксцентрик — резинку для волос. Другой конец — к крышке от банки пасты «Санита». Сматываю изоленту с рожка. И к куску мыла хозяйственного всю эту конструкцию прикручиваю. Ключиком накрутил. И на пол поставил. Зажужжала и медленно за порог поехала. Я кричу:
— Это вам за слезы наших матерей!
А там только слышен звон разбитого стекла и восхваления Всевышнего. Они-то знают, на что это похоже. Это же «лягушка»[1], они сами такое применяют. Им из-за границы присылают. Выберется такая тварь на пустое место, подпрыгнет и разбросает вокруг себя куски разорванной меди и стали. На уровне пояса поражает. Очень злое оружие противопехотное.
Не взорвался «Харьков». Но мы за это время в пролом под раковиной нырнуть успели. А уже через двадцать минут прилетели вертушки с Ханкалы и всем там брови побрили. А нас потом ребята спрашивают:
— Как вы бородатиков напугали?
— Так бритвой «Харьков»!
— Она ж не бреет ни хрена! — смеется старослужащий разведчик в кроссовках.
— Бреет, еще как, — говорю. — Пуганая ворона куста боится.
Смеемся все и пьем. Провожу рукой по лбу — брови на месте, а со лба кровь капает. «На то и брови человеку, чтобы всякая ерунда глаза не заливала», — объясняю личному составу анатомию. И руки об штаны вытираю.
МУЖЧИНА ДОЛЖЕН СТРИЧЬСЯ КОРОТКО
Глава 4 Про праздники
Шел 1988 год. Время тянулось как старый мед. Уже началась весна света. Это Пришвин так учил. Сначала весна света — с 7 января, потом весна воды, потом весна травы, потом весна птиц, а потом уж лето. Пришвин это придумал, чтобы зима такой долгой не казалась. Но вначале как-то не так обидно. Уходишь в школу — темно. Идешь из школы — темно. А сейчас просто тоска. Достать чернил и плакать. Жизнь проходит. Да хоть бы быстрее проходила. Не могу больше терпеть этот твердый стул, эту липкую парту, эту суку-математичку… Домашнее задание никогда не делаю. На алгебре никогда не слушаю. Тетрадей не веду. На галстуке ручкой — AC/DС. В голове — СашБаш[2], «Время колокольчиков». Костяшки кулаков сбиты. Впереди второй год. Меня травит математичка Алла Николаевна. Она ненавидит меня. Мою маму. И мою бабушку. Я ненавижу ее.
Третья четверть самая длинная. Самая безысходная. Все праздники позади. Выходных мало. Можно прогуливать, и я прогуливаю. Но я уже на учете у участкового. Мне одному не скучно. Я кормлю котов. Строю им дома в подвалах. Дерусь. Вырезаю из дерева. Но сегодня я не прогуливаю. Мама сказала сидеть и терпеть эту суку. Иначе беда. В интернат меня отправят, а ее родительских прав лишат. Как несправившуюся.
Вдруг заходит комсорг Лена. Отношение к ней двойственное. С одной стороны, она преподавательница физики, комсорг и стукачка. И усы у нее больше, чем у меня. С другой — дала потрогать сиську. И поет под гитару «Прекрасное далеко». Не Цой, конечно, но с сиськой превращается в аргумент. Лена говорит:
— Дети!.. Блин, «дети»… Ну ладно… Дети! На последнем, двадцать седьмом съезде КПСС в своей исторической речи Генеральный секретарь нашей любимой партии Михаил Сергеевич Горбачев сообщил о необходимости празднования незаслуженно забытого в годы застоя старинного советского праздника, который, кстати, очень любил праздновать В.И. Ленин. Эту историческую инициативу поддержали товарищи Слюньков, Зайков, Лигачев, Талызин, Зимянин и так далее… Как этот праздник называется?
Молчим. Просто наслаждаемся тем, что алгебра остановлена. А брякнешь неправильно — весь кайф обломаешь. «Никогда не прерывай оратора — пусть высрется»… Эту формулировку я потом узнал. А тогда просто, как говорят в «эйпл», нативно молчал.
— Что ж вы молчите-то, комсомольцы будущие? — укоряюще и задорно взвизгивает усатая Лена.
— Ма-сле-ни-ца! Правильно! — хвалит она себя. — Что нужно для празднования Масленицы?
Все молчат. А я — тихонько:
— Блины!
— В армию тебе нужно, Баженов! В дисбат! Чтобы тебя там научили, где блины…
Мне приятно. Я думаю, дисбат — десантура. Мне тогда и в голову не приходит, что это тюрьма — дисциплинарный батальон.
— Масленица, — говорит усатая Лена, — это проводы зимы. Для комсомольской Масленицы нужно чучело зимы. Дети! Кто может сделать чучело зимы?
Все молчат. Безрукие все. Дети вэцээспээсовцев[3] и КМОшниц[4].
Я понимаю! Вот она. Добыча.
— Я могу, — говорю.
Она знает, что я могу. Я все стенгазеты рисую, я плакаты, я стенды. Я даже Ленину нос из гипса отлил. Когда в прошлом году его с пьедестала сбила беременная пионерка. Дело житейское. Токсикоз. Седьмой месяц. А она в карауле, под знаменем. Закружилась голова. Она — за Ленина. Но он только казался незыблемым. Рухнул и остался без носа. Как прототип. Только тот от своего сифилиса. А этот — от пионеркиного. Тогда меня на групповуху не пригласили — мал еще. Это в сентябре было. А день рождения у Ленина в апреле. Вот и считай. Она упала — бюст разбила, да давай выкидывать. Ее в больницу, а там еще и сифак нашли. У них потом у всех обнаружили. Хорошо, что меня не взяли.
Я Ленину нос слепил взамен утраченного, на все руки мастер. И чучело зимы могу взять и сделать. А никто не может. А из горкома сказали праздновать. Она в клещах. Я на коне. Могу просить что угодно. Говорю:
— Мне нужно «три» по алгебре за год.
Алла Николаевна чуть указку не проглотила.
— Нет, — говорит, — через мой труп.
А усатая ей в ответ:
— Нужно помочь Тимофею.
Я говорю:
— И освобождение от занятий нужно до Масленицы включительно.
Это наглость уже. Но они соглашаются. Я продолжаю:
— И Петьку мне в помощники! И ему все льготы, как мне.
Петька — друг мой. Музыкант. Но приперло их, видать, сильно. Они согласны.
Мы идем на охоту. Сразу. Время ускорилось. Жизнь прекрасна. Стройматериалы тогда не продавались. Их никому в голову не приходило покупать. Брали на стройках. Стройки все были заброшены. Заборы повалились. Под снегом свалены доски, бревна, трубы, арматура. Кому надо — бери. Сторожей нет. Что охраняешь — то имеешь. Все вокруг колхозное — все вокруг мое. Тихо стибрил и ушел — называется «нашел». Мы с Петькой нашли два бруса по шесть метров. Толщиной двести на двести. Бревна фактически. Едва дотащили. Не посрамим пионерию!
Перед каждой школой в то время был пустой асфальтовый плац. С ванной Гречко, конечно. Это углубление такое в середине. Там всегда лужа зеленая. А если сухо, дают школьникам шланг: идите мойте площадку. Десять минут — и лужа готова.
«Для чего она?» — спросите вы.
Молодежь! Она для НВП и физры. Начальной военной подготовки и физической культуры. К армии школьники должны готовиться в полный рост. А Гречко — это министр обороны тогдашний. Говорят, он это придумал. Так вот. Маршируют школьники, носки тянут, а толстый какой-нибудь не может.
— Взвод! Не ходим строевым нормально! Еще круг! Будем учиться! Вот все могут, а очкарик не может! Еще круг! Спасибо Шварцу скажете потом. Упор лежа принять! Ориентир — котельная. Арш!
И все ползем через лужу. А потом Шварца бьем. Вечером. Вот что такое ванна Гречко. Зимой там серый лед на растрескавшейся земле. И стоит опора, из рельсов сваренная. В нее елку втыкают в декабре.
Мы с Петькой зарезали шипы. Сплотили брус. Сделали основание чучела Зимы и веревками затянули его в крестовину для елки. Стальную. Целый день работали. День за днем наша Зима становилась все серьезнее. Обретала округлости в правильных местах. Мы ходили по помойкам района и потрошили старые матрасы. Вату приматывали к Зиме проволокой. Когда мы замотали ее мешковиной, она напоминала Колосса Родосского. Я был доволен. Мне нравилась моя Зима.
А весна набирала обороты. В воздухе плавала влажность. Даже шли дожди вечерами. Мелькнули недели свободы. Чучело стало прекрасно. В последний день я повесил на грудь гегемона старую алюминиевую лопату без черенка и размашисто написал черной битумной краской: «Зима». Все было готово.
* * *
Уроки начинались в восемь пятнадцать. В день празднования Масленицы торжественную линейку назначили на шесть тридцать. Я пришел к шести. Начальству изделие понравилось. Чувствовалась в нем размашистая поступь перестройки. Ванна Гречко, посреди которой возвышался памятник вечной зиме, была полна талыми водами. На плацу стояла кафедра с гербом и трибуны. Из матюгальников на весь спящий микрорайон лилась песня «Школьные годы чудесные», вся школа была построена на линейке. Впереди — совсем дети, сзади — прыщавые выпускники, которым вот-вот откидываться. У многих подхалимов в руках были букеты. Все готово.
Усатая говорит мне:
— Спички есть?
Спички у меня были. Я, как и все мои товарищи, конечно, курил.
— Конечно, нет. Откуда? — ответил я.
И не придал значения коварству этого вопроса.
Две жирные бабы, буфетчица и повариха, вытащили на плац два огромных бидона. Старшеклассники стали доставать оттуда желтые, пареные, мокрые колобки, с которых капал комбижир.
— Школа! В колонну по одному! Стройсь! Ориентир — кафедра! Шаом арш!
Каждый поравнявшийся с кафедрой получал по два холодных колобка. «Не жрать», — шептала каждому раздатчица. На втором кругу случилось чудо. Стали раздавать джем в пластиковых квадратных коробочках. Мы такого не видели. Как в Олимпиаду! Как иностранцы едят.
Не жрать. Не жрать. Не жрать. Я и не думал жрать. Я сразу в карман положил. Для мамы.
— Стройсь! Поджигай! — говорит мне усатая.
— Что поджигать?
— Чучело поджигай!
МЕНЯ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ. Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЗИМА ДОЛЖНА СГОРЕТЬ. ЭТО ОСКОРБИТЕЛЬНО ДЛЯ ХУДОЖНИКА, В КОНЦЕ КОНЦОВ. ДА И МОКРАЯ ОНА. КАК ГОРЕТЬ-ТО? НО НА ВТОРОЙ ГОД НЕ ХОТЕЛОСЬ.
Мы с Петькой побежали в котельную. Стали ведрами носить солярку и мазут. С лестницы я тщательно проливал Зиму. Много ведер. Много ваты и тряпок. Толстый брус.
— Чуууууууудесные! — взвыл мегафон.
Эхо гуляло в пятиэтажках. Последнее ведро я опрокинул на голову Зиме и там оставил. Медленно занялось. Пламя ползло по человеческой фигуре, охватывало ноги. Когда дошло до пупа, престарелые певицы-народницы отделились от «пазика», где сидели все утро, накинули алые павловопосадские платки и пустились в пляс вокруг Масленицы.
— Их! Их! Их! — взвизгивали они.
Директриса трубным гласом провозгласила с кафедры:
— Дети! Кушайте блины кружевные да вареньем смазывайте щедро!
Ага… это были блины. Я догадался только после подсказки. В восемь пятнадцать всех увели по классам. Начиналось самое интересное…
— Туши! — сказала усатая.
Подойти к Зиме было невозможно на двадцать шагов. Черный дым застилал микрорайон. Мое творение напоминало терминатора в тот момент, когда его уже начинают жалеть зрители. Я отказался. Второй год, значит, второй год. «Само погаснет», — сказала усатая и повела меня на математику.
Уроки закончились. Сгорели тряпки.
Продленка закончилась. Сгорела вата.
Стемнело. Посреди плаца горел огромный крест.
Со всего района пришли зеваки. На балконах хрущевок стояли люди. Смотрели. Посмеивались. Перестройка. Неизвестно, что можно, что нельзя. Дух сопротивления опять же. Приехали пожарные. Посмеялись. Тушить не стали. Директриса в темноте при свете костра требовала у них бумагу. Они ей дали. Прочла и на землю бросила.
Наступила ночь. Я был один. Мой крест горел.
Я поднял бумагу и прочел: «Отказ от тушения. Тушение не может быть осуществлено по причине непопадания струей в объект».
Я сложил мокрый документ вчетверо. Положил в карман школьного кителя и вытер руки об штаны.
У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ СВОЙ КРЕСТ
Глава 5 Про случай
В жизни каждого мужчины роль играет случай. Я гулял по району. Друзей не было. Ушел далеко от дома. Начался ураган. Жили мы у самой Останкинской телебашни, а ветер застал меня на Крестовском мосту у Рижского вокзала. Машин не было. Я спрятался от стихии под черной скульптурной композицией, справа первой, как ехать в центр.
Небо почернело. Налетели дождь и град. Град так лупил по мосту, что мне казалось, будто я на поле боя. Вдруг что-то зазвенело. На дорогу упал топор. Потом мы много раз смеялись, вспоминая эту историю. Но тогда мне было не смешно. Я не удивился, что топор прилетел по воздуху. Я почуял добычу. Покинул укрытие и побежал по лужам к топору. Я был мокр как мышь. Лупил крупный град. Особенно по ушам. Прятаться от стихии было уже бесполезно, и я с топором пошел в сторону дома.
Шел долго и никого не встретил. Я думал: какой силы должен быть ветер, чтобы топоры летали, и откуда он вообще мог прилететь. Я держал его крепко. Теперь он был моим. Я опасался, что природа, подарившая мне столь необходимую вещь, вдруг заберет ее обратно. Все хлюпало. Во рту было солено.
Я пришел домой.
Мама старалась сдерживаться. Бабушка волнения не показала:
— Посмотри в зеркало!
Я ПОСМОТРЕЛ. ЖУТЬ, КОНЕЧНО. С МЕНЯ ЛИЛИСЬ РЕКИ. НО НЕ ПРОСТЫЕ. КРОВЬ ЗАЛИВАЛА ПРИХОЖУЮ. В РУКАХ БЫЛ ТОПОР. ВОЛОСЫ СЛИПЛИСЬ. МНЕ БЫЛО ВОСЕМЬ.
Просто град был сильный. Он рассек мне голову и уши в нескольких местах. На холоде кровотечение всегда сильнее. А из мочки уха обычно хлещет как из поросенка.
Они давно нервничали. Ребенок один. Кругом стихия. Даже стемнело. Кровь, топор…
— Топор не игрушка, — сказала бабушка. — Может, рано еще?
Но об этом и речи быть не могло. В эту ночь я спал с топором. Не мог расстаться. Мне не терпелось попробовать его в деле. Скоро мы уехали в деревню и с бабушкой пошли в лес. Заготавливать хворост. Я был еще мал. В руках у меня был топор. Мой первый. Бабушка шла рядом на случай, если я рубану себе по ноге или еще что. Она волновалась, но виду не показывала. Работа шла быстро. Скоро я перестал рубить маленькие ветки и начал валить небольшие деревца. Дрова лучше хвороста. Мы работали целый день. Вечером приехала мама, и я услышал их разговор.
— Больше не пойду с ним в лес, — сказала бабушка. — Ему помощь не нужна.
— А вдруг руку или ногу себе рубанет? — говорит мама.
— Нет, он с топором родился.
Действительно, я никогда не учился этому. Всегда все умел топором. Мог и ложку вырезать им, и карандаш заточить, и елку в три обхвата свалить. Деревья всегда падают у меня туда, куда я задумал.
Сейчас у меня много топоров. Наверное, двести… Или триста. Я даже стал экспертом одной знаменитой фирмы, которая топоры выпускает. Но первый топор прилетел ко мне по воздуху. И он всегда со мной.
Так заканчивается рассказ о моем первом знакомстве с инструментом.
* * *
…Мы пили в морге. Мои друзья сидели вокруг стального стола для препарирования. Закуска была простая, а наливали спирт. День рождения у Леши-хирурга, патологоанатома. Потом про войну говорили, потом про баб. Леха сказал, что любит спортсменок.
На следующий год мы собрались на его похоронах. На кладбище.
Дело было так. Леха был прекрасный хирург. От бога. Все устройство человеческое знал изнутри. Только людей не любил. Склоки эти… Треп… И ответственность не любил. Выживет не выживет — вот это все… А резать любил. И перебрался из оперативной хирургии в анатомичку. И тут жизнь наладилась! Режь-кромсай… Стерилизовать ничего не надо, ответственности никакой. Благодать.
Леха был железный человек. Молчун. Ни один мускул не дрогнет. В войсках говорили про него, что он боли не чувствует. Однажды случай был — я ему на ногу стартер уронил. И он мне объяснил, что все он чувствует, просто виду не показывает. Ну не суть…
Хотя нет, суть, конечно. Полюбил он девушку — мастерицу спорта по самбо и дзюдо. Мне она не нравилась: плечи огромные, попка маленькая, мускулистая слишком, нос приплюснутый… Ну все как положено… у самбисток. Говорила она тоже мало. Голову, наверное, об татами отбили. Так они и молчали в своей квартире. Позавтракают — и он в морг, она в зал. Подходили друг другу.
И вот однажды утром вышел Леха в ванную, зубы чистить. Взял в правую руку пасту, в левую щетку, зубами открутил колпачок и… вдохнул. Понял сразу — не откашлять. Глубоко засела пробка в трахее. Достал Леха ножичек складной и в ванной, перед зеркалом горло себе режет. Трахеотомия, так операция называется. А чего? Дерму рассек, мышц на горле спереди немного — развел. На все про все — две минуты, потом наступает удушье.
Вот она, трахея. Разрез мастерский. Колпачок видно. Сложил Леха ножичек, разложил плоскогубчики. И колпачок наружу тянет. А осталось-то всего ничего. Вставить шариковую ручку без стержня, чтобы дышать через нее, и в больницу. А тут спортсменка заходит. Мастер спорта. Руки ему за спину. Думала, покончить с собой Леха решил. А он говорить не может.
Помогла… Дура тупая.
К чему я? А! Когда хоронили его, я в яме топор нашел. Кованый. Положил в машину. И руки об штаны вытер.
МУЖЧИНА ВСЕГДА ДОЛЖЕН ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Глава 6 Настоящие папуасы
Это длинный рассказ. Практически повесть. Лет в семь я прочитал воспоминания Николая Николаевича Миклухо-Маклая. И захотел туда. На землю Маклая — в Папуа-Новую Гвинею. К папуасам. Я представлял себе, как буду дружить с ними. Отваживать от язычества. Как у меня будет хижина. А в ней запас патронов для имитации грома и молнии. Спирт для фокуса с горящей водой. И коллекция перьев казуара.
Мелькнули годы, и самолет понес меня к Маклаю.
Москва — Дубай. Дубай — Дели. Дели — Джакарта. Джакарта — Сурабайя. Сурабайя — Сулавеси. Сулавеси — Саронг. Саронг — Мисол. Мисол — Кофиау.
Жить мы должны были на корабле. Хорошо. На пирсе сели в длинную деревянную лодку, выкрашенную синей масляной краской. Туда скинули весь наш багаж. Просто лодка. Каюты нет. Палубы нет. Немного течет. Мотор от газонокосилки. Капитан — черный голый человек с порыжевшими от морской соли волосами-пружинками. В синих трусах. Зубы у него ярко-оранжевые с кровавым оттенком. Это от бетеля. Он жует цветы бетельного перца с негашеной известью. Оттого зубы меняют цвет.
Сели. Едем по морю-океану. Я думаю о том, как долго плыть. А еще ведь корабль впереди. Выходим в открытое море. Волна усиливается. Капитан стоит на корме и ногой управляет мотором-рулем. Берега не видно. Час. Два. Три. Пять.
ПРИШЛА В ГОЛОВУ МЫСЛЬ! ЭТО И ЕСТЬ НАШ КОРАБЛЬ! ЗДЕСЬ ЖИТЬ-ТО И ПРИДЕТСЯ…
Капитан молчалив. На лодке есть еще юнга. Очень неприятный тип. Многоречивый. Его не смущает, что мы не понимаем друг друга. Как и большинство индонезийцев, он уверен, что все обязаны понимать его язык. Он не дает покоя, буквально. Трогает пальцами камеры. Открывает и закрывает «молнии» на сумках. Показывает пальцем вдаль с возгласами. Чешется. Трогает мои татуировки, щекочет пальцами по рисункам, как муха. Он уже сожрал всю нашу еду и подбирается к аварийному запасу воды. Пытался проникнуть в мою аптечку, но я его спугнул, показав нож. Через час мы собрали совет. Что делать с нервным гадом?
Олег предложил выбросить за борт. Мы отвергли это заманчивое предложение, так как юнец мог быть дорог хозяину лодки, а в таком случае пришлось бы избавиться и от него. А он не бесил пока. В конце концов было решено лечить медикаментозно.
Я, нарочито облизываясь, открыл аптечку. Извлек оттуда конвалюту димедрола. Достал таблетку и сделал вид, что хочу ее проглотить. Олег выхватил у меня таблетку из рук и отломал кусочек. Ребята демонстративно стали выпрашивать. Мы все проглотили по крупинке. Каждый изобразил блаженство. Я небрежно положил конвалюту на шпангоут и отвернулся, изобразив дрему. Через минуту супостат уплел девять таблеток, аккуратно положив на место пустую бумажку. Спустя пять минут полегчало. Малыш замедлился. Через двадцать минут он спал сном праведника, свернувшись калачиком, как кот, на носу лодки.
Мы были очень довольны. Но напрасно. Малыш оказался штурманом.
А проспал он три дня. В экваториальных широтах темнеет быстро. Скоро стало темно так, что вытянутой руки не видно. Волна усилилась, уже перехлестывала через борт. Мы решили экономить налобные фонари. Остался один у оператора-постановщика. Я черпал воду обрезком канистры из-под машинного масла. Но каждая следующая волна сводила мои усилия к нулю. Юнга спал.
Капитан уже никуда не плыл, он просто доворачивал лодку носом к волне. Экономил топливо. Стало понятно, что мы потерялись в теплых черных водах.
Уже под утро мне удалось сориентироваться, и мы пристали к небольшому острову. В маленькой бухте встали на якорь. Было решено после такой ночи поспать. Лежать на шпангоутах в луже — удовольствие небольшое. Но мы уснули сразу. Утренняя прохлада очень способствовала хорошему сну, так как днем температура доходила до сорока двух градусов по Цельсию. А в лодке под прямым солнцем и того больше. Вода тридцать пять градусов. Банная жара сохраняется до середины ночи. Это очень мешает даже тем, кто к такому положению вещей привык.
МНЕ СНИЛИСЬ ПЛОХИЕ СНЫ. МИР ПЕРЕВОРАЧИВАЛСЯ. Я БЫЛ ВЫНУЖДЕН СТОЯТЬ НА ЛОКТЯХ. ПОТОМ НА ПЛЕЧАХ. ПОТОМ НА ГОЛОВЕ. ЭТО НЕУДОБНО. НЕБО БЫЛО ТВЕРДЫМ. С ЗАНОЗАМИ И ГВОЗДЯМИ. СОН СОПРОВОЖДАЛСЯ ПЕСНЕЙ: «ПОСТАВЛЕНЫ КОГДА-ТО, А СМЕНА НЕ ПРИШЛА…»[5]
Терпеть было уже невозможно. Я открыл глаза и понял, что стою на голове. Лодка, в которой я уснул поперек, лежала на берегу. На боку. Борт, где была моя голова, — на песке. А противоположный, с ногами, смотрел в небо. Спросонья я ничего не понял. Брезжил рассвет, и на фоне фиолетового неба я увидел силуэт исхудавшего печального демона с козлиной бороденкой. Он сидел по-турецки на бушприте. Я не сразу узнал своего вечного спутника Титова. Он сообщил сразу несколько известий. Первое: шторм кончился. Второе: начался отлив, мы на мели (во всех смыслах). Третье: эта лодка и есть тот корабль, на котором мы рассчитывали жить.
Так как вода отступила, судно для жизни было вообще непригодно. Легло на борт — ни укрытия, ни смысла. Но дело хуже. Приливно-отливная активность в этих местах не постоянна. Не имеет графика. Иногда прилив смывает островные леса. Иногда отлив тянется так долго, что успевают вырасти мангровые кусты.
Лодка, которая казалась мне такой маленькой для экспедиции и океана, теперь оказалась большой. Я безуспешно пытался столкнуть ее в воду. Она не шелохнулась. До уреза литорали было метров пятнадцать. Мы толкали вдвоем. Потом с капитаном. Потом все семеро. Она лежала, присосавшись к мокрому песку, как залитая в бетон. Выгрузили оборудование и юнгу. Толку — ноль. Решено было копать.
Это ужасно. Солнце выкатилось в зенит. Лопат не было. Наша канава заплывала очень быстро. Я построил опреснитель.
МОЙ СПОСОБ ПОСТРОЙКИ ОПРЕСНИТЕЛЯ
Выкопайте яму в песке.
Поставьте на дно ямы банку.
Накройте все это полиэтиленовой пленкой.
На пленку положите камень.
Соленая вода из пляжного песка будет испаряться под воздействием солнечных лучей и оседать на полиэтилене. Конденсат скатывается в банку.
Вода противная, теплая, чуть солоноватая, с запахом трупного разложения. Но пить можно. И хочется. Но двести граммов в час мало на восьмерых (юнга проснулся).
Мы копали руками, ногами и палками. Весь день и половину ночи. Кожа на открытых участках была малиново-фиолетовой. Мы посчитали — копать пять дней. Нормально, в принципе.
Ночью мне удалось убить цаплю. Коллеги собрали морских ежей. Я расставил ловушки. Мы поели и с устатку прилегли. Хлеба-соли уважать — нужно лечь и полежать.
МЫСЛИ МЕНЯ ТЕРЗАЛИ САМЫЕ МРАЧНЫЕ: НЕТ СВЯЗИ, НЕТ ПОДМОГИ, НЕТ КАРТ, НЕТ ЕДЫ, НЕТ ВОДЫ, НЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
Личный состав радовал. Бойцы как на подбор. Работящие, веселые. Но факты указывали на то, что скоро все изменится. У всей команды резко ухудшалось состояние здоровья. Моча стала коричневой, как темное пиво. Наблюдались и иные признаки почечной недостаточности и обезвоживания. Всему виной было беспощадное солнце, изнурительный труд и скудное питье.
Я уснул. Во сне я много пил, сетовал, что вода соленая, но пил жадно. Мне снился океан, но не такой, как бороздили мы, а такой, как бывает в рекламе шоколадок.
ПРАВДА ПРО БАУНТИ
Кстати, расскажу историю этого известного «райского» острова. «Баунти» — так называлась транспортная шхуна. В трюмы загрузили ростки маниоки. Их нужно было переправить в Старый Свет из Азии. Чтобы они не умерли, их надо было поливать пресной водой в течение всего пути. Капитан дал команду ограничить питье для матросов. Они взбунтовались и повесили капитана на рее. А труп бросили за борт. Команда стала пиратской.
Капитан выжил… Его подобрал английский фрегат.
Пираты тем временем высадились на острове. Совершили грехопадение с местными женщинами и назвали остров в честь своего судна. Через год капитан вернулся с карабинерами. Всех, кто был на острове, посадили на колья. Остров до сих пор называется Баунти. Но жить на нем после этой истории никто не решался. Двести лет уже.
…Много воды снится — к пустым разговорам. Я открыл глаза. Кругом была вода. Корабль поднялся и гордо болтался на якорной веревке. Мы копали зря — прилив пришел. У страха глаза велики. На воде был штиль. Юнга-навигатор полностью освободился от димедрольных чар. Мотор-косилку завели. Взяли курс на Мисол. Это обитаемый остров вулканического происхождения. Пресная вода здесь пополняется за счет дождей и сохраняется в каменных впадинах островных джунглей. Площадь острова около двух квадратных километров. Коренное население — папуасы, людоеды в недавнем прошлом (впрочем, это не факт, что только в прошлом), вероисповедание — баптизм-пантерия.
Заработала связь. Я отправил весточку маме и успокоился. Часа через два на горизонте появилась земля. Я курил трубку на носу и болтал ногами. Вода была идеально прозрачной. Под моими пятками проносились кораллы и медузы, скаты и акулы. Проплыл большой марлин. Мелькали тут и там рыбки-клоуны. А от носа корабля во все стороны разлетались летучие рыбы. Они прыгали по воде, как плоские камешки, запущенные с берега, а потом расправляли плавники и летели стремительно по воздуху, преодолевая расстояние в двадцать — двадцать пять метров.
К берегу корабль пристать не мог из-за мелей. Мы бросили якорь метрах в пятидесяти от берега. Разгружаться решили с борта. По ощущениям глубина была около полутора метров. Я прыгнул с борта солдатиком. Пришел на прямые ноги. Воды оказалось двадцать сантиметров. Белый песок укатан волнами, как асфальт. Я сломал пятку. Приключения начинались.
Мы выгрузили рюкзаки, и я сел под пальмой осматривать повреждения. Видимо, ненадолго потерял сознание. А когда очнулся, понял, что нужна аптечка. В моем рюкзаке ее не оказалось. Вскоре выяснилось, что она осталась на корабле. С деньгами, телефонами, рациями, документами и всем тем, что отличало нас от дикарей. Корабля не было.
«Где лодка?» — спрашиваю.
«Ты, — говорят, — спал, пришли местные и попросили корабль сплавать на другой остров за бананами…»
Ну идиоты… Отдали.
Я СТАЛ ЖДАТЬ. СДЕЛАЛ СЕБЕ КОСТЫЛЬ. ЖДАЛ ДВА ДНЯ. НОГА СИЛЬНО РАСПУХЛА И СТАЛА ФИОЛЕТОВОЙ.
Наконец на горизонте замаячили очертания корабля.
Я, как Робинзон, конечно, пошел встречать. Стоял в воде по пояс. Лодка медленно приближалась. Борта торчали из воды всего сантиметров на пять. Колоссальная осадка была вызвана перегрузом: бананы были навалены на палубе горой с человеческий рост. Метрах в ста от меня судно остановилось. Папуасы стали кидать бананы в воду. «Странно», — подумал я и продолжил наблюдать.
Огромные ветви бананов устилали все море вокруг судна. Там же расплывалось и зловещее черное пятно машинного масла. Масляное пятно будто кипело и неумолимо плыло к белым берегам.
До конца разгрузки оставалось, по моим расчетам, минут пять, когда случился Армагеддон. Масляное пятно забурлило, приобрело форму тевтонского клина и ринулось ко мне. Я не мог поверить своим глазам. Да и выбраться из воды быстро не мог — нога сильно болела.
Проползли секунды. Я понял, что это не масло. И оно не кипит.
ЭТО МИРИАДЫ ЧЕРНЫХ МНОГОНОГИХ ТВАРЕЙ. С ОГРОМНЫМИ ЧЕЛЮСТЯМИ И ЦЕВКАМИ-ШИПАМИ НА ЗАДНИЦАХ. САНТИМЕТРА ПО ТРИ-ЧЕТЫРЕ. ОНИ ПЛЫЛИ КО МНЕ. И ДОПЛЫЛИ.
Мгновенно со всех сторон они хлынули на меня.
Я пробовал скидывать их горстями, но они кусались до крови и лезли обратно. Их были сонмища.
Я нырнул. Сидел под водой сколько мог. Высунулся, а их нет.
Кипящая толпа мчалась к пляжу. Сплошным ковром они покрыли песок и через минуту пропали в кронах прибрежных деревьев.
Вот зачем папуасы кидали бананы в воду. Они освобождали гроздья от тварей. А те гребут к берегу и лезут на первое, что торчит из воды. Я торчал первым. Так я узнал, кто живет в бананах. И вытер руки об штаны.
Особенности национальной охоты
В эту ночь я почти не спал. Нога сильно болела. Я обливался потом. Пришлось залезть в мешок с головой, так как вся деревня приходила смотреть на меня. Для них белый человек — животное. Диковинный урод. Они тыкали в меня палочкой, подносили к носу пищу. Утром я принял решение больше в деревне не ночевать. И собрал летучку. Я объяснил папуасам наши цели и задачи.
ПЕРВОЕ: ПОЙМАТЬ ЖИВЫМ КУСКУСА[6]. ВТОРОЕ: ДОБЫТЬ КАБАНА, ТАК КАК МНЕ НУЖНО БЫЛО ПИТАТЬСЯ САМОМУ И КОРМИТЬ МОИХ ЛЮДЕЙ. ТРЕТЬЕ: СНЯТЬ ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЮДОЕДСТВА СРЕДИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ.
Папуасы сказали, что человечина — еда праздничная. И каждый день тут такое давно не подают. И вообще, недавно из Саронга прилетал вертолет и всех, кто ел человека, убили. Я расстроился. Нам нужно было это снять.
Охоту на кабана поставили в списке приоритетов на первое место. Начался мелкий дождь. Я взял костыль, и мы отправились в лес. С нами побежали без зова местные собаки — очень милые, почти голые, худые как скелеты твари. Ружье я не брал. Мы решили снять охоту с луками и копьями. Остров небольшой. Скоро собаки бешено залаяли. Начался ливень. По земле хлынули реки красной грязи. Мы побежали за собаками вверх по глиняным склонам. Ротанги и прочие колючие лианы почти не мешали. Вообще, непролазные заросли, через которые в кино с помощью мачете прорубаются супергерои, бывают в джунглях только у дорог и свалок.
Тропический лес — высокоствольный. В нем всегда тень. На земле нет травы. Только гниющие листья. Мы бежали вверх по размешанной, текущей вниз глине. Ливень хлестал стеной. В этой стене были густо замешены листья, сбитые струями с деревьев, летучие мыши — живые и мертвые, птичьи перья, плоды и орехи разного калибра.
Вскоре я увидел, что собаки держат зверя. Небольшой, очень худой и поджарый, почти без шерсти черный кабан. С огромными клыками. Он отбивался люто. Одна из собак уже хрипела с выпущенными кишками. По ней топтались остальные. Я забыл про костыль. Боли почти не чувствовал. Нужно было снимать. Подоспели папуасы. Их стрелы сделаны из бамбука, а наконечники из эбенового дерева. В цель попали все. Кабан напоминал дикобраза. Весь утыканный стрелами, он продолжал яростно сопротивляться. Тогда в ход пошли копья.
Устройство у тамошнего копья такое: наконечник имеет обратный шип, как на рыболовном крючке. Острие веревкой привязано к палке, но не закреплено жестко. Охотник вбивает острие в жертву и сразу выдергивает палку. Крюк на веревке позволяет держать трофей на поводке, не давая убежать и подобраться к охотнику.
Кабана растянули на крюках и стали разделывать. Живого. Я спросил, почему его не убивают. Высокий юноша из племени объяснил мне, что такое часто случается. У твари нет сердца. Я решил прекратить страдания. Первым делом убил собаку — ее агония казалась мне чрезмерной. Потом подобрался к кабану. У этих животных часто бывает, что сердце находится не на привычном месте, а напротив. Из-за близкородственного имбридинга[7] их организмы часто зеркалит. Я сунул руку в подходящую рану на груди дикой свиньи, и агония моментально прекратилась. Папуасы меня заметно зауважали. Я вытер руки об штаны.
Кабану связали передние лапы с задними. Правую с правой и левую с левой. Рослый папуас надел труп как рюкзак. Темнело, и мы пошли в деревню. Когда отряд вышел к хижинам, была уже черная ночь. Вкусно пахло.
Женщины стали раскладывать некоторое подобие плова на листья бао. Они используют бао вместо посуды. Вилок, ложек и палочек не используют. Все только руками. В Индонезии считается, что это гигиенично. Говорят: «Вилкой, ложкой, палочками уже кто-то ел, а моей рукой — только я».
Слух о том, что я могу убить тварь без сердца, быстро пролетел по деревне. Мне постелили циновку во главе стола. И принесли калебас[8] с пальмовым вином.
Про вино отдельно расскажу. Когда созревают в джунглях плоды дырми[9], их собирают дети. Потом женщины садятся вокруг огромного глиняного калебаса, пережевывают плоды и плюют в него. Брожение начинается мгновенно — густая масса цвета хаки пузырится, источая кислый запах. Я вина не хотел, но принял подношения. Вышел вождь в набедренной повязке из полотенца с утенком и в саронге из мешка от кофе. Он сообщил, что все мои пожелания учтены и часть уже выполнена. Кабан, кускус. А вечером ко мне зайдут по третьему вопросу. Я благодарил. Потом осторожно напомнил, что кускус еще не пойман. Вождь снисходительно улыбнулся и похлопал себя по животу. «Ешь!» — сказал он, передавая мне изрядную горку риса на листе бао.
НА ВЕРШИНЕ ГОРКИ КРАСОВАЛАСЬ ОТОРВАННАЯ ГОЛОВА САМКИ КУСКУСА. ШЕРСТЬ НЕ УДАЛЯЛИ. НО ТРУП, ОЧЕВИДНО, ДОЛГО ВАРИЛСЯ. ВОЛОСКИ НА ИСКАЖЕННОЙ УЖАСОМ МОРДОЧКЕ БЫЛИ ЩЕДРО НАМАЗАНЫ ОРАНЖЕВЫМ МАСЛОМ.
«Сюрприз!» — провозгласил вождь и полез рукой в мою тарелку. Погрузив кисть в мою еду, он покопался там и извлек скорчившийся трупик детеныша кускуса… Это была самка с ребенком в сумке — мечта биолога. Огромная редкость. Я загрустил.
— Я хотел поймать их живыми… своими руками… я же говорил вам…
— Вах! — воскликнул вождь. — Мы так и сделали! Целый день гоняли их по вершинам! Мой старший сын поймал кускусов руками, без оружия! В честном бою он оторвал им головы!
Я понял, что спорить бесполезно, и принялся за еду. Нога болела. Жир неплацентарных тек по небритым щекам. Я поднялся и поковылял в джунгли, где разместил свой гамак. Подальше от деревни. Вождь бежал за мной и отговаривал: «Там злые духи Юю! И ягуар! Спать нельзя!»
Я отстранил его.
«Ты разве не знаешь, что я великий маг?!» — спросил я и вытер руки об штаны.
Мертвая голова
Папуа — мир неплацентарных. Только сумчатые и птицы. До приезда Маклая здесь не было собак, кошек, и даже кабан, которого убили вчера, — потомок свиней Маклая. Когда Николаю Николаевичу выгружали с корабля коров, папуасы дивились — Маклай привез русскую свинью.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ТВАРЬ ИЗ МЕСТНЫХ — КАЗУАР. ОН ПОХОЖ НА МАЛЕНЬКОГО СТРАУСА. ГОЛОВА И ШЕЯ БЕЗ ПЕРЬЕВ И ОКРАШЕНЫ ВО ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ СРАЗУ. ПТИЧКА ОЧЕНЬ ЗЛАЯ. НИКОМУ НЕ УСТУПАЕТ ДОРОГУ.
Ягуаров в островных джунглях никогда не было. Я уснул сном праведника. Через час вдруг резко замолчали цикады и сверчки. Так бывает перед бурей или когда хищник выходит на поляну. Я инстинктивно проснулся, но позы не поменял. Правая рука нащупала предохранитель на карабине. Ровное и громкое дыхание слышалось слева, со стороны ног. Я скинул предохранитель и придержал его мизинцем, чтобы не было щелчка. Но минимальный звук все же послышался. Дыхание прекратилось. Через несколько секунд снова послышался звук выдыхаемого воздуха. Стрелять из-под накомарника я не хотел — пуля испортила бы сетку. Несмотря на риск, я не выстрелил сразу, а тихонько стал откидывать полог гамака. Мои глаза привыкли к темноте, но свет луны почти не пробивался через густые кроны кокосовых пальм и казуарин[10]. Небольшое существо размером с крупную собаку притаилось в ротанге, как раз там, где я предполагал. Оно явно готовилось к прыжку. Голова поднималась и опускалась в такт шумному дыханию. Зад подергивался. Хвоста я не видел. Мне стало очень любопытно, кто это.
Я успокоился, так как принял позу, удобную для стрельбы. Бескурковый карабин (а я предпочитаю бескурковое оружие) на такой дистанции может остановить медведя в прыжке. Я стал посвистывать, подзывая существо, как собаку. Оно поднялось на задние лапы, чиркнуло спичкой и закурило. В свете огня я разглядел туземца невысокого роста, одетого в тренировочные штаны и женскую кофту с декольте. Пурпурные гортензии украшали воротник. В одной руке он держал руль от мопеда, а в другой, как мне показалось, сумку с футбольным мячом.
— Почему прятался? — спросил я, не отводя от него оружия.
— Молился, — говорит туземец.
— О чем? — спросил я и поставил карабин на предохранитель.
— Боялся будить колдуна, ведь он мог убить меня, — ответствовал ночной гость.
— Правильно делал. Чего тебе?
Далее он говорил быстрым шепотом. Сообщил, что вождь поручил ему деликатное дело. Так как я проявил интерес к людоедству и внушил уважение жителям и руководству острова, меня приглашают разделить трапезу.
— Не простую, — прошептал Кузо (его звали Кузо) и многозначительно посмотрел на сумку с футбольным мячом.
— Когда, — спрашиваю, — ужин? И жив ли еще несчастный, которого будут есть?
— Нет, — говорит. — Уже мертвый.
Так… Вот это продюсирование… Сам себе думаю: «Нужно хотя бы двоих моих туда протащить, снять ведь надо».
Договорились на следующую ночь. Это мне подходило. Днем я рассчитывал половить кускуса, а к ночи мои ребята смогут оборудовать площадку «скрытками» (камеры для скрытой видеозаписи), и я просто затащу каннибалов под объективы. Все казалось так просто. Но Кузо вдруг из туземца в декольте превратился в наглого дельца и сказал: «Тысяча долларов».
Дело принимало серьезный оборот. «Хорошо, — сказал я. — Я дам тебе эти деньги. Но как я узнаю, ЧТО вы будете готовить? Мне все нужно снять на видеокамеру».
ХИТРЫЙ ПАПУАС ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕЛ. ПОДМИГНУЛ МНЕ И ОТКРЫЛ СУМКУ. ТАМ БЫЛ НЕ МЯЧ. ТАМ ЛЕЖАЛА АККУРАТНО ЗАВЕРНУТАЯ В ЛИСТЬЯ БАО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГОЛОВА.
«Договорились», — сказал я и вытер руки об штаны.
Здравствуй, кускус!
Утром я снял лангетки с пятки. Искупался. Попил кофе. Опухоль стала сходить. Там все же была трещина — компрессионный перелом. А это уже не так страшно, как настоящий. При настоящем кости расходятся. А при компрессионном просто болят. Могло быть хуже.
Коллеги варили кашу, пахло вкусно, но я по утрам не ем. Олег поймал маленькую и смертельно ядовитую змею — радовался как ребенок. На дерево над нами сели птицы-носороги и своей суетой тревожили летучих лисиц. Те покрикивали и кутались в кожаные крылья-плащи, роняя помет. Идиллия.
За кускусом решено было ехать на другой остров. Папуасы стали грузиться в свои пироги-катамараны. Это были узкие, выдолбленные из нетолстого ствола лодочки с противовесом, примотанным на две палки. Мы закидали все необходимое в непромокаемые баулы и отправились в путь. До соседнего острова мы шли на веслах минут двадцать. Собак в лодки не пустили, и они всей стаей, с визгом, всю дорогу гребли за нами.
Когда мы высадились на остров, был полдень. Жара стояла несусветная. В это время звери неактивны. Только бабочки всех видов и расцветок порхают повсюду. Маленькие мотыльки небесно-голубого цвета кружились над кучками испражнений. Огромные парусники с черными бархатными крыльями планировали туда-сюда. Маленькие червецы, украшенные парафиновыми кисточками, сидели на сухих травах, ожидая дуновения ветра, чтобы взлететь как пушинки (крыльев у этих тварей нет). Красные, желтые, синие — все они порхали вокруг нас, будто просили не спешить и остаться хоть ненадолго. Мы углубились в джунгли. Полумрак окутал нас, глаза перестало ломить от солнца. Но невыносимая жара не отступала. Под кронами настоящий парник. Мы двигались задрав головы — высматривали зверей. А под ногами все шевелилось. Термиты масляными ручьями текли по своим делам.
Наконец один из местных охотников увидел в кроне деревьев спящего кускуса. Все оживились, собаки забрехали, зазвенели тетивы дикарских луков. Я едва успел остановить эту вакханалию. Охотники были очень недовольны. Я сказал, что ловить будем в сумерках и руками. Они ответили, что так уже делали вчера, мое идиотское пожелание выполнено и теперь кускуса нужно просто убить, так как все голодны. Я был непримирим. Оставил под деревом Олега — сторожить тварь. Мы пошли дальше. Через час или полтора нашли очаровательного хондропитона. Длиной два — два с половиной метра. Он висел, свернувшись кольцами, на кусте гибискуса. Это молочно-салатовая змея, и цвет у нее как в ярком, светящемся канцелярском маркере. Мордочка тупая, в смысле углы тупые, а глаза умные — гипнотические.
МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЗМЕИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ МОРГАЮТ — ГИПНОТИЗИРУЮТ ВЗГЛЯДОМ. ЭТО НЕ ТАК. ПРОСТО ГЛАЗА У НИХ ПОКРЫТЫ ПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКОЙ — ВЕЧНЫМ ВЕКОМ. МОРГНУТЬ ОНИ НЕ МОГУТ ФИЗИЧЕСКИ.
Смотрел на меня змей, гипнотизировал. А я к гипнозу не восприимчив, тащу его за шею с куста, и алые лепестки суданской розы падают к моим ногам. Пока увесистый хондропитон перекочевывал в змеиный мешок за моими плечами, туземцы приумолкли. Они априори считают всех змей ядовитыми. И моя фамильярность с хондропитоном была для них доказательством моей причастности к высшим силам. Так и было.
Потом я отловил несколько крупных ящериц, и папуасы окончательно уверовали в то, что я колдун. Они и ящериц считают смертельно опасными. «Даже прикосновение к ящерице убивает человека», — говорят они. А я, по их мнению, не умер, потому что у всех белых есть прививка, и мы, белые, специально не даем ее папуасам, так как хотим, чтобы те гнили заживо. Но это я потом все узнал, когда мы подружились. Пока русско-папуасская команда только формировалась.
Солнце поползло на закат, и мы направились хватать кускуса. Кускус — небольшое существо размером с кошку. Лапки тоненькие. Заканчиваются большими, потными, почти человеческими руками. Мордочка глуповатая, удивленная. Огромные выпученные глаза всегда смотрят так, будто ты признался кускусу в отцовстве. Хвост толстый, мускулистый. Шубка чистая — шелковая. Кускусы неплацентарные, сумчатые. То есть своих детей донашивают в кармане на животе, как кенгуру.
А вот еще про кенгуру: они тоже неплацентарные, оно и понятно. Папуа географически рядом с Австралией. Папуасы — австралоиды. Физически они похожи на тверских мужиков. Носы картошками. Губы тонкие. Но волосы пружинками и кожа черная. Вот приехали каравеллы из Старого Света. Давным-давно. Высадились европейцы на берег. Ясное дело, идут их встречать местные. А сзади кенгуры прыгают. Наши-то, белые, спрашивают по-своему: «Это кто?» И на кенгуров пальцем показывают, а туземцы им и отвечают: «Кен Гуру!» Так и записали. А «кен гуру» на местном наречии означает «не понимаю».
Так я про кускусов… Кускус, значит, еда.
Наступил вечер, кускус проснулся. К этому времени мы срубили все деревья вокруг того, на котором он сидел. Перелезть с кроны на крону он не мог. Мы растянули сети под деревом, и я полез. Дерево было не толстым — сантиметров пятнадцать — восемнадцать в диаметре. Сучков и веток снизу не было. Этот участок дался мне без труда. Я связал себе ноги веревкой в районе щиколоток, а другую веревку на пояс — свободно. Перекидывая веревки, можно подниматься на голый столб, не держась руками. Этим способом пользуются туземцы для сбора кокосов. Потом пошли ветки. Это все усложнило. Пришлось развязывать веревки и дальше двигаться по ветвям. Кускус быстро понял, что я по его душу, и начал невероятно ловко и быстро забираться на самые тонкие ветки. Кажется — вот он, а дотянуться нельзя. Стремительно темнело. Я начал трясти дерево. Зверек держался очень крепко, а мое положение становилось все более шатким. Наконец я тряхнул последнюю ветку, и кускус полетел вниз. Каким-то чудом я схватил его за хвост. Это надежный способ.
ЛИСУ, ПЕСЦА, ХОРЬКА И ДАЖЕ НЕКРУПНОГО ВОЛКА МОЖНО ЛОВИТЬ И ПОДНИМАТЬ ЗА ХВОСТ. НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ ВИСЯЩИЙ ВНИЗ ГОЛОВОЙ ЗВЕРЬ БЕСПОМОЩЕН, ЕГО ЛЕГКО МОЖНО БЛОКИРОВАТЬ, ПЕРЕХВАТИВ СВОБОДНОЙ РУКОЙ ЗА ШКИРКУ.
Я был окрылен и ослеплен удачей, начал спускаться, сжимая мясистый хвост кускуса в правой руке. Зверек шипел, злобно мяукал и извивался, как уж на сковородке. Через несколько секунд империя кускусов нанесла ответный удар. Тварь изогнулась и полезла по собственному хвосту. Я, как в замедленной съемке, видел его удивленное личико. Огромные глаза, исполненные разума и гнева, уставились на меня. Потные ручки ласково вцепились в мою ладонь, а маленький ротик, полный тупых зубов, вобрал мой палец и стал сжимать.
Давление нарастало, как в гидравлическом прессе. Кускус не отпускал и не перехватывал. В темноте я видел, как по его щечкам заструились черные ручейки моей крови. Кость, казалось, сейчас треснет. Я разжал руку. Пока кускус летел вниз, я успел прокричать Олегу, что брать его нужно как змею. Когда я оказался внизу, дело было сделано: кускус упал на сети, как на батут, и не повредился. Олег моментально прижал его герпетологическим крючком и инстинктивно, не глядя, взял за основание черепа. Лишенный возможности сопротивляться, кускус висел как тряпочка и таращился на окружающих. Я перехватил его, и началась съемка. Все прошло как по маслу. Я не сбивался, и запись прошла с одного дубля. Зверя можно было отпускать. Я посадил его на ветку и вытер руки об штаны.
В ту же секунду папуасы натянули луки, собаки залаяли. В кускуса полетели камни. Я заслонил собой героя и спросил, в чем дело. Они говорят: «Нельзя отпускать, нужно съесть». Я понял, что назревает политический конфликт. Решил дело дипломатией. «Нельзя, — говорю, — сейчас его убивать. Он завтра нам нужен для съемки». Мы с Олегом снова поймали пучеглазого и засунули в звероводческий мешок. Договорились, что ночью он «убежит». Пришлось взять его с собой в лодку. Так кускус переехал с острова на остров.
Людоедский ужин
Я собирался на ужин к каннибалам. А мне что собираться? Голь перекатная. Только подпоясаться. Вытер руки об штаны и пошел.
На пляже стояла баптистская церковь, очень красивая, сложенная из отесанной вулканической породы и кораллов. Иконы в ней тоже были: вырезки из глянцевых журналов с репродукциями на христианские темы. Оклады аккуратно выложены кораллами на клей ПВА. Над дверями выклеена ракушками надпись по-английски: «Иисус любит тебя». В церкви горел костер. Это создавало определенный уют, но выглядело непривычно. Со стороны алтаря, снаружи, были накрыты столы: много зелени, рис с морковкой, пальмовое вино…
Уважаемые люди сидели по-турецки перед сервированной клеенкой. Я сел на приготовленное для меня место — рядом с вождем. Разговорились, выпили пальмового вина… На листьях бао щедро лежала закуска, однако мясных блюд на столе я не наблюдал. По некоторым косвенным признакам я понял, что камеры работают. Хотелось спать после трудного дня на острове. Ужин с местной знатью представлялся ненужной работой. Прошло пятнадцать минут, и я зевнул. Еще через четверть часа спросил: «Что сегодня в меню?»
Вождь чесал живот и улыбался. Он сказал, что все мои пожелания будут в точности выполнены. Я приободрился, ведь съемка каннибальского пиршества была одной из приоритетных задач. Пришли дети в разноцветных саронгах, выстроились по росту и стали петь заунывные песни. Не знаю, сколько это тянулось, но казалось, что мучительно долго. Но и среди папуасов были режиссеры. Музыка сменилась яростным ритмом, и из кустов выскочили голые юноши. На причинных местах у них были закреплены сушеные тыквенные калебасы, явно льстящие участникам, так сказать, «костюмированного шоу», своими размерами. Калебасы были примотаны к телам резинками от трусов. Молодцы танцевали агрессивный военный танец.
В третьем часу ночи принесли огромную кастрюлю. Крышки не было, кастрюля была накрыта, в лучших традициях ритуальных контор, красной тряпкой. Я проверил микрофон — все работало. Обращаясь к вождю, я сообщил, что хотелось бы отведать содержимого кастрюли. И демонстративно, так чтобы было видно на все камеры, пододвинул свой лист бао. Чернокнижная история получилась что надо. Вождь, лихо подбоченясь, сдернул плащаницу с кастрюли и шлепнул мне на тарелку парящую отварную голову. Вспомнив, где мы собрались, я еле удержался от фразы, что я не царь, а он не Эсфирь. На Иоанна Златоуста блюдо и вовсе не смахивало.
Я поинтересовался, где остальное тело. Все за столом засмущались и предложили довольствоваться тем, что уже есть в тарелке. Я осмотрел блюдо. Несчастный был чернокожим стариком. Выглядел неаппетитно.
— Кто он? — спросил я у вождя.
— Это колдун с острова Кофиау.
Стало неприятно, ведь и меня они считали колдуном.
— А где все же тело?
— Съели давно, — сказал пожилой воин со шрамом на груди.
— Когда?
— В прошлом месяце, на празднике урожая.
Они требовательно смотрели на меня. Мол, «заказывал — жри». В голове у меня была масса отговорок: «нет аппетита», «простите, я сыт — аперитив был слишком обильным», «стоп! снято! всем спасибо!», «руки в гору, лежать лицом в пол, это стошестьдесятпятыйкраснознаменныйорденаленинаорденабоевогокрасногознамениполквдв!»… Все это не подходило.
Я надавил на глаз. Он был матовым, как белок крутого яйца. Покрутил тарелку. Предложил присоединиться всем собравшимся. Они вежливо отказались. Я перевел разговор на тему консервации. Как же, мол, голова так долго хранится, если тело вон когда съели? Мне объяснили, что голова всегда хранится на такой случай. Вдруг кому срочно приспичит. Ее сушат, как воблу. Я приподнял колдуна за дряблые щеки, примериваясь, куда бы вцепиться зубами. И тут пришло спасение. Само собой.
— Его не обязательно уплетать сейчас, — на ухо шепнул мне вождь. — Можем завернуть с собой, — сказал он и подмигнул.
Я был несказанно рад. В жизни не мечтал о «догги паке»[11] так сильно. Вечеринка закончилась. Выпуская клубы дыма из трубки, я пришел к своему гамаку. Повесил авоську с головой в ногах, чтобы муравьи не сожрали, открыл клетку с кускусом — ему пора было уходить. Тщательно вытер руки об штаны и завалился спать…
Операция «Торнадо»
Утром налетел ветер. Гамак раскачивался. Небо почернело. Я впервые в жизни увидел торнадо. Метрах в пятистах к юго-востоку от острова из моря быстро поднимался черный столб, похожий на разлохмаченную веревку. Он рос на глазах и за две минуты достиг небесного свода. Вода вокруг острова забурлила. На берег со страшной скоростью поползли гигантские черепахи. Голова у меня покруживалась, я списал это на вчерашнее вино. Однако уже через два часа понял, что пришла малярия.
А пока я наблюдал за стихией. Хвост торнадо стал стремительно загибаться к северу. С неба западали комки воды величиной с арбуз. Они были мутными и содержали обрывки водорослей, обломки кораллов и мелкую рыбешку. Торнадо двигался со скоростью сорок-пятьдесят узлов, но оставался в фарватере острова. Столб удалялся. Вдруг все переменилось: хвост стал загибаться в мою сторону. Через десять секунд на пляж прямо передо мной стали падать большие камни. А меня словно окатило из пожарного гидранта: вода содержала гальку. Было противно. Бежать было бесполезно, да и некуда. Стихия закончилась так же внезапно, как и началась. Я повесил одежду на гамак и спокойно побрел заваривать кофе. Коллеги уже были в сборе. Пили джин. Малярия была у всех…
ГОРДИЕВ САНУЗЕЛ
Коллеги спорили, с какой скоростью мчался торнадо. Те, что поопытнее, говорили об узлах, остальные говорили о километрах и милях в час. Правильно измерять скорость торнадо в узлах. И всегда находится пытливый слушатель, которого интересует, как измеряется скорость в узлах. Думаю, что сейчас уместно рассказать об этом. Скорость в узлах стали измерять наши далекие предки в те времена, когда судоходство было парусным и галерным. Для измерения скорости движения применялась веревка. На ней через равные промежутки были завязаны узлы. Веревку спускали с кормы в воду, когда корабль стоял на якоре. Она тонула. Узлов не было видно. Следовательно, скорость — ноль узлов. Якорь выбирали. Поднимали такелаж. Когда судно или корабль начинало движение, ну или начинал… (судно — гражданское, корабль — военный), веревка отклонялась, и на поверхности показывался первый узел — скорость один узел. Ветер наполнял паруса, скорость судна увеличивалась, веревка тянулась от кормы под углом. На поверхности торчали уже восемь или десять узлов. Вот так измеряется скорость.
Я раздал хинин. Он очень горький и хранится в порошках. Проглотить его незаметно нельзя. Мы запили лекарство джином и отправились собирать вещи: пора было переезжать на другую точку. Наш злополучный корабль стоял метрах в ста от берега. Я отправил помощника за капитаном и велел пристать. Уложил вещи в рюкзак. Все было мокрое. Сухим оставался только гамак, так как я мудро выстелил накомарник изнутри большими листьями дикого табака. Складывать его к мокрым тряпкам не хотелось, и я решил запихать его в аптечный баул. Под ногами хлюпала теплая соленая грязь.
Я аккуратно отвязал гамак от первой пальмы и стал сворачивать его так, чтобы он оставался у меня в руках, а не волочился по жиже. Так я приближался ко второму дереву. Я все делал тщательно и очень медленно, так как во время пароксизма малярии визуальная информация поступает в мозг медленнее обычного. Начиналась жара. А может, у меня начинался жар…
Вдруг до меня дошло, что кто-то уже секунд пять пытается откусить мне палец. Я выругался. В гамаке под пологом распластался кускус, которого я усиленно пытался свернуть в трубку вместе с постелью. Местные очень обрадовались и навострили свои тяпки: теперь кускус точно будет сварен с саговой мукой… Этого я допустить не мог. Тем более что тварь крепко держалась за мои брюки и таращилась так, что, казалось, возлагала на меня ответственность за свою судьбу.
Я закинул кускуса в аптечный баул вместе с гамаком и брюками (они к тому времени уже подсохли), возложил рюкзак с камерами себе на голову, а баул с аптекой, кускусом-путешественником и гамаком — на плечо. И направился к литорали.
Остальные мои вещи взял бой. Я отправил мальчика с просьбой подогнать корабль к берегу, но помощник вернулся ни с чем. Он в точности передал мой приказ капитану, но тот выполнить его отказался. Причина была уважительной. Вчера бедняга сильно набрался с местными и теперь боялся не миновать прибрежных рифов, ибо островная лоция и трезвому-то не очень понятна.
Мы пошли к синей лодке по воде. Сначала было очень мелко, потом по пояс, потом по грудь, потом по шею. Благо после торнадо был штиль. Наконец я понял, что иду на цыпочках и уже через раз вдыхаю морскую воду. На голове — техника удельной стоимостью тысяч двести долларов, все лекарства и кускус.
Когда до борта оставалось метров пятнадцать, я поднял все на вытянутых руках и шел уже по макушку под водой. Плыть было нельзя, так как секундная потеря вертикального положения поставила бы все путешествие на грань бессмысленности. Но Ихтиандром я тоже не был и жить под водой не умел.
И когда я уже отчаялся, рюкзаки неожиданно потеряли вес и полетели вверх — оказалось, что я дошел до корабля и капитан подхватил груз и втащил его на борт. Я вынырнул, схватил воздуха и чихнул. Раздалась индонезийская брань, и на голову мне упал кускус. От страха зверек немедленно опорожнился. Вонь несусветная. Я решил, что благоразумно опять окунуться. Когда кускус понял, что моя голова уходит под воду, он буквально осатанел от горя. Даже под водой я слышал его негодующий визг. Когда я вынырнул, он обнял мою голову всеми четырьмя лапками. Хвостом надежно закрепился за подбородок и тихонько зарычал. Я забрался на лодку, и мы отчалили.
Туземцы очень грустили о нашем отъезде. Особенно об отъезде кускуса. Вождь, сопровождавший нас в этом переходе, сказал мне, что плохо оставлять жителей деревни без кускусового супа. И на обратном пути нужно будет зверя все же отправить в котел. Ну или дать выкуп. Я не придал его словам большого значения. Кускус мне стал симпатичен, я чувствовал ответственность за его благополучие. Да и вообще мы уже почти любили друг друга.
Старик и море
Индонезийские лодки устроены интересно: бензиновая травяная косилка с винтом на длинном валу крепится на корме так, чтобы винт лишь чиркал по поверхности воды. Это делается для того, чтобы винты не набирали, не наматывали водяную растительность. А еще чтобы не убить слабый моторчик об рифы. Скорость получается изрядная. В принципе, неперегруженная лодка может выйти даже на глиссаду, то есть оторвать нос от воды и ехать, ударяясь только кормой об волны. Но это редкость.
Следующим эпизодом нашей жизни должна была стать поимка марлина. Для того чтобы поймать его, у нас было все: удочки, несколько воблеров (это деревянная рыбка-приманка величиной с селедку, раскрашенная во все цвета радуги), огромные крючки и плоскогубцы. Ответственным за ловлю был назначен ныне покойный, а тогда очень жизнерадостный, образованный и остроумный, легендарный герпетолог Володя Одинченко. Он закидывал воблера в бескрайние воды и наматывал катушку раз за разом. Часов шесть…
В принципе, мы ничего не теряли. Все равно плыть. Но марлин был нужен. Во-первых, его нужно было снять, во‐вторых, нам нужно было что-то есть на том острове, куда мы направлялись. И жизнь маленького, вонючего и большеглазого кускуса сейчас опять висела на волоске. Он, казалось, тоже переживал за успешность Володиного лова.
Вдруг мотор стал работать громче. Лодка накренилась, кускус насрал в сумку, а Володя чуть не улетел за борт. Клюнуло. Мы приготовили сачки и петли. Мотор был заглушен. А лодку явно тянуло с курса. Удочка, толщиной с лом, согнулась дугой, леска, толстая как зубочистка, звенела как струна. Мы все поддались азарту. Через десять минут рядом с кораблем показалась спина. Серебристая. Шириной как у откормленной свиньи. Потом хвост… и рыба ушла в глубину. Володя сказал, так и должно быть. Сказал, что рыбу нужно измотать.
…Наконец гигант всплыл у борта на боку. Метра два с половиной. Расстояние между кончиками хвостового плавника полметра. Голова как журнальный столик. О том, чтобы тащить его за леску, не могло быть и речи.
Я завязал скользящую петлю на толстой веревке. Такой узел еще называют петлей апартеида.
Потому что узел очень удобен для вешателей — затягивается без мыла. А с мылом вообще благодать. Капитан снял покровы и в чем мать родила скользнул в воду. Он осторожно подвел петлю под хвост морского чудовища и стремительно забрался обратно. Тогда я стал затягивать узел. Находиться в воде рядом с рыбиной было опасно. Веревку привязали к бушприту и взялись за гуж. Над теплыми голубыми водами грянула «Дубинушка». Скоро на палубе лежал гигант. Подойти мы к нему не могли: тело конвульсивно сокращалось, и при каждом кувырке рыбина что-нибудь разрушала. То лавку (их моряки называют банками) в щепки разнесет, то шпангоут.
Когда конвульсии стали редеть, Володя вооружился плоскогубцами и отправился спасать снасти: вынимать крюк из губы и воблер из горла.
ГЛАЗ У РЫБИНЫ БЫЛ РАЗМЕРОМ С КУРИНОЕ ЯЙЦО. ВОЛОДЯ ВЗЯЛСЯ ПЛОСКОГУБЦАМИ ЗА КРЮК И ПОТЯНУЛ. РЫБИНА КЛАЦНУЛА ОГРОМНОЙ, С ПОЛВЕДРА, ПАСТЬЮ, И Я ВЫСТРЕЛИЛ.
Выстрели я на пару секунд позже, она откусила бы Володе руку. Сразу после выстрела на спину рыбине, как кошка, прыгнул капитан. В правой руке у него был паранг — огромный индонезийский тесак, по форме и функционалу напоминающий латиноамериканское мачете. За десять или пятнадцать ударов, нанесенных со скоростью отстрела обоймы пистолета Глок, капитан начисто отделил голову рыбины от туловища. Марлинова кровь, по цвету как человеческая, хлестала и из тела, и из головы. И смешиваясь с морской водой, вытекала за борт через пулевое отверстие. Я стрелял с короткой дистанции, тяжелая пуля прошла навылет через рыбью голову, чуть ниже глаза, и пробила борт. За бортом в чистой воде это рубиновое облако выглядело завораживающе, напоминало дерево со стволом и кроной. А еще — ядерный гриб.
Мы подвели итоги. Ловля марлина — снято. Еда есть. Все живы. Кроме марлина. И, увы, кадров с живым марлином нет… И не будет никогда. Это плохо. Я снялся с рыбьей головой.
Судьба-индейка
Кускус освоился. Он с удовольствием ездил у меня на плече. Жрал все подряд и много спал в бауле с аптечкой. Мы должны были пристать к острову засветло, но из-за марлина задержались. Было темно, и капитан шел малым ходом. Мы легли вздремнуть. Кускус тусовался со мной на носу. С наступлением темноты он играл и веселился. Я дремал и слышал, что он что-то катает между бушпритом и стыком бортов. Потом раздался тихий всплеск, и я открыл глаза и посмотрел за борт. Из пучины морской на меня последний раз глянула вареная и злобная голова шамана с острова Кофиау. Кускус, словно отдавая честь, прикрывал выпученные виноватые глаза потными ладошками. Две отрубленных головы в одном фильме — это сильно. «Тарантино практически», — подумал я и вытер руки об штаны.
Мы высадились. Кускус рассыпал по палубе весь хинин, и вечером мы принимали маларон. Это более современное средство от малярии, но очень тяжелое. Гиппократ говорил, что лечение не должно быть хуже болезни, но маларон делали последователи Авиценны, а он придерживался мнения, что болезнь покидает тело человеческое со страданиями.
Препарат нельзя было смешивать с алкоголем, и поэтому все, кроме кускуса, грустили. Я натянул гамак, кускус залез первым. У меня случился пароксизм (сильный приступ), и мне было не до него. Он хотел играть и притащил в гамак мертвого геккона. Заворачивал его в разорванную пачку от табака и разворачивал… Бесконечно. Я погасил налобный фонарь.
Утром я чувствовал себя здоровым. Выпил кофе, отнес кускуса в джунгли. Папуасы еще спали, и я был уверен, что теперь ему ничто не угрожает. Я посадил его на большое саговое дерево, и он ушел в крону. Мы пошли искать пляж, куда приходят черепахи откладывать яйца.
Перед полуднем черепахи стали выходить из воды. Это поистине величественное зрелище. Тихо, как духи, и неотвратимо, как бэтээры после десантирования, они ползли из воды на песок. Метрах в ста от прибойной линии они быстро копали блиндажи. Присаживались над ними и откладывали штук по сорок-пятьдесят яиц величиной с пингпонговый шарик. Яйца белые, но покрыты не скорлупой, а мягкой кожей. Сделав дело, черепахи уходили обратно в воду. Все это создавало удивительную инопланетную атмосферу.
Мы вернулись в лагерь вечером.
Капитан нажег углей из плавника. Из толстых стволов дендрокаламуса[12] сделал над углями опоры, на опоры пристроил решетки, сплетенные как циновки из расколотых вдоль дендрокаламусов поменьше. Угли он закрыл огромными и мясистыми листьями дерева путешественников. На решетках нас ждал копченый марлин. Без копчения огромное количество рыбного мяса испортилось бы. В качестве гарнира у нас были морские орехи.
Ореховые деревья растут по берегам и, строго говоря, к орехам отношения не имеют. Но плоды их покрыты рыхлой древесиной. Пористая структура скорлупы делает плод морского ореха непотопляемым. Созревшие колобашки падают в воду и таким образом расселяются по миру. Если расколоть такой плод камнем, внутри будет косточка, уже соленая от морской воды. По вкусу напоминает фисташки.
Марлин оставил меня равнодушным. Он был похож на грубую сухую треску. Но есть его удобно: все кости в нем крупные и не страшные, мясо делится так же, как и в треске, на полукруглые слои, и в каждом слое по кости. А каждый слой, как стейк на кости, размером с ладонь. Визуально напоминает баранью корейку.
На острове оказалось много индюков и индюшек. Дикая популяция. С утра я отправился за ними, и наше меню стало поинтереснее.
…Мы ждали, когда появятся черепашата. Дело это небыстрое. Временный лагерь обрастал бытом и превращался в постоянное расположение. Через несколько дней он уже напоминал штаб округа.
В КОПЧЕНОМ МАРЛИНЕ ПОСЕЛИЛИСЬ МУРАВЬИ. МЫ ЕЛИ РЫБУ С МУРАВЬЯМИ, ТАК КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ БЫЛО НЕЛЬЗЯ.
Поэтому каждый вечер марлин отправлялся в коптильню в муравьиной панировке. Так мы боролись с разложением. Муравьи не уходили, оставались в рыбе. И через несколько дней куски были сплошь покрыты прилипшими копчеными трупиками насекомых, как шагренью. Рыба из-за этого кислила.
Я отправился на пляж проверить черепашат и обнаружил там юнгу с палочкой. Он тыкал ею в песок: раскапывал гнезда и таскал яйца в кипящую кастрюлю с морской водой. Я взял его за ухо правой рукой, котел с яйцами левой и повел на суд к капитану. Первое впечатление о человеке всегда самое верное. Гаденыш.
Виновник предстал перед товарищеским судом. Я выступал обвинителем. Сообщил, что черепахи охраняются конвенцией СИТЕС, занесены во все местные и международные Красные книги. Дополнил свою короткую речь выдержкой из индонезийского уголовного кодекса — за это дело у них дают десять лет тюрьмы. Юнга был приговорен к сидению на корабле. Больше на сушу ему спускаться не разрешили. Он очень испугался и был тише воды и ниже травы. Черепашьи яйца пришлось съесть. Юнга наковырял штук триста. Они уже были сварены, и выбрасывать их при нашем скудном рационе — просто грех. Блюдо мне очень понравилось. Белка совсем немного, он жидкий, как соленая водичка. Желток огромный, очень желтый. Похож на куриный, но гораздо нежнее, будто желтки сварили вкрутую и перетерли их со сливочным маслом.
* * *
Утром следующего дня во время обхода я обнаружил следы, ведущие к воде. Малыши стали вылупляться. Мы приготовились снимать массовый исход. И вот наконец песок зашевелился: очаровательные маленькие танки поползли к воде. Я в умилении наблюдал за шествием.
Вдруг из прибрежных мангров[13] вывалился индюк и стал жрать черепашат. Точнее, ему удалось проглотить только одного, остальные просто были крупнее и не лезли в клюв. Он шел по пляжу как фашист, цепляя и подбрасывая в воздух черепашат-малышей. Этому нужно было положить конец, и я относительно быстро поймал злодея футболкой. Вскоре весь пляж шевелился, как травелатор в аэропорту. Тысячи черепашек появлялись из-под земли и исчезали в ласковом прибое. А мы сняли все, что планировали, и собрались в обратный путь.
Того индюка я отдал в качестве выкупа папуасам. Кускуса больше не видел. Но думаю, что он по мне скучает. За двадцать дней кускус преодолел огромные расстояния, вырвался из лап каннибалов, плавал по морю-океану и обрел новый дом на острове, где всякая охота запрещена. Его жизнь была обменена на жизнь индюка-фашиста. Я обдумывал все это на обратном пути, когда чистил карабин перед сдачей в оружейную комнату аэропорта Сурабайя. Поташ и щелочь разъедали ранки от кускусовых зубов. Я облизал ладони и вытер руки об штаны.
Я решил, что когда-нибудь напишу повесть «Судьба-индейка». Но был молод, и писать книги было некогда. Теперь это время пришло.
МУЖЧИНА ВСЕГДА ОТВЕЧАЕТ ЗА ТЕХ, КТО ЕГО ЛЮБИТ
Глава 7 О человеке, который хотел умереть
В аэропорту Сурабайя было тихо и очень уютно. Полы застелены коврами с длинным ворсом. Окон нет. Просто соломенная крыша на столбах, подбитая снизу ротанговыми циновками. Под сводчатыми потолками лениво крутятся огромные, как в советских столовых на юге, промышленные вентиляторы. С одной стороны джунгли, с другой — взлетная полоса. Мы сидели на рюкзаках и пили пиво «Гиннес».
Коллеги в шортах, я в штанах, но в майке-алкоголичке. Страна мусульманская, линии внутренние. Голое тело оскорбляет местное население. Мы это знаем, но в зале пусто. А мы молодые и наглые. Да, и пиво тоже нельзя…
До рейса было два часа. Мы прекрасно проводили время. И тут появилась она. Маленькая, наверное, девочка, двенадцати или тринадцати лет. А может, сухая старушка. Одета вся в черную плотную ткань. На голове хиджаб, полностью закрывающий лицо и спадающий поверх нижнего балахона. Одеяния были настолько длинны, что волочились по коврам еще на полметра за хозяйкой. Лицо, я уже говорил, закрыто несколькими слоями непроницаемой ткани, а на глазах черная кисея.
В правой руке, скрытой под полуметровым рукавом, была пятилитровая белая пластиковая прямоугольная канистра. В ней вяло плескалась желтая прозрачная жидкость, вероятно, бензин или солярка.
Существо подошло к нам, склонило голову набок. Демонстративно потрясло канистрой. Вся поза говорила о том, что мы подверглись остракизму. Мы притихли. Существо удалилось в противоположный угол зала. Искра проскакивала, но терпеть было можно. В это время как раз в мире поднимал голову терроризм, и мы не понаслышке знали, чего можно ждать от так одетых женщин. К тому же мы были на чужой территории и знали за собой грешки.
ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ИХ БЫЛ ПОЛНЫЙ ЗАЛ, И ВСЕ С КАНИСТРАМИ. МЫ ПРИТИХЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО. КАЖДАЯ ПОДОШЛА И МОЛЧА ОСУДИЛА.
Объявили посадку на рейс. Мы двинулись к гейту. Но перед нами уже стояли все эти женщины. Каждая прижимала к животу канистру. Тучи сгущались. В самолете были только мы и они. Они молчали. Мы достали фляжку с самогоном от Славкиной мамы. На фляжке не было этикетки. Специально берегли для таких случаев. В первом салоне появился мужчина в зеленом платье. Его курчавая борода седела только снизу, а низ у нее был в районе пупа. «Стюард», — подумали мы. «Неверные», — подумал он.
Обычно даже в незнакомых странах стюардессы показывают на запасные выходы руками и на незнакомых языках говорят текст, который знают наизусть все часто летающие люди. Но здесь было не так. Мужчина осуждающе посмотрел на нас, огладил бороду двумя руками сверху вниз, совершая жест омовения, и прокричал: «Аллаху Акбар!» Развернулся и пошел в кабину пилотов. Стюардесс на рейсе не было. Он был командиром воздушного судна.
Весь салон зашуршал бумажками, самолет начал взлетать почти вертикально. Мы почти лежали в креслах. Перегрузка как в истребителе. Нам стало не по себе. Мы выпили и стали подбадривать друг друга речами о том, что нас мало, а их много… Нерационально гибнуть в таком количестве ради горстки неверных… Они на своей территории. Приключения начинались.
Сзади послышалось покашливание. Мы не обернулись. Потом раздался хлюпающий звук, будто кого-то мастерски ударили ножом в живот. Кашель усилился. Он шел со всех сторон. Мы делали вид, что это нас не касается. И выпили еще. Салон захлюпал хором. Мы обернулись. Все чадры были откинуты. По салону плыл отвратительный запах рвотных масс. Весь отряд истошно блевал. В пакеты. Через минуту пакеты кончились. У первой отделялась желчь. Она держала пакет перед собой, но, похоже, старалась попадать в проход. По спинке моего кресла тоже потекло.
Слава первый сказал то, что было у всех на уме: «Театр закрывается!» Мы засмеялись. Наши спутницы были этим недовольны, но сделать ничего не могли. Их мертвенно-бледные лица были искажены позывами, слюна пенилась.
Они ели нут за час примерно до полета. И происходящее вокруг не прекращалось. Несколько женщин впали в настоящую истерию и обмочились. В салоне, мягко говоря, дурно пахло. Мы поняли, что это традиция, полет переживается ими как погружение в Аид. Они подбадривали друг друга, побуждая продолжать исторгать нечистоты. Некоторые били себя по щекам. Их костюмы потеряли форму. И только канистры, стоящие в проходе, оставались для нас загадкой.
* * *
Олег рассказал историю о своей молодости, о службе в рядах вооруженных сил. Это история с началом и концом. Я запомнил ее и сейчас перескажу вам. Я лишь хочу, чтобы вы восприняли ее так же, как и мы, и потому прошу погрузиться в описанную мной реальность.
Он проходил службу в фельдшерском пункте. Кроме него, там был его командир и напарник — взрослый хирург. Военная часть находилась на отшибе. И все болезни, которые возникали в гарнизоне, были их заботой. Но время тогда было другое и почти никто не болел.
Привезли новобранцев.
НА ПЕРВИЧНОМ ОСМОТРЕ ОДИН ИЗ НИХ ЗАЯВИЛ, ЧТО ХОЧЕТ УМЕРЕТЬ. ОЛЕГ СООБЩИЛ ЕМУ В СВОЙСТВЕННОЙ БЕЗЭМОЦИОНАЛЬНОЙ МАНЕРЕ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ ЧЕЛОВЕКА — ЗАКОН. И ОН, КОНЕЧНО, УМРЕТ. НО НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ОТДАСТ ДОЛГ РОДИНЕ И ПРОСЛУЖИТ СВОИ ПОЛТОРА ГОДА (ЭТО БЫЛО УЖЕ ПОСЛЕ УЧЕБКИ).
Прошел месяц, и в фельдшерский пункт привели этого бойца.
— Штаны снять не может! — озвучили за больного жалобу сопровождающие. Олег отправил конвой и стал собирать анамнез.
— На что жалуетесь?
А тот в ответ:
— Хочу умереть, — говорит.
Олег говорит:
— Умрете, конечно. Но позже. А сейчас снимаем штаны и идем служить.
Парень не любил мыться. Его болезнь называлась очень сложно, не буду вас грузить, кто захочет, сам потом в Интернете посмотрит. Это подобие грибка, который растет на коже, на немытых ногах. Ноги опухают. Грибок прорастает в ткань. Засыхает. Ткань становится частью огромной болячки.
Олег наполнил ванну теплой водой, добавил марганцовочки. Больной посидел в ванне час. Штаны отошли. Олег продезинфицировал поражения. Намазал очаги зеленкой и отправил недовольного бойца дослуживать. Прошел еще месяц. Опять его ведут. Все повторяется: «хочу умереть» — «пока рано». Раздел его Олег, а там на лопатках два красных круга. Олег таких симптомов не знал. Намазал йодом, да и отправил служить.
Через неделю — снова. Только круги не красные, а коричневые. Олег, чтобы не повторяться, намазал зеленкой.
Еще через неделю бойца привели уже с черными пятнами. Олег их потрогал, а они выпали, как пробки. И белая кость лопаток видна. Тут уж консилиум собрали. Пришел хирург. Убрали некротизированные ткани, всё обработали, подшили. И давай суициднику допрос устраивать. Выяснилось, что он все время мерзнет. А работает в кочегарке. Там кладет матрас на котел, сам сверху на спину ложится и о смерти мечтает. А замечтавшись, спит. Дышло котла ему медленно через матрас дырки и выжгло.
Ну провели работу разъяснительную и отправили дослуживать. Прошла неделя — несут его. Он даже любимых слов вымолвить не может. И так видно, чего он хочет. Так и так — живот болит. На стол его. Смотрят они с хирургом, а там заворот кишок, непроходимость. Показания к срочной операции. Никуда не довезти. Чтобы не все мечты у солдата сбывались, решено было резать. Ну… режут. Распутывают петли в животе, подрезают-подшивают. Все чин-чинарем.
Хирург и говорит Олегу: «Принеси там чего-то из ординаторской». Олег и вышел-то на минутку. Возвращается, а в операционной ад. Кровь везде. На стенах, на потолке… Больной лежит — не шелохнется. Хирург испуган сильно. «Пока ты ходил, я, — говорит, — ему случайно брюшную артерию секанул». Нужно прямое переливание. Группы крови подходили, лег Олег на соседний стол. Перелили. Все прошло как по маслу. Скоро очнулся боец. На поправку пошел. Олег спрашивает у него, как он это учинил. А тот и отвечает: «Повезло мне на кухне бак тушеной капусты украсть. Я его съел и спать на котел завалился».
Мораль: не крысятничай, в одно рыло не жри и слушайся старших.
Но история на этом не закончилась. Олегу полагался отпуск — увольнительная. А он еще и крови сдал. С дорогой получилось две недели. Что уж он там делал, не знаю. Знаю, что, когда вернулся, первым делом к хирургу побежал.
— Жив?!
— Кто жив?
— Ну, тот, кто хотел умереть?
— Жив, — хирург улыбается, — служит.
Помолчал Олег и говорит:
— Комиссуй его на хрен. У меня гепатит нашли…
Уехал этот солдат в родной аул раньше срока. Его дальнейшая судьба неведома. Но я и вся моя команда — мы все уверены: мечты сбываются.
* * *
Самолет пошел на посадку. Турбины заревели. Вышел мужик в зеленом сарафане. Бороду огладил и кричит: «Аллаху Акбар!» Не успел он за штурвал сесть, самолет в штопор сорвался. Ну, думаем, всё. Прилетели. Ящики над головой пооткрывались. Канистры по заблеванному полу вперед покатились. Забулькали-зарыгали пассажирки. Ан нет! Ударился наш лайнер оземь и по полосе, вихляясь, покатился. Несколько канистр раскололись и дополнили картину общего разрушения. Хозяйки были безутешны. Они оказались паломницами и везли в Святую землю масло освящать. «Все мечты сбываются», — подумал я. И вытер руки об штаны. Но на этот раз этого показалось мало, слишком мерзкая глава получилась.
МУЖЧИНА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БРЕЗГЛИВ
Глава 8 О богатыре
Вспомнился анекдот.
Сидят у костра трое: английский морской котик, американский зеленый берет и десантник Валера. Выпивают, закусывают. Изрядно набравшись, морской котик встает и заявляет:
— Я могу проплыть сто метров под водой, сразиться со взводом врага, отстрелять пятьдесят из пятидесяти по-македонски и вернуться живым тем же путем.
Тут встает зеленый берет:
— Это все ерунда. Я могу проплыть двести метров под водой, сразиться с ротой врага, отстрелять сто из ста по-македонски и вернуться живым тем же путем.
Ничего не ответил десантник Валера. Он просто встал и молча пошевелил пенисом угли.
* * *
Был у меня друг по фамилии Черняк. А звали его Валера. Росли вместе во дворе, играли. Однажды Валера еще перед армией купил себе «Жигули». Папа денег ему дал.
Черняк все делал в два раза лучше и сильнее, чем остальные. Все стакан выпивают — Черняк два. Все одну сигарету — Черняк пачку. Все сто метров бегут — Черняк километр. Все в шубах ходят — Черняк в майке.
Сам Валера был некрупный. Ручки не толстые, выглядел хиляком. Но на деле был настоящим русским богатырем. Сила в нем была огромная. Вот действительно, мог человек подковы ломать и гвозди в узлы завязывать.
* * *
Однажды рано утром он позвонил в мою квартиру и попросил дать ему баллонный ключ. Это такой крестообразный ключ, которым колеса от машины откручивают и обратно прикручивают. Я точно знал, что ключ у него есть. Я утром видел, как он с ним к «Жигулям» пошел.
— Зачем, — говорю, — тебе второй?
А он и отвечает:
— Я свой сломал.
Я дал ему свой. Мой был больше, для «уазика». Он был сварен из толстого стального прутка еще в советское время и служил до меня не одному поколению автомобилистов. Через десять минут пришел виноватый Черняк.
— У тебя, случайно, нет еще одного ключа?
— Нет… А чего, тот не подходит?
— Я его тоже сломал… — ответил Черняк и виновато потупил взор.
Однажды утром мы с ребятами вышли покурить на козырек подъезда, через слуховое окно на лестнице у мусоропровода. Была зима. Мороз. Дворник мел асфальт под козырьком. Позвонили Черняку, чтобы он тоже выходил. Через минуту пришел Валера. В трусах и красный. От него валил пар. Мы стояли в зимних одеждах.
— Ты чего?
— Когда вы позвонили, я в ванне лежал, в кипятке, но друзья же важнее, вот я и вышел.
Мы не удивились. Понимали: Черняк не такой, как все, он не простудится. Валера был немного пьяненький. В этот воскресный день, прямо с утра, принял бутылочку водочки. А в ванну лег, чтобы сильнее забрало.
МЫ МИРНО БЕСЕДОВАЛИ, А БОГАТЫРЬ, ИСХОДЯ ПАРОМ, ПРОГУЛИВАЛСЯ ПО КОЗЫРЬКУ. ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К КРАЮ. МЫ ГОВОРИЛИ: «НЕ РИСКУЙ». НО ОН СТАЛ ПОСЛЕ ЭТОГО ХОДИТЬ УЖЕ ПО РЕБРУ.
Через двадцать минут Валера обсох. Сначала он встал на краю козырька как вкопанный. А потом внезапно рухнул навзничь. На едва запорошенный снегом асфальт. Дворник вздрогнул. Вороны разлетелись. Мы склонились над бездной. Черняк встал. Рванул ручку подъезда. Магнитный замок взвизгнул и повис на проводах. Валера вылез на козырек и как ни в чем не бывало закурил. Он не заметил произошедшего.
* * *
Черняк любил драться. И всегда ему было мало. Боли он не чувствовал и был за справедливость. Однажды ему выстрелили в лицо из газового пистолета. Он оторопел. Схватил своей клешней пистолет, сломал пальцы стрелявшему и погнался за ним. Но быстро потерял интерес к жертве. Он не помнил зла и легко прощал.
Однажды во дворе мы пошли поссать за «Газель», ну как маршрутки ходят — вот такая «Газель». Черняк и говорит:
— Спорим на щелбан, что я «Газель» перессу.
— В смысле? — спросили мы.
— А вот так, — сказал Черняк и извлек из штанов прибор средних размеров. Щелбаны получили все. Он перессал. Прямо через кузов.
* * *
Мы оказались вместе в армии…
И вот раннее утро. Я вернулся первым и лежал в канаве у горной дороги. Всю ночь мы работали в соседней деревне. Днем нам полагалось спать. Основной корпус был далеко за линией фронта. В течение десяти минут должны были вернуться все.
Накануне Черняк нашел заросли дикой конопли и радовался как ребенок. Я запретил рвать. Объяснил, почему это нельзя и вредно. Указал на малое содержание канабиола в дикорастущей форме.
Мои увещевания не помогли. Он набил карманы. Вечером сварил зелье и налил в двухлитровую бутылку из-под пива. Он предлагал всем. Но бойцы не смели нарушить мой приказ.
Разведчики ходят тихо. Подошвы кроссовок нужно перекатывать по внешнему ребру, стопы ставить параллельно, а не чуть в стороны, как все обычные люди делают. Этому быстро научаешься в соответствующей обстановке.
Первым тронул меня за плечо некрупный боец по кличке Жбан. Жестами он показал, что свою миссию выполнил и все прошло удачно. Он свернулся калачиком в развилке корней дикого граната и сразу уснул — это тоже дело привычки.
ЧТОБЫ СРАЗУ УСНУТЬ, НУЖНО ГЛАЗА ПОД ЗАКРЫТЫМИ ВЕКАМИ НАВЕРХ ПОДКАТЫВАТЬ И ТАК ДЕРЖАТЬ. СОН ПРИХОДИТ МГНОВЕННО. НУ, ЕСЛИ ВСЕ ДЕЛАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ.
Вдруг слетел камушек со скалы. Все внимание туда. Сзади Пес: «Повелся, командир?» Глазами показывает: это я, мол, камушек кинул, чтобы войти незаметно… Потом появились радист и пулеметчик. Рюкзаки на них огромные. Ручищи красные. Откуда пришли, не знаю. Секунда — и спят. Все на месте. Время вышло. А Черняка все нет. Десять минут — нет… Двадцать — нет…
ПОДНЯЛ Я ВСЕХ. ГЛАЗАМИ ПОКАЗЫВАЮ: ПРОБЛЕМЫ У НАС. ЕСЛИ ЧЕРНЯКА ВРАГИ ВЗЯЛИ, МЫ ВСЕ МЕРТВЫ. НЕ МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК ПОД ПЫТКАМИ МОЛЧАТЬ. ЭТО ТОЛЬКО В КНИЖКАХ БЫВАЕТ. РАСКОЛЕТСЯ ЧЕРНЯК.
Морозец утренний. Солнышко на дорогу выглядывает. Собаки в деревне лают. Собаки — наши враги. Они разные бывают. Те, что лают, присутствие наше выдают. А те, что не лают, приходят перед смертным боем. На дороге скрежет. Будто велосипед едет. Все на боевую позицию. Оружие с предохранителей снято. Радист координаты наши передал и за СВД взялся. Тихо. Слышно, как листок с куста падает — за веточки цепляется. И кровь в ушах стучит. А скрежет все ближе. Из-за поворота фигура человеческая появилась: голова на груди висит, кисти рук расслаблены и на уровне плеч на автомате. Походка нетвердая. Ноги волочит. Глянули в прицелы. Черняк.
Это плохо. Гонят враги Черняка перед собой. А он их прямо к нам ведет. Обработали уже. Показываю — огонь без команды по обстановке. Все ближе Черняк. А за ним — никого. Плохо. Значит, отряд большой у них. Координаторы огня на высотках, поди. Сейчас накроют нас. Входит Валера в нашу располагу и стоит. Спит. Руки на автомате, автомат на шее. На ногах проволока. Много мотков. На концах мотков — мины-растяжки. Это они по дороге скребли, будто велосипед ехал. Кинулся Жбан к Черняку, быстро мины одну за одной разбирает. Десять минут, и все они на одеяле флисовом безопасные лежат.
А враги не пришли. Не было их вовсе. Чудо спасло Черняка. Утром роса была, и все бойки на растяжках приморозило. А Черняк выпил свою бутылку и всю разведку на ногах проспал. Радист дал отмену. И наши скромные молитвы дошли до Бога. Видимо, потому, что без мата были…
* * *
Потом кончилась война.
Черняк вернулся на район. Все пробовал. Только в десять раз больше, чем другие. И случился у него инсульт. В двадцать семь лет. Через год лицо стало ровнее, ногу перестал волочить, рука заработала. Сам задницу вытирает. Но на этом все. Вот что вещества заморские с русским богатырем сделали. Жил быстро и остался молодым.
Пока я эту историю вспоминал, ладони вспотели. Время руки о штаны вытирать.
СИЛА НЕ В МЫШЦАХ, А В ДУХЕ И ИСТИНЕ
Глава 9 Нас вызывает Таймыр
Однажды я во главе съемочной группы был командирован на Таймыр. Документальное кино, которое мы должны были снять, так и называлось — «Нас вызывает Таймыр».
Была весна. Ну, там весна, а в Москве-то — лето. Прямо из Дудинки мы отправились в тундру. В нашем распоряжении был ГТС. Это гусеничная машина, созданная на основе танка техническим гением советских людей. Мы жили в кузове. Там были печка-буржуйка и нары. Тундра цвела и распускалась. Солнце не заходило. Всегда висело в зените. Это в Питере да в Петрозаводске белые ночи. А там — белый день.
Лето в тех краях короткое, но очень жаркое. Все растения ждут этого времени и моментально зацветают. А то до зимы плоды-ягоды не созреют. Там вечная мерзлота, то есть под слоем торфа лед. А слой небольшой — где тридцать сантиметров, а где и того меньше. Бывают исключения — метр или полтора, но это редко. Ходить по тундре сложно: кругом или болота — ног не вытащишь, или полярные березки да прочие стелящиеся кусты сплетаются сплошным ковром. Из них тоже ног не вытащишь, запутаешься, как в сетях.
Одним словом, для передвижения нужен вездеход, вертолет или нарты — сани, на которых ненцы ездят по тундре и зимой и летом. Ошибка думать, что сани не идут по кустам. Еще как. Умелый каюр так управляет оленями, что они мчат нарты не хуже телеги.
Долго ли, коротко ли, доехали мы до стойбища Ямкиных. Это большая семья. Отец Егор Ямкин — мужчина статный, молчаливый. Как и большинство ненцев, он почти никогда не снимал свою малицу.
МАЛИЦА — МЯГКИЙ, ВЫДЕЛАННЫЙ ИЗ ОЛЕНЬЕГО МЕХА ТУЛУП БЕЗ ЗАСТЕЖКИ. НАДЕВАЕТСЯ ОН ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ. ОДЕЖДА СКРОЕНА МЕХОМ ВНУТРЬ. МЕХ КОРОТКИЙ. ОТ ПОСТОЯННОЙ НОСКИ МАЛИЦА ПРИОБРЕТАЕТ НЕОБЫЧАЙНУЮ МЯГКОСТЬ. НА ОЩУПЬ ОЧЕНЬ ПРИЯТНАЯ, МАСЛЯНИСТАЯ.
Лица у Ямкиных красные, обветренные. Егор отличный охотник. Как только мы разместились, он пригласил нас на гуся. Я быстро собрался, и мы сели в нарты. Шесть оленей на каждые сани. Егор взял шест и, прикрикнув, вонзил его в задний проход одного из оленей. Упряжка резво двинулась вперед по кустам.
Потом я узнал, что бить оленей по спинам или тыкать в ягодицы практически бесполезно. Упряжка будет шарахаться и не пойдет ровно. Нужно быстро и не целясь, как умелый бильярдист, тыкать именно туда, в лузу, где нет шерсти. Это залог уверенного и прямолинейного хода нарт.
Полозья уверенно резали кусты, олени вывалили языки, но бежали на золотую медаль. На пути нам встречались ручьи и даже небольшие реки. В ручьях олени шли по грудь в воде, в реках — плыли. Нарты давали изрядную осадку, но тоже двигались по воде, не тонули.
Мы приехали на край огромного водоема. Там стоял густой туман и было много снега. Егор с сыновьями стали скатывать снежные шары и быстро лепить детские крепости. С собой у них была белая ткань. Мы стали помогать. Вообще, кино много раз заставляло меня производить кажущийся бессмысленным труд на краю земли. Это был один из таких случаев. Забравшись в самый, кажется, дальний угол планеты, мы под вечер, не спавши, лепили снежных баб.
Когда крепости для Егора, его сыновей и для нас были готовы, мы накрыли их белой тканью. Потом из нарт извлекли стопку фанеры и лобзик. Егор достал из-за пазухи бережно свернутый, замусоленный лист бумаги с изображением гуся и копирку. Солнце светило сквозь туман, и ощущения времени не было.
Я догадывался, что на дворе глубокая ночь. И все же взял фиолетовую копирку и стал переводить гусей на фанеру. Когда портреты желаемой дичи были готовы, мы стали их выпиливать лобзиком.
Это было настолько абсурдно, что даже увлекательно. Тем временем младшие Ямкины надели под малицы болотные сапоги и пошли по кромке рыхлого снега и воды в туман. Они то и дело проваливались. Тихая ругань и хлюпанье удалялись, и в конце концов они окончательно исчезли из виду.
Егор рассказывал мне о росомахе. Я скрыл от него тот факт, что видел росомаху, ловил ее и даже дрессировал какое-то время. Но версию ненца об этом звере все же с интересом выслушал. Егор не раз добывал росомах. Его лыжи были подбиты росомаховым мехом. Это единственный мех, который не покрывается наледью в мороз. Вообще, охотничьи лыжи часто подбивают, направляя ость меха назад, это делается для того, чтобы лыжи не откатывались назад, очень удобно, например, когда идешь в гору.
В десанте лыжи подбиты лисьим мехом. У разведчиков — нутрией. Росомаха — это роскошь. Так вот, у Егора — росомаха. Он брал зверя и в капкан, и в петлю, и с подхода, и из засидки. Короче, видел неоднократно. Он не пытался обмануть меня, не хвастался. Просто сам верил в то, что говорил.
Так вот, сначала моя версия. Будем считать ее верной.
Росомаха — самый большой зверь из куньих, размером с немецкую овчарку, но в холке гораздо ниже. Лапы толстые, стопы искривлены внутрь в области коленей, а в локтях выгибаются наружу. Грудь и живот у этого зверя желтоватого цвета, редко — белые. Спина черная, бока темно-коричневые, к животу цвета молочного шоколада. Волос длинный, хвост составляет примерно треть тела и покрыт ниспадающим мехом. На лапах длинные когти. След напоминает медвежий, но спутать следы может только дилетант.
Морда очень осмысленная, продолговатая. Спереди словно рубленая. Нос — собачий, черный. Внушительный оскал и неизящные зубы. Очень толстые. Их много. Человеку, увидевшему впервые пасть росомахи, количество зубов может показаться чрезмерным.
Глаза крупные, очень умные. В отличие от медведя у росомахи богатая мимика и очень острый ум.
Егор описывал зверя так: «Черный, значительно больше медведя, росомаха — сын медведя. Тупой зверь. Хвоста ему Тенгри не дал. Тенгри не дает хвоста тем, кто нечист душой. Росомаха вонючий, пьет кровь и мяса в рот не берет. Негодяй-зверь ведет войну с ненцами и находится в сговоре со злыми духами. Каждый росомаха, когда вырастет, будет медведем».
Вот что предрассудки с серьезными людьми делают.
Туман, туман, седая пелена
Туман был настолько густым, что мы с трудом различали друг друга. Послышался плеск и голоса со стороны невидимой воды. Я понял, что плещут весла.
— Кто это? — спросил я.
— Сыновья возвращаются, за лодкой ходили, — ответил Егор.
Я спросил, как они ориентируются. И он рассказал мне массу интересного. Перед тем как поведать это вам, доложу.
Ненцы, по моему мнению, наиболее приспособленный к ориентированию народ. Они не учатся этому, а наследуют генетически. Любой из них без запинки, не сверяясь с источниками, назовет вам, где какие стороны света. Любой безошибочно укажет направление ветра и сообщит, где и когда взойдет любая из использующихся в навигации звезда.
В полном тумане лодка приближалась, а Егор рассказывал историю о том, как зимой вез жену в роддом.
ВООБЩЕ, НЕНЦЫ ОХОТНО РОЖАЮТ В ЧУМАХ. ОНИ ПРИСПОСОБЛЕНЫ К РОДОВСПОМОЖЕНИЮ И НЕ СЧИТАЮТ РОДЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫМ СОБЫТИЕМ.
Кстати, некоторые из них не проводят прямой причинно-следственной связи между половым актом и появлением ребенка на свет. Понятно, что это касается не всех и среди них много по-настоящему образованных людей. Я сейчас говорю о тех простых охотниках и погонщиках оленей, которые встречались мне во время странствий моей молодости.
Так вот, жена Егора попросила отвезти ее в роддом. И по этой «прихоти» Егор запряг оленей и повез. Расстояние от стойбища до города — двести тридцать километров. Зима. Полярная ночь. Мороз и туман. И хотя пурги не было, из-за тумана звезды на небе не проглядывали. Доехали. Успели. Как дошли олени, я даже не спрашивал. Меня волновал вопрос ориентирования. Я коллекционирую способы. Ненец охотно объяснил:
— Когда на нартах сидишь — ногу свешивай. Ветер в это время года всегда дует северо-западный, и все заструги на снегу смотрят на юго-восток. Ногой их проверяй постоянно да держи путь на пол-ладони к югу. Город там.
Я офигел.
Гусекрад и нарушитель конвенции
Лодка причалила. Мы стали расставлять фанерных гусей.
— Надо торопиться, — сказал Егор. — Через сорок минут туман уйдет.
Часов у него не было, но я поверил сразу. Мы воткнули весь комплект фальшивых гусей в берег и облепили их снежками.
— Скорее под тряпки! — скомандовал Егор.
Мы залезли в снежные крепости и укрылись тканью. Ровно через сорок минут туман ушел.
— Стрелять умеешь? — спросил хозяин, протягивая мне видавшую виды двустволку с расколотым прикладом, замотанным изолентой и бусинкой вместо мушки.
— Не жаловались, — ответил я и занял огневую позицию.
— Не туда, — сказал Егор и повернул ружье за ствол градусов на тридцать влево.
Туман как молоко. Гусей не было.
— Выше бери!
Я поднял ружье выше.
— Положе бери!
Я взял положе.
— Че сидишь? Давай по сигарете. Они только у фильтра прилетят…
Я достал табак. Мне было не по себе. Я думал о том, что такое могло случиться только с Алисой. Зазеркалье крепло. Абсолем Егор смаковал дым.
— «Ява»! — причмокивая, сообщил он и кивнул головой в мою сторону. Да, это были мои сигареты, я знал об этом, но засмущался. Почувствовал себя слишком богатым и городским.
— У нас только махра[14] здесь… — сказал Егор, не выдыхая. — А газеты плохие стали, все глянцевые. Горло дерет с них.
— Я вам оставлю… — смутился я.
— Нет, не надо, — сказал ненец. — А то я писать сидя начну.
Он заулыбался своей шутке. И я признал его превосходство.
Табак не догорел до фильтра на два-три миллиметра, и над нами послышалось кликанье. Из соседнего блиндажа раскатился звук дуплета: Егор бахнул из одного ствола и через секунду из другого. Четыре гуся шлепнулись на границу снега и воды.
— Почему не стрелял? — спросил Егор.
— Так гусей ведь не видно, туман… — пролепетал я.
Егор молча пошел подбирать дичь.
Подняв гуся за шею, он резко встряхивал его, разрушая позвоночный столб. Конвульсии у подранка сразу прекращались. Потом он воткнул в снег палочки-рогатины и положил мертвых гусей рядом с фанерными фальшивками так, чтобы голова была в развилке. Вернувшись, Егор объяснил, что так натуральнее. Теперь гуси будут лететь под выстрел охотнее, так как настоящий гусь для них привлекательнее фанерного.
По часам туман рассеялся. Я ничему больше не удивлялся. Достал сигареты, но Егор сказал, что перекурить не успеем, сейчас дичь снова полетит. И точно. В воздухе показались силуэты. Я прицелился. Левее! Выше! Положе! Я выстрелил. Гусь закувыркался и шлепнулся в воду. Я был горд собой. А Егор недовольно поморщил нос, но ничего не сказал. Раздалось еще пять выстрелов, и пять трупиков упали на снег. Только тогда Егор сказал:
— Я знал, что ты стрелять не умеешь. Поэтому послал сыновей за лодкой. Смотри: наши все на снегу, а твой в воде.
Я осознал свою ничтожность и вытер руки об штаны.
НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Кровь, пот и слезы
Обратно мы поехали, видимо, другой дорогой. Тундра казалась одинаковой, но на нашем пути не встречались ручьи и реки. Я поинтересовался, где мы едем, и Егор сказал, что Тенгри гневается и нужно изменить путь. На вопрос: «Что разозлило Тенгри?» — Егор ответил: «Тенгри не хочет диспансеризаций».
У ненцев две напасти — диспансеризация и школа.
— Скоро прилетят вертолеты, — сказал ненец. — Станут ловить детей и повезут их в город. Через две недели вернут больных.
— Почему? — спросил я.
— Не знаю, — ответил он, — Но потом дети болеют… До осени. А осенью вертолеты опять прилетят. От них в тундре не спрячешься. Всех соберут и увезут в интернат. Там дети не видят тундры. Неба. Едят плохую, непривычную пищу, не пьют оленьей крови. Они не учатся закону тундры и не могут познать мудрость белых людей. Их вернут весной. Слабых, больных. Они отвыкнут от стойбища, не смогут поймать оленя. Будут мерзнуть и плакать. А потом — диспансеризация. Вот Тенгри и гневается. Смотри.
Мы подъехали на санях по кустам к берегу небольшой реки. Русло имело отвесные берега и ширину шесть-семь метров. Недалеко проходил зимник и через реку был построен мост. Мы спешились и пошли по цветущему ковру к переправе.
— Смотри в воду, — тихо сказал Егор.
Я глядел с моста. Подо мной бурлила прозрачная как стекло вода. В тундре реки чистые — дно ледяное.
Вдруг вода вскипела. Пошли пузыри, и река окрасилась в багровые тона. Вода стала алой и маслянистой, кровавые брызги падали на прибрежную растительность. Я вопросительно посмотрел на Ямкина.
— Тенгри гневается, — ответил он.
Это надо было снимать. Я спустился к реке, окунул ладони. И поднял полные горсти крови. Я попробовал ее на вкус, и она была солоноватой с металлическим привкусом. У моста стоял указатель «Далдыкан», переводится как «Ждущая крови». Через полчаса вода вновь стала прозрачной. И только с листиков стелящихся берез падали капли крови, уносясь багровыми нитями вниз по течению.
Почему на самом деле произошло это событие, я не знаю. Мне говорили, что это микроорганизмы, что это тектонические сдвиги и просто что это глину смыло. Но я думаю, что не надо мешать коренным народам жить в их доме. И тогда Тенгри будет заниматься другими делами.
Кладбище вечной мерзлоты
Мы вернулись в стойбище и легли спать в чуме. Это очень уютное переносное жилище.
Здесь говорят, что олень — первое животное, которое приручил человек. Отчасти это верно. Но лишь отчасти. Скорее олени приручили человека. Ведь они не изменили привычного уклада своей жизни. Как кочевали по тундре десятки тысяч лет назад, так и кочуют. А люди кочуют за ними.
Олени переходят с места на место, и людям приходится переносить свой дом. Так и появился на свет чум. Он похож на типи — так называют переносное жилище кочевых племен коренных индейцев, живших на территории Великих равнин. Строить чум легко. Длинные шесты ставят наискось, два из них связывают веревочкой, остальные нахлестывают друг на друга. Таким образом конструкция держит сама себя. Сверху ее укрывают сшитыми шкурами. Костер разводят в центре: конструкция жилища предполагает естественную тягу. Дым выходит в перекрестие жердей. Внутри очень тепло и сухо — лежишь на шкурах, шкурами укрываешься. На стенах шкуры. Вместо мебели — собачки пушистые. Тишина. Только комары звенят… Нет. Гудят. Комары всем досаждают: оленям, собакам, съемочной группе. Они не едят только ненцев и меня. И я сплю сном праведника.
Солнце не закатывалось. Мы выспались. Вышли до ветру. Выпили кофе и отправились с оператором снимать ненецкое кладбище.
Кладбища у ненцев и правда очень интересные. Они своих покойников в землю не закапывают. Там это невозможно: мерзлота выталкивает гробы наружу. Физика такая. Три дня полежит покойник в яме, и земля начинает сжиматься. По чуть-чуть, по чуть-чуть… Глядишь, рука торчит, как в клипе Майкла Джексона «Триллер». А дней через пять — весь покойничек в грязи вздувается. Некультурно. Сжигать тоже нельзя — с дровами трудно.
Потому делают так: мертвеца кладут на травку, над ним переворачивают сани, а потом убивают всю упряжку, которая везла труп. И рядом мертвых оленчиков кладут. В этом есть рациональное зерно. Дикие звери уничтожают падаль, и пока они едят тухлых оленей, покойничек под нартами лежит невредим. А когда до человека дело доходит, семья откочевывает и всего этого кошмара не наблюдает. Очень удобно. Ну, снимаем мы всю эту Гернику. Черепа кучами, кости человеческие и оленьи да перевернутые нарты… Стендапы записали. «Бедного Йорика» прочитали. Солнышко светит. Птички поют. На часы посмотрели — полночь. В смысле ночь. Двенадцать. Нули. Посмеялись, пожмурились от солнца да спать пошли в чум. Режим сбился с непривычки.
Полеты во сне и наяву
А наутро нас разбудил вертолет. Но прилетел он не за детьми тундры, а за нами — детьми каменных джунглей. Это был Ми-2.
Ми-2 — один из моих любимых вертолетов. Он не такой громоздкий, как «восьмерка» (Ми-8). В нем удобно сидеть. К пилотам близко. И даже можно разговаривать, крича в ухо друг другу.
С сортирами там беда. Они конструкцией не предусмотрены. Но в «восьмерке» можно пойти к задней аппарели и там все сделать в жестяную банку из-под сливового джема. А в «двойке» так нельзя. Места мало.
Вертолетчики оказались отличными ребятами. Красавцы. Афганцы. Они возили нас по-над тундрой. Часы налета не лимитировались, и горючее тоже. Им нравилось с нами, и нам было хорошо.
Но чем ближе мы узнавали наших новых друзей, тем страшнее нам было садиться в вертолет. Вертолетчики, напротив, были уверены в том, что мы теперь ничего не боимся, так же как и они. Но это было не так. Мы скрывали страх. А бояться было чего.
* * *
Начиналось все невинно. Мы видели, что пилоты то и дело выглядывали в иллюминаторы и отдавали честь в пустоту. Мне стало интересно, что это за странные жесты, и я надел наушники, которые применяют для внутренних переговоров в ревущем вертолете. Уже через минуту пилоты снова подтянулись, обмахнули руками робы, выглянули в окно и вскинули руки к воображаемым козырькам.
— Здравия желаю, Петр Иванович! — послышалось через технические шумы и щелканье в шлемофоне.
Я нажал переговорник и спросил, с кем они разговаривают.
— С нашими погибшими товарищами, — ответил капитан.
Я выглянул в окно и разглядел лежащие в тундре обломки Ми-8. Они были почти скрыты растительностью, но следы страшной аварии были налицо. Обугленный хвост винтокрылой машины лежал чуть поодаль от изувеченной, закопченной кабины. За час полета мы отдавали честь еще раза четыре. Это наводило на тревожные мысли. Ночевали мы всегда на вертолетной площадке в тундре. Очень далеко от населенных пунктов и стойбищ. Это был засыпанный гравием квадрат с конусом-ветроуказателем. Рядом с площадкой стояли две бытовки — два балка, как здесь говорят. Они были очень старыми. Обшиты рубероидом. Летчики спали в одном, а мы в другом. По вечерам мы, конечно, пили, а утром завтракали и заводили моторы.
«Утр», когда к нам пришел страх, ничем не отличался от других. Мы взлетели. Машина шла низко, и было видно, как от нашего вертолета во все стороны разбегаются зайцы. Многие уже поменяли шубки на летние, но большинство — белые. Их были тысячи. Они сидели во мху прижав ушки, а когда вертолет равнялся с ними — начинали свой неистовый бег. В шлемофоне щелкнуло:
— Говорит командир! Сейчас мы вам покажем, как у нас на северах зайца добывают!
Я почуял недоброе, но связь отключилась. Турбины взревели, как в последний раз. Машина повела себя непривычно. До этого я чувствовал такое лишь раз, на войне, когда после эвакуации, уже с нами на борту, боевой вертолет обрабатывал квадрат, откуда нас забрали. Нос вертолета наклонился. Я спешно накинул привязной ремень. Ровный рокот винта стал отрывистым и громким. Турбины сосали воздух с такой силой, что, кажется, поток рвал клепки из алюминиевой крыши. Скорость относительно земли возрастала кратно. Мы стремительно теряли высоту и одновременно заходили на вираж с огромным креном влево и тангажем на нос. У самой земли машина вдруг резко стала уходить вправо и вверх. Я не сразу понял, что так и было задумано. Лица летчиков озарялись безмятежным счастьем.
Щелкнул переговорник:
— Чуть не зашиб! Ща на втором кругу точно зашибу! — почти кричал счастливый командир.
Машина с ревом понеслась в небеса. Там мы сделали ловкую горку и по спирали с очень малым радиусом ринулись к земле. Зайцы прыснули в разные стороны.
— Не уйдешь, сука! — захлебываясь от восторга атаки, шипел шлемофон…
Вертолет несся почти вертикально, задрав хвост. Вдоль земли. По иллюминаторам заколотили ошметки срубленных кустов.
— Уходим выше, — спокойно сказал второй пилот. — Тангаж опасный. По рельефу через триста метров возвышение.
— Фигня! — сказал командир. — Успеваю! Зашибу!
Мы поняли, что он охотился. Хотел зашибить зайца лопастью. Я молился. И мои мольбы были услышаны. Вертолет гонялся за зайцами еще минут сорок. Но, видимо, оттого, что охотились сразу за несколькими, не убили ни одного.
После съемок, уже к вечеру, вернулись домой. Выпили, конечно. Во время ужина я попросил не повторять охоту. Летчики наслаждались нашим страхом. Мы уважали их.
Утром нам предстояла дальняя дорога. Винты работали ровно, на приличной высоте и с немалой скоростью мы ехали над ровной как стол тундрой. В целом ничего особенного. Я даже на какое-то время уснул. Наушники с тангентой за ненадобностью покоились у меня на коленях. Разбудил коллега, жестами стал показывать, что надо надеть гарнитуру. Глаза телевизионщика округлились от страха. Я понял, что назревает очередное испытание. В наушниках кипела жизнь.
— Скучно, блин!
— Сам засыпаю, на приеме…
— Первый, давай Афган?
— Не принял… Повтори…
— Давай, как будто это река Пяндж, на приеме…
— Давай, ручей — ущелье…
Я все понял… Мальчишки… Они играли в Афганистан. Им было скучно лететь над слишком ровным местом.
Мы выглянули в иллюминаторы и оценивающе осмотрели извилистую голубую ленточку воды внизу.
— Принял… Выполняю… Левый, вниз, крен сорок…
Я накинул ремень. Турбина засвистела предсмертным воем.
— Есть сорок…
— Сорок пять…
— Есть сорок пять…
— Доворот на сто восемьдесят…
— Есть доворот.
Мы снизились так, что колеса коснулись воды в ручье.
— А теперь серьезно! Духи кругом! Правая стена девяносто! Левая шестьдесят! На сорока пяти метрах занос влево разрешаю.
— Принял!
— Как? С обстрелом будем? Или санрейс?
— С обстрелом, конечно… Ссыкунов нет…
Командир покосился на нас.
Вертолет опять опустил нос. Брызги от ручья окатили лобовые стекла, бешено заработали дворники. Мы с ревом помчались по извилистому руслу. Пилоты наслаждались. Ручей для них стал ущельем. Вокруг громоздились воображаемые скалы. Команды сыпались как комментарии футбольного обозревателя. Машина работала идеально. Время от времени воображаемые духи стреляли по нам воображаемыми ракетами. Мы отстреливали воображаемые теплушки. Тормозили. Возвращались и давали воображаемым пулеметчикам подавить огневые точки. Уходили от огня, ныряли и поднимались, огибая воображаемые уступы. Короче… жуть.
Если вас ударить в глаз, вы, конечно, вскрикнете, раз ударить, два ударить, а потом привыкнете. Так случилось и с нами. К вечеру мы уже не боялись ничего. Пилоты потеряли к нам всякий интерес. На завтра был назначен выходной. Мы решили лететь купаться. И я сменил трусы и вытер руки об штаны.
Беспилотник
Будильники поставили на час позже обычного. Оставили технику в бытовке. Взяли удочки и чего положено в выходной. Сели и полетели.
За время, проведенное в тундре, мы хорошо изучили местность. Не забывайте, солнце не село ни на минуту. На небе — ни облачка. Мы подолгу смотрели на тундру сверху и ходили по ней, хорошо ориентируясь и зная, куда нам надо.
Примерно в часе лету от нашего лагеря находился очаровательный распадок. Чаша холмов, бывшая когда-то стратовулканом, окружала небольшую равнинку. Круглая поляна была защищена от ветра и сплошь покрыта разноцветными бутонами. Цветы вокруг — большие и маленькие, распустившиеся и осыпающиеся. Земля, листья, трава и вода — все было усыпано благоухающими лепестками. Посередине дремало большое озеро, небесно-голубое. Вода чистейшая. Солнце висело прямо над озером, и вода прогревалась прекрасно. Голубизну воде придавало не столько небо, сколько дно. Оно было из голубого льда. Никакого мусора, никакого ила. Ни листочка. Ни травинки. Голубой лед, и точка. Температура воды — двадцать восемь по Цельсию. Рай.
Нам было жаль нарушать эту девственную пастораль. Но как не топтать цветы? Решение предложили вертолетчики. Когда это произошло, всем нам стало понятно — это вишенка на торте. Брутальность подхода эффектно оттенила пасторальную красоту. Наш вертолет завис прямо над водой.
— Прыгай! — заорал командир.
Нырять в озеро из вертушки круто. Это позволило нам не ступать на травушку, а, раздеваясь прямо на дермантине сидений, плюхаться в чашу. Вылезать было тоже просто. Не надо было скользить по ледяному дну. Наступать на острый стланик. Да и вообще кому расскажешь — не поверит.
Мы купались, веселились, брызгались, выпивали. Валялись на горячих вертолетных диванах и снова купались.
И тут в очередной раз я почувствовал усталость и поплыл к вертолету. Протянул руку, но неожиданно не смог достать даже до шасси.
Я ПОДПРЫГНУЛ, НАСКОЛЬКО ЭТО БЫЛО ВОЗМОЖНО, НО ДО ВЕРТОЛЕТА НЕ ДОСТАЛ.
Ничего не понял. Только что до вертолета было в прямом смысле рукой подать! Я стал звать товарищей — да разве перекричишь вертолетный двигатель. Поплыл за ними.
Когда я описал проблему, вертолетчики рванули к машине первыми. Они явно шли на рекорд. Гребли так, что хотелось аплодировать. Да и мы не отставали. Мы плавали по кругу в центре озера, как акулы вокруг жертвы, как синхронистки в олимпийском бассейне. Время от времени собирались в центре круга и подбрасывали вверх кого-нибудь из нашей компании. Наверное, это было очень красиво сверху. Жаль, посмотреть оттуда было некому.
Вертолет стоял на автопилоте.
Дна у ледяного озера не было. То есть, может, оно и было, даже скорее всего было. Но мы до него ногами не доставали. Да и бесполезно это было уже. Вертолет висел метрах в полутора над водой. И достать его было невозможно.
Вертолетчики коротко объяснили, в чем дело: «Горючку сожрал, стал легче и поднялся». Я решился спросить, что будет. Ответ никого не удивил: «На берег нам надо. Часа через три вертолет начнет падать. И поубивает нас всех на хрен».
Мы вышли на берег, хотя могли еще купаться. Но уже почему-то не хотелось. Все, кроме меня, были без трусов. Только в нательных крестах. Мы сели на корточки. Вертолет тем временем приподнялся еще выше. В нем остались связь, спички, сигареты и шмотки. В нем была прекрасная еда и то, что делает еду закуской.
— Кто знает, что мы здесь? — спросил я.
— Никто, — было мне ответом.
В журнале в графе «Маршрут» командир написал: «Разведка по местности». Когда человек смотрит на парящий в воздухе вертолет, его разум не в состоянии предположить, что в нем нет пилота. Это осмысленная машина. Она ведет себя как живая. Покачивается, немного поворачивается. Нам было жалко ее. Мы видели, как она сама загоняет себя в цугцванг. Это такой шахматный термин, означающий, что любой ход игрока делает его собственное положение хуже.
За час мы пролетали километров сто семьдесят, сюда добирались час сорок. Эта мысль сейчас была в каждой голове. Вертушка висела метрах в шести над водой и непонимающе таращила иллюминаторы. Машина не могла предположить, что мы расстаемся навсегда. А мы расставались. Стал слышаться едва уловимый рокот, будто кто-то подавал сигнал SOS, стуча изнутри по коллектору двигателя. Из выхлопных труб все чаще стали появляться облачка темного дыма. Вертолет стал поворачиваться вокруг своей оси и чуть подался вперед. Послышалось чихание. Пилоты переглянулись. Они чуть не плакали.
— Песец! — сказали мы хором.
Звук двигателя утих. Машина висела и крутила винтом. Вдруг двигатель взрычал еще раз и сразу заглох. Вертолет, плавно ускоряясь, пошел вниз и вперед. На секунду он скрылся в брызгах, потом я увидел, как он припал на один бок. В стороны полетели куски винта. Наступила тишина. Он тонул быстро. И булькал. Ни тебе воя, ни хлопков, ни огня, ни взрыва. Ушел тихо и быстро. Как настоящий мужик.
Мы пошли нырять. Много чего достали. Хорошо, что мало загрузили утром. Озеро оказалось гораздо глубже, чем мы думали. С поверхности лежащий на дне вертолет казался моделькой. Машина лежала на боку. Дверь оказалась прижатой. Мы добыли кое-какую проволоку и немного одежды. Все, что нам удалось вытащить, или было бесполезным, или находилось в испорченном водой состоянии.
МОЙ СПОСОБ ДОБЫВАНИЯ ОГНЯ
Раздобыть деревяшку.
Прижать деревяшку ногой.
Перехлестнуть под ней проволоку.
Быстрыми движениями перепиливать деревяшку.
У меня через минуту появляется дым.
Огонь горит через десять минут.
Мы стали раскладывать у костра наши пожитки. Мокрые сигареты по одной, рации… мы разобрали их и без особой надежды положили сохнуть. Батарейки вздулись. Надежды на них было немного.
Тут и там сновали лемминги и еврашки. Маленькие пушистые бесхвостые твари с пытливыми глазками-бусинками. Они радовались солнышку. Поляна снова приобрела очертания привычного для них мира. Не было грохота вертолета, и над распадком вновь опустилась волшебная жаркая тишина. Ее подчеркивали трели птиц и насекомых. Цвели цветы.
Но для нас этот рай был враждебной средой. Предстоял длинный переход. С очень сомнительным результатом.
МЫ БЫЛИ БОСЫМИ. НАШИ ТЕЛА НЕ БЫЛИ УКРЫТЫ. СПАСЕННОЙ ОДЕЖДЫ ЕДВА ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПРИКРЫТЬ СРАМ. У НАС НЕ БЫЛО ПИЩИ.
Воды в тундре достаточно, но, чтобы хотеть пить, нужно что-то есть. Мы хорошо пропотели под солнышком и вволю напились из озера.
Солнце в тундре очень злое. Загар прилипал со страшной силой. И если утром мы радовались солнцу, то теперь каждую минуту чувствовали, как оно нас обжигает.
Простейший тест на солнечный ожог. Нажимаешь пальцем на розовый участок кожи, если остается белый след — значит, ожог есть. Солнечное излучение проникает в дерму. Ультрафиолет вызывает денатурацию белка в клетках. Фагоциты начинают растаскивать денатураты и вырабатывать меланин. Именно меланин и окрашивает кожу в коричневый цвет. А пока меланина нет, надавливание вызывает отток фагоцитов и на коже можно видеть скопления денатурированных белков. Это и есть бледные пятна. У нас они уже держались по двадцать секунд. Значит, скоро будут пузыри.
Мы решили идти к стоянке. На второй день пути начали жарить еврашек. Охотиться на них не требовалось. Тундра буквально кишела ими. Вместо того чтобы убегать, непуганые твари заваливались на спину и с диким визгом махали всеми лапками. Обнажали свои длинные, как швейные иголки, зубки и клацали ими.
Еврашки вкусны и без соли. К вечеру мы считали их пищей богов. На третий день мы увидели оленей. Наша кожа уже была сплошной язвой. Глаза у всех покраснели и стали как щелочки. Слезы текут. А солнце печет.
Я сразу подумал об охоте. Но это был неверный посыл. Олени вели за собой людей. Местные ходят за оленями. И скоро мы уже сидели в незнакомом чуме, укрывались шкурами, мазали пузыри гусиным жиром и ели суп с хлебом. Выяснилось, что за три дня мы прошли всего тринадцать километров. А казалось, все сто. Связи у наших спасителей тоже не было. Они оказались не ненцами, а нганасанами. Это более редкий и малочисленный народ. Но у них было все, что нужно человеку, чтобы отличаться от зверя. И главное, у них было желание двигаться в сторону наших бытовок. Но шли они туда с оленями, а это значило, что на месте мы должны были оказаться к ноябрю. Я представил себе лица тех, кто подписывал мне командировку. И вытер руки об штаны.
* * *
Спать никто из нас не мог. Наверное, это были самые сильные солнечные ожоги в моей жизни. Болело так, будто кипятка на кожу вылили. Любое движение причиняло сильную боль. Прикосновение ткани или рук казалось невыносимым. У всех была высокая температура. Многие пузыри уже лопнули. Под ними виднелась розовая ткань. Губы покрылись коричневыми, кровавыми рубцами. Вокруг царила антисанитария…
Так прошло три дня.
Настроение было ужасным. Когда кризис миновал, я вышел на край стойбища по нужде. Там были свалены какие-то бревна. Я услышал утробный рокот мощного двигателя и спешно застегнул ширинку.
Температура спала лишь недавно, а может быть, еще и не спала вовсе… Я не знал, верить своим глазам или нет.
ПО ТУНДРЕ ЕХАЛ ВЕРТОЛЕТ МИ-8. ИМЕННО ЕХАЛ. А НЕ ЛЕТЕЛ. К НЕМУ БЫЛИ ПРИКРУЧЕНЫ ОГРОМНЫЕ КОЛЕСА, ОН КАТИЛСЯ ПО ЗАРОСЛЯМ СТЕЛЯЩИХСЯ БЕРЕЗОК, КАК НАСТОЯЩИЙ БИГФУТ.
Все в вертолете было настоящим. Кабина, кузов, хвост. Даже руль. Все — вертолетное, только винта сверху не было. Необычная каракатица, пришедшая к нам, в тундру, прямо из фильмов «Кин-дза-дза» и «Безумный Макс», стремительно приближалась. И сердце мое возликовало. Я огляделся и увидел, что все мои товарищи вышли из чумов. На изможденных лицах растягивались улыбки счастья.
Люди, построившее удивительный вездеход, оказались охотниками из Воркуты. Они были очень рады знакомству. Попили чаю с нами и с хозяевами-нганасанами.
Вообще-то они ехали не к нам. Но через час застолья выяснилось, что им, в принципе, все равно, куда править. Они в отпуске — на охоте. Мы сердечно поблагодарили хозяев стойбища за спасение. Загрузились в вертолет и покатились в нужном нам направлении. Часов через семнадцать оказались около бытовок.
Все лежало на тех местах, где мы оставили. Не было ни писем, ни телеграмм. Нас никто не искал. Я связался с Москвой, успокоил маму и успокоился сам. Вертолетчики связались с Дудинкой. Доложили. Пришли обратно грустные, но спокойные. Часа через три к нашему лагерю подъехал МТЛБ (малый тягач легкого бронирования). Оттуда вышли следователи.
Они оказались хорошими ребятами. Мы, пожалуй, тоже. Хотя это как посмотреть… Ведь мы заранее договорились с нашими вертолетчиками, как отвечать на вопросы. Для этого у нас было предостаточно времени.
Потом все вместе выпивали.
Часа через два оранжевая «восьмерка» привезла по небу водолазов-спасателей. Утром мы проснулись от непривычного, ярмарочного шума.
Я выглянул из бытовки и увидел огромное количество ненцев. Все они были с сумками, корзинами и баулами.
На оленях привезли и поставили перед взлетной площадкой холодильник «ЗиЛ». Здесь же громоздились огромные связки оленьих рогов-пантов, тюки со шкурами пушных зверей, груды вяленого мяса. Раскосые дети играли в ножички. Словом, активность возросла стократно.
* * *
В середине дня на вертолете Ми-26 прилетела авиационная комиссия. Я всегда поражался огромности этого летательного аппарата. Вот уж действительно вертолет-исполин. Символ нашей могучей страны. Когда он приземлялся на нашей взлетно-посадочной квадратной площадке, людям пришлось лечь на землю. Ветер от винта был настолько сильным, что сдул холодильник и тот долго катился по тундре, хлопая дверью.
После короткого допроса мы сели в Ми-26 и полетели на место аварии. Водолазы к тому времени зацепили стропы за нашего «утопленника» и ждали только Ми-26.
«Коровушка» (так называют гиганта) зависла над озером. Ветер от винта был таким сильным, что по озеру пошли волны. Вода стала выплескиваться на поросший цветами берег.
Толстенные веревки натянулись. Мотор стал работать еще громче. Турбины взвыли. 26-й напрягся и потихоньку стал подниматься к небесной тверди. Из воды показался наш вертолет.
С виду он почти не пострадал. Не было винтов и нескольких стекол, кое-где загнулась обшивка, но внешне он был похож на нашего верного друга. Только мертвый…
Уже к ночи одушевленный вертолет притащил неодушевленного к нашему жилищу. Все отправились ужинать. Допросов больше не было. Наши пилоты заметно повеселели. Их вранье с нашей помощью сошло за чистую монету.
Все собирались по домам. Ночью горели костры, вокруг нашей стоянки шла пьянка-гулянка. Утром вся толпа загрузилась в Ми-26. Затащили холодильник, мешки со шкурами, вяленое мясо и связки рогов.
Выяснилось, что местные всегда очень ждут прилета Ми-26, для того чтобы переместиться из точки А в точку Б относительно быстро. Поэтому они пришли со всем скарбом туда, где мы ждали эвакуацию. «Вертолет летает редко, а слухи в тундре разносятся быстро» — так сказала мне пожилая нганасанка с нарезным ружьем. Она попросила закурить, и я дал.
* * *
Наша миссия была выполнена. Вертолетчики улетели. Мы отправлялись домой. Я завел ГТС, проверил рычаги управления, сел поудобнее в дермантиновое кресло, включил передачу и плавно отпустил сцепление. Из-под гусениц фонтанами брызнула в таймырское небо торфяная, цветущая тундра. Я вытянул рычаг ручного газа до упора на себя, отпустил рычаги и педали. Машина неудержимо ползла вперед. Я развалился в кресле и открыл газету «Гудок» за ноябрь 1977 года. Она, как специально, лежала на раздаточной коробке. Рулить было не нужно. Тундра ровная как стол. ГТС направлен капотом в сторону города. Вряд ли на пути встретится какое-то препятствие. «А если и встретится, мы его обязательно переедем», — подумал я и вытер руки об штаны.
ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ В ЖИЗНИ МУЖЧИНЫ НЕТ МЕСТА ПРЕДАТЕЛЬСТВУ И ПРЕДАТЕЛЯМ
Глава 10 Звери-люди
Меня часто спрашивают, как я так запросто общаюсь с дикими зверями. Я столько раз отвечал на этот вопрос, что даже сам стал задумываться: в самом деле, как так? Ответ на этот вопрос — вся моя жизнь от самого ее начала.
Это, безусловно, дар. Кто-то может ходить по канату, кто-то играть на двух роялях. Есть на свете мастера, которые могут не глядя взять из колоды любую карту.
КАЖДОМУ БОГ ЧТО-ТО ДАЕТ. НО НЕ ВСЕ ЛЮДИ СПОСОБНЫ РАСПОЗНАТЬ И ОТКРЫТЬ СВОЙ ДАР.
Мышиная возня
Мне было года три или четыре. Я играл в тенистом, заросшем старыми елями дворе. Родители сидели на террасе, бабушка шила. Был летний день. Мои мысли ограничивались сегодняшним днем. Я думал, как хорошо было бы построить на дубу, который рос в левой задней части огорода, домик. И переселиться туда. Там я предполагал единение со сказочным миром, который в те времена был для меня реальностью.
НА САМОМ ДЕЛЕ Я ДО СИХ ПОР ЖИВУ В СКАЗОЧНОМ МИРЕ. НО ЧЕМ СТАРШЕ Я СТАНОВЛЮСЬ, ТЕМ ПРОЧНЕЕ СТАНОВИТСЯ СТЕНА МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И МОИМ ЭЛЬДОРАДО. ВСЕ СЛОЖНЕЕ ПРОНИКАТЬ ТУДА-СЮДА. А БЫЛ ПОМОЛОЖЕ — СНОВАЛ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ, КАК ЧЕЛНОК В ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ «НАУМАН».
Время в детстве идет очень медленно. Дни кажутся огромными. То, о чем я собираюсь рассказать, произошло еще до обеда и дневного сна, но мне казалось, что я очень давно гуляю, даже устал.
Маленькую девочку, мою подругу, увезли утром в Загорск, в больницу. Она после завтрака засунула себе в ноздрю металлическую гаечку, и вытащить ее вне стационара не представлялось возможным. Я остался один. Сидел на корточках у фундамента дачного дома и рассматривал трещины в штукатурке.
И тут пришел Он.
Из-под краеугольного камня вдоль бордюра, трусливо оглядываясь, семенил полевой мышонок. Я знал, что кошки ловят мышей. Знал, что совы ловят мышей. Я знал, что мышей ловят. Но в голову пришел совсем другой план. Я протянул руку и приказал мысленно: «иди сюда!» Мыш сел. (Я осознанно не ставлю здесь мягкий знак. У моих деревенских предков Ивановых мыш всегда был он, мужского рода.)
«Иди сюда!» — не открывая рта, одними мыслями властно проговорил я.
Мыш нехотя встал и направился в мою сторону. Я положил ладонь на землю, тыльной стороной касаясь опавших еловых иголок. Мыш подошел вплотную к руке и сел на задницу. Передние лапки-ручки поднялись на уровень груди. Он то складывал их, будто в мольбе, то опять свешивал их свободно. Я четко ощущал, что контролирую его разум. Видел, как ему тяжело повиноваться, как все его нутро, весь инстинкт самосохранения кричит ему: «Беги! Сожрут!»
Я почувствовал себя лидером. На этот раз я не кричал в своем разуме. Я холодно и тихо подумал: «Сядь на руку», и он сел. Быстро и без пререканий. Я поднес мыша к лицу. Он дрожал. Я приказал: «Не дрожи», и он перестал. Я говорил с ним мысленно, и он отвечал мне. Его мысли казались мне туповатыми. В мышиной голове не было места для мудрствований.
Однако мы договорились. Он понимал, что ему ничто не угрожает, и не смел уйти. Я встал и понес его на ладони своим родным. На террасу.
— Я мыша поймал, — сказал я тихо и протянул руку, оперев ее на обеденный стол.
Взрослые с интересом смотрели на это чудо. Бабушка сказала: «Тимочка, отпусти его, он, наверное, больной». Я ответил, что не держу его и что он здоров. И то и другое было правдой. Все это время я сохранял контроль над его разумом.
Мы вышли во двор, я положил руку на хвою и приказал: «Иди. Свободен». Мыш пулей понесся под дом. Взрослые с интересом наблюдали за этой мизансценой. Говорили между собой вполголоса. Мол, ребенок маленький, сам как мышь, вот и договорились по-своему. Я запомнил это. В душе я был уже не маленьким. Я решил не отпускать этот дар, пришедший ко мне в детстве. И не отпустил.
Потом я приказывал синицам, белкам, воронам, сойкам и кошкам. А через двадцать лет — волкам, тиграм, слонам. Почти на всех это действовало безотказно.
МУЖЧИНА МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ПРИКАЗЫВАТЬ
* * *
Когда мне было лет шесть, зимой мы с мамой поехали на дачи Литгазеты. Мы жили одни в маленькой комнатке. На улице завывала вьюга. Было темно. В комнате горела тусклая лампа. Мы лежали под влажными ватными одеялами. И тут пришла мышь.
Мама боялась мышей. Она попросила прекратить хождение этой твари по комнате. Мышь была домовая. Маленькая. Бегала очень быстро и не успевала принимать мои мысленные сигналы. Тогда я решил ловить ее как зверя.
Домовые мыши всегда бегают по плинтусам. Очень редко через центр комнаты. Мы положили в трехлитровую банку кусочек еды, я пристроил ловушку в углу, и мы стали ждать. Мышь где-то скреблась, но больше в открытую не бегала и в банку не хотела. Я ждал как часовой, но уснул. Уже под утро мама потрогала меня за плечо: «Тим, вставай, мышь пришла». Я открыл глаза и увидел, что жертва сидит в банке и наворачивает за обе щеки наши подношения. Я взвился до потолка, моментально пересек комнату и перевернул банку. Мышь забилась в стеклянной емкости. Она прыгала как заведенная.
* * *
Моя мама не любила мышей с детства. Семья жила в подвале на Октябрьской, в Институтском переулке.
И однажды, в 1957 году, мама была дома с котиком. Она сидела на диване, когда комнату наводнили крысы. Они вышли из всех щелей. Мама взобралась на диван с ногами, к ногам прижался кот. Крысы медленно ходили по подвалу и таращили свои умные глаза-бусинки. Сейчас, с высоты своего зоологического опыта, я, анализируя тот случай, думаю, что сообщество крыс решило предъявить территориальные претензии людям. Но тогда объяснить это было некому, да и что толку от объяснений? Маленькая девочка стояла на диване, у ее ног, выгнув спину и шипя, жался кот. Шерсть дыбом. Они боялись, а крысы наступали. Мама перебиралась по дивану к двери. Потом распахнула ее, схватила кота, и по длинному отвратительному розовому коридору они убежали.
Ту атаку крыс она помнит до сих пор. А кот в тот день ушел. И больше не вернулся. Мужчина не останется со свидетелем своих поражений.
* * *
Так вот, мышь прыгала в банке, я был счастлив. Стало понятно, что мышь будет теперь всегда жить с нами. Она была истеричной идиоткой. Идиотизм очень часто встречается у животных. Так же часто, как и у людей. Мы привезли банку в Москву. Мышь не очеловечивалась. Она жрала, испражнялась и прыгала. Через две недели я решил пересадить ее в клетку. Думал, что изменение условий содержания пойдет на пользу ее психике. Во время пересадки зверек подпрыгнул (а прыгают они с места метра на полтора) и убежал.
Мышь стала жить с нами в квартире на вольном выпасе. Она умнела на глазах. Полюбила общество. Мы на кухню — и мышь на кухню. Мы в библиотеку — и она в библиотеку. Мы спать — и мышь в спальню. Так и жили. Однажды бабушка кричит маме с кухни:
«Тань, мышь у тебя?» Мама из библиотеки: «У меня!» Бабушка ей: «И у меня мышь…»
Короче, наша квартирантка привела друзей из мусоропровода. Их стало не просто много, а очень много. Банки, мышеловки и увещевания не помогали. Решено было вызвать СЭС. В понедельник утром приехала очаровательная худенькая женщина-отравительница в белом халате и шапочке.
Она очень любила мышей. Знала их повадки. Рассказывала, какие они умные и чистенькие. Выпила кофе, съела бутерброд. И оставила шесть маленьких пакетиков-кулечков из коричневой оберточной бумаги. В каждый кулечек она капнула по пол чайной ложечки постного масла. Кулечки разложили по углам.
Больше мы никогда мышей не видели. И трупиков не нашли. Через год мама убрала кулечки. Они были не тронуты. Мыши не отравились, они просто обиделись и ушли.
МУЖЧИНА НЕ ДОЛЖЕН ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ЛЮБОВЬЮ
Ревнивая крыса
Был в моей жизни еще один случай, доказывающий наличие у грызунов разума, совести и деликатности. Это было, когда я, вернувшись с войны, купил однокомнатную квартиру на первом этаже у цыган после пожара. Я год делал ремонт и обустраивал ее. Не осталось ни одной каменной стены — все в резном дереве. Резьба по дереву — увлечение всей моей жизни. Картины, канделябры, иконы, зеркала… «Не квартира, а дом-музей», — ахали гости.
Все было хорошо. Только вот… крыса. Она приходила из подвала каждую ночь под утро. Ходила везде и ничего не грызла. Даже еду можно было оставлять. Бывало, сядет у окна и антиквариат изучает. А днем к себе, в подвал уходила, через дырку под ванной. Так и жили мы с ней душа в душу. Но женщин приводить в дом было нельзя.
КРЫСА БЕСНОВАЛАСЬ — ПРЫГАЛА ПО СТЕНКАМ, ТОПАЛА, ПИЩАЛА. ПОДРУГИ СРАЗУ СОБИРАЛИ ВЕЩИ. КРЫСА ЛИШАЛА МЕНЯ ЛЮБВИ.
Однажды летом, в июле, она выгнала очередную мою даму. Я был зол и расстроен. Я лежал в кровати и уже засыпал, когда крыса взобралась на спинку кровати в ногах. Села и давай умываться. Во мне вскипело ретивое, и я с размаху поддал ей ногой. Она шмякнулась об стенку и юркнула под ванну.
Через полчаса начался ад. Дом наводнили пасюки. Худые и жирные, молодые и старые. Совсем дети и огромные, с нутрию, самцы. Здоровые и покрытые подвальными язвами. С блохами и без. Все они беспрерывно носились по квартире-шкатулке и жрали все подряд: от проводов до сигарет. Я травил их — они дохли за батареями и воняли. Я ставил крысоловки и выносил трупы ежедневно. Я стрелял их из духового ружья. Армия пасюков не уменьшалась.
Моя обиженная крыса-искусствовед предводительствовала ими. Мы больше не помирились. Я заделал в подвале потолок звероводческой сеткой и залил щели бетоном на жидком стекле и только так остановил нашествие.
Я был не прав. Надо было ценить дружбу. Я до сих пор раскаиваюсь за тот поступок и больше никогда не променяю крысу на бабу. Наверное, поэтому и вытираю руки об штаны.
Тридцать восемь попугаев
Маленьким я мечтал о попугае, но мне его не покупали. Однажды, гуляя во дворе, я увидел на тополе, на уровне второго этажа, волнистого попугайчика. Сердце забилось чаще. Я полез на дерево. Когда мы поравнялись, птица перепорхнула. Я полез еще выше и на самом верху настиг его.
Контакт был слабым. Попугайчик умом не отличался, но повиновался моим приказам. Я принес его домой.
В птичьем городском гомоне я научился различать голоса попугаев и к осени насобирал их тьму: брал их с веток, вызывал из воробьиных стай, приказывал сойти с коньков крыш. Вы даже не представляете себе, как много летом в Москве летает попугаев. Даже зимой я ухитрился поймать кореллу.
Вся наша квартира чирикала и свистела. Я делал клетки и убирал птичий помет бесконечно. Попугаи неслись как куры. Мама жарила мне яичницу из ста яиц с желтками величиной с ноготь. Так было не раз и не два.
Теперь я мечтал о большом попугае жако. Но это всегда было очень дорого.
Команданте Нурис
А пока, мой усердный читатель, я предлагаю опять вернуться в мое босоногое детство. Я расскажу, как и кого я укрощал в жизни. Какие звери жили в моем доме. И как они научили меня тому, что я умею сейчас.
Мой отец был фотографом. Он работал в очень известной московской газете. Партия поручила ему отправиться на Кубу. Там, на Острове свободы, он должен был снимать Фиделя Кастро. Съемки состоялись, батя подружился с Фиделем, и они прекрасно проводили время. Курили сигары и бухали. Командировка была долгой. Кастро показывал Гавану и страну. Отцу очень понравилось.
Пришло ему время собираться домой. С Острова свободы запрещено вывозить объекты фауны и флоры, поэтому он накупил много бус из семян тамошних растений, сигары и ром ему дали с собой и так в большом количестве. Уже в аэропорту, ночью, он курил под фонарем. Вокруг лампы кружились ночные бабочки (речь именно о насекомых). Отец был охотником. Очень любил природу. Он наблюдал за бабочками и за лазающими лягушками, которые ели бабочек той далекой и жаркой южной ночью.
Перед посадкой в самолет батя ловко схватил одну лягушечку и упрятал ее в пачку из-под «Примы». Пачку сунул в нагрудный карман. Ему удалось поймать лягушку потому, что она была инвалидкой. У нее не хватало двух пальцев на задней лапке. Видимо, птица отклевала в детстве. Карабинеры не решились досматривать личного друга Фиделя.
Взлетала кубинская лягушка из плюс тридцати пяти, а приземлилась в минус двадцать семь. Неродное Шереметьево встретило ее прохладно. Дома ее посадили в трехлитровую банку. Она сидела на камушке и грустила.
* * *
Лягушка относилась к семейству хамелеоновых и меняла цвет в зависимости от того, на чем сидела. На красном сидит — красная, на зеленом — зеленая. Менялся цвет и в зависимости от настроения. Сейчас она сидела на белом камне, но цвет лягушки был коричневым. Понятно, что на душе у нее было нехорошо.
А отец показывал маме фотографии. Он был хороший художник. Фото были одно лучше другого. «Никон», «Кодак», слайд… Корреспонденты других изданий в СССР работали в то время на отечественной аппаратуре, снимали на черно-белую пленку.
Когда все фотографии были пересмотрены и уложены обратно в конверты, мама спросила:
— А что это за длинноногая мулатка там везде рядом с тобой?
— А это наша переводчица Нурис, — ответил батя.
Нурис была безупречна. Ноги у нее были ровные, зубы белые, фигура точеная. Придраться не к чему. Сложно было сказать про нее какую-нибудь гадость. Сложно было вообще не произнести вслух, что она нехороша.
И моя мама сказала, улыбнувшись:
— НАШУ ЛЯГУШКУ БУДУТ ЗВАТЬ НУРИС. — НО ЭТО ЖЕ САМЕЦ, — СКАЗАЛ БАТЯ. — НИЧЕГО. ВСЕ РАВНО НУРИС, — СКАЗАЛА МАМА.
Первую неделю Нурис ничего не ел. Оно и понятно. Первая муха в нашей части света должна была проснуться только через три месяца. Минимум. Лягушке предлагали все: кусочки мяса, рубленое яйцо, рыбку. Нурис отказывался от дегустации и был безутешен.
Спасение пришло через дверь абсурда. Утром мама нарезала из докторской колбасы тонких червячков. Привязала их на ниточки и стала крутить в банке. Нурис смотрел. Смотрел. Смотрел. Смотрел. И наконец схватил колбасу двумя руками и стал запихивать в рот. Он жевал и чавкал. Проблема с питанием решилась. Осталась другая. Государственная. Колбасы нигде не было. В тот год вообще ее добывали только в спецраспределителях. Ну уж лягушку-то мы п рокормили.
Весной мы все ловили мух, потом кузнечиков и бабочек. Все это очень радовало Нуриса, но основной его едой по-прежнему оставалась докторская. Я тоже считаю, что этот сорт колбасы вкуснее насекомых. Однажды мы купили цветной капусты. Пестициды тогда были не в ходу, и черви в капусте считались нормой. Но это был особо «урожайный» кочан, мама набрала целую плошку отвратительных жирных гусениц. Нуриса посадили прямо в центр на копошащуюся горку.
От счастья он моргал всеми цветами, как неисправный телевизор «Рубин». Цвета менялись по всему спектру: от закатно-фиолетового до пурпурно-красного через всю поговорку про каждого охотника, который желает знать, где сидит фазан. Нурис без устали, как шпагоглотатель, пихал в себя червей, перебирая ручками. Глотать ему, как и всем лягушкам, помогали глаза. Засунув добычу в рот, он блаженно зажмуривался. Глазные яблоки погружались на дно черепа и проталкивали еду в пищевод. Он съел всю тарелку и пошел по стене кухни к нарисованному на обоях цветку. Лапки-присоски надежно держали его переполненное тельце. Нурис устроился на рисунке и стал нежно-голубым. Так и сидел несколько дней. А капусту эту я выбросил и руки об штаны вытер.
* * *
Нурис жил долго. Семь лет. За это время он состарился и почти перестал менять цвет. Он даже путешествовал. Как-то раз мои родители отправились на Кавказ. Отец два года строил из руин «ГАЗ-69». Тем летом машина была готова. Решено было проехать по Военно-Грузинской дороге. Испытать внедорожник. Нурис поехал с семьей в своей банке.
На одной из стоянок отец поймал лазающую лягушку. Не кубинскую, конечно, а нашу, но очень похожую. Самку. Ее посадили в банку к Нурису. В местечке Казбеги (нынешнее название Степанцминда) они остановились на ночевку. Спали в палатке. В горах погода меняется быстро. Под утро ударил мороз. Когда проснулись — в банке был лед и обе лягушки замерзли. До стеклянного состояния. Такая нелепая смерть… Было очень грустно. Говорить не хотелось. Пили кофе, сваренный на самом взрывоопасном примусе «Шмель». Тепло «Шмеля» дошло и до последнего пристанища амфибий. В банке появилась испарина. Начал таять лед. Первой оттаяла наша, кавказская. Она была мертва. Обмяк и Нурис. Обмяк и квакнул. Он видел больше, чем любая другая лягушка в мире. Видел даже смерть. Он попрал ее. Нурис оттаял и довольно долго и счастливо жил потом холостяком.
Средний срок жизни этих тварей — десять месяцев. Очень мало кто доживает до полутора лет. Нурис просидел в своей банке семь жизней и лишь в последние годы перестал менять цвет. Он жив и сейчас, спустя тридцать лет. Его портрет вытатуирован у меня на правой руке. Он улыбается.
Свободу хомячкам
Жил у меня в детские годы хомяк Хомка. Он был пушистый, ангорский. Мы считали, что он туп как пробка. Вся жизнь Хомки проходила в трех обязательных занятиях: он спал, ел и бессмысленно мыкался по стеклу аквариума, в котором жил. Спал Хомка в кухонной рукавице-прихватке. Ел только самое вкусное. Колесо свое не любил и не крутился в нем никогда. На дне аквариума лежала газета «Советская Россия». «Совраска», так ее называли. И ни на что она при главном редакторе Чикине не годилась, кроме как для хомяков. Вот Хомка и ссал. Оправдывая поговорку: «Не годится богу молиться, годится горшки покрывать».
Днем грызун обычно почивал, а к вечеру, часам к восьми, выходил на променад. Вставал на задние лапки и, передвигаясь вбок, тер передними лапками стекло аквариума. Сейчас я уже знаю, что такие движения называются стереотипными и развиваются у зверей, содержащихся в неволе. (Да что у зверей, знаменитые прогулки Ленина в камере-одиночке, где он молоком писал, с точки зрения биологии были не чем иным, как стереотипным движением.)
Сначала мы считали, что он так просится на ручки. Потом мы думали, что он делает зарядку. В результате обвинили его в идиотизме. В чем, в принципе, были правы.
КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ПОЗЖЕ, НАШ ХОМЯК БЫЛ АГРЕССИВНЫМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ И СТРЕМИЛСЯ К СВОБОДЕ.
Однажды утром я заглянул в аквариум и Хомку в нем не обнаружил. Диссидент построил из «Совраски» аккуратную лестницу, перебрался через стену и был таков. Мы обшарили всю квартиру, но беглеца не нашли.
Хомкино колесо стояло посреди пустого Хомкиного мира, как колесо обозрения на центральной площади Припяти. Я чуть не плакал. Плакал бы, если бы не запрет на это дело со стороны бабушки. Но делать нечего. Простились. Вечером из комнаты послышались привычные звуки. Маленькие лапки елозили по стеклу. Мы бросились смотреть. Точно Хомка. Он старательно скреб по стеклу, но не внутри, как привык, а снаружи. Мы были поражены: бунтарь не только хотел домой, но и вернулся. Я подсадил своего дружка в аквариум, тот бросился к еде, но делал странные движения.
Хомяк пихал все в рот, но не глотал, как обычно, а набивал в защечные мешки. Он забил за щеки весь корм, который оставался в аквариуме, и тяжелой походкой двинулся к своей кровати-варежке. Но не лег в нее, а стал пихать постель за щеку…
— С ума сошел, — сказала мама.
И мы с ней согласились.
— Свобода его опьянила, — сказала бабушка.
Я ничего не сказал. Я был просто рад, что Хомка жив и вернулся. Между тем хомяк очень изменился в пропорциях. Глаза на впалой мордочке почти исчезли и превратились в щелки. Рот стал огромным, не закрывался. Щеки свисали и волочились по полу. Хомка то и дело двумя руками закидывал их за спину. Он пошел на выход. Уверенно поднялся по газетной лестнице до самого края. Я снял его на пол, чтобы он не разбился. И хомяк медленно, волоча щеки, скрылся под диваном.
Да! Вы поняли все правильно. Он приходил за вещами. Взял все, что ему было дорого, и ушел. Мы были растроганы такой принципиальной независимостью грызуна, но Хомку вернули на прежнее место жительства. С тех пор я всегда рвал ему «Советскую Россию».
«Из ссаных обрывков лестницу в небо не построишь», — подумал я и вытер руки об штаны.
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ВСЕГДА ЦЕНИТ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Глава 11 Звери-господа
В 1987 году я выпросил у бабушки котенка. Точнее, мы с мамой выпросили. Она тоже хотела, а бабушка, по непонятным причинам, была против. Мы поехали за ним на Птичий рынок. Но не туда, куда рынок загнали тогдашние московские власти, а на настоящий Птичий рынок. На Таганку. На Нижегородскую. К Скотопрогонной. Ходить туда надо было по утрам в выходные. В пять начало, к полудню уже все расходятся.
НА МНЕ БЫЛА ОТЦОВСКАЯ КОЖАНАЯ КУРТКА И КИРЗОВЫЕ САПОГИ НА ПЯТЬ РАЗМЕРОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАДО. ТАК Я, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШЕ ПОХОДИЛ НА МУЖИКА.
Рынок видит своих клиентов. Не прошло и минуты, как все продавцы знали: один котенок сегодня будет куплен. Им оставалось только решить, кто получит барыш. Кошки тогда были товаром неходовым. Всем нужно было котов. И потому самок среди продаваемых не обнаруживалось.
Очень нам понравился один. И цена хорошая. Рубль. Уже почти взяли. Тут подошла моя бабушка в светло-серых лайковых перчатках. Указательными и большими пальцами она раздвинула задние лапки.
«Это, по-вашему, кот?» — саркастически спросила она у хитрющего продавца и оттопырила мизинцы. Не дожидаясь ответа, она отпустила лапки. «Кошчёнка, Таня!» — брезгливо объявила бабушка. Так мы браковали одного за другим. Точнее, одну за другой…
Ко мне подошел какой-то шнырь, наступил на ногу. Вытащил из кармана молочный пакет, в котором что-то билось, и приказным тоном прошипел: «Бери! Мышь! Американская!»
Мышь была самая обычная, из мышеловки. А я был самый обычный мальчик с остро заточенной отверткой в кармане. В тот день американскую мышь купил кто-то другой. Впрочем, я все порчу…
Вот история моего кота. Эту статью написала моя мама, и ее опубликовали в одном очень известном журнале, которого сейчас уже нет.
Тюпа — ровесник реформ
«Мы купили котенка осенью 1987 года на Птичьем рынке. У хозяина было два крошечных глазастых создания: «девочка» стоила пять рублей, «мальчик» — десять. (Есть какая-то загадка в том, что «девочек» — не только среди котят — всегда больше и стоят они, какую бы роль ни исполняли, всегда дешевле; особенно это заметно, когда надо устраиваться на работу…) Котята принадлежали к немодной в ту пору породе. За курносыми персами люди стояли в очереди и не спрашивали, «мальчик» им достается или «девочка»: хозяин только успевал вынимать за шкирку из клетки комочек розоватого пуха и получать с покупателя пятьдесят.
Такая трата была для нас слишком серьезной. Кроме того, нам нужен был именно кот. Мы его намечтали — пушистого, независимого, лосного. Сибирского (с шикарным хвостом).
В голубоглазой крошке с хвостиком-морковкой наша мечта почти не угадывалась. Но продавец сказал, что котята именно сибирские, что их маму зовут Шерри, а папу Бантик, что у Шерри и Бантика всегда отличное потомство, хвостики же вырастают особенно замечательные. Вручая нам «мальчика», продавец обратился к моему сыну-пятикласснику: «Надеюсь, ты не будешь обижать котика…»
Мы назвали кота Тюпой в честь главного героя книг прекрасного писателя Евгения Чарушина. Наш был и внешне похож на Тюпу с книжной обложки. Оставалось убедиться, «тюпает» ли он губами во сне. Он «тюпал»!
Высокородные Шерри и Бантик снабдили сына в дорогу огромным количеством блох. Мы вывели их за день — с помощью вонючего серого мыла, которое тогда продавалось в аптеках. Кусок этого мыла, тщательно упакованный, с тех пор живет у нас на антресолях. Минимум десять знакомых котов, три вернувшиеся со вшами из летнего оздоровительного лагеря пионерки и один обовшивевший в школе пионер были успешно вымыты этим мылом, друзья всегда возвращали мне кусок с благодарностью. Продукция, между прочим, отечественных товаропроизводителей. С 1987 года по настоящее время ни в каких торговых точках мне не попадалась.
Тюпа родился в августе. А осень — время дынь и арбузов. Месячный котенок дал нам понять, что к арбузу равнодушен, а дыни очень хочет. Ему была подставлена долька, и он, прикрыв глаза от удовольствия, тер ее языком, пока не дотер до корки. Но если б только это…
Дыню съели, кости и шкурки выбросили в помойное ведро. А утром обнаружили дынные отбросы на полу и круглый живот у Тюпы. Он наелся этих семечек и того, на чем они в дыне крепятся. И стал наш Тюпа умирать от диспепсии. В ветеринарной клинике нам коротко сказали: «Не жилец». А когда мы робко спросили, нет ли каких-нибудь лекарств, просто засмеялись: «Для людей-то нет даже аспирина! А вы хотите котенку — от диспепсии…» Впрочем, мы и сами понимали, что хотим невозможного.
Моя мама — врач. Она знала, какое нужно лекарство. С рецептом, выписанным на имя несуществующего младенца, она стала объезжать аптеки. И в одной очень дальней ей вручили упаковку со словами: «Повезло вам, эта последняя».
Котенок был спасен. Но в его животе что-то навсегда нарушилось. Только два вида пищи мы могли давать ему без опаски: сырое мясо и сырую рыбу.
То и другое в годы Тюпиного детства было не покупаемо, а доставаемо. Семейство давно привыкло заменять мясо кулинарными биточками, консервами, добытой в очереди мокрой вареной колбасой. Тюпе стали покупать мясо, укарауливая его в кулинарии.
Приходишь, бывало, туда с утречка и стоишь вместе со всеми у подоконника, судача о том о сем. Прилавки пусты, кассирша скучает или принимает участие в общих разговорах. Все уже давно знают, кто за кем стоит. Все ждут: сейчас вынесут мясное. Какое — неизвестно, да и неважно. Что вынесут, то и возьмем. Все уже договорились, что не больше килограмма в одни руки.
А выносят, например, люля-кебаб. Все кричат: «По десятку!» Продавщица: «Здесь всего сто штук» — «Тогда по пяти!» — «А! Я три часа стояла, а вы только что пришли! Мне пять и вам пять?! Несправедливо!» Ну, и прочие в этом роде разговоры, всем, полагаю, памятные.
Однажды набросились на продавщицу, толстуху Таню. Несправедливо набросились, грубо. Я за эту Таню заступилась. И она меня запомнила. И Тюпина жизнь пошла как по маслу.
Теперь я приходила утром и передавала Тане пустую сумку с деньгами. А после обеда Таня, дождавшись, когда помещение опустеет, вручала мне эту сумку с десятком отборных антрекотов. Тюпе хватало их на месяц, потом на двадцать дней, а когда стало хватать лишь на десять, Таня укладывала мне тридцать кусочков.
А рыба для Тюпы?! Друг-котовладелец звонит, бывало, среди дня или под вечер: «Я из автомата. В «Океане» на проспекте Мира минтай!» И я несусь через всю Москву и, о счастье, вижу очередь от входа через весь магазин к его задней стенке. И я встаю в хвост этой очереди и достаю «Московские новости» — толстую замечательную газету. И я читаю в ней все подряд и медленно перебираю ногами, как по пути к Мавзолею перебирают ногами желающие увидеть того, кто живее всех живых. И, отрываясь от газеты, я вижу, как мимо нас к выходу, растрепанные, распаренные, но безмерно счастливые, двигаются те, кому уже досталась рыба. У них в руках полиэтиленовые пакеты, в пакетах смерзшиеся в глыбы серые рыбешки, торчат в разные стороны головы и хвосты. «По килограмму в одни руки!» время от времени всполашивается очередь. И откуда-то издалека доносится: «А больше никому и не даем! А больше никому и не дадим!» Но кто-то из социально активных все же начинал вертеть головой и вкрадчиво и упорно говорил: «Я за вами, запомните меня… Я перед вами, не забудьте меня потом пустить… Я пойду проконтролирую, чтоб не больше килограмма в одни руки».
…Если вы живете в городе, в многоэтажном доме, высоко над землей и не хотите потерять кота (он может в лучшем случае убежать, в худшем выпасть из окошка), в определенном возрасте его надо кастрировать. По неумолчным Тюпиным воплям и сверясь с ветеринарными справочниками, мы поняли, что час настал.
Я жалела Тюпу. Я вошла к ветеринару, когда он был один, и предложила ему взятку за обезболивающее. Я сказала: «Заплачу, сколько вы скажете». Ветеринар ответил: «Я бы с удовольствием. Но обезболивающих нет — ни за какие деньги». Он прибавил еще, что не надо волноваться, яйца моего кота не первые, которые ему предстоит отрезать.
Боже мой, думала я, слушая дикие Тюпины вопли из операционной, ведь это всего лишь кот. У нас аборты делают без обезболивания, потому что нет лекарств, а я еще чего-то хочу. И мысленно переносила себя под окна абортария и заставляла себя вспоминать, что слышно там. И вспоминала: «Женщина, бриться… женщина, не дергайтесь, вы мне мешаете, женщина, не орите, сейчас будет всё… если будете дергаться, я вас проткну, терпите, наконец, какая неженка… всё, идите, любишь кататься, люби и саночки возить…»
Тюпа выполз из операционной на брюхе и так быстро и безошибочно устремился к выходу, что я едва успела его схватить, прижать к себе, приласкать.
Прошло одиннадцать лет, а он панически боится, когда его выносят из дома. (Дата публикации статьи 1998 год.)
Кулинария закрылась. Мясо стало совсем негде брать. Однажды мы с сыном отстояли четыре часа за костями, к счастью, давали сколько хочешь, и мы взяли шестнадцать килограммов. С этих костей нам удалось настричь порядочно мясинок, хватило надолго.
А потом вдруг витрины нашего универсама заполнились серебряными, почти невесомыми пакетами с сублимированным мясом. Размочишь, можно делать фарш, варить первое — все можно. Я таскала эти пакеты, заботясь, разумеется, о Тюпе. Он очень полюбил эту, видимо, хранившуюся на случай войны в закромах Родины странную продукцию.
Я завалила серебряными пакетами весь дом: ведь это снимало такую большую проблему!
В это время у меня почти каждый день в гостях бывал китайский профессор, специалист по русской литературе. Он перевел на китайский Толстого и Достоевского, теперь его интересовала современная русская литература, он стажировался в университете, а ко мне ходил, стараясь узнать как можно больше о наших писателях и их книгах. Вот пришло время ему уезжать. Я спросила, что он собирается купить жене в подарок. Он был очень смущен, но все же решился выговорить: «Я хотел бы привезти немного мяса… Жена сварила бы мясной обед… Но где взять?..» Я ликовала, что могу помочь другу. Я показала ему серебряные пакеты и сказала, что завтра куплю их для его жены целый ящик. Мы были оба счастливы, что это произойдет.
А утром, придя в универсам, я обнаружила девственно пустые полки. Серебряные пакеты кончились.
Китайский друг увез десять пакетов сублимированного мяса из Тюпиных неприкосновенных запасов. Не скрою: я была удручена своей щедростью, хотя и понимала, что преодолеть ее не в силах.
Вскоре мы стали замечать, что наш красавец делается все менее пушистым. Он стремительно лысел. Он потерял свои роскошные штаны, и задние ноги у него стали как у зайца. Белый пух с груди и живота куда-то делся, открылась розовая кожа. Хвост выглядел жалко.
Мама сказала, что это от сублимированного мяса. И мы перестали его давать. Сами съели.
Стоит вспомнить еще, как Тюпа ел стерлядь… Однажды я увидела у базара лоток, а там какие-то рыбешки. Ни минтая, ни наваги, ни хека, ни тем более трески в продаже не было очень давно. Тюпа получал вечером мясо, злился и кусался. Он очень хотел рыбы. Я прочесывала город — безрезультатно. «Что это за рыба?» — спросила я продавца. И услышала в ответ: «Стерлядь». Я попросила взвесить мне самую маленькую рыбку. Она стоила тринадцать… рублей, тысяч, тысячу триста… я не помню, какие тогда были деньги, но жутко дорого. В семействе, конечно, никто и никогда не пробовал стерлядь. А кот одобрил. А в редакции тогда надо мной потешались: «Народ голодает, а журналистка Иванова кота стерлядью кормит».
Памятен эпизод с подругой Светланой, ныне покойной. Она с двумя коллегами по работе пошла обедать. А перед столовой буфет. И там продавщица кричит: «На развес больше не отпускаю! Кто берет ящик, давайте триста!» «Я беру ящик!» — крикнула Света. И ее коллеги с трудом удержали в руках огромную тяжеленную коробку.
Мужчины лишь прикидываются прагматиками. На самом деле они очень, просто исключительно непрактичны. Они стали приставать к моей подруге с вопросами типа «зачем покупать неведомо что» да «вдруг там что-нибудь ненужное». Светлана отвечала им резко и назидательно: «Что? Что может быть не нужно? Мыло? Прекрасно! Макароны? Отлично! Консервы? Да за любые большое спасибо! В редакцию придем — поделим».
Они этот ящик едва доперли. Оказалась китайская говядина. А может, лосятина. Или китятина. Неважно. Мясо. Сбегали в соседний пустой магазин к мяснику. За топор пообещали ему кусок. Весело делили. Мне досталось пять килограммов, без единой косточки. Надо ли говорить, что это было расфасовано на мелкие кусочки и упрятано в холодильник. Тюпа ел и покрывался пушком.
К мятежу 1993 года он был у нас пушист, многоопытен, независим настолько, насколько никому из нас и не мечталось. Он сам решал, на чьи взобраться колени и кому разрешить себя погладить.
Пока в Останкине была война, пока ночь рассекали трассирующие пули, ревела толпа, ухал гранатомет, искры пожара поднимались в черное небо, мама, сын, кот — все сидели на кухне, где были включены телевизор «Юность», и телевизор «Шелялис», и радиоточка, и приемник. В ту ночь Тюпа не отошел от нас ни на шаг. И ни на минуту не сомкнул глаз. Он камушком сидел на табуретке и не искал места помягче и потеплее. Кот все понял.
Он лег спать лишь четвертого, к вечеру, когда стало ясно, что войны не будет… В пору заграничных кормов Тюпа пробовал все. Но оставался приверженцем прежнего меню: сырое мясо и сырая рыба.
Деньги… Что деньги? Много ли их надо людям, которые привыкли обходиться тем, что есть, и умеют быть предельно неприхотливыми. «А если на хлеб и воду — я хлеб люблю и воду люблю…»
Но вот с котом… Что делать с котом, который пережил перестройку, референдум, путч, мятеж, референдум, выборы в Думу, новую Конституцию, президентские выборы.
Разве этот кот не заслужил право есть то, что привык и любит?»
* * *
После того как была опубликована эта статья, Тюпа прожил еще долго. Он по-прежнему участвовал в политической и экономической жизни страны. Он умер слепым стариком в 2005 году, зимой. Когда я его хоронил, был сильный мороз. Утром того дня я взял его тело, завернутое в белое полотенце, на съемочную площадку. Разжег костер, чтобы растаяла земля. Целый день мы снимали, а костер горел. Я все пробовал землю лопатой. А она все не копалась. Уже было темно, когда один из моих коллег спросил, почему мы не едем в Москву. Я сказал ему, что надо кота похоронить, а костер еще горит…
— Не знал, что твой кот исповедовал индуизм…
Мы смеялись до слез. И весело похоронили его. Моего друга. Я поставил на могиле мраморный памятник. Как человеку.
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ
Глава 12 Волчий билет
Однажды весной меня и моих ребят командировали в Волгоградскую область. Начиналась охота на волков. Матерых хищников и их невинных щенков.
Первыми на локацию мы отправились с прекрасным оператором, да и просто хорошим человеком Мишей Оркиным. Ехали поездом. Техники было много, и я взял «СВ».
Конечно, мы долго собирались. Потом долго ждали машину. Потом ехали по пробкам. Короче, мы сильно опаздывали.
Я, собираясь дома, решил надеть самые плохие штаны. Я считал свое решение очень умным. Там лес, думал я, кровь, грязь. Я не в кадре… зачем хорошие штаны? Возьму плохие. И надел лохмотья. Идиот. Я в тот день думал плохо. Зачем в поезде ремень? — подумал я. И не надел ремня.
Редакционная машина взвизгнула тормозами у вокзала. Мы выскочили и стали хватать сумки. Мне, кроме моего рюкзака, досталась сумка с аккумуляторами, сумка со звуком, сумка без ручки со штативом и баул со светом. Общий вес не меньше восьмидесяти килограммов.
Миша был высокий, плечистый и очень красивый парень. Он взял не меньше. Но в руке у него еще была камера «Бетакам» весом шестнадцать килограммов. Очень дорогая. Очень нежная. И нести «Бетакам» полагается как хрустальную вазу. До отправления поезда оставалось минут пять, а мы только бежали через парковку.
Миша бежал размашисто и не оглядывался. Может, это и хорошо. Так как я представлял собой жалкое зрелище.
СУМКИ И БАУЛЫ СПОЛЗАЛИ С ПЛЕЧ, БОЛТАЛИСЬ НА ПОЯСЕ И ПУТАЛИСЬ В НОГАХ. РУКИ БЫЛИ ЗАНЯТЫ, НО САМОЕ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ — СПАДАЛИ ШТАНЫ.
Не было времени их подтягивать. Да и бесполезно — они сразу падали. Что-то нарушилось в их конструкции, они не держались вовсе.
Шаги из-за этого становились мелкими. Походка семенящей. Выглядело это как в комедии времен Чарли Чаплина. Так без штанов я и всеменил на перрон. Поезд уже медленно катился. Я ухнул в раскрытые двери первый баул. Миша был внутри и ловил багаж. Когда в вагон залетела последняя сумка, поезд уже катился со скоростью километров двадцать в час.
Я в прыжке подтянул штаны, произвел в воздухе немыслимый кульбит и зацепился за поручень последнего вагона. Я прошел сквозь состав как раскаленный нож через масло.
У дверей СВ меня встретила непреодолимая преграда. Проводница не желала, чтобы я осквернял своим присутствием ее вагон. Она долго не могла поверить, что этот бомж со спущенными штанами и есть тот человек в рубашке и галстуке, который, чуть улыбаясь, взирал на нее с первой страницы моего паспорта.
Потом все утряслось. Я сразу оставил тысячу за чай, на случай если нам еще что-то потребуется. Мы заперлись в купе. Миша восседал за столом как принц, а я напротив него, посреди полки, скрестив ноги по-турецки. Чисто кум королю, сват министру. Выпили, поели.
Нам больше ничего не потребовалось, и мы проспали как два ангела до Волгограда. Когда выгружали багаж, я услышал краем уха, как наша проводница недвусмысленно сообщала своим коллегам, что мы с Мишей, дескать, нетрадиционной ориентации.
Я не стал добиваться справедливости и просто забрал девятьсот шестьдесят рублей сдачи за чай. За что уже вслух был назван гомосеком.
Это, кстати, была единственная проводница-сука в моей жизни. Судьба ей жестоко отомстила за навет и клевету, явив справедливость фатума. Но об этом в конце главы.
Охота на волков
Мы долго тряслись в «уазике» и наконец оказались в лесничестве. Там было несметное количество комаров и пахло собаками. Я решил лечь на улице. Хозяева избушки отговаривали меня, уверяя, что волки сейчас свирепствуют, и я буду непременно съеден.
Я проигнорировал эти угрозы. Выкопал несколько кустов колючего боярышника и огородил ими свою походную постель. Потом помылся в реке (на это пришел посмотреть весь лесхоз, по их мнению, вода была недостаточно теплой) и завалился спать в мешок.
Комаров не было из-за ветра. Они все сидели в избушке. Пили теплую кровь и спали на стенах, не боясь быть сдутыми.
Утром хозяева осматривали меня с большим интересом. Видимо, подозревали в колдовстве. Они недоумевали, благодаря каким таким чарам я еще жив, не съеден ни волками, ни комарами…
Я не одобряю охоту на волков. Считаю ее жестокой. Волк — зверь не лицензионный. То есть на него распространяется правило «сколько раз увидишь его — столько раз его и убей»[15]. Охота в начале лета особенно жестока. В расход идут не только матерые, взрослые звери, но и щенки, только появившиеся на свет. Даже если не убивают физически, смерть все равно настигает их. Ведь мать и отец мертвы, а дети беспомощны.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА МУЖЧИНЫ — ХЛАДНОКРОВИЕ. И Я НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЛ СЕБЕ СЛАБОСТЬ. ТУТ НУЖНО ПОНИМАТЬ РАЗНИЦУ. ЕСТЬ СИТУАЦИИ, КОГДА МУЖЧИНА МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ, И ТОГДА ОН ДОЛЖЕН ЭТО СДЕЛАТЬ, НЕ ТЕРЯЯ ОПЯТЬ ЖЕ РАССУДКА. И ЕСТЬ МОМЕНТЫ, КОГДА БЕДА НЕИЗБЕЖНА, ТОГДА НУЖНО БЫТЬ ХЛАДНОКРОВНЫМ.
Это была трудная командировка для слаботренированной психики моих спутников. Кровь лилась рекой. Волчьи трупы громоздились горами. Стреляли с вертолетов, с машин, с мотоциклов и с лошадей. С номеров стреляли и в загоне. Выслеживали и стреляли. Стреляли с подхода. Оператор, который бывал на войне, держался молодцом. А тот, который помладше, чуть не плакал. Но снимал без брака. Все это мясо потом показывали по телевизору на всю страну.
И страна была довольна. Мол, так им и надо, хищникам-бандитам. Действительно, в тот год в Волгоградской области волков было очень много. В соседнем регионе шли боевые действия, и волки мигрировали туда, где не стреляют. За это стали стрелять уже по ним.
Наконец перебили всех.
Гора трупов была уложена на поляне на старые покрышки. Сверху полили обильно соляркой и подожгли. Черный дым огромным волчьим хвостом поднялся над угодьями. Все было снято. Мы собрались домой.
* * *
Тут явился старший из отряда очистки и сказал: «Сейчас будем детей убивать!»
В его голосе слышалось ликование.
За труп взрослого волка тогда платили сто рублей. За мертвого щенка — двадцать. Толстая приемщица мертвечины сетовала мне, мол, хитрить стали охотнички. Убивают в деревне собачьих щенков и мне несут. Но меня, дескать, не обманешь, я-то знаю: у волчат когти черные, а у собачат — розовые. Собачат сразу на помойку. Я, говорит, казенные деньги берегу…
Скоро пришла новость. Нашли нору. Сейчас раскапывают. Мы сели на лошадей и поехали туда. Логово было устроено в крутом берегу оврага. Прямо над входом цвел жасмин. Аккуратная тропа шириной не более пятнадцати сантиметров вела по пологому склону прямо в логово.
В метре от норы была устроена круглая яма с чистой водой. Пожилой охотник, который тоже все это не одобрял, рассказал мне, что эта волчья семья жила обособленно, без стаи. Они были местные, не пришлые. Мать, отец и дети. Нору они взяли барсучью, на «вторичке». Сами сделали ремонт.
Когда волчица ушла в дальнюю комнату рожать, самец начал копать прямо у входа. И копал вертикально вниз. До воды. Он сделал колодец, чтобы жена могла пить, не отходя от детей. Волк носил им еду в своем желудке. На крупную дичь не охотился, собирал мышей-полевок, по триста в день, и отрыгивал у входа. Это ели все. Таким образом дети получали всю флору кишечника здорового волка. Заряжались иммунитетом. Мать была истощена постоянным кормлением, и ей тоже полупереваренная пища была необходима.
Теперь они горели в аду на поляне. А в норе плакали дети. Молодой парень со штыковой лопатой копал как надо. Сразу видно — пехотинец. Одними руками. Ногой не помогает. Высший пилотаж. Все глубже траншея, а нора не заканчивается. И слышен из нее неумолчный детский плач.
— Стрелять не будем, невыгодно это, — сказал один из убийц. — Патрон в восемнадцать рублей выходит, если самому пулю лить. А за них по двадцать дают. Два рубля — маленькая прибыль. Лопатой зарубим. Дешево и сердито.
…Наконец траншею копать стало невозможно. Нора ушла вниз под вертикальную стенку оврага. Землекоп стал забуриваться вглубь, расширяя проход до такого размера, чтобы туда мог пролезть человек.
Так прошло не меньше трех часов. Работали с перекурами. Наконец из изувеченной норы показалась задница человека и на траву вылетел первый волчонок.
Он был еще слепым. Покрыт коричневым пухом. Толстые лапки заканчивались черными коготками. Он горько плакал, будто понимал, что его точно примут в костер. И оплатят.
Задница «пехотинца» скрылась в норе и вскоре появилась опять. Два пушистых комка описали в воздухе дугу и шмякнулись перед моими ногами в грязь. Через минуту прилетел четвертый.
— Ну? Сняли? — нетерпеливо спросил один из очистки. — Мочим их — и обедать.
Тут я совершил необдуманный поступок, о котором, впрочем, ни разу не пожалел потом.
— Нет, — говорю. — Не сняли. В Москву повезем. Даю по сотке за каждого.
Все обрадовались — за щенка как за взрослого платят! Я собрал сирот в холщовый мешок, закинул его за плечи и направился к лошади. Съемка была закончена.
Я стал отцом целой стаи. И окончательным изгоем человеческого общества, воспитанного на принципах гуманизма. Лошадь раздула ноздри и нервно зафыркала, когда я был еще метрах в десяти. Я бормотал успокаивающие слова и подходил ближе. Наконец лошадь не выдержала и поднялась на дыбы. Гарцуя, она махала копытами в непосредственной близости от моей головы, скалила зубы и вела себя отвратительно.
Тот мужик, что рассказывал мне про волчью семью, объяснил, в чем дело. Мешок волками пахнет. Хоть и маленькие упыреныши, а волки. Я понял, что мне придется возвращаться пешком. И пошел через лес, вытирая руки о штаны.
Я купил десяток яиц и самого жирного молока. В деревне больше задерживаться было нельзя. Ребята собрались. В здравпункте я купил соску и бутылочку. Мой путь к машинам съемочной группы лежал через коровник, где в вековом говне стояли привязанные за шею цепями Розочки, Дочки и прочие Сирени. Я шел быстро, но коровник тоже не маленький — метров сто в длину. Оглушительное мычание сопровождало меня как в самой жуткой сцене в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Я стал сомневаться в своем решении.
САМА ПРИРОДА УКАЗЫВАЛА НА ТО, ЧТО В МЕШКЕ ЗА МОИМИ ПЛЕЧАМИ ПРИТАИЛОСЬ ВСЕЛЕНСКОЕ ЗЛО.
В конце коровника, в денниках, стояли лошади. На задних ногах. Ярость и страх объяли конюшню. Доски трещали под ударами копыт, пена клочьями свешивалась с лошадиных морд.
Я со своими детьми наконец вышел вон.
* * *
Транспортировка животных без ветеринарных справок запрещена. Перевозка диких зверей запрещена. Перевозка непривитых зверей запрещена. Перевозка животных, не прошедших карантин, запрещена. Мы взяли СВ.
Проводница нас узнала. Маленькие глазки-буравчики указывали на то, что она не забыла про девятьсот шестьдесят рублей. Ей все не нравилось. Но повода не пускать нас в вагон она не видела. Реальная причина была надежно спрятана в кофре со светом. Мы зашли. В купе было чисто. Через десять минут после отправления проводница стала стучать в купе — возвращать билеты. Мы приоткрыли дверь, она сунула нам бумажки… И тут из-под лавки послышался протяжный тонкий вой. Проводница насторожилась. Я приготовился к худшему.
Положение спас Миша. Он схватился за задницу, лицо его изображало муку, а рот имитировал стон. Когда звук прекратился, Миша сдавленным контральто[16] произнес: «Уважаемая! Можно кипяточку? Так зад болит…» Женщина побледнела и выскочила из купе. Я задохнулся смехом. Миша сказал: «Она считает нас голубыми — она получит голубых!»
Вскоре в купе постучали снова, я, ожидая недоброго, чуть приоткрыл дверь. В щель просунулся фарфоровый чайник с кипятком и два стакана в подстаканниках. Дверь захлопнулась. Я повернул ключ. Достал бутылочку, соску, молоко и яйца. Одно сырое яйцо на четыреста миллилитров молока. Тщательно перемешать, взбалтывая. И нагреть на чайнике, на водяной бане. Вот рецепт того, что вскормило Ромула и Рэма.
Мы открыли кофр. Там спали после стресса и тяжелой дороги четыре волчонка. Четыре меховые игрушки. Как только бутылочка оказалась в зоне досягаемости, они взвыли разом. Все, кроме того, что неистово сосал.
Ситуация становилась опасной. Транспортная милиция и все такое. Миша стал стонать в унисон волчатам и выкрикивать непотребные фразы: «Да, милый! Еще! Еще!» И это спасло. Мы знали, что сейчас у нашей двери много слушателей. И знали, что они не постучат. Такие сеансы не прерывают.
Волчата засыпали сразу, как только соска покидала их рот. И вот бутылочка пуста. В сундуке под полкой мы постелили эсвэшные пледы и положили туда спящих детей. Двое уже испражнились. Пахло не очень. Надо было замыть пятна. Миша сказал: «Ладно, пути назад нет». И элегантно виляя попочкой, вышел в коридор. Запах волчьего дерьма шлейфом стелился за ним. «Кипяточку, срочно!» — выкрикнул он, жеманно потирая ягодицы.
Проводница оказалась любительницей всего необычного и к чайнику кипятка дала шоколадку. От себя. Стоны из нашего купе не прекращались. Мы заканчивали кормить последнего волчонка, а первый уже просыпался и начинал жалобно выть. Аппетит у них был волчий.
Они были слепыми и гадили под себя не вставая. Минуты через три после еды. Жидко. Я мыл им задницы и переворачивал плед. Одеяла в СВ пропитывались быстро. Миша менял чайники как угорелый.
Проводнице казалось, что мы неутомимы. Так и было. Еще она думала, что все понимает, загадкой для нее оставался только чайник. Титан в СВ работал только на нас. К концу путешествия, уже перед Москвой, я стал готовиться к бегству. Подвязал штаны и установил резинку на защелку купе так, чтобы дверь надежно захлопнулась, когда мы выскочим. Сумки Миша перенес в тамбур. План был таким: поезд тормозит, и мы сразу выскакиваем. Я выхожу последним и запираю дверь. За ту минуту, которая уйдет у проводницы на взлом купе, мы должны уже прыгнуть с платформы и затеряться в толпе.
Так и вышло. Поезд остановился. Миша выбросил все сумки на платформу и ждал в низком старте. Я закинул волчат за спину, лязгнул дверью и, оттолкнув проводницу плечом, выскочил на перрон. Мы бежали, тяжело дыша. Уходили под товарняком. Когда наша машина рванула в телецентр, я видел из окон сотрудников транспортной милиции. Они беспомощно оглядывали толпу. Думаю, жадную проводницу уволили, а вагон отправился в капремонт. Вонь там была нестерпимой. Все внутреннее убранство было изгажено.
Ванна с волками
В этот день мне прямо с вокзала нужно было на работу. Я заскочил домой. Быстро принял душ, переоделся и оставил зверей на мамино попечение.
Волчата росли очень быстро. Если вчера они лежали почти неподвижными комочками, то сегодня уже вовсю ползали. Я положил их на теплый диван, но они двигались хаотично и постоянно падали на пол. Успокоить их было нельзя. Оставить на диване тоже. Они могли повредить себя.
Я постелил на дно ванны мягкий матрасик и уложил малышей туда. Это было оптимальное решение. По скользким бортам они не могли выбраться. Я быстро объяснил маме, как готовить смесь, и убежал на работу.
Вернулся я часов через двенадцать. Мама едва ходила. Эти двенадцать часов она была волчицей. Грела бутылочки и стояла, склонившись над ванной. Настроение у нее было плохое. Она очень устала. Волчата не успокаивались ни на секунду. Первый накормленный просыпался в тот момент, когда у последнего вынимали соску изо рта.
Мама сказала, что это настоящая каторга и она так жить не хочет. А я сказал ей: «Зато в твоей жизни был целый день, который ты провела в ванной с волками».
Все плохое быстро забывается. И мы часто в течение последних двадцати лет вспоминаем тот день. Теперь мне, да и ей, кажется, что он был волшебным. А тогда мы легли спать и погасили в ванной, у волчат, свет. Стало тихо. Мы спали долго.
А волчата не спали. Им нужно было сосать, и они сосали. К утру я имел четверых больных. Два самца до крови рассосали кончики хвостов у двух самок. Две самки создали больше проблем. Они рассосали своим братьям пенисы. Я обработал травмы. Запеленал своих детей. Вставил им соски. И пошел на работу. Мама позвонила через час. Она осторожно спросила, долго ли в ванной будут волчьи ясли.
Я тоже думал только об этом. Люди щенков-то пристроить не могут. Попробуй устроить четырех слепых волков. Первым делом я пошел к своему старшему товарищу, тогдашнему главному редактору телекомпании НТВ, Саше Герасимову. Александр Анатольевич выслушал всю историю и сказал: «Возьму кобеля». Надежда забрезжила. Теперь нас было двое. Мама еще не знала, но я присмотрел себе спокойную сучку.
Я решил передать щенка Герасимову после того, как тот откроет глаза. Щенок в смысле.
Оставалось пристроить двоих. На следующий день ко мне в кабинет пришел Сенкевич, тогдашний генеральный директор НТВ. Он с удовольствием фтографировался со зверюшками. Через него мы нашли очень хороший театр, который выразил готовность забрать еще двоих. За три дня я нашел всем волчатам новые дома.
Но пока они жили у меня. Мы ждали, когда у волчат откроются глаза. Наконец, дня через четыре, мои волки увидели мир. Мою маму они считали матерью, а меня отцом. Они ходили за нами гуськом по всей квартире. И очень хорошо слушались. О таком уровне интеллекта собачьи щенки могли бы только мечтать.
Волчата все больше пили молока. Я начал давать фарш с витаминами. Рахитичные задние лапки стали толстеть. На хвостиках появилась фиалковая железа — отличительный признак всех, кто имеет кровное родство с волками. Молоко я заменил на сливки, на порцию уходило уже не одно яйцо. Каждый волчонок всасывал по три.
И вот настал день, когда мой первенец поехал в подмосковную усадьбу к Герасимову. Щенок плотно поел каши с мясом, запил сливками и свернулся у меня за пазухой, во сне насасывая мой пупок. Редакционная машина плавно катилась по одному из немногочисленных в то время платных шоссе. Малыша стало укачивать. Я попросил остановиться. Мы вышли на травку. Погуляли, поиграли и поехали дальше. Мы сидели сзади, я справа, а он слева. Глаза его помутились. Его вырвало.
Я ОЧЕНЬ ПОЖАЛЕЛ БЕДНЯГУ. МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ОН НЕСЧАСТЕН. ДОСТАЛ САЛФЕТКИ И ПРОТЯНУЛ РУКУ, ЧТОБЫ УБРАТЬ БЛЕВОТИНУ. НЕОЖИДАННО ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ЩЕНОК ЗАРЫЧАЛ КАК ВЗРОСЛЫЙ И МОЛНИЕНОСНО ВЦЕПИЛСЯ МНЕ В ЛАДОНЬ.
У волков зубы острее, чем у собак. Потому волчьи укусы быстрее заживают. Собака делает рану сдавленную, дробленую. А волк — резаную. У щенков еще не развиты мышцы челюстей, и природа компенсирует это чрезвычайно острыми молочными зубами. Кровь брызнула в четыре струи. Две потолще сверху и две потоньше — снизу ладони. Я убрал руку. И волчонок с ворчанием принялся за еду. Через минуту сиденье было чистым. Мы ехали еще час. За это время его вырвало раз десять. И он десять раз все съедал. Этот удивительный волчий способ борьбы с морской болезнью мне понравился. И я поклялся когда-нибудь применить его к тем моим сотрудникам, которых укачивает в транспорте.
Должен отметить, что это был единственный раз в моей жизни, когда меня укусил волк.
Мы доехали. Хозяева нарекли зверя Тимофеем. Он вырос очень добрым, огромным красавцем. Он понимал необходимые команды. И очень дружил с овчаркой Марго. Вместе они бегали по поселку. Заходили в гости в соседние дома. Никто их не обижал. И они никого не обижали. Однажды под Новый год хозяева уехали на несколько дней кататься на лыжах. Звери были предоставлены сами себе. В полночь начался салют. Тимофей и Марго очень испугались. Они метались по двору, пока не нашли выход. В ту ночь стреляли везде. Волк и овчарка больше никогда не вернулись.
* * *
В марте и апреле в местный ОВД поступали жалобы от граждан. Якобы под платформой пригородных электричек их подкарауливали волк и собака. Они нападали на людей. Но странно. Они лизали испуганным пассажирам лица, выхватывали из рук пакеты с продуктами из супермаркетов и убегали в неизвестном направлении.
Это вполне объяснимо. Мой тезка был очень смышленым. Он никогда не охотился, но понял: еду приносят в пакетах из внешнего мира. Люди, старшие в стае, возвращались с охоты. Овчарка думала, что сухой корм зарождается в миске. Герасимов очень жалел своего волка. Да и собаку жалел. Он добрый человек. Дал распоряжение поймать.
Мы устраивали засады. Ждали на рельсах. Ходили по свалкам. Я видел их следы. Но все бесполезно. Тимофей увел Марго в лес. Волшебный лес. Я вытер руки об штаны.
* * *
Прошло три дня с тех пор, как я отвез волчонка Герасимову. И за парой приехали новые хозяева. Судьбу этих зверей я не знаю. Знаю только, что жили они очень долго и тоже никогда не причинили никому вреда. Вообще, наследственность многое значит.
Я часто вспоминаю родителей этих волков. Они были скрытными, некомпанейскими. Жили уединенно. Любили друг друга. И были умнее тех, что сбивались в стаи. Они обладали знаниями по геологии и геодезии. Они нашли воду и выкопали колодец. Они вселились в нору, подходы к которой были закрыты со всех сторон. И так оборудовали свой дом, что его пришлось брать штурмом. Они не рисковали в битвах с крупной дичью — питались мышами. Они были умными. И родили умных детей. Умные среди зверей встречаются так же редко, как и среди людей.
Александра
Настало время рассказать о том, как я жил с волчицей. Cамая спокойная сука осталась у нас. Она быстро росла. Когда мама готовила ей еду, тихонько выла в ногах. Через неделю она научилась вставать на задние лапки, ставить передние на край кухонного стола и выть громче. Прошла еще неделя, и она научилась вспрыгивать на стол. С места. Волчицу звали Александра. На нашем участке тогда еще не было деревьев. Огромное поле сплошь покрывали ромашки. Мы не косили их. Жалели цветы. Александра бегала в ромашках, и ее не было видно вовсе. Только цветы качались, и так мы понимали, где наш волк. Волчица обожала маму и подолгу ездила у нее на руках.
С каждой неделей такая ноша становилась все тяжелее. Александра набирала вес. Ее ювенильный пух сменялся шелковистым мехом. Она стремительно серела. Только розовый живот все еще оставался голым. Кроме мамы, она очень любила моего дворового пса, Полкана. Ему был год. Он был опытный. И мог бегать без остановки целыми днями. Они играли в палочку и другие собачьи игры.
Меня волчица воспринимала как непререкаемый авторитет. Я был вожак и отец. А она — моя принцесса. Она очень много ела. И всегда была голодна. Однажды я приехал из Москвы и вошел на территорию с пакетом. В пакете был батон. Александра подлетела ко мне, облизала, схватила пакет и умчалась под баню. Я думал, что это такая игра. Когда я заглянул под баню, она уписывала батон вместе с пакетом. Я стал покупать мясную обрезь. Кормил до отвала. Полкан, при весе тридцать пять килограммов, съедал за один присест два кило, а она, при весе пятнадцать, легко съедала пять. Потом они пили молоко с сахаром и спали. Скоро я добавил в рацион куриные головы.
Александра стала расти не по дням, а по часам и скоро весила сорок килограммов. Говорят, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Это не так. Волчица наелась. Она стала оставлять еду в миске. Приносила и отдавала самое вкусное мне, маме и Полкану. У нее можно было забрать кусок из миски и изо рта. Она много гуляла со мной в лесу и на поводке, и без. И всегда радовалась, когда мы возвращались домой. Она очень любила и берегла наших кошек и котов. Некоторые переселились к ней в будку по осени, так как я долго не топил. А кошкам нужно тепло. Чужих кошек она тоже любила. Она их ела. Стоило чужому коту оказаться в ее поле зрения, она моментально догоняла несчастного и перерезала пополам своей зловещей пастью. Десять-двадцать секунд уходило у нее, чтобы съесть трупик дочиста.
Человек с «волчьим билетом»
В то время был у нас на работе водитель по фамилии Собаченко. Хороший парень. Не просто водитель, а помощник. Всегда с нами на съемку ходил. Штативы носил. Правами рисковал, когда мы на эфир опаздывали. Однажды мне Собаченко и говорит: «Хочу стать звукооператором». Я посоветовался с товарищами. Мы научили парня всему и через два месяца представили его руководству. Собаченко стал нашим звукооператором. Работал отлично. Остроумный. Душа компании. Прошло время, и говорит он мне человеческим голосом: «Хочу оператором стать». Делать нечего. Стали его учить. Собаченко был талантлив. И выучился.
Мне в команду оператор был не нужен. По моей рекомендации Собаченко был назначен оператором в «катушку», то есть в новости. Работал каждый день без остановки. Звезд он с неба не хватал, но снимал без брака. А тут ситуация: американцы вторглись в Афган. Да как-то быстро. Наши «Новости» подготовиться не успели. Кого посылать? Отправили дежурную группу. Это была смена Собаченко. Он не ударил в грязь лицом. Отработал две недели самой мясорубки на «пять». Уже менять его пора, а корреспонденты просят: «Можно мы с Собаченко останемся?» Тут уж ему почет и уважение. Звонит директор дирекции обеспечения эфира: «Вить, останешься еще на две недельки». Он и рад. Зарплата, командировочные, боевые, еще кое-какие… Разбогател.
Жизнь у Собаченко пошла в гору. Но вот пора и домой. Загрузились они в самолет. Салон почти полный — прессой забит. Взлетели. Достал Собаченко виски. И плитку коричневую граммов на двести. Выпил с ребятами и покурил. Герой домой едет. Достал еще бутылочку из магазина беспошлинной торговли. Еще отщипнул от плитки. Покурил.
А ПОТОМ ВСТАЛ СОБАЧЕНКО И КАК ЗАКРИЧИТ: «САМОЛЕТ ЗАХВАЧЕН! ЛЕТИМ ОБРАТНО В КАБУЛ!»
Драка на борту началась. Долго Собаченко не сдавался. Но его связали скотчем. Так, замотанный, он и долетел до Москвы, лежа в проходе.
Сажали борт на спецполосу в небольшом аэропорту. «Альфа». Саперы. Министр внутренних дел. И генеральный директор НТВ. Много кто еще встречал Собаченко в тот день.
Дела плохие. Статьи страшные. Терроризм, захват воздушного судна, хранение сами понимаете чего. Лежит Собаченко и раскаивается. Искренне. Просят за него серьезные люди. И серьезные люди судьбу его решают.
— Все понял? — спрашивают.
— Все понял! Так точно! — отвечает Собаченко.
— Ну тогда режем скотч.
Встал Собаченко, отряхнулся… Видно, попустило его. Спецназ расслабился. Начальники да министры на выход собрались. И тут размахнулся Собаченко да как треснет кулачищем своим по морде одному очень серьезному дяде. И по взлетной полосе бегом. В Кабул хочу, кричит… Не попустило. Тут уж все стало совсем серьезно. Все рассказывать не буду. Но вышел Собаченко в город — гол как сокол. И с «волчьим билетом» — полным запретом работать в СМИ.
Грустно. Друзей у него тоже почти не осталось. Но печалился он недолго. Приехал ко мне. Говорит: «Дай взаймы, бизнес-план имею. Буду шашлычку в Геленджике строить. За один сезон отобью». Я дал. Он взялся за дело с присущей ему скрупулезностью. К началу туристического бума халабуда была построена. Шашлык задымил. Деньги пошли.
Я отвлекся на свои дела. Смотрю новости. Погода в Геленджике плохая. Шторм и дождь. Посмотрел и спать лег.
А утром звонит Собаченко: «Был ураган. Шашлычку смыло. Туристов нет. Я банкрот». Чуть не плачет. Я его пожалел. Действительно, ну что за черная полоса… Пригласил его работать к себе сторожем. Он согласился.
* * *
Собаченко очень подружился с собаками, кошками и волчицей. Все было отлично. Он хорошо помогал. Тогда у меня в имении шли кое-какие съемки. Лишние руки никогда не лишние. Так он сторожил, за скотиной убирал и был при любимом деле — при телевидении. Да к тому же жил за высоким забором. От общества, которое по понятным причинам не испытывало к нему симпатии, его охраняли неприступные стены и серый волк. И дружба. Дни летели как птицы.
Шла работа. Строились декорации для детской передачи «Сказки Баженова». Волчица повзрослела. Ей было почти два года. Она очень любила съемки. Ходила с нами в лес, на площадку. Там общалась с другими зверями-актерами. Снималась почти в каждой серии. Иногда в эпизодах, а иногда и в главных ролях.
Особенно ей нравились моменты, когда мы снимали морды зверей с артикуляцией. Актеры озвучания потом попадали в артикуляцию, и получалось, что звери говорили. Для съемок нужно было, чтобы зверь-актер сидел ровно и двигал ртом и носом. В случае с волчицей мы применяли состав для собак: мед, сметана и горчица васаби.
Александра просто обожала это диковинное блюдо. Она готова была съесть целую миску. Но состав капали на нос из пипетки. Так мало, чтобы зверь сразу слизнул и мордочка осталась чистой. Без признаков лакомства.
В общем, волчица моя была очень мирной тварью. Любопытной и веселой. Свою деревянную будку она начисто сожрала. Разгрызла в щепки. Я отлил ей новую. Из бетона. В будку была вмонтирована цепь, но привязывал я Александру только на ночь. Потому что у нее появилась непреодолимая страсть — она хаотично копала. Копала везде. И выкапывала сосны, которые я бережно сажал.
Они с Полканом вели войну против молодых деревьев. Он их зассывал, а она копала траншеи.
АЛЕКСАНДРА НЕ БОЯЛАСЬ НЕПОГОДЫ И В САМУЮ ЛЮТУЮ ЗИМУ СПАЛА НА СНЕГУ. А ЕСЛИ НОЧЬ ЛУННАЯ — НА ЛЬДУ ОЗЕРА, НА ТЕРРИТОРИИ.
Пришел февраль. Время волчьих свадеб. Это раньше Полкан был другом и старшим товарищем. Теперь Александра была девушкой, а он кавалером. Отношения между ними стали очень нежными. Они ходили бок о бок, вылизывали и кормили друг друга. Волки не лают, как собаки. Они воют. Ну иногда тявкают. Рычат очень редко. Визжат как поросята, когда им больно или страшно.
Зимними вечерами мы подолгу сидели у печки. Строили мышиные города, заячьи домики. Делали кукольную мебель и утварь. Полкан лежал у моих ног. Ветер завывал за маленькими окнами моей избы. В лунные ночи Александра выла. Пронзительно и страшно. Думаю, в соседней деревне люди делали телевизор погромче или накрывали головы подушками. Полкан сразу вскакивал и бежал к любимой. Вытье прекращалось.
Иногда Полкан не слышал. Или очень сладко спал, или очень мягко и уютно лежал. Тогда достаточно ему было тихо сказать: «Полкан, Саша воет». И он моментально вскакивал и несся к ней утешать. Я не очень верил в то, что у них что-то получится. Все-таки разные биологические виды. Не каждая собака способна на гибрид с волком. И не каждая волчица загуляет с псом. Однако все получилось. Александра понесла. Она и так была не худая, а теперь стала походить на картофелину на спичках.
В начале апреля еще было очень холодно. Дули сильные ветры. Снег подтаял и покрылся льдом. Я решил поехать в баню. Приезжаю, а Собаченко грустный. И вялый. Он выпил и покурил. «Пошли, — говорю, — баню топить». А он и отвечает: «Нет больше бани…»
Я выглянул в окно.
— Как, — говорю, — нет? Вон она стоит.
— Я ее вчера топил… — сказал Собаченко.
Мне это не понравилось. Я не приветствую, когда мою баню без меня топят.
— И? — спросил я.
— Топил и покурил… — грустно сказал Собаченко.
— И? — спросил я.
— И забыл перекрыть воду на котел, — чуть не плача, сообщил Собаченко.
— И? — грозно спросил я.
— И уснул… и печку размыло… — вытирая скупую мужскую слезу, ответил он. Мы пошли смотреть.
Да. Посреди парилки лежала куча камней и кирпича, сдобренная глиняной лужей. Это все, что осталось от каменки, выложенной моими собственными руками. Сверху лежал искореженный котел. Собаченко был чутким парнем. Он понял, что я зол на него. Хотя я ничего не сказал. Настроение у него испортилось окончательно.
В этот день в бетонной будке появились на свет четыре щенка-волчонка.
* * *
Александра изменилась. Она по-прежнему любила окружающих, но теперь не всех. Только меня, мою маму и, конечно, Полкана. Остальные стали для нее чужаками.
Она никогда раньше не видела пьяных и накурившихся. Собаченко вызывал у нее идиосинкразию. Видимо, она интуитивно подхватила и мое настроение. Я почуял беду и пристегнул цепь. Она и так не отходила от будки, но теперь, на цепи, она выглядела люто. Сильно похудела. Морда стала неулыбчивой. Повзрослела за эти дни.
Щенки повизгивали. Мне было позволено засунуть голову в будку и потрогать их. Но разрешала она это нехотя. Я уехал. На следующий день вернулся и обнаружил у Александры на морде несколько очень нехороших царапин. Она была грустная. Я обработал раны, наложил два шва. Без наркоза. Она терпела. Болевой порог у волков очень низкий.
Я зашел в дом и спросил, что произошло. Собаченко был злой. Он пошел в разнос. Рассказал, что давал еду и Александра бросилась на него. Он схватил грабли и ударил ее по морде. Теперь она смотрит на него как на врага.
Я вывел Собаченко для следственного эксперимента. Александра лежала в будке. Щенки сосали. Голова волчицы торчала из дырки в домик. Она не сказала ничего, только дрогнули ее губы, обнажив огромные белые клыки…
Приехали ребята. Мы стали строить декорации. Собаченко помогал. Но все время со злобой вспоминал Сашино вчерашнее выступление. Он боялся и хорохорился. Проходя мимо будки, он тихонько говорил ей угрожающие гадости. Она делала вид, что не слышит.
Мы засиделись. Ночью Собаченко вышел на двор по нужде и поскользнулся у будки на мокром апрельском льду. Чистить который, кстати, была его обязанность.
Собаченко лязгнулся всем прикладом в лужу. Александра молча вылетела из будки и откусила ему большой палец на руке. Шили мы с Олегом. Собрали чисто. Может, несколько фасций и мелких сухожилий перепутали… Но в целом очень неплохо получилось.
«Скорую» не вызывали. Во-первых, состояние пациента было не подходящим для огласки, во‐вторых, времени было мало, в‐третьих — волк.
Этот поступок поставил Александру на грань. По всем правилам и законам она должна была умереть. Собаченко был разъярен. Мы определили его состояние как делирий. Он несколько раз брался за нож и порывался идти на двор разбираться. Мы обезоруживали его и сажали за стол. Он стал ненавидеть нас и бросался драться. Мы связали Собаченко и уложили спать.
Олег тогда только купил себе новую машину. Старый «Опель». Все ходил и сдувал с него пылинки. Утром наш вчера агрессивный дурак проспался и проснулся. Он чувствовал себя очень виноватым. Просил прощения. Все понимал. Благодарил за пришитый палец. Раскаивался, короче.
Мы ушли в лес ставить декорации, а когда вернулись обедать, обнаружили «Опель» идеально вымытым. Собаченко стоял, потупив взор. «Я, — говорит, — так виноват. Особенно перед тобой, Олег. Ты мне руку спас. А я, говно, на тебя с ножом бросался… все синька проклятая… Вот решил сделать тебе приятное и помыл машину». «Спасибо», — сказал Олег и улыбнулся. Это случалось с его лицом крайне редко.
Мы поели и опять ушли в лес. Вернулись поздно. У машины стоял скромный, исполненный достоинства Собаченко.
— Я салон пропылесосил, — сказал он. — Смотри.
Да, внутри тачки тоже была чистота.
— А еще, смотри, — сказал Собаченко и открыл капот, — я двигатель тебе помыл!
Олег заулыбался. Двигатель был очень чистым.
— И свечи поменял! — сказал гордый Собаченко.
— Спасибо, — сказал Олег и пожал Собаченко здоровую руку.
Мы вошли в дом. На столе расстилалась скатерть-самобранка. По центру среди всякой простой снеди высился целый таз пельменей. «Вот, собрал вам поесть», — скромно сказал Собаченко. За ужином он сдал нам все, что, по нашему мнению, привело ко вчерашнему инциденту. Я выбросил это в печку. Она жарко горела. Потом Собаченко разлил по стаканам. Себе ни капли. Завязал. Мы договорились, что все забудем. И легли спать.
Утром Олег сел в намытую машину, повернул ключ. Раздался оглушительный взрыв. Капот сорвало, и он улетел в поле, перемахнув через дорогу. Намытый двигатель разворотило. «Опель» пошел под списание. Только на запчасти.
Собаченко потупил взор. Признался, что рассказал нам не все. И перед обслуживанием машины курил. Потом выкрутил свечи и уронил головку ключа в свечной колодец. Достать не смог. И не придал этому значения. Закрутил свечи и забыл. Двигатель завелся, в цилиндрах поднялась компрессия. Не все поршни дошли до верхней мертвой точки. Произошел взрыв.
В этот день Собаченко собрал вещи и уехал. Дальнейшую судьбу человека с «волчьим билетом» я не знаю.
* * *
Волчица кормила детей. Троих у меня забрали друзья, а один остался. Его зовут Шарик. Он очень похож на хаски. Но он совсем не хаски. Александра жила еще долго, она никогда не причинила никому вреда. В возрасте восьми лет она заболела пироплазмозом. Ее укусил клещ. Она тихо ушла в Страну Вечной Охоты. Они любили друг друга с Полканом всю жизнь. Но детей больше не было. Полкан жив и сейчас. Он дряхлый старик. Слепой и глухой. Шарик всегда рядом. Он не умеет гавкать, но отлично воет на луну и спит на льду. На хвосте у него фиалковая железа — признак кровного родства с волками. Когда он воет, Полкан ходит его утешать. Это единственный звук, который он слышит.
Глава 13 Остров-крепость
Нам выписали командировку на остров Шумшу. Это большая удача. И далекое путешествие. Мы взяли на себя повышенные обязательства. Решили поехать еще и на Манерон.
Шумшу — это самая северная оконечность Курильской гряды, а Манерон — самый южный остров. Сначала мы летим до Владивостока. Оттуда в Петропавловск-Камчатский, потом в Северокурильск и кораблем на Шумшу. Там отрабатываем и летим в Южно-Сахалинск. Оттуда в Корсаков и кораблем на Манерон. Неслабое такое путешествие.
Почему я говорю «удача»? Да потому, что людей, которые были на этих двух островах, можно пересчитать по пальцам. Очень дальняя дорога. И очень закрытые территории.
Манерон — заповедник, в котором нельзя даже траву топтать и цветы рвать. Да что рвать, их даже нюхать нельзя. Остров находится почти на широте города Сочи. Но погода там не такая, как на курорте. Бывает очень тепло, но случается ветер такой силы, что ходить надо с палкой.
Шумшу — угрюмое место. Там всегда холодина и не растет почти ничего. Шумшу — остров-крепость. Японцы выкопали там самые длинные и разветвленные норы в мире. Площадь Шумшу под землей больше, чем площадь поверхностей. Огромная сеть разветвленных тоннелей. Много уровней. Комнаты и залы. Весь остров покрыт дотами и дзотами. Завален старыми танками. Карты подземелий не составлены. Составленные — засекречены. Говорят, в подземельях до сих пор таятся склады с японским химическим оружием и лаборатории с бактериологическим. Все это нам предстояло исследовать.
Острова необитаемы. Ну как… обитаемы немножко. И там, и там есть маяк. И семья маячника — жена. У маячников обычно есть собака, коза и ружье. На Манероне у маячника есть огород, а на Шумшу — только спецзавоз. Там ничего не растет.
Взлетная
Мы вылетели из Москвы самолетом Ил-86. (Запомните, это важно.) Мы люди опытные и взяли с собой еду. Кто не знает, знайте — в самолет можно брать еду. Любую. И есть там, как в поезде. Тогда полет получается куда комфортнее. Ил-86 — самый удобный самолет в мире. Он огромный, в нем не трясет. Нет ощущения полета. Полное впечатление, что он стоит на земле.
За всю историю авиации не было ни одной катастрофы Ил-86.
Впрочем, нет. Одна была… Я был ее свидетелем. Чуть позже расскажу. Так вот… Тогда не было понятия электронной регистрации.
Мы зарегистрировались на стойке регистрации одними из первых. В те времена я не летал бизнесом и научился с большим удобством размещаться в экономе. Я быстро охмурил девушку на стойке регистрации. Она безропотно выдала нам места в ряду у запасного выхода перед стенкой. Это самый лучший люкс.
Мы тогда не сдавали сумки в багаж. Кофры с аппаратурой — только в салон. У каждого из нас был (да есть и сейчас) личный кофр, в который мы укладывали свои вещи. Это делалось для того, чтобы не ждать багаж в аэропорту прилета. Всё в салон, всё в кабину. Мы уложили кофры на пол перед креслами, вытянули на них ноги. Кайф. Спирт уже был залит в правильной пропорции в бутылки с газировкой и в пакеты томатного сока.
Самолет еще был на рулежке, а еда была разложена на сумках и готовилась стать закуской. На газетках было все. Кроме крутых яиц. Мы их не берем. Мы ж не звери. Уважаем других пассажиров. Самолет разбегался, и весь наш ряд, а в группе у меня было десять бойцов, весь наш ряд, от окна до окна, держал у губ открытые бутылки. Мы готовились пить взлетную.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЛЕТНАЯ? ЭТО КОГДА САМОЛЕТ НОС ЗАДИРАЕТ — ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА САМА ИЗ ГОРЛЫШКА В РОТ ПОТЕЧЬ. ПИТЬ ВЗЛЕТНУЮ — ЭТО ТАКАЯ ЖЕ ТРАДИЦИЯ, КАК ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ГОВОРИТЬ: «ОПЯТЬ ПОВЕЗЛО».
Мы смотрели в окна на уплывающую Москву. И думали о том, от чего улетаем. Это правило такое в психологии: первую половину пути человек всегда думает о том месте, которое оставляет, о делах, связанных с этим местом, а вторую половину — всегда о том месте, куда путь держит. Если не верите мне — проверьте на себе. Если путь составит хотя бы час, проследите за своими мыслями. Полчаса — пункт А, полчаса — пункт Б.
Очень интересно, когда летишь над мегаполисами, смотреть в небо рядом с самолетом. Часто можно видеть другие лайнеры. Они пролетают мимо, такие огромные на немыслимой скорости. Так кажется, потому что при встречном движении человеческий разум плюсует собственную скорость со встречной. Вот и считай: мы набираем высоту, у нас, к примеру, пятьсот, да встречный на посадку заходит — еще пятьсот. Объект, летящий рядом на такой скорости, — необычное зрелище.
Внезапно в левом иллюминаторе мы увидели комету. Объятая пламенем, она неслась мимо нас. Это был Ту-134. Тогда они еще были на линиях. Самолет явно горел. Терпел бедствие.
Мы резко начали заходить на вираж. Самолет накренился и, тихо завывая, стал разворачиваться в сторону Москвы. «Тушку» мы больше не видели. Только потом по телевизору показали сюжет о страшной катастрофе. В любом случае это событие немного скомкало начало командировки.
Нежная музыка, лившаяся из динамиков, резко оборвалась. Послышался щелчок тангенты, раздался мужской голос: «Говорит командир, по техническим причинам мы возвращаемся в аэропорт Шереметьево».
Нужно было разрядить обстановку. И я начал свой рассказ.
* * *
Было это в конце июня. Мы с мамой долго готовились к этому шагу и вот наконец взяли на ее имя кредит в банке и купили машину. «Ниву». Она пахла новым салоном. Темно-зеленая, с инжектором. Закончив оформление документов, мы, счастливые, выехали на улицы города. «Поехали в Хлебниково, — предложила мама. — Там сейчас оптовый рынок. Продают ягоды. Самое клубничное время». И мы поехали.
Я наслаждался плавностью хода машины и управляемостью. Ну еще бы… До этого я управлял только «Уралом», «УАЗом» и «ГАЗом-69»… Скоро мы оказались в Хлебникове на рынке. Ягод и правда было несметно.
Мы накупили малины и клубники. Сидим на пригорке в новой тачке. Празднуем. Над нами самолеты летают. Оно и понятно — Шереметьево близко. Смотрим мы, как они там в небе: один сядет — другой взлетит. Интересно. А один как комар буквально вьется. Туда-сюда, туда-сюда… Мама говорит:
— Тим, а он не падает, случайно?
— Нет, — говорю. — Конечно, нет…
А он все вьется… И все ниже и ниже… Раньше, в моем детстве, мы жили на дачах «Литгазеты». Я хоть и маленький был, а все леса и поля там обходил-облазил. И дороги запомнил. Наконец, самолет прямо над нами пролетел и завыл страшно.
— Падает! — сказали мы хором.
Через минуту мы уже неслись по проселочным дорогам Хлебникова. Прямо по курсу, выбрасывая клубы черного дыма, опускался в лес Ил-86. Я звонил Митковой и в координацию. Телефоны тогда видео не записывали.
Прогремел взрыв. До предполагаемого места катастрофы было километра полтора. Я свернул с проселочной колеи в чистое поле. Канавы, рытвины, кочки… «Нива» летела как птица. Я вспомнил местность. Дальше в лес.
ЛОМАЯ С РЕВОМ КУСТЫ, МЫ ВОРВАЛИСЬ В ЧАЩУ. В ТЕЛЕФОНЕ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ УЖЕ ГРЕМЕЛА ОТБИВКА ЭКСТРЕННОГО ВЫПУСКА НОВОСТЕЙ. ОЛЯ БЕЛОВА ДРОЖАЩИМ ГОЛОСОМ ДОЧИТЫВАЛА ПОДВОДКУ. МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ…
Я вылетел на поляну. Самолет пылал. Началось прямое включение. «Хрипушка». Это когда корреспондент включается в эфир по телефону. Все каналы, конечно, опаздывали. Спасателей тоже еще не было. Я рассказывал в эфир обо всем, что вижу. Включал свою маму, так как она была единственным свидетелем.
Подойти к самолету было нельзя. Он горел так, что обшивка плавилась и капала на землю. Ко мне, конечно, ехала группа и «флайвей» (специальная машина для выхода в прямой эфир из любой точки). На крыше там еще тарелка.
Я вел своих по телефону лучше современного навигатора. Весь корпункт телекомпании НТВ развернулся на месте катастрофы и уже вел прямой эфир, когда на поляну вломились тяжелые грузовики пожарных и спасателей. Ребята были удивлены нашей прытью и жали руки. Мол, нам бы так успевать… «Первый» и «Россия» подъехали минут через сорок. И тоже стали брать интервью у нас. А у кого? Свидетелей-то больше нет. Этот грустный для российской авиации день был днем моего профессионального триумфа. На нас ссылались все агентства. Уже вечером меня приехал менять другой корреспондент.
Из самолета достали семь мертвецов. Несчастные гнали самолет в ремонт. Больше пассажиров на борту не было. Царство им небесное.
Мы с мамой сели в «Ниву». Салон был обляпан давлеными ягодами. Тканевый. Крылья, двери, капот, крыша и багажник были мятыми. Бампера оторваны. На лобовом стекле трещина. Новая тачка. Из салона.
На спидометре было сто тридцать пять километров. Всего.
Пока это была единственная катастрофа Ил-86 в истории авиации, закончил я свой рассказ.
* * *
Наш самолет плавно коснулся полосы в аэропорту Шереметьево. Слава богу.
В салоне раздался серьезный женский голос: «Господин Бáженов Тимофей! Господин Бáженов Тимофей! Обратитесь к старшему бортпроводнику и проследуйте в зону личного досмотра!»
Самолет развернули в воздухе и посадили из-за нас… Из-за меня… Я, весь красный как свекла, пошел на выход. Но не успел покинуть самолет. Ко мне подошла очаровательная девушка, работница зоны досмотра. Она, улыбаясь, протянула мне топор.
— Это ваше?
— М-мое.
— Заберите, пожалуйста! Вы у нас на ленте забыли.
Она развернулась и спорхнула по трапу.
Я не знал, как быть… Стюард улыбнулся и сказал: «Садитесь на свое место, пожалуйста, и так опаздываем уже…» Я прошел через салон с топором. Сел с топором. Самолет разбегался и набирал высоту. А я сидел с топором.
Посмеялись. Выпили — закусили. Уснули — проснулись. Поели — опять поспали. И вот мы во Владивостоке. Я вышел в город с топором.
Землетрясы
Потом долго добирались до Северокурильска. Там мы увидели несколько картин, которые запомнились и до сих пор долежали на полках моей памяти.
Первое — это коты и кошки. Их там было полно. Они сидели на трубах теплотрасс. Было холодно, и они грелись. Коты там не простые, а бесхвостые. Порода такая. Потом мы выяснили, что их называют «землетрясы». Такое название они получили не просто так. И их огромное количество тоже обусловлено внешними факторами. Все жители региона знают, что без кота и жизнь не та. Здесь без кота можно просто лишиться жизни. В каждом доме их минимум два. Они чуют приближение землетрясения и бегут на улицу. А поскольку землетрясения там через день — курильский землетряс должен быть у каждого. Коты — это первое.
Второе — это огромный деревянный корабль, выброшенный штормом на ледяной пляж. Не остов. А почти целый корабль, будто сошедший с экрана фильма о пиратах Карибского моря. Белый от соли и времени. С мачтами и кубриком. Влитый до середины в мокрый серый песок. Не знаю, лежит ли он сейчас там… Двадцать лет прошло. Наверное, лежит.
Третье — это бомжи. Откуда бомжи на краю света? Не знаю, и местные не знают… Бомжи пришлые, чужие. В городе тогда было полно пустующего и брошенного жилья. Но они форменно бомжевали с котами на трубах.
Мы шли через тихий город к гостинице. Справа от нас была пристань. Там разгружался маленький рыболовецкий сейнер. Контейнеры с рыбой ставили на пирс. Бичи очищали содержимое от примесей. Примесями они считали огромных крабов. Их брезгливо поднимали за огромные шевелящиеся клешни и выкидывали в море.
Мы были голодны. Заселились в номер — один на всех. Мы за ценой не постоим[17]. Было холодно. Не топили. На полу — доски. На стенах — покрытый грибком оргалит[18]. Мокрый потолок провис. Сортир в коридоре. Душа нет. Дверь не запирается.
Пошли в ресторан. Фантазия разыгралась: сейчас бы пива с крабами… Нас встретила подозрительная и неприветливая повариха-официантка-директор.
— Что вам?
— Поесть хотим, с дороги устали.
— Откуда сами?
— Из Москвы…
— С Москвы? — подозрительно переспросила она.
— Ну да… С нее… — сказали мы.
— Для москвичов у нас самое лучшее! — отрезала она, надела пальто и вышла вон.
Мы остались одни в темном банкетном зале, напоминающем коровник. Было тихо. Обсиженная мухами люстра слегка покачивалась. Время шло. Люстра уменьшала амплитуду и в конце концов остановилась. Вошел кот-землетряс и та женщина.
— Куда вы убежали-то? — незлобиво поинтересовались мы. — Даже заказ у нас не приняли…
— За котом ушла, — пояснила женщина. — Сегодня трясет сильно. Может наш отель рухнуть. Вы тоже зря сидели. Как видите, что коты пошли, тоже идите. Что кушать будете?
Нас было десять. И мы почти хором сказали:
— Крабов! Крабов и пива.
Бастинда разозлилась.
— Так, мальчики! Не шутим… заказывайте!
— Так, крабов нам, — пояснил я ответственно.
— Крабов бесплатно с бомжами на пирсе есть будете! У нас тут ресторан. Нормальная еда. Или вы без денег с Москвы приехали?
Мы были наслышаны о дороговизне местного пропитания и подготовились.
— Деньги у нас есть, — скромно и гордо заявил я. — Меню, пожалуйста!
— Нет у нас меню, — передразнила официантка. — Жрать будете или нет?!
— Будем! — хором ответили мы.
— То-то. Тушенка свиная из банок, с картошкой. Самое лучшее! — сказала повариха-официантка-директор.
В принципе, правильно. И тушенка, и картошка были здесь только привозными и считались деликатесами. Пиво и водка стоили одинаково, все привозное, а объем одинаковый — пол-литра. Самое дорогое здесь — вес. Мы решили пить водку. И пили.
Этой ночью земля качалась. И люстры. Никто из нас не помнил, выбегали коты или нет. Мы спали на голых панцирных сетках. Очень сладко. А утром погрузились на маленький рыболовецкий траулер «Интер».
Капитаном судна был поп-расстрига[19]. С окладистой бородой и в шапочке. Судно было японским. Сделано из синего стеклопластика. Очень старое и разбитое. Группа из десяти человек и команда. Плюс наш багаж. Все это в сумме вызвало критическую осадку корабля. Между водой и палубой в самом низком месте было сантиметров десять. Когда выходили в море, капитан читал молитвы и интенсивно крестился.
В акватории была сильная волна. Сильная для нашей скорлупки. Уже скоро через палубу стала перехлестывать вода. Мы подняли сумки с техникой на руки и так дошли до острова Шумшу. Старинный пирс, отлитый еще при императоре Хирохито, стоял как новый. Мы ступили на берег. Бетонная дорога шла за холм. Мы ждали транспорт.
На небольшом возвышении я увидел каменный столбик с иероглифами, спросил у переводчика, что там написано.
ОН ДОЛГО ВГЛЯДЫВАЛСЯ И В КОНЦЕ КОНЦОВ СКАЗАЛ МЕДЛЕННО ПО СЛОГАМ: «ЯПОНИЯ. СЕВЕРНАЯ ОКО-НЕЧ-НОСТЬ ИМ-ПЕ-РИИ. ШУМ-ШУ. ЗЕ-МЛЯ ДЛЯ ЖИ-ЗНИ ЛЮ-ДЕЙ НЕ-ПРИ-ГО-ДНАЯ. ЗДЕСЬ МО-ГУТ ЖИТЬ ТОЛЬ-КО РУС-СКИЕ И АИНЫ».
Я понял, что мы на месте.
Дом Смерти. Царство Анубиса
Из-за холма послышался грохот и лязгание. На огромной скорости на нас выскочила МТЛБэшка (малый тягач легкого бронирования). Гусеницы высекли искры, и мы стали загружаться. Двигатель ревел на предельных оборотах, когда мы лезли на старинную, разрушенную во время Курильского десанта плотину.
Японцы построили это аккуратное сооружение силами пленных корейцев. Перегородили маленькую речку от поселения Беттобу до низа. Мыли золото и разводили там рыбу для командования. Повсюду рос борщевик Сосновского.
Это удивительное растение знакомо даже жителям Подмосковья. Оно попало в среднюю полосу из Америки. Его привез Хрущев с кукурузой. Кукурузу для людей, а борщевик для коров.
Почему Никита Сергеевич тащил его из Америки — непонятно. Здесь, на Дальнем Востоке, он рос всегда. Посадили американский борщевик на полях средней полосы. Убрали. Коровы его ели. Но дохли почему-то… И правда непонятно почему. Растение съедобное. Не зря борщевиком зовут. Можно с ним борщ варить. Когда оно молодое. Но вот если оно дойдет до стадии цветения, могут быть неприятности. Растение выделяет целый комплекс эфиров. Они могут вызывать сильнейшие ожоги. Но происходит это только в жаркие, солнечные дни. Если гулять по борщевику в дождь и в холодину, ничего плохого не случится. Но! Если не выстирать одежду и выйти в ней на улицу, когда погода наладится, получишь свою порцию ожогов. И знать не будешь откуда. Борщевика может уже и не быть рядом.
ШУМШУ — ЭТО ЗАПОВЕДНИК, ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЭТО ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА, ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И, ПОЖАЛУЙ, ОДНО ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ МЕСТ В МИРЕ. ШУМШУ — ДОМ СМЕРТИ.
Мы ехали по острову, и вокруг нас громоздились доты и дзоты. Это огромные бетонные кубы и шестигранники с толщиной стенок по два и три метра. Пулеметные гнезда утоплены в непроницаемый железобетон. Некоторые из них стояли как встарь. Какие-то, наоборот, уже съехали с фундаментов, накренились и ушли вниз с оползнями. Трава была очень зеленой, а небо свинцовое и низкое. Из земли торчали артиллерийские орудия и башни закопанных танков. Там и тут из травы были видны неразорвавшиеся авиационные бомбы.
МТЛБэшка перла, отбрасывая «грудью» ржавые противотанковые ежи, заматывалась клубами старинной колючей проволоки. На дороге и по обочинам хрустели человеческие кости. Прямо по курсу мы увидели упавший самолет. Он был очень стар. Алюминий не так подвержен коррозии, как сталь, поэтому формы сохранились. В ногах у пилота, чьи останки находились в кабине, под пробитым стеклянным колпаком на фюзеляже была нарисована открытая и полная острых зубов красная пасть акулы. В моем шлемофоне щелкнуло, и сквозь рев и шипение я услышал: «Аэрокобра… последняя здесь разбилась… из Америки прилетел, бедняга…»
Мы ехали по минному полю. Мины были или обезвреженными, или испорченными. Водитель, не боясь, пер по целине. Из-под гусениц летели емкости с толуолом, взрыватели, верхние крышки и прочая требуха.
Но все равно не по себе. Каждые пятьдесят-сто метров — танк или самоходка. Все ржавое, допотопное, но лобовая броня — я вам скажу! На некоторых экземплярах встречалась толщиной и по десять сантиметров. Вообще, полное ощущение, что вернулся на землю из долгого космического полета, а тут за это время случилась ядерная война. И все погибли давно. И вот едем мы по этому миру и хрустим костями тех, у кого наследовали землю.
Наконец мы доехали до двух рубероидных сараев. Они стояли в небольшом живописном распадке, в центре острова. Забора не было. Перед постройками были вкопаны два столба с перекладиной, Из перекладины торчали китовые усы. И красные пластиковые буквы были прибиты к ней гвоздями. Надпись гласила: «Беттобу».
— Здесь мы будем жить, — сказал я своим и спрыгнул с брони. Под ногами хрустнуло, я подумал, что это гравий, но оказалось, что это стреляные гильзы. Миллионы гильз.
Мы заселились. Разожгли очаг. Поставили чайник. Установили генератор. У нас появился свет. Пока ребята ставили аппаратуру на зарядку, я взял карабин и пошел осматривать окрестности. Вокруг не было ни души. В речке все копошилось. Я посмотрел, а там рыбы больше, чем воды. Я зашиб камнем четырех. Принес в лагерь. В этот вечер мы ели икру ложками из кастрюли.
А утром пошли в подземелья. Вход туда выглядел не очень ухоженным. Под холм уходила нора величиной с волчью. Ее устье было частично засыпано оползнем. Угадывались бревна, которые некогда держали свод. Мы стали протискиваться внутрь.
Неожиданно ботинки ползшего передо мной бойца исчезли. Послышался шлепок и мат. Я не успел среагировать и понял, что земля подо мной накренилась и я сваливаюсь в пропасть, неожиданно открывшуюся справа от меня. Там, где только что была мокрая земляная стена. Я тяжело упал в лужу рядом с уже успевшим встать коллегой. Высота падения оказалась приличной. Метра два. Мы зажгли фонари.
Здесь помещение было аккуратным и ухоженным. Потолок — на высоте вытянутой руки. Из комнаты, посреди которой мы стояли, в четыре стороны расходились тоннели. Вода — примерно до середины икры. Из пола торчала заточенная ржавая арматура. Потолок над нами зашевелился, и мы увидели, как бетонная плита поворачивается на стальных шарнирах. Сверху в следующую секунду должен был упасть наш третий коллега. Прямо на железный кол. Мы, чавкая грязью, бросились туда и в последнюю секунду оттолкнули летящего человека в сторону.
«Прикольно», — подумали мы.
Колья, предназначавшиеся нам, первопроходцам, очевидно, уже заржавели и упали. И потому мы не корчились сейчас на них, как первые христиане на дороге в Рим. Мы бросились загибать арматуру, а с потолка как раз посыпались остальные члены моей экспедиции. Все остались живы и обошлись без травм.
Мы шли по коридору уже минут тридцать. Стены кое-где сохранили части обшивки. Карты подземелий, которые у нас были, указывали на то, что мы движемся в сторону госпиталя. Определили, что идем по второму уровню минус второго этажа. За всю послевоенную историю острова полные карты подземелий так и не были составлены. А если и были, то до сих пор засекречены.
Шумшу — это самый укрепленный остров-крепость в истории человечества. До Курильского десанта считалось, что его невозможно штурмовать с моря. А основной укрепрайон находится в недрах. Японцы использовали для его строительства рабский труд. Пленные китайцы и корейцы копали и мешали бетон. Нанятые китайцы и корейцы выполняли инженерные функции.
КОГДА ЯПОНЦЫ СОЧЛИ РАБОТУ ЗАКОНЧЕННОЙ И НАСТУПИЛ ЧАС РАСПЛАТЫ, ПОГРУЗИЛИ ВСЕ ЭТО ПОЧТИ МИЛЛИОННОЕ ВОЙСКО НА БАРЖИ. БАРЖИ ВЫВЕЛИ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ И ПОТОПИЛИ ТОРПЕДНЫМИ УДАРАМИ. ТАК ТАЙНЫ И СХЕМЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗНАКОМЫ СТРОИТЕЛЯМ, ПОКИНУЛИ ЭТОТ МИР.
Картами в совершенстве владела верхушка управления островом. Но в момент, когда наши войска заняли Шумшу, все начальники сделали себе сеппуку. Вспороли животы длинными острыми ножиками.
Рядовые японцы выходили из ворот подземной крепости по одному нескончаемой колонной четыре дня. Но вышли не все. В течение девяти лет после окончания войны на острове было электричество. Это означает, что где-то в глубинах, за взорванными перекрытиями, сидели японцы, которые не знали, что их страна капитулировала. Они обслуживали генераторы и подливали в них топливо.
Мы проходили залы с огромными цистернами, там были мазут и солярка. Шли мимо действующего водопровода. Вода текла из кранов в бетонные раковины и ванны. Вода была чистой, но мы не пили и не умывались. В лабиринтах много раз применялось химическое и бактериологическое оружие, и я приказал не рисковать. Мы дошли до больничных палат. Там, конечно, была разруха. Больничные койки с панцирными сетками стояли в беспорядке. На некоторых лежали человеческие останки.
Меня интересовали шкафчики. Я влюбился в военную медицинскую посуду тех лет и собирал коллекцию. Было понятно, что делать это опасно, однако я набил планшетную сумку бутылочками с непонятной жидкостью и притертыми стеклянными пробками.
На госпитале наша карта кончалась. Мы должны были обнаружить проход на минусовые этажи и добраться до радиорубки. Нашей задачей было составить карты вновь исследованных лабиринтов, найти радиорубку и проверить версию о создании в недрах Шумшу телевизионных передатчиков первого поколения. Возможно, при обнаружении такой техники — вывезти ее в Москву для исследований.
Полчища летучих мышей вдруг стали носиться вокруг нас. Я посмотрел наверх и увидел небо. Дневное. А на нем звезды. Я стоял в самом низу вертикальной шахты глубиной метров сорок. Мыши летели оттуда. Естественная вентиляция работала так же хорошо, как и водопровод.
Я насторожился. За весь путь мы не спустились ни по одной лестнице. Высота холма была не такой большой. И это означало, что коридоры уходили вниз по спирали под незначительным уклоном. Мы, скорее всего, находились уже на минус третьем этаже, если не на минус четвертом. Все напряглись и стали смотреть по сторонам.
Мы увидели много любопытного. Первое — это растяжки. Они были повсюду и представляли собой очень интересную конструкцию. В современном мире такие не используются. Небольшая авиабомба или минометный снаряд подвешен за крыльчатку на проволоке. Проволока петлей оттянута вдоль пола. Получается, что устройство срабатывает не после удаления предохранителя, как сейчас делают, а сразу. Бомба клюет носом. И происходит немедленный взрыв. Пол был залит водой, и мы обнаружили, что некоторые плиты шатаются. Под ними предположительно были колья. Все это наводило на мрачные мысли.
Но хуже всего были значки «радиоактивность» и «бактериологическая опасность», которые встречались то на правой, то на левой стене. Вдали коридор раздваивался. Мы шли медленно и осторожно. На развилке разделились. Одна группа ушла направо, а вторая налево. Вскоре мы нашли комнату, отделанную дубом. Очевидно, это был кабинет начальства. За комнатой располагалась уборная. Все работало, кроме слива. Вода лилась постоянно.
За сортиром я обнаружил следы большого взрыва. Стены и перекрытия рухнули, и в соседний коридор можно было только проползти. Мы оказались на той стороне быстро. Вскоре дошли до лифтовой шахты. Клети не было. Она, очевидно, упала. По шахте лился огромный водопад. Температура ощутимо выросла. Сейчас у лифта было градусов тридцать — тридцать пять.
Мы полезли по железным скобам шахты на ту сторону. Выяснилось, что вода в водопаде горячая. Не кипяток, конечно, но на той стороне мы стояли все мокрые и от нас валил пар. Мы пошли дальше и нашли зубной кабинет и в нем труп-скелет. Человек когда-то явно застрелился. Но оружия рядом не было.
Все. Это был тупик. Я нанес его на карту, и мы пошли обратно. На развилке встретились со второй группой. Им повезло больше: они нашли радиорубку и тащили огромную хрень, на которой красовалась надпись «Яэсу». Мощный передатчик радиосигнала. Фирма «Яэсу», кстати, существует и по сей день и занимается производством электротехнических устройств. Это то, что нам было нужно.
Вечером мы обсудили увиденное. Оставалось составить карту. Приняли решение в следующий раз проникнуть под землю в другом месте. За командировку мы обнаружили шесть продуктивных входов и составили карты минус первого, второго, четвертого и шестого этажей. Общая протяженность наших исследований равнялась сорока пяти километрам.
Я принял решение двигаться дальше. Мы провели на острове одиннадцать дней и теперь ждали тяжелый корабль, который должен был забрать с пирса МТЛБэшку, нашу добычу и нас. Мы покидали Шумшу. Дом Смерти.
Дом Жизни. Царство Озириса
На этом командировка не заканчивалась. Теперь мы должны были оказаться на другой стороне Курильской гряды. На ее южной оконечности. Нас ждал Манерон — Дом Жизни.
Но в Дом Жизни, как известно, попасть непросто. Согласно древнему поверью, Домом Смерти управляет псоглавец — существо с человеческим телом и собачьей головой. Имя ему Анубис. А Домом Жизни правит Озирис. Тоже существо мифическое, лишенное эмоций и подловатое. Бесполое человеческое тело венчает голова птицы. И если в Доме Смерти нам встречались лишь облезлые бесхвостые коты-землетрясы, которые выполняли работу псоглавцев, то на Дом Жизни мы возлагали большие надежды.
Манерон — особо охраняемая территория. Природа там должна была оказаться нетронутой. В отличие от Шумшу, Манерон находится на юге. И вторая часть моего путешествия представлялась почти отдыхом.
Меньше чем через неделю корабль, на котором мы совершали плавание, должен был доставить нас в настоящий рай.
Учтя ошибки прошлого, я зафрахтовал довольно большую шхуну с высокими бортами. На нижнюю палубу через аппарель мы загнали наш МТЛБ, внутри которого сложили все имущество, люки загерметизировали и отправились наверх размещаться по каютам.
Каюты оказались очень маленькими. В каждой был небольшой стол, как в железнодорожном купе, и четыре табуретки, привинченные к стенам. На ночь они складывались. В стенах были петли, между которыми на время сна растягивались гамаки, висевшие на карабинах на стене.
Каюты внутри были выкрашены веселенькой оранжевой краской. Этот цвет, очевидно, должен был развлекать пассажиров во время долгих океанских переходов. Но наша молодая психика никак не ответила за все время пути на этот раздражитель. Наверное, потому, что сразу после отплытия мы начали пить ацетон.
Всем известно, что Ван Гог отрезал себе ухо, напившись абсента. Ходят слухи, что виной сему помешательству стала какая-то необычная полынь, имеющая якобы наркотический эффект. На этой траве настаивают абсент. Но это, конечно, не так. В мире существует несколько разновидностей полыни. Но ни одна из них не оказывает дурманящего действия. Вообще, употребить в пищу чернобыльник очень сложно. Так как все эти травы обладают хинной горечью. В абсент траву подмешивают не из-за вкуса, а из-за запаха. Причиной психического расстройства Ван Гога была как раз субстанция, запах которой отбивает полынь. Здесь следует погрузиться в теорию самогоноварения. В любой браге в конце процесса образуются летучие фракции. И первыми во время перегонки летят не спирты, а ацетоны.
Именно поэтому первач в деревнях пьют только лютые алкоголики. Опытные самогонщики первач выливают, так как от него возникают галлюцинации и страшное похмелье. Абсент — это и есть первач, ацетон с сахаром и запахом полыни.
Опираясь на эти знания, капитан корабля закупился в скобяной лавке Северо-Курильска ацетоном.
Вначале мы с недоверием отнеслись к предложению выпить по полчашечки растворителя. Но капитан сказал, что он сто раз так делал.
— Вот вы куксу запариваете? — спросил он, поднимая чашку.
Мои коллеги, которые уже выпили, энергично закивали. На их лицах было написано, что они запаривают куксу не хуже капитана. А я поинтересовался, что такое кукса, наверное, потому, что еще не выпил.
Капитан рассчитывал на этот эффект. И сказал, что они, то есть жители Дальнего Востока, стоят на более высокой ступени развития, чем москвичи. И запаривают куксу уже двадцать лет. Я был заинтригован и выпил.
В ходе беседы выяснилось, что куксой здесь называют доширак и вообще любые макароны быстрого приготовления. Слово появилось от корейского «кукси», то есть суп с длинной лапшой. Действительно, быстро приготовляемая лапша на Дальнем Востоке в те времена была очень распространена. Ее везли из Японии и Китая. И она однозначно была вкуснее доширака, который тогда в Москве только появлялся.
В голове от ацетона сильно помутилось. И капитан, видя нашу неопытность, предложил немедленно запивать бульоном от куксы и заедать макаронами.
Еда очень хорошо сочеталась с питьем. Время летело незаметно. Помню только, что в начале путешествия я определил себе нижний гамак. А пять последних дней проспал в верхнем, так как каждую ночь на меня валились мои сотрудники с верхнего яруса.
Гамаки мы не отстегивали, так как питались вместе в капитанском кубрике. Индивидуальные табуретки и столики в каютах не использовались. Залезть в гамак на верхний ярус и трезвый человек способен не сразу. Гамак верхнего яруса расположен на уровне лица стоящего. В нем нет опоры. Запрыгнуть в него — большое искусство. Но самое сложное — вылезти из гамака. Особенно если прямо под тобой тело твоего товарища, наступать на которое запрещают законы человечности. Не знаю, смог ли бы я сейчас, спустя двадцать лет, совершать такие кульбиты. Думаю — нет. Но и ацетона я с тех пор не пил.
По мере того как мы двигались в сторону юга, погода налаживалась. Снеговые заряды Шумшу гнались за нами двое суток. Но воды приобретали синий цвет. Все чаще выглядывало солнце. Мы совершали каботажное плавание, то есть все время держали в поле зрения землю. И земля эта с каждым днем приобретала новые очертания. Скалистые острова неуклонно сменялись зелеными. Вскоре появились киты. Они то и дело проходили рядом с кораблем и выбрасывали в воздух струи, напоминающие струю из направленного в небо «керхера».
В солнечный день на траверсе Токио китов было особенно много, и я решил спустить шлюпку, чтобы подойти к ним поближе. Когда до китового стада оставалось не более двадцати метров, началась съемка. Я рассказывал о китах, о том, что они вовсе не рыбы, а они плавали вокруг нас, показывая свои серо-синие спины. Некрупная самка, длиной метров одиннадцать, явно получала удовольствие от съемок. Она все ближе подходила к шлюпке, показывала свой горб и шипела. Было решено, что я, произнося речь о китах, попробую потрогать китиху за спину. В очередной раз я изловчился, сказал все без ошибок и, перегнувшись через борт, похлопал ее. Она тут же ушла в пучину морскую. Я был доволен съемками, приказал двигаться к судну и готовиться к швартовке.
СТАЛИ ЗАВОДИТЬ МОТОР. И В ЭТОТ МОМЕНТ НАША ГЕРОИНЯ ВЫПРЫГНУЛА ИЗ ВОДЫ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ. ОНА ВЫСУНУЛАСЬ МЕТРОВ НА ПЯТЬ. И, УЛЫБАЯСЬ, ПЛЮХНУЛАСЬ ОБРАТНО.
Волна подбросила шлюпку, но не перевернула ее. Оператор, сидевший на борту, выронил камеру в соленую воду. Это был самый дорогой «Бетакам». Двухсоставной. Камера «Екигами» и магнитофон «Сони». Шестнадцать килограммов живых денег. По тем временам с комплектом оптики устройство стоило столько, сколько мы могли заработать за десять лет все вместе. Камера не легла на дно. Ее удалось схватить за ремень и вытащить. Съемка пропала.
Сразу по прибытии на корабль мы разобрали камеру и бережно уложили детали в мешки с рисом. Так всегда нужно делать, если радиоэлектронное устройство (например, телефон или камера) попадает в воду. Рис гигроскопичен и забирает влагу из печатных плат. От пресной воды это помогает почти всегда. Но на этот раз нам противостояла соленая. Через день — день грусти — мы собрали камеру. Она заработала. Но картинка навсегда стала синей. Потом, через два месяца, мы уже в Москве понесли заслуженное наказание. Выяснилось, что камера никогда не станет прежней. Ее отправили на далекий корпункт. И еще много лет все новости из того несчастного региона были синеватыми.
У нас с собой было еще несколько комплектов, и я принял решение двигаться к югу. В сторону Манерона. Формального повода для отмены путешествия не было. Хотя команда была не в духе. Все понимали, что по возвращении в столицу нас ждет долговая яма и бедность.
Скоро вдали забрезжил цветущий Манерон. Тропическая растительность огромными шапками скрывала его скалистое тело. На огромном утесе высился маяк, единственное капитальное сооружение на острове. Лоция острова не позволяла подойти к нему быстро. И мы почти целый день лавировали между рифами. Пирса не оказалось. Впоследствии выяснилось, что он был разрушен зимними штормами. Мы выкатили МТЛБ с аппарели прямо в воду. И начали переносить экспедиционное оборудование на берег по броне.
Пляж, на котором шла разгрузка, был очень маленьким, не более десяти метров в ширину и пяти в глубину. Вправо вверх, на скалу, тянулась грунтовая дорога. Ее заросшая колея взбиралась по скалам под невероятным углом. И мы всерьез беспокоились о том, сможет ли взобраться по ней наш броневик.
У каждой бронемашины есть так называемый горный тормоз. Это толстенная рельса, висящая под днищем. Если водитель бронемашины чувствует, что во время переключения передач гусеничный броневик может покатиться назад, он выдергивает чеку. Рельса падает на землю, оставаясь закрепленной только спереди. Таким образом, из-под днища начинает торчать рычаг. Он упирается в землю. Это не дает машине откатываться.
В нашем случае горный тормоз был давно вырезан и, видимо, сдан на металлолом.
Когда разгрузка была закончена, мы забрались на броню и, перекрестившись, со страшным ревом стали залезать на стенку. Механик-водитель решил не переключать скорости. Сизый дым валил из глушителей. Из-под гусениц сыпались искры. И мы на первой передаче двигались к цели.
Дорога петляла. На одном из участков серпантина увидели, что навстречу нам несется 131-й «ЗИЛ». Без кузова, капота, стекол и на спущенных колесах. Его сопровождала стая разношерстных собак. Очевидно, они лаяли. Но мы из-за рева двигателя этого не слышали. Когда столкновение стало неизбежно, мы посыпались с брони в заросли борщевика. Машины ударились друг об друга. МТЛБ заглох. И, набирая скорость, покатился назад. В наступившей оглушительной тишине мы наблюдали, как грузовик гонится за броневиком, поддавая его бампером. И веселые собаки, визгливо заглушая друг друга, несутся за машинами к пляжу.
Обошлось без жертв. На пляже мы поздоровались с водителем «ЗИЛа». Выяснилось, что он смотритель маяка. В его машине тормоза отсутствовали вовсе. Но он не использовал их даже в те далекие годы, когда они были. Двигатель он тоже не заводил, так как дорога к пирсу идет под гору. И расходовать топливо нерационально. Он поехал на пляж, так как думал, что корабль привез продукты.
В те годы завоз был нерегулярным. Связь отсутствовала. И местный Робинзон радовался каждому кораблю, шедшему к острову.
На пляже мы завели «ЗИЛ», развернули его и начали второе восхождение.
Примерно через час мы благополучно добрались до маяка. Разгрузились. И отдали смотрителю все, что могло представлять для него ценность, а для нас в конце путешествия было лишним грузом. Доширак, картошку, консервы, алкоголь и лекарства.
Познакомились с женой маячника. И козой. Коза считалась на острове существом высшего порядка, почти человеком. В отличие от собак, она выслушивала длинные монологи смотрителя, никогда ему не перечила. Чего он не сказал о супруге.
План работы на Манероне был разработан еще в Москве, и я старался не отступать от него. Всю первую неделю мы посвятили изучению фауны и флоры острова.
Манерон был площадкой для подготовки совсем другого фильма, не того, для которого мы снимали на Шумшу. Ведь Шумшу называется Островом Зла, Домом Смерти. А Манерон напротив, Дом Жизни. Там были танки, гильзы, ловушки на холоде. А здесь птицы и цветы в тепле.
Целыми днями мы работали на лоне острова и возвращались в лагерь к маяку только под вечер, заводили генератор, заряжали батарейки и ужинали.
Для меня длительное общение с изголодавшимся по человеческому обществу островитянином было работой. И я старался отдаваться разговорам не слишком долго.
Алкоголь очень способствовал реализации моего плана. Коза сменяла меня во втором часу ночи. Я шел спать. А смотритель не замечал подмены.
Когда съемки на поверхности острова были закончены, мы перешли ко второй, и заключительной части нашего путешествия. А именно, к подводной. С собой у нас было все необходимое для дайвинга и глубоководных съемок. Мы притащили даже компрессорную станцию для забивки баллонов. Погружения шли одно за другим. Вода вокруг Манерона идеально прозрачная. Был штиль и солнышко. Камеры работали в боксах хорошо. Это меня радовало. Так как в те времена еще не существовало заводских боксов для профессиональной техники, перед командировкой мы сами изготовили боксы из толстого оргстекла. Испытания проводили в бассейне «Олимпийский». И я не был уверен в надежности изготовленных мною девайсов.
Один из членов нашей команды очень любил плавать. И каждое утро, надев очки и специальную шапочку, отправлялся в открытое море, где плавал саженками туда-сюда.
В один из дней, когда мы уже были готовы к погружениям, план дал сбой. Наш спортсмен не вернулся вовремя. Мы не сильно волновались, так как видели на горизонте его оранжевую шапку.
Я был раздражен. Меня бесило то, что пловец не следит за временем и купается, когда уже давно пора работать. Примерно через час мы накачали лодку и отправились к нему, чтобы прекратить затянувшуюся развлекательную программу. Я возглавил экспедицию, так как хотел сделать выговор лично.
Когда мы догребли до спортсмена, нашли его без сознания. Вся правая сторона парализована. И как он держался на воде — вообще непонятно.
Мы втащили коллегу в лодку. Довезли до берега. Его лицо было искажено инсультной гримасой. Через некоторое время он пришел в себя и рассказал о причинах своей беды.
Оказывается, находясь в открытом море, он не смотрел, куда плывет. И напоролся на зарубленную винтами проходящего судна ядовитую медузу. Ее стрекательные щупальца были раскинуты на несколько метров вокруг конвульсирующего тела. И хотя тварь была уже мертва, щупальца ошпарили подмышку пловца.
ЯД НЕКОТОРЫХ МЕДУЗ ОЧЕНЬ СИЛЕН. УКУС НАПОМИНАЕТ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ИЛИ СХОЖ С УКУСОМ ЯДОВИТОЙ ЗМЕИ.
Меня часто спрашивают, как отличить, укусила ядовитая змея или неядовитая. Ответ очень прост. Укус ядовитой змеи — любой — крайне болезненный. Если не очень больно, то и опасность невелика.
Но с отравлением медузой я сталкивался в первый раз.
Эту книгу в самом начале я посвятил моей бабушке, Валентине Алексеевне Ивановой. Она была доктором, терапевтом. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что должен был тоже стать врачом. Так как всегда имел к этому склонность и охотно учился у бабушки всему. Однако она на этом не настояла. И я пошел по другому пути.
В любом случае я многому у нее научился. Принципы оказания первой помощи, диагностика распространенных заболеваний, лекарства, помогающие от них, навсегда засели в моей памяти. Я запомнил ее уроки. По травматологии и хирургии. Анатомия млекопитающих и человека навсегда стала моим любимым предметом в биологии.
Так получается, что во всех моих путешествиях роль экспедиционного врача выполняю я. И аптечку тоже собираю сам. Как всегда, в моей аптечке был димедрол в ампулах и фенкарол в таблетках. Поскольку ситуация была критической, я применил оба лекарства. Десять таблеток фенкарола мы раздавили в порошок в столовой ложке и всыпали в рот пострадавшему. В сочетании с димедролом мое лечение погрузило больного в летаргию.
ВСЕ, КРОМЕ МЕНЯ, ДУМАЛИ, ЧТО Я ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ. И ВОЛНОВАЛИСЬ НЕ ОЧЕНЬ. Я ЖЕ РАССТРАИВАЛСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. ТАК КАК МОЙ БОЛЬНОЙ ЯВНО ОТДАВАЛ БОГУ ДУШУ.
ЕГО ДЫХАНИЕ БЫЛО РЕДКИМ И АГОНИЧЕСКИМ. ОН ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ. ПУЛЬС БЫЛ НИТЕВИДНЫМ И ПОЧТИ НЕ ПРОЩУПЫВАЛСЯ. МЕСТО УКУСА СТАЛО ПУНЦОВО-ФИОЛЕТОВЫМ. ПЯТНО РАСПОЛЗАЛОСЬ ОТ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ БИЦЕПСА ЧЕРЕЗ ПОДМЫШКУ НА РЕБРА.
Надевать в этих условиях акваланги и погружаться было бы странно. Всей команде я объявил выходной. Полевой госпиталь развернул на пляже. Мои сотрудники разбрелись по острову, оставив меня у постели больного.
Я смотрел на воду. И вдруг обнаружил всплывающего водолаза. Сначала я подумал, что это кто-то особо ответственный из моей команды все же решил продолжить съемки. Но вскоре понял, что костюм на водолазе гражданский — неопреновый. Мы же ныряли в военных, резиновых. Водолаз вышел на берег. Оказалось, что это браконьер. В его руке была большая сетка с трепангами. Он объяснил, что уплыть он уже не может, потому что в баллонах закончился воздух. А их браконьерская шхуна стоит в бухте за мысом. Я объяснил ему всю тяжесть его провинностей. Рассказал о сути особо охраняемой территории и о наказании, которое ждет его за незаконный сбыт копошащихся червей китайским дилерам.
Браконьер был безутешен. И согласился пойти на сделку. В результате в течение трех дней, пока я занимался выхаживанием больного, с моей командой вместо меня ныряли захваченные браконьеры. Они оказались настоящими профессионалами. Хорошо знали рельеф дна и местонахождение интересующих нас жителей морских глубин.
Съемки удались. Укушенный выздоровел. И в последний день перед отплытием браконьеры накрыли нам роскошный стол, уставленный блюдами из запрещенных к лову морских гадов.
Все ели. Но мне не понравилось. Особенно отвратительными мне показались трепанги и морские гребешки.
Гребешок — это раковина размером с суповую тарелку, плоская. Ее нужно поддеть ножом и раскрыть. Когда появляется щель, моллюск пищит. Тут нужно беречь пальцы. Если нож сорвется, раковина захлопнется вместе с пальцами и прищемит их как дверью. Когда раковина раскрыта, в ее центре обнаруживается круглая «котлета» морковного цвета. Размером с горло граненого стакана, толщиной в полтора-два сантиметра. «Котлетка» пульсирует и дергается. Ее нужно вырвать пальцами, обмакнуть в соевый соус, размешанный с острым перцем, запихать в рот и запить водкой. По вкусу тварь напоминает сгусток крови. По тактильным ощущениям — густую соплю.
Браконьеры считают это блюдо очень вкусным и полезным. Говорят, что чистый белок. А я всегда любил желтки. На столе мне понравилась только водка.
* * *
P.S. День рождения у меня 25 января. А у Парфенова 27-го. Праздновали 26-го в редакции программы «Намедни». Я подарил ему тот топор, с которым облетел всю землю. Этот топор был интересен тем, что обладал полной невидимостью для контролирующих в аэропортах. Меня обыскивали, заставляли выкладывать мелочь из кармана. Во время обысков я поднимал руки. И в правой руке держал топор. И всегда мне говорили: «Проходите, пожалуйста». Парфенов не знал, что делать с топором. И он пылился в его кабинете до бесславного краха карьеры. После закрытия «Намедни» топор, видимо, выбросили новые владельцы помещения. Я очень жалею, что он ко мне не вернулся.
Парфенов подарил мне попугайский галстук. Очень дорогой, с ниткой. Я никогда не умел завязывать галстуки. Но знал, что многие работники «Намедни» — большие мастера в этом деле. Я решил порадовать дарителя и надеть галстук. Завязать узел я попросил Павла Лобкова (российский журналист). Тогда были модны большие узлы. Лобков спросил: «Тебе побольше или поменьше?» Я ответил: «Не знаю». Лобков сказал: «Покажи мне средний палец на правой руке». Я охотно показал ему фак. «Тебе поменьше», — разочарованно сказал Паша.
После праздника я тот галстук выбросил.
И долго вытирал руки об штаны.
МУЖЧИНА, НАХОДЯСЬ МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ, ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ХЛАДНОКРОВНЫМ
Глава 14 Туманная страна
К нынешнему моменту я объехал большую часть мира. А события, о которых я расскажу, относятся к тому периоду, когда я не был еще так искушен в путешествиях.
После того как я успешно вернулся из Гватемалы, и мне, и моим начальникам стало казаться, что я неубиваемый терминатор. И поэтому следующую командировку мне выписали в Камбоджу. Эта страна и сейчас одним своим названием приводит неопытных путешественников в трепет. А в те времена поездка туда была похожа на командировку в преисподнюю.
Страна минно-взрывной травмы и ядовитых змей. Страна гражданской войны и геноцида. Азиатских инфекций и коварства. Страна, залитая химическим оружием и «Агентом оранжем»[20]. Голод, нищета, работорговля. Это лишь небольшой список опасностей, о которых мы знали, отправляясь в первое путешествие.
Мы ехали ловить ядовитых змей. Две из которых — водяные. А значит, ловить их предстояло, ныряя в мутные воды камбоджийских болот.
Мировой дьюти-фри
Первая пересадка была в аэропорту Дубай. Сейчас там все не так. А в те времена аэропорт произвел на меня сильнейшее впечатление.
Он был размером с небольшой город. И весь был зоной беспошлинной торговли. Раньше мне казалось, что в дьюти-фри продают духи, алкоголь, шоколадки и магнитики на холодильник. В Дубае я увидел новую реальность. Там продавали все: от гвоздей до автомобилей. От живых верблюдов до наложниц. И все — без пошлин. Денег у меня было много. Я вез их в носке за пазухой. В принципе, по платежеспособности не отличался от шейхов, водивших за собой гаремы по бескрайним просторам дубайского дьюти-фри.
За мной тоже ходил отряд. Худые сутулые мужики с облезшими до крови лбами и носами. Перед Камбоджей мы съездили в командировку на Эльбрус, где в горных снегах зверски обгорели. Мы подозрительно оглядывали раскинувшийся вокруг нас эмиратский базар. Купить хотелось все, но мы искали алкоголь. А вот с ним в аэропорту было гораздо хуже, чем сейчас.
На ерунду решено было деньги не тратить. Ведь в преисподней надо было на что-то жить. А большая часть носка вообще считалась неприкосновенным запасом: это были деньги на эвакуацию.
В России в те времена не было нынешнего взаимопонимания между мусульманами и христианами. И мы, не раз бывавшие на Кавказе, ощущали себя здесь беззащитными, словно в логове врага.
По роскошным развалам дьюти-фри бродили странные личности. Один из таких персонажей безошибочно узнал в моем отряде своих клиентов. Али оказался бутлегером — подпольным торговцем незаконным алкоголем. Одет он был в белые простыни. На голове у него тоже была простыня, придавленная ко лбу жгутиком разноцветной ткани. За ним семенили два существа, наряженные его женами. Их черные одеяния полностью скрывали все очертания. И его белые одежды, и их черные были нечисты. Пыль и потеки на них были ерундой по сравнению с запахом, который источала троица. Когда мы договорились о цене, вся компания отправилась в сортир.
МЫ УДИВИЛИСЬ, КОГДА В МУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С НАМИ ЗАШЛИ И ЖЕНЩИНЫ. БУТЛЕГЕР БЫСТРО ПРОБЕЖАЛСЯ ПО КАБИНКАМ, ПРОВЕРЯЯ, НЕТ ЛИ КОГО. И ЕГО ЖЕНЫ ЗАДРАЛИ ПОДОЛЫ.
Выяснилось, что под одеяниями они обвешаны бутылками, как шахидки взрывчаткой. Их вонючие прелести скрывались под батареей виски и джинов. Даже на сатиновых нечистых панталонах были нашиты кармашки для маленьких бутылочек-мерзавчиков с авиаалкоголем. Мы очень обрадовались и обрадовали из носка Али и его жен. «Алкашка» была перелита над унитазом в бутылки из-под спрайта, и мы отправились искать свой гейт.
Следующая посадка была в Бангкоке. Контора знала, как мы рискуем, и отправляла нас как в последний путь — с почестями. И потому мы летели бизнес-классом. С нами это случилось впервые, и мы были шокированы известием, что весь алкоголь на борту — бесплатно и можно себя не ограничивать. Мы бережно упаковали нелегальную дебурлыгу в рюкзаки и стали набивать карманы маленькими и очень красивыми бутылочками с дорогими напитками. Да — мы солдатня. Мы выглядели дикарями и смотрелись в бизнес-классе как мухи в сметане. Но каждый из нас понимал, что в нашей жизни это может не повториться, а для всех, кто смотрит на нас, мы — мимолетное развлечение. Мы как инопланетяне появились в этих креслах и исчезнем навсегда. Кто знает, быть может, сейчас потомок Фирдоуси или Низами пишет свои воспоминания справа налево. И описывает встречу с дикарями в самолете. Удачи ему. Я думаю, наши читатели не пересекутся. Хотя это было бы забавно, наверное.
«Катарские авиалинии» плавно покатились по полосе Бангкока. Нас первыми пригласили на выход через рукав. Мы подхватили рюкзаки, взяли по стаканчику халявного мороженого и, улыбаясь, вышли в трансферную зону. Густая жара обняла нас. Интересно, почему у них кондиционеры не работают? Этот вопрос мы довольно долго обсуждали, пока не посмотрели на потолок. Потолка не было. Над нами открытое пасмурное небо Таиланда. Раньше мы и не знали, что в аэропорту может не быть крыши.
Градусник показывал плюс тридцать пять. Мы очень обрадовались. Мы улетали из Москвы десятого января. Нам хотелось лета. И не простого, а самого знойного. Разница с Дубаем составила десять градусов. А мы знали — в Пномпене будет еще теплее. Нам казалось, что мы хотим этого…
Бангкокский аэропорт тоже очень изменился за прошедшие годы. Я часто там бываю и отмечаю с грустью, что участков без крыши стало значительно меньше. Чудесный запах Азии сменился теперь всепроникающим запахом Америки.
А пока… Пока мы стояли посреди зала, хотя нет… посреди прекрасного дворика и думали о том, как попасть на рейс до Пномпеня. Стены были увиты бугенвиллеями, из щелей торчали непентесы. Над нами каждые десять секунд грохотали самолеты, а в промежутках между посадочным ревом доносился гул Бангкока. Тогда он казался нам опасным.
ЛИШЬ СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО АЗИИ МЫ ПОНЯЛИ, КАКОЕ ПРЕКРАСНОЕ СПОКОЙСТВИЕ НЕСЕТ НЕУМОЛЧНЫЙ ШУМ АЗИАТСКИХ МЕГАПОЛИСОВ.
К нам подошла маленькая девушка. Она безошибочно признала во мне вождя. Взялась за лямку рюкзака и стала тянуть. Мы не понимали, чего ей от нас нужно. И наконец один из нас услышал в ее птичьем лепетании слово «Кампучия». Мы пошли за ней. Минуя охрану и досмотры, мы вышли на поле и сели в трехколесный мопед — тук-тук. Мотор взревел, и мы понеслись по взлетно-посадочной полосе. Водитель лихо обгонял аэропортовскую технику, мы проскакивали между колес у садящихся самолетов. Подрезали справа и слева автобусы, заправщики и пожарки. Все гудели нам, и мы гудели всем. Мопед вырвался с бетонной полосы и помчался по пожелтевшему от жары газону. Скоро скошенная часть осталась вдали. Мы неслись по кочкам. По высоченной желтой осоке. Мы все еще были на территории аэропорта, но цивилизация осталась позади. Впереди был овраг, за ним свалка старых самолетов и вертолетов и забор из колючей проволоки. И солдаты с овчарками…
Мопед скрипнул тормозами. Девушка потянула меня за лямку к оврагу. Она улыбалась. Два огромных косметических зуба на верхней челюсти ее ротика мерцали путеводными звездами.
— Кампутия-Кампутия, — лепетала она.
Отряд пошел за мной по траве. Мы перелезли овраг и направились к свалке самолетов. Пот катился градом. Девушка остановилась и указала рукой на помойку.
— Кампутия хорошо! — сказала она неожиданно и унеслась на тук-туке, поднимая клубы рыжей пыли.
На одном крыле и честном слове
Мы мрачно двинулись вперед. Вскоре из-за разрушенного «Эйрбаса» вышел бородатый европеец. Он был в потрепанном летном костюме и улыбался. Знаки различия говорили о том, что он капрал. Хотя непонятно, его ли это был костюм вообще. Он говорил по-французски. Мы поздоровались. Европеец сообщил, что мы прибыли верно, что он командир воздушного судна и через полчаса выполнит рейс Бангкок — Пномпень по расписанию. Сейчас его самолет проходит регулярное техническое обслуживание и заправку. Командир сказал, что мы единственные пассажиры. Ждать никого не надо. И поинтересовался, нет ли у нас выпить. У нас было. Мы пошли в тенек, под крыло разрушенного самолета. Когда выпили по первой, я поинтересовался, где наш борт. Пилот показал нам на самолет, криво стоявший посреди свалки. Его правый двигатель был разобран. Стоя на шатких деревянных лестницах, в двигателе ковырялись местные. Их головы были укрыты клетчатыми платками. На лицах — медицинские маски. Черные ручки то и дело вытаскивали из двигателя кусочки и кидали в пыль. Приехала поливальная машина. Один из работничков обстоятельно слез с лестницы, протянул из нее шланг, и над помойкой поплыло жаркое бензиновое марево. Работнички закурили.
— Готово! — сказал пилот. — Сейчас заправят, и полетим.
— А не взорвется? — опасливо спросил я.
— Нет! У них не взрывается… — засмеялся пьяненький француз. И пригласил нас на борт.
Мы стали тушить сигареты, но он сказал, что это лишнее. Салон курящий. Мы полезли в самолет. Спинки кресел не держались. Расселись на удобные места. Пилот начал готовиться к взлету. Турбины изрыгнули черный дым, и самолет, оттолкнув крылом деревянные лестницы, медленно поехал по помойке. Я обратил внимание капитана на то, что правый двигатель недособран. И на то, что многие запчасти остались в пыли. И еще на то, что капот открыт. Пилот махнул рукой и ответил, что это ерунда. И он тысячу раз так делал. Мы уже быстро ехали по траве, скоро начался бетон. Игнорируя разметку, наш лайнер, дрожа и колыхаясь, поднялся в пасмурное небо Таиланда.
Мы начали разворот на малой высоте. Прошли над крышами одноэтажных хижин, едва не задев их крылом, и взяли курс на Камбоджу. Взлетать выше не спешили. Ехали по небу медленно. Как по кочкам. Пилот сказал, что это его самолет. И он не может летать высоко. Потому что не убираются шасси. А ремонт он предпочитает всегда делать в Таиланде, так как по международным летным правилам ремонт выполняет та страна, на территории которой произошла поломка. И он с любой поломкой всегда тянет до Бангкока. Они давно знают эту хитрость и потому сажают его на неудобья и дают самых неопрятных слесарей. Но дело делают.
Вообще-то до места лететь час. Но мы летели три. Нужны высота и скорость. Этого у нас не было. Зато страну посмотрели. Под нами тянулись джунгли и эдафические саванны, красно-бурый Меконг катил свои воды, мы поднатужились и приподнялись над Слоновыми горами, едва не цепляя крыльями за диптерокарпусы и альстонии, миновали дождевые леса, прошли над Ангкором и плавучими чамскими поселениями. Пролетели Сап, Басак и озеро Тонлесап, прошли над Беун Меок Тенле — лицом четырех рек… Все это я видел тогда впервые. И второй раз эти ощущения я испытал через много лет, когда смотрел фильм «Аватар».
Посадка в аэропорту Пномпеня была жесткой. Оно и понятно. Ведь стойки шасси у нас были заварены. Аэропорт в те времена был очень уютным, маленьким, деревянным. Вместо кондиционеров под крышей крутились огромные, обсиженные мухами вентиляторы.
Солнце село, и работники аэропорта надели теплые свитеры. Было плюс сорок пять.
Мы быстро получили штампы и вышли в город. За нами на микроавтобусе приехал парень по имени Путь Хера. Он сносно разговаривал по-русски. Выяснилось, что никакой он не парень, а старше нас всех. В полпотовские времена вся его семья погибла от голода. А его привезли в СССР и стали учить на механизатора. Тхера, а именно так он попросил себя называть, учился хорошо. И первым делом узнал, что означает по-русски его имя. И еще тогда придумал сокращение, чтобы оно не звучало обидно.
Несмотря на то что среди нас был человек, говорящий по-кхмерски, Тхера просил разговаривать с ним на русском языке, так как очень скучал без практики.
* * *
Интересна история о том, как Тхера изучал русский язык в СССР. Их всех, детей Камбоджи и Вьетнама, привезли в огромный лагерь под Волгоградом. Учителя не говорили на их языках. Все предметы были на русском. И для начала их учили по картинкам, как инопланетян. Беда в том, что многих предметов, изображенных на картинках, они в жизни не видели. Они запоминали слова «елка», «снег», но значение этих слов дошло до них только через несколько месяцев, когда наступила зима.
В Азии нет ягод. Только фрукты. И поэтому значение слова «клубничка» Тхера узнал только через год. Картинку он увидел в августе. Вся еда казалась ему невкусной и инопланетной. Например, хлеб. Его в Камбодже и сейчас почти не пекут. А начали лет пять назад.
Тхера никогда не пробовал картошки, колбасы, никакой каши, кроме рисовой. Наши супы казались ему едой для свиней, даже после голода. Он не видел теплых вещей и не знал, для чего они нужны. Не представлял, зачем в окнах два стекла. И зачем нужны батареи. Укроп, петрушка и иная зелень Тхере понравились. Однако он не представлял себе, что уже в сентябре все это исчезнет. Единственный знакомый плод, огурец, был большой редкостью. Соленый томатный сок вообще поражал: в Азии томатный сок сладкий.
«Русские не едят насекомых» — это первое, что он сообщил соотечественникам, когда вернулся. В общем, полюбил Россию студент…
Запах и вкус
По случаю приезда мы отправились в ресторан. Оставили вещи в машине и пошли пешком к набережной через засыпающий Желтый рынок. Сейчас этот рынок называется «русским», так как на него приезжают наши коммивояжеры за тряпками, золотом и антиквариатом. А тогда во всей Камбодже о наличии русских в мире знали человек двести. В школах на уроках географии детям показывали фотографии глобуса, где Камбоджа находилась по центру. А следовательно, все остальные страны были ничтожно маленькими или вовсе не существовали.
Улицы, по которым мы шли, были земляными. Асфальт был снят и аккуратно уложен стопками на тротуарах. Его еще не успели закатать после Пол Пота. Он приказал вскрыть проезжие части и засадить кукурузой. А кто против — расстрелять. У него были и другие методы погубления жителей. Но о них я расскажу позже.
Запах Камбоджи особенный. И в те годы, когда мы шли по земляным улицам к реке, он был сильнее всего. В Пномпене арычная канализация. То есть нечистоты текут по канавам, прорытым по обе стороны дорог. Арыки накрыты бетонными плитами — это и есть тротуары. Но ходить по ним нельзя — плиты могут треснуть и провалиться, хорошего в этом мало. Запах гниения и канализации преобладает, но смешивается с запахом благовоний, горящих в маленьких алтарях перед каждым домом. И с запахом кухни — по вечерам здесь готовят везде. Сильно пахнет свежей пресной водой Меконг — самая большая река Юго-Восточной Азии. Запах Меконга распространяется по всей Камбодже.
ТЕПЕРЬ, КОГДА МЕНЯ СПРАШИВАЮТ, ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ АЗИЮ, Я ВСЕГДА ГОВОРЮ: «ВО-ПЕРВЫХ, ЗА ЗАПАХ».
Мы дошли до ресторана. Классический старинный пномпеньский дом. Первый этаж — бизнес хозяев. Не имеет передней стены. На ночь закрывается раздвижными решетками. Справа и слева такие же дома. Гробовая мастерская и ремонт мопедов. В глубине первого этажа лестница. Перед ней, если тебя пригласили в дом, нужно снять обувь и подниматься в квартиру босиком. В нашем случае первый этаж — ресторан.
Восемь столов из крепкого красного дерева, покрытых клеенкой. На столах соевый соус и палочки в стакане. Пусто. В глубине за столиком сидит пьяный европеец с проституткой. Проститутки в Камбодже очень ответственные. И сейчас, когда клиент дошел до свинского состояния, она за него отвечает. Смотрит, чтобы он не упал, чтобы его не обчистили уличные воришки. Она заплатит по счетам, выстирает одежду, не станет заводить интрижек до тех пор, пока их короткий роман не прекратится.
Хозяева ресторана — пожилые китайцы. Ресторан существовал и при Пол Поте. Это место всегда было защищено от невзгод. В Азии можно решить любую проблему. Богатые люди всегда ели здесь.
Мы сдвинули столы, так как компания большая. К нам присоединились друзья Тхеры и люди, с которыми я договаривался о встрече еще из Москвы. Мы понимали, что нам предстоит есть палочками, но никто не умел этого делать. Заказывал Тхера. Нам принесли суп, жареную рыбу, креветок в тесте, жареных лягушек и еще много непонятных блюд. Для нас было открытием, что гущу из супа следует выкидывать. Более пятидесяти трав и корней, которые кхмеры кладут в кастрюлю, находятся там только ради бульона. Выедать из супа следует только рубленые куриные головы, куски рыбы, свиные потроха. Бульон нужно выпивать через край.
С НЕПРИВЫЧКИ ПАЛЬЦЫ ОТ ПАЛОЧЕК БОЛЯТ И ОЧЕНЬ СЛОЖНО ДОНЕСТИ ДО РТА ТО, ЧТО С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ ПАЛОЧКАМИ ПОДЦЕПИЛ. ИЗ-ЗА ЭТОГО МЫ ЕЛИ ОЧЕНЬ ДОЛГО.
Наши кхмерские друзья уже закончили, довольно рыгали, ковыряли палочками в зубах и посмеивались над нашей неуклюжестью.
Скромная и привлекательная девушка Юи сидела на дальнем углу стола. И делала резкие движения правой рукой, в которой были зажаты палочки. Она щелкала палочками то над головой, то над столом, после чего скромно прятала руки под скатерть. Я спросил у Тхеры, что она делает. И он ответил: ловит мух. В этот момент мы поняли, что мастерству владения палочками нет пределов. А ловкость кхмеров находится за гранью понимания белых. Я заглянул под стол. И увидел там аккуратную кучку мертвых насекомых. Судя по всему, она ни разу не промахнулась. Ее роль за столом определялась именно ловлей мух. Так они создавали в наших глазах благоприятный имидж своей страны.
Часто можно слышать, как горе-путешественники рассказывают о том, что азиаты нечистоплотны. И якобы поэтому для профилактики кишечных заболеваний едят острую пищу. Ответственно заявляю, что это собачья чушь. Даже самый распоследний бездомный в Камбодже моется три раза в день с мылом. И стирает одежду. Перец не имеет никаких бактерицидных свойств. Причина обильного употребления перца в Азии другая. Они не пекут хлеба. Его главная замена — рис. Если не употреблять перец, человек быстро умирает от запора. Перец — сильнейшее слабительное. Иностранцы, которые просят в Азии подавать им все «ноу спайси», в следующий раз испражняются только дома, через три дня после отпуска. А если дрищут, то только от собственных немытых рук.
Я люблю острое. Со мной в той поездке был мой друг и коллега таджик Саид. Мы были молоды и выпендривались друг перед другом. Еда была и без того острой, а мы добавляли туда еще острые соусы и следили за взаимной реакцией. Кхмерам нравилось, что мы не боимся остроты. И мы попросили принести самый жгучий соус. Это был свежевыжатый перцовый сок из малюсеньких красных перчиков. Мы обильно полили им рис. И стали есть, глядя друг на друга. Почти сразу мы стали икать. Это ответная реакция организма на ожог диафрагмы. Так бывает, когда выпьешь чистого спирта. В глазах было темно, пот тек ручьями. Но мы ели. Когда с этим блюдом было покончено, к нам вышли пожилые китайцы, хозяева ресторана. Они молча жали нам руки и кланялись. Мы дружим до сих пор. И только в прошлом году они признались мне, что тот соус ни кхмеры, ни китайцы не едят. Он служит только для смачивания палочек. Вся еда, которую берут такими палочками, становится достаточно острой.
Мы поливали рис не только из выпендрежа. Это было главное блюдо, а есть его без специальной подготовки нам было тяжело.
Выглядело оно так.
На большом плоском блюде была выложена полукруглая горка риса. Величиной с половину футбольного мяча. Сверху эта горка была посыпана квашеными муравьями. А по кругу были воткнуты кресты из бамбуковых палочек. На крестах висели распятые гигантские шпорцевые лягушки, освобожденные от кожи. Анатомия лягушки очень похожа на человеческую. Животы у лягушек были вспороты, кишечник размотан по поверхности риса. Полость живота была заполнена прохоком. Самих лягушек облили спиртом и подавали горящими на крестах.
Теперь о том, что такое прохок и как его готовят. По-другому это блюдо называется «рыбный творог». Или «ферментированная рыба». Дети ловят в лужах мальков. Этих мальков зашивают в плотные шелковые мешочки. Мешочки вешают на солнце. Дневные температуры заходят далеко за пятьдесят при влажности сто процентов. Мальки быстро тухнут в мешочках. Прилетают мухи. И откладывают свои яйца через ткань. Личинки вылупляются и едят тухлую рыбу. Превращаются в мух и хотят улететь. Но не тут-то было: они не могут преодолеть плотный шелк и там же умирают. Прилетают другие мухи и откладывают свои яйца в мертвых мух и тухлую рыбу. Цикл повторяется вновь и вновь.
Прохок готовится сорок дней. Мешочек постоянно раздувается. Так как вход в него есть, а выхода нет. С мешочка постоянно капает коричневая зловонная жидкость. Ее бережно собирают в бутылки — это знаменитый азиатский рыбный соус. Его добавляют во все блюда. Через сорок дней мешочек вспарывают. В нем обнаруживается плотная бело-серая масса с черными вкраплениями. Вонь не имеет аналогов в мире. По вкусу же блюдо сильно напоминает сыр рокфор. Но гораздо острее, кислее и солонее.
Вот почему мы с Саидом так жадно пили перцовый сок.
Потом я еще не раз вернусь к рассказам о кхмерской кухне. А сейчас мы отправились спать в гостиницу «Льон Д Ор», которая, как оказалось, славилась на всю Камбоджу как притон педофилов. Мерзавцы со всего мира ехали туда, чтобы делать свое черное дело, быть за это битыми и посаженными непременно в местную тюрьму.
…Утром я вышел пить кофе к подъезду гостиницы. Кресла из ротанга стояли прямо на проезжей части. Несмотря на ранний час, город уже проснулся. Светило жаркое солнце. Мимо меня шли торговцы на рынок. Несли огромные связки смотанных между собой куриц, проезжали мопеды, где, кроме водителя, сидели живые свиньи. Через некоторое время ко мне присоединился скептически настроенный итальянец. Больше всего на свете он боялся нищих-деньгопросов. В каком-то путеводителе он вычитал, что орды этих деклассированных элементов нападают на белых путешественников и раздевают их до нитки. Нищих вокруг нас не было. Но он шарахался ото всех, кто к нам приближался. Я объяснял ему, что его страхи неоправданны. И тут к нам подошли два буддистских монаха в оранжевых одеяниях с оранжевыми зонтиками. Они стали читать мантры и протягивать небольшую сумку свекольного цвета. Итальянец громко заблажил «полиция!» и стал прятаться за мою спину. Монахи улыбнулись и пошли дальше. Мне было стыдно. Они подумали, что мы вместе. А я не имел возможности объяснить им ситуацию и объяснить итальянцу, что у них вомбата — они просят еду, которую потом делят на всю монастырскую братию. А деньги им брать в руки вообще запрещено.
Когда мы покидали Камбоджу через три недели, мы опять ночевали в «Льон Д Оре». Я спросил у местных, где тот итальянец. И они спокойно ответили, что он уже полмесяца в тюрьме. В день нашего отъезда его поймали, когда он тянул в свою кровать маленького кхмерского мальчика.
Последний герой
Примерно за час до полудня в моем полку прибыло. Набережная огласилась песней Виктора Цоя «Последний герой». К «Льон Д Ору» расталкивая тук-тукеров и велосипедистов, прорывался едва живой «Джип Чероки» без окон и двери багажника. Дым из выхлопной трубы валил сизый, что свидетельствовало о том, что кольца в двигателе давно залегли. Единственное, что хорошо работало в машине, — это магнитофон.
За рулем сидел худенький европеец лет девятнадцати в роговых очках. Сначала я подумал, что он русский. Так как репертуар подталкивал к этой мысли. Дверь распахнулась, музыка стала еще громче. Парень выпрыгнул из кабины и исчез. Это было удивительно. Уже через мгновение он появился снова. И я все понял. У него было интересное уродство: та часть тела, которая от пояса до головы, была нормальной, такой же, как у меня, может, даже больше. А вот ноги были очень короткие. От стоп до пояса не более двадцати пяти сантиметров.
Юноша быстро проковылял расстояние от машины до меня.
— Густав, — представился он и очень крепко пожал мне руку.
За ним из машины выскочила очень резвая, худая собачка местной, кхмерской породы. Она была похожа на очень изящного бультерьера. С ней тоже в физическом смысле что-то было не так. Я сначала даже не понял что. Она была покрыта страшными боевыми шрамами и смотрела, казалось, исподлобья. Потом я разглядел, что ее веки не совпадали с глазными яблоками и для того, чтобы посмотреть прямо, она должна была высоко задирать голову и наклонять ее чуть вправо.
Густав Пфефер был чистокровным немцем. Его отец — Ральф Пфефер — много лет назад переехал в Камбоджу. Он работал фрилансером на Би-би-си. Снимал футажи (исходные материалы) для документальных фильмов о животных и природе тропиков. Густав однажды побывал в России. Его привозили совсем маленьким мальчиком в Москву на диагностику и лечение в институт ортопедии. Он очень полюбил нашу страну. Полюбил Цоя и Гребенщикова. Выучил идеально русский язык. Больше он в России никогда не был. Общение с нами было ему очень интересно.
* * *
О Густаве я расскажу подробно. Он достоин этого. Тем более в книге про то, как быть мужчиной. Колоссальное, неисправимое уродство с рождения выбросило его из обоймы полноценных людей. Но он и не думал сдаваться. Казалось, он вовсе не замечал своего уродства. К тому дню, когда произошло наше знакомство, он в совершенстве говорил на трех чужих для него языках — русском, английском и кхмерском. Немецким он владел идеально. Сутками напролет читал мне выученных наизусть Гете и Гейне. Тут же без остановки читал те же произведения по-русски, в своих переводах. Знал наизусть всего Башлачева, Науменко, Цоя, Гребенщикова и Степанцова. Перевел их стихи на немецкий и кхмерский. Густав прекрасно рисовал и занимался линогравюрой. Написал толстую книжку своих стихов на разных языках и сделал гравюры к ней. Он был необычайно силен физически. И если я говорю, что он жал руку крепко, — значит, крепко. Мы потом соревновались с ним. И он, так же как и я, мог давить грецкие орехи пальцами и раскалывать их в локтевом сгибе бицепсом. Густав очень быстро бегал на своих маленьких и кривых ножках. Почти не чувствовал боли или не показывал, что чувствует.
НА ОДНОЙ ИЗ СЪЕМОК Я ДЕЛАЛ СЕБЕ РАЗРЕЗ НА НОГЕ И ДЕМОНСТРИРОВАЛ, КАК ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН НАКЛАДЫВАТЬ СЕБЕ ШВЫ. БЕЗ НАРКОЗА, КОНЕЧНО.
Густав за кадром повторял все, что я показывал. Он делал это без камеры. Ему было просто интересно.
Но главная его фишка была не в этом. Он был, и остается по сей день, лучшим фридайвером мира. Он занесен во все книги рекордов. Он мастер погружения в любые воды. На любые глубины. С аквалангом и без. Это единственный человек в мире, который может задерживать дыхание на пятнадцать минут и более. Его личный рекорд на тот момент составлял семнадцать минут.
Потом, когда мы ныряли вместе, он страховал меня. Я нырял с его аппаратом. Еще на берегу я понял, что это будет очень сложно. Регуляторы подачи воздушной смеси были зажаты так, что вдох и выдох требовали колоссальной силы грудных мышц. Уши закладывало от этих усилий, как при продувке в самолете. Обычно баллона хватает на сорок минут. Густав с таким баллоном сидел под водой два часа. Густав погружался в мутной и прозрачной воде, нырял в шторм и в штиль. Исследовал пещеры и затонувшие корабли. Нырял с акулами и китами. В мутных реках погружался под огромные коряги, проныривал сплетения корней. Ловил жемчуг. Мог под водой отдать свой аппарат другому пловцу, пролезть в сифон, вернуться и вдохнуть. Он реально творил чудеса. Он никогда не сквернословил. И влюблялся во всех девушек, которых видел. К вечеру у него уже были готовы для них сонеты. Он страдал, когда они отвергали его. Писал грустные стихи. И опять влюблялся.
Густав представился сам и представил свою собачку — Мейби! Мейби была сука. Но судьба у нее была по-настоящему мужской. Будучи еще несмышленым щенком, она носила другое имя. Однажды она отправилась с Густавом на мутную реку. Хозяин нырял с крокодилами, снимал их под водой, в естественной среде обитания. Собачка очень волновалась на берегу. Когда ей показалось, что крокодил вот-вот схватит Густава, она бросилась в болото на помощь. Крокодил напал на нее сразу. Она была маленькой и целиком оказалась в пасти. Густав увидел такое дело и напал на крокодила. В воде. Конечно, Мужчина победил. Он вытащил щенка из крокодила. Уже проглоченного щенка. Крокодил, глотая, снял с собаки кожу. Не скальп с головы, а почти всю. Густав принес щенка к биологам. Взрослые сразу сказали, что щенка нужно усыпить. Но парень очень просил попробовать. И только повторял: «мейби… мейби…»
Кожу натянули как перчатку. Все зашили. Но не очень попали. Прорези для глаз приросли не точно. И с тех пор собака смотрела из-под своей кожи искоса. Ее стали звать Мейби.
Густав никогда не расставался с ней. Однажды они полетели в Германию по делам на недельку. Мейби неожиданно отправили в карантин, в аэропорту Штутгарта. Густав просидел с ней в клетке три месяца. Не хотел ее оставлять. Потом они вернулись в Камбоджу и больше не выезжали.
Хануманы
Во второй половине дня команда была окончательно укомплектована. Мы загрузили оборудование в джип. За руль сел Густав. К нему на колени Мейби. Кто-то сел в салон. Мы с Саидом и еще несколькими героями залезли на крышу. Из магнитофона несся хриплый голос Егора Летова «Все идет по плану». А мы неслись в направлении Слоновых гор по красной дорожке. Земляной. Оставляя за собой непрозрачный шлейф камбоджийской пыли.
По дороге мы сделали остановку у огромного святилища. Все кхмерские машины останавливаются в этом месте. Водители выходят и оставляют подношения в небольших пагодах у дороги. Обычно это бананы или какие-то сладости. И обязательно баночка газировки. Духи очень любят сладкую воду. Вообще, стоит рассказать об истории появления в мире клубничной газировки. Я считаю маркетинговый ход с этим напитком, наверное, самым остроумным на свете. Маркетологи обратили внимание на то, что в Азии водители часто останавливаются на дороге, оставляя в маленьких алтарях что-то вкусное.
Рекламщики распустили слух, что духи вступили в диалог с производящей компанией. И сообщили, что традиционные напитки их больше не устраивают. Очень скоро вся Азия знала, что духи просят клубничного напитка. История обрастала легендами, а амброзия нигде не продавалась. Вкуса клубники ни кхмеры, ни вьетнамцы, ни лаотяне не знали. Примерно через год на все прилавки хлынули поллитровые бутылочки с красной сладкой водой.
Продажи подскочили моментально. С тех пор переслащенная клубничная газировка — обязательный религиозный атрибут юго-востока. Люди ее не пробуют. Тем более не пьют. Она стоит дороже обычной. Это напиток богов.
Я, конечно, попробовал. Это жуткий бессмысленный сироп.
В те годы религиозной газировки еще не было. Мы тогда оставили обычную. И связку бананов.
У каждого дома стоит маленькая пагода, где совершают подношения духам предков. Здесь же, где мы остановились, чествуют мудрую женщину, покровительницу дождевых лесов и Слоновых гор. Она лишь косвенно имеет отношение к буддизму. Скорее она — языческое божество. Аналог нашей Бабы Яги. Но красивая. И вечно молодая. Среди пагод слеплено из цемента ее огромное изображение. Неопытные туристы принимают ее за Будду. Она стоит на возвышении, и почти всегда половина ее корпуса закрыта туманами, которые стремительно летят из дождевого леса.
Вокруг пагод селится огромная колония обезьян. Они, как известно, потомки пресветлого копейщика Така и находятся под прямой защитой Ханумана. Для них построены специальные домики и платформы в ветвях деревьев. Но можно им далеко не все. Например, они не должны есть специальные подношения, предназначенные духам. И поэтому рядом с каждой пагодой стоит доброволец под зонтиком с рогаткой. Время от времени он, страшно ругаясь, стреляет по обезьянам. И метко попадает им в задницы.
Обезьяны должны вести себя подобающим образом. И выпрашивать пищу, подобно монахам, совершающим вомбату. Обезьяны за тысячелетнюю историю почитания так и не поняли этого основного принципа. Они ведут себя как сущие демоны. От них следует охранять все: машины, в которые они забираются, сумки, пакеты, наручные часы, мобильные телефоны, кольца, серьги, очки. К каждому путешественнику охранника с рогаткой не приставишь, и поэтому безопасность имущества — дело собственника.
С одной стороны, орды обезьян — своего рода насельники этого небольшого монастыря. С другой стороны, толпа беспринципных гопников, забирающих все, что, как они уверены, принадлежит им по праву. Они кусают и нещадно бьют друг друга. Заискивают перед подъехавшими путешественниками. Через минуту уже хамят и обворовывают их. А садящихся на мопеды и в машины отъезжающих обзывают и закидывают комочками испражнений. А когда говно кончается, в ход идут камни.
В общем, когда мы подъехали, «религиозная» жизнь бурлила и кипела в полный рост.
Я спрыгнул с крыши и посмотрелся в зеркало заднего вида. Все мое лицо и борода были покрыты толстым слоем нежной красной пыли. Пока мы разминали кости, Густав отправился возлагать подношения. Мейби охраняла машину от обезьян. А Саид в машине оставался чистеньким. И в руках у него был красивый полиэтиленовый пакет, который он все путешествие не выпускал из рук. Мы интереса для обезьян не представляли. А вокруг него сразу собралась гоп-компания. Тридцать особей сели вокруг него в кружок на свои красные задницы и, складывая ручки в мольбе, тихонько вякали. Саид умилился и стал разговаривать с ними на всех известных ему языках. Потом стал пробовать сфотографировать. Обезьяны стали скалиться и наступать. Пасти у них очень страшные. Как у средней собаки. Клыки длинные. Зубы нечищеные.
Секунда — и они набросились с визгом.
Мой день рождения планировалось отмечать в Камбодже. И, как оказалось, Саид бережно хранил в полиэтиленовом пакете подарок для меня. Теперь этот подарок несся на самое высокое дерево по крышам пагод, прижатый к животу пожилого обезьяна с огромными красными яйцами.
Добровольные охранники культовых сооружений подгоняли вора звонкими шлепками из рогаток. За ним неслась вся стая. За стаей — Саид. За Саидом — вся съемочная группа. За съемочной группой — я. И только Мейби истерично брехала в джипе.
Обезьяний вожак, видимо, понял, что в его руках оказался особо ценный артефакт. Он забрался на самую верхушку могучей альстонии, прижал мой подарок к впалой груди и хихикал.
Гнаться за ним на этой высоте было невозможно. Он приготовился получить свое удовольствие и медленно развязывал пакет. Остальные члены банды сидели на соседних ветках и вякали, молитвенно сложив ручки. Хотя всем было понятно, что содержимым пакета никто делиться не собирается.
Прошло несколько минут, и полиэтилен полетел вниз. В руках у бандерлога оказался черный матовый предмет, отбрасывающий металлические блики.
У МЕНЯ ВНУТРИ ВСЕ ПОХОЛОДЕЛО: «НЕУЖЕЛИ «ПАРАБЕЛЛУМ»…»
Я много раз говорил коллегам, что хотел бы обладать моделью «люгер». И зная способность Саида достать что угодно, следовало предполагать, что это он и есть.
Между тем самец вертел в руках увесистый сувенир, пробовал его на зуб. А разглядеть, что это, мы не могли, так как обезьяна сидела на верхушке дерева в лучах контрового солнечного света.
Вскоре хулиган понял, что объект несъедобен и некрасив, и разжал свои черные ручки. Предмет, цепляясь за ветки, ринулся к земле. За ним с разных высот помчались обезьяны. По земле к подножию альстонии ринулась толпа кхмеров с рогатками, во главе которой мчался Саид.
Это оказался не пистолет. В тот день мне раньше времени подарили машинку для бритья головы. Она работает до сих пор. Хотя в первый день с ней происходили такие события. Вот какое раньше было европейское качество.
Во время обезьяньей погони мы взмокли. Глиняная пыль, смешавшись с потом, была похожа на густую кровь. Я с удовольствием залез на крышу и, когда машина тронулась, наслаждался прохладой от набегающего потока воздуха.
Минная опасность
Наш путь лежал на плато Пном Бокор. Часто встречающееся в кхмерском языке слово «пном» означает холм, возвышенность. Например, Пном Пень — холм принцессы по имени Пень.
На Пном Бокор мы стремились по нескольким причинам. Во-первых, это самое прохладное место в Камбодже, и потому природа там особенная. Во-вторых, это единственное место в мире, где сохранилась горная эдафическая саванна — место жительства диких азиатских слонов. Огромные каменные плиты на Пном Бокоре покрыты тонким слоем плодородной земли. Исполинским деревьям просто не за что цепляться, и именно поэтому формируется саванна — высокотравье с небольшими участками кустарника и редкими деревьями. Немного похоже на лесостепи, которые можно наблюдать в Крыму, около Белогорска и на наших границах с Казахстаном.
Вечерело. И мы решили стать лагерем недалеко от заброшенной французской виллы. Вокруг нее еще недавно шли ожесточенные бои, повсюду лежали мотки колючей проволоки и были воткнуты значки «дэнджер майнс». И если европейские значки — это просто красный квадратик с черепом и костями, то кхмерские все последствия прогулки по минному полю живописуют в подробностях.
Вообще, кхмеры склонны к детализации. На дорожных знаках они стараются прорисовать все от начала нарушения ПДД до его трагических последствий. Так и здесь. Знак «Осторожно! Мины!» очень напоминает комикс. На первой картинке серьезный усатый военный копает яму. На второй два его помощника тащат к яме бомбу. На третьей изображен весь процесс взведения спускового механизма. Далее военные закапывают мину, улыбаются и жмут друг другу руки. На следующей картинке изображен незадачливый турист, который гонится с сачком за бабочкой. Потом крупно нога, задевающая растяжку. И последняя картинка изображает взрыв, из эпицентра которого вылетают руки, ноги и оторванная голова туриста. Художник обильно применяет красную краску. Так, чтобы было понятно: наступание на мину — процесс кровавый.
Мы повесили гамаки. В тропических странах спать в палатке нельзя. Слишком много ползучих тварей.
Юи принялась готовить еду. Я решил сходить на французскую виллу, чтобы поискать там летучих мышей. Мы взяли налобные фонари и двинулись к обгоревшему замку, похожему на Торнфилд из фильма про Джейн Эйр. Идти решили по звериной тропе. Ведь животные подорвались бы на мине уже давно. Вытоптанные дорожки на минных полях — самые безопасные.
Вообще, большое заблуждение думать, что животные не подрываются якобы потому, что чувствуют опасность. Копытные часто прут, вообще не разбирая дороги, и подрываются по нескольку особей сразу. Слонам интересны мины. Они ощупывают их хоботом. И специально наступают на них ногами. Именно этим обусловлено огромное число жертв среди диких животных в послевоенной Камбодже. У нас на Кавказе другая закономерность: овцы подрываются часто, а коровы и лошади никогда.
Звериная тропа была хорошо различима, и мы шли быстро. В высокой сухой траве шуршали змеи. Где-то вдали слышался шум реки. Воздух наполнили оглушительные звуки ночных насекомых. Вход в парадный подъезд виллы перегораживала покосившаяся промышленная виселица. Не обычная, где кронштейн из деревянных брусков с веревкой, а сварная, с противовесами, тросиками и подставками для ног на подшипниках. Сделана она была добротно и позволяла казнить поточным методом. Пятерых за один подход.
ВИСЕЛИЦА И СЕЙЧАС МОГЛА БЫ РАБОТАТЬ КАК НОВЕНЬКАЯ, НО СТОЙКУ ПОГНУЛ ФУГАСНЫЙ СНАРЯД.
Все стены внутри и снаружи здания были изъедены пулями разных калибров. Немногочисленные граффити были нанесены сажей или машинным маслом. И все на кхмерском языке. Мы, держась за стены, прошли по арматуринам провалившегося пола в центральный зал. Там мышей не оказалось. Главный корпус и левый флигель проходов на второй этаж не имели. Как, собственно, и вторых этажей. Перекрытия были полностью разрушены, а потолком служило небо. Будь я летучей мышью, я бы здесь тоже не остался.
Правый флигель в деле поиска мышей оказался более перспективным. Там в часовой башне, очевидно, было пулеметное гнездо. Своды сохранились. И мы, цепляясь за щели в кирпичной кладке, полезли наверх.
Подъем занял почти десять минут. Но все было не зря. В закопченном углу мы обнаружили искомую тварь. Мышь шипела и показывала острые зубки. Мы не раздумывая погрузили ее в шелковый мешок и отправились ужинать. Когда мы вышли из здания, все отметили, что похолодало. Днем было плюс сорок пять, а сейчас по ощущениям было всего семнадцать. Пока возвращались по минному полю до лагеря, даже замерзли.
Еда была уже готова. Юи варила национальные блюда на газовой горелке. Я достал из рюкзака топор и направился к лежащему неподалеку давно упавшему дереву. Решил развести костер, чтобы было уютно ужинать. Я ударил топором по ветке толщиной с запястье. Обычно такие ветки я перерубаю с одного удара. Но тут произошло странное. Топор скользнул в сторону, от него полетели искры. Их было хорошо видно в тропической тьме. Я решил, что виной такого неудачного удара стало мое утомление. Взял себя в руки, встал правильно, положил ветку так, чтобы она не пружинила, и ударил топором. Опять зазвенела сталь, полетели искры, а на ветке осталась небольшая зазубринка. Я был обескуражен. И стал ожесточенно рубить.
Примерно за полчаса мне удалось отхватить одно полено. Я разогнулся, чтобы передохнуть, и обнаружил, что на меня с улыбкой смотрит Тхера.
— Наше дерево твердое. Русский топор его не взять, — сказал он и протянул мне большой искривленный нож, без которого местные не выходят из дома. Ручка у этого ножа была не всадной деревянной, а металлической, выкованной из того же листа стали, что и лезвие.
Я с недоверием отнесся к местному инструменту, но решил попробовать. Дело сразу пошло. Теперь на отрубание одного полена у меня уходило не более ста ударов. Металлическая ручка быстро натерла мне на правой ладони пузыри. Горка дров была небольшой — десять-двенадцать полешек. Я осмотрел упавшее дерево в поисках следующей подходящей ветки. А Тхера спросил, зачем столько дров, ведь еда уже готова. Я ответил, что хочу развести костер, у которого будет светло и весело. Тхера улыбнулся и сказал: «Это дерево упало больше ста лет назад. Оно служит источником топлива для всех, кто здесь останавливается. Тех дров, что ты уже заготовил, хватит и нам, и тем, кто придет после нас».
Я не понял, о чем он говорит. Собрал дрова в охапку и пошел в лагерь. В кострище стал собирать обычный шалашик для разведения осветительного костра. Тхера осмелился дать мне еще один совет. «Нужно убрать все дрова. Оставить только два полена». Кхмеры всегда казались мне щедрыми ребятами. Я не понимал, почему они стали жалеть для меня палок на краю света. Я был раздосадован. И зажег костер. Поднялось высокое, но совсем не яркое пламя. Искр и треска не было. Поленья не обуглились и даже не закоптились. На их поверхности шипела пена. Мы ели, пили, готовились ко сну.
УЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, КОГДА МЫ ПРОСНУЛИСЬ, ПОЛЕНЬЯ ВЫГЛЯДЕЛИ КАК ЕДВА ОБГОРЕВШИЕ ГОЛОВЕШКИ, ДРОВА НЕ МЕНЯЛИСЬ. А ПЛАМЯ ГОРЕЛО, КАК ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ.
Тхера объяснил мне, что дерево здесь имеет плотность каменного угля. Оно насыщено маслами и эфирами. Характеристики его горения совсем не такие, как у тех деревьев, которые я привык жечь в кострах. Это было для меня удивительно. Я вытер руки об штаны.
В ту ночь было очень холодно. Даже для меня. Может быть, три или четыре градуса. Ночью я вылез из гамака, чтобы хлебнуть джина, и увидел скорчившихся у костра кхмеров. Они дрожали и были несчастны. Мы разговорились. И они поведали мне, что на Бокоре такие холода не редкость, именно поэтому здесь никто, кроме богов и европейцев, никогда не селился.
Мы заговорили о том, что для них тепло, а что холодно. Выяснилось, что тепло — это от пятидесяти до тридцати пяти градусов. Терпимо от тридцати пяти до двадцати семи. Холодно от двадцати семи до семнадцати градусов. От семнадцати и ниже — мороз. В любом случае они были благодарны мне за костер, над разведением которого сначала смеялись. Правда, за последние пятьдесят лет семнадцать градусов в Пномпене было только однажды. В ту ночь многие от холода погибли. Но причиной смерти был не сам холод. Замерзающие люди внесли в хижины чанкрыны — глиняные горшки-печки, на которых готовят еду в уличных кухнях. Так как кхмеры никогда с открытым огнем в жилище не сталкивались, они угрелись, уснули и угорели.
* * *
Недавно я опять был на Бокоре. Саванну разминировали. Виллу снесли. Слоны умерли. На самом величественном месте плато китайцы построили огромный пятизвездочный отель. Туда приезжают богатые азиаты специально, чтобы их женщины могли покрасоваться в мехах и пуховиках. Плато перерезали асфальтовыми дорогами. Но то дерево, от которого я отрубал ветку, по-прежнему лежит на своем месте.
Путь во тьме
Утром мы двинулись к так называемому курумнику. Курумник — это русло реки, состоящее из огромных скал величиной с дачный домик. Скалы не имеют острых граней, они окатаны водой. В сезон дождей река бушует и катит эти камни как гальку. В январе вода полностью уходит под камни и видна лишь в небольших запрудах или на водопадах, где выбирается из-под скал, чтобы пролететь пятнадцать-двадцать метров и опять спрятаться.
Я видел курумники и в России. Но такого масштаба не ожидал. В моих планах было спуститься вниз по течению реки прямо по руслу за сутки. Однако когда я взглянул на реку, понял, что здесь и за десять дней не пройти. Каждый камень нужно было штурмовать, как настоящую скалу. По гладкой, почти вертикальной поверхности взобраться без веревок и клиньев было невозможно. Спуск с каждого камня мог быть осуществлен только в альпинистской обвязке. Со мной были женщины и снаряжение. Я горько задумался о перспективах путешествия. Но Тхера ободрил меня и уверенно сказал: «За одну ночь пройдем».
После дров я ничему не удивлялся. Но все же задача казалась мне неосуществимой. Как я уже сказал, там и днем нужно было по десять минут думать перед каждым шагом.
Наш путь начался со спуска в водопад по веревкам. Когда я, закрепив восьмерку (часть альпинистского снаряжения), ехал вниз, упираясь ногами в скользкую стенку под струями воды, я понял, что пути назад нет. Подняться по водопаду можно было только на жумарах (устройство для подъема по веревке). А жумаров мы с собой не брали. Значит, отступать некуда. Я опустился на ровную как стол площадку. Мне на голову падали огромные комки ледяной воды. Светило жаркое солнце. В принципе, я был счастлив. На веревках спустили оборудование, я сложил его на ровные горячие камни и смотрел, как спускаются остальные члены команды.
Когда все были в сборе, я двинулся вперед. Но остановился через несколько шагов у странных сооружений. В скале, по которой мы шли, были пробурены идеально ровные вертикальные отверстия-колодцы диаметром примерно полтора-два метра. Глубина этих отверстий была разной: три, пять, десять метров. У некоторых отверстий вообще не было видно дна. На дне каждого лежало огромное идеально круглое каменное ядро. Будто гигантские пушки были заряжены, чтобы пальнуть в небо. Так я впервые увидел геологические сверла.
В сезон дождей, когда вода полная, водопад сбрасывает своим потоком скалы. Некоторые из них не катятся дальше, а начинают крутиться в небольших выемках. Вода водопада вращает камень, превращая его в шар. А шар забуривается в скалу. Образуется огромный колодец. По мере того, как дыра в скале увеличивается, геологическое сверло уменьшается. И в конце концов исчезает совсем.
Изучение отверстий в скале отняло у меня много времени. Было жарко, и захотелось купаться. Потом мы прыгали со скалы в небольшие прозрачные каменные бассейны, готовили еду. В общем, делали все, что формально могло отложить нежеланную работу — проход по курумнику.
Уже под вечер я объявил сбор, но Тхера советовал дождаться полной темноты. На закатном солнце мы вбили первые клинья и протянули первые веревки для восхождения на первый камень курумника. Когда совсем стемнело, кхмер велел следовать за ним. Мы включили налобные фонари, подняли поклажу и стали забираться на камень.
Все уже стояли на освещенном пятачке на вершине скалы. Опустилась кромешная тьма. Тхера сказал, что нужно идти быстро за ним, и прыгнул на круглое пятно, освещенное налобным фонариком. Мы широкими шагами и небольшими прыжками двигались вперед по абсолютно ровной дороге. Он только подгонял. И в конце концов мы почти побежали.
Так прошла почти вся ночь. С первыми лучами солнца экспедиция замедлилась. Мы не могли сделать шагу от страха. Выяснилось, что все это время мы прыгали с камня на камень через огромные пропасти, которых просто не видели в темноте. До конца пути оставалось не более ста метров. Но пришлось протянуть веревки и спуститься в ущелье, где мы переждали световой день. Это был единственный случай в моей жизни, когда животный страх от предвосхищения возможной ошибки полностью парализовывал физические действия.
Интересно, что кхмеры много столетий знали эту хитрость. Дорога по курумнику для них обычный путь. Но днем они тоже никогда по нему не ходят.
Меня часто спрашивают, как преодолеть страх. Я объясняю, что страх — это физическая реакция организма на непроизошедшее событие. Мозг эмулирует катастрофическую ситуацию, и вся физика и биохимия человеческого организма отвечает на условия, которых не существует. Именно поэтому возникает непреодолимый диссонанс между реальностью и виртуальным миром, в котором человек пребывает, находясь в страхе. Не зря говорят, что ожидание беды всегда хуже, чем сама беда. Это происходит потому, что катастрофические условия дают реальную пищу для анализа. Мозг сосредоточенно работает над решением проблемы с реальными вводными, а не разрабатывает алгоритм действий, опираясь на возможные прогнозы.
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЧИТАЕТЕ ПРЕДЫДУЩИЙ АБЗАЦ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ТО ЖИТЬ ВАМ СТАНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ. ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ТОГО, ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ.
Господь никогда не возлагает на человека ношу, которую он не может снести. В случае с проходом по курумнику люди не в силах преодолеть трудности, которые видны. С наступлением темноты человек отдается во власть инстинктов и Божьего промысла. Что, возможно, одно и то же.
* * *
Утром следующего дня мы благополучно добрались до туманного леса. Он встретил нас банной жарой. От жары страдали все, кроме Мейби, Тхеры и Юи. С нас пот лил градом, одежда была мокрой насквозь. Они же совсем не потели. И даже почти не укрывались клетчатыми платками. Их смуглая кожа не так притягивала ультрафиолет, как наша. Моя голова представляла собой пунцово-фиолетовый шар. Прикоснуться к ней было больно. Местами кожа облупилась. Коллеги, вернувшиеся с Эльбруса, чувствовали себя хуже. Загар попадал на свежие ожоги. У многих наблюдалась субфебрильная температура. Это мешало идти. Мы не понимали, как возможно загореть и даже обгореть, когда солнца на небе нет. Более того: пасмурно и туман.
Тогда в продаже только появился пантенол. И он был в моей аптечке. Мы мазались им, но пот очень быстро смывал лекарство.
Для того чтобы разрядить ситуацию, я стал рассказывать коллегам, что такое загар с точки зрения биологии человека. Они не знали этого. А значит, скорее всего, не знаете и вы. Поэтому я повторю свой рассказ. В человеческом организме многие сотни разных белков. Некоторые из них, пожалуй самые важные, находятся в дерме, то есть в коже человека. Кожа — это главная броня человеческого организма. Она гораздо прочнее, чем кажется. Но человек не воспринимает ее как защиту. Так как она покрыта сенсорами и датчиками, каждый из которых сигнализирует мозгу об угрозе. Эти сенсоры и датчики не могут существовать без белков. Любой незначительный укол, ожог или прикосновение может быть началом травмы. И поэтому человек чаще всего ощущает как боль факторы, не представляющие угрозы его жизни.
Сейчас в Интернете можно увидеть ролик, на котором бабка поддает сумкой передний бампер дорогого автомобиля. В ту же секунду срабатывают подушки безопасности. Бьют водителя и пассажира по лицу, под капотом срабатывает система пожаротушения. Фактически в эту секунду машина перестает существовать. Она не может ехать. Следовательно, становится непригодной для того, для чего создана.
Представьте себе, что машина — живой организм. Ее разум не смог отличить настоящую лобовую аварию от сумки с продуктами. Датчики почувствовали боль, включились все защитные системы организма. И в результате наступила смерть. Перед смертью организм выполнил свое главное предназначение — то, на что был запрограммирован Создателем: сохранил физическую целостность содержимого кабины. Здесь вопрос приоритетов. Современный, сложный автомобиль запрограммирован на сохранение жизни пассажиров. Старинный — на то, чтобы ехать. Часто старые машины сохраняют эту способность и после гибели владельца. Именно поэтому примитивные существа, например крокодилы, обладают завышенным болевым порогом. У них меньше датчиков и прочнее кузов. Люди — высшие организмы. Датчики у них повсюду. Человеческий организм способен ремонтировать себя сам. Но этот процесс запускается только после того, как объем разрушений установлен. Этот процесс называется регенерацией.
Итак, что же такое загар.
Солнечный ультрафиолет проникает через нейтральный фильтр эпидермиса в дерму, где денатурирует белки. Процесс денатурации белка каждый из вас наблюдал, выбивая яйцо на сковородку. Белок сворачивается. Точно так же сворачиваются белки в коже человека от солнца. Каждый из них отвечает за микроскопический участок кожи. И в момент своей смерти передает последний сигнал хозяину: «началось смертельное воздействие на корпус». Далее связь с датчиком отсутствует. И организм закрепляет последнее сообщение как текущий факт. Массу этих незакрытых сообщений мы воспринимаем как ожоговую боль.
Денатурированные белки в коже становятся мусором. Их утилизируют фагоциты и лейкоциты. После того как место освободилось, организм приступает к ремонту. Утраченные «заводские запчасти» он заменяет усиленными. Такими же датчиками, но с заниженным порогом чувствительности. Элемент, который понижает порог чувствительности и повышает устойчивость к солнечному излучению, называется меланином. Он и окрашивает кожу в цвет загара.
Камбоджа находится близко к экватору. Слой атмосферы там тоньше, а солнце ближе, поэтому обгореть можно и в пасмурный день. Местные жители рождаются с повышенным содержанием меланина. Они смуглые и не страдают от солнечного излучения. Собак защищает шерсть. А европейцы обязательно должны пройти процесс перенастройки. Именно поэтому мы все чувствовали себя не очень…
Эта лекция всегда вызывает в человеке оторопь, и он на некоторое время забывает о недуге.
Если вы когда-нибудь видели национальные рисунки Вьетнама и Камбоджи, то легко сможете представить себе национальный наряд азиатов. Конусная соломенная шляпа — у вьетнамцев, клетчатый платок, замотанный вокруг головы как арафатка, — у кхмеров (он называется «крама»), шелковые костюмы свободного кроя — у тех и других и обязательно оранжевые гамаши, обмотанные тонкой веревочкой. Гамаши — это шелковые трубы, которые надеваются на ноги от щиколотки до колена. Их назначение неизвестно тем, кто никогда не был в той части света. Не знали об их предназначении и мы, пока не вошли в туманный лес.
Горячий пар окутывал нас со всех сторон. Вода капала с веток и листьев. Под ногами чавкало. Высокая изумрудная трава, острая как бритва, доходила почти до груди. То тут, то там из земли торчали заржавевшие знаки «денджер майнс». Мы шли быстро. Часто встречали заброшенные, разрушенные войной постройки из красного пористого камня. Некоторые когда-то были жилыми. Некоторые явно культовыми. Баньяны, шагающие деревья, наступали на них со всех сторон, врастали своими корнями в стены и раздвигали кладку. В кронах туманного леса кричали птицы. Но я смотрел преимущественно под ноги, чтобы не подорваться. После перехода через курумник к нам присоединился бывший полевой командир красных кхмеров, а ныне обычный автослесарь генерал Сри.
Мы взяли его специально, чтобы преодолеть участки, которые минировал его отряд. Сри оказался веселым человеком, очень расположенным к выходцам из бывшего СССР. Ведь в СССР на свет появились два светлых образа, которые он любил по-настоящему: красное знамя и «КамАЗ».
Сри шел первым и с удовольствием показывал хитроумные ловушки, сделанные им в недалеком прошлом. Вот с дерева на тонкой проволочке свисает авиабомба. А вот палочка-сторожок. Если задеть ее ногой, бомба упадет бойком вниз. Будет большой барабум. Сри поддает ногой палочку. Мой отряд моментально бросается на землю. Сри улыбается, ему нравится шутка. В туманном лесу рай для растений. Палочка давно укоренилась. Лианы оплели авиабомбу, и она теперь не упадет.
Идем дальше. Сри поддает ногой противопехотную мину. Я спрашиваю его, почему он не боится. Он говорит: «Это было давно, мины размокли и сломались».
Встреча с вампирами
Около очередной постройки, во дворе которой, очевидно, шли ожесточенные бои, высокая трава не растет. Я принялся изучать разнообразные орхидеи и попутно стал рассказывать коллегам о разновидностях этих растений. Они бывают большие, маленькие и микро. Очень многие — эндемики, то есть больше нигде не растут. Орхидеям нужна тень и влажность. Я пригласил всех присесть у разрушенного фундамента и рассмотреть одну из самых редких орхидей — орхидею «Драгоценную». Она небольшая, размером с ладонь. Листья напоминают по форме разрезанную вдоль морковку. Они очень темные, почти черные. Около черешков листьев лежат крупные кристаллы из абсолютно прозрачного гелеобразного вещества. Кристаллы, если приглядеться, имеют почти ювелирную огранку. И когда редкие солнечные лучи проникают в туманный лес, вокруг растения рассыпаются радужные солнечные зайчики, как в витрине с кристаллами Сваровски.
ВСЕ ОРХИДЕЮ РАЗГЛЯДЫВАЮТ. А МНЕ-ТО ЧТО НА НЕЕ СМОТРЕТЬ, Я ЕЕ СТО РАЗ ВИДЕЛ. Я СМОТРЮ НА СВОИ НОГИ. А ПО НИМ ТЕЧЕТ КРОВЬ, АЛАЯ, АРТЕРИАЛЬНАЯ. Я СМОТРЮ НА НОГИ СВОИХ СПУТНИКОВ, А У НИХ ТО ЖЕ САМОЕ.
Всему виной сухопутные пиявки. Они сидят на травке и ждут прохожих. Это у нас они в воде плавают, а там посуху ходят. Именно для защиты от них местные надевают оранжевые шелковые гамаши.
Во время вторжения американской армии на территорию Вьетнама, согласно закрытой армейской статистике, каждый седьмой американский солдат из погибших погибал от потери крови. Уточнений не было, но понятно, что причиной потери крови становились в том числе сухопутные пиявки. Дело в том, что во время укуса тварь впрыскивает в ранку мощнейший антикоагулянт, то есть вещество, препятствующее свертыванию крови. Кровотечение от укуса продолжается двое, а иногда и трое суток. Интересно устройство пиявочного зуба. Если посмотреть на него под микроскопом, это множество зубов. Но без микроскопа выглядит как один трехгранный зуб. Именно с него взята форма морского кортика. Колющего оружия для нанесения плохо заживающих кровоточащих ран.
Во влажный сезон сухопутных пиявок столько, что не заметить их нельзя. Они покрывают одежду человека сплошным копошащимся ковром. А сейчас их было мало. Кровь с наших ног текла потому, что многие уже насосались и отвалились незамеченными. Но были и неотвалившиеся.
Насосавшаяся и неотпавшая пиявка размером с большой палец. Если отрывать ее не умеючи, зуб может остаться в ране. Этого допускать нельзя. Может развиться сепсис. Чтобы пиявка отвалилась, ее достаточно мазнуть йодом или спиртом. Ее тонкая, покрытая слизью кожа получает ожог. По напитому жирненькому телу начинают ходить конвульсивные волны, и уже через секунду пиявка безболезненно отваливается.
Самым эффективным средством для остановки крови в полевых условиях остается прижигание ранки сигаретным бычком. Или квасцами, называются по-другому «ляпис» или «чертов палец». Не все из моих спутников согласились на экзекуции с сигаретным бычком. И отряд, истекая кровью, двинулся дальше, в глубь туманного леса. Я утешал всех укушенных тем, что пиявки не переносят никаких заболеваний. На всех континентах, независимо от вида, пиявка абсолютно стерильна. И, в принципе, ничего, кроме пользы от герудина — вещества, которое впрыскивает пиявка, — человек не получает.
ПО МЕРЕ ТОГО КАК МЫ СПУСКАЛИСЬ В ТУМАНЕ С ГОР, РОСЛА ЖАЖДА. МНОГИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ЧТОБЫ ПРОМЫВАТЬ УКУСЫ. И ТЕПЕРЬ В ВОДЕ ОЩУЩАЛАСЬ ОСТРАЯ НЕХВАТКА.
Все смотрели на меня, как будто я был обязан найти источник питьевой воды. Однако это было непросто. Под ногами хлюпало, с веток капало, но пить воду из луж я не разрешал, опасаясь желудочно-кишечных расстройств в команде. К тому же мы вышли в саванну, где о ручьях и родниках вообще можно было забыть.
В саванне на каменных плитах росли колючие кусты. Когда мы подошли к ним ближе, я обнаружил вплетенный в колючки непентес — это растение-хищник. На каждой ветке непентеса сверху висит деформированный лист-цветок размером со средний банан. Снизу у непентеса колба. В каждой колбе примерно сорок-пятьдесят миллилитров жидкости. Это чуть слизистый желудочный сок непентеса. Сверху лист-колба прикрыт еще одним маленьким листиком, он выполняет две функции: предохраняет непентес от дождевой воды, не позволяя ей разбавлять желудочный сок, и отбивает мух обратно в колбу, если те пытаются вылететь.
Изнутри колба выстелена специальными чешуйками, покрытыми воском. Насекомое съезжает вниз, как с горки, и сразу попадает в желудок к растению. А выбраться наверх по скользким чешуйкам не может. Мухи пытаются вылететь, но бьются о лист-крышку. Интересно, что внутри каждой колбы живут паучки, для которых желудочный сок не опасен. Они спокойно бегают по чешуйкам и воруют насекомых прямо из желудка растения.
Желудочный сок непентеса абсолютно стерильный и прекрасно утоляет жажду. Нужно только выгнать паучков и научиться не обращать внимания на полупереваренных мух. Те, кто отказывался пить из непентеса, все равно из него пили. Только через час.
* * *
Мы шли по саванне до вечера. Пока мы были в графике. Кино снималось, летучая мышь была поймана. Орхидеи отсняты и изучены. С утра мы должны были найти древесных и земляных термитов и поймать щитомордника — одну из самых ядовитых змей Юго-Восточной Азии.
Начинало темнеть, и я стал присматривать место для стоянки. В Юго-Восточной Азии спать на земле, как я уже говорил, очень нежелательно. Поэтому нужно было найти место, где можно повесить гамаки.
* * *
Прямо по курсу я обнаружил небольшую мелалейковую рощу. Мелалейки[21] очень интересные деревья. Их стволы, толщиной не более пятнадцати сантиметров, абсолютно ровные и уходят в небо на пятнадцать-двадцать метров. Кора отслаивается обильно. Ствол выглядит как растрепанный кошкой рулон бумажных полотенец. Шелуха устилает всю землю в мелалейковой роще. Древесина очень интересна. Она не гниет. И поэтому местные жители используют мелалейковые бревна как сваи для построек на воде.
Как ни странно, мелалейка известна абсолютно всем «цивилизованным» жительницам Европы и Америки. Она выделяет крайне токсичный эфир, смерть от которого наступает быстрая и мучительная. Но пахнет эфир приятно, в малых порциях его размешивают в постном масле. А иногда в машинном. Это масло продают в салонах и называют маслом чайного дерева.
Мелалейка не выделяет масла. И не имеет никакого отношения к чаю. Но приятно пахнущий субстрат косметологи считают лечебным. И покупательницы охотно отдают за него деньги. Они не знают, как выглядят маленькие грязные фабрики, где в смоляных котлах, не снимая противогазов, покрытые язвами доморощенные химики выпаривают из стволов душистый яд.
* * *
Между мелалейками мы и натянули свои гамаки. Перед тем как отойти ко сну, мы отправились обследовать рощу.
В темноте, покрытая лесным опадом и шелухой, почва буквально зашевелилась. Сейчас я опишу, как выглядела земля у нас под ногами. И вы поймете, почему на нее нежелательно ложиться спать.
Термитный заряд
Над рощей раздавался дробный стук. Во всех направлениях шествовали колонны термитов. Походы термитных армий похожи на небольшие ручьи. Термиты черные, блестящие. И их поток имеет ширину примерно в полметра. Конца и края у таких живых рек нет. Они петляют между камнями, уходят под скалы и вновь выходят на поверхность в самых неожиданных местах.
МИЛЛИАРДЫ НАСЕКОМЫХ ВЫГЛЯДЯТ КАК МАСЛЯНЫЕ РУЧЬИ.
Вдоль колонны, на всем ее протяжении, стоят термиты-барабанщики. Длинными передними лапками они отбивают ритм, похожий на ускоренное тиканье часов. Уровень громкости сопоставим с тихой барабанной дробью.
Сразу за стоящими барабанщиками находится цепь регулировщиков. Эти термиты стоят на задних лапках, держат свои тела вертикально, а руками показывают, куда идти. Они притормаживают и останавливают колонну, чтобы задние не подавили передних.
За регулировщиками — цепь конвоиров. Они двигаются со скоростью колонны мимо стоящих барабанщиков и постовых. Есть конвоиры пешие, а есть «конные». Они едут верхом на других термитах-охранниках. У охранников огромные головы с гипертрофированными челюстями. Простые демонстранты перед ними почти безоружны. Некоторые то и дело пытаются отстать от колонны, ослушаться регулировщиков, сбиться с ритма, задаваемого барабанщиками. Таких диссидентов охрана немедленно приводит в чувство. Избитые и искусанные, они бегом возвращаются в строй.
ТЕРМИТЫ — НЕ МУРАВЬИ. ОНИ ДАЖЕ НЕ РОДСТВЕННИКИ. ТЕРМИТЫ — ЭТО ТАРАКАНЫ. А МУРАВЬИ — ОСЫ, ЕСЛИ ЧТО.
Ядовитые твари
Вдоль текущих термитных рек сидят земляные жабы, гекконы и прочие существа, для которых термитная река — мобильная столовая. Жабы, почти не шевелясь, выстреливают время от времени длинные липкие языки и возвращают их в рот с несколькими приклеенными несчастными. Жабы почти не боятся термитов-охранников, так как и сами ядовиты. Ядовиты все жабы на всех континентах. У нас существует расхожая легенда о том, что, если подержать жабу в руках, будут бородавки. Это полная чушь. Но устроить беду с помощью жабы довольно легко. За ушами у каждой твари находятся плоские приподнятые площадки — это ядовитые железы. Они выделяют буфотоксины и ранатоксины.
Как пели смазливые солистки известной поп-группы, «это медленный яд». Деревенские колдуньи юга и средней полосы России давали своим клиенткам рецепт избавления от мужей с помощью жаб. Современные люди, к счастью, таким образом к решению вопросов не прибегают. А современные термиты прекрасно знают о такой особенности жаб, поэтому стараются по пустякам их не лизать.
Мы перешагнули через масляную термитную реку, распугали гекконов, которые, недовольно щелкая, разбежались по близлежащим стволам. И, освещая путь фонариками, двинулись к гнилым пням. Пни, к слову, сами светились, так как их пожирала особая фосфоресцирующая грибница. Здесь операторы остановились надолго. Так как на гнилушках желтые скорпионы охотились на радужных кивсяков (многоножек).
Желтые скорпионы гораздо опаснее черных, императорских, хотя выглядят не так устрашающе. Укус черного скорпиона — это просто очень больно. Укус желтого же может запросто отправить на тот свет.
Желтый скорпион похож на уродливую маленькую полупрозрачную креветку. Когда он боится, становится плоским, как лист бумаги, и очень быстро убегает. Свой смертоносный хвост он не держит над головой, как на картинках. Хвост лежит вдоль его тела, обвивая тварь справа. Шип не торчит наружу, он загнут под головогрудь.
Кивсяк — абсолютно безопасная тварь размером со стандартную молочную сосиску, весит примерно пятьдесят-семьдесят граммов. Тело его состоит из члеников, покрытых довольно прочными хитиновыми скорлупками. Из каждого членика с двух сторон торчат ноги. Они короткие, но их много, до тысячи на взрослой особи. Кхмеры считают кивсяков смертельно ядовитыми. Они уверены, что любое прикосновение к кивсяку, не говоря уж о его укусе, становится причиной мучительной смерти: человек гниет заживо.
Это не так. Справедливости ради надо сказать, что кхмеры считают всех ящериц и змей одинаково смертельно опасными.
На ярком солнце тело кивсяка переливается всеми цветами радуги. Хотя на самом деле оно черное. Единственная защитная реакция, на которую способен кивсяк, — выделение резко пахнущей жидкости, фенола. Некоторые лемуры специально ловят кивсяков и лижут их, добиваясь фенольного наркотического опьянения. Питается кивсяк гнилыми листьями. Ими же и испражняется.
Скорпионы подкарауливают проходящих мимо и похожих в размерном соотношении на электричку кивсяков. Хватают их передними клешнями, засовывают голову в рот и не позволяют кивсяку свернуться калачиком, растягивая его между руками-педипальпами. Потом поднимают хвост и медленно, нащупывая слабые места между чешуйками брони на спине, наносят маленькие укусы. Парализуют жертву. Дело в том, что кивсяк — прототип компьютерной сети. У него не один мозг, как у нас с вами. В каждом членике свой мозг. И он отвечает за свою пару ног. Если воткнуть булавку в один из члеников кивсяка, все ноги ниже по течению будут шевелиться хаотично. Синхронная работа всего аппарата достигается только при работе всей нервной сети.
По задумке сценария, я должен был рассказывать все это, держа каждую тварь в руках. И если с кивсяком все было просто: я под аккомпанемент всхлипываний со стороны кхмеров о моей ближайшей кончине запускал кивсяка по рукам и лицу, лизал его, показывая, как это делают лемуры, то со скорпионами все было иначе. Скорпионы очень сообразительные, трусливые и быстроходные существа. Издалека завидев приближающуюся руку, они прыжками устремлялись в глубину гнилого пня. Нам приходилось разбирать гнилушки, докапываться до углублений, где они затаились. В конце концов одного мы загоняли. Я медленно поставил перед ним ладонь, свернутую трубочкой. Коллега тихонько пугнул скорпиона сзади, и тот пулей залетел в полусжатый кулак, думая, что это норка. Несколько минут я не шевелился, успокаивая своего героя.
Коллеги поставили свет, и я медленно развернул руку перед своим лицом. Рассказал в камеру все, что надо. Но тварь не шевелилась. Для нас это было плохо, так как мы не хотели обвинений в том, что в руке у ведущего не живое существо, а мумия, купленная на сувенирном рынке. Тогда мы попробовали посадить кивсяка на ладонь, прямо перед скорпионом. Это немедленно дало свои плоды. Скорпион напал. Кивсяк завонял. Съемка закончилась. Я вытер руки об штаны.
Вслед за коброй
Мы пошли дальше. В свете фонарей мимо нас проползла крупная королевская кобра. Она называется «офиофагус ханах» (лат. Ophiophagus hannah), то есть «пожирающая себе подобных». Действительно, эта змея питается другими змеями. Причем преимущественно ядовитыми. Кхмеры тут же стали вопить, пытаясь отпугнуть смертоносную хищницу. Мы только улыбались. Не стали рассказывать кхмерам о том, что змея глухая. А офиофагус ханах для нас был настоящей находкой. Потому что это змея спокойная и благонравная. Не зря в бродячих цирках заклинатели используют именно их.
Мы быстро догнали кобру. С помощью герпетологического крючка заставили ее свернуться и поднять голову. Змея стала раздувать капюшон, шипеть и делать выпады. Это то, что нам было нужно.
КОБРА ОЧЕНЬ РЕДКО НАНОСИТ УКУС ИЗ СТОЙКИ. И Я БЫСТРО ОТГОВОРИЛ НУЖНЫЕ СЛОВА, ПРИСЕВ ПЕРЕД НЕЙ НА КОРТОЧКИ. С ТОЙ ПОРЫ КХМЕРЫ МЕНЯ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ЗАУВАЖАЛИ.
Мы отпустили змею и пошли дальше по роще. Навстречу нам стремительно ползла азиатская кобра. Это существо совсем другого нрава. Ее яд в десятки раз сильнее, чем у королевской. У нее нет капюшона и мозгов. Она никогда не уступает в лесу дорогу. Продуктивность ее ядовитых желез на порядок выше, чем у большинства змей региона. Если укус королевской кобры — это сто процентов смерти, то укус азиатской — все двести. Причем яд она не экономит, может кусать направо и налево. Она плюется и снайперски попадает. Зубы у нее не закреплены в челюсти прочно, и при укусе она перебирает ими по телу жертвы, как ногами.
В нашей героине было примерно полтора метра. Она вошла в нашу компанию, как нож в масло. Все отпрыгнули в разные стороны. И она поползла дальше. Мы погнались за ней. Она развернулась, и коллега ловко прижал ее голову крючком к земле. Я перехватил ее за основание черепа, держал настолько крепко, насколько это было возможно, чтобы не покалечить змею. Некоторое время ушло на то, чтобы размотать ее тело, крепко сжимавшее мою кисть, запястье и предплечье. Это всегда необходимо делать, чтобы иметь возможность быстро отбросить пойманную змею, если что-то пойдет не так.
Зажатая между большим, указательным и средним пальцем голова змеи выглядела недобро. Рот криво приоткрылся, маленькие глазки не мигая смотрели на окружающих, все ее лицо было преисполнено первородной ненависти. Черный язык был вывален из угла рта и безжизненно лежал у меня на пальце.
РАЗДВОЕННЫЙ ЯЗЫК ЗМЕЙ ЛЮДИ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ЖАЛОМ. НА САМОМ ДЕЛЕ ЯЗЫК — ЭТО ОРГАН ОСЯЗАНИЯ, ОБОНЯНИЯ И ПОДОБИЯ СЛУХА.
Оператор стоял напротив меня, в двух метрах. Худой и бородатый человек в больших очках. Снимали с рук: штатив не было времени поставить. Соответственно, объектив немного двигался относительно его лица. Я рассказал все про змею и уже готов был ее отпускать, когда она плюнула.
Большие брызги оказались на очках и объективе. Все закончилось хорошо. Змею мы отпустили. Потом несколько раз пересматривали эту запись. Змее было неудобно: она висела и не могла крутить головой — ее удерживали пальцы. Она не могла открывать и закрывать рот. Однако при замедленном просмотре прекрасно видно, что ее зубы действовали независимо друг от друга, как два пулемета, работающие из одного укрытия. Каждый из зубов произвел по три плевка. Каждый плевок попал в свою цель: в две линзы очков оператора и в объектив камеры. Она видела перед собой три глаза и точно поразила свои мишени. Яд сильно пах синильной кислотой, его было не меньше столовой ложки. Мы отправили оператора в лагерь умываться.
* * *
До ужина нам оставалось поймать только сколопендру. Дефицита этого добра не было. Большие и маленькие, они шуршали по всему подлеску. Нам, конечно, нужна была большая, ведь зритель не любит сидеть в последнем ряду. И мы обшаривали кусты в поисках достойного экземпляра. Вот маленькая серая, чавкая, жрет слизняка. Вот побольше, величиной с толстый фломастер, катается клубком в обнимку с агонизирующей ящерицей.
А вот и та, которая нам нужна. Черная. Размером с батон салями. Каждый членик ее тела — со спичечный коробок. В том месте, где снизу к членикам крепятся ноги, яркая оранжево-желтая полоса. Гигантская сколопендра поедала только что убитую крупную крысу. Тело крысы покрылось волдырями, в местах укусов выпала шерсть, ткани расползлись, лапки еще подергивались в конвульсиях. Но из пораженных мест уже вытекала полурастворенная плоть.
У сколопендры, как и у пауков, пищеварение внешнее. Ее яд — ее же желудочный сок. Укушенный растворяется изнутри, переваривается, а хищник выпивает свою жертву как коктейль через трубочку. У сколопендры, как и у паука, есть хелицеры и педипальпы. Что в переводе на русский означает ногочелюсти. Каждый коготь на ноге — зуб. И каждый зуб ядовит. А ног полсотни по каждому борту. Сколопендре даже не нужно кусать. Просто пробегая, например, по спящему человеку, она оставляет две огненные дорожки. Контакт с такой крупной тварью для человека, скорее всего, будет смертельным.
Взять сколопендру ночью в руку задача сложная. Поэтому съемку с ней решено было перенести на следующий день. Я аккуратно упаковал тварь вместе с дохлой крысой в трехлитровую банку. Мы завязали горло банки тряпочкой, предварительно насыпав внутрь пожухших листьев. До съемки она должна была провести время с комфортом.
Я вытер руки об штаны, и мы пошли ужинать.
* * *
На ужин Юи приготовила жареный апынь. Пахло очень вкусно. В плоской сковородке, похожей на раздавленный казан, шипело растительное масло с чесноком и специями. Горяченькие апыни лежали рядом, на листьях банана. Еще не приготовленные апыни шуршали в листве вокруг. Недостатка в них не было.
АПЫНЕМ КХМЕРЫ НАЗЫВАЮТ КРУПНОГО, С ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЛАДОНЬ, ПАУКА СЕЛЕНОКОСМИЮ.
Селенокосмия исключительно волосата. И, как и все пауки, смертельно ядовита для человека. Да-да. Даже самый маленький паучок, сидящий у вас в углу за картиной, мог бы убить человека. Просто челюсти у него слишком маленькие, чтобы прокусить человеческую кожу. И количество яда ничтожно.
Селенокосмия-апынь не из таких. Она все может. Не зря относится к птицеедам. У нее хорошие зубы и много яда. Для нее не представляет труда с одного укуса убить мышь или певчую птицу. Каждый волосок селенокосмии содержит яд. На брюшке волоски короткие, как набивной бархат. На спине длинные, как человеческие брови. На лапках жесткие, как кошачьи усы. Она незлоблива и кусается, только если ее забесить. Если она чувствует опасность, подбирает лапы под себя, становится размером с компьютерную мышь. И встряхивается. Во время встряхивания вокруг селенокосмии поднимается облачко выпавшей шерсти. Эта шерсть, оседая на кожу врага, вызывает сильнейший зуд. В десятки раз превосходящий ощущения, которые испытывал каждый вытиравший зад стекловатой.
Кхмеры ловят селенокосмий без церемоний. Хватают за спину и живьем отправляют в кипящее масло. Паук тут же вытягивает лапы вдоль тела, шерстинки склеиваются постным маслом. Едят пауков, откусывая большими ротушками. Начинают обычно с головы, оставляя толстое брюхо напоследок. Там самое вкусное — печеные паучьи яйца. Шерсть забивается между зубами и липнет к ним. Выковыривание остаков пищи из зубов — обязательный ритуал, символ отдыха после сытного ужина. Если паук был старым, то приходится выплевывать пятки. Их восемь. Они очень жесткие.
По вкусу пауки напоминают жареные шкварки. Очень жирное и питательное блюдо. Сильно хрустит, потому что хитиновый покров превращается в подобие волосатых чипсов. Нельзя понять, где у паука мясо, где жир, где кости. Его тело превращается в полужидкое слизистое сало в хрупкой корочке.
ПОКА НАС НЕ БЫЛО, ЮИ НАЛОВИЛА И НАЖАРИЛА НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХСОТ ТВАРЕЙ, ЧТОБЫ ВСЕ МОГЛИ НАСЫТИТЬСЯ.
Еще подавали гигантских водяных клопов-белостом. Это реально отвратительнее, чем паук. Жизнь белостомы связана с водой. Очень похожи на наших жуков-плавунцов, но в десять раз больше. Размером примерно с две трети сигаретной пачки. Их наловили еще в туманном лесу. Но я не знал об этом. Когда раскусываешь белостому, из ее живота вываливаются белесые кишки, похожие на лапшу доширак.
Я предпочел пауков.
Надеюсь, теперь вам понятно, почему в Азии никогда не нужно спать на земле.
Дерьмовый дождь
Утром мы продолжили наше путешествие. Мы должны были двигаться к морю через первичный лес. Первичный лес — особенная разновидность джунглей. В нем нет подлеска и всегда тень. Наша задача была по пути до моря обнаружить куканга. Еще нас интересовала птица-носорог и летучие лисицы.
Куканга нужно было потискать. Птиц-носорогов просто снять на дереве. А летучая лисица нужна была мертвая. Ее скелет мы должны были доставить в один из европейских музеев.
Поиск летучих лисиц представлялся самым продуктивным. Так как вылетают они по вечерам, а днем спят на огромных деревьях, завернувшись в крылья, как в плащи.
Летучие лисицы очень похожи на летучих мышей. Только огромные. Тело величиной с собаку породы той-терьер. Размах крыльев у взрослой особи превышает метр. Так же как летучие мыши к мышам никакого отношения не имеют, так и летучие лисицы к лисам не относятся. Летучие мыши насекомоядные. А обычные мыши — грызуны. Летучих мышей стали называть так потому, что немецкий ученый древности называл их «флёдермаус». Ему простительно, что он не знал классификации.
Прежде чем перейду к лисицам, расскажу немного о ночном ориентировании летучих мышей.
Все знают, что в полной темноте они носятся по воздуху на огромной скорости, огибая препятствия. И ученых всегда интересовало, как они могут видеть. На заре зоологии был такой ученый Сполонцани. Он решил выяснить этот вопрос весьма изуверским способом. И для начала выколол подопытным мышам глаза. Каково же было его удивление, когда он увидел, что физически слепые мыши не потеряли способности видеть в темноте.
Тогда Сполонцани залил им уши воском. И вот тут они остановились. Так было открыто явление эхолокации.
В ПОЛЕТЕ МЫШЬ ПОСТОЯННО КРИЧИТ. ЕЕ ЗУБАСТЫЙ РОТИК ОТКРЫТ. НО ЧЕЛОВЕК НЕ СЛЫШИТ ИХ КРИКА, ПОТОМУ ЧТО НЕСПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ ЗВУКИ НА ЭТОЙ ЧАСТОТЕ.
Летучая мышь знает свой вопль. И ловит его отражение от предмета.
Крыльев у летучих мышей тоже нет. Они держатся в воздухе благодаря кожистым перепонкам между пальцами рук.
Мышь, в отличие от птицы и самолета, может изменять геометрию крыла, шевеля пальцами. И именно поэтому летучим мышам доступны фигуры высшего пилотажа, на которые больше ни один летун не способен.
Мыши гоняются за комарами, многократно превосходя их в искусстве полета.
Летучие лисицы насекомых не едят. Они плодоядные, то есть едят фрукты. В Камбодже несколько десятков деревьев, которые много тысячелетий служат вешалками для дневного сна этих представителей рукокрылых. Летучие лисицы, так же как и мыши, не могут стоять на своих тонких ножках, их задние лапки предназначены лишь для того, чтобы висеть, как крепкие ниточки. А висеть они любят там, где висели их предки.
Мы относительно быстро нашли в первичном лесу древнее дерево, сплошь увешанное лисицами. Эти животные очень территориальны. То есть никогда не изменяют своим привычкам: колония всегда спит на одном и том же дереве. Например, в центре Пномпеня есть дерево, откуда летучих лисиц не смогли прогнать ни владыки империи Камбуджадеша, ни члены королевского семейства, ни даже Пол Пот. Правители не любили лисиц из-за того, что днем с дерева, на котором они спят, льется непрекращающийся дождь из дерьма.
В далеких джунглях, в которых мы сейчас находились, говенные потоки мешали только нам. И мы, подняв лица, высматривали жертву. Кто-то из команды выстрелил в подходящую особь из духового ружья. Дерево было высоким, метров тридцать. И через несколько секунд к нашим ногам упал искомый трупик. Колония не заметила потери бойца. Когда из стройных рядов висящих вниз головой лисиц выпала наша жертва, остальные молча поправили плащи и посвободнее разместились на ветке, для того чтобы продолжить сон.
Я подошел к летучей лисице и очень удивился — ее тело было абсолютно протухшим. Невозможно! Ведь смерть наступила всего несколько секунд назад. Тхера объяснил, что это совершенно нормально: процесс разложения в первичном лесу проходит очень быстро.
Действительно, еще через полчаса я собрал весь скелет в коробочку. Плоть летучей лисицы стекала на землю, как густые чернила. Собирая полностью очищенные от сгнившей плоти кости, я задумался о том, как нежелательно было бы получить в этих широтах инфицированную рану. Ведь климатические условия могли способствовать быстрому развитию сепсиса.
Буквально через несколько дней нам пришлось столкнуться с такой проблемой, но об этом я расскажу чуть позже.
Все на куканг
Мы быстро шли через первичный лес к берегу Южно-Китайского моря. Встреча с кукангами была назначена на предвечерние часы, а птиц-носорогов я рассчитывал застать на рассвете.
Найти куканга в лесу очень сложно. Это небольшой медлительный зверек, активничает он только вечером и ночью. На землю почти не спускается, сидит в кронах, может быстро убежать по веткам. Куканг редко кусается, но когда кусается, укушенный запоминает это надолго. Тупые зубки куканга сжимаются на пальце жертвы медленно, но с огромной силой. Человек не может предположить, что в таком маленьком ротике таится такая колоссальная сила. Челюсти взрослого куканга смыкаются с усилием почти в тонну на квадратный сантиметр. При этом круглые невинные глаза очень по-доброму смотрят на жертву.
В кронах деревьев под вечер мы обнаружили движение. По характерному шипению и вяканью я понял, что куканг, а может быть даже не один, прямо над нами. Мы быстро повесили веревки и полезли на охоту. Нужно было делать все быстро, пока окончательно не стемнело, потому что с темнотой куканг должен был ускориться, а мы, наоборот, замедлиться.
Я СТАРАЛСЯ НЕ СМОТРЕТЬ ВНИЗ, ПОНИМАЛ: ЛЕТЕТЬ С ТАКОЙ ВЫСОТЫ, НАВЕРНОЕ, СЛИШКОМ ДОЛГО, МОЖНО ТАК ЖЕ БЫСТРО ПРОТУХНУТЬ ПО ДОРОГЕ, КАК ЛЕТУЧАЯ ЛИСИЦА.
Когда удалось встать ногами на ветки, появилась уверенность в завтрашнем дне. Семья кукангов — мать, отец и двое детей — медленно уходили по веткам еще выше, шипя, как четыре паяльника. Суть съемки в тот момент заключалась в тактильном контакте между ведущим, то есть мной, и героем программы, то есть кукангом. Я решил не трогать детей и смело протянул руку к пушистому самцу. Он не стал убегать, а сразу обнял меня потными ручками. И я решил, что съемка практически состоялась. Нужно было спуститься и отговорить в камеру необходимые слова, а потом поднять зверька обратно в крону и вернуть жене и детям.
Я стал медленно спускаться на восьмерке (альпинистское снаряжение) по веревке вниз, упираясь ногами в ствол. Правую руку крепко обнимал куканг, поэтому со всем снаряжением я управлялся левой рукой. Примерно на середине пути, когда до земли оставалось метров десять, куканг нежно забрал большой палец моей правой руки в теплые губки.
Коллеги с земли закричали, предупреждая меня об опасности, но я в тот момент не понимал всей тяжести нависшей надо мной угрозы.
Примерно на высоте второго этажа я понял, что давление становится нестерпимым. Попробовал выдернуть палец изо рта у пушистого ангела, но для этого требовалась как минимум вторая рука. А она была занята. Я понял, что на съемку уже наплевать и попробовал стряхнуть куканга вниз. Его лапки быстро разжались. Но от моей руки он не отделился.
ЧЕЛЮСТИ ПРОДОЛЖАЛИ СЖИМАТЬСЯ. МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО КОСТЬ ВОТ-ВОТ ХРУСТНЕТ.
Двое моих коллег снизу стали тянуть куканга на себя, засунули ему за щеку деревянную ручку ножа «Опинель». О том, чтобы разжать челюсти, не могло быть и речи. Сейчас все делалось для того, чтобы зверек не мог сжимать их дальше.
Французы делают «Опинели» для нужд своей армии. У этого ножа рукоятка была буковая. Бук очень крепкое дерево. И давление на палец вроде бы ослабло. Но очень скоро рукоятка стала предательски потрескивать. Мелкие щепки вздыбливались по мере того, как дерево проминалось.
Кукангу на голову стали лить холодную воду из фляжки, отвлекать его, щипать и уговаривать разжать ротик. Зверек стремительно терял товарный вид. Снимать его уже не имело смысла. На его невинном личике было написано: «Я очень хорошо к вам отношусь, ничего против вас не имею, но механизм запущен, я ничего сделать не могу и палец разжую».
Куканга угостили сахарным сиропом из запасов Сри. Он проглотил много капель, но еще больше сиропа оказалось на его шубке. Куканг быстро превращался в мокрую соскатую крысу. По подбородку у него текла кровавая роса, вытекающая из моей сжимаемой фаланги. Тогда коллеги догадались прыснуть ему в нос из шприца виски. Давление стало ослабевать. Скоро я вытащил раздавленный палец. И еще через минуту изо рта у куканга извлекли практически уничтоженный нож французского десанта.
Пока я приплясывал, отчаянно дуя на свой палец, куканга, завернутого в спальный мешок, доставили обратно в крону. Там он с невозмутимым видом отправился к жене и детям, сжимая в зубах кусок одеяла, которое пришлось уже в кроне отрезать ножом. Оказавшись в родной листве, он потратил минут десять на то, чтобы выплюнуть одеяло. И начал вылизывать шубку.
А мне доставили на землю ребенка. Он и стал главным героем фильма о куканге. Фильма, в котором зритель ни разу не видел мою правую руку.
Несмотря на удивительную травму, мы сочли день удачным. Развесили гамаки, отправили юного куканга к родне. И легли спать.
Я хотел вытереть руки об штаны. Но вытер только левую. Правая очень болела.
Курс на Ронг
Проснулись мы затемно. От крика птиц-носорогов. Мое участие в съемках не требовалось. Судьбу эпизода решала и решила длиннофокусная оптика. План съемок в первичном лесу был выполнен, и мы вышли на берег Южно-Китайского моря, где нас ждал скоростной катамаран для отправки на остров Ронг.
Катамаран принадлежал французам, мужу и жене. Он и сейчас выполняет регулярные рейсы на остров. Муж — настоящий капитан. А жена — настоящий боцман. Огромная женщина, очень хорошо сложенная, мускулистая, как Шварценеггер, сплошь покрытая олдскульными татуировками. На ее теле теснились якоря, игральные карты, русалки, черти, соборы, полумесяцы и другие боцманские украшения. Все это не могло отвлечь наших взоров от огромной груди, наверное, девятого размера. Она очень быстро укладывала канаты, раздавала спасательные жилеты и разливала ром.
Скоро катамаран взял курс на Ронг. На море была сильная волна. Два огромных мотора быстро вывели судно на глиссаду, и нам приходилось держаться двумя руками, чтобы не вылететь за борт. Катамаран скакал с гребня волны на гребень. И каждый раз ударялся об воду, как самолет во время жесткой посадки.
ГРУДИ БОЦМАНА ПРЫГАЛИ СИНХРОННО СО ЗРАЧКАМИ ЧЛЕНОВ МОЕГО ОТРЯДА.
Через час волны превратились в рябь. И мы уже по спокойной воде Ронгской бухты стали швартоваться к старому деревянному пирсу, обросшему острыми ракушками. Нам нужно было на другую сторону острова. Я решил жить в старой колонии хиппи. На противоположном берегу, вдали от поселений кхмеров хиппи много лет назад построили небольшие хижины, где жили уединенно вдали от цивилизации.
Ронг — очень большой остров вулканического происхождения. В центре огромный горный хребет, надежно защищающий хипистский пляж от вторжения местных.
Мы быстро перекидали вещи в маленькую голубую лодку, на бушприте которой были закреплены цветы — подношения богине вод Ниин Кон Хир Ни. Черный островитянин завел газонокосилку, служившую мотором и гребным винтом. И мы двинулись вокруг острова к месту, где я собирался остановиться на несколько дней.
Ронг, о котором я сейчас пишу, в наше время уже не существует. Леса вырубили и выжгли. Саванны перекопали. Горный хребет бульдозерами сровняли с землей и сделали там взлетно-посадочную полосу. А тогда это был настоящий рай. Белоснежные пляжи спускались к лазурно-голубой воде. Скалы, увитые бугенвиллеями и поросшие мелиями, громоздились над пляжами. И над горами летали непуганые птицы из Красной книги. Остров цвел, и повсюду были плоды, пригодные в пищу.
Наша лодка остановилась метрах в ста от берега. Мы спрыгнули за борт. Воды было по грудь. Взяли на голову рюкзаки и пошли на пляж. Песок на Ронге удивительный — крупный, белый как бумага и совсем не липнет к телу.
На нашей стороне острова пляж растянулся на десять-пятнадцать километров и в ширину достигал около ста метров. Кое-где здесь росли склоненные к воде пальмы. За пляжем сразу начинались джунгли. На первой линии росли деревья путешественников, или равенала мадагаскарская. Они очень напоминают банановые. Но бананы на них не растут. Листья, в отличие от банановой пальмы, расходятся ровным веером. Считается, что этот веер отбрасывает тень, в которой с удовольствием может отдыхать любой путешественник.
За тенистой ширмой тянулись поляны дикого имбиря. И уже за ними виднелись ротанги и колючки. За непроходимой изгородью наверх до самого плато начинались горные джунгли.
Нас вышел встречать одинокий пожилой хиппи, предложил располагаться в хижинах для путешественников и сообщил, что из продуктов имеется только рис, капуста и яйца. Но это не беда. За продуктами можно сходить на ту сторону острова — через горный хребет.
ТРОПУ ЛЕГКО УЗНАТЬ. ОНА ОТМЕЧЕНА ПРИБИТЫМИ К ДЕРЕВЬЯМ ТАПОЧКАМИ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПО ЭТОЙ ТРОПЕ ПРЕДПОЧЛИ ИДТИ БОСИКОМ.
Работать в этот день мы не планировали. И в команде царило пляжное настроение. Все хотели пива, мороженого и купаться.
Я решил позвонить маме. Но связи не было. Хиппи сказал, что связь есть на вершине горного хребта, и мы единогласно решили идти за пивом. И заодно позвонить.
Хижины, где мы разместились, стояли на столбах. Они были сколочены из неструганых досок, сделанных прямо на острове с помощью бензопилы. Окон и мебели не было. Крыши соломенные. У каждого домика огромное крыльцо-веранда. Мы мечтали, как будем сидеть на этих верандах и пить пиво, глядя, как солнце Камбоджи опускается в изумрудное море.
Тропу мы нашли сразу: первые тапочки были прибиты прямо у хижин. Мы двинулись гуськом. Лесная дорожка шла на подъем. Вечерело.
Вскоре мы заметили, что тропа становится каменистой и уходит в гору под гораздо более острым углом. Через несколько минут мы уже не шли, а карабкались, цепляясь за камни. Тропа стала незаметной. И только прибитые тапочки указывали нам путь. Наша сторона острова восточная, а обитаемая — западная. Солнце перевалило за хребет, и силуэты деревьев на скале, по которой мы лезли, стали неразличимы. Коллеги решили отказаться от пива и захотели вернуться, но мне нужно было звонить. Тем более что хиппи сказал: путь от пляжа до хребта занимает не более получаса.
Мы шли уже минут двадцать пять. Я поглядывал на телефон: не появилась ли связь. Рассчитывал, что звонить можно будет с минуты на минуту. Между тем мы добрались до отвесной скалы. Каждые шесть-восемь метров подъема на скале высился узкий порог-терраса. От низа до первой террасы шла толстая, кривая, отполированная руками лиана. В двух местах к ней были приколочены розовые вьетнамки. Мы полезли.
На первой террасе было достаточно широко. Можно было стоять даже боком. В полутьме мы стали обшаривать стенку, ища, за что зацепиться. Метрах в десяти справа от лианы обнаружилась достаточно толстая полуистлевшая пеньковая веревка с узлами. Хватаясь за узлы и упираясь ногами в скалу, мы полезли наверх.
Вторая терраса была совсем узкая. На ней мы почти не задержались и полезли по веревке еще выше.
На следующем карнизе мы остановились отдышаться. Я смотрел на маленьких ящериц-драконов. Они сидели, зацепившись за скалу, и тихонько щелкали. В самый неожиданный момент серо-зеленое существо оживало, растопыривало оранжево-красный плащ и, планируя, улетало в пропасть. Очевидно, там внизу они цеплялись за стволы галерейного леса.
Между тем тапочки, цвет которых был уже неразличим, вели нас еще выше.
Мы карабкались, когда с вершины посыпались камни. Послышался бодрый старческий голос. С вершины прыжками неслась пожилая англичанка. Про таких говорят «бабка-изюм». Сморщенная, костлявая, фиолетово-коричневая от загара. Карга неслась под гору, опираясь на две палки для скандинавской ходьбы. Видимо, она предполагала, что остановиться не сможет, и поэтому стала кричать на своем языке «дайте дорогу» задолго до того, как мы ее увидели. За что она цеплялась, непонятно. Она явно принадлежала к хиппи и мчалась из магазина. Это укрепило нашу веру в то, что мы почти у цели.
Отвесные скалы закончились, и мы вступили на хорошо протоптанную тропу, по-прежнему ведущую в гору. Находили тапочки-указатели наощупь и, тяжело дыша, поднимались.
Слышалась тихая музыка, а значит, селение, к которому мы шли, было близко. Опять захотелось пива. Мы были мокрыми насквозь от пота. Жара казалась нестерпимой. Наши организмы не были готовы к неожиданному, но необходимому марш-броску. Во тьме на одном из деревьев я увидел очертания вывески. Посветили зажигалкой и обнаружили прибитую к дереву табличку, выкрашенную синей краской. На ней белыми буквами по-английски было выведено: «Джунгли».
Указатель нас озадачил. В принципе, мы догадывались, что находились именно в джунглях. Но то, что здесь они только начинаются, было сюрпризом. Мы рассчитывали совсем на другое.
Связи по-прежнему не было. Серп луны висел высоко в небесах и мало давал света. Луна в Камбодже выглядит не так, как у нас. Наш месяц, когда нарождается, смотрит рожками влево, а спинкой вправо. А если стареет — рожками вправо, а спинкой влево. А в Камбодже висит либо рогами вниз, либо рогами вверх. Сейчас они торчали вверх.
Сзади послышался крик «бабки-изюм»: «Дорогу!» Карга, улыбаясь, проскакала мимо нас на палках. «Искупалась», — подумали мы. «Туристы», — подумала бабка. И скрылась во тьме.
Скоро появилась связь. А через час мы дошли до пива. На западном берегу царил разврат. Гремела музыка, выплясывали голые туземцы. Струился подозрительный дым. Пахло жжеными тряпками.
Подошел негритенок, распахнул полы пиджака, продемонстрировал ассортимент: кокаин, героин, крэк, марихуана, гашиш, экстази. Все по доллару. Мы предпочли пиво. Сели на песок и стали смотреть на светящееся море. Море в Камбодже действительно светится. Даже на трезвую голову. Мириады голубых искр заполняли всю прибрежную полосу. Свечение становится слабее в тех местах, где в воде отражается луна или свет редких керосиновых ламп.
Мы отправились купаться. И выяснили, что свечение становится сильнее стократно вокруг пловца. Если начать брызгаться, море в радиусе трех метров горит, как неоновая лампа. Если нырнуть и открыть глаза, перед ними несутся яркие голубые искры, как от сварки. Мы искупались, взяли еще по пиву и мороженое. И отправились в обратный путь.
Жара была под сорок. Решили начать с мороженого, чтобы оно не пропало. Вскоре выяснилось, что идти гуськом в полной темноте с мороженым невозможно. Мы тыкали им друг другу в спины, и липкие пятна ломали кайф.
Остановились, чтобы проглотить остатки. И тут началось шоу.
* * *
В песок западного берега один за другим стали тыкаться носами небольшие кораблики. Вспыхнул электрический свет. Это прибывали передвижные публичные дома. Проституток всех мастей сгружали на берег и выстраивали по росту. Белые, черные, желтые, молодые и старые, худые и толстые. В костюмах жар-птиц, в шляпках и совершенно голые… Их было не меньше сотни. Для Камбоджи это странно. Вообще, кривая проституции выглядит совсем не так. Женщины легкого поведения работают в этой стране без сутенеров. Партнерство строится на доверии и взаимной ответственности. Проститутки обычно одеты скромно. И никогда открыто свои услуги не предлагают. Клиент должен сесть за пустой столик и купить две банки газировки. Одну открыть и поставить перед собой. А другую держать закрытой. Женщины с пониженной социальной ответственностью станут подсаживаться. Посидят три минуты и уходят. Если клиенту девушка понравилась, он пододвигает ей банку. С этой минуты выбор сделан. И больше их никто не беспокоит.
На острове все было не так.
Сутенеры суетились. Предлагали товар лицом. Обозначали цены и торговались. Мы их особенно интересовали, так как остальная клиентура была знакома с ассортиментом и прейскурантом и выглядела значительно менее платежеспособной.
Нам было не до продажной любви. Мы и так натрахались вдоволь, переходя хребет. И поэтому весь наш отряд быстро скрылся во тьме.
* * *
Мы шли по темным джунглям и обсуждали Камбоджу. Она оказалась совсем не такой страшной страной, как нам рассказывали перед командировкой.
Обратный путь был легче. И хотя было абсолютно темно, ничто не затормозило нас. Только один раз крупная кобра переползала дорогу, и мы приостановились, уступая ей путь.
Мы обсуждали, почему по тропе лучше ходить босиком. И не находили ответа. Ответ сам нашел нас на следующий день. А пока мы разместились на верандах хижин и, негромко переговариваясь, смотрели на светящееся море.
Ночью в хижину пришли крысы. Я уже уснул, когда домик буквально затрясся от их нашествия. Я вытащил карманный фонарик и осветил комнату. Крысы были повсюду. Жирные, лохматые и лоснящиеся. В первую очередь их интересовали сумки. Некоторые сидели на краях поклажи, а некоторые, склонившись, выбрасывали передними лапками все из баулов. Мелкие предметы они вертели в руках, пробовали на зуб и откидывали. Крупные тащили, упираясь всеми лапами. Вытащив на пол, разворачивали одежду, обследовали карманы. И опять углублялись в баулы.
На острове проживает более двадцати видов различных крыс. Доминирующая раса — знакомые нам, россиянам, пасюки. Камбоджа — родина пасюков. Они приехали в Старый Свет в баулах на спинах верблюдов по Шелковому пути. И на кораблях завоевателей.
Одна из крыс радостно заверещала — она обнаружила в моей сумке грим. Все стали жрать пудру. Вокруг крысиной стаи поднимались белые облака. В коробке с гримом лежали леденцы. Они пошли нарасхват.
Я попробовал прогнать крыс. Они отнеслись с пониманием: обиженно посторонились и расселись по углам комнаты. Когда я улегся, веселая орда вновь принялась за разбор сумок.
Я решил спать и не обращать на них внимания. Ведь крысы здесь, наверное, никогда не пробовали леденцов.
На следующее утро мы опять двинулись по тропе. Нам нужно было попасть в джунгли и выйти к мангровым болотам. Кхмеры настаивали на том, что обувь следует снять. И все последовали совету, кроме одного высокого худого белобрысого и очень опытного оператора.
Зачем европейцам галстук?
По дороге речь зашла о крысах. Я рассказывал историю их переселения из Камбоджи в Россию. Рассказывал о Великом шелковом пути. Загадывал свою любимую загадку.
Что это за товар такой — шелк? В чем его ценность? Почему его нужно везти через весь мир? Ведь путь каравана в одну сторону занимал почти десять лет. Самые опытные караванщики не проходили этот путь больше трех раз за жизнь. Специи, драгоценности — это понятно. Но почему путь называется Шелковым?
Мои собеседники, как всегда, выдвигали разные версии. Мол, ткань к телу приятна. Красива. Богата. Но это все, как вы понимаете, не оправдание. В Старом Свете было много всего красивого и приятного. И ценность шелка определялась не его физической красотой и тактильными свойствами. Он ценился дороже золота и камней совсем по другой причине…
Есть две подсказки. Первая: когда человек догадался добавить в железо углерод? И вторая: откуда в Европе появился галстук и зачем он нужен?
Это то место в рукописи, где писатель отчаянно борется в моей душе с рассказчиком. Рассказчик хотел бы уже сейчас раскрыть секрет, но писатель побеждает. И я вас еще помучаю.
Так вот о первой подсказке. Если не добавить в железо углерод, предмет невозможно заточить. А если нельзя заточить, значит, нельзя и побриться. И в те времена, когда бриться было нечем, а тело человека было покрыто волосами, одними из самых назойливых и неприятных спутников людей были вши. Каждая волосинка для них была родильным домом — на каждой волосинке вши оставляли свои яйца, гниды. Причем лобковые вши не отличаются от головных. И ходят они по немытому человеку вверх-вниз и кусают его люто.
Остается вторая подсказка — галстук.
ШЕЛК — ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ПРИРОДНЫЙ ИНСЕКТИЦИД ПРОТИВ ВШЕЙ. ДЛЯ НИХ ШЕЛКОВАЯ НИТЬ — НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ.
Богатые одевались в шелка и спали на шелках, чтобы не чесаться. А бедные могли позволить себе лишь шелковую ленту на шею. Она не давала вшам мигрировать с лобка на голову и обратно.
Как только человек добавил углерод в железо и получил сталь, появилась бритва. И Шелковый путь прекратил существовать. А шелковая лента стала просто модным атрибутом. И ее называют галстуком.
Интересно, что Шелковый путь никогда не заходил в глубь России. А все потому, что у нас были бани. И вши не досаждали нам, как немытым европейцам. А европейцы, вместо того чтобы мыться, брили свои тела и бороды. Эту культуру они внедрили и в российскую жизнь при Петре Первом. Но мыться русских людей не отучили. И сами до сих пор не научились.
Первая кровь
Днем тропа в джунгли выглядела совсем по-другому. Прошлой ночью мы этого не заметили. Сырая глина опоясывала острейшие камни, похожие на битое оконное стекло. Босые ноги не так скользят по глине, как обутые.
Остров образован вулканом. И основная порода там обсидиан. Обсидиан — это и есть стекло, просто вулканическое. Огромные массы кварца переплавились в черные полупрозрачные булыжники. От времени камни бились и раскалывались, и на тропе лежали осколки, похожие на огромные скальпели.
Долго ли, коротко ли, а белобрысый оператор поскользнулся. Камень прорезал резиновую тапочку. И почти полностью отделил ему большой палец от правой ноги.
ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. АЛЫЙ ФОНТАН ПРЕРЫВИСТО, В ТАКТ УДАРАМ СЕРДЦА, БРЫЗГАЛ НА ЛИСТЬЯ ИМБИРЯ. КОЛЛЕГА БЫСТРО БЛЕДНЕЛ. КРОВОПОТЕРЯ БЫЛА БОЛЬШОЙ.
Мы положили раненого на спину, подняли ногу кверху, наложили жгут. И вся наша одежда ушла на тампоны. Но кровь не останавливалась. Было очень жарко. Больной был не совсем трезв. Кровь не сворачивалась. Эвакуация с острова была невозможна.
Сопровождавший нас красный кхмер Сри не раз оказывал помощь своим товарищам при минно-взрывной травме. Он и стал главным хирургом.
Нужно сказать, что фармакология в Камбодже, пожалуй, самая развитая в мире. В этой стране продаются абсолютно все лекарства без рецептов. Развитие фармакологической промышленности связано с истерией, которую нагнетали вокруг полпотовского режима западные страны. Мол, отсталая страна, медицины никакой, нужно помогать. Крупнейшие мировые производители лекарств построили в Кампучии огромные заводы и стали производить лекарства, находящиеся на стадии разработки. Их выбрасывали на рынок без опробирования — проверяли на людях. Это, конечно, было очень жестоко. Но зато фармакология и медицина в Камбодже шагнули вперед. И обогнали цивилизованный мир на несколько десятилетий.
В первый день в Пномпене я зашел в аптеку и пополнил свою аптечку запрещенными во всем мире сильнейшими обезболивающими. Я знал, что лекарства придется выбросить при отлете домой, но в течение командировки не расставался с ними.
Этот случай вынудил меня распаковать пачку трамала. У нас этот препарат выписывают только в самых экстренных случаях. Тяжелобольным и умирающим.
Раненый съел сразу две таблетки. Ему захорошело. Пока я зажимал перерезанные сосуды, Сри промывал рану. Потом обычными нитками наживую зашивали. А наш больной, блаженно улыбаясь, пел тихие песни. Потом несли его обратно к хижинам. Там опять промывали и зашивали уже начисто.
Всю командировку раненый был лежачим. Он не страдал. В его распоряжении было пиво и трамал. Он себя не ограничивал, пил таблетки при появлении малейшей боли.
Когда мы должны были уезжать с острова, трамал кончился. И мы увидели звериное лицо наркомании.
Больной утверждал, что ему очень плохо. Обзывался. Кидался предметами, впадал в тяжелую депрессию. Мучился от озноба. Ничего не мог есть. Говорил, что кишки слиплись и связаны в узлы. Умолял найти ему хоть одну таблеточку и плакал. Отпустило его уже в Москве. На территории, где такие препараты просто так в аптеке не продаются.
В тот момент, когда один из нас пал жертвой недоверия к советам кхмеров, я принял решение всегда неукоснительно этим советам следовать. И если уж речь зашла о приключениях на острове Ронг и больных ногах, расскажу еще одну историю.
Плюнь и разотри
Мы оставили раненого в хижине. Присматривать за ним остался Сри. Тхера охранял лагерь, а Юи готовила. Мы отправились по своим кинематографическим делам без сопровождающих. В отряде были только европейцы. Я относительно быстро нашел необходимые нам мангровые болота. Мангры — очень интересные растения. Они живут в горячей пересоленной грязи. Такая грязь обычно образуется на литорали, то есть там, куда во время прилива приходит соленая морская вода. В такой грязи почти нет кислорода, а он, как известно, необходим для жизни растений. Черный мангр, для того чтобы дышать, использует специальные дыхательные корни-ноги. Они называются «ризофоры».
Получается, что каждое дерево стоит в грязи на тридцати-сорока очень крепких изогнутых конечностях-корнях, которые переплетаются между собой. Из-за этого мангровые болота практически непреодолимы. Если оступиться и спрыгнуть на землю, уходишь по пояс в жирную глину. Двигаться там невозможно. Да еще и корни мешают. Значит, единственный способ преодолеть мангровые джунгли — перелезать с дерева на дерево.
Пока мы двигались, я рассказывал коллегам о том, как размножаются мангры. Цветы у них небольшие, желтые. Соцветие берет свое начало в пазухе листа. Плод яйцевидный, в виде длинной капли. Семя прорастает, еще не утратив связи с материнским деревом. Это явление называется вивипария. То есть живорождение. Мангры — живородящие растения. Когда семечко-детка готово, оно отделяется от материнского дерева и падает в грязь. Мангр всегда втыкается.
Форма мангрового ростка такова, что, как его ни подбрось, он всегда летит корнем вниз и уходит в грязь на десять сантиметров.
Мы сделали свои дела в мангровых джунглях: наловили и наснимали илистых прыгунов. Это очень интересные рыбы. Если есть вода, они плавают. А если нет, прыгают по грязи, как лягушки.
Отряд отправился в обратный путь. То и дело мы останавливались, чтобы почесать стопы. Уже через час на стыке подошвы и обычной кожи у всех образовались водянистые пузырьки. Через два часа на месте пузырьков были язвочки. Через три часа они начали гнить.
МЫ ВЫРУБИЛИ СЕБЕ ТРОСТИ И КОСТЫЛИ. ХРОМАЯ, ДВИНУЛИСЬ ЧЕРЕЗ ДЖУНГЛИ. НЕИЗВЕСТНАЯ БОЛЕЗНЬ ПРАКТИЧЕСКИ МОМЕНТАЛЬНО ЛИШИЛА НАС РАБОТОСПОСОБНОСТИ.
Не шли, а ковыляли через лес. Скорость была очень невысокой. Все стонали и матерились. Я вытирал пот рукавом футболки. Оба рукава уже были мокрыми — хоть выжимай. Вытираться мокрой тряпкой было приятно. Она чуть охлаждала раскаленную кожу. В то же время я понимал, что рукав стирает с моего чела обгоревшую кожу слой за слоем.
Неожиданно в лесу мы наткнулись на хижину. В Камбодже часто так бывает. Кхмеры, в отличие от других азиатов, любят одиночество и уединение. Они часто селятся вдали от деревень. Мало общаются с согражданами. Ведут натуральное хозяйство.
Обычно рядом с такими хуторами речка, ручей или родник. Эта хижина не была исключением. Хозяева добывали дикий мед, охотились и делали черепицу на продажу. Рядом с хижиной была построена глинобитная печь для обжига керамики. Возле нее — землянка для пережигания хвороста на уголь.
На хуторе никого не было. Ходили по двору несколько голых голенастых куриц и под сетчатым куполом сидел петух. Видимо, он был очень клевастым, если его выгуливали под сеткой. На решетках из бамбуковой щепы лежали дикие соты. Из них тонкими тягучими струйками лился в пластиковый таз мед.
Пчелы в этих краях делают мед не в дуплах или колодах. Они выбирают для строительства сот засохшие ветки или черешки с верхушек сахарных пальм. Соты громоздятся на ветках, как опухоли. Часто бывают размером с футбольный мяч и больше. Бортник залезает на дерево или скалу и большим ножом-тяпкой срезает соты вместе с веткой. Пчелы не такие агрессивные, как у нас. Они относятся к разорению своих запасов с буддистским спокойствием. Наверное, потому, что зимы там не бывает. Сезоны цветения сменяют друг друга.
* * *
Бортники не пользуются ни масками, ни дымом. Просто спокойно забирают мед, и все. Находят они мед в лесу, наблюдая за пчелами. Человек идет за насекомым, и в конце концов пчела приводит бортника к своим запасам.
Особенно у кхмеров ценится мед с личинками и мертвыми насекомыми. Такие соты обычно продают нераскрытыми. Сливают мед только с второсортных сот — с тех, где нет зародышей.
Однажды, через несколько лет после той первой командировки, я ездил в Камбоджу в компании одного очень известного энтомолога. Мы шли по рынку в Сиануквиле, и он увидел прилавки с медом. Тут же ученый выхватил из нагрудного кармана пинцет и пакетики и стал вынимать из меда пчел для своей коллекции.
Продавщица улыбалась. Торговля у нее в этот день шла хорошо. Мед был дорогой и качественный — с личинками и насекомыми. За соседним прилавком стояла злая торговка. У нее никто ничего не брал, и она была не в настроении. Они говорили между собой. По-кхмерски, естественно.
Злая сказала: «Отгони этого придурка. Он тебе весь товар портит».
А добрая ответила: «Да ладно… пусть копается. Смотри, он дикарь. Никогда не видел пчел».
Им было невдомек, что этот человек — главный специалист по пчелам в мире.
* * *
Ну это я отвлекся. Вернемся в те далекие годы, на тот хутор, которого теперь нет. К нашим язвам, которые теперь зажили, а тогда пунцово багровели на натруженных ногах.
Мы шли через двор к ручью. Попить и омыть наши раны. И вдруг я увидел старуху, которая сидела, привалясь к столбу на земле. Она приветливо помахала мне и широко заулыбалась провалившимся ртом. Губы совсем не держались. Во рту было три или четыре зуба. Она была так стара, что не могла встать.
Бабка жестом подозвала меня к себе и нежно взяла мою ногу. Потом с трудом повернулась и сорвала лист с невзрачного куста за спиной. Сунула его в рот и стала жевать. Шепелявя и жуя, она что-то утешительно шептала и поглаживала мои ноги. Через несколько минут она выплюнула на сморщенную ладонь зеленую массу, обильно перемешанную со слюной. Обмакнула туда палец и принялась мазать мои язвы.
Я попробовал отдернуть ногу, но она держала крепко, как кузнец держит копыто норовистой лошади во время ковки. Старуха намазала мне этой кашицей обе ноги и жестом подозвала второго из моего отряда. Мы отдались во власть кхмерской народной медицины. Все, кроме одного товарища. Он наотрез отказался принимать бабкину помощь. Сказал, что это все ерунда и антисанитария. Что он никогда не позволит старухе, от которой пахнет мочой, втирать слюну в свои язвы. Мочой действительно пахло.
Мы поблагодарили, напились и умылись. Взяли костыли и попрыгали дальше.
КЛИНИКА У НАШЕЙ БОЛЕЗНИ РАЗВИВАЛАСЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО. ЗА ПЯТЬ-ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МАНГРОВЫМ БОЛОТАМ МЫ СТАЛИ ПОЛНЫМИ ИНВАЛИДАМИ.
Через час пузыри лопнули. Через два болячки засохли. Через три стали отваливаться. Мы отбросили костыли и палки. Регенерация под слоем жеваной травы шла стремительно. Мы ускорили шаг до нормального. Розовая молодая кожа пятнышками виднелась из-под травяного красителя.
Мы выздоровели. Все. Кроме того, кто не дал помазать свои раны. Из бамбуковых шестов мы сделали носилки и по очереди несли больного. В общей сложности от заражения до полного выздоровления прошло не более десяти часов. Возбудителем этого заболевания оказался маленький червяк-паразит, разновидность свайника. Он живет в грязи, караулит жертву, цепляется и протыкает кожу человека или животного так, будто забивает сваи. В дерме, главном слое кожи, паразит начинает жить. Есть, пить, веселиться и гадить. От этого все беды.
В России тоже есть свайники. Немного другие. Они живут в теплых стоячих водоемах и тоже внедряются в кожу человека. Русский свайник встречается в Краснодарском и Ставропольском краях, в дельте Волги — под Астраханью. Если не лечить, можно и до летального исхода довести. Человек бледнеет, хиреет и через несколько лет умирает от худосочия. Заражение свайником называется в народной медицине бледной немочью.
Наш товарищ в Камбодже лечиться отказался. Так его, неходячего, мы и доставили в Москву. Он пошел в поликлинику. Оттуда его направили в кожвендиспансер. После нескольких месяцев лечения он был направлен в Институт дерматовенерологии. Там не справились и перевели его в Институт восточной медицины. Он проходил лечение на кафедре редких тропических болезней. На нем защищали диссертации. Через три года была снаряжена экспедиция в Камбоджу. Привезли то растение и его листья. Вытяжка не помогла. Многие пробовали жевать листья и мазать ему раны кашицей, но это не помогало.
Через восемь лет он полетел в Камбоджу. В этой стране принято долго жить. Он нашел ту бабку. Старуха, как и прежде, сидела на земле, привалясь к столбу хижины. Она обернулась, сорвала несколько листьев, пожевала и намазала. Через два дня болячки отвалились. Болезнь ушла. На стопах остались страшные шрамы. Ведь они беспрерывно гнили восемь лет.
У ТОЙ БАБКИ ВЗЯЛИ СЛЮНУ И ОБРАЗЦЫ ДНК. ОНА БЫЛА НЕ ПРОТИВ. В ИНСТИТУТЕ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО САМО РАСТЕНИЕ НЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ. СЛЮНА НЕ ЛЕКАРСТВЕННАЯ. А ВОТ ВМЕСТЕ ОНИ — СИЛЬНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО.
Дело в том, что представители той народности, к которой принадлежала ссаная бабка, не выкармливают своих детей грудью. Новорожденному вместо материнского молока дают банан. Это формирует особую флору ротовой полости туземцев. А флора, в свою очередь, вступает в биохимическую реакцию с соком того растения и образует лекарство от болезни, которой нет больше нигде на земле.
Может, и моча у старушки была лекарственной, но нам, к счастью, не довелось заболеть тем недугом, от которого она помогает.
Девятый вал
Все цели на острове были достигнуты, и нам надо было двигаться дальше. Море, как назло, уже несколько дней штормило. Скоростной катамаран прибывал в восемь на западный берег. Ни капитан, ни грудастый боцман ждать были не намерены. Мы были на восточном берегу. О том, чтобы пройти с вещами и больными через хребет, не могло быть и речи. Нужно было обходить остров на лодке. Причалить она не могла и в штиль.
Ребята подняли над головами носилки с больным. Мне достались баулы с техникой. Они были тяжелыми. Ноша очень ответственная. Мочить ни камеры, ни носители с записями категорически нельзя. Тем более в соленой воде.
Я шел по волнам как держащий небо атлант. Поставленный когда-то, а смена не пришла[22]. До лодки было далеко. Волны бились о мою грудь, и крупные капли попадали на сумки. От каждой капли я испытывал почти физическую боль.
МЕТРОВ ЗА ТРИДЦАТЬ Я ПОНЯЛ, ЧТО ВОЛНА ЗАХЛЕСТЫВАЕТ МЕНЯ С ГОЛОВОЙ. ПОДНЯЛ БАУЛЫ ВЫШЕ И ПОШЕЛ, СТАРАЯСЬ ВЫДЫХАТЬ В ВОДУ И НАБИРАТЬ ВОЗДУХА, КОГДА ВОДА ОТСТУПАЛА.
Уже почти перед кораблем я почувствовал, что больше не стою на дне даже на цыпочках. Чудом я забросил технику в качающуюся лодку. Загрузка была закончена, и мы тронулись.
Косилка работала плохо. Мотор все время глох. Веревочку для запуска постоянно приходилось наматывать вручную, так как возвратный механизм был уничтожен безжалостным временем.
Чем дальше мы отходили от нашего пляжа, тем выше становилась волна. Лодка текла, и мы по очереди вычерпывали воду ковшиком. Часто перехлестывало через борт. Мы все были мокрыми. На наши драгоценные сумки то и дело обрушивался соленый водопад. Вскоре мы поняли, что мотор почти не справляется со штормом. Берег был близко, но доплыть до него было невозможно. Мы запускали мотор и гребли. Мы вычерпывали и боялись опоздать. Если катамаран уйдет без нас, весь план дальнейшей командировки нарушится. Допускать этого было нельзя.
Мы героически боролись со стихией и вот повернули за мыс. Судно причаливало к пристани. Оставалось ровно полчаса. Волна качала нас и яростно билась о пристань. К ней было пришвартовано три лодки. Столбы пристани, покрытые зеленой слизью и острыми ракушками, поднимались над бортами пришвартованных лодок метра на два с половиной. Лодки были пришвартованы бортами друг к другу. Их маятником качало вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Это называется килевая и бортовая качка. Их амплитуды не совпадали. Та лодка, что была привязана к столбам, получила фатальные повреждения и медленно тонула.
Капитан нашей лодки сказал, что к пирсу подходить опасно. Он предложил сбросить наши сумки в воду, спрыгнуть и добраться до берега вплавь. Это я сразу отверг.
Катамаран дал гудок. Мы стали швартоваться четвертым номером к борту уже закрепленной лодки. Это произошло относительно быстро, и мы стали перекидывать в нее вещи. Потом перелезли сами. И так три раза.
Теперь весь отряд находился на тонущей лодке у столбов пирса. Задача вылезти казалась нереальной. Острые как бритвы ракушки безжалостно кромсали борт нашего тонущего пристанища. Зацепиться было не за что. Высота огромная. И сильнейшая качка. Нужно было встать на борт, ни за что не держась, изловчиться и прыгнуть с места вверх рыбкой. На пирс.
ПРАВА НА ОШИБКУ НЕ БЫЛО НИ У КОГО. РУКА МЕЖДУ БОРТОМ И СТОЛБОМ — ОТОРВЕТ. ПОПАДЕТ ТУДА НОГА — НОГУ ОТРЕЖЕТ. ОКАЖЕТСЯ ТАМ ГОЛОВА — ГОЛОВУ РАЗДАВИТ.
Какие вообще прыжки… И стоять-то на лодке можно было только на карачках.
Корабль дал гудок. На пирс полетели наши сумки. Туземцы их тут же подхватили и бегом понесли на катамаран. Все. Отступать было нельзя. Хоть один из нас должен попасть туда. Иначе все зря. Там техника и материал. Даже если мы все погибнем, это должно оказаться в редакции. Хотя бы для некролога.
Неожиданно для всех на скользкий борт вскочил полненький Олег. Волна приподняла лодку, чтобы хряснуть ее о столбы, и в эту минуту Олег оттолкнулся и взлетел. Он плюхнулся на пирс как тюлень, на живот. Доказал, что это возможно. Как Гагарин. Остальных уже ловили. Протягивали руки. Самое сложное было подгадать амплитуду и удерживать равновесие на скользком, узком как канат борту.
Гудок. Все побежали на катамаран. Я уходил с тонущего корабля последним. Про меня забыли. Руки ко мне не тянулись. Пассажиры заскакивали в катамаран. Коллеги уже толпились у сходен. Лодка, на которой мы приехали, отчалила и уплыла подальше от смертельного пирса. От туземцев ждать помощи не приходилось. Я стоял на борту и представлял себе, как я сейчас ошибусь. Как раздавит мою голову между бортом и пирсом, как разрежут ракушки мою плоть. Как бесформенные куски съедят акулы. Как моя команда спохватится только в рейсе. Как боцман, не дрогнув сиськой, а может и всей грудью, откажет в возвращении. А связи нет. Ну и все…
Волна подняла лодку. Я прыгнул и упал на пирс животом. Как одинокий, никому не нужный тюлень, как мешок с драпом. Вскочил и побежал к судну. Сходни уже убрали. Французы дали гудок. Я прыгнул с пирса на палубу. Катамаран малым ходом табанил в открытое море. Уже скоро был дан полный ход. Судно понеслось, прыгая с гребня на гребень.
Я смотрел на Ронг. Шторм усиливался. Крупные щепки и обломки мотались у пристани в масляном пятне. У пирса утонула лодка, на которой я минуту назад решал вопросы жизни и смерти. Я вытер руки об штаны.
Послесловие
Это не все истории, которые я знаю, а только те, которые счел нужным рассказать сейчас.
Позади длинная жизнь, и все интересное, что со мной происходит, я запоминаю. Не знаю, понятно ли вам после прочтения этой книги, как быть мужчиной. Думаю, да. Все просто. Чтобы им быть — нужно им родиться. Чем больше диких историй происходит в жизни человека, тем интереснее его жизненный путь. А если остается время их запоминать и рассказывать, можно с уверенностью говорить, что жизнь состоялась. Такие истории в устном варианте хорошо украшают застолье. Надеюсь, что и ты, мой пытливый читатель, осилил мое произведение не на сухую. Сам я давно не пью алкоголя, мне не надо водки. Я пьян собою.
Многие имена и фамилии в этой книге я изменил. Но некоторые остались нетронутыми. Какие-то эпизоды приукрасил. Книга живет своей жизнью и в какой-то момент начинает повелевать автором. Для любителей точной документалистики напишу старую поговорку: «Не любо — не слушай, а врать не мешай».
И если вы дочитали до этого места, то моя цель достигнута. Книга усвоена от первого до последнего слова.
ЕСЛИ БЫ Я ПИСАЛ ГУСИНЫМ ПЕРОМ, ТО ВСЕ БРЮКИ БЫЛИ БЫ В ЧЕРНИЛАХ. А ТАК, ПОСТИРАЛ — И КАК НОВЫЕ. СТАВЛЮ ТОЧКУ И ВЫТИРАЮ РУКИ ОБ ШТАНЫ
Примечания
1
«Лягушка» — самодвижущееся взрывное устройство.
(обратно)2
СашБаш — Александр Башлачев, певец, композитор.
(обратно)3
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (аббр. ВЦСПС) — центральный орган профессиональных союзов, осуществлявший руководство деятельностью всех профсоюзных организаций в Советском Союзе с 1918 по 1990 годы.
(обратно)4
КМО СССР — Комитет молодежных организаций СССР.
(обратно)5
Слова из песни «Атланты» на стихи А.М. Городницкого
(обратно)6
Кускусы (Phalanger) — род сумчатых семейства поссумов.
(обратно)7
Имбридинг — форма гомогамии, скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов.
(обратно)8
Калебас — общее название сосудов, изготовленных из высушенных плодов тыквы или калебасового дерева.
(обратно)9
Дырми (чемпедак) — фруктовое дерево семейства тутовых, близкий родственник хлебного дерева и джекфрута.
(обратно)10
Казуарина (лат. Casuarina) — один из четырех родов семейства казуариновых. Родина — Юго-Восточная Азия и острова западной Океании, а также Австралийская область.
(обратно)11
В дорогих ресторанах объедки упаковывают с собой для домашних собак — это называется «догги пак».
(обратно)12
Дендрокаламус — крупнейший в мире вид бамбука.
(обратно)13
Мангры — вечнозеленые лиственные леса, произрастающие в приливно-отливной зоне морских побережий и устьях рек.
(обратно)14
Махорка — самый дешевый сорт табака.
(обратно)15
Слова из стихотворения Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом…».
(обратно)16
Контрáльто (итал. contralto) — самый низкий женский певческий голос с широким диапазоном грудного регистра.
(обратно)17
Цитата из песни «Нам нужна одна победа!» на слова Булата Окуджавы.
(обратно)18
Оргалит — толстый прессованный картон, применяемый в строительстве.
(обратно)19
Поп-расстрига — служитель культа, с которого снят его церковный сан.
(обратно)20
«Агент оранж» (англ. Agent Orange, оранжевый реагент) — название смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения. Применялся армией Великобритании во время Войны в Малайе и Вооруженными силами США во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 год в рамках программы по уничтожению тропических лесов и растительности.
(обратно)21
Мелалеука — автор называет это растение «мелалейка».
(обратно)22
Из песни «Атланты» на стихи А. М. Городницкого.
(обратно)


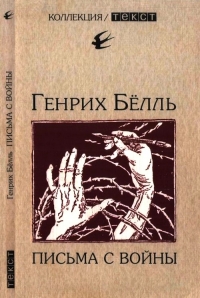
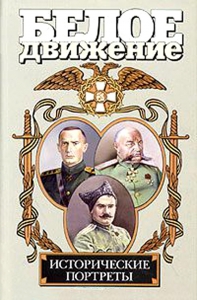
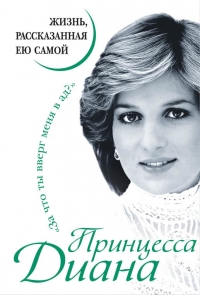


Комментарии к книге «Дикие истории. Дневник настоящего мужика», Тимофей Тимофеевич Баженов
Всего 0 комментариев