В наши дни
РАССКАЗЫ
НОЧЬ НА СИВАШЕ
Полковнику М. И. Кушнеру
Навсегда она осталась у меня в памяти, эта удивительная ночь.
В Крыму, да и на Сиваше быть бы уже весне, греть солнечным лучам оттаявшую землю, а весна упрямо запаздывала. Еще совсем недавно лежал снег, редко так обильно выпадающий в здешних местах. Теперь голая, гладкая, как затихшее море, степь простиралась вокруг. Рыжело на бурой земле мочало чахлой прошлогодней травы. Ветер с залива гонял по степи еще не просохшие, полинялые, как старый детский мяч, кусты перекати-поля. Взгляд, куда ни посмотри, упирался в серый, тоскливый горизонт, где небо сливалось с землей. На километры ни деревни, ни постройки.
К югу от штабных блиндажей тускло поблескивал Сиваш. Мелкий, в зелено-серой чешуе, зловещий в своем покое. Темной полоской, уходя в туманную даль, по нему протянулась к крымскому берегу уже построенная, ждущая своего часа переправа. На подступах к мосту копошились солдаты, поглядывали на небо, радовались серому дню. В такое время немецкие самолеты бездействовали.
Так было днем. Ночью кругом не виделось ни зги. Лишь нет-нет да и загорится где-то поблизости огонек неосторожно зажженной спички, который во тьме покажется пламенем далекого костра. Послышится окрик дневального. Огонь погаснет, а тут немцы, в нескольких километрах отсюда, запалят в небе свою трусливую «свечу», и та медленно будет снижаться на парашюте, так ничего и не осветив, кроме непроглядной сырой ночной мглы.
Ночью, в общем, наступает тишина. Артиллерийская дуэль бывает редкой и бесприцельной. Ночь по-своему отрада для штабных, хотя здесь, как и всюду в штабах, не спят чуть ли не до зари.
В одну из ночей я и задержался на Сиваше в блиндаже оперативной группы. Не было попутного транспорта, да и не спешил я в тыл. Мне — офицеру связи фронта — здешние штабные хорошо были знакомы. Иные уже сделались друзьями. Побыть среди них доставляло удовольствие. Каждый тут занимался своим делом, а все вместе внушали какое-то отрадное чувство нужности нашего инженерного дела на войне.
Неторопливо постукивал старенький «ундервуд», потрескивали полешки в железной печурке. Устроившись в углу блиндажа, я уже было уткнулся в привезенную сюда днем московскую газету, когда услышал недовольный возглас майора Голубовского:
— Двери, двери скорей!.. Кто там еще?!
Прорвавшийся в блиндаж сырой воздух заставил меня поежиться. Двери наверху захлопнулись. Холод, проникший под землю, растаял в разогретом воздухе. Я оторвался от газеты.
В узком пространстве лестницы показались сперва тяжелые, облепленные глиной солдатские сапоги, а затем и пола коротковатой мокрой шинели. По лестнице неуклюже сходил вниз Саша. Так его, несмотря на капитанские погоны, тут звали все, против чего не протестовал и сам Саша Нагорник — в недавнем прошлом ташкентский архитектор, а ныне офицер оперативного отдела. Пусть — Саша. Этак было привычней и роднило с довоенной жизнью. Сашей звали его, но заочно, и чертежник младший лейтенант Лютиков, и вольнонаемная машинистка Оля, пришедшая со штабными сюда из Ростова, где она сама себя мобилизовала в первый день освобождения города. Так же Сашей, но, понятно, в его отсутствие, называл его и хозяйственный мужичок — рядовой Сиволобов, приставленный сюда связным и общим ординарцем.
Саша еще не вошел в полосу, освещенную лампами от тарахтящего где-то вдали движка, но уже докладывал:
— Товарищ подполковник, капитан Нагорник с островной группы…
— Нету, Угрюмцева нету, Саша!.. — оборвал его сидящий рядом с Олей Голубовский. — Подполковник в штабе армии.
Потирая застывшие руки, Нагорник вышел на свет. Узнав, что начальство отсутствует, Саша облегченно вздохнул и двинулся к печке. По-детски приспособленные на тесемке, продетой в шинель, рукавицы болтались по краям его рукавов. Крупнолицый, с малиновыми от ветра щеками, которые едва прикрывала завязанная под подбородком шапка, с командирским ремнем поверх шинели и полевой сумкой через плечо, Нагорник и в самом деле был похож на нарядившегося для игры в войну большого ребенка.
— Сидите тут — тепло и не дует, — с укоризной протянул он, подходя к печурке и будто собираясь обнять ее руками. — А там, на острове, черт те что. Ветрище, у-у-у!.. Спьяна, наверное, сотворил бог этот Сиваш. И название дали — Гнилое море… Художественно!..
Голубовский поднялся с места и пошел к прилепившемуся у огня капитану-островитянину.
— Сводку, Саша. Вот с утра свезет, — он кивнул на меня.
— Возьми. — Закоченевшими пальцами Нагорник отстегнул ремешок сумки и вытащил из нее сложенный вдвое лист бумаги. — Все то же… Кладет и кладет… Пристрелялся, сволочь. Два звена днем. Понтон пробил. На другом — настил в щепки… Ничего, сейчас в порядке. Сделали. Фриц лег спать. А вообще-то сегодня с потерями… Двух увезли. Один на острове навсегда остался.
Медленно, с чуть плаксивой интонацией проговорив все это, Саша уселся у печурки. Стащил с головы шапку и положил ее на край штабного стола. Потом расстегнул ворот шинели и снова протянул руки к теплу, вдыхая его в себя и по-кошачьи жмурясь от удовольствия.
— Шапка на столе — в доме денег не будет, — бросил со своего места сидевший неподалеку от меня за калькой младший лейтенант Лютиков.
— Денег не будет? — не меняя позы, повторил Саша. — Зачем вам деньги, Лютиков?
— Как это зачем? А останусь жив?.. Я, например, на тот случай коплю. У нас в Воронеже деньги очень даже годились. В ресторане «Волна» антрекот можно было заказать. Вкуснятина!.. Водочки, жигулевского бутылочку… Да, если останусь жив…
— Вы, Лютиков, останетесь, — отозвалась с другого конца стола лейтенант Звонцова, женщина лет за тридцать, которую лейтенантом здесь никто не называл. — Хотите чаю, Саша? С сахаром?
— Надеетесь, откажусь? И не подумаю.
— Сиволобов, устрой капитану кружечку, и послаще! — крикнула Звонцова. Она взяла со стола пачку папирос «Беломор», которыми нас на третий год войны, к ее удовольствию, начал снабжать Военторг.
— Есть кружечку! — неохотно отозвался прижимистый связной, полагавший, что не следует поить чаем и вообще чем-либо угощать чужих, коими он считал всех, кто не состоял под его опекой. — А чей сахар давать, товарищ Нина Сергеевна?
— Мой возьми.
— Можно и ваш, — рассудительно согласился солдат. — Сделаем.
Где-то, по-видимому невдалеке, ухнул взрыв. Мигнул свет, и просыпалась земля за досками, которыми были обшиты стены блиндажа. Я стряхнул крупинки черного песка с газеты.
— Крепко дает, — сказал Саша. — Проснулся, значит. В нашей стороне бьет у острова.
Из ниши, где он обосновался с хозяйством, Сиволобов принес бывалый эмалированный чайник и поставил его на печурку.
— Враз согреется. Тут на донышке.
— Вот и останешься жить, Нина Сергеевна, — откликнулся на выстрел младший лейтенант. — Бац на блиндаж — и будь здоров, не кашляй. Не помогут и четыре наших наката… Зачем и деньги коплю. Фантастика!
— Правильно, Лютиков. Лучше пропей, — посоветовал Саша. — В Мелитополе, говорят, на базаре водка подешевела. Триста рублей пол-литра. Попроси кого-нибудь, привезут.
— У меня на полевой сберкнижке, — сухо бросил чертежник.
— Он вам пропьет, — со смешком отозвалась сидящая за «ундервудом» Оля. — Он и свою-то из доппайка продает другим.
— Оля, Оля!.. — тоном старшей остановила ее Нина Сергеевна.
— Извините, товарищ младший лейтенант. Шутка! — будто бы смутившись, но на самом деле совершенно безбоязненно воскликнула Оля.
Я давно заметил — пользуясь положением вольнонаемной, да еще всеобщей любимицы, юная машинистка позволяла себе подтрунивать над Лютиковым. Называла его «разлинованным» и вообще смеялась над рассудительностью младшего лейтенанта, к своему несчастью неравнодушного к хорошенькой Оле.
— Ничего. Деньги есть деньги, — считая, что он удачно парировал, хихикнул чертежник.
— Законов нет, чтоб быть тебе богатым! — продекламировал Саша, начиная приходить в себя и уже расстегнув шинель.
— Из кого это?
— Гамлет, принц датский, Лютиков.
— Я видела этот спектакль. В «Пассаже», — вздохнула Нина Сергеевна. — Очень хороший артист был принц Гамлет. Умница.
Я невольно взглянул в ее сторону. Ведь я тоже помнил этот спектакль. Знал и актера.
— Принц не подходит. Идеи не наши, — отрезал младший лейтенант.
И опять где-то ухнул взорвавшийся снаряд.
— По острову, собака. Точно, — заключил Нагорник, подняв голову и прислушиваясь, хотя слушать уже было нечего. — По нам, по нам. Чувствую…
— Может, и по вам, а может, и по другим, — отозвался молчавший до того капитан Потекян. Устроившись в дальнем углу блиндажа, под лампой с помятым школьным колпаком, капитан готовил отчет по строительству переправы.
Третий месяц Потекян — гражданский инженер, мобилизованный в начале войны, — строил на Сиваше мост, который и в мирных условиях построить было не просто.
— Куда бы ни бил, в нас с тобой метит, Сашенька, — бросив карандаш на освещенные листы бумаги, как-то даже весело сказал Потекян и, поднявшись, дважды проделал нечто похожее на танец вприсядку.
— Ой, как тут скучно, тоскливо! — крутя все еще не закуренную папиросу, снова вздохнула Нина Сергеевна. — Раньше наступали, двигались… Хутора, станицы… Ростов, Новочеркасск… Как нас встречали!.. А тут… Одуреть можно от этого Гнилого моря. Бр-р-р-р…
— Да уж, обстановочка, — согласился Лютиков.
— Зато впереди, Ниночка, Крым. Ялта!.. Кипарисы и пальмы, берег Черного моря… — почти пропел Голубовский.
— Но когда же, когда же уже наступление, господи!.. Что же, так и будет?.. Мы строить — они разбивать. Мы строить — они опять разбивать.
— Наступление, товарищи, будет тогда, когда будет. Ни минутой раньше и ни позже, — отчеканил майор и продолжал, уже обращаясь к Оле: — Пиши. Противник силою трех бомбардировщиков…
Стрекотание машинки внезапно оборвалось.
— Товарищ майор, уберите руку с колена.
— Пустяки, Олечка, пиши: бомбил переправу в районе мыса Безымянный…
— Товарищ майор, уберите руку.
— Ах, Оля, Оля!.. Неужели не понимаешь — тебе наплевать, а человеку удовольствие.
Но никто не засмеялся. Третий месяц, диктуя сводки, майор Голубовский, как бы задумавшись, клал руку на Олино колено и третий месяц, услышав ее протест, отвечал давно отработанной шуткой.
Меж тем чайник, наполненный Сиволобовым ровно на одну кружку, уже вскипел. Солдат слил кипяток в чашку с отбитой ручкой, добавил холодной заварки и, очень скупо положив сахару, подал чай Нагорнику.
— Пейте, товарищ капитан, пожалуйте…
— А-а, спасибо, мерси! — как бы из блаженного забытья очнулся Саша, который уже успел снять шинель и расположиться у печки с удобствами. Приняв чашку от ординарца, он лениво спросил: — Слушай, Сиволобов, ты старый солдат, скажи, когда будет наступление?
— Наступление, товарищ капитан Нагорник, будет, когда про то решит товарищ Верховный Главнокомандующий, — подчеркнуто всерьез ответил связной, почувствовав в Сашиных словах иронию.
— Это точно! — подтвердил со своего конца стола Лютиков.
Все засмеялись. Рассмеялся и Саша.
— Мудро, Сиволобов. А молодец! — кивнул он в мою сторону, оторвавшись от чашки. Чай Саша пил с наслаждением, даже немного посапывая, все согреваясь и размякая.
— В шестнадцатом году, — продолжал довольный произведенным впечатлением солдат, — я в артиллерии при конях состоял. Наступали мы в Галиции… Я и генерала Брусилова вот так, как вас, видел. Наступление было… И-и-и-и! Страсть. Австрияков — как косой, и вперед! Шли и шли. Коняки у меня справные были и те исхудали. А что получилось? Пехотные полки впереди. Легкая артиллерия с ними. Кавалерия — так куда ушла!.. А тут… снаряды кончились и фуража где хочешь бери… Интендантство отстало — воевать нечем. Немец узнал и давай нас колошматить… Кругом со всех сторон — страсть! В плен ужасть сколько попало! Мы пушки побросали и верхом назад. Выбрались… Солдаты сказывали — генерал Брусилов главному интенданту пощечину при всем командовании. Потом их обоих в Могилев, в ставку к царю, разобираться… Не знаю, может, и болтали. После того уж наступлений не помню. Потом уж с австрияками в обнимку. Братание… Как мы, небритые. Шинели до пят. Что было — и не расскажешь…
Заметив, что в блиндаже все затихли, перестал стучать и Олин «ундервуд», Сиволобов добавил:
— Наступать!.. Наступать надо, чтобы без конфузу… Чтобы все: и тылы, и интендантство… Немцу-то из Крыма куда? Только в море да в Турцию… Так он же за землю руками будет… Понимать надо.
— Видали, Сиволобов туда же. Стратег!.. — прыснул младший лейтенант.
— Глупый вы, Лютиков.
— Оля, Оля! Да ты что это сегодня?! — обернулась к ней Звонцова.
Я с интересом смотрел на Олю, но она, видно, и сама поняла, что сказала лишнее. Покраснев, наклонила голову над машинкой.
— Дальше, товарищ майор.
— Пользуется, что вольнонаемная! — возмутился младший лейтенант. — Наряда вне очереди некому ей дать. Юбку не по форме перешила. Коленочки пооткрывала, майоров соблазнять.
— Дурак! — сказала Оля, но уже так тихо, что я со своего места едва услышал.
Голубовский тут же весело рассмеялся.
— Лютиков, это уж вы ни к чему.
Слывшая за штабного миротворца, Нина Сергеевна решила урезонить разобиженного чертежника.
— А что я ей, рядовой, что ли?!
— Совсем дурак, — не отрываясь от машинки, бросила Оля, чем снова доставила удовольствие майору. Воспользовавшись моментом, Голубовский похлопал ее по колену.
— Олюшка, чш-ш-ш-ш!..
— Слушай, товарищ Сиволобов, а ты в плену, значит, не был? — спросил стоя склонившийся над своими бумагами Потекян. Спросил просто так, желая помочь другим уйти от ненужной ссоры.
— Я, товарищ инженер-капитан, разрешите доложить, георгиевский кавалер. Крест еще по первому году службы в госпитале получал.
— О-о-о-о! И все молчал, — с интересом повернулась к нему Нина Сергеевна.
— Дома карточку под стеклом имею. Если после немца уцелела, приезжайте к нам в Дедово. Предъявлю.
— В Дедово! Чудак! — покачал головой разомлевший от тепла Саша. — Ты еще доживи до Дедова, солдат.
— Доживем, — убежденно кивнул Сиволобов. — В ту войну выжил, в эту — пехом от Сталинграда. А нынче-то, в этакой обстановке, тут что!..
Он забрал у Саши опустевшую чашку и вместе с чайником понес их в свой хозяйственный закуток.
— Пойду курну, — сказала Нина Сергеевна. — Не буду вам отравлять воздух.
Она накинула на плечи офицерскую шинель, лихо нахлобучила шапку и пошла к выходу.
— Сыро там, гадко, Ниночка.
— Ничего, Саша. Я одну папироску…
Отлично сработавшийся оперативный отдел штаба инженерной бригады действовал уже третий год. Офицеры его, кроме начальника отдела подполковника Угрюмцева, были люди в довоенном прошлом штатские. Командирские гимнастерки надели лишь летом сорок первого года, да и то еще не все. Пройдя от волжских берегов до Крыма, познав и тяжкое бремя обороны, и радость ощутимых побед, как-то незаметно для себя они сделались близкими людьми. Прощали друг другу иные слабости. Бывали и выносливы, и терпеливы. И где только за два с лишним года не приходилось располагаться штабу бригады! И в землянках Заволжья, и в полусожженных хуторах на Дону, и в уцелевших домах освобожденных городов.
Уже давно военные люди, они, в общем-то, выполняли работу, близкую к своей мирной профессии. Это обстоятельство располагало к некоторым не свойственным уставу вольностям. Почти никто тут не называл никого по званию, и отношения были скорее гражданскими. Впрочем, начальник отдела подполковник Угрюмцев относился к штатским привычкам своих подчиненных снисходительно. Какими бы они там ни были неладными строевиками, а с делом своим, полагал подполковник, справлялись неплохо, проявляя при том удивлявшую его выносливость, а порой и бесстрашие. Правда, со временем Угрюмцев понял — стойкость его офицеров основывалась на том, что фронтовая жизнь сделалась их бытом. А раз быт, то какие уж тут страхи?! Прохлюпала над тобой и где-то разорвалась поодаль мина… Взорвалась рядом на дороге, не причинив вреда, авиабомба… Ну и ладно, и хорошо, раз остался жив. Что о том думать, надо работать.
Каким не приспособленным к войне показался по прибытии в штаб Нагорник. Но прошел год, и нерасторопный на вид капитан оказался исполнительным и смелым офицером. Саша, как незаметно для себя стал его иногда называть сам Угрюмцев, когда это требовалось, шел к саперам на передний край так же, как шел бы, оторвавшись от шахматной доски по требованию жены в булочную или аптеку.
Штатный состав оперативного отдела со временем сделался похожим на сжившуюся семью, старшим в которой был он, подполковник Угрюмцев.
Как в каждой большой семье, тут были и свои счастливые минуты, и горькие часы, и семейные нелады, с которыми приходилось смиряться.
Третий месяц на Сиваше, в преддверии крымской земли, стояла необычная для этих мест морозная и снежная погода. Дули пронзительные ветры, и висела в воздухе промозглая сырость. Третий месяц строили саперные батальоны в мелком студеном заливе невиданный по длине для военного времени мост и понтонную переправу. Третий месяц отбивалась на южном берегу Сиваша с ходу форсировавшая его на пятачке отважная дивизия. Не было дров, солдаты согревались, сжигая сухой спирт. Не было пресной воды, ее, как и снаряды, и хлеб, доставляли на резиновых лодках волоком через Сиваш. Полковые саперы тащили поклажу наподобие бурлаков. Напрасно осатаневший враг сперва пытался столкнуть в Гнилое море закрепившиеся в Крыму полки, а потом, когда уже узкой ленточкой протянулась переправа, бил по ней артиллерией и обрушивал бомбовые удары, лишь только чуть прояснялось небо.
Третий месяц ждали наступления усталые батальоны в окопах на пятачке крымской земли. Как избавления от тоски и однообразия, ждали наступления оперативники инженерного штаба, выдвинутые командованием сюда, вперед, к переправам. Ждали перемерзнувшие в сырых окопах саперы — солдаты, отделенные и взводные командиры. Ждали и недоумевали: чего же они там медлят? Когда же начнется долгожданное наступление?
Припомнилось — на Сиваш приезжал командующий фронтом. В плащ-палатке, прикрывающей генеральские погоны, прошелся по уже застланной части моста. Постоял на краю ее и поглядел на едва видимый в туманной дымке крымский берег. Потом некоторое время смотрел, как, стоя в воде на зеленом ребристом, будто окаменевшая зыбь, дне, орудовали топорами саперы, заделывая очередную пробитую немцами брешь. Командующий спросил о чем-то солдат. Выслушав их, кивнул, повернулся и, сопровождаемый другими генералами, пошел к машине.
Те, кто был при этом поближе к его «виллису», слышали, как, подозвав к себе одного из генералов, командующий велел ему, чтобы саперам на переправе удвоили порцию полагавшейся для согревания водки. Потом, перекинув ногу через борт машины и приказав генералу-интенданту остановиться здесь, устроился рядом с водителем. При этом маленький «виллис» осел на рессоры и чуть наклонился вбок под тяжестью грузной фигуры командующего. Приехавший с ним генерал поместился сзади. Другой вытянулся возле своей машины. Командующий козырнул ему покрасневшей на ветру рукой, и «виллис», помчавшись, вскоре потерялся в белой от инея, неприютной, ровной, как блин на сковороде, степи.
После приезда командующего, о чем весть мгновенно разнеслась по берегам Сиваша, ожидали — теперь начнется долгожданное наступление. Но прошла неделя, за ней вторая… Немцы обстреливали и бомбили переправу. Саперы делали свое дело. Наступление не началось.
Вслед за Ниной Сергеевной поднялся покурить наверх и я.
Стоя на бруствере щели, вырытой вблизи блиндажа оперативников, лейтенант Звонцова дотягивала папиросу. Недокуренная пачка «Беломорканала» всегда теснилась в кармане ее шинели вместе с исчерканным коробком спичек. Всякий раз, когда Нина Сергеевна вынимала эти папиросы, голубой, отпечатанный на плохой бумаге рисунок, наверное, напоминал ей последние счастливые дни мира.
Я знал ее историю.
За несколько лет до войны она — чертежник-конструктор одного из оборонных проектных бюро — вышла замуж за майора инженерных войск. Это был второй брак Звонцовой, пережившей до того огорчительное замужество с каким-то моряком и поклявшейся больше ни с кем не связывать свою жизнь. Но клятва была нарушена, а Нина Сергеевна с новым мужем была счастлива. В начале войны его назначили преподавателем в военное училище, передислоцированное на Волгу. Неоднократные рапорты майора с просьбой направить его на фронт в конце концов возымели действие. Зимой сорок второго года супруги Звонцовы уже были на Дону, где формировалась инженерная бригада. Нине Сергеевне присвоили лейтенантское звание. В штабе, начальником которого был ее муж, она нашла своим знаниям должное применение.
В январе сорок третьего года подполковник Звонцов погиб во время бомбежки по дороге в оперативную группу, которую возглавлял на передовой. Вместе с товарищами по штабу Нина Сергеевна похоронила его в городе Котельниково, на пути наступления. Ей предложили, если захочет, перейти в другую часть или уехать в военный тыл. Она осталась на прежнем месте. Все мы поражались мужеству, с каким эта хрупкая женщина переживала утрату, лишь заметили, что много стала курить. Впрочем, мы не видели ее ночных слез. Не знали, как, стиснув зубы, она молчала, когда хотелось по-бабьи голосить.
Глаза мои понемногу привыкли к темноте. Я увидел, как Звонцова затянулась последней, самой вкусной затяжкой. Затеплился и тут же стал затухать догоревший табак. Нина Сергеевна по-мальчишески швырнула окурок на землю. Она подождала меня, и спустились мы вместе.
Пока наверху курили свои папиросы, в блиндаже оперативников произошли следующие события: Голубовский закончил диктовать сводку и, связавшись с островом, выяснил, что ночной немецкий обстрел был зряшным и переправы не повредил. Кроме того, позвонили из «Розы», как по коду шифровался армейский штаб. Подполковник Угрюмцев передал телефонограмму, что задержится там до утра. Майор Голубовский оставался до завтра старшим. Окончательно согревшийся Саша и ожил, и повеселел, вздыхая лишь о том, что снова придется идти на холод.
— Задержись до утра. Поспишь на столе, — предложил Голубовский.
Я замечал, когда он оставался за Угрюмцева, то любил показывать широту натуры. Побыть старшим он страсть как любил.
— А что, это мысль! — обрадовался Саша. — Я и сидя тут подремлю, а с рассветом к себе.
— Как раз к бомбежке и успеете, — заметил Лютиков.
— А-а-а, — Саша махнул рукой. Он давно записался в фаталисты и заявил, что от пули, если такая ему предназначена, все равно не укрыться.
Потекян наконец оторвался от своего отчета и теперь, разминаясь, прохаживался по блиндажу там, где это было возможно.
Я вернулся на свое место. Нина Сергеевна, сняв шинель, снова уселась к столу. Оля устроилась у обломка зеркала и переплетала косы. Несмотря на всю сложность ухода за головой в условиях жизни в землянке, с косами она не расставалась. Покончив со сводкой, Голубовский шелестел забранным у меня номером «Красной звезды». В хозяйственном углу негромко позвякивал посудой Сиволобов.
— Второй Украинский уже в Румынии. Там благодать, весна, — перелистывая страницу газеты, заметил майор.
— А у нас зима, холодрыга, — сказала Оля.
— Хотя до Крымского побережья рукой подать, — добавила Нина Сергеевна.
— Война в Крыму, все в дыму, как ни обидно, ничего не видно, — глупо сострил Лютиков.
— По существу, мы уже в тылу, — сказал Саша.
— Да, в тылу?! Ничего себе, а дает, как на передовой, — покачал головой Лютиков.
— И не поверишь, что где-то теплынь, — неожиданно отозвался Сиволобов.
Прежде я не замечал, чтобы он встревал в офицерские разговоры, но тут, видно, не выдержал.
И вновь наступила томительная тишина. Оттого что где-то уже сияло солнце и шло движение, пусть и опасное, пусть фронтовое, здесь, на берегу неприветливого мелкого залива, в едва согревающихся землянках, делалось особенно муторно, хотя сейчас об этом уже никто не говорил. И вдруг молчание нарушил Саша:
— Братцы, а ведь вы ничего не знаете. Думал не говорить, да уж ладно… У меня сегодня день рождения.
Все, кто был в блиндаже, с удивлением посмотрели на Сашу, словно не верилось в то, что здесь с кем-то может происходить такое домашнее событие.
Нина Сергеевна оторвалась от чертежей:
— Сколько же вам стукнуло лет, Саша?
— Не имеет значения. Много, но это факт.
— Интересно. У человека день рождения, и где, на Сиваше?! Думал ли ты когда-нибудь, Саша, что станешь праздновать свой день в землянке на берегу Гнилого моря? Ах, у нас в Раздане день рождения!..
Остановившись против Саши, маленький Потекян даже закрыл глаза, по всему видно припоминая, что за дни рождения устраивали у него дома.
— Вообще-то, как ни говори, а факт серьезный, — посмотрев в мою сторону, заявил Голубовский и аккуратно сложил газету.
— Отпразднуешь тут, как же! — словно отвечая Потекяну, пробурчал Саша.
— День рождения, — задумчиво проговорила Оля. — А у меня в старый Новый год. Мама всегда печет пирог с яблоками, и елка до того дня стоит.
Только Лютиков, не обращая внимания на проявленный интерес к Нагорнику, продолжал корпеть над своими кальками.
Нина Сергеевна все еще смотрела на Сашу. Скорее всего она думала о том, что он принадлежал к той категории людей, возраст которых трудно определить. Сколько ему могло быть лет, этому добродушному увальню?
— А что?! — задал сам себе вопрос Потекян. — Почему бы нам не отпраздновать твой день рождения, товарищ капитан Саша?.. Прошу внимания! Наблюдайте иллюзион!
Поскрипывая сапожками, которые он носил только в помещении, Потекян направился к своему дальнему столу и вытащил находящийся под ним вещмешок. Еще мгновение, и, вынув из него большую темную бутылку, он поставил ее перед Сашей.
— Прошу! Красное полусухое. Не наше, конечно, вино, но все-таки… Не спрашивай, где достал. Твоя, Саша. Распоряжайся. День рождения у человека, товарищи!
— Слушай, Потекян… Ты в самом деле?.. — Саша как будто даже несколько потерялся. — Я же только… Хотя и у меня есть немножечко…
Он поднялся и, подойдя к висевшей на стене шинели, вынул из кармана наполовину наполненную прозрачной жидкостью аптечную бутылочку, в каких обычно отпускают, микстуру.
— Вот. Ношу на случай окоченения в пути. Не много, но ректификат.
— Жертвую бутылку водки. Берегла для дня наступления! — воскликнула Нина Сергеевна.
— О-о-о! — издал оценивающий звук Голубовский.
Не ожидавший такого горячего отклика, Саша застеснялся.
— Может быть, не стоит, Нина Сергеевна?
Но она решительно запротестовала:
— Никаких разговоров! Необходимо отметить.
— Был бы тут подполковник, он бы вам отметил, — не оборачиваясь, со своего места бросил Лютиков.
— Ничего подобного. Угрюмцев не стал бы протестовать, — заявил Голубовский.
— Не стал бы, — подтвердил сам Саша. — Подполковник — человек.
— Как старший, — объявил поднявшийся Голубовский, — разрешаю передышку по случаю рождения капитана Нагорника и вношу банку щуки в томате. Сиволобов, хлеб у нас есть?
— Хлеб имеется, товарищ майор. Каша еще от обеда осталась. Лучок найдется, я в Николаевке разжился.
— Лучок? Замечательно! — хлопнул в ладоши Потекян. — Поджарить с кашей — шашлыком будет пахнуть.
Оля предложила конфеты. Саша от них категорически отказался. Другие тоже стали говорить, что Оле, почти ребенку, самой необходимо сладкое. Но Оля сказала, что если так, то она уйдет спать. Пришлось уступить. Сбегав к себе в землянку, девушка принесла завернутый в газету-дивизионку кулечек конфет.
Пригласили участвовать в неожиданном торжестве и меня. Что говорить, я не протестовал. Не так-то часто бывало тут подобное.
Сиволобов уже расставлял кружки и чашки — небогатое хозяйство штабных. От карт и бумаг очистили половину длинного стола. Связной подбросил дров в печурку, и труба ее торжественно загудела.
Из землянки Оля принесла еще платок для Нины Сергеевны. На Сиваше они жили вдвоем, бывая в своей маленькой спальне всего по нескольку часов. Нина Сергеевна набросила платок на плечи. Оренбургская белая шаль закрыла гимнастерку с лейтенантскими погонами, и Нина Сергеевна с ее задумчивыми глазами сделалась по-домашнему уютной.
После однообразия, вызванного долгим пребыванием на одном месте и каждодневной, наскучившей одной и той же штабной работой, пришедшей на смену беспрерывному до того наступательному движению, после проведенного сегодня вечера, ничем не отличимого от других долгих вечеров, событие, связанное с днем рождения Саши, конечно же внесло оживление. Я видел, как в предчувствии застолья взбодрился Потекян. Голубовский с какой-то прямо гусарской бравадой руководил действиями связного. Старший по возрасту среди офицеров, когда-то уже служивший в армии, он любил изображать бывалого фронтовика. Инженер-мостостроитель с Урала, Голубовский очень хотел казаться кадровым военным. Гордился тем, что умел внятно докладывать начальству и не без шика козырять. Все еще носили неприглядные шапки, а Голубовский, презирая холод, щеголял в фуражечке с заломленной тульей и надетой чуть набок. Он аккуратно подстригал седеющие виски, которые называл наркомовскими, и проверял в зеркале, как они выглядывают из-под фуражки.
Сейчас, окидывая стол с неприхотливыми закусками, майор выпячивал грудь и собирал за спиной гимнастерку в складки, чтобы она лучше обтягивала талию, одновременно тут же подмигивая Оле и как бы говоря: «Ну что ж, гульнем, а?!»
Хуже всех себя чувствовал Саша, никак не ожидавший, вероятно, что из-за него поднимется этакая кутерьма. Он пожимал плечами, поглядывал на меня и благодарно, несколько растерянно улыбался, как бы говоря: «Ты же видишь — я тут ни при чем. Это они все сами».
И тут Голубовский, кашлянув, несколько парадно начал:
— Товарищи офицеры, солдаты и вольнонаемные воины! Мы с вами привыкли сидеть по ночам. Таковы требования боевой обстановки. Не спит до рассвета Верховный. Не спят, ожидая его вызова на телетайп, командующие фронтами. Не спят корпусные и дивизионные командиры и их штабы. Не спим и мы — мозг инженерных войск. Но сейчас… Мы выполнили все, что нам приказывали. Противник прекратил огонь. На нашем участке все в порядке, хотя мы и каждую минуту готовы… — Голубовский вынул платок, кашлянул в него и продолжал: — Но я не о том. Сегодня особая ночь. Офицер с острова, то есть с нашего переднего края, презирая обстрел и непогоду, прибыл к нам с донесением. Мне стало известно, что у капитана Нагорника день рождения. Предлагаю отметить этот факт из жизни нашего друга. Он храбрый человек…
— Замечательный человек! Правдивый, — перебил его Потекян.
— Зачем перехваливать! — развел руками Саша.
— Давайте, давайте к столу! — заторопила Нина Сергеевна. Протянула руку и усадила меня. Потом оглянулась. — А вы что, Лютиков?
— Действительно. Ты что, против, младший лейтенант? — повернулся к нему и Потекян, увидевший, что чертежник не трогается со своего места.
— Нет, если все… За товарища капитана я… — поднялся с табуретки Лютиков. — У меня только печенье. Не знаю, подойдет ли?
— Почему не подойдет?! Давай, что есть. Женщины с чаем съедят, — продолжал неугомонный южанин.
Лютиков вынул из ящика стола початую пачку печенья, добавил ее к общему угощению, объяснил:
— Тут у меня начатое…
— Какая разница, доедим.
— Печенье, понятно, не закуска, — сказал Голубовский. — Вот баночная колбаса, то вещь.
— А если еще с луком!.. М-м-м!..
— Вы, товарищ капитан, правда как на Кавказе, — восхитилась Оля. — С вами не соскучишься.
— Зачем скучать?! Не надо скучать, Олюшка. Ничему не поможет.
Голубовский сосредоточенно разливал водку в составленную разнокалиберную посуду.
— Можете проверять, допускаю колебание не более пяти граммов.
— Мне только вина, и немножко! — воскликнула Оля, прикрывая ладонью свою чашку.
Потекян с готовностью взялся за темную бутылку.
— Хватит, хватит, — взмолилась Оля.
— За нашего Сашу Нагорника! За воина и человека! — стоя провозгласил Голубовский. Уже собираясь выпить, он бросил взгляд на Сиволобова: — А что же, старый солдат? Давай свою посудину.
— Слушаю! — связной мигом принес и протянул большую эмалированную кружку, которой давно обзавелся где-то в пути. — Здравия желаю, товарищ капитан!
Не раз я уже отмечал про себя, что Сиволобов с некоторых пор усиленно употребляет выражения служивого солдата. Началось это, когда в газетах стали писать о доблести старых фронтовиков, знавших дисциплину и отличавшихся геройством. С тех пор связной штаба, которому давно перевалило за сорок, усердно употреблял слова, с которыми когда-то обращался к фельдфебелю и батарейному командиру. Видя, какое это производит впечатление на нынешних офицеров, Сиволобов стал даже несколько перегибать, злоупотребляя разными «так точно», «честь имею» и еще «не могу знать…». Будь возможность, он, наверно, выписал бы из деревни своего «Егория» и нацепил бы крест на грудь рядом со сталинградской медалью. Неглупый связной понимал, что его — бывалого солдата — начальство легко отличит от других, а следовательно, и проявит о нем заботу.
Браво опрокинув в себя налитое в кружку и отрапортовав: «Благодарю покорно!» — Сиволобов отошел закусывать в свой закуток.
А за штабным столом оживленно переговаривались.
Оля вспоминала: когда была маленькой, в день ее рождения все, кто приходил, сперва ее целовали, а через полчаса получалось — будто ее и нет в доме.
— Я убегу и плачу. Только мама потом вспомнит.
Голубовский убеждал Олю, что она и сейчас маленькая и ничего не понимает в жизни. Потекян всех звал к себе в Армению и клялся, что любой, кто к нему приедет, будет принят как брат и сестра. Налегавший на еду Лютиков рассказывал, что у них в Воронеже до войны пива продавалось какого хочешь. Хоть залейся.
— Ну и жизнь была! — иронизировал Голубовский.
— Да, хорошо, и закуски хватало, — соглашался лишенный юмора младший лейтенант.
— Вы понемножку, понемножку… — просил не спешить Саша Нагорник, желавший подольше продлить удовольствие. — Горячительного-то всего…
— Я думаю, в случае чего найдется еще что-нибудь у дорогого Лютикова, — бросил пробный шар Потекян.
Но чертежник торопливо запротестовал:
— У меня нет. Нету, нету… Горючего никакого.
— Есть. Я знаю, — негромко, но так, чтобы слышал младший лейтенант, сказала Голубовскому Оля.
— О, видали, она знает! Больше меня знает, — ища у меня сочувствия, возмутился Лютиков.
— Давайте за нашу штабную компанию! Чтобы не терять друг друга! — подняв свою чашку, продолжала Нина Сергеевна.
— Куда торопишься, Ниночка, ведь именинник просил, — покачал головой Голубовский.
— Хорошо бы вообще не расставаться, — мечтательно произнес Саша.
— Я всю жизнь спешила, — рассмеялась Звонцова. — Я ведь из кронштадтских. У нас все торопятся. С переправы надо бежать на поезд. С поезда на переправу… Все так. Раз как-то иду… В Мурманске это было. Редкий день выпадал солнечный. Люди гуляют, а тут, смотрю, какая-то старушка с сумкой обогнала меня. Дальше иду, она уже бегом навстречу. Я остановила. Извините, спрашиваю, бабушка, вы не из Кронштадта?.. А она мне: как признали, или знакомая?.. Да нет, говорю, я наших везде отличаю — они бегают.
За столом посмеялись и с легкой руки Нины Сергеевны начали рассказывать истории. Истории были и забавные, и трогательные. И все лишь о жизни в довоенные дни, теперь казавшиеся почти сказочно беспечными.
Никто не смотрел на часы, и никому не хотелось идти спать. Когда поднимались наверх покурить или за иной надобностью, то, возвратившись к теплу, сообщали, что на Сиваше спокойно, нет в небе немецких «люстр», да и запускать их нет смысла, потому что над переправами стоит густой туман.
Как единственная курящая женщина, Звонцова попросила разрешения закурить за столом.
— Хорошо, — сказала она, затянувшись и выпустив дым. — Очень хорошо, что у вас сегодня день рождения, Саша. Вовремя.
— Необходимая душевная разрядка, — добавил Голубовский.
Расчувствовавшийся Потекян протянул Саше небольшой, размером с перочинный нож, кинжальчик в маленьких ножнах с серебряным черненым узором.
— Возьми, пожалуйста, от души, Саша!
Но Нагорник с поспешной категоричностью отвел руку дарившего.
— Подарков не возьму, что вы, братцы!
Однако Потекян был не из тех, кто, приняв решение, легко отступал, и кавказский кинжальчик оказался в красной, обветренной руке Саши Нагорника.
Пришло время что-то дарить и мне. В полевой сумке у меня лежала изрядно почитанная книжка стихов о любви, чудом доставшаяся мне с полгода назад. Было там и стихотворение о верности женщины, верящей в жизнь пропавшего на войне друга, когда верить уже было нечему. Стихотворение это знали наизусть на всех наших фронтах. Почему-то особенно близким себе его считали офицеры. Я вынул книжку и положил ее на стол перед Сашей.
— Дарю, капитан!
— Ну, — неуверенно пробормотал Нагорник. — Это ты, знаешь, зря. Ты же сам вроде там что-то пишешь.
— Бери, бери. Не отказывайся.
Он полистал книжку, вздохнул.
— Спасибо. Тогда уж надпиши.
— Я же не автор.
— Все равно. Знаешь, — продолжал Саша, чокнувшись своей кружкой о мой граненый стакан, — когда мне было лет двенадцать, я думал, что все писатели уже умерли.
— Этот живой и молодой, — сказал я, беря книжку.
Отыскав чернильный карандаш, я написал на обратной стороне обложки: «Саше — капитану Нагорнику. Желаю, друг, следующий день рождения встретить в час мира». Все-таки это здорово, что сегодня состоялся его день рождения! Именно что-то такое нам сейчас требовалось. И хотя я берег эту книжку, для Саши мне ее сейчас не было жалко.
Он принял ее почему-то опять со вздохом. Снова буркнул: «Спасибо» — и, отыскав свою сумку, упрятал в нес книжечку.
Немногим позже, чуть захмелев, скорее, наверное, от тепла, чем от выпитого, и вообще от растрогавшего его внимания, Саша, поднявшись, благодарил всех, а Голубовскому сказал:
— Ты голова, товарищ майор! Да так…
Хотел, кажется, еще что-то сказать, но, не придумав, махнул рукой и опустился на место.
В два часа ночи, как это и полагалось, трижды мигнуло электричество, и вскоре умолк глухо слышимый отсюда движок. Знающий службу Сиволобов поставил на стол заранее запаленные керосиновые лампы. Погасло электричество, и на стенах блиндажа закачались скошенные тени. В блиндаже сделалось по-деревенски уютно.
— Как на даче, — сказала Оля.
И вдруг ей захотелось танцевать. Оля вздохнула, вслух посетовала на то, что нет музыки. Да и будь бы она, не было места.
— Как это нет места? Нет музыки? Что ты, Олюшка!
Из-за нашего застолья выбрался капитан Потекян. Отойдя чуть в сторону, он взмахнул руками с тонкими смуглыми пальцами, встав на носки сапог, пошел плясать, сам себе напевая и потребовав от других:
— Хлопайте, други!.. Асса, асса!..
Это было поразительное зрелище. Потекян танцевал на пространстве пола едва ли больше квадратного метра, где умудрялся и ходить кругом, и выкидывать коленца, и загибал несуществующие рукава. Прямой, с тоненькой талией, как выточенный из дерева солдатик, он при этом так зажигательно напевал, что, наверное, всем, кто на него смотрел, виделся пляшущим в черкеске, и будто слышался маленький кавказский оркестр. Сидящие за столом старательно били в ладоши, а Нина Сергеевна и Голубовский стали подпевать танцующему.
Под конец, выдав стремительную пляску, Потекян прокричал какие-то непонятные слова и, неожиданно встав на одно колено и склонив голову, замер в этой позе перед Олей.
Ему шумно зааплодировали. Казалось, он нисколько не устал, потому что, поднявшись, дышал ровно, хотя и порывисто. Тут же обратился к восхищенной Оле:
— Иди, княгиня Ольга! Станцуем с тобой танго. Хватит места, хватит… И музыка будет.
Все дружно закричали:
— Иди, Оля!.. Просим!.. Ну, Оленька?!
Уступив требованиям, Оля, смущенно улыбаясь, пробралась к капитану. Потекян задал мотив известного до войны танго и велел петь всем. Его послушались и старались, как могли. Обняв девушку за талию, Потекян выделывал поразительные па. Танцуя почти на одном месте, он то прижимал Олю к себе, то отбрасывал, не отпуская, однако, из рук, то перегибал ее и наклонял головой чуть ли не до полу. Все это проделывал с таким артистическим юмором, что привел в восторг весь наш импровизированный оркестр. Не выдержав, воскликнул и Лютиков:
— Вот это да!.. Ну, капитан! Циркач!
Все засмеялись. Музыка оборвалась. Оля, подыгрывая Потекяну, опустилась на табуретку и будто бы в изнеможении откинулась к стене.
Им захлопали.
— Браво, браво!.. Бис, бис!.. Превосходно!..
В этот момент из-за стола поднялся Саша, перед тем как будто о чем-то задумавшийся.
— Ребята, а ребята! — заговорил он знакомым плачущим голосом. — Ребята, хорошо вам, а?! Хорошо, ну скажите?.. — Саша вопросительным взглядом обвел всех, кто был в блиндаже. — Вижу, ведь неплохо вам, маргаритки-лютики, мои дорогие… Ты великий комик Чаплин, симпатичный Потекян, а я… Режьте меня, ребята, четвертуйте… — неожиданно взмолился Нагорник. — Что желаете, то и делайте… Не родился я сегодня, ребята… В мае меня мама родила на свет. Потому и маялась со мной всю жизнь. Именины тоже отмечались в декабре… Так что вот… Пришел я сюда, согрелся, и вижу — вы такие все скучные. Такие героические люди, а нос повесили. Думал, как ваше настроение поднять… Думал, думал и додумался. Бейте меня, товарищи!.. Каюсь, виновен.
Произнеся это ошеломительное признание, Саша Нагорник опустился на место и взялся за голову с видом поздно раскаявшегося преступника.
В блиндаже наступила томительная тишина. Стало слышно, как сипели керосиновые лампы. В отдалении, с полуоткрытым ртом, замер Сиволобов, с интересом ожидавший, что последует дальше.
Молчание неожиданно нарушил Лютиков.
— Ух, ловко! — ехидно захохотал он. — Ну и провел всех капитан! Ах, номер!..
Саша оторвал руки от головы и развел их, что вместе с виноватым выражением лица должно было, вероятно, означать: что поделаешь, попутал черт, бывает…
Но тут вдруг стоявший вблизи Потекян ударил ладонью по столу и, сверкнув горячим взглядом в сторону Лютикова, воскликнул:
— Почему говоришь — провел?.. Никого не провел. Правильно сделал, товарищ капитан Нагорник. Какая разница… Сегодня день рождения, завтра?.. Кровь согрелась, жить хочется, воевать до победы хочется!.. Не жалко вина. Было бы еще. За твое здоровье, дорогой Саша… Молодец человек!..
— Нет, в самом деле недурно, — потянулась за новой папиросой Нина Сергеевна. — Сочинитель!
— М-м-м, да, — многозначительно произнес Голубовский, еще не решив, как ему следует отнестись к Сашиному розыгрышу.
Не выдержав, я громко расхохотался. Откровенно говоря, мне понравилась Сашина озорная выдумка.
А потом, как это порой случается в компании, на какой-то миг наступила тишина. Именно в эту минуту до нас донесся странный непрерывный гул, смешанный с неясным стрекотанием. Так гудит по ночам работающий вдали трактор.
— Что это? — встревоженно спросила Оля.
Все, кто был в блиндаже, мгновенно забыв про Сашу, напряженно прислушивались к звуку, который понемногу нарастал и все приближался и приближался. Торопливо надев шапку, Сиволобов заспешил вверх по лестнице. Гул усилился. Сквозь него слышалось лязганье металла, а связной уже стоял на виду у нас и, пораженный открытием, докладывал:
— Товарищ майор, кажись, танки гремят.
— Танки?!
Настоятельно запищал зеленый ящик телефонного аппарата. Голубовский устремился к нему, поднял трубку.
— Тюльпан слушает… У аппарата Девятый. — На несколько секунд майор умолк, а затем быстро и четко, с небольшими промежутками, стал повторять: — Есть!.. Есть!.. Есть!..
Голубовский положил трубку. Он был похож на военачальника, принявшего серьезное решение. Кинув взгляд на жаждущих поскорее узнать, что он услышал, чеканя слова, произнес:
— Полная боевая готовность. Приказано всем по местам! Началось. Танки идут на переправу. Сосредоточение на крымском берегу… Подполковник Угрюмцев на НП начинжа.
Взволнованные, все поднялись из-за стола. Ведь этого часа ждали так долго. Я увидел устремленные на меня вопросительные взгляды. Я-то ведь, кажется, должен был знать о намеченной операции. Потому, наверно, думали они, и задержался тут. Но и я, к стыду своему, не был осведомлен о времени выхода танковой армии на боевой рубеж, хотя о том, что танки в огромном количестве прибыли к нам на фронт, мне было известно.
— Нет, ребята, я и не знал, что сегодня… — сказал я.
— Танки!.. Значит, наступление. Замечательно!..
Потекян бросился к выходу. Вверху опять приоткрылась дверь — рев и лязганье идущих к переправе танков послышались громче.
— Наконец-то! — вырвалось у Звонцовой. — Танки, товарищи!.. Вот и дождались. Пойти послушать.
Она схватила свою шинель и стала ее торопливо надевать. Не позабыла и папиросы. Но не успела Нина Сергеевна одеться, с лестницы пулей слетел Потекян, кинулся к Нагорнику, обнял его за плечи.
— Ах, хитрый Саша!.. Ты знал, ты знал!.. Потому и устроил… Почему не сказал? Понимаю… Спасибо, капитан!..
Саша стоял обалделый, пытаясь улыбнуться и не зная, как ему принимать благодарность Потекяна. Конечно же он-то, не отлучавшийся с сивашского острова, ничего не мог знать о готовящейся танковой переправе. Он бросил взгляд на меня. Глаза его, одновременно и счастливые и виноватые, говорили: не разубеждай. Пусть так и думает.
А гул идущих танков, рев их моторов, лязганье гусениц все нарастали. В звуках, доходящих до нас, мы не услышали, когда снова заработал движок. Но вот и снова: сперва сделались рубиновыми нити накала в стеклянных пузырьках, а затем, мигнув, вспыхнуло электричество, в котором померк огонь керосиновых фитилей. Стало ясным, что ночи на Сиваше сегодня не будет. Готовый к исполнению любого приказа, стоял уже одетый в шинель и подпоясанный солдатским ремнем связной. Жмурясь от света, спешившая наверх Звонцова подошла к Нагорнику.
— Саша, — сказала она, — вы и вправду добрый вестник, дайте я вас поцелую, именинник! — и она рассмеялась, как, помнилось мне, не смеялась давно.
— Да нет, я же так… — растроганный капитан тоже натягивал шинель.
— Я пойду на остров, товарищ майор, разрешите?
— Как же пройдешь, а танки, тьма… Смотри…
— Ничего, доберусь как-нибудь. Разрешите идти?
— Действуйте согласно обстановке, — ответил ему по-уставному вытянувшийся Голубовский. Он вспомнил, что сейчас оставался за подполковника.
Сиволобов за эти минуты успел побывать на воздухе и снова вернуться назад.
— Мать родную не узнаешь, такой туман, товарищ майор, — доложил солдат. — Угадало, что ли, командование? В самый раз для переправы. Ничего немцу ниоткуда не увидать.
— Я на мост, товарищ майор, разрешите?
Это вслед за ушедшим Сашей отрапортовал уже сменивший сапоги и одевшийся Потекян.
— Давай. Сообщай обо всем, и почаще.
Казалось, безучастным к происходящему оставался только Лютиков. Буквально выполняя приказ «все по своим местам», он снова сидел за калькой. Неприметное лицо младшего лейтенанта выражало усердие и аккуратность.
Оля тоже хотела пойти наверх и уже накинула на голову платок Звонцовой, но Голубовский велел ей оставаться. Машинистка могла понадобиться каждую минуту.
— Побудь, Оля, — сказал он. — Мы с тобой в Крым успеем. Придет утро. Рванутся в бой танки… «Гремя броней, сверкая блеском стали…» — запел он, склонившись над картой, и вдруг засмеялся: — Блеском стали!.. Это надо же — танки-то, которые нужно маскировать?! Ну и сочиняют, атлеты!..
Я тоже надел шинель и подпоясался сверху ремнем с тяжелым ТТ в кобуре. Теперь мне нельзя было отлучаться от оперативников и следовало быть готовым к любому заданию. Повесив через плечо сумку, я взялся за шапку.
Запищал телефонный аппарат, и Голубовский, сняв трубку, уселся, чтобы принимать донесения. Донесения, по-видимому, были хорошие, потому что майор активно кивал головой, повторяя какие-то цифры, и все время подтверждал, что слышит отлично.
Этой удобной для него минутой воспользовался Лютиков. Оставив свой стол и удостоверившись, что майор был целиком поглощен телефоном, младший лейтенант подошел к Оле. На меня, по-видимому, он внимания не обращал.
— Ну вот, теперь все! Ясно тебе, порядочек, — убежденно сказал Лютиков. — Возьмем Крым — и мы в глубоком тылу. Мирово! Война-то уже тут, на юге, видела карту?
— Ну и что? — насторожилась Оля.
— То, что я тебе говорил. Решай, пока не поздно.
— Я уже все сказала вам, товарищ младший лейтенант.
— Во как! Подумай лучше.
— И лучше подумала.
— Чумичка, — Лютиков неодобрительно помотал головой. — Мы же день-два — и в Крыму… А наши где?.. В Румынии. Войне вот-вот и конец. Ты вольнонаемная, можешь куда хочешь… Я тебя в Воронеж, в свою комнату, направлю, а потом и сам. Устроимся в жизни, в том не сомневайся. Можем и тут записаться, по-фронтовому.
— Лютиков, прекратите, кажется, я вам…
— Так я же не нахальничаю. Предложение по-культурному. Ты только согласись на то…
— Ну как вы, действительно, можете! — Щеки девушки вспыхнули, она кинула взгляд в сторону Голубовского, наверно ища у того защиты, но, увидев, что майору сейчас не до нее, твердо продолжала: — Вы же мне не нравитесь, Лютиков. Поймите, не нра-ви-тесь!
— Глупство это все. Я тут самый молодой и холостой единственный… Погоди, зажмет тебя какой-нибудь из начальства, не то потом запоешь…
— Лютиков, замолчите! — уже почти крикнула девушка.
— Молчу, молчу. Могу и по стоечке… Только я тебе вот что скажу, — шипел Лютиков: — После войны вы — фронтовые — никому нужны не будете. Это факт. Вспомнишь лейтенанта Лютикова.
— Младшего лейтенанта, — зло поправила Оля.
— Ничего, и сержанту будешь рада.
— Идите вы к черту, Лютиков! — вскричала Оля, сама испугавшись своей вспышки. Хорошо, что в эту минуту наверху приоткрылась дверь и гул танков заглушил ее слова.
На лестнице показалась Нина Сергеевна.
— Лютиков, Оля! — позвала она. — Идите наверх, послушайте, что там делается!..
— Мне и так все ясно. Наступление наших войск… Не в первый раз, — сказал Лютиков.
Обрадованная появлением Звонцовой, Оля рванулась к лестнице.
— Я только на минутку, товарищ майор!
— Раздетая, Оля?! — прокричала ей вслед Нина Сергеевна.
— Вот дурость! — покачал головой младший лейтенант и, полный служебного достоинства, отправился за свой стол, где и уселся за кальки.
— Да, Тюльпан слушает, — кричал в аппарат Голубовский… — У нас пока все в порядке… Что, что?.. Спасибо за хорошую весть, товарищ Седьмой! — Майор положил трубку. — Ниночка Сергеевна, Лютиков! Звонил подполковник Угрюмцев. Танки уже на том берегу… Наконец-то! Дожили… Значит, и верно, скоро кипарисы и пальмы… Севастополь!.. А там недолго и до победы. Может быть, скоро и отметим ее где-нибудь под Берлином, а, лейтенант Звонцова?!
— Может быть, и отметим, — вздохнув, кивнула Нина Сергеевна. — Может быть, и скоро.
Я поднялся наверх и, встав на бруствер, напрасно пытался что-либо разобрать в кромешной мгле ночного тумана. Видно совсем ничего не было. Гремя железом, танки продвигались в полной темноте, и если сигналили друг другу, то заметить это можно было бы лишь на самом близком расстоянии. Отсюда, вслушиваясь, можно было только догадаться: вот они идут по дороге, подходят к переправе и гуськом, один за другим, на должном расстоянии, ползут, приближаясь к крымскому берегу. Я тоже был сапером. Переправа с первого дня строилась на моих глазах, и сейчас мне, как и любому саперному комбату, командирам рот, взводов, отделений и солдатам, передавалось волнение: выстоит ли, выдержит ли стоивший стольких труда и крови наш мост?!
Уже несколько дней, понемногу, на южный берег переправлялась тяжелая артиллерия. Теперь двигались танки. Утром, через два-три часа, должно начаться наступление. Как-то оно удастся?! Враг станет сопротивляться до последних сил. Ведь после крымской равнины, а потом гор и перевала, дальше — только море. Если все пойдет как должно быть, через неделю-две эти сивашские берега станут прежней пустынной степью на неуютной земле, которой не верится в то, что так недалеко отсюда Крым с его теплыми скалами и ласковым солнцем. Но сейчас я был неколебимо убежден в том, что скоро увижу южный край другой, недалекой земли, с белыми домами над крутизной обрывов и бирюзовым, таким памятным с юности, Черным морем.
Шинель моя сделалась сырой, и я решил спуститься к теплу и свету оставленного блиндажа.
Сходя по лестнице, увидел Нину Сергеевну, сидевшую на табурете. Она не обернулась и не посмотрела в мою сторону. Сидела, не сбросив шинели и замерев, невидящими глазами смотрела куда-то в затемненный угол штабного блиндажа. Владевшее ею недавно возбуждение прошло. О чем она сейчас думала?
За спиной моей взвизгнула дверь, и, умудрившись обойти меня на узкой лестнице, вниз сбежала Оля. За ней на миг в блиндаж прорвался гром тянувшихся к переправе танков. Радостно, совсем как-то по-девчоночьи, Оля выпалила:
— Потрясающе!.. Все идут и идут… Слышите, сколько их?! Ура, наступление!.. Вылезем и мы из этой земли!
Да, я навсегда запомнил ту необыкновенную ночь и туманное грозное утро на Сиваше. Мы все верили в победу и в то, что доживем до нее. Никто из нас не хотел погибать, но никто не думал о том, что все пережитое нами много позже историки назовут героической битвой за Крым.
САМЫЙ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Вот и окончилась его долгая военная дорога.
Сложилось так, что Владимир Акимович Белович уезжал на родину, чтобы уйти там в запас, в погонах с двумя маленькими звездочками, из которых, почти за четыре года службы, только одна прибавилась к единственной, означавшей звание младшего лейтенанта. В нем Белович начинал свой боевой путь.
Секрет столь малой офицерской выслуги за все изнурительное военное время таился в незавидной боевой специальности — начхим!
Ох уж эти бедолаги начхимы во фронтовых частях! Поглядеть — можно было подумать: они провинились в том, что сражений с применением химического оружия, к великому счастью для всех, так и не произошло.
Чуть ли не с первых месяцев войны начхимы сделались объектом всяческих шуток и подтруниваний, которым потом не было конца. И хотя в течение почти четырех лет по фронтовым подразделениям рассылались приказы, строго требовавшие внимания к химслужбе и выполнения на этот счет всех необходимых предосторожностей, кажется, к третьему году боев почти все уже были уверены, что на химическую атаку враг не осмелится.
Только в далеких тыловых частях можно было увидеть дневального, снаряженного по всей форме, с противогазной сумкой на плече. На фронте давно надоевшие всем противогазы возили в хвосте моторизованных и конных обозов, вместе с разным бытовым хозяйством, которым по мере продвижения на запад обрастала каждая передовая часть. Что же касается офицеров-химиков, то, пребывая вроде бы не у дел, они занимались чем угодно, выполняли любые задания штаба.
За три с лишним года службы в инженерном полку много переделал всевозможных не своих дел и начальник химической службы лейтенант Белович, прозванный штабными остряками Самым Старшим Лейтенантом.
Бывали дни, когда он, не слишком удачно, замещал начальника продовольственно-фуражного снабжения. Случалось, бесстрашно выполнял обязанности офицера связи меж передним краем и армейским инженерным командованием. Бывало и так, что ему поручали работу военного дознавателя, — Белович добросовестно выполнял и следовательские обязанности.
По гражданской своей профессии он был заводским экономистом, а начхимом заделался потому, что когда-то в молодости проходил учебный сбор, навсегда закрепивший за ним военно-учетную специальность химика.
Это был весьма штатский, добрый и очень неглупый человек. Природная мягкость характера и врожденная безотказность давали легко повод к тому, что Беловичу поручали все, что не хотелось или не было времени делать другим.
Офицеры инженерного полка — те, для кого военная служба была давним постоянным занятием, и те, кто стали называться капитанами и майорами лишь во второй половине сорок первого года, — относились к Беловичу с тем несколько снисходительным участием, с каким умудренные опытом взрослые люди относятся к старательному, но еще беспомощному ребенку.
Наверное, он был единственным командиром в штабе полка, к которому все стоявшие выше его по званию обращались не иначе как по имени и отчеству. Тем самым офицеры как бы старались сгладить ставшее с годами войны почти комическим положение с его лейтенантскими погонами.
Впрочем, сам Белович никакого неудобства в своем звании не замечал или не желал замечать. Службу в полку он принимал как дело для него временное, относясь к нему, однако же, со всей серьезностью. Он, как мог, честно делал все, что от него требовали.
Хотя Белович и старался походить на настоящего военного: туго стягивал ремень, который носил с портупеей, часто чистил свои тяжелые яловые сапоги и пуговицы надраивал до блеска, тем не менее было в его немного покатых плечах, в склоненной набок голове, когда он внимательно слушал собеседника, в походке носками врозь что-то непоправимо штатское.
На то, что его называли Самым Старшим Лейтенантом, как и на другие шутки, начхим не обижался. Даже наоборот, порой беззлобно подыгрывал острякам, как бы подчеркивая тем, что присутствует здесь лишь в силу военной необходимости и готов, как только придет тому час, стать прежним Владимиром Акимовичем.
И вот он покидал полк. Это происходило в жаркие летние дни, когда на улочках чудом обойденного боями немецкого городка, где теперь располагался штаб, доцветали липы. К тому времени со дня, когда затихли орудия, прошло уже два непривычных мирных месяца, и не было ничего удивительного в том, что командование нашло возможным отправить начхима домой, где он, конечно же, должен был незамедлительно уйти в запас.
Направление в Москву для демобилизации и литер на проезд уже лежали в кармане кителя, недавно сшитого Беловичу местным «военным и штатским» портным.
Года полтора назад он, до тех пор полагавший, что о своих прежних, довоенных занятиях следует позабыть, скорее всего ради любопытства, чем на что-то надеясь, послал письмо в домовую контору на одной из линий Васильевского острова, где в большой коммунальной квартире жил более десяти довоенных лет. Надежд получить ответ было мало. К тому же вообще оставалось неизвестным, цел ли тот пятиэтажный дом со вторым двором-колодцем, куда выходило окно комнаты Владимира Акимовича. Ну а если даже цел — кто знает, кому из соседей удалось выжить, чтобы им сумели передать его письмо?
И все же, как ни удивительно, ответ пришел. Пришел месяца три спустя, когда Белович уже перестал его ожидать. Письмо прислала соседка по квартире, эстрадная артистка. Пережив блокадную зиму и голод, эвакуировавшаяся из города в сорок втором году, она каким-то образом умудрилась уже вернуться домой.
Ровные строки на сероватом листе ученической тетрадки в линейку сообщали о том, что дом, в котором жил Владимир Акимович, уцелел, хотя в окнах его и чернеет закрашенная фанера вместо стекол, и что комната Беловича благодаря удачным обстоятельствам осталась незанятой. Еще соседка-актриса писала, что теперь она член домкома и что по действующим правилам площадь фронтовика никем не может быть заселена, из чего следовало, что Белович, отвоевав и оставшись невредимым (этого ему пожилая эстрадница в письме горячо желала), сможет вернуться в дом на Васильевском острове.
С того талого весеннего дня (полк тогда уже прошел Польшу и приближался к границам Германии), когда Беловичу принесли самодельный конверт с волнующим штемпелем: «Ленинград», обычно уравновешенный и выдержанный Владимир Акимович на время потерял свою всегдашнюю выдержку, Мысль о том, что с прежним укладом жизни, может быть, вовсе еще не покончено, привела его в беспокойное состояние.
Он по нескольку раз перечитывал письмо. Вслух вычитывал из него строки товарищам по службе. Сделался вдруг непривычно говорлив и, так как в штабе больше не было ни одного ленинградца, мог без конца рассказывать об этом, с его точки зрения, не знающем себе равных городе. Искренняя влюбленность Беловича в родной город сразу же послужила предметом для новых веселых подтруниваний. Нет-нет и кто-нибудь из штабных как бы вскользь бросал фразу вроде того, что-де, конечно же, Ленинград хорош, но разве можно его по красоте сравнить, например, с Киевом или Одессой. Не улавливая подвоха, начхим немедленно кидался в словесный бой и с бог знает откуда взявшимся красноречием отстаивал еще Пушкиным воспетую неповторимость невских берегов.
Когда день расставания с боевыми друзьями приблизился вплотную, Владимир Акимович, совсем недавно желавший демобилизации, кажется, был готов кинуться умолять командование отменить приказ и оставить его — лейтенанта Беловича — в штабе до тех дней, покуда не будет расформирован их полк. Ему стало казаться, что все здесь только и мечтали о том, чтобы побыстрее от него избавиться. Думалось, и товарищи-офицеры, с кем вместе провел годы, стоящие десятилетий, смотрели на него так, как смотрят в купе дальних поездов сдружившиеся пассажиры, которым еще предстоит путь вместе, на того, кто сходит на ближайшей станции.
Владимир Акимович Белович был холост. На протяжении всей своей военной службы денежный аттестат он направлял в далекий, совсем ему незнакомый Ташкент старшей сестре, которую не видал уже лет пятнадцать. Она была для него формально тем единственно близким человеком на свете, кому смогут послать извещение в случае его гибели.
По правде говоря, одинок он был не всегда.
За несколько лет до войны Белович женился.
На одной вечеринке, устроенной по случаю майских праздников, его познакомили с веселой, гладколицей Риммой Григорьевной — врачом-ортопедом, подругой хозяйки квартиры. Кажется, в тот же вечер подвыпивший Владимир Акимович — пил он редко и неумело — наговорил бездну комплиментов под звучный и одобрительный смех полногрудой Риммы.
Уже на следующий день сослуживцы, в особенности женщины, бывшие свидетелями его внезапного увлечения, пришли к выводу, что Белович и Римма будут прекрасной парой и что Владимиру Акимовичу давно пора начать семейную жизнь.
Записались через несколько дней и стали называться мужем и женой.
В комнату Владимира Акимовича Римма привезла полутораспальную кровать какого-то желтого дерева в крапинках, которое называла «птичий глаз». На стену повесили огромную картину художника Юлия Клевера — багровый закат в зимнем лесу. Это был дар матери Риммы.
С утра, напившись чаю, они разбегались на работу. Обедали врозь. По воскресеньям Римма водила мужа к своей маме, которая считалась в кулинарном деле искусницей. Владимир Акимович с удовольствием посидел бы дома и почитал бы книгу, но спорить с женой не решался и покорно шел к теще.
Чуть ли не каждое воскресенье, после обеда, ходили на балеты, которые Римма Григорьевна обожала. Белович в балетах не разбирался и порою на них скучал. Вскоре он понял, что Римма в театр, особенно на премьеры, стремилась лишь потому, что туда шли ее знакомые профессора со своими женами и еще какие-то «всем известные люди». В антрактах, когда гуляли по фойе, она цепким взором отыскивала в толпе знакомых и старательно им улыбалась.
Первым ее мужем был театральный художник. Римма рассказывала: лишь только они познакомились, художник немедленно захотел писать ее портрет в костюме Кармен с веером в руке. Портрет так и не был закончен. Помешал развод.
Дома по вечерам она скучала. Если Белович, сидя за столом, читал какую-нибудь книгу по экономике и делал выписки, Римма, пожав плечами, спрашивала: «Неужели тебе это не надоело на работе?»
Вскоре Белович с горечью начал убеждаться, что она все чаще стала его раздражать. И то, как Римма Григорьевна непомерно любила сладкое, и как судила о балеринах, непременно сообщая, кто будто бы какой из них покровительствует…
Вскоре они разошлись.
Развелись так же просто, как и записывались меньше года назад. Не было ни скандала, ни взаимных упреков, даже крупного разговора. Однажды, вернувшись с работы, Владимир Акимович увидел, что в комнате нет ни «птичьего глаза», ни заката Юлия Клевера. В доме его встретили лишь давно знакомые вещи.
Его соседка, пожилая эстрадная артистка, встретившись с ним в коридоре, как бы между прочим сказала ему:
— Не горюйте. Все к лучшему. Она вам совсем не подходила.
Он ничего не ответил, но ведь он и не горевал. Однако слова, брошенные неглупой женщиной, запали в душу. Почему она ему это сказала?.. Значит, размышлял Белович, еще не все потеряно. Значит, еще может найтись на свете такая женщина, которая ему «подойдет», такая, что сможет понять его и сделать счастливым? Нет, он вовсе не закоренелый холостяк. Просто так сложилось. Он бы хотел нормальной человеческой любви, доброй семьи и обязательно детей. Ведь ему уже за тридцать. Пора бы!
И тут, в солнечный воскресный день начала лета, на страну обрушилась война, и нечего уже было думать ни о женитьбе, ни о несуществующей семье, ни о чем личном.
Больше себе он не принадлежал.
Прошло не так уж много времени, и война из чего-то незнакомо страшного превратилась сперва в трагическую реальность, а потом сделалась жестокой, но привычной обыденностью.
И все-таки пришел так долго ожидавшийся неповторимый май. Внезапно наступила тишина.
Оставалось еще немного времени, и Владимир Акимович Белович должен был ступить на асфальт измученного и израненного Ленинграда.
Все было готово к отъезду, и он мог бы уже в конце дня отправиться к железнодорожной станции на попутной машине. Но Белович предпочел отложить отъезд до утра, решив устроить небольшую прощальную вечеринку.
В уставленной разными безделушками, украшенной салфеточками и картинками гостиной домика, где он квартировал, начхим поставил для товарищей две расцвеченные этикетками бутылки немецкого рома. Дольками были нарезаны плавленый сыр и похожая на застывший фарш баночная колбаса. Ужин как будто получался.
А тут кто-то из пришедших притащил еще с собой бутылку водки. Другой принес тарелку невесть где раздобытой кислой капусты. Штабные офицеры полка не были избалованы обилием съестных припасов, и стол, приготовленный Беловичем, вместе с добавками, показался отличным.
Однако все изменилось с приходом на прощальный вечер капитана Удалеева.
Он явился неожиданно с таким количеством снеди и вина, что скромно начатая прощальная вечеринка грозила превратиться в шумное пиршество.
Удалеев пришел не один. За ним следовал розоволицый старшина. В руках он нес картонный, по всей видимости не очень-то легкий короб.
— Товарищи офицеры доблестного штаба! — еще в дверях заулыбался Удалеев. — Сейчас будет мировой банкет по случаю убытия из части лейтенанта Беловича. — Кинув взгляд на приготовленные начхимом угощения, капитан торжествующе продолжал: — Это все семечки, голубы мои. Сейчас оформим по-положенному. Примите, товарищ лейтенант, надлежащее уважение!.. А ну, Бабенченко, выгружай!
В этом громком вступлении, в ерническом подмигивании собравшимся, в широких жестах, которые должны были свидетельствовать о щедрости капитана, Белович почувствовал для себя что-то оскорбительное. Подумалось: Удалеев в насмешку ему затеял всю эту показную суматоху с роскошным угощением.
Как бы то ни было, а на столе уже появились копченая колбаса, селедка и соленые огурцы, ветчина и другие редкостные в те дни закуски. Выстроились бутылки с вином, которого хватило бы и не на такую компанию, что собралась у начхима.
Несколько растерявшийся Белович вовсе не выражал той радости, какую, казалось бы, следовало проявить в благодарность капитану. Но и протестовать было нелепо.
Впрочем, и сам капитан Удалеев, направляясь к Беловичу, знал, что его появление придется начхиму не очень-то по душе.
Дело тут заключалось в том, что если и был в полку среди офицеров человек, который испытывал неприязнь к начхиму Беловичу, так это именно капитан Удалеев. К тому же недолюбливание тут было обоюдным. Взаимная молчаливая неприязнь их имела романтическую подоплеку, причиной которой явилась женщина. Странным это могло считаться и непонятным. Ведь ни о каком соперничестве, разумеется, не могло быть и речи. В самом деле: о чем говорить?! Тихий, уравновешенный и уже немолодой Белович и такой завидно приметный капитан Удалеев, который, казалось, был и создан для того, чтобы нравиться женщинам.
И вот поди ж ты!
Никто в полку так не выставлял на смех, где только это было удобно, штатские привычки Беловича, как это делал капитан Удалеев. Никто так не подтрунивал над отсутствием у Беловича строевой выправки и командирских навыков. В лицо, пожалуй, лишь он называл Беловича не иначе как «товарищ лейтенант» — уставным обращением, к которому никак нельзя придраться. Делал это Удалеев ловко, словно бы по природной простоте и привычке следовать воинской дисциплине, будто и в мыслях не имел намерения обижать начхима, но Белович-то понимал истинный смысл нехитрой игры капитана. Знал и о его подлинном отношении к себе. Тем не менее начхим делал вид, что ни о чем том не догадывается, и держался в отношении Удалеева подчеркнуто корректно, хотя и суховато.
А яблоком раздора была Зина.
Едва ли исполнилось ей девятнадцать, когда осенью сорок третьего года пошла она в армию, и первым человеком, которого Зина спросила, как ей стать военной, оказался лейтенант Белович.
Это случилось еще вдалеке от границы, на освобожденной советской земле, в городе, где Зина жила с рождения. Два года она, прячась от немцев, только изредка показывалась на улицах, по-старушечьи перевязывалась темным платком, из-под которого поблескивали ее живые глаза на бледном от недоедания лице.
Штаб полка, тогда приданного армии, наступавшей на крайнем южном фланге фронта, вошел в город на второй день после занятия его передовыми частями.
На одной из улиц, изрытой глубокими колеями проходивших тут танков и грузовиков с пушками, еще отпугивающе пустынной, Белович и повстречался с Зиной.
Девушка остановила его, когда Владимир Акимович шел по адресу, данному ему командиром части, чтобы присмотреть квартиру, где придется заночевать, а может быть, и жить некоторое время. Доверчиво глядя в кое-как побритое с утра лицо немолодого лейтенанта, Зина спросила, как ей стать военной и уйти отсюда с Красной Армией.
Белович понимал — нужно бы ответить, что в скором времени появится здесь районный военный комиссариат, который и займется этими делами, но девушка смотрела на него с такой надеждой в глазах, что Владимир Акимович не стал ей ничего объяснять, а, позабыв на время о том, куда шел, велел Зине следовать за ним. Тут он повернул назад, повел ее к штабу полка. Возвратясь в штаб, он очень по-уставному обратился к командиру и совсем по-штатски попросил принять девушку в вольнонаемные или оформить бойцом в хозяйственную часть. Причем просил о том столь убежденно, что можно было подумать, будто знал девушку давно и готов был за нее поручиться.
Всего только и оказалось у Зины документов, что бесполезная теперь сберкнижка матери, которую та оставила, когда уходила с младшей дочкой на восток от немцев — сама Зина гостила в то время у тетки в соседнем районе, — да еще перетертое на сгибах, с бледной печатью удостоверение об окончании «без отрыва от производства» курсов сандружинниц. Паспорта не было. Паспорт забрали в немецкую комендатуру, велев за ним прийти самой. Зина не пошла — пряталась, жила без паспорта.
К радости Беловича, командир части, подумав, вошел в положение девушки. Зина была направлена в распоряжение начальника медсанслужбы полка. Ей выписали солдатскую книжку, зачислили рядовой и оставили в санчасти при штабе.
Ах, как удивительно пошла ей военная форма!
Гимнастерка, ловко перехваченная ремнем на узкой талии, плотно облегала округлые плечи и высокую девичью грудь. Собственноручно суженная и потому переставшая быть скучно-форменной юбка охватывала бедра, открывая чуть полноватые, обутые в сапоги ноги.
Совсем немного прошло времени, и щеки Зины, перестав быть бледными, к тому же еще и чуть пополнели, а, кажется, еще не знавшие помады губы и без того сделались пунцовыми. Темные и гладкие волосы, расчесанные на пробор и стянутые сзади в узел, придавали ее лицу что-то особенное, не похожее на городские женские лица.
Нет, Зина не была красавицей, не назвать ее было Аксиньей из «Тихого Дона», представлявшейся Беловичу идеалом российской красоты. И все-таки именно об Аксинье подумал он, глядя однажды на Зину, когда она, склонившись над листком бумаги, что-то там записывала. Может быть, она действительно не была красавицей, конечно же, не была, но ее свежесть и молодость, обволакивающее спокойствие агатовых ласковых глаз могли помериться привлекательностью с любой признанной красотой.
Не зря же чуть не с первого дня появления Зины в инженерном полку на нее стали засматриваться все — и те, кто мог иметь шансы на успех или хоть малую на то надежду, и те, кто вряд ли на что-либо мог надеяться. Сыскались и чистосердечные поклонники — этакие рыцари в бывалых шинелях, и, чего греха таить, такие, что уповали на преимущества своего командного положения. Были и те, кто считал себя неотразимым.
Однако все по-разному предпринятые попытки сближения с Зиной вскоре разбились о достаточно безобидную, но неколебимую стойкость поначалу, казалось, такой покладистой девушки.
Когда, случалось, как это говорится, к Зине подъезжали, одни с рискованной прямотой, другие с тонким подходом, когда заводили с нею смелые или игривые разговоры, а то пытались ошеломить богатством красноречия, Зина вдруг очень просто и решительно говорила:
— Знаете что, я не затем в армию пошла.
Бывало — наступающий сдавался не сразу:
— При чем тут армия?
Но Зина не думала вступать в споры.
— Вот так вот. Понятно? — беззлобно, но решительно кончала она разговор и тут же, неожиданно очень приветливо, улыбалась, чем превращала в шутку все происходившее.
Это простодушное Зинино умение кончать порой не совсем приятное объяснение давало каждому возможность выйти из трудного положения без видимых потерь. И каждый про себя был за то благодарен девушке.
— Ну, а если влюбишься? — уже шутя спрашивали ее.
— Не влюблюсь. Не время.
— Ой ли? А — случится?
— Пока не случилось, так что — все! — с легким вздохом заканчивала разговор Зина и при этом так чисто, открыто смотрела в глаза собеседнику, что и тому, кому казалось, будто он был всерьез увлечен девушкой, становилось легче, и ее оставляли в покое.
«Зина ничья». С этим даже как-то радостно примирились, и Зину полюбили. Полюбили той грубоватой, но верной любовью, которая на фронте окружала девушек, попавших в большую мужскую семью и вместе со всеми переносящих тяготы и превратности фронтовой жизни.
Да, Зину полюбили. Ей старались делать приятное. Кто радовал теплым, словно отеческим, словом. Кто, желая доставить удовольствие, приносил ей конфеты из своего дополнительного офицерского пайка. Иные были довольны, когда им удавалось оказать Зине небольшую услугу. Помочь ей что-нибудь донести до санчасти или куда-то попутно подвезти ее на штабном мотоцикле. И Зина в таких случаях каждого сдержанно, но трогательно благодарила. Кого одобрительным взглядом, кого кратким «спасибо», а кого и просто милой улыбкой.
Но один человек для нее все же был исключением из правила. Им был Самый Старший Лейтенант. Только его, когда это было не при других, она называла просто Владимиром Акимовичем, и при этом с какой-то очень домашней интонацией. Зина явно отличала Беловича от всех и средних, и старших командиров. Как бы оправдывая свое, наверное, все-таки заметное, особое отношение к начхиму, она, если ей на то кто-нибудь намекал, вздохнув, говорила: «Он хороший человек». И чувствовалось: в это короткое определение вкладывалось много смысла.
Когда при очередном новом размещении части удавалось пожить с некоторыми удобствами, по отдельным домикам, Зина ни к кому из офицеров, квартируй они хоть по трое, в гости не ходила, а к начхиму шла без всякой оглядки и подолгу у него задерживалась. Пила чай, слушала его рассказы про довоенную жизнь в Ленинграде, про завод, где он работал, про театры…
Была у Зины редкая в девушках черта — она умела внимательно слушать. И не просто слушать, а выражать интерес к рассказчику, подбодряя его то улыбкой, то понятливым легким кивком головы или выжидательным взглядом.
Имелась в военной биографии Беловича и исключительная, а может быть, и героическая страница.
Никогда о той истории он никому не рассказывал, а Зине рассказать захотелось.
Еще в тяжелые дни отступления на Дону начхим был послан в инженерную разведку, которая в данном случае была не чем иным, как необходимостью посмотреть место предполагаемой переправы и доложить, что там за берега и есть ли естественные укрытия. В те дни линия фронта была ненадежной, но, отправляя Беловича, начальник штаба не предполагал, что начхиму встретятся серьезные препятствия.
А оно так и случилось. Оглядев местность и к вечеру уже возвращаясь назад, Белович увидел на хуторе, через который проходил днем, немецкие пятнистые бронетранспортеры.
Затихнув в зарослях орешника и дождавшись сумерек, он направился в обход к другому одинокому хутору, где не было видно признаков присутствия немцев. Подняв с кровати перепуганного хозяина, Белович потребовал, чтобы тот провел его на прямую дорогу к селу, где стоял штаб. Когда хуторянин — хилый мужичонка с бегающими глазами — начал бормотать, что боится — узнают немцы, завтра же его расстреляют, Белович твердо сказал:
— Веди, или…
При этом он опустил руку в карман и, сжав спичечный коробок, уткнул указательный палец в полу шинели, чуть ее приподняв. Окончательно струхнув, хозяин стал торопливо надевать сапоги. Если бы он знал, каким «револьвером» угрожал ему Белович! В инженерных частях с офицерским оружием в те дни обстояло из рук вон плохо. Начхим был вооружен сумкой с противогазом. Никто ведь и не думал, что он может встретиться с противником.
Идя вслед за проводником и все так же сжимая коробок, Белович предупредил:
— Пойдешь не туда, жалеть будет поздно.
Хуторянин не подвел, и с поднявшимся солнцем начхим достиг своих. Возвращению его немало удивились: с прошлого утра обстановка резко изменилась. По карте получалось, что Белович проводил разведку местности километрах в десяти в тылу немецких войск.
Он не стал докладывать, как ему удалось оттуда уйти. Сказал, что вышел с темнотой, и все. В кармане его шинели лежал еще теплый спичечный коробок, который Белович, не заметив того, сжимал в кулаке всю дорогу. Потом он почти позабыл про эту историю, со временем начавшую казаться лишь забавной. И вот как-то рассказал о ней Зине. Зина слушала, замерев, с напряженным вниманием. В какой-то момент всплеснула руками. В каком-то месте рассказа ахнула. Потом чистосердечно спросила:
— Здорово испугались, да?
— Было, — кивнул Белович и рассмеялся. — Но ты же видишь, какой я находчивый вояка?!
Чем снял всякую возможность думать, что считает себя героем.
Часто, когда Белович, рассказав что-нибудь любопытное, умолкал, Зина, улучив минуту, говорила:
— Давайте, я вам подворотничок подошью.
Владимир Акимович при этом всегда смущался.
— А разве он не свежий? Я и сам могу…
— Я лучше. У вас как-то криво выходит, — безобидным смешком смягчала его стеснительность Зина. — Ну, снимайте. Отвернусь к окошку. — И, переходя от слов к делу, вынимала из кармашка гимнастерки заранее приготовленный белоснежный бязевый лоскут и иголку с хвостом вдетой в нее нитки. И Самый Старший Лейтенант за ее спиной стеснительно стаскивал с себя гимнастерку.
Своего скромного участия во фронтовой жизни Беловича Зина не скрывала, и вскоре немногочисленные женщины, служившие при штабе, прозвали ее «начхимовой невестой». Когда Зина про то слышала, она, не сердясь, отшучивалась:
— В самый раз угадали. Вот до Берлина дойдем, в костеле свадьбу сыграем.
Почему-то она считала, что в Берлине всюду одни костелы.
Перед Новым годом Зине поручили готовить елку. И конечно же, в помощь ей откомандировали лейтенанта Беловича: начхиму-де все равно нечего делать. Вместе с Владимиром Акимовичем они понаделали разных игрушек. Навесили на ветви елки спичечные коробки, оклеенные фольгой, лебедей и звездочек, нарезанных из старых штабных карт, гирлянды из карамелей, добытых в военторге. Белович неожиданно оказался отличным изобретателем украшений из ничего, а Зина — умелым исполнителем его замыслов. Владимир Акимович любовался движениями ее быстрых пальцев, потом сам старательно делал выкройку и склеивал какие-то смешные фигурки. Работая, Зина напевала то одну, то другую знакомую песню, и Белович пытался вторить ей своим тихим приятным голосом. Прислушиваясь, Зина на миг замолкала, говорила:
— Смотрите, как у вас получается…
Он был польщен ее похвалой и старался вовсю. Им было хорошо вдвоем возле елки, от которой исходил теплый запах детства, Владимиру Акимовичу казалось — он дома.
Новый год встречали еще в Польше.
На участке фронта, где действовал инженерный полк, выдалась передышка, и в штабе было относительно спокойно.
Общими усилиями приготовили новогодний стол. Нашлось и шампанское. Несколько его бутылок досталось штабным от расщедрившегося на четвертый год боев военторга. Словом, пирушка выдалась на славу. Но особенный успех выпал на долю убранной Зиной вместе с Беловичем елки. Ею восхищались. Зину и Самого Старшего Лейтенанта хвалили. Еще бы! Ведь на елке даже горели настоящие свечи. Их добыли в местном костеле, выменяв на банку консервированных сосисок. Длинные католические свечи Владимир Акимович разрезал на части и укрепил их на ветках. Получилось удачно. Когда потушили свет, все затихли. Свечи горели, еле слышно потрескивая. Наверное, каждый в эту минуту был далек и от войны, и от полуразоренного польского местечка.
Свет свечей отбрасывал на стол длинные прозрачные тени стаканов и рюмок. Искрились серебряные горлышки бутылок с шампанским.
«Как в ресторане!» — завороженно шепнула Беловичу Зина, сидевшая рядом. За столом все едва поместились.
Скоро в комнате стало душно. Безжалостные курильщики исполосовали воздух синим дымом.
Владимир Акимович и Зина вышли на улицу. Она набросила на плечи шинель, но шапку не надевала. Белович, напротив, надел шапку, но от шинели отказался, заявив, что простуды не боится.
Местечко, где задержался штаб, спало.
В темнеющих на склоне невысокого косогора домиках с островерхими крышами не видно было ни одного огонька. По небу плыли длинные лоскуты растерзанных облаков. Они то совсем скрывали полную веселую луну, то лишь заслоняли ее, и тогда казалось, что луна выглядывает из-за тюлевой занавески. Меж стаей бежавших облаков проглядывали звезды.
Прямо против крылечка, на которое вышли подышать Зина с Беловичем, темнела башенка костела. В верхнюю часть башни угодил снаряд, и четкий силуэт верхней арки был изуродован пробоиной в форме опрокинутой на спину буквы «с». Через арку и дыру от снаряда виднелись звезды и плывущие облака. Было совсем тихо. Только из-за закрытых двойных дверей доносился шум веселого застолья.
— Как хорошо! — сказала Зина, глядя на небо. — Будто в цветном кино. И войны, кажется, никакой нет.
Словно опровергая эти ее слова, за дверьми запели «Землянку», которую теперь пели часто и повсюду. Помолчав, Зина спросила:
— Владимир Акимович, кончится война, что станете делать?
Он ответил не сразу. Смотрел на бегущие облака.
— Не знаю. Работать, конечно. Надо, чтобы она еще кончилась.
Потом в свою очередь задал вопрос:
— А ты, Зина?
— Учиться, наверное, пойду. Что же еще?
— Надо, чтобы война закончилась, — повторил Белович.
— Кончится. К лету, — с неожиданной убежденностью заявила Зина и так же решительно продолжала: — Мы с вами останемся живы. Я знаю.
Он рассмеялся.
— Скажите, ясновидящая…
— Знаю, — упрямо отвечала Зина. — Я как скажу, так и бывает.
— Да что ты?
Беловичу стало совсем весело. Но Зина не смеялась. Она взглянула на него так, будто ждала, что он сейчас скажет что-то очень важное, необходимое ей. Свет, падавший из окна по соседству с ними — елку уже загасили, и горело электричество, — позволял разглядеть Зинино лицо. Глаза ее, поблескивая, выжидающе смотрели на Беловича. Она была хороша, очень хороша сейчас, и Владимир Акимович было уже хотел ей это сказать, но решил, что она может принять его слова за пьяное объяснение, и лишь проговорил:
— Идем-ка, а то и в самом деле простудимся. Болеть на войне совсем глупо.
Они возвратились в помещение. Встреча Нового года клонилась к концу.
Кажется, с новогоднего вечера и стали называть начхима Зининым женихом. Но шутка эта была так далека от действительности, что никто ей не придавал значения. Посчитали так: уж пусть ее женихом называется совсем не годящийся на эту роль Самый Старший Лейтенант, чем кто-нибудь из тех, кто и на самом деле предъявит на нее какие-то права. Пускай Зина, когда Белович проходит мимо санчасти, стучит по стеклу, улыбается и машет ему рукой. Это ничего не значит. Так, пустяки. Зина — ничья. В том уверились твердо. Да оно так и было, и казалось — останется навсегда. Во всяком случае до конца войны, как утверждала сама Зина.
Но вышло по-иному.
Все изменилось после прихода в полк капитана Удалеева.
Он прибыл из фронтового офицерского резерва незадолго до Нового года и первое время находился во втором эшелоне, помогая там интендантам подтянуть полковые тылы. Позже уже, кажется, не было дня, чтобы он не бывал в авангарде частей, выполняя наиболее срочные поручения командира полка. Тот сразу поверил в Удалеева. В его напористость, быстроту действий и умение ладить с фронтовыми снабженцами.
В полку Удалеев пришелся ко двору. Молодой и жизнелюбивый, отмеченный наградами, он производил отличное впечатление. Он покорял лихой военной выправкой, находчивостью и не боялся браться за все, что требовалось полку.
С тех пор прошло немного времени, и произошло то, чего меньше всего ожидали штабные и сама санинструктор Зина Калюжная: она влюбилась в Удалеева. Куда девались гордые намерения оставаться строгой и недоступной? Зина влюбилась с той неудержимой, не терпящей преград страстью, на которую бывают способны только очень чистые, прямые натуры. Как скованные холодными зимами быстрые реки весной, вздыбив ледяной панцирь, рвутся вперед, увлекая с собой все, что мешает их открытому течению, так и любовь, не знающая того часа, когда придет ее время, однажды нежданно вырывается наружу и несется навстречу неизведанному, не считаясь ни с рассудком, ни с препятствиями.
Удалеев покорил, пленил и приручил «ничью Зину». Никто не знал — стоило это ему больших усилий или все случилось само собой, только вскоре их часто стали видеть вместе, и все сделалось понятным даже для самых недогадливых. В Зине заметили перемены. Она теперь громче и веселей обычного смеялась. При этом, кажется, без особого повода — просто так, от душевного ликования, что ли. А Удалеев под разными предлогами что ни день заезжал в санчасть. И у всех на виду торчал возле санчасти, дожидаясь хозяина, его трофейный «цундап» с коляской.
Кое-кто поговаривал, что где-то в другой части капитан уже проводил в тыл молоденькую связистку, которой ничего больше не оставалось, как вернуться домой. Но Зина дурным слухам не считала нужным верить и лишь радовалась посетившему ее еще не изведанному счастью разделенной любви.
Своего чувства к Удалееву она вовсе не считала нужным ни от кого прятать. А так как никто в полку не мог упрекнуть ее ни в ветрености, ни в изменчивости, то и возмущения ничьего ее поведение не могло вызвать. Какое кому до того дело? Она полюбила, и пусть все, кто хочет, о том знают. Вот и все!
Но ведь и действительно: кто мог запретить молодым людям, пусть и на фронте, пускай и вблизи передовой, любить друг друга? Чувства не подвластны никакому уставу, — что поделаешь… И хотя многих задел крутой поворот в Зининых правилах, с тем покорно смирились. Злословить было не о чем. Отношения штабной любимицы санинструктора Калюжной и капитана Удалеева как будто никому не мешали и, значит, никого и не касались. Пролетели месяц-другой, и кто-то уже стал их называть мужем и женой, что к тому времени не так уж редко встречалось на фронте, когда на время возникала иллюзия мирных дней.
Удивительным было другое.
Несмотря на резкую в ней перемену, Зина не изменила своего прежнего особого отношения к Самому Старшему Лейтенанту. Она так же, как и раньше, улыбалась ему приветливей, чем другим. Находила время, чтобы поговорить с ним о том, о сем. Спрашивала, как он думает: скоро ли дойдем до Берлина?.. Отдав свою любовь капитану, Зина оставила за собой право на бескорыстную дружбу с Беловичем, хотя на квартиру к нему теперь уже не заходила.
Удалеев оказался человеком не мелкого десятка. Он не ревновал Зину. Наверное, считал, что ревновать в данном случае значило сделаться посмешищем для других. Но то, что Зина, сойдясь с ним, не позабыла о Беловиче, скребло честолюбие капитана. И что она могла находить в этом нелепом начхиме? Наедине с Зиной Удалеев отводил душу тем, что посмеивался над Беловичем, называл его Зининым вздыхателем и «Санчей Панчей» (вероятнее всего, подразумевая при том Дон-Кихота). Он смеялся над тем, как неумело начхим козыряет, приветствуя на улице старших по званию, и вообще над его непригодностью к военной службе…
Зина понимала — это все-таки ревность. И, смеясь про себя, прощала капитану его выходки. В минуты, когда он высмеивал Беловича, она делала вид, что не обращает на это внимания, и за начхима не вступалась. Пройдет время, думала Зина, и Гриша — так звали Удалеева — поймет, что был не прав, когда выставлял в смешном виде доброго человека. А теперь? Пусть ревнует. Это даже хорошо: значит, любит. Что касается самого Удалеева, то молчаливое терпение Зины бесило его. Капитан с трудом скрывал возмущение упорным нежеланием подруги вместе посмеяться над начхимом, и только наигранное безразличие удерживало его от взрыва.
И вот теперь Удалеев, ставший чуть ли не главным снабженцем полка, пришел проводить Самого Старшего Лейтенанта. Пришел с будто бы открытой душой. Словно хотел широким жестом загладить прежнюю неоправданную неприязнь к начхиму, которую, разумеется, невозможно было скрыть от других.
Да и в самом деле, пора забыть обиды. Какие теперь могли быть обиды и упреки? Рано утром того же дня полк оставила Зина. И хотя санинструктор Калюжная уезжала домой согласно приказу о постепенной демобилизации женского рядового состава, всем была хорошо известна истинная причина ее отъезда.
Получилось так, что Владимир Акимович и Зина даже не успели толком попрощаться, сказать друг другу напутственные слова и обменяться адресами — сделать то, что делают все расстающиеся после долгих нелегких дней, проведенных вместе. В такие минуты и мужественные люди, не раз глядевшие в глаза смерти, говорят проникновенные слова, а то и пускают слезу, обещая переписываться и ездить в гости. Клянутся с чистым сердцем, не подозревая, что очень скоро — бывает и так — забудут в сутолоке новых дел и новых встреч об этих обещаниях.
Зина намеревалась уехать днем и надеялась по-должному проститься со штабными, но Удалеев раздобыл легковушку и в шесть утра, пока все еще спали, погрузил Зину с ее багажом и отвез на станцию, откуда до советской границы уже ходили поезда. Там он усадил Зину в вагон и к концу дня возвратился в полк.
Трудно было дознаться, делалось все это по заранее обдуманному им плану или и вправду легковая машина, как он утверждал, была счастливой случайностью. Ведь еще вчера Зина уславливалась с Беловичем добираться до пограничной станции вместе. Так было и веселее, и ей удобнее, но, по-видимому, капитану этого не захотелось, и он поспешил отправить Зину одну и пораньше. «Ну и что же, — решил про себя Владимир Акимович. — Пусть так. В конце концов не все ли равно, где расставаться». Теперь все было кончено. И в самом деле, почему было капитану Удалееву не прийти на его проводы?
Прощальный вечер закончился шумно. Выпитое вино сделало свое. Разговорились молчальники. Расчувствовались и люди, не склонные к широкой общительности. Иные объяснялись в давней любви и уважении к Беловичу. Кто-то вытащил из кармана и подарил некурящему Владимиру Акимовичу зажигалку в виде маленького пистолетика. За ним последовали другие. Кто положил ножик с полосатой пластмассовой ручкой, кто — хитроумный «вечный» блокнот. Вскоре перед Беловичем выросла горка памятных безделушек. И снова поднимали стаканы. Чокались и вспоминали дни, когда «встретиться в Берлине» было лишь мечтой, желанной, но столь далекой от осуществления. Припоминали и тяжелое, и удивительное, и смешное, что, думалось, не позабудется никогда. Кто-то в шутку требовал выпить за химслужбу, отлично поставленную лейтенантом Беловичем, благодаря чему Гитлер не решился на газовую атаку. Шутке смеялись и дружески обнимали Владимира Акимовича.
Шумливей и веселей всех других был Удалеев. Про себя Белович отметил в нем какое-то неподдельное оживление. Неужели, недоумевал Владимир Акимович, капитан действительно радовался тому, что сумел отправить Зину на день раньше начхима? Неужели ревновал к нему — застарелому лейтенанту? Он, этот удачливый красавчик, без пяти минут майор!
К ночи, когда, утихомирившись, офицеры принялись за выяснение отношений, Удалеев пробился к Владимиру Акимовичу. Он протянул ему свою широкую ладонь и сказал:
— Ну, расстаемся. Давай, голуба моя, навсегда мировую… Забудем, что там было. Ну его к бесам! Оставим это тут, на фрицевской земле. Другая начинается жизнь. Разлетимся каждый по своим болотам. На одной дорожке, наверно, и встретиться не придется… Я тебе, Владимир Акимович, на прощанье печатку шоколада сообразил. Говорят — французский. Вещь надежная, непортящаяся. Довезешь — своих там, в Ленинграде, угостишь… Ну, и мир!.. Хана всему. Будь жив, как лучше желаешь.
— Да ведь мы, собственно, никогда и не ссорились, — слегка пожав плечами, проговорил Белович и ответно пожал руку капитана, кажется, впервые назвавшего его по имени и отчеству.
— Ну и порядок. Понятно ведь, о чем речь. Теперь — все. Подпись и круглая печать! — хитро подмигнул Удалеев и отошел к столу, чтобы снова наполнить свою рюмку.
Когда поздно ночью Владимир Акимович остался один, он до мельчайших деталей припомнил их разговор. Увидел перед собой улыбающееся, густо порозовевшее лицо Удалеева, и ему вдруг показался неприятным этот «мир» и это «болото», на которое, по мнению капитана, он должен был возвращаться. Белович повертел в руках добротно запечатанную пачку (по всему судя, не менее десятка шоколадных плиток) и, отложив ее в сторону, вспомнил Зину, ее глаза, всегда глядевшие на него с каким-то скрытым вопросом. Вспомнил и отчего-то подумал о ней с обидой и пожалел ее, тут же решив, что пора обо всем этом позабывать. Ведь он знал — больше ее уже никогда не встретит.
И все-таки им с Зиной пришлось еще увидеться.
Это случилось спустя двое суток со времени ночных проводов, на вокзале пограничного города, уже на родной земле, где фронтовики и возвращавшиеся домой из неметчины угнанные туда женщины пересаживались на поезда, идущие в разных направлениях в глубину страны.
Сумев пристроить свой багаж в камеру хранения и отстояв очередь в кассу, чтобы прокомпостировать литер, Владимир Акимович оказался свободным на несколько часов. По комендантскому талону он сносно пообедал в столовой для военных транзитников и теперь, довольный тем, что билетные трудности остались позади, неторопливо шел вдоль платформы едва ли на треть уцелевшего вокзального здания.
Гигантской, выгоревшей внутри каменной коробкой высилось то, что прежде называлось вокзалом. Сквозь пустые проемы когда-то нарядных стрельчатых окон глядело чистое июльское небо. Никем не тревожимые ласточки стремительным своим полетом бесследно перечеркивали небесную синь. А внизу толпились, бродили, сидели на своих пожитках и спали там, где только возможно было уснуть, военные и штатские люди, объединенные одним-единственным желанием: «Скорее, скорей бы домой!»
Пробившись сквозь толпу ожидавших посадки, Владимир Акимович дошел до конца вокзального здания и свернул в сторону города. Прошел просторную, мощенную булыжником площадь. Вдоль полуразрушенной стены тянулся нестройный ряд тополей. Израненные осколками, наполовину обгоревшие, а кое-где и срезанные снарядами, тополя, несмотря на все это, упрямо цвели. Белый, сорванный с них ветрами пух ручейками стлался вдоль тротуаров. И здесь, укрываясь в тени стены и крон уцелевших деревьев, дожидались счастливого часа отъезда военные люди, в большинстве своем солдаты и сержанты пожилого для армейской службы возраста, возвращавшиеся по домам в первую очередь.
Обогнув угол, Белович пошел вдоль этой, видно, некогда парадной аллеи. Иные из солдат, завидев его, поднимались и козыряли, Владимир Акимович торопливо отвечал им встречным приветствием, недовольный тем, что, не подумав, пошел здесь и доставил беспокойство этим немолодым воинам.
И вот тут, на площадке перед дверью, которая теперь вела в пустоту разрушенного здания, он увидел Зину. Она устроилась на сохранившихся ступеньках у двери. Сидела, подперев кулаками голову, и отрешенно смотрела в притоптанную пыль на плитах тротуара. Рядом, на ее чемодане, лежали шинель и плотно набитый вещевой мешок. Она бы не заметила Беловича, пройди он мимо. Не подняла головы и тогда, когда он подошел вплотную.
— Зина! — негромко окликнул ее Белович.
Она вздрогнула и подняла голову.
— Владимир Акимович, вы?!
Вскочила на ноги и без всякого стеснения протянула недавнему начхиму полка обе руки. Он ответно стал их крепко пожимать. Можно было подумать, что повстречались люди, давным-давно не видавшие друг друга.
— Это — судьба, — глядя ему в глаза, сказала Зина.
— Скорее дорожные трудности, — пошутил Белович.
— Нет, нет! Я думала. Я знала… Ну, как там наши?
Спрашивала так, будто покинула полк давным-давно, а не всего днем раньше его. Впрочем, он тут же подумал, что и ему, распрощавшемуся с товарищами немного позже, они тоже казались уже далекими, может быть позабывшими его.
— Все на месте. Служба идет.
Зина объяснила, что поезд, на котором она должна была уехать, ходит раз в двое суток. Уезжающих здесь скопилось столько, что попасть на вчерашний нечего было и мечтать. Следующий отправлялся завтра с утра. Зина заняла очередь в кассу для рядовых и сержантов. Очередь была огромной, не было уверенности в том, что Зина сумеет уехать и завтра. Притом она призналась, что чувствует себя неважно. Все время хочет пить; есть, наоборот, совсем не хочется.
— Дай-ка твой литер, — приказным тоном сказал Владимир Акимович.
Здесь, на узловой станции, вдали от немецкого городка, где они оставили свой полк, он почувствовал себя старшим, обязанным позаботиться о штабном санинструкторе. Ведь он был все-таки офицер и, следовало думать, сумеет настоять, чтобы Зину отправили побыстрее.
Была в характере Беловича одна приметная черта. Стеснительный и малотребовательный ко всему, что касалось его самого, он делался до удивительного настойчивым, когда речь шла о чем-нибудь с его точки зрения совершенно необходимом другому.
Мало веря в то, что лишенный начальнических черт Самый Старший Лейтенант сможет хоть как-то ускорить ее отъезд, Зина смотрела на него скорее с благодарней улыбкой, чем с надеждой на успех.
Но Белович, оказалось, не шутил.
— Давай литер, — требовательно повторил он.
Зина вздохнула и покорно полезла в карманчик гимнастерки. Вынула оттуда солдатское удостоверение, а из него — сложенные вчетверо железнодорожный литер и направление домой. Протянув документы Беловичу, робко сказала:
— Вот, тут все.
— Будь здесь, никуда не отлучайся.
Несмотря на внешнюю решительность, Владимир Акимович на самом-то деле не был до конца убежден в том, что сумеет облегчить Зинину участь. Но нужно же было что-то делать, и он, минуя железнодорожные кассы, направился к коменданту.
Военная комендатура станции помещалась в сохранившейся после пожара части вокзала. В тусклом свете приемной, защищенной со стороны платформы окном с железной решеткой, он разглядел на скамье несколько старших офицеров, ожидавших решения своей путевой судьбы. Владимир Акимович прошел мимо них и оказался возле барьера, перегораживающего помещение. За барьером, стоя у стенного аппарата, с кем-то разговаривал по телефону молоденький, наглаженный и начищенный от фасонной фуражки с бархатным околышем до носков хромовых сапог лейтенант железнодорожных войск. Одного взгляда, который он бросил издали на Беловича, было достаточно, чтобы догадаться о том, как он презирал офицеров подобного типа.
— По какому вопросу? — не закончив разговор и лишь прикрыв мембрану ладонью, спросил у Беловича лейтенант.
— Я подожду, — ответил Белович.
Лейтенант наконец повесил трубку. Повертев ручку железной коробки аппарата, чтобы дать отбой, он подошел к барьеру.
— Слушаю вас.
Владимир Акимович протянул Зинины бумажки.
— Вот, — стараясь быть убедительным, проговорил он. — Необходимо отправить женщину.
Лейтенант взял документы и, бегло взглянув, возвратил их Беловичу.
— В порядке очереди. В кассе сержантского и рядового состава. В конце платформы.
По-видимому, считая, что этим их объяснение исчерпано, великолепный лейтенант повернулся спиной к Владимиру Акимовичу, собираясь звонить теперь уже по другому телефону, стоящему на столе.
Но Белович не уходил.
— Я знаю, — громко бросил он в гладкую спину железнодорожного офицера. — Но здесь особый случай.
— Чего же особого? — Вполоборота, с трубкой в руке, лейтенант будто бы с удивлением смотрел на равного с ним по званию офицера, наверное, чуть ли не вдвое старше его. Плохо скрытая ироническая улыбка угадывалась на его лице. — Что, санинструктор — ваша жена?
— Ваши шутки не уместны, товарищ лейтенант! — чуть было не взорвавшись, что случалось с ним очень редко, сказал Владимир Акимович. — Я вам объясняю — здесь случай особый.
— Не повышайте голоса, товарищ лейтенант, — с угрозой, со своей стороны, недовольно бросил лейтенант-железнодорожник, но все-таки положил трубку на аппарат.
— Пропустите меня к коменданту, — потребовал Белович.
— Комендант по пустякам не принимает.
— Это не пустяки. Вы забываетесь, товарищ лейтенант! — все вскипало в Беловиче, возбужденном и возмущенным небрежением к нему этого щеголя.
В приемной сделалось тихо. Старшие офицеры молчали, не считая возможным вмешиваться в происходящее. Дежурный по комендатуре насмешливо, с обидной снисходительностью смотрел на зачем-то вытянувшегося в этот момент по струнке Беловича. Преимущество помощника коменданта перед беспомощным здесь скромным фронтовым командиром нетрудно было прочесть на нагловатом лице железнодорожника.
— Вы что, товарищ лейтенант… — начал он было наставительным тоном, но в эту минуту с платформы в комендатуру вошел невысокого роста, лет пятидесяти, майор.
— Что тут? — спросил он, вероятно заметив возбужденное состояние Беловича.
— Да вот, разрешите доложить, товарищ комендант, — картинно откозырял майору дежурный помощник, — лейтенант желает наводить у нас свои порядки.
Майор внимательно посмотрел на старавшегося держаться подчеркнуто по-уставному и потому сейчас, в своем усердии, несколько забавного Беловича. Среди старших офицеров произошло движение. Коменданта ждали.
— Зайдите, товарищ лейтенант, — негромко бросил майор и поднял доску в барьере, открывавшую проход в ту часть помещения, где находился дежурный.
По-прежнему держась подтянуто, Владимир Акимович шагнул за барьер, но тут же приостановился, пропуская вперед майора, а затем последовал за ним туда, куда вела дверь со старенькой эмалевой табличкой «Комендант».
Они оказались в небольшой узкой и длинной комнате со столом, заставленным телефонными аппаратами. Несмотря на солнечный день, в помещении было темновато, и под потолком горела лампочка, которую, вероятно, никогда не гасили.
— Что случилось? В чем дело? — спросил комендант, пройдя вперед и усаживаясь за стол под портретом.
— Разрешите, товарищ майор… — торопливо заговорил Белович, боясь, что комендант не дослушает его до конца. — Тут девушка… Вернее, женщина. Мы из одной инженерной части. Откомандированы с места службы в Германии… Разъезжаемся по своим домам. Большая просьба… — Начав строго по-военному, Владимир Акимович, сам того не заметив, перешел на сугубо штатский тон. — Она, понимаете, в положении, и вот уже вторые сутки…
Молча комендант взял протянутые ему Беловичем документы и склонился над ними. При этом он снял фуражку, обнаружив полуседые, давно не стриженные волосы. Механически Владимир Акимович пересчитал планки на кителе коменданта. Их было семь. И среди других — это Белович увидел сразу — ленточка медали ленинградской обороны. Смутная надежда затеплилась в душе Самого Старшего Лейтенанта.
— Вы вместе? — спросил майор, подняв на Беловича серые усталые глаза.
— Нет. Не имею никакого отношения. Со мной все в порядке. Я в Москву, а там — к себе, в Ленинград. Просто вместе служили. Вот и хотелось помочь санинструктору Калюжной. Одна она едет.
— Ленинградец?.. — сухие губы коменданта дрогнули в улыбке, а глаза потеплели и с любопытством оглядели Беловича. — Ленинградец… — повторил он. — Я так и думал.
— Почему? — недоумевающе спросил Белович.
— Не знаю. Есть в ваших что-то такое… Где жили?
— На Васильевском, в Четырнадцатой линии.
— Сохранился дом?
— По имеющимся у меня сведениям, сохранился.
— Да, — помолчав, кивнул майор. — Плохо у вас там было. Тяжело… Я ведь через Волхов эшелоны туда направлял. Все знал. Потом в госпитале лежал в Ленинграде. Знаете, школа на Фонтанке, где мост с конями? Только коней уже не было, сняли их… После госпиталя сюда, в тыл. Все же мы везучие с вами. Вернемся домой. Вот вы скоро опять по Невскому пройдете…
— Выходит, — развел Белович руками, как бы желая тем дать понять, что в том, что пойдет по Невскому живым и невредимым, он не виноват. Так само по себе вышло. Повезло.
Невольно возникший разговор был окончен. Майор наклонил седеющую голову и сделал пометку на одной из Зининых бумажек.
— В четвертую кассу. Из резерва. Можно вне очереди. Будет ей плацкарта в купированном, — сказал он, отдавая бумаги Беловичу.
— Чертовски вам благодарен! — совсем не по-уставному вырвалось у Владимира Акимовича. — Извините, товарищ майор, что так…
— Ничего. Из инженеров, вероятно?
— Вроде. Плановик-экономист. Трудился на заводе.
Майор умолк. Создавалось впечатление, что он еще не хотел отпускать Беловича, который стоял снова вытянувшись, готовый откозырять коменданту, для чего переложил Зинины документы в левую руку. Ему хотелось порадовать ее удачей.
— В театр мы из госпиталя ходили. Академический. Пушкина имени, знаете, конечно? — продолжал майор. — Там ваша оперетта играла. Всю блокаду не выезжали, слышали?
— Читал. В Эрмитаж снаряд угодил. Вот огорчение! — сказал Владимир Акимович, чтобы хоть как-то поддержать разговор, показавшийся ему затянувшимся.
— Ничего. Все придет в норму. — Комендант поднялся и дружески протянул Беловичу руку. — Счастливо добраться.
— Спасибо, товарищ майор. Теперь уж надеюсь…
Комендант бросил взгляд в зарешеченное, тусклое окно, за которым метались по платформе отъезжающие.
— Трудно, — сказал он. — Все хотят домой. Люди! — И, вздохнув, добавил: — Скажите там, пусть зайдет следующий.
Помещение с барьером Владимир Акимович прошел, даже не взглянув на горделивого лейтенанта. Всю свою жизнь он был уверен в том, что хороших людей на свете значительно больше, чем дурных, и что в самую трудную минуту всегда найдется кто-то, кто неожиданно поможет тебе в беде. И вот, скажите пожалуйста! Будто в подтверждение…
На площадь он направился, только закомпостировав Зинин билет, уверенный в том, что теперь-то она уедет вовремя и даже с некоторым комфортом.
Зина увидела его еще издали. Белович спешил к ней, на ходу победно размахивая над головой проездными бумагами. Лишь только подошел поближе, не переводя дух, выпалил:
— Ваше приказание выполнено! Все в полном порядке. Поедешь, как генеральша. В купе, на нижней полке.
Зина была поражена. Взяв в руки литер и приложенную к нему плацкарту, она смотрела на них, не веря в такое счастье. Потом, подняв взгляд на Беловича, спросила:
— Как же это у вас получилось, Владимир Акимович? Я и не надеялась.
— Милая Зиночка, — таинственно подмигнул ей Самый Старший Лейтенант, никогда до тех пор, кажется, так не называвший ее. — Человек способен на многое, если только того захочет. Нужно лишь стойко держаться, и враг падет… Да, да. Потому что везде есть люди!
Закончив это сбивчивое, не совсем понятное Зине объяснение, он, довольный произведенным впечатлением, деловито добавил:
— Можешь не сомневаться. Тут все в должной форме. А теперь бери мешок. Давай твой чемодан. Пойдем куда-нибудь.
Зина аккуратно сложила документы и запрятала их в карманчик гимнастерки. Белович поднял чемодан.
— Тяжелый, — сказала Зина.
— Ничего. Сносно. Ну, куда мы?.. У меня еще есть время.
— Давайте посидим вот там, напротив, в саду. Может, найдем скамеечку.
— Идет. Ах, Зина, будь бы это в Ленинграде, до войны. Мы пошли бы с тобой, например, в кафе «Норд». Там лучшие в городе пирожные.
— Я не люблю пирожных.
— Вот как?! — Белович на ходу скосил взгляд в сторону шагавшей рядом Зины. — Не любишь? Это хорошо.
— Почему хорошо? Все женщины обожают сладкое.
— Не все, — твердо произнес он. — Вот ты, например.
Откуда ей было знать, сколько смысла вкладывал он в эти свои слова. Со времени неладной женитьбы у Беловича выработалась неприязнь к женщинам, любившим сладости.
Они пересекли площадь и вошли в запущенный сад, хотя трава в нем уже была кем-то тщательно скошена. Все сдвинутые с мест скамейки были и тут заняты ожидавшими отъезда. На скамейках дремали, что-то ели, запивая водой из горлышка темных бутылок. Нянчили и кормили измученных дорогой детей.
Белович и Зина прошли в глубину сада и оказались у полуразрушенной кирпичной стены. Отыскав тенистый уголок, Зина скомандовала:
— Привал! Ставьте здесь чемодан. Садитесь рядом, выдержит. Больше некуда. Чемодан крепкий. Гриша где-то достал. Еще довоенный. Устали, небось?
— И не подумал. Я же тоже довоенный, крепкий, — рассмеялся Белович.
Стараясь быть как можно невесомее, присел рядом с Зиной. Он догадывался, что ее мысли полны оставшимся в немецком городке Удалеевым, которого она сейчас так непривычно, по-домашнему назвала Гришей. И все-таки Беловичу сделалось несколько обидно, что в эту минуту, когда он проявил о ней заботу, Зина вспомнила о капитане.
Дневной зной начинал ослабевать. Тени становились длиннее, и краски неба, зелени и земли, утрачивая бесцветную солнечную ослепительность, делались приятней для глаз. Стало легче дышать.
Он ждал, что у них начнется живой предотъездный разговор. Они станут припоминать прошлое, пережитое и пройденное вместе. Думал — сейчас расскажут друг другу многое из того, что не успели досказать за последние месяцы, когда виделись лишь урывками. Ожидал, что Зина разговорится и ему придется только слушать. Но вместо всего этого, оставшись вдвоем, чего меж ними уже давно не было, они оба молчали. Потом Зина, глядя вниз на какого-то жучка, деловито преодолевающего на своем пути разбросанные по песку камешки, сказала:
— Вот и все. Теперь-то уж расстаемся. Теперь навсегда. Спасибо вам за все, Владимир Акимович.
Он пожал плечами.
— Пустяки. Есть за что!
— Нет, есть, — упрямо продолжала Зина. — Очень даже есть за что. — И повторила: — Еще как есть! Знаете, вы какой?
И так как Белович не знал, добавила:
— Вы хороший.
— Думаешь?
— Знаю.
Он рассмеялся. Рассмеялся потому, что стало отчего-то очень радостно. Скорее всего, именно оттого, что Зина считала его хорошим. Но чем же он хорош? Что, собственно, значило в ее устах это определение?
— Понимаешь, — чуть помолчав, заговорил он. — Я ведь никак не надеялся, что доживу до этих дней… Вот, до победы. До возвращения домой. Поверишь, и не думал как-то беречься. Да разве и возможно бы было… И надо же! Провоевать четыре года начхимом! Абсурд!
— Какой абсурд?
— Ну, иными словами, нелепость. Черт знает что такое!
— Какая же нелепость, Владимир Акимович, вы же были там, где вам велели.
— Да, так получилось. И все-таки… Начхим! Генерал без войска. Что-то вроде нахлебника.
— Неправда! — Зина сердито сдвинула брови. — Вы еще как воевали! Помните, на Висле! Все сидели в трех километрах от передовой, а вы один все время туда и сюда. Как вас дожидались, чтобы узнать, что там… И все, наверно, про себя думали: а вдруг не вернется?.. Помните, какой вы приходили промокший, а сапоги!..
— Больше некому было, Зина. Остальные при деле. Вот и посылали меня.
Но она не обратила внимания на его слова и говорила, как бы думая вслух:
— Мог бы и не вернуться… Я вам дала индивидуальный пакет. Вы еще не сразу поняли, спрашиваете: «Зачем мне?» А я: «Так, на всякий случай». Забыли?
Нет, он не забыл. Он хорошо помнил ту ночь на Висле. Штаб располагался в деревушке чуть поодаль, а он трясся на полуторке (другой машины не нашлось) с очередным приказом к переправе или с донесением назад, в штаб. В кармане вымокшей шинели он сжимал запечатанный в пергаментную бумагу пакетик — плотно скрученный бинт. Он не верил в его спасительную силу в случае ранения. Скорее считал его оберегающим от беды счастливым талисманом: ведь пакетик вручила ему Зина… Машина шла сквозь туманную сырую мглу. Ничего не виделось к на расстоянии пяти метров. Непонятно было, как не сбивался с дороги солдат-водитель. Где-то совсем рядом с ними шлепались и, взрываясь, ухали немецкие мины. Ударной волной выбило боковое стекло. Потом осколком пробило крышу кабины, и на колени Беловича потекла вода. Но их с шофером даже не поцарапало.
Это был их второй рейс на передовую в ту ночь. Огонь противника не ослабевал. Сжимая пакетик в кармане, Белович верил, что это он хранит их. Смехотворная, конечно, мысль, но тогда было именно так… А ведь он не боялся смерти. Нет, увидя ее рядом, наверное, не оказался бы картинным героем. Но он попросту не думал на войне о смерти. Почти все четыре года…
В ту памятную ночь ему, однако, порой было не по себе. Помнится и то, как водитель, оставив машину, пошел с ним вместе на командный пункт. Он спросил шофера, зачем тот идет с ним. Шофер ответил просто: «Не могу быть один». Белович понял. Одному было еще хуже. Да, «индивидуальный пакет». Потом он долго хранил этот пакет, перевозя его с собой с места на место. Куда же он делся? Где-то пропал…
Будто отвечая охватившим его воспоминаниям, Зина сказала:
— Я тогда так боялась за вас! Была бы верующей — молилась бы. Но я все думала, думала о вас, и вы вернулись.
— Спасибо, Зина, — очень тихо проронил Белович.
Неожиданно она заговорила совсем о другом. Рассмеялась, наклонила голову и снизу игриво заглянула в глаза бывшего начхима.
— А помните елку? Как было хорошо, да? И войне, казалось, уже вот-вот конец.
— Разумеется, помню. Но я так не думал.
— Когда клеили игрушки, мы с вами пели.
— И это запомнила?
— И это. И еще другое.
Он насторожился.
— Что?
— Так. Ни к чему сейчас. Не скажу.
Зина умолкла. Молчал и Белович. Тень от густо разросшейся акации, под которой они укрывались от солнца, потянулась в сторону станции. День клонился к концу. Загустела синь неба. Так же молча Зина положила на руку Беловича свою легкую руку. Он почувствовал ее тепло и, кажется, услышал, как бьется Зинино сердце. Сидел не шелохнувшись, боясь потревожить ее. Понял, что Зину сейчас охватили воспоминания о том предновогоднем дне. А он? Мог ли он позабыть те удивительные минуты, то тепло, почти домашнее тепло, которого он не знал с полузабытого детства… Не поворачивая к нему головы, Зина вдруг сказала:
— Вы ведь ничего не знаете, Владимир Акимович. Не знаете?
Он слегка пожал плечами.
— О чем ты, Зина?
— Не знаете?
— Возможно.
В ней боролись два чувства. Смолчать или открыть ему свою тайну?
— Сказать? Хотите?
Он недоумевал. Зина наклонила голову и смотрела вниз, на запыленные носки своих аккуратных сапожек. Забрав руку, она сцепила пальцы и положила руки на колени.
— А вы ведь мне нравились, Владимир Акимович, так нравились!.. — внезапно выпалила Зина.
Он был ошарашен. Не поверил своим ушам. А Зина, уже с какой-то решительной отчаянностью, продолжала:
— Да, да, нравились. Еще как!.. А вы ничего не понимали.
Ох, это ее «еще как»!
— Но, Зина… — Он не знал, что ему говорить. Мог ли он в такое поверить? Не придумывает ли она все это теперь, чтобы… Ну, чтобы как-то оправдаться перед ним, что ли?.. Хотя — с чего бы ей перед ним оправдываться? Кто он для нее такой?.. Было. Привел к командиру. Чего же такого? Так поступил бы всякий на его месте в те дни. Нет, многого он мог ожидать от Зины, но этого внезапного признания… Да полно. С какой стати?! Там, в полку, где ее окружали молодые приметные офицеры, и вдруг — он, Самый Старший Лейтенант, начхим! Мишень для шуток всех, кому было не лень. Нет, он отказывался верить.
— А я ждала, — все так же, с безыскусной прямотой, продолжала Зина. — Ждала, понимаете, ждала!.. И в ту ночь, под Новый год, на крылечке. Помните луну и облака? Они все бежали, бежали… Не верите, да?
Она словно угадала его состояние. Он торопливо пробормотал:
— Да нет, отчего же…
Совсем не зная, что ему следует говорить, как-то нелепо и, наверное, совсем глупо выдавил:
— Но почему же… Почему же тогда ты, Зина?..
— Что «почему»? — в голосе ее звучал незнакомый ему до сих пор властный оттенок. Рядом на чемодане сидела не прежняя кроткая Зина. Рядом с ним была женщина. — Что «почему»? Почему я не сказала, да?.. Да разве я могла? Вы взрослый, умный человек, а я дура девчонка… Вы ученый, а я…
— Ну, какой там я ученый, — вовсе уже не понимая, зачем он это говорит, бросил Белович.
Но в Зине, видно, уже погас огонек внезапно вспыхнувшей и, наверное, ненужной теперь откровенности. Она убрала руки с колен и, сидя, выпрямилась. Взгляды их встретились. Он смотрел на нее потерянно, почти убито. А Зина вдруг улыбнулась, не то грустно, не то насмешливо, с сожалением.
— Теперь все, — вздохнув, сказала она. — Все! Так, воспоминанья прежних дней. Не знаю, к чему я вам все это… Не верьте. Может, и неправда. Не знали бы ничего — и хорошо.
Нет, сейчас Белович уже не хотел не верить. Снова не глядя на Зину, неизвестно отчего набравшись смелости, он спросил:
— Ты очень любишь его?.. Капитана, Гришу?..
— Зачем вам?
Он не ответил. Ждал.
— Не знаю, — четко выговорила Зина. — Теперь я не могу без него. Наверно, люблю.
Белович кивнул головой. Помолчав, спросил:
— Дома что будешь делать?
— Ждать.
— Его?
— Кого же еще?
У него едва не вырвалось: «Дождешься ли?» Ведь он был совсем не уверен в том, что Зина в своем полуразбитом городе дождется Удалеева. Что связывало Удалеева с Зиной: совесть, чувство долга, любовь?.. Да были ли они у него? Но разве возможно унизиться в глазах Зины настолько, чтобы хотя бы дать ей почувствовать то, о чем ему сейчас подумалось? И Владимир Акимович только сказал:
— Понятно.
А хотелось сказать… Нет, не говорить — кричать. Хотелось крикнуть: «Зина, милая! Если у тебя что-нибудь случится… Если он не приедет, забудет, бросит тебя… Если ты останешься одна. Нет, не одна — с ребенком… Напиши мне. Или прямо приезжай… Я верю тебе, Зина. И пусть все так вышло… Я же не смел, не думал, но если я тебе понадоблюсь… Если ты только захочешь…»
Так много хотелось ему сейчас высказать ей, но он снова молчал, думал.
Был ли он влюблен в, Зину?.. Может быть, может быть… Он же гнал от себя и малую толику допустимости их романа… Считал такую возможность нелепой, смешной. Но ведь было время — ходил как ошалелый всякий раз после того, как она, веселая и будто бы бесстрашно-беззаботная, забегала к нему. Потом все кончилось. Кончилось с появлением в полку Удалеева. Он, Белович, понимал. Так должно было когда-нибудь случиться. С тех пор она уже безгранично принадлежала Удалееву. Пришлось смириться. Да и что оставалось делать?.. Теперь он сознавался себе, ведь бывали часы — подумывал: кончится война, и он… Чем черт не шутит… Он скажет Зине. Ведь случается же! Разница в годах, ну и что?! Война сблизила разные поколения. Если бы он знал, мог догадаться!.. Если бы у него хватило смелости!..
Но к чему было все это сейчас? И он ничего не сказал, только попросил:
— Запиши мой адрес. Вот тебе карандаш. Напишешь, как живешь.
На каком-то вынутом из карманчика сложенном вдвое конверте Зила торопливо записала продиктованное Беловичем. Вернула ему карандаш и убрала конверт.
— Напишешь?
— Обязательно.
Но по тому, как она это сказала, Белович понял, что писать ему Зина вряд ли станет. К чему ей?.. И уже конечно не напишет, если ей будет плохо. Даже совсем плохо. Перед ним теперь была женщина, гордость которой никогда не позволит признаться ему, Беловичу, в своей ошибке.
Тени на площади и в саду сделались мягче и еще длиннее, а видимые отсюда руины вокзала приобрели багровый оттенок и стали похожими на подсвеченную декорацию. Белович взглянул на часы.
— Мне пора, — сказал он. — Через час отходит мой поезд. Нужно еще в камеру хранения. Идем. Сейчас уедет много народа. Устроим тебя до утра в зале. Твой в шесть по московскому.
Из растерянного, не знавшего как ему себя вести, он снова превратился в решительного и деловитого. И Зина, верившая теперь в находчивость Беловича, покорно поднялась и молча пошла за ним.
Снова они шагали через пыльную площадь, теперь уже в обратном направлении, к станции. Владимир Акимович опять нес чемодан, отчего-то сейчас казавшийся куда более легким, чем тогда, когда они направлялись в сад. И опять Белович старался держаться как можно прямее, делать вид, что ноша ему и вовсе не тяжела, вообще соблюдал офицерскую выправку.
И в самом деле он нашел для Зины место в бывшем вокзальном ресторане, потолок которого зиял пробоиной. Некогда построенный не без претензий, ресторанный зал сейчас имел весьма печальный вид. В простенках меж окнами кое-где еще уцелели вправленные в витиеватую бронзу зеркала. Белович с чемоданом вместе с Зиной перебрался к возвышению, служившему раньше эстрадой для оркестра. Именно там он задумал пристроить Зину до утра.
Через несколько минут они расстались. Теперь, по всей видимости, уже действительно навсегда. Расстались, неожиданно для обоих, очень просто, без слез, объятий и поцелуев. Все это было теперь, после сказанного в саду, ненужным, да и оказалось слишком много свидетелей их расставания.
— Береги себя, Зина, — только и сказал ей Белович.
— Всего вам хорошего, Владимир Акимович, — прочувствованно пожелала она ему.
Напоследок он все-таки взглянул ей в глаза и увидел, что они сделались влажными. Боясь того, что сейчас Зина расплачется и, чего доброго, не выдержит и он, Владимир Акимович торопливо кивнул ей еще раз и, повернувшись, заспешил к выходу.
У двери, выходящей на платформу, он невольно обернулся. Зина стояла на эстрадных подмостках и поверх голов тех, кто находился в это время в помещении бывшего ресторана, глядела в его сторону. Махнув ей рукой, Владимир Акимович заспешил в камеру хранения.
Как ни странно это было для тех дней, поезд, в котором ехал до Москвы Белович, отошел по расписанию. Перед его отправлением Владимир Акимович вышел в тамбур.
Разумеется, его никто не провожал, и в тамбур Белович вышел так, по старой пассажирской привычке.
Три раза ударил колокол, и состав, по цепочке пролязгав буферами, тронулся с места. Где-то впереди, астматически пыхтя, надрывался паровоз. Мимо медленно поплыли закоптелые стены вокзала и навес над платформой. Проводница поднялась в тамбур и, закрыв двери, ушла в вагон.
Белович остался один. Вот он и отъезжал от границы. Как долго они шли к этим местам с востока, — чуть ли не целых три года! Теперь за несколько суток он в обратном направлении проедет весь памятный путь, мимо пройденных непролазных весенних дорог, разбитых местечек, сгоревших дотла деревень и лишь наполовину сохранившихся городов. По его предположению, поезд должен был пройти невдалеке от города, где он впервые повстречал Зину. Как она изменилась, как повзрослела и похорошела с тех пор!.. И тут же ему услышалось: «Вы мне нравились, Владимир Акимович! И еще как!» Он нравился?! Да, представьте, нравился!.. Вот так!.. В стекле тамбурной двери — поезд пробирался между черных строений депо — Белович увидел себя в кителе с немногочисленными наградами на груди. Все-таки это были боевые награды, хотя, кто его знает, о каких его подвигах могли писать, представляя его к отличию?! Глядя на себя в стекло, Белович даже выпятил грудь, хотя портной, шивший китель, достаточно положил ваты всюду, куда следует. Владимир Акимович перестал выпячиваться и рассмеялся. Черт возьми, ведь он остался цел и невредим, дойдя почти до Берлина, лейтенант, начхим Белович. Нет, уже не начхим, а скоро и не лейтенант — штатский гражданин Владимир Акимович Белович. Он еще молод. Ведь ему нет и сорока, и он кому-то может нравиться. Да, да!.. Вот вам и бедолага начхим! Вот вам и Самый Старший Лейтенант, товарищи штабные остроумцы!
Подмяв под себя множество сбегающихся стальных путей и выбрав из них лишь единственный, ведущий на восток, поезд, громыхая на стыках, уже несся меж закрасневших к вечеру пологих холмов родной земли.
Белович ехал навстречу давно знакомой ему, но все же неизведанной жизни. Он не страшился ее.
СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
1
В июле драматический театр, в котором главным администратором служил мой старый знакомый Аркадий Павлович, должен был выехать на гастроли в один из крупных южных городов, в те годы совсем недавно ставшим советским. Задумано было показать все значительное из имевшегося в большом, за десятилетия созданном репертуаре.
В середине июня Аркадий Павлович, ранее уже побывавший в том далеком городе и предварительно подготовивший там все, что требовалось для гастролей, теперь ехал на Западную Украину раньше других. Следовало произвести выгрузку отправленных вперед декораций и позаботиться о квартирах для актеров.
Главный администратор отправился в путь налегке: в летнем костюме, с габардиновым пальто на случай непогоды и маленьким чемоданом. Все остальное, необходимое для полуторамесячного пребывания в отъезде, позже должна была привезти его жена Лидия Романовна — Лидуша, как ласково называл ее Аркадий Павлович и, как, впрочем, в глаза или за глаза звали ее почти все в театре.
Пассажир мягкого купе, в дороге он из вагона выходил редко, разве лишь затем, чтобы купить свежую газету. Но московские даже на большие станции поступали с обидным опозданием. Местных едва хватало и на четверть часа чтения.
Ничего примечательного в новостях не было. Проглядев газету, Аркадий Павлович откладывал ее в сторону и, откинувшись на упругую спинку скамьи, закрывал глаза. Он ценил время двухдневной передышки, когда после каждочасных администраторских хлопот не нужно было никуда звонить, ни с кем ни о чем договариваться, никуда не спешить. Блаженствуя, он, однако, уже начинал скучать в выпавшем на его долю непривычном безделье.
Ленинград оставался далеко позади. Поезд шел по украинской земле. Синяя тень вагонов, выгибаясь, бежала рядом по откосу и подпрыгивала на столбах телеграфной линии. Вдали шелковистыми широкими волнами блестели ковры поспевавших посевов, то бледно-зеленые, то ядовито-желтые. К середине дня в поезде становилось жарко. Только ветер, на ходу врывавшийся через опущенное окно, приносил спасительную прохладу.
Все будто было ладным. В кармане висящего рядом светло-серого пиджака лежала телеграмма о том, что пульмановские вагоны с имуществом театра прибыли на станцию назначения в город, где вскоре должны были начаться гастроли.
По имевшимся сведениям, предварительная продажа билетов сулила аншлаг на все полтора месяца. Даже осторожный, по-профессиональному суеверный, бывалый администратор не предвидел ничего огорчительного.
Обстановка купейного уюта располагала к воспоминаниям об иных временах. Он смотрел в отворенное окно на проплывавшую степную ширь с кудрявой зеленью хуторов, как островки поднимавшихся среди моря начинавшей золотиться пшеницы, и думал о том, что где-то невдалеке от этих мест он, молодой и худущий, красноармейцем разъезжал в разукрашенном агитвагоне. Не похожи были нынешние бескрайние поля на те, прежние, раскроенные на делянки, будто лоскутное деревенское одеяло. Была та земля не раз потоптана конными полками и белых и всяческих — каких только их тут не гуляло! — лютых банд. Лихое было, неспокойное время. И все-таки молодость, какой она ни сложилась, оставалась молодостью. Давние дни, когда они, «агитчики», неделями ели пшенный суп с разваренной воблой и спали на своих шинелях, ими же умудряясь и укрываться, казались сейчас бесшабашно веселыми, а вовсе не голодными, походно изнурительными.
С вокзала Аркадий Павлович отправился в лучший отель города. Он поехал туда на извозчике, о которых в Ленинграде уже успели позабыть. Старая потасканная пролетка с добела вытертой на сгибах сиденья кожей, но еще с зеркальными фонарями на помятых крыльях лишь рождала догадку о ее богатом прошлом. Тощая пара лошадей была такой же старой и исхудалой, как и возница с большими усами, когда-то, наверно, бравыми и черными, а теперь серо-седыми и обвислыми. И хотя на уздечках коней были укреплены наглазники, слабо верилось в то, что эти повидавшие всякого на свете старушки могут еще чего-то пугаться.
До отеля можно было прекраснейшим образом дойти пешком. Но он знал, что здесь еще не отвыкли встречать людей по одежке, и взял извозчика.
А город был с тенистыми бульварами. Проезжали мимо костелов старинного внушительного вида с изобилием лепки на фасадах. Дома были и старые, с черепичными крышами, и многоэтажные, с широкими стеклами витрин. С боковой стены — брандмауэра — одного из них поблекшие рекламные танцовщицы зазывали Аркадия Павловича в уже не существующее ночное кабаре.
Он не ошибся в расчетах. В отеле встретили с почтительным вниманием. Гладко причесанный пожилой портье, протянув ключ, сказал, что телеграмма из Ленинграда получена и номер приготовлен. Поднимаясь по лестнице за швейцаром, который, взяв его легкий чемодан, шел впереди, Аркадий Павлович с улыбкой представил себе, как будут удивлены этакой обходительностью директор и те, кого он поселит в этом отеле.
Позже, сидя в пустом в предвечерний час ресторане за столом с белоснежными пирамидками накрахмаленных салфеток, он думал о том, что внимание к гостю не такая уж дурная вещь, и поблагодарил официанта — старичка в поношенном смокинге, принесшего ему красиво уложенную закуску и совсем маленький графинчик с хорошо остуженной водкой.
Именно в эту минуту к его столику подошел тучноватый мужчина в старомодной визитке и светлом жилете. Отрекомендовавшись управляющим, он поинтересовался, доволен ли «товарищ директор» номером, в который его поселили. Аркадий Павлович не стал поправлять управляющего — в свое время успеется — и ответил, что номер у него хороший. Тот удовлетворенно осклабился, причем его аккуратные седые усики вплотную подскочили к носу, и сказал, что будет рад, если останутся также довольны «Панове артисты», которых он счастлив принять в отеле.
Управляющий отошел, а Аркадий Павлович про себя отметил, что слово «товарищ» тот выговаривал с некоторым трудом, зато «пан» и «панове» произносил с привычным шиком.
Рассчитываясь со старым официантом, он узнал, что управляющий был не кем иным, как бывшим хозяином отеля, оставшимся в нем служить на новых правах.
После запоздалого обеда пошел прогуляться по городу.
Дневной зной спал. Остывали разогретые с утра стены, в обсаженных зеленью улицах дышалось легко. Небо густело и становилось сиреневым. Солнце светило щадящими розовыми лучами, которые придавали всему, что было вокруг, картину предзакатного покоя.
Настежь были растворены массивные двери костелов. Из каменного их нутра веяло прохладой и слышалась органная музыка.
Сам того не заметив, Аркадий Павлович оказался на вокзале. Это было как нельзя ко времени. Там он легко отыскал телеграф и направил в Ленинград Лидуше «депешу», сообщив, что прибыл благополучно и устроился хорошо.
Выйдя из телеграфного зала, он решил, раз уж все равно здесь, посмотреть, где стоят вагоны с театральным грузом, и разузнать расположение товарной станции. Вскоре, никем не останавливаемый, он перешагивал через рельсы и, с риском замазать обшлага светлых брюк, приближался к издали узнанным трем пульманам.
Было еще достаточно светло, когда, поглядывая под ноги на черные, пропитанные мазутом шпалы, Аркадий Павлович обошел вагоны кругом, с удовольствием убедившись в том, что все замки и пломбы были в полной сохранности. В заполненных до отказа вагонах прибыли бутафорские арки Тауэра и пустотелые колонны петербургских особняков. Свернутые валами, лежали живописные задники. Теснились десятки мебельных гарнитуров, подлинных старинных и поддельных — театральных. В вагонной тьме, плотно сдвинутые, высились ящики с несчетным количеством костюмов — платьев, кафтанов, ротонд и мантий из дорогих материалов. Ящики с шинелями, ладно шитыми генеральскими и простецкими солдатскими, с френчами, белоснежными кителями с золотом погон, матросскими бушлатами и комиссарскими кожанками. Ящики, загруженные обувью — ботфортами из цветной кожи, щегольскими офицерскими сапогами и множеством женских туфелек. Коробы с николаевскими треуголками, цилиндрами и шляпами со страусовыми перьями. Сундуки, набитые сотнями париков — мольеровских, круто завитых, вельможных, напудренных и русых девичьих кос. В пульманах, аккуратно уложенный, скучал нарядный реквизит — гусарские сабли и изящные тросточки, рыцарские латы и дамские кружевные зонтики. Находились там и убранные в шкатулки фальшивые драгоценности — украшения сценических балов: сияющие ожерелья, серьги и браслеты, россыпь звездных царских орденов… В трех запертых на замки запломбированных пульмановских вагонах хранилось все лучшее, что нажил театр за долгие годы труда.
Стоявшие в тупике три длинных вагона четким силуэтом темнели на фоне зажелтевшего к ночи неба. Уходя со станции, Аркадий Павлович невольно обернулся, чтобы еще раз взглянуть на них.
Возвращался он не спеша. Несмотря на субботний вечер, улицы опустели. Затворились тяжелые двери соборов. С бульвара исчезли прогуливавшиеся с семьями старшие командиры, и лишь редкие парочки — молоденькие лейтенанты с одетыми в легкие платья девушками — встречались по дороге. В окнах многих домов горел свет. Горожане еще не спали. Приближаясь к отелю, Аркадий Павлович порой задерживался у витрин, за которыми были поставлены фотографии сцен из спектаклей ленинградского театра. Иные из небольших магазинчиков оставались еще частными, но и в них среди развешанных чулок и подтяжек нашли себе место портреты его друзей-актеров. Выходило — их хозяева, не пренебрегали у себя рекламой гастролей известного русского театра.
Забрав ключ от номера, Аркадий Павлович из любопытства подошел взглянуть в растворенные двери ресторана. Гремел джаз, в переполненном зале танцевали танго. В слоившемся под потолком голубом дыму туманно светились желтые шары люстр. Покинув столики, танцевали все, кто там был, — немолодые мужчины в черных костюмах отплясывали с каким-то угарным запалом. Веселье в ресторане показалось Аркадию Павловичу пьяным шабашем.
— Желаете столик? Поставим…
Это сказал откуда-то взявшийся управляющий.
Но гость, поблагодарив, отказался. У себя в номере он разделся и хотел было поскорее заснуть, но рвущиеся через окно звуки джаза спать не давали. Он встал с постели и, затворив окно, снова прилег. Теперь музыка слышалась снизу. Лежа с закрытыми глазами, Аркадий Павлович не без удовольствия думал о том, что все шло по-задуманному. В понедельник предстояла разгрузка. Он не сомневался — легко с ней справится, найдя людей, кому можно довериться. Про себя улыбнулся тому, что среди коллег-администраторов, людей неглупых и проницательных, считался удачником. Дескать, говорили они, ему всегда везло. Повезло с женой, с хорошим театром. Везло с помощниками, с городами, где гастролировал их коллектив. Он не спорил, но знал, чего ему порой стоили эти везения.
Вот по поводу Лидуши… Тут, пожалуй, они были правы. С женой ему удивительно повезло. Аркадий Павлович улыбнулся, нащупав на пальце прохладную гладь обручального кольца.
Обычно он не носил этого старинного кольца высокой пробы. Пару колец подарили родители Лиды в день трехлетия со дня регистрации, убедившись в том, что брак их не такой уж «нынешний», каким он поначалу им представлялся. Лидуша кольцо надела сразу и больше с ним не расставалась. Он колец никогда не носил, не мог привыкнуть и к этому, обручальному. Но когда уезжал в длительную командировку, Лида непременно настаивала, чтобы он надел кольцо на палец, и брала слово, что не снимет его до возвращения домой. И Аркадий Павлович уступал ее желанию. Милая, простосердечная Лидуша!.. Она всерьез полагала, что обручальное кольцо может стать преградой для кого-то, кто решится посягнуть на ее мужа.
Уснул он, не заметив, когда умолк джаз и отель затих. Спал крепко. Сквозь сон к утру слышал отдаленные взрывы и странный гул, но снова засыпал, решив, что это идут учения. Еще вчера Аркадий Павлович приметил — в городе было немало военных. Значит, поблизости стояли крупные соединения. Ну, а без учений армия обходиться не может.
Около девяти утра, проснувшись окончательно, он еще некоторое время лежал в постели, раздумывая над тем, как бы получше и поинтереснее провести здесь воскресенье. Обычно все выходные дни, как и будние, он проводил в театре, где в эти дни играли по два спектакля.
Во время утренников зал заполнялся детворой. Аркадий Павлович любил постоять в дверях фойе, наблюдая шумных, иногда излишне подвижных мальчишек и девчонок, которые мгновенно трепетно замирали, как только раздвигался занавес. Детей у них с Лидушей не было.
Сегодня спешить было некуда. Он поднимался, не торопясь мылся под старомодным умывальником, находящимся в номере. Потом старательно брился, вглядываясь в небольшое овальное зеркальце, вправленное в мрамор умывальника. Открыв чемодан, умилился заботе снаряжавшей его в дорогу жены. В карманчике на крышке чемодана лежала коробочка с леденцами. Он бросил курить, и теперь, когда его особенно тянуло к папиросе, брал в рот конфетку.
В ресторане, куда он спустился позавтракать, было пустынно. Ничто не носило признаков ночного разгула. Вскоре появился вчерашний вежливый старичок официант. Но на этот раз не вступал ни в какие разговоры и, узнав, что он хочет, сразу ушел.
Аркадий Павлович раскрыл купленную в вестибюле газету и принялся ее проглядывать. Писали о подготовке к снятию обильного урожая. Была напечатана корреспонденция из Лондона. Англичане жили в обстановке тревоги. Сообщалось, что немцы продолжают сосредоточивать транспортные суда на оккупированной французской стороне Ла-Манша. Со дня на день можно было ожидать вторжения на Британские острова. Новости не радовали. В руках у Гитлера была уже вся Европа. Аркадий Павлович вздохнул и, отложив газету, принялся за яичницу.
И тут он почувствовал устремленный на себя взгляд. Подняв голову, заметил, что на него пристально смотрит стоящий за отворенной дверью управляющий гостиницей — бывший ее хозяин. Аркадий Павлович издали поздоровался с ним. Управляющий торопливо наклонил голову и притворил двери.
В полдень, выйдя из отеля, он заметил на улицах что-то настораживающее. Ничто в городе не походило на обычное воскресенье. На людных перекрестках было включено радио, передававшее бодрую музыку. Мимо проехал открытый автомобиль с тремя военными, один из которых был генералом. Машина шла с рискованной для городского движения скоростью. По дороге администратора обогнали два командира в ремнях и с полевыми сумками на боку. За ними прошел еще один, шагавший очень быстро, но при этом по-детски державший за руку молодую женщину, с трудом за ним поспевавшую. Кое-где на улицах, у дверей домов, толпились группами люди, одетые по-воскресному, но будто напряженно ожидавшие чего-то.
В двенадцать часов из уличного репродуктора он услышал о том, что началась война.
Первой мыслью, лишь только он осознал случившееся, было не беспокойство о себе, оторванном на тысячи километров от Ленинграда, вдали от жены и товарищей по работе, невдалеке от новых границ, а как же быть с тремя пульманами, что, приготовленные к разгрузке, стояли на товарной станции.
Необходимо было немедленно связаться с Ленинградом. До начала гастролей труппа разъехалась в отпуск, но директор театра оставался в городе. Аркадий Павлович заспешил на телефонную станцию. В зале междугородных переговоров увидел толпу взволнованных людей. Пробившись к окошку заказов на переговоры, узнал, что дозвониться до Ленинграда нет возможности.
Какой смешной и нелепой показалась теперь посланная им вчера телеграмма домой.
Аркадий Павлович уже знал, что принятые им ночью за стрельбу на учениях отдаленные взрывы были первыми бомбами, сброшенными на предместья города. Понятным стало и то, что ничего другого, кроме приказа от директора театра возвращаться с грузом домой, он услышать не мог. На телеграфе удалось отправить молнию, что именно так он и намерен поступить. Послал телеграмму и Лидуше. Просил не беспокоиться — он скоро вернется.
Во втором часу дня Аркадий Павлович был уже на вокзале. Что-то ему там напомнило сумятицу дней гражданской войны. Стоявший у платформы состав с разномастными вагонами осаждали женщины с детьми и немногие провожавшие их военные.
В какой-то допотопный вагон с мягкими купе, с дверьми, открывающимися из каждого купе прямо на платформу, втискивались старухи, матери с младенцами на руках. Энергично действовали мальчишки-подростки. Старый вагон трещал под людским натиском. То же происходило возле жестких вагонов. С перрона в окна передавали напуганных малышей. Вслед за детьми совали чемоданы и наспех собранные тюки. Оклики и громкие наставления женщин смешивались с детским плачем. Какая-то девочка лет шести с полукруглой гребенкой в коротко подстриженных волосах крепко обхватила шею державшего ее на руках майора. Растерянный, он старался разнять цепкие ручонки. От неловкого его движения гребенка выскользнула из волос, упала на перрон и сразу же была с хрустом раздавлена ногами. Девочка отпустила шею отца и, громко плача, повторяла:
— Гребенка!.. Гре-бе-енка!.. Моя гребенка-а-а!..
Мимо пробежал распаренный дежурный в красной фуражке.
— Посадка заканчивается!.. Заканчивается! — хрипло выкрикивал он. — Поезд отправляется!..
Не понадобилось много времени, чтобы выяснить, что весь груз теперь уходит лишь по распоряжению начальника эвакуационного движения товарища Замкового из областного комитета партии. Через полчаса Аркадий Павлович снова был в центре города, в особняке, где размещался обком.
Против ожидания, распоряжение на возвращение в Ленинград театрального имущества было получено без особых трудов: товарищ Замковой, грузный человек в расшитой украинской рубашке, каких в Ленинграде любили представлять в комедиях Корнейчука, велел выписать главному администратору сопроводительные документы и тут же позвонил на станцию, приказав прицепить пульманы к одному из товаро-пассажирских составов, в ближайшее время направлявшихся в тыл.
Теперь нужно было скорее в гостиницу. Не надеясь на городской транспорт, Аркадий Павлович быстрым шагом направился к отелю. Удивляло, что в костелах шла служба. Чего там молили у бога?! По пути заметил: с витрин частных магазинов исчезла фотореклама театра — да, быстро!..
— Война, что делать! — сожалеючи проговорил портье, протягивая гостю ключ от номера.
Уже когда он с пальто на руке и чемоданом приближался к выходу, встретился бывший хозяин гостиницы. Тот не утратил вчерашнего лоска, но казался сейчас настороженно-подтянутым.
— Уезжаете, — закивал он головой. — Понимаю. Какой тут театр, война!.. Надо, надо ехать. Жаль…
В сочувствии его улавливалась издевательская нотка.
— Увожу декорации, — сухо ответил Аркадий Павлович. — Возможна бомбежка станции.
— Возможно. Очень возможно, — подтвердил управляющий. — Многие бегут из города.
— Я не бегу. Я спасаю имущество театра. Без него не двинусь.
— А-а, разумею! Ваше имущество.
Надо было торопиться, но Аркадий Павлович не мог оставить без ответа эти будто бы простодушные слова.
— Государственное, театра — значит, и мое, — твердо произнес он.
— Так, — управляющий кивнул напомаженной головой. — Ну, а если имущество вдруг задержится?
— Задержусь и я.
— М-м-м… Не рекомендовал бы…
— Почему?
Он в упор взглянул в холеное лицо и увидел зло глядящие на него глаза. Сдержанно и раздельно Аркадий Павлович сказал:
— Здесь все равно будет советская власть. Да!
Кажется, бывший хозяин что-то намеревался ему ответить, но, видно, раздумал и, наклонив голову, мелко заспешил вперед в своих старательно начищенных штиблетах. Распахнув двери, пропустил гостя.
— Просим пана!
На прощание он поклонился гостю, но покинувший отель Аркадий Павлович так и не понял, чего здесь было больше — пугливого лакейства или насмешки.
На улице его догнал портье.
— Вы не взяли деньги, забыли, — сказал он. — Жили лишь одни сутки…
— Я не забыл, я вам оставил.
— Благодарю вас. — Портье замялся и тихо, торопливо добавил: — Желаю вам добраться. Тут будет плохо. Очень плохо…
— До свидания, — сказал Аркадий Павлович. — Может, еще и увидимся.
— А вы как поедете? — спросили на станции, обещая вскоре выполнить приказ об отправке пульманов.
— Поеду с грузом.
— К пассажирским цеплять не станем. Будет товарный состав.
— Ничего. Есть тормозная площадка.
— Тогда следите. Возможно, отправим в течение часа.
Но ничего не произошло ни в течение часа, ни в течение двух и трех часов.
До вечера с платформ и прямо с путей в поезда грузились военные и штатские люди с железными ящиками на замках и перевязанными бечевкой кипами бумаг. Весь день высоко над станцией летали немецкие самолеты-разведчики. Тогда оглушительным лаем начинали бабахать зенитки. В синеве неба маленькими белыми облачками разрывались их снаряды. Станцию не бомбили. Глухое уханье взрывов доносилось издалека. Вероятно, подумалось Аркадию Павловичу, немцы догадываются, что прифронтовой город покидает гражданское население, щадят детей и женщин.
Лишь к ночи, когда остывшее солнце скатилось за горизонт, три пульмана прицепили к товарному составу, среди вагонов которого оказался и жесткий пассажирский.
С тормозной площадки Аркадий Павлович наблюдал, как чумазый сцепщик накидывает на вагонные крюки тяжелые петли. Вынырнув из-под буферов, он отошел в сторону и, подняв руку в брезентовой, будто обрубленной, рукавице, заливисто засвистел. Коротким, оборванным гудком отозвался паровоз. Вдоль состава прогремели натянувшиеся сцепления. Понемногу убыстряя ход, поезд двинулся на восток. Уплывали станционные постройки. Открывшееся небо за горизонтом затухало желто-зеленым отсветом. Все ярче загорались звезды. Повеяло прохладой. Южная ночь не сулила тепла.
Аркадий Павлович надел пальто и застегнулся на все пуговицы. Подняв воротник, он уселся на откидное кондукторское место. Начинало продувать. Он втянул голову в плечи и засунул руки в рукава пальто. Все-таки было удачей — в первый день военной неразберихи вывезти груз казавшегося никому не нужным театра!.. Если так пойдет дальше, в Ленинграде он будет через неделю. Ну а там? Не затянется же эта война надолго. Вытащив руку, нащупал бумажник, где лежали по форме составленные документы. Груз его именовался срочным.
С утра пригрело поднявшееся солнце. Невольный проводник пульманов задремал, приклонив голову к торцовой вагонной стене. Несмотря на неудобство, сон взял свое. Проснулся Аркадий Павлович от толчка и громкого лязга столкнувшихся буферов.
Поезд остановился на полустанке-разъезде, судя по названию, еще находящемся за пределами старой советской границы.
На невысокой платформе, в отдалении от состава, толпились местные жители. С нескрываемым интересом они смотрели на странного человека на тормозной площадке. Аркадий Павлович расстегнул пальто и хотел было сойти на междупутье, но оглушительный долгий свисток паровоза остановил его. Мимо, в обратном направлении, устрашающе громыхая, замелькал воинский эшелон. Он проносился с такой скоростью, что просветы меж вагонов и настежь растворенные двери теплушек сливались в полупрозрачную полосу. На крыше последнего вагона был установлен направленный стволом в небо пулемет. Два красноармейца сидели возле него. С тормозной площадки Аркадий Павлович смотрел им вслед до тех пор, пока идущий к передовой поезд не скрылся из виду. Но не прошло, наверное, и пяти минут, как снова послышался паровозный сигнал и в западном направлении на всех парах опять промчался военный состав. На открытых платформах на фронт везли пушки, машины с фургонами, полевые кухни.
Да, война уже шла. К границам направлялись новые силы, которые должны вступить в бой и остановить врага.
Мимо прошагал главный кондуктор. От него Аркадий Павлович узнал, что за ночь они едва ли проехали с полсотни километров. Их пустили по боковой дороге, но оказалось: теперь и по этой линии шлют военные поезда. Эшелоны с войсками придется пропускать на всех станциях.
2
На четвертый день войны, изрядно изголодавшийся, он наконец приближался к первой узловой станции на пути от оставленного им города.
Лишь замелькали стрелки расплывающихся вширь стальных путей, как стали видны воронки. Черная станционная земля была словно взвинчена гигантскими штопорами. На исковерканных рельсах громоздились еще не убранные железные скелеты товарных вагонов. Тут же догорал их уничтоженный огнем груз. Сизый дым, стелясь над путями, распространял смрадный запах. Вероятно, станция подвергалась налетам уже не однажды.
Проплыл мимо двухэтажный блокпост с разбитыми стеклами. К стенкам депо жались вагоны, крест-накрест прошитые пулеметными очередями.
Поезд встал на одном из дальних путей. Сейчас же появился сцепщик. Прогромыхали сброшенные с крюков петли у тормозной площадки, и паровоз, дав свисток, потащил за собой переднюю часть состава.
Захватив чемодан и пальто, Аркадий Павлович направился к станции. Преодолевая рельсы, обходил ожидавшие отправления поезда, не без риска пролезал под вагонами.
Ближе к вокзалу, один против другого, стояли воинские эшелоны. В раздвинутых настежь дверях виднелись нары, а на них натруженные ступни спящих без сапог бойцов. Свесив ноги над рельсами, сидели на вагонном полу или стояли, опершись на доску, служившую барьером, те, кто не спал. Напротив в теплушке, будто в зеркале, теснились такие же свежие, розовые ребята в новеньких гимнастерках. Меж теми и другими шла ленивая перекличка.
— Откуда, пехота? — кричали с одной стороны.
Другие отвечали и так же интересовались, с какого края страны едет артиллерия.
Кто-то намекал на военную тайну, острил:
— Откудова едем, там нас уже нет.
Подзадоривали друг друга:
— Давайте вперед, встречайте таночки!
— Будьте покойнички, встретим, царица полей! — отвечали артиллеристы и громко, беспричинно гоготали.
Они были веселы, эти парни из воинских поездов. Балагурили и смеялись, будто собрались на гулянку. Глядя на них, Аркадий Павлович думал о том, что им сейчас примерно столько же лет, сколько было ему, когда в действующей армии началось братание с солдатами кайзеровской армии. И вот снова немцы!.. Нет, эти ребята с гитлеровцами брататься не станут.
Меж тем один из эшелонов тронулся с места. С нар повскакали те, кто на них лежал, и столпились в пространстве дверей. Кто-то, заложив пальцы в рот, пронзительно засвистел, кто-то крикнул: «Пока, батя! Не скучай!..» Аркадий Павлович снял кепку и стал махать уезжавшим. Но этот идущий от души жест вызвал в эшелоне лишь громкий хохот. Видно, он был смешон тут в своем коверкотовом костюме, с пальто на руке.
Надев кепку, он двинулся дальше, и, чем ближе подходил к вокзалу, тем горше становилось у него на душе. Примыкавший к станции перрон был переполнен штатским людом. Родные провожали мобилизованных. Натянуто улыбавшиеся, старавшиеся бодриться и подвыпившие, они неловко мялись в окружении матерей, жен, сестер и не знавших, как себя вести, детей. Были тут и мужчины не первой молодости. Подумалось о том, что тем кадровым военным ребятам было куда как легче. О тех в далеких деревнях вздыхали матери, молили бога сохранить им сыновей. А сами сыновья о матерях сейчас не думали. Молодость живет не оглядываясь. Тут было иное. Пройдут недели, может быть, и месяцы, пока война и у семейных поглотит тяжелые думы о доме. Да и поглотит ли? Припомнился старый солдат из его давнего взвода, смышленый мужичок со смешной фамилией Старухин. Воевал он тогда уже третий год, а дня не было, чтобы не вспоминал о своем доме. Как-то в брошенной хозяевами польской усадьбе попался им топор. Хороший был топор, новый. Старухину понравился. Вздыхая он говорил: «Справный топор, будь бы полегче, взял бы с собой…» Удивительно!.. Будто все это было вчера!..
Вдоль платформы, сидя на тюках и чемоданах, ждали посадки женщины с детьми, старухи, немногие старики. Тревожно поглядывали в небо, с надеждой смотрели на каждый сдвинувшийся с запасных путей состав. Пробираясь к станционным службам, Аркадий Павлович слышал:
— Васе вчера повестку принесли. В шесть утра ушел.
— Наш к матери велел ехать. В деревне-то спокойнее, говорит…
— Стрелял тут утром. Вон крыша, что решето.
— Немец, слышно, близко.
— Слушайте больше паникеров!.. Держат наши.
— Где держут, а где и отходют…
— Когда же подсадка-то?! Дети у меня. Маленькие…
— Ой, шо це буде ще?
Русская речь перемешивалась с украинской. Высокий чубатый парень утешал вытиравшую слезы пожилую женщину:
— Та шо вы, мамо!.. Чи нас на фронт?.. Нас же на учение у тыл…
— Команда шестьсот семнадцать! Не разбредаться, не разбредаться! — скорее просил, чем приказывал низкорослый сержант, почти мальчик.
— Та мы ж туточки, товарищ старшина, — явно льстил ему бывалый дядька из мобилизованных. — Семья до меня, проститься…
— Водку увижу, вылью, — напускно хмурился сержант.
— Нима горилки, нима… Трошки було, — уверял хорошо уже хвативший родственник из провожающих.
— Мама, а если опять налетит?.. Если налетит?.. — жалась к женщине с ребенком на руках девочка лет семи в надетом на нее не по-летнему теплом пальто.
Как и ожидал Аркадий Павлович, легко здесь ему не придется. Усталые, охрипшие железнодорожники принимали и отдавали приказы по селектору и телефонам. Трещал, казалось отошедший уже в историю, морзевский аппарат. Здесь делали все, чтобы не допустить скопления поездов на путях. Но поезда все равно скапливались. С востока один за другим подходили воинские эшелоны, которые надо было немедленно продвигать вперед. С запада прибывали выбившиеся из всякого графика, переполненные свыше всяких мер пассажирские поезда. Чуть ли не каждый состав сопровождало распоряжение: «Срочно! Вне очереди».
Теперь дальнейшая судьба пульманов зависела от диспетчера — человека с красными от бессонницы глазами, до которого все же удалось добраться. Лишь мельком взглянув на протянутые ему главным администратором бумаги, диспетчер отмахнулся.
— Куда вы со своим этим… Вы же видите, стоят особые грузы.
Напрасно было доказывать, что без того, что он везет в Ленинград, театр жить не может. Переждав некоторое время, Аркадий Павлович обратился к начальнику товарных перевозок.
— У меня груз особого значения. Я отвечаю за него, — настаивал он.
— Какой такой груз?
— Это не требует объяснений. Груз большой государственной ценности. Да, да!
По-видимому, что-то в его словах, произнесенных твердо и убедительно, произвело впечатление. Начальник взглянул на сопроводительные документы.
— Государственной, говорите?
— Особой, особой ценности.
Зазвонил телефон, прервав разговор, начальник поднял трубку и назвал свою фамилию. Потом сказал: «Минуту», подозвал давно не брившегося станционного служащего, сказал ему:
— Пульманы надо отправить.
— Есть, отправим, — кивнул тот.
— Скоро? — поинтересовался Аркадий Павлович.
— Как только сумеем. Зря держать не станем.
Днем над станцией дважды появлялись немецкие самолеты. Они летали так низко, что на крыльях ясно виднелась свастика. Это было настолько невероятным, что казалось кадром из художественного фильма. С самолетов стреляли. Пули вкось прошивали стенки стоявших на путях вагонов, впивались в черные промасленные шпалы, со звоном бились о железные колеса и рельсы. Немецкие летчики стреляли наугад, стремясь создать панику, и удирали, когда появлялся хотя бы один «ястребок». Но бомбежки станции в этот день не было, и прошел он более или менее спокойно.
Приказ начальника перевозок был выполнен к вечеру, и три пульмана, по-прежнему сопровождаемые их проводником — театральным администратором, катились дальше в голове товарного состава. На повороте с площадки Аркадий Павлович сосчитал вагоны, Их оказалось тринадцать. Но пугавшее многих число его не огорчало. Чертову дюжину он даже любил.
Перед заходом солнца в открытом поле их нагнал немецкий штурмовик. Уже набравшийся кое-какого опыта машинист резко затормозил, как только самолет навис над поездом. Пролетев вперед, немец понапрасну выпустил пулеметную очередь. Тогда, разозленный неудачей, летчик сделал крутой разворот и снова кинулся на беззащитный состав. Но на этот раз машинист, наоборот, дал полный ход вперед, и пули с воздуха снова не достигли цели. Третьего обстрела не было: взмыв вверх, самолет черной полоской растаял в холодеющем пламени заката.
Стоя у тормозного колеса и зачем-то держась за него, Аркадий Павлович удивлялся, почему не взял его страх во время обстрела с воздуха. Он даже не ложился на пол площадки, что, конечно, было бы безопасней. Припомнил: когда-то в молодости, на войне, был безрассудно уверен, что его не убьют. Вот и теперь верил — пули могут попасть куда угодно, но его не заденут. Откуда могла взяться эта глупая уверенность?
На войне часто ждут неожиданности, которым не приходится поражаться. Нежданно-негаданно театральный груз застрял возле маленького украинского городка, о существовании которого Аркадий Павлович прежде и не слышал. После тревожной обстановки первых дней и ночей пульманы оказались на станции, выглядевшей самым обыденным образом. Здесь нужно было дождаться состава, следующего в северном направлении.
В служебном помещении Аркадий Павлович нашел дежурного, глядя на которого можно было и в самом деле поверить в то, что они находятся в далеком безмятежном тылу.
Тучный дядька в чесучовом форменном кителе, с лицом таким розовым и гладким, на которое будто по ошибке гример наклеил седоватые усы, умиротворенно сказал ему:
— Вы трошки почекайте… Як приде состав до севера, зараз отправим.
При этом дежурный был настолько обвораживающе ласков, что, казалось, приглашал, попить с ним чайку.
Невозмутимость его основывалась на том, что на станции пока что все было спокойно.
— Шо ему нас бомбовать? В степу мы…
Узнать обстановку на фронте оказалось тоже делом нелегким.
— Бои идут велыки, передае… Бьют наши нимца, це ще?!
Единственное, что он хорошо знал, так это то, что в ближайшие полчаса поезда к северо-западу не ожидалось.
Пройдя сквозь сумрачный зал с закрытой кассой, Аркадий Павлович оказался на пыльной малооживленной площади. Начинавшийся отсюда городок упирался широкой улицей в высящуюся в центре его белую церковь. На площади в тени дощатого навеса небольшого базарчика переговаривались между собой торговки в белых платочках, оттенявших их дочерна загорелые, в большинстве своем старушечьи лица. Ждали очередного поезда. На дощатом прилавке стояли крынки с молоком, горками высились пучки редиски и зеленого лука. Уложенное на марлевые тряпочки, ожидало покупателей сбитое в небольшие комки желтое масло. Краснела в корзинках и поспевшая черешня. Мирный базарчик был сейчас не менее удивительным, чем и сама сонная станция. Увидев человека в светлом костюме, торговки принялись наперебой звонко зазывать его, нахваливая свой товар.
Над головой синело чистое украинское небо. По впадине до пересохшей лужи без толку прохаживались жирные голуби. Задиры воробьи затевали драку из-за каждого найденного зерна. За базаром темнели кусты густо разросшейся акации. С трудом верилось в то, что, может быть, не сегодня-завтра и на тихий городок с белыми от мучной пыли цилиндрами элеватора по ту сторону железной дороги обрушатся бомбовые удары и обстрел. Снаряды подожгут станцию, до основания разрушат и, наверное, совсем недавно выстроенный элеватор. В щепки разнесут базарчик, нароют ям, с корнем вырвут кусты акаций. А возможно, военная судьба уготовит этому городку несчастье оказаться линией фронта. Только фундаменты да трубы тогда останутся на пепелище от укрывшихся в тени садов домиков. Потребуются годы, чтобы на выжженной огнем земле снова зазеленели деревья и запели птицы. Внезапно подумалось: а что, если вся эта тишина обманчива? Если севернее или южнее гитлеровцы прорвали оборону и городок может оказаться в их тылу?! С закравшейся тревогой Аркадий Павлович заспешил на станцию. Надо было попытаться хоть как-то выяснить, где же сейчас проходит фронт.
Но не успел он еще дождаться известий по радио, как война, во всей ее горькой действительности, пришла на тихую станцию.
С западной стороны прибыл и остановился, ожидая встречного, поезд с ранеными. Под санитарные вагоны были приспособлены обыкновенные жесткие. На крышах натянуты полотнища с красным крестом. Но крест не уберег поезд. Два последних вагона были продырявлены пулями. Почти все стекла в них разбиты. И все-таки в них ехали раненые. Ими был переполнен весь состав. С головами, забинтованными так, что лица едва можно было рассмотреть, с руками в гипсе и бинтах, сквозь которые еще просачивалась кровь, с повязками, закрывающими и по одному, и по два глаза, прибывшие с фронта раненые, все молодые ребята срочной службы, в измятых гимнастерках с зелеными и красными петлицами, теснясь, выглядывали из вагонных окон. Те, кто был на ногах, стояли в тамбурах, курили и оглядывали станцию. Коренастый боец с забинтованной выше уже несуществующей кисти правой рукой левой подхватывал кружку с квасом, которую подавала ему женщина с большой бутылью, и притом еще балагурил.
Покинувший свое место на площади базар теперь растянулся вдоль эшелона. Раненые протягивали из окон деньги. Многие женщины платы за свой товар не брали: «Не надо денег, чтобы ты до матери доихал, ридный!» Другие брали, но стеснительно: «Да буде, буде!.. Шо там е…» Старухи вытирали слезы концами белых платков. Невесть откуда взявшиеся подростки, лет на пять моложе едущих с войны парней, допытывались у раненых: «Ну, как там он?» Им отвечали: «Жмет, подлый», «Мы даем и даем, а они, твари, лезут и лезут…», «Сверху что дождем сыпет… Кабы нам авиации поболе…»
С прибытием эшелона с ранеными все изменилось на тихой станции. Тучный дежурный в сдвинутой на затылок порыжелой фуражке проворно выбегал на платформу, чтобы скорее отправить встречный поезд, снова нырял в служебную дверь и, через минуту выскочив из нее, с жезлом в руках спешил в голову санитарного эшелона. Простояв на станции короткое время, санитарный состав двинулся дальше в тыл, и люди на межпутье и платформе смотрели ему вслед, пока прямоугольник последнего вагона не растаял в фиолетовом мареве знойного дня.
С того момента зачастили в обе стороны составы, проходившие через потревоженный дыханием фронта тихий городок. К концу дня появился и поезд, идущий на северо-восток, к которому прицепили пульмановские вагоны. Теперь они оказались в хвосте состава. На площадке, где ехал до тех пор проводник театрального груза, обосновался немолодой главный кондуктор товаро-пассажирского.
— Вы седайте на паровоз. Машинист знае… Зараз даю отправление! — приказным тоном прокричал Аркадию Павловичу дежурный по станции.
В паровозной будке, куда его пустили без протеста, он узнал, что в двух пассажирских вагонах едут беженцы. Состав продолжали порожние товарные двухоски. За ними катились воинские теплушки, в которых ехал эвакуированный пионерский лагерь. На одной из остановок, пока поезд томился у закрытого семафора, Аркадий Павлович увидел пионеров. Они ехали со своими почти такими же юными вожатыми и начальницей лагеря, молоденькой женщиной, старавшейся не обнаруживать растерянности, хотя она и не знала, куда их с детьми везут и где высадят. Пионеры ехали в летней одежде, с легкими чемоданчиками и вещмешками. Не у всех имелись и летние пальто. С собой они везли фанерные щиты с ярко разрисованной стенгазетой и правилами распорядка лагерной жизни.
Женщины из пассажирского вагона, узнав, что Аркадий Павлович едет на паровозе, стали его звать к себе:
— Идите, поднимайтесь сюда. Хоть тесно, да все отдохнете. Мыслимо ли всю ночь там…
Много часов не смыкавший глаз, он не заставил себя уговаривать и через несколько минут уже устраивался на третьей полке, с которой с готовностью спрыгнул худенький рослый мальчик.
До утра, пока спал, проехали всего две станции. В ранний час пробуждения снова, будто не двинувшись и на километр, стояли в открытом поле у такого же, как и вчера, светофора.
Аркадий Павлович умывался на откосе возле вагона с помощью того же худощавого подростка. Опрокидывая на его руки остатки воды из кружки, мальчик таинственно спросил:
— Вы начальник вагонов с золотом, да?
— Каких вагонов?
— Тех, где часовой. Там золото, чтобы оно не попало к фашистам, да?
— Что еще за часовой?
— Ну там, в конце.
Поблагодарив мальчика, администратор заспешил в хвост состава, где узнал, что за ночь на какой-то станции к их эшелону добавили два закрытых товарных вагона. На площадке одного из них находился охранник полувоенного вида с ружьем в руках.
— Спецгруз. Опасный. Взрывчатка, — как бы по секрету сообщил главный кондуктор. — Приказано довезти по назначению. Километров сто еще пойдут с нами.
Не обрадованный этаким соседством в составе поезда, Аркадий Павлович возвращался к паровозу. По дороге приостановился, глядя на повыскакивавших из теплушек пионеров. Со свистом, с гиканьем носились они по еще не обсохшей от росы траве. Раскинув руки, кружил в поле мальчик лет девяти. Наклоняясь на виражах, он изображал истребитель. Бах!.. Бах! — стреляли двое других из зениток-палок. Дети оставались детьми.
Потом поезд шел через степь, казалось, простиравшуюся без конца и без края. Вдали ершились обсаженные пирамидальными тополями небольшие хуторки. В пассажирском вагоне к Аркадию Павловичу, как к единственному тут мужчине, относились со столь заботливым вниманием, что ему сделалось не по себе и он снова перебрался на паровоз.
Чем дальше продвигался к северо-востоку эшелон, тем упрямее напоминала о себе война. Проезжали мимо черных проплешин сгоревшей на корню пшеницы. От земли тянуло запахом пригорелого хлеба. Невдалеке, справа и слева, темнели воронки от фугасок. Около линейных постов железнодорожники рыли спасительные щели. Приближаясь к городу, увидели спрошенные под откос, искореженные огнем остовы трех пассажирских вагонов. Что-то сталось с теми, кто был в них?!
Отведенный на возможно дальний путь состав на этот раз замер в стороне от станционных служб. Главный кондуктор передал по вагонам, чтобы на случай воздушной тревоги выходили и рассыпались в степи. Она сразу за стальными путями тянулась до горизонта, где синела полоска леса. Построив по два в колонну, пионеров увели кормить в город. В вагоне, где они ехали, остались лишь дневальные.
Хотя на путях шла активная маневровка, состав, где были пульманы, простоял без движения до позднего вечера. Не были отцеплены и вагоны со взрывчаткой.
В пассажирских уже легли спать, когда к эшелону, задним ходом, подкатил паровоз и, попыхивая, стал ждать «добро» на дорогу. Но шло время, сделалось совсем темно, и разрешения на дальнейший путь не поступало. Звездная ночь окутала степь. С места, где стоял поезд, было видно, как подрагивала синими огоньками стрелок незасыпавшая станция. Издали доносилось лязганье буферов, трели сцепщиков, отклики паровозов и громыханье первого их рывка с места. Сидя на нижней ступеньке вагона, Аркадий Павлович думал о доме. В театре сейчас, наверное, уже заканчивался спектакль. Что они, вернувшиеся из отпуска, сейчас там играли? Ведь все для сцены было тут, с ним. Подняв взгляд к небу, он смотрел на светящийся ковш Большой Медведицы. Ярко сияла Полярная звезда. По ней можно было определить, в каком направлении находится Ленинград и питерский пятиэтажный дом с квартирой, где сейчас, конечно же, не спала, думая о нем, милая его Лидуша.
Тишину смял донесшийся сюда все усиливавшийся гул, стало слышно завывание моторов бомбардировщиков. Мелькнула мысль: «Может быть, наши?» Но нет. Засветились и закачались, тая в бездонном небе, синие лучи прожекторов. Они то скрещивались гигантскими римскими десятками, то расходились, образуя римские пятерки. Запоздало завыла сирена тревоги, забабахали, завыли, разрывая тьму, зенитные орудия. В вагонах проснулись, заметались. Заплакали маленькие дети. Где-то на путях фейерверком взлетела огневая вспышка. Потом, в стороне, справа и слева вторая, третья, четвертая… Звуки разрывов достигали стен вагонов и вторились обратным эхом. Вдали взметнулось пламя. Над пламенем, отражая свет прожекторов, заголубели клубы дыма. Истерически стонала сирена. Гроханье взрывов смешивалось с сухой пальбой зениток, ударами чего-то рвущегося на земле, воем самолетов в воздухе и уже общим испуганным криком в вагонах. В ночи, раздвигая ее, в разных местах запылали костры. Налет продолжался несколько минут, и нужно было ждать — бомбардировщики прилетят еще. Огонь на путях помогал немецким летчикам. Горело какое-то строение и метрах в трехстах от выдвинутого на линию эшелона.
С паровоза на происходившее со страхом смотрели машинист и его помощник. С конца поезда примчался главный, придерживая на бегу сумку, кричал:
— Всем из вагонов!.. В степь, в степь… Подальше!..
Но команды уже не требовалось. Дети спрыгивали с подножек, падали на четвереньки и, поднявшись, бежали прочь от поезда. Женщины тащили за собой малышей, с ними на руках пролезали под вагонами и спешили во тьму поля. Главный кондуктор кинулся к стоявшему у паровоза Аркадию Павловичу и снова, словно сохраняя тайну, сообщил:
— Охранник говорит, если тут рядом взорвется, так те два… Там тол… Тогда кругом все дотла… Что же?! Как же быть-то… Пионеры ж там… Женщины, дети малые… Я ж отвечаю…
Аркадий Павлович видел, кондуктора охватил страх, который тот не мог скрыть.
— Эшелон надо отвести дальше. Хотя бы на километр-два вперед, — сказал Аркадий Павлович.
С подножки спрыгнул машинист, с тревогой смотрел на вылетевшие из трубы искры.
При свете пожаров виделось — бомбежка была бесприцельной. На путях еще стояли уцелевшие поезда.
К паровозу подбежал парнишка в белой рубашке.
— Я дежурный. Сейчас за вожатого, — доложил он. — Какой приказ? — Парень изо всех сил старался казаться бесстрашным.
В небе снова послышался гул приближавшихся бомбардировщиков. Еще минута, и где-то, невидимый, ахнул взрыв. Метались прожектора, беспорядочно били зенитки. Случайная бомба могла упасть рядом с поездом.
Растерянный машинист топтался на месте.
— Надо бы, надо оттащить хоть малость, — соглашался он. — Но не имею полного права.
— Не имеет, — подтверждал главный кондуктор.
— Жезла не дали, — пояснил машинист.
— Сбегать на станцию? Дети же!.. — твердил главный.
В этот момент бенгальским огнем взметнулась где-то на путях бомба. Ярким красным огнем вспыхнули стекла пассажирских вагонов.
— Ох, сыпанет рядом — и взлетим же!.. — прокричал не сходивший с паровоза помощник машиниста.
Позже Аркадий Павлович никому не смог бы объяснить, откуда у него тогда взялась решительность.
— Беру ответственность на себя, — четко проговорил он. — Двинем до первого обходчика, оттуда позвоним. В опасности сейчас не один наш эшелон — вся станция.
Машинист взглянул на кондуктора. Тот неуверенно пожал плечами — дескать, «что я могу?».
— Беги в степь, — обернувшись к вожатому, продолжал взявший на себя командование администратор. — Возвращаться по паровозному гудку. Три раза по три… Идите на гудок.
Будто бы даже счастливый причастием к событиям, парнишка по-военному вытянулся, выпалил: «Есть!» — и немедленно исчез, нырнув под вагоны. Главный махнул рукой, побежал в хвост состава. Когда поднялись в будку, машинист еще какой-то момент мялся в нерешительности, потом с отчаянием бросил: «А, была не была!» — и взялся за реверс.
Ехали молча, не глядя друг на друга. Машинист и его помощник — будто целиком занятые ходом поезда, Аркадий Павлович — уставившись взглядом в черный от угольной пыли пол будки. Они понимали, что совершали беззаконие, и убеждали себя в правоте свершенного.
Минут через десять состав затормозил у едва различимого в ночи домика обходчика. К паровозу подскочил юркий мужичонка в сплюснутой к носу кожаной фуражке, осветив свое лицо тусклым фонарем, мигая глазами, старался понять, что это за поезд и почему он тут встал.
Вместе с появившимся здесь же главным кондуктором Аркадий Павлович пошел в домик за линией. Свет электрической лампочки ударил в глаза, как только отворилась дверь в помещение. На стене в нервном звонке бился телефон. Лишь только обходчик снял трубку, услышал:
— Алло, семьсот тринадцатый?! Товаро-пассажирский прошел мимо вас?
— Тут они. Тут встали, — перепуганно отвечал обходчик. — Тут, на километре… Порожние, видать, пассажирские-то. Здесь у меня бригада, чи кто…
— Кто там у тебя? — зло спросил человек в трубке. — Они же без жезла ушли. Кто там есть?
— Скажите, начальник эшелона.
Это было чистейшей авантюрой, но опытный администратор знал — бывали случаи, когда дело спасала только авантюра, и он решился на нее.
— Ну-ка дайте ему трубку, — послышалось в телефоне.
— Да-да! Слушаю, — с поразившей главного собранностью проговорил самозваный начальник.
— Кто это? Кто вы?
— Я, — Аркадий Павлович назвал свою фамилию. — Везу особый груз в Ленинград. Приказал двинуться ввиду угрозы взрыва вагонов с толом.
— Кто вам дал на это право? — вне себя закричал человек с железнодорожного узла. — Кто дал его машинисту?! Он ушел без жезла.
— Машинист не виноват, — сухо продолжал Аркадий Павлович. — Я заставил его, пригрозил оружием. Полагаю, я был прав. Два вагона с толом, дети…
Он видел, как вытянулось лицо у главного. Обходчик замер, сложив руки по швам. В телефоне молчали. Громким показалось тиканье старых ходиков на стене. Потом трубка ожила. Тот же голос, что прежде, заявил:
— Никаких оправданий. Пойдете под трибунал. Слышите?
— Слышу. Пойду… Что делать теперь?
— Вы с пассажирами? — уже как-то спокойнее запросили со станции.
— Пассажиров собирают. Дети и женщины были отправлены мной в степь.
— Передайте машинисту — дрезина привезет жезл. Будете следовать до Чубарки. С машинистом там разберутся. Там ответите за все.
Разговор оборвался. Через несколько минут во тьме ночи трижды по три раза просигналил паровоз.
Когда с вернувшимися из степи пассажирами поезд удалялся от домика обходчика, вдали виделось зарево пожара над покинутым час назад железнодорожным узлом.
Как ни удивительно, но никто в Чубарке Аркадия Павловича не задержал и под трибунал не отдал.
Медленно продвигаясь на северо-восток, он уже привык к тому, что никому не было дела до его груза на станциях, через которые шли платформы с танками, наивно прикрытые ветками с засохшей листвой. Не до него становилось, когда спешили отправить в тыл санитарные поезда.
Приходилось проводить ночи на твердых скамьях в залах ожидания и на открытом перроне. Он тащился со своими пульманами уже дольше недели, не преодолев, кажется, и трети пути.
«Станция Ленинград» — было размашисто написано мелом на каждом из трех вагонов. Но и гордое имя города, вызывавшее у всех уважение, делу помогало мало. Каждый день слышалось: «Отправим, ждите». И он ждал, смиряясь с тем, что, опережая, шли поезда с государственным грузом, вывозимым оттуда, где ему грозила опасность.
На одном из попутных станционных базаров он продал новое, сшитое лишь к весне, габардиновое пальто. Деньги кончились. Надежды на получение где-нибудь перевода не оставалось.
Ранним утром, стоя в толпе ожидавших посадки на поезд к востоку, он из вокзального репродуктора услышал голос Сталина.
— Граждане Советского Союза, братья и сестры, — начал Сталин свою взволнованную речь. Он говорил, что враг неумолим и борьба предстоит жестокая. Требовал, чтобы там, куда вступят захватчики, не оставалось ничего. Призывал уничтожать на их пути мосты, разрушать заводы, взрывать электростанции…
Голос Сталина, произносившего речь с резким грузинским акцентом, звучал глухо. В репродукторе слышалось, как булькала наливаемая в стакан вода и как позвякивал стакан, ударяясь о горло графина.
Ленинградский администратор, спасающий вагоны с декорациями и костюмами, припомнил исполинскую плотину — радость первых пятилеток. С театральной бригадой он побывал там, когда заканчивалась стройка. Теперь, содрогнувшись, он представил себе, как рушатся гигантские бетонные сооружения. Что значили его три вагона в сравнении со всем, что сейчас гибло?!
Временами он приходил к мысли бросить все и пробираться домой самому. Или нет, лучше пойти в ближайший военкомат. Пусть пошлют на фронт, кем хотят. Он еще не стар и может быть полезен. Он видел убитых при обстреле. Встречал по пути и холмики свежих могил рядом с железнодорожной насыпью. Что же, ведь он мог сложить голову и в окопах под Гродно еще в шестнадцатом, когда в шинели не по росту прибыл туда с маршевой ротой. Могло быть, что выжил бы и теперь, в этой войне… Но, вернувшись, что бы он тогда сказал своим товарищам, которые ждут его и надеются?.. Как бы смотрел им в глаза?.. В силах ли был бы скрыть свое дезертирство?.. Да, конечно же, дезертирство и ничто иное, пока целы его запломбированные вагоны, пока не угодила в них вражеская бомба и не запылали они огнем. Нет, он не может, не имеет права оставить их… И, после очередной неудачной попытки продвинуть груз дальше, он возвращался на тормозною площадку отчаявшийся, уже ни на что не надеявшийся. Но проходило немного времени, и Аркадий Павлович, презрев малодушие, возобновлял атаки на станционных начальников с утроенными энергией и настойчивостью.
Так он докатил свои пульманы до крупного областного центра, еще находившегося в тылу, и уже третьи сутки дожидался здесь дальнейшего продвижения.
На второй день вынужденного бездействия, когда о театральном грузе на станции будто и вовсе все забыли, Аркадий Павлович отправился в город. Он решил еще раз попытаться позвонить в Ленинград.
После долгого ожидания, как это ни было невероятно, его соединили с театром. Беспокойство, которое испытывал Аркадий Павлович, держа в руках трубку, оказалось не напрасным. Ни один из названных номеров не отвечал. Про телефон в его квартире сказали: «Не работает». Кое-как удалось уговорить соединить с управлением театров. И тут наконец в Ленинграде подняли трубку. Там, кажется, не сразу поверили, что это звонит он.
— Вы в самом деле говорите оттуда? И вы там с вагонами? Они целы?..
— Да, да! Все пока в сохранности, — прокричал Аркадий Павлович. — В театре никто не отвечает. Ни один телефон.
— И не могут ответить. Ваш театр выехал.
— Что? Куда выехал?
Торопливо, чтобы успеть все сказать, надрывавшийся издалека голос объяснил, что коллектив театра эвакуирован в глубокий тыл. Где именно расположится театр, укажут из Москвы только в дороге. Куда везти декорации, можно будет узнать позже, через Москву.
Он не сразу понял, спросил:
— Как же они поехали, с чем?.. Что там у вас в Ленинграде?
— Выехали налегке. Собрались срочно… У нас пока все в порядке, — говоривший явно бодрился. — Кончаются белые ночи. Дождей нет… Жарко. Желаем вам…
Разговор прервался. Послушав еще с десяток секунд, главный администратор оставившего Ленинград театра положил трубку.
Он вышел из душной кабины и присел на скамью среди ожидающих переговоров.
Что же было делать? Что он еще мог?
Бывают в жизни обстоятельства, которые так круто поворачивают колесо событий, что не остается ничего другого, как только безропотно им подчиниться.. Именно такое и произошло ночью.
Он был разбужен стрелочником, в доме которого ночевал.
До сих пор сравнительно спокойный ритм станции в эти часы был нарушен. Туда и обратно, в одиночку и с несколькими вагонами на прицепе пробегали паровозы. Слышались беспрерывные приказы диспетчера. Вдоль платформы катили тележки с какими-то ящиками. Шла срочная погрузка в вагоны. Свистели сцепщики, сигналили локомотивы, лязгали буфера. С вещами и без вещей спешили на посадку военные и штатские. Один за другим со станции уходили пассажирские и товарные составы. Прибывавшие не задерживались ни на минуту. Аркадий Павлович едва нашел свои пульманы прицепленными к какому-то служебному вагону, за одним из окон которого с задернутой шторой угадывался свет зажженной лампы. Лишь только проводник театрального груза успел взобраться на площадку, поезд тронулся и, развивая скорость, стал выбираться из путаницы станционных путей.
Устроившись на полу тормозной площадки — так меньше продувало, — Аркадий Павлович пытался понять, куда теперь их везут. Когда за пологими холмами полей показалось лениво поднимавшееся солнце, стало понятно — состав двигался на юг. Еще немного, и, дойдя до станции с незнакомым названием и объявлением на двери «Буфет закрыт», паровоз потащил весь состав к водокачке.
Пока он, шумно пуская пары, набирал воду, Аркадий Павлович спустился с площадки. Служебный вагон рядом оказался почтовым. В тамбуре его отворилась дверь, и над лесенкой появилась худенькая девушка в форменном жакете, надетом на цветастое летнее платье.
— Что это за станция? — спросила она, увидев на путях человека в сером костюме.
— Не разобрал толком названия, — ответил Аркадий Павлович. — А куда нас везут, не имею понятия.
— И вы, значит, не знаете…
Он объяснил, что прибыл сюда на площадке.
— Простыли поди? Ночь-то холодная.
— Померз, конечно. Теперь ничего.
— Идите погрейтесь, — позвала девушка. — По инструкции, к нам не положено, но что уж тут…
Она не только пустила его в вагон, но еще предложила кружку негорячего слабенького чая.
Аркадий Павлович увидел полки, на которых, аккуратно разложенные, теснились холщовые пакеты с почтовой корреспонденцией и запечатанные сургучом мешки.
Поймав его взгляд, хозяйка служебного вагона вздохнула.
— Одна я. Напарница осталась. Сказала — догонит. Не знаю… Почты у нас вон, полный вагон… Адресов только тех уже нету. Теперь куда ж все?.. — Помолчав, добавила: — И вы, вижу, мыкаетесь.
Была она простой и застенчивой, с волосами, по-провинциальному расчесанными на пробор и собранными на затылке узлом. Узнав, что ее случайный спутник — ленинградец, обрадовалась, сказала:
— Мама моя там была. Говорила — люди вежливые, все тебе объясняют… И письма из Ленинграда всегда ладненькие. Марочки наклеены аккуратно. Доплатных не бывает.
— Да что вы, — улыбнулся Аркадий Павлович, приняв слова девушки как любезность в свой адрес и подумав о том, что вот уже сколько дней он не улыбался.
От девушки, которую звали Татьяной, он узнал, что городу, из которого они выехали ночью, грозило окружение и был приказ — немедленно вывезти на юг все что возможно.
Теперь он догадался, почему удивились в Ленинграде, услышав, откуда он говорит. Выходило, они там знали о положении на фронте больше, чем он! И вдруг со всей ясностью понял, что ждет Ленинград, если из него выезжают театры. Он допил чай и поставил кружку, молчал, не потревоженный девушкой. Потом неожиданно для нее проговорил вслух то, что думал:
— Нет, в Ленинграде им не бывать. Не может этого быть. Да, не может!
К утру следующего дня театральный груз окончательно застрял в дальнем тупике одного из городов на юге российской земли. Почтовый вагон с симпатичной Таней увезли. Вероятности в ближайшее время двинуться к Москве было мало. Положение осложнялось еще и тем, что деньги, вырученные от продажи пальто, кончились. Он оказался с мятой трешкой в кармане.
Кольцо!.. Мысль о нем уже приходила в голову как выход на крайний случай. Лидуша, как всегда, настояла, чтобы он надел, когда уезжал… Защитный талисман!.. Вот оно и выручит его в трудную минуту. Лида?! Нет, она не бросит упрека. Она поймет его… Всегда понимала.
Вряд ли тут еще существовали ломбард или магазин скупки драгоценностей, но базар… В каком южном городе не найдется базара, где можно продать золотую вещь?!
Расспросив на станции, где находится толкучка, Аркадий Павлович отправился в город.
Поразительно, как быстро здесь возник черный рынок. Повидавший на своем веку базары, где мешок муки меняли на катушку ниток, он сразу же узнал бесцеремонный лик рынка военных лет. Чем только тут не торговали! Подержанным мужским пиджаком и новыми, наверно украденными, кирзовыми сапогами. Лаковыми, ставшими ненужными туфлями и очень кому-то необходимым детским одеяльцем. Торговля шла азартно, нервно. Все куда-то спешили, торопили друг друга. Предлагался и обмен. В толпе, расталкивая других, шныряла приметная толстуха — явная спекулянтка. Перед Аркадием Павловичем ожила картина давней петроградской барахолки, где вот такие, как эта, с серьгами в ушах, скупали у «бывших» за бесценок фамильные бокалы и муфты из шиншиллей. Быстрая, языкастая, она хватала, мяла в пальцах все, что попадалось под руку. Прикидывала на себя цветастую шаль и слушала ход часов у продававшего их старика. Тут же, не торгуясь, забирала у женщины хрустальную сухарницу и совала ее в свою невесть чем набитую большую сумку. Пальцы скупщицы отсчитывали замусоленные пятерки, а глаза шныряли по толпе, выискивая, что еще стоит взять. Подумалось — спешит превратить деньги в вещи. Он припомнил — на одной из станций, что осталась позади, командир из запасников покупал сало. Пока военный вынимал из кармана гимнастерки бумажные рубли, торговка, глядя на его неказистый чемодан, спросила: «Может, у вас полотенечко чи маечка есть?.. Деньги-то шо? Хиба немец бере их?..» Он тогда отошел в сторону, заметив, как краска стыда залила лицо командира. То, что видел Аркадий Павлович сейчас, было постыдным, неприкрыто оскорбительным. И все же подумал, что спекулянтка была как раз той, кому можно продать кольцо. Он уже было собрался ее окликнуть, когда из толпы вынырнул человек в светлом пиджаке и кепочке, с шиком надетой набок.
— Аркаша!.. Аркадий Павлович!.. Ну, феерия! Каким здесь макаром?
— Гришка?!
— Он самый — пан Белохвостиков.
Да, это действительно был он, знакомый еще с давних нэповских лет, человек без возраста — Гришка Белохвостиков, почему-то любивший себя называть паном. В среде театральных администраторов, дружных между собой, дельных и обязательных, Гришку не ставили ни в грош, но он, будто не замечая того, держался со всеми запанибрата, всегда готовый угодить людям, имеющим вес, чтобы потом у них что-то урвать. Именно таким он считал и Аркадия Павловича, называя его Корифеем. Бывал Гришка нечист на руку. На время куда-то исчезал, а потом снова появлялся на виду — говорили, промышлял «левыми» концертами в клубах с участием кинознаменитостей. Он был из тех, что выбираются из любого омута и, отряхнувшись, делают вид, что грелись на солнышке.
Теперь Гришка Белохвостиков, неуместно сияющий, улыбающийся так, словно встретились они в курортный месяц на пятачке в Кисловодске, жал руку Аркадию Павловичу, который готов был приписать эту встречу своему прославленному везению. Еще бы! У Гришки, наверное, есть знакомство и на железной дороге. Да и с кольцом, пожалуй, удастся повременить. А Белохвостиков меж тем, с любопытством оглядывая его, спрашивал:
— Что это с тобой, Аркадий Палыч?.. Увидел, думаю, ты — не ты, Корифей?..
— Я, да. — Аркадий Павлович не помнил того, чтобы Гришка прежде называл его на ты, но до того ли… Стараясь быть кратким, он рассказал Белохвостикову обо всех мытарствах в попытке пробиться домой. Гришка слушал, делал большие глаза, качал головой и сочувственно прицокивал. Но когда одиссея с пульманами подошла к концу, снисходительно улыбнувшись, сказал:
— Ах, Палыч, а я тебя за самого мудрого держал… Куда ты, бедолага, с этим хозяйством укатишь?.. Или не понимаешь — один день, два и — здрасте! — будут тут. А нет — все равно тебя догонят… Это же сила какая!.. Страшно вообразить. Ленинград уже, слышно, отрезан… Пока мы тут с тобой, они, может, уже в Саду отдыха под вальсы Штрауса… И до Москвы допрут. Вероятная реальность… — Он притворно вздохнул, — Сочувствую тебе, славный ты мой.
Это был знакомый ложно-ласковый и одновременно нахальный тон Гришки. Помрачнев, Аркадий Павлович сказал:
— Продвижение гитлеровцев замедлено. Они получают отпор.
— Замедлено героическим сопротивлением, — с ехидством продолжал Белохвостиков. — Кулак они готовят, вот и приостановились. Потом ка-ак дадут!.. А ты где? Драпать надо. Тебе-то уж точно драпать, Аркаша…
Это неожиданное «Аркаша» едва не заставило Аркадия Павловича вскипеть, но, всегда умевший владеть собой, он выдержал взгляд бегающих глаз Белохвостикова и, словно не поняв его подлого намека, спросил:
— Ну а ты что, Гришка?
— Я?! Я тут с опереточным ансамблем был. В первый день все к Москве драпанули. А пан Белохвостиков, сам знаешь, не любит толпой. Он личность индивидуальная. Еще неизвестно, как что скроится… Ладно, Палыч, не скучай. Радуйся, что встретились, — и уже тихо, деловито продолжал: — Ехать тебе все едино некуда. Напрасны ваши старанья. Сам не пропадешь — от барахла твоего дым останется… В общем, слушай, имею капитальный вариант… Вагон с костюмчиками разгружаем… С кем надо — договорюсь. Ценное чохом реализуем. Недорого, понятно, придется — война! Но ничего, коммерсанты всегда найдутся. Башли пачками возьмем… Шутка ли, три пульмана… Расчет на паритетах: твой товар — моя фирма. А там запирай чемоданчик и дуй с тяжеленьким подальше… Кто тебе что скажет… Разбомбило — и амба!.. Ситуация — блеск!
Аркадий Павлович поднял голову и так посмотрел в глаза Гришке, что беспечность того сразу улетучилась. Захотелось ударить по этой хлопотливой роже. Стараясь сдержаться, Аркадий Павлович проговорил:
— Мерзавец!.. Ах ты подлец, коммерсант!.. Ну, сволочь…
Но с Белохвостиковым произошла новая перемена. Он деланно громко засмеялся и, похлопав собеседника по плечу, выкрикнул:
— Молодец, Аркаша! Советский человек. Пошутил я, понятно, извини. Проверить тебя хотел, Так, для смеха.
В следующий миг Белохвостиков так же внезапно исчез, как появился. Потонул в густой толпе барахолки, будто его и не было, а перед Аркадием Павловичем уже стояла толстуха в серьгах и, тыча в его кольцо пальцем, спрашивала:
— Не продаете, гражданин?.. Дам хорошо.
С купленными на рынке продуктами — булкой, сычугом и бутылкой молока — он спешил на станцию. Что будет дальше с грузом и с ним самим, представлял с трудом. По пути твердил про себя: «Ах, проходимец!.. Мерзавец!.. Шутил?.. Врет, не шутил, подлец».
Путь назад всегда будто ближе. Вскоре уже, перешагивая через рельсы, он шел к длинному товарному складу, за которым в тупике стояли его пульманы. Аркадий Павлович обходил высокую платформу, и тут… То, что предстало его глазам, было убийственней встречи с Белохвостиковым, страшней всего пережитого за неделю. Рельсы тупика были свободны. Пульманов не было.
Главный администратор ленинградского театра — человек стойкого характера, редко теряющий самообладание, — опустив чемодан на шпалы, готов был заплакать. Сумасшедшие мысли замелькали в мозгу, одна неправдоподобней другой. А если Гришка?.. Если он успел с кем-то договориться и угнать вагоны?.. Да нет, невозможно. Чепуха! Какая же лезет в голову чепуха!.. Но что теперь? Что теперь?
3
В Харькове его арестовали.
Это произошло тогда, когда самое трудное осталось позади, когда Аркадий Павлович довел свои запломбированные вагоны до этого крупного железнодорожного узла. Лишь один из них был наискось задет пулеметной очередью. Там находились костюмы, и вряд ли они могли серьезно пострадать.
В тот навсегда оставшийся у него в памяти несчастливый день он нагнал свой груз на колхозной полуторке у следующей станции. Помогла купленная за немалые деньги водка. Надо же! Все-таки повезло, что имелись деньги от продажи кольца.
И опять. Он досаждал дежурным по перегруженным станциям. Доказывал, требовал, просил… В конце концов пульманы продвигались к Москве. Было все. Его оскорбляли. Называли трусом, который под видом проводника бежит в тыл. Говорили, что вагоны лишь предлог, чтобы забраться куда-нибудь в Ташкент и отсидеться — пусть воюют другие. Он не отвечал на заведомо несправедливые слова. Глядя в упор на обидчика, кивал головой и четко произносил: «Да, так… Да, да!» — но с таким сарказмом, что тому становилось не по себе. Глумлению приходил конец.
До Харькова, куда вагоны пришли с юга, ехал и на той же тормозной площадке, и по соседству, в набитых до отказа пассажирских купе. На некогда великолепно выглаженных Лидией Романовной брюках не осталось и следа складок. Светлый костюм был весь в пятнах самого различного происхождения.
По прибытии на сортировочную ему предложили пройти к какому-то начальнику из Москвы, который проверял движение всех грузов и давал право на их дальнейший путь. Удивило Аркадия Павловича, что повел его вооруженный боец железнодорожных войск.
В одной из комнат станционного здания за столом, на котором стояли два обыкновенных телефона и аппарат полевой связи, что-то писал человек в полувоенном костюме и фуражке из материала защитного цвета, какие любили носить ответственные товарищи. Боец положил перед ним документы администратора и, дождавшись кивка начальника, вышел.
Не поднимая головы, сидевший за столом придвинул к себе бумаги, но в это время зазвонил телефон. Взяв трубку, московский начальник мельком взглянул на Аркадия Павловича, но сесть ему не предложил.
Разговор по телефону был отрывочным, приказного характера.
— Да, так!.. Направляйте!.. Нет, нет, пока задержите… Да, немедленно… Заставим!.. — бросил в трубку человек в защитном. Был он немолод, с гладко выбритым лицом сероватого оттенка. Жесткие складки лежали по сторонам рта, плотно сжимаемого после каждого сказанного слова.
Аркадий Павлович оглядел помещение с единственным столом и стульями вдоль стен, с портретом Дзержинского в тяжелой деревянной раме за креслом начальника и стал догадываться о том, куда его привели.
Отдав последнее приказание, сидевший за столом положил трубку и принялся бегло просматривать листки — спутники театрального груза. Потом он поднял голову и, пристально глядя на администратора, спросил!
— Так что же дальше?
Аркадий Павлович ответил, что дальше следует дать ему возможность добраться до Москвы.
— А дальше что?
Его буравили два недоверчивых глаза. Холодное лицо человека за столом было лишено выражения.
— Дальше я буду искать свой театр.
— Где?
— Там, где он находится. Думаю, понятно.
— Та-а-ак, — протянул сидевший за столом. — Считаете, я вас должен направить с вагонами до Москвы, настаиваете?
— Да, да.
— Говорите, у вас полномочия?
— Да.
— Ваши полномочия липовые, — он приподнял листки и пошелестел ими в воздухе. Лицо сделалось каменным. — Вы месяц мотаетесь по прифронтовым дорогам. Эти документы довоенной давности. Они недействительны. Нет даже станции назначения. Надо разобраться, что вы за тип.
Кровь прилила к лицу Аркадия Павловича, он понимал, что саркастические «да» тут не помогут. Собрав всю свою волю, он раздельно сказал:
— Я главный администратор театра. Моя станция назначения там, где театр. Это мой долг.
— Долг?! Так! — сидящий продолжал смотреть на него в упор. — А я вот так думаю — вы аферист!
Больше сдерживаться не было силы. Опершись руками о край стола, очень тихо, но так, что это было хуже всякого крика, Аркадий Павлович проговорил:
— Вы не имеете права!.. Я еду четвертую неделю. Вывез народное имущество из захваченной территории… Я продал все свое, чтобы добраться сюда… А вы не хотите…
— Не хочу вам верить, — перебил его человек за столом. — Вижу, вы везде добиваетесь… Мы еще посмотрим, что вы везете в своих пульманах. Вы проехали города, где осталось все.
— На вагонах пломбы, я не вскрывал их, хотя тогда мог бы ехать с удобствами. Да!.. Я не мог подвергнуть опасности… Тот, кто сорвет пломбы, будет отвечать.
— Ответим, не беспокойтесь, — усмехнулся начальник. — Я тут на то, чтобы проверять все, что найду нужным. Но прежде мы установим вашу личность. Она мне подозрительна, и этими номерами меня не возьмешь…
— Позвоните в Москву, в Комитет, вам скажут, кто я.
— Найду куда звонить. — Человек в полувоенном поднялся, оказавшись неожиданно маленького роста, и, ничего больше не говоря, удалился из комнаты. Вскоре он вернулся в сопровождении молоденького скуластого сержанта с наганом в кобуре.
— Пошли, — сказал сержант, кивнув на дверь.
Недоумевающий администратор решил, что разумнее будет подчиниться, и, пропущенный вперед, шагнул к выходу.
— Куда мы идем? — спросил он, когда, уже конвоируемый, шел вдоль тускло освещенного коридора.
— Куда надо, разговаривать не положено.
Через несколько минут он сидел на длинной диванной скамье. В комнате были еще стул и маленький стол. На стенах — ничего, кроме оставленного кем-то отрывного календаря с июньским листком с красными цифрами «22». На камеру помещение не походило, хотя единственное в нем туманное окно было зарешечено снаружи. Аркадий Павлович пытался понять, что именно произошло. Почему он здесь, под замком, со своим полупустым чемоданом, лишенный всех документов. «Тип»!.. А впрочем, действительно!.. Человек странного вида, вот уже скоро месяц раскатывающий вдоль фронта с тремя пульманами, загруженными мало кому понятными вещами… Да, это могло показаться черт знает каким подозрительным. Да, не похож он на человека, сопровождающего груз в военное время. С тревогой Аркадий Павлович подумал, что, если вагоны откроют, вряд ли находящийся в них реквизит покажется кому-то достойным заботы, и тогда — конец!.. Наделенный чувством юмора, он всегда умел с улыбкой посмотреть на себя со стороны. Нет, сейчас ему было не смешно.
Прошло полчаса, о нем словно позабыли. За дверьми не слышалось и шагов. За двойными, давно не мытыми рамами, глухо сигналили паровозы. Стучать в дверь? Какой смысл?.. Он снова взглянул на часы, оставшуюся у него сейчас единственную мало-мальски ценную вещь. Старые, с точнейшим ходом часы фирмы «Лонжин» — карманные, переделанные на ручные. Лидуша называла их клоунскими… Лидуша!.. Что с ней там?.. Что с Ленинградом?!
Аркадий Павлович прилег на твердую скамью, пристроившись головой на чемодан. К этому было не привыкать. Не заметив как, усталый проводник пульманов заснул.
Разбудил его тот же плотно сколоченный сержант.
— Вставайте, товарищ. Идемте.
Проснувшись, Аркадий Павлович сел. Не сразу после сна сообразив, где сейчас находится, спросил:
— Куда?
— Куда надо, — знакомо, с той же непроницаемой интонацией повторил сержант.
Задержанный главный администратор вздохнул и покорно пошел к двери.
Сержант привел его в ту же комнату, но уже с зажженным электричеством. За окнами сгустились синие сумерки. На прежнем месте сидел тот же человек в полувоенном костюме. Казалось, он не покидал помещения. Не говоря ни слова, начальник кивнул на стул, предлагая сесть. Сержанту он уходить не велел, и это не предвещало ничего хорошего. На столе Аркадий Павлович увидел отложенные в сторону свои документы. Вероятно, с ним было решено. Не отрываясь от бумаги, начальник что-то быстро писал.
Наконец была поставлена точка. Человек за столом подвинул к себе бумаги Аркадия Павловича, и на него взглянули серые, но не те сверлящие, а усталые глаза.
— Так вот, — неторопливо проговорил он. — Груз считали пропавшим. В Москве, в вашем Комитете, удивились, что вы выбрались и сумели его вывезти… Во-от, — протянул он. — А мы, значит, задержали как подозрительного… Бывает, хотя и не часто. В общем, полномочия ваши подтверждены телеграфно. Будете следовать до Москвы. Там укажут станцию назначения дальше. Пульманы пойдут на товарную Северного. Вам будет место в пассажирском вагоне.
Аркадий Павлович не был бы самим собой, если бы показал, как он счастлив неожиданному обороту событий, и стал бы благодарить за то, что с ним все выяснили. Да, ему возвращают документы, личность его больше не вызывает сомнений. Но тот, кто сидел перед ним, не произнес ни слова извинения за проявленную грубость и оскорбления, и Аркадий Павлович сухо сказал:
— Нет, я поеду с пульманами. Только при них.
— Ваше дело, — бросил сидевший за столом и уже обратился к сержанту: — Проводишь к Делаляну. Распоряжение накормить дано. Потом отведешь в санпропускник. Я велел, чтобы помогли человеку привести себя в порядок перед Москвой.
И тут Аркадий Павлович едва сдержался, чтобы не взорваться.
— Не требуется, — отчеканил, поднимаясь и принимая бумаги. — Я не беспризорник и не «тип». Обойдусь сам, да!
Но и начальник был не из тех, кого легко ошарашить. Не глядя на театрального администратора, он проговорил:
— Извиняться не стану. Война! На слово верить никому не могу. Надеюсь, понятно, — и опять взялся за перо. Но все-таки, кажется, чувствовал себя не совсем-то правым.
Еще неделю назад такое казалось несбыточным — он шел по Москве. Той самой, в которой десятки раз за долгие годы бывал по разным делам.
Она была та же — столица, которую знал. И все-таки она была теперь другой — посуровевшей и будто настороженной. Всегда куда-то спешащие москвичи выглядели озабоченными, ушедшими в себя. Навстречу попадалось множество военных — мужчин разного возраста и девушек в пилотках, порой кокетливо надетых то на курчавую голову, то на гладко зачесанные волосы, с косой, закинутой на спину. Среди кадровых, ладно скроенных командиров попадались и недавно надевшие гимнастерки люди в возрасте, не отмеченные ни выправкой, ни боевым видом. О принадлежности их к командирской братии свидетельствовали лишь шпалы или кубики в петлицах да тяжелые, оттягивающие поясные ремни пистолеты у призванных из запаса.
Город пестрел плакатами, злыми карикатурами на Гитлера, жалкого и ничтожного в тени треуголки Наполеона, изображениями мужественных красноармейцев, рубящих, как древние витязи, гидру фашистской свастики, призывами встать грудью на защиту Родины. Были на щитах и афиши, извещающие о спектаклях в театре и представлениях цирка. Москва жила напряженной, убежденной в правоте своих дел жизнью.
То, что на людных углах продавали газеты и звучало радио со знакомым голосом диктора, что по пути встретилась афиша Большого зала Консерватории, где исполнялась симфония Чайковского, внушало веру — придет время побед.
Три пульмана, не вызывая больше опасения за их судьбу, стояли на дальнем пути Северного вокзала, сданные под охрану. Москву не раз бомбили, но зенитный огонь ее был мощным, и разрушений, причиненных бомбежкой, не было заметно.
Насколько мог приведя себя в порядок, умудрившийся сдать чемодан в переполненную свыше всяких возможностей камеру хранения багажа, Аркадий Павлович шел на Неглинную улицу, в Комитет искусств. Беспокойство не оставляло его. Что-то с театром… Неужели было напрасным все, что он пережил с июньского воскресенья?.. Неужели он опоздал с перенесшим железнодорожную неразбериху, бомбежки, обстрелы, глумление над вагонами театральным добром, бывшим для него в эти дни всем на свете?
Действовало метро. Со станции на площади он опускался по движущемуся эскалатору. На три ступеньки ниже весело переговаривались три молоденьких лейтенанта в новых, поскрипывающих сапогах, в ладно подогнанных гимнастерках, с портупейными ремнями крест-накрест на спинах и с еще пустыми кобурами для оружия. Все трое с одинаковыми чемоданчиками, в никелированных уголках которых играли огни метро. Аркадий Павлович смотрел на уже преисполненных командирского достоинства лейтенантов и припоминал тех взводных и ротных, которых видел в санитарных поездах, — в гимнастерках со следами замытой крови, перевязанных бинтами, опиравшихся на костыли, думая о том, что ждет впереди этих наверняка рвущихся на фронт мальчиков.
Внизу, на платформе увидел один, а затем другой комендантские патрули. Пожалуй, этим сегодняшнее метро тоже отличалось от довоенного.
У входа в Комитет мельком взглянул на свое отражение в стекле дверей. Да, неважнецкий вид! Но до этого ли сейчас?! Ладно, что хоть был не оборван и выбрит.
Его приняли сразу.
В кабинет к комитетскому начальству поглядеть на считавшегося погибшим администратора сошлось несколько человек. На Аркадия Павловича смотрели с любопытством. Он начал было рассказывать, как ему удавалось вывозить пульманы из фронтовой полосы, но вдруг умолк и сказал:
— Ничего особенного не было. Удирал с вагонами от немцев. Удирал, пока было возможно и куда только возможно… Да, так… Везло, видно, мне все-таки, вот и добрался до Харькова… Оттуда уже с вашей помощью сюда.
Собравшиеся слушать его разочарованно покидали кабинет.
Он узнал, что театр его обосновался в большом городе Западной Сибири, занял помещение местного драматического коллектива, который на время войны был переведен в крупный заводской клуб.
— Вас там ждут, — сказали ему. — Когда узнали, что вы отыскались, да со всем имуществом, ну обрадовались!.. В общем-то, вы ведь, можно сказать, спасаете театр.
Его снабдили талонами на питание и обещали устроить на ночлег. Он поблагодарил и сказал, что хотел бы не откладывая начать добираться до театра. Ведь до него было еще так далеко. Потом спросил, можно ли дать срочную телеграмму дирекции.
— Конечно, конечно, — отвечали ему. — Мы постараемся связать вас с ними по телефону.
— Тогда, пожалуйста, и с Ленинградом. Там у меня жена.
От него не могло ускользнуть, что при этих словах те, кто был в кабинете, переглянулись.
— Попробуем позвонить в Ленинград. Дайте номер телефона.
— Знаете, я бы хотел поскорее двинуться дальше.
— Отправим скорым. Поезда на восток ходят нормально.
Аркадий Павлович забеспокоился.
— Я — скорым? А груз?..
— Товарной скоростью. Дадим сопровождающего… толкача.
— Нет, прошу вас… Я поеду с ними, с вагонами… Обязательно только с ними, товарищи…
Аркадий Павлович поднялся.
Но и в московском тылу имелись свои трудности. С городом, где разместился театр, междугородная станция обещала соединить только после семи вечера. Что касается Ленинграда, то все попытки дозвониться оказались тщетными.
Прошло немало времени и после семи вечера, а разговора с театром не получалось. На вопросы, когда же он наконец состоится, с междугородной следовал невозмутимый ответ: «Ждите, линия занята… Освободится — соединим…»
И он ждал, не отходя от телефона, в приемной, на широком клеенчатом диване. Минуло шесть, семь и десять часов, а ожидаемого звонка все не слышалось. Сменились секретарши начальства. Дневная ушла домой, и на ее место уселась вечерняя. Оказалось, в Комитете теперь работали до поздней ночи. Стучали пишущие машинки. Велись телефонные переговоры. Ходили люди с бумагами. Строгого вида женщина за секретарским столом объяснила, что в Москве сейчас далеко за полночь работают все наркоматы и главки и что именно ночью часто поступают приказы, требующие срочного выполнения. Это обстоятельство обрадовало Аркадия Павловича. Он мог спокойно дожидаться минуты, когда его соединят с театром. Однако чем дольше ждал, тем меньше оставалось надежды на сегодняшний разговор. Спектакль там уже должен был окончиться, и вряд ли кто-нибудь мог ночью ответить на московский звонок.
И все же около десяти раздался длинный прерывистый сигнал междугородной, разбудив задремавшего администратора.
— Ваш вызов, — сказала секретарша, передавая ему трубку.
Аркадий Павлович вскочил с дивана и замер в ожидании. Одолевавший его сон, с которым он, как мог, боролся последние часы, мгновенно улетучился. Кажется, никогда в его жизни ни один разговор не рождал у него этакого волнения. В трубке слышались гудки и что-то трещало. Номер не отвечал. Напрасно Аркадий Павлович напрягал слух, напрасно почти не дышал, до боли сжимая трубку. Но вот треск прекратился. Женский голос произнес:
— Соединяю. Вызываемый у аппарата.
Он еще сильнее притиснул трубку к уху.
— Алло!.. Слушаю!.. — раздалось издалека.
Аркадий Павлович услышал голос директора. Да, это был он. Сомнений не оставалось.
— Алло!.. Да, да! Это я. — Аркадий Павлович назвал свою фамилию. — Говорю из Москвы, из Комитета…
— Ты?! Аркаша, ты?! — голос директора сорвался и сделался неузнаваемым. — Ты, дорогой наш, живой?..
Никогда раньше не называл он его ни «Аркашей», ни «дорогим», а тут… И вот в этот момент, когда была бесценна каждая секунда, оба они на какой-то миг умолкли. Ком подкатил к горлу Аркадия Павловича и не давал ему говорить. Но в трубке уже слышалось:
— Алло, алло, Аркадий!.. Ну, как там, что?.. Что у тебя?..
— У меня все в порядке, — справившись с волнением, громко прокричал Аркадий Павлович. — Я в Москве, на Неглинной… Вагоны на Северном… Все цело… Пломбы в сохранности!..
— Молодец!.. Ой, молодец, — почти застонал в трубке далекий директор. — Ты бы знал, в чем мы играем!.. Костюмы, напрокат у здешних… Голову ломал, что делать дальше… Ты наш избавитель, герой!.. Всей труппой с оркестром тебя будем встречать. На руках понесем!
Директор был еще и ведущим актером театра. За патетикой пряталось охватившее его беспокойство.
— Когда тебя ждать?.. Когда придут вагоны?
— Буду вместе с грузом. Постараюсь поскорее, хотя до вас и далеко.
— Денег тебе надо? Утром вышлем телеграфом.
— Не присылайте. Найду. Завтра же попытаюсь двинуться… Да, да!.
— Хорошо. До тебя как-нибудь продержимся.
Все было как будто сказано, и тут настала самая беспокойная для Аркадия Павловича минута. Стремясь придать словам сдержанность, он спросил:
— Что там в Ленинграде?.. Что моя Лида, как, неизвестно вам?
— Какая Лида? — не сразу понял директор и вдруг закричал: — А-а, что же это я, стоеросовый?! Твоя Лидуша?! Лидия Романовна? Она здесь, с нами… Ждет тебя. Мы же выехали с семьями. Такой был приказ… Слышишь, Аркадий Палыч, понял?.. Она здесь. Работает в бутафорском… Тут все при деле. Спит, конечно, сейчас. Я живу в театре. Можно сказать, на казарменном… Слышишь, Аркадий…
— Да, да… да, — отвечал он как-то уже невпопад, не в силах больше сдерживаться. Отвечал так тихо, что вряд ли его слышал директор.
— Ваше время кончилось! Прерываю разговор, — произнес властный голос телефонистки с междугородной.
Связь оборвалась. Аркадий Павлович еще держал трубку прижатой к уху, потом медленно положил ее на аппарат. Нет, не зря он эти долгие недели в муках и борьбе, стараясь не сдаваться, тащил на восток свои вагоны. Он думал о тех, кто ждал его, веря в него и надеясь… Да, они были людьми, его театральные товарищи. Они думали о нем, заботились и страдали за него… Да, да.
Он взглянул на повернувшуюся к нему лицом, напряженно что-то ожидавшую от него секретаршу. Аркадий Павлович показал глазами на телефон и сказал:
— Она там, моя жена. С ними, с театром… Работает. Она с ними. Спасибо вам.
— Мне-то за что же, господи! — просветлев, воскликнула секретарша. Нет, она вовсе не была сейчас строгой. — Что я?! Служба. Война!..
— Да, война, да! — как бы про себя повторил он.
— Вы измучились. Идемте, — секретарша поднялась. — Я устрою вас в кабинете. Поспите до утра спокойно.
— До утра, да, — Аркадий Павлович уже готов был последовать за ней, но вдруг остановился.
Секретарша обернулась, смотрела недоумевающе:
— Что такое?
— Ничего, — сказал он. — Не стоит беспокоиться. Спасибо. Я уже отдохнул. Поеду на Северный, там у меня все. Говорите — срочное теперь решается по ночам? Пойду к железнодорожному начальству. Нужно обозначить станцию назначения… А ну повезет, с утра подцеплюсь к какому-нибудь товаро-пассажирскому…
В КОМАНДИРОВКЕ
Случалось ли вам проводить ночи в доме для приезжих где-нибудь в далеком степном райцентре или промысловом поселке на берегу неведомой реки? Приходилось ли засыпать под хриплый говор старенького репродуктора, который, однако же, чертовски мил, потому что связывает вас с оставленным дома привычным миром городской жизни?
Удивительные это учреждения. Названия у них разные. Где гордое «Гостиница», хотя в той гостинице всего два номера — один мужской, другой женский, где «Дом крестьянина», где просто «Дом для приезжих», а где и вовсе большая, заставленная койками изба без вывески на фасаде — как хочешь, так и называй.
Но что за наслаждение после утомительной дорожной тряски на попутных машинах, после дневного хождения по разным районным организациям очутиться вдруг в тепле натопленной комнаты с непременными рыночными копиями «Утра в лесу» и левитановского «У омута», на которые копиист не пожалел зелени! Что за счастье войти в эту комнату, скинуть одеревеневший брезентовый плащ и, налив кипятку, согретого в каком-то дедовском самоваре, нарезать кружками запасенную еще в городе колбасу!
Честное слово, в эти минуты койка, застланная по-солдатски конвертом, кажется постелью в дорогом номере столичной гостиницы, а стол, прикрытый клеенкой с давно стершимися цветами, — столом в одном из лучших ресторанов!
Разные люди сходятся по вечерам в домах для приезжих. Тут и бывалый кооператор, полжизни разъезжающий по заготовительным конторам, с видавшей виды полевой сумкой, до отказа набитой накладными, квитанциями; и заезжий из областного центра лектор по международному положению; и армейский лейтенант, хлопотливый и беспокойный, возвращающийся из отпуска, К себе в деревню он ездил с женой и двумя маленькими детьми-разнолетками и вот снова везет семейство на другой край земли, откуда неизвестно когда опять попадет домой. Бывает, гостиничная судьба столкнет тебя с каким-нибудь столичным чудаком, собирателем давно забытого фольклора, или, и того интересней, с целой бригадой эстрадных актеров, этих вечных кочевников, с их баянами, ящиками, заполненными цилиндрами и цветами, а то и живыми голубями.
Да мало ли кого встретишь в домах для приезжих! Народ все разный, залетный, долго на одном месте не засиживающийся и немало повидавший на своем длинном или коротком веку.
Кто как, а я люблю вечера в этих домах, где люди сходятся так же просто, как в общем вагоне, а случится какой-нибудь незаурядный рассказчик, в которых у нас в России не имеется недостатка, и польется далеко за полночь нескучный разговор. Глядишь, и узнаешь что-нибудь такое, что окажется куда более интересным, чем строки, заполнившие листки корреспондентского блокнота..
Не так давно отыскал я в своих записях любопытную историю, услышанную в один из подобных вечеров. Вспоминались разные мелкие подробности, рука сама потянулась к перу.
Как-то случилось мне по корреспондентским делам застрять в далеком поселке — районном центре, который порядком отстоял от железной дороги. Райцентром поселок стал в то время еще совсем недавно, поскольку край нежданно для его обитателей приобрел большое промышленное значение.
Дни стояли сырые, осенние. На улице с утра до вечера шел мелкий, невидимый дождь — не дождь, а какая-то сплошная влажная завеса. Капель не видишь, а выйдешь из дома, и десяти минут не пролетит — станешь весь сырой и скользкий. Скучное время — предвестник первых заморозков.
Дела мои сложились так, что я уже достаточно поездил по области и немного устал. До конца командировки оставалось больше недели, а сбор материалов был почти уже закончен, и я, не будь тоски по дому и друзьям, вполне мог бы отдохнуть сутки-другие в довольно чистеньком доме, для приезжих, где говорливая пожилая хозяйка могла не только вскипятить чай, но и приготовить яичницу с картошкой и салом.
В райисполкоме мне должны были дать машину для поездки в глубинные места. Но машин, как всегда, не хватало, и секретарь исполкома сказал, что мне придется обождать до завтрашнего дня. Я имел серьезное задание и при желании мог бы вытребовать себе машину немедленно и еще вечером быть, где нужно. Но особой охоты тащиться по степным дорогам в темноте, да еще в дождь — кто знает, может, завтра и погода повеселей будет, — у меня не было, и я согласился дождаться следующего дня.
Мне следовало еще заглянуть в райфинотдел, а затем просмотреть подшивку областной газеты, и я, перед тем как поесть и идти на отдых в дом для приезжих, отправился по этим своим последним здесь, в поселке, делам.
Начальник финансового отдела, невысокий остролицый человек с глубоко запавшими темными глазами и худой шеей, которая по-гусиному торчала над отложным воротником форменного кителя, принял меня без особого энтузиазма. Я заметил, что, беседуя со мной, он все время озабоченно думал о чем-то другом и, как мне показалось, немного нервничал. Два раза раздавался неторопливый троекратный стук в стену. Начальник просил у меня извинения и куда-то выходил. Вскоре он возвращался, заметно чем-то удовлетворенный, говорил со мной живее и на вопросы отвечал охотнее. Отлучившись в третий раз, он появился с весьма неожиданной улыбкой на губах, а в его глазах светилась радость. Видно, он решил поделиться со мною тем, что переживал.
— Ревизор из Госконтроля. Четвертый день сидит, — доверительно сообщил он, мотнув головой в сторону стены, откуда слышался стук. — Знаете, вот я двадцать с лишним лет на этом деле. И в области работал, а такого придиры в жизни не встречал. Ну, все тебе поднимет, каждую цифру. Всякий листок чуть ли не на свет рассматривает… И все куда, да зачем и не правильней ли было бы поступить так-то или этак? Вот ведь, бывает, пришлют такого, и ты как школьник перед ним: и заучил урок, а все боишься, учитель не то спросит и засыплешься. Кажется, у нас все в порядке — и работники подобрались удачные, и без премии квартала не проходило, а все сижу как на иголках… Каждые десять минут объяснения даю. Выслушает, кивнет головой и вычеркнет свой вопрос… Хоть бы улыбнулся или хорошее слово сказал. Нет. И не знаешь, что он там про себя думает. Человек уже очень даже пожилой, знаете, уйдет на час, на обед, и опять сюда. Да так до позднего вечера. Ну, и я тут сижу. Прямо беда.
Он как-то виновато улыбнулся и продолжал:
— Есть же такие люди. За три дня столько документов пересмотрел, недели другому мало. Будто ему не командировочные идут, а сдельно с бумажки платят… Ну и мы все сидим. И нечего будто беспокоиться, а на душе тревожно.
В дверь коротко постучали. Скрипнули шарниры, и в комнату вошел высокий сутуловатый человек.
— Чаю иду попить, — сказал он, обращаясь к начальнику, и показал ключ: — Мне с собой его взять, или вы здесь будете?
Я догадался: передо мной ревизор из Госконтроля, и стал его внимательно рассматривать. Это был человек значительно старше пятидесяти лет, с резко очерченным продолговатым лицом, покрытым сеткой мелких, не сразу заметных морщин. Складки по сторонам рта были глубокими и придавали его лицу суровое и немного печальное выражение. Волос у вошедшего было еще много, они пепельно и легко кудрявились сверху и по сторонам крупного лба, уходя за покрытые пушком уши. Слова он произносил глуховатым низким голосом, едва заметно открывая при этом рот. Голубые выцветшие глаза, такие светлые, будто их долго стирали и тщательно прополаскивали, смотрели прямо и чисто.
— Берите, пожалуйста, с собой, — сказал начальник. — Хотя я никуда не уйду.
Ревизор кивнул и, забрав ключ и не сказав больше ни слова, вышел из комнаты.
— Вот так все время, — вздохнул начальник райфинотдела. — Слова лишнего не скажет. До чего официальный человек. Действительно, настоящий ревизор. К такому подхода не найдешь — кремень.
Мы тоже вскоре расстались. Начальник заспешил домой, чтобы успеть вернуться к приходу ревизора, я отправился в библиотеку отыскивать необходимые мне газеты.
В дом для приезжих я пришел только в десятом часу. В уставленной шестью койками комнате никого не было, хотя новенький дерматиновый чемодан под одной из коек и пластмассовый стакан с воткнутой в него зубной щеткой на тумбочке возле другой койки указывали на то, что я тут ночую не один. Я вынул блокнот и уселся к столу, ярко освещенному лампочкой. Но находиться в одиночестве мне пришлось недолго. Вскоре в комнату шумно вошел молодой человек, точнее сказать — парнишка лет восемнадцати, в синем, тяжелом, еще похрустывающем макинтоше и лихо сдвинутой, одновременно и набок и назад, кепке из веселенького бугристого букле. Он поздоровался со мной — кивнул головой, как старый знакомый. Затем стянул с себя макинтош и, разгладив его с каким-то особым старанием, надел на распялку и повесил на стену над койкой, под которой покоился чемодан. Затем снял кепку, для чего-то вертанул ее на кулаке и повесил сверху над макинтошем. Теперь молодой человек оказался в свежем, хотя недорогом пиджаке явно заграничного происхождения и черных отглаженных брюках, которые были заправлены в старательно начищенные сапоги в гармошку. На сияющих головках сапог виднелись следы райцентровской грязи, от которой уберечься в поселке не было никакой возможности. Это обстоятельство, видимо, занимало парня. Выставляя вперед то одну, то другую ногу, он вертел носками сапог, весело, почти что с восхищением восклицая:
— От грязюка, ну и грязюка, а?..
Затем он вытащил из кармана красный блестящий футлярчик, из которого в свою очередь вынул расческу с золотым ободком, и старательно причесал длинные гладкие русые волосы. Потом зачем-то потянул концы воротника новенькой клетчатой ковбойки. Вообще, весь он был такой свежий и новенький, что казалось, перед тобой не всамделишный паренек, а какой-то артист, не очень правдиво исполняющий роль этакого довольного собой паренька.
Я смотрел на парня и чувствовал, что его распирает желание с кем-нибудь поговорить. Мне было ясно, что он совершенно не привык к одиночеству и тоске гостиниц. Я прикрыл блокнот и отложил перо. Он, видно, понял это как сигнал, чтобы начать беседу, и сказал как-то неопределенно:
— В клубе был. Кино смотрел. Неинтересное кино — скука. И танцев сегодня нет. Завтра танцы. Танцы были бы, так познакомиться можно было бы с кем-нибудь, время провести, а так — скука.
Потом он вытащил из-под койки свой блеснувший на свету никелем уголков и кнопочек чемодан, опустился перед ним на корточки и, одновременно щелкнув обоими замками, извлек из чемодана желтую объемистую книгу.
— Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка», — звонко отчеканил паренек. — В Москве, на Кузнецком мосту, достал. В очереди стоял, — и вдруг он весело рассмеялся: — Классная книга… Ну и пройдоха же был!
— В Москве, значит, побывал?
— Ездил, — живо обрадовался началу разговора парень. — Я сам с Наро-Фоминского района. Два года дома не был. Вот и ездил на побывку. Ну и в Москве, конечно, погулял. — Он опять рассмеялся чему-то своему. — В нашей Москве не соскучишься.
— Теперь к себе?
— Ага, — кивнул он головой. — К себе, в МТС Развеевскую… Я из патриотов. Ехал, правда, в совхоз, а направили МТС поднимать.
— Поднял?
Он, кажется, не понял юмора и обиделся.
— Я свое поднял. Электромехаником работаю. Ничего, не жалуются. В Москву ездил, с собой четыре косых прихватил. Всеми видами довольствия и удовольствия себя обеспечил.
Парень, видно, был не из тех, что лезут в карман за словом.
— Женат? — поинтересовался я.
— Не-ет, — весело ответил он, забыв обиду. — Ну да. Куда мне. Я еще молодой. На меня и так хватает.
— Не скучно, выходит?
— Ловчимся. Разговоры, тары-бары… А по случаю свободного времени можно и в город. От нас на попутной недолго. Машины полный год ходят. — Он слегка вздохнул. — А вот тут я попал! Не той дорогой поехал. Думал, здесь, в районном центре, свое догуляю. Да клуб тут чего-то не то: одни лозунги — скука. Вот, может, завтра танцы. Познакомлюсь с кем — погуляю перед отъездам. Мне вообще-то завтра являться. Да кто что скажет, если еще суток двое пройдет? Рядовой Иосиф Швейк так говорил: «На фронт не опоздаем…» Чайная тут, между прочим, подходящая.
Мы разговорились. Я уже знал, что зовут его Иваном, что во время войны он лишился отца. В семье третий сын. Мать теперь живет со старшим братом в Наро-Фоминске. И что он, Иван, когда был дома, «законно» всех угостил и матери свез подарок.
Неожиданно он умолк, а затем спросил:
— Слушайте, я вижу, вы человек тоже, вроде меня, компанейский. Не взять ли нам бутылочку? Закуска у меня еще московская имеется.
Парень, видимо, не нагулялся. Я вежливо отказался. Он понял по-своему:
— Да нет — я угощаю… У меня еще хватит…
Я поблагодарил и снова отказался. Тогда он смутился:
— Вы не подумайте, что я запойный какой. Я так думал, за компанию, портвейну… для разговору.
— И портвейну не стоит. Поздно уже. Не к чему мне, и тебе, думаю, не требуется.
— А возможно, и не требуется, — неожиданно как-то легко согласился Иван. Но тем не менее разговор у нас с этой минуты оборвался.
Мы помолчали. Потом Иван сказал:
— Почитаем, — и уселся на кровати, раскрыв на середине свою толстую книгу.
Дождь на улице становился сильнее. Задул ветер. Временами внезапным порывом он как бы собирал дождевые капли в горсть и с силой кидал их во вздрагивающие стекла в окнах нашего дома. Но в комнате было тепло и по-своему уютно, и уличная непогодь нас беспокоила мало.
Вскоре заскрипела дверь на улицу. Кто-то долго и старательно вытирал ноги в сенях. Затем в комнату вошел человек в темном, словно отлакированном водой клеенчатом плаще с капюшоном, который придавал его немного сутуловатой фигуре сходство со средневековым монахом. Шагнув через порог, человек откинул капюшон, и я без труда узнал в нем знакомого уже мне ревизора. Кивнув головой, он направился к тумбочке, где стоял стаканчик со щеткой. В руке он держал туго набитый, уже не новый портфель, на котором я заметил пластинку с дарственной надписью. Ревизор поставил портфель на тумбочку и стал снимать дождевик. Под ним оказалось черное, наглухо застегнутое пальто.
Освободившись от верхней одежды, он присел на стул возле койки и молча просидел некоторое время, думая о чем-то своем. Я смотрел на его посеревшую курчавую голову и видел, что человек этот порядком устал. Но просидел он так всего каких-нибудь три-четыре минуты. Наклонился к тумбочке, открыл ее и принялся извлекать оттуда небольшие аккуратные пакеты, достал плоскую пластмассовую баночку нестерпимого канареечного цвета, затем еще какую-то металлическую коробочку с надписью «Центросоюз», закрытую с двух сторон ложечку для заварки чая в дороге и, наконец, эмалированную кружку.
Все вынутое из тумбочки ревизор перенес на стол и разложил на клеенке. Затем он взял кружку и вышел в сени. Вернулся он с кружкой, наполненной, наверное, уже остывшим кипятком, потому что хозяйки в домах для приезжих ставят самовар рано, а затем укладываются спать. Вскипевший самовар долго и одиноко посвистывает, постепенно затихая и теряя свое тепло.
Ревизор поставил кружку на стол и, сунув в нее ложечку с чаем, принялся разворачивать свои пакеты. В одном из них оказался кусок вишнево-фиолетовой твердокопченой колбасы, в другом порядком подсохший сыр, в третьем — хлеб. В баночке канареечного цвета — масло, а в жестяной коробочке — сахар. Нашлась и склянка с остатками домашнего варенья. Все у него было заранее предусмотрено, вплоть до бумажной салфетки, которую ревизор вытащил из портфеля и аккуратно подстелил под кружку, чтобы не попортить клеенку. Затем он вынул из кармана ножичек и стал нарезать тонкие, полупрозрачные листочки колбасы.
«Какой ужасный педант, — мелькнуло у меня. — Вероятно, из скучных чинуш, точных и исполнительных канцелярских механизмов».
Закончив все приготовления, ревизор посмотрел на меня своими светлыми глазами и глуховато спросил:
— Может быть, разделите со мной трапезу? Ели ведь, наверное, давно?
Я поблагодарил и сказал, что есть не хочу. Тогда он повернулся в сторону увлекшегося книгой Ивана:
— А вы?
Но тот только небрежно помотал головой, видимо не считая нужным выразить благодарность за приглашение к подобному ни в малой степени не интересовавшему его ужину.
Ревизор, как мне показалось, остался удовлетворен нашим отказом. В скором времени он отправился за второй кружкой кипятка.
Этот странный необщительный человек, однако, чем-то все больше привлекал к себе мое внимание. Пока он ходил за чаем, я, пользуясь тем, что койки наши стояли рядом, подошел к тумбочке и прочел надпись на серебряной, с фальшиво загнутым уголком, дощечке портфеля:
«Глебу Романовичу Углевичу старые товарищи по работе».
Надпись была стандартная и ничего не сообщила, кроме имени и фамилии соседа. Я вернулся на свое место. Пришел с чаем и Углевич.
— Я вас будто видел в финотделе, — неожиданно и неторопливо заговорил он. — Если не секрет, по какому вопросу прибыли?
Я объяснил, что нахожусь здесь по корреспондентским делам. Он кивнул и отпил чаю, а затем так же неторопливо продолжил:
— Я документацию у них проверял. Сегодня окончил.
Мне захотелось узнать, чем завершились волнения начальника финотдела.
— Совсем закончили?
— Совсем. Акт подписали.
— Ну и как? — спросил я, уже не скрывая любопытства.
Моя заинтересованность, видимо, удивила Углевича. Он поднял на меня выцветшие глаза.
— Все сходится. Нарушений нет. Акт удовлетворительный. — Он немного помолчал и добавил: — Но могло быть и лучше.
«Ну, от тебя дождешься похвалы. Хорошо, если хоть все сошлось!» — подумал я, мысленно порадовавшись за начальника финотдела. Потом спросил:
— Теперь куда же вы, домой?
Он помотал головой:
— В Герасимовское, завтра. Здесь четыре района должен обследовать.
Я сказал, что завтра днем мне обещали машину, что я буду проезжать Герасимовское и буду рад подвезти его. Углевич заметно оживился. На его продолговатом лице мелькнуло подобие улыбки.
— Если бы утром пораньше. Вот бы хорошо, — проговорил он.
— Обещали. Думаю, часам к двенадцати выедем. Но вообще-то с этими машинами сами знаете…
— Да, — согласился он. — У меня месяц срока, а нужно покороче уложиться. Здесь удачно. Намечал шесть дней, а справился в четыре. Можно сказать, повезло.
— Какое же везение, если вы и день и вечер работали?
— Финансовое дело такое: цифра за цифру цепляется. Начал — нельзя упускать цепь, пока до конца не дойдешь.
— Вам же дают достаточный срок.
— Срок дают, это верно, а сделать быстрее — долг. Вот так.
Эти уж очень правильные рассуждения вызвали у меня какую-то досаду.
— Но все-таки, я думаю, и отдохнуть человеку вовремя тоже полезно, — сказал я.
Он ответил с какой-то поучительной интонацией:
— Отдыхать надо, когда делать нечего бывает.
Иван уже давно оторвался от книги и прислушивался к нашему, разговору, не решаясь, однако, вступить в него. Я хотел было еще кое о чем расспросить ревизора, но последние его слова отбили у меня всякую охоту к дальнейшей беседе. Я решил, что и так знаю о нем достаточно: службист, человек бумажного параграфа, аккуратист — и все. Углевич встал и вышел из комнаты. Как только за ним закрылась дверь, Иван покачал головой и рассмеялся:
— Ну и старый сухарь, видали? И зачем только живет на свете такой тип? Другим чтобы скучней было, что ли?
Я не ответил Ивану. Углевич вернулся с третьей кружкой и вновь зарядил ложечку чаем. Видно, он был отчаянный чаевник, а это являлось уже человеческой слабостью и в какой-то мере примиряло меня с ним. Напившись чаю, он аккуратно собрал все свои пакеты и баночки и снова сложил их в тумбочку. Потом вынул из портфеля пачку почтовой бумаги и, подойдя к столу, спросил:
— Вы, наверное, спать хотите? Свет вам помешает? Я хотел письмо написать. Такая уж привычка — через день пишу.
Я сказал, что свет мне не мешает и что спать я еще не собираюсь. Он кивнул головой и уселся за стол.
— Внучкам, — сказал он как-то виновато, словно извиняясь за то, что собирался написать письмо. — Две внучки. У нас живут обе. — И глухо добавил: — У дочери семейная жизнь не очень удачно сложилась…
Больше он не сказал ни слова, склонился над бумагой. В комнате стало тихо. Только неунимающийся ветер посвистывал за темным окном.
Через несколько минут я взглянул на Углевича. Он был неузнаваем. Мелкие морщинки на его лице словно разгладились. Губы застыли в мечтательной и доброй улыбке. Теперь он ничего не замечал вокруг. Его светлые глаза блестели, словно их покрыла влага. Казалось, он видит перед собой не почтовый лист бумаги, а что-то далекое, но близкое и дорогое только ему. Я осторожно прошелся по комнате и вдруг увидел: Углевич не писал — он рисовал на бумаге. В правом углу на листке был нарисован домик. Точь-в-точь такой, как тот, в котором мы остановились. Пониже бежала собака с задранным хвостом, а на краю листка дрались два петуха. Нарисовано все это было наивно, но, однако, похоже и снабжено какими-то подписями.
Я отошел к своей койке. В это время в наружную дверь громко постучали. Лицо Углевича приняло обычное суровое выражение. Он сложил листок.
— Иду-у, иду-у… Кто там? — певуче протянула хозяйка.
Потом загремел засов и скрипнула дверь. Послышался топот сапог и басовитый мужской голос. Приезжий, вероятно, был знаком хозяйке, потому что они долго переговаривались о чем-то в сенях. Наконец в комнату, сбивая на ходу капли с картуза, решительно шагнул ширококостный, начинающий тучнеть человек лет сорока с небольшим, с красным от ветра лицом. На нем было брезентовое полупальто, из-под которого виднелись гимнастерка и заправленные в яловые сапоги брюки.
— Здравствуйте всем! — весело приветствовал нас вошедший, обведя взглядом помещение. — Будто никого не побудил, а то виноват…
Он скинул полупальто, под которым на ремне, по-военному, висела кожаная полевая сумка, легко обличавшая в вошедшем снабженца или заготовителя, приблизился к столу и, потирая руки, произнес:
— Ну и погодка. Будь она неладна, степь широкая…
Внезапно взгляд его быстрых глаз остановился на лице ревизора и застыл на нем. Вошедший как-то весь подался вперед, словно не веря своим глазам, а затем нерешительно и выспрашивающе протянул:
— Не товарищ ли старший лейтенант Углевич?
Наступила пауза. Иван захлопнул книгу. Углевич поднялся, внимательно вглядываясь в вошедшего. В глазах ревизора было написано недоумение. Затем в них мелькнула догадка. Видно, он вспомнил что-то давнее, связанное с судьбой стоявшего перед ним человека. Лицо внезапно просветлело, на губах дрогнула неожиданная улыбка.
— Если не ошибаюсь, Мачехин?.. — медленно проговорил он.
— Он самый… Вот привелось когда встретиться… Откуда же вы в наши края? Вот так свидание!
— Да вот по делам, по делам, — как-то смущенно пробурчал Углевич.
Я думал, что они кинутся сейчас друг другу в объятия, но они только обменялись рукопожатием.
— Фу ты, сколько же укатило с тех пор, — вздохнул Мачехин. Он стал загибать пальцы: — Сорок второй, третий… Скоро полтора десятка наберется.
— Где же сейчас? — спросил Углевич.
— В ОРСе, по снабжению новых совхозов работаю.
— Достается, наверное?
Я заметил, что Углевич нарочно избегает прямого обращения, видно не зная, как называть Мачехина — на вы или на ты.
— Ничего, трудимся, — ответил тот.
Немного помолчали.
Я понял: их охватило то знакомое, странное чувство, какое охватывает при встрече школьных друзей или товарищей по полку. Казалось, при свидании надо было бы столько сказать… Но вот желанная встреча состоялась, а говорить почему-то не о чем.
— Вы, что же, наверное, все по финансовой части?
— Да. Ревизую.
— О как! — Мачехин даже присвистнул. — Ну, вам не привыкать. Кой-кому, наверное, крепко достается?
— Теперь куда же? — не ответив, продолжал Углевич.
— В совхоз. Тут семьдесят километров. Расстояния у нас такие, не украинские. Сегодня хотел кое-что доставить, да не вышло. Завтра, думаю, если успею.
— Трудно со здешними дорогами?
— Не больно легко. — Мачехин помолчал, а затем задал классический вопрос всех старых школьных и фронтовых товарищей: — Наших никого не встречали?
— Нет. Я ведь потом на Четвертый Украинский попал.
— Да-а, есть что вспомнить, — протянул Мачехин.
— Бойцы вспоминали… — произнес со своего места Иван.
Но Углевича, видно, не очень занимали фронтовые воспоминания, и разговора по душам не получилось. Мачехин еще поинтересовался, не собирается ли Углевич на пенсию, и, получив отрицательный ответ, вдруг спросил:
— Вам куда завтра?
Тот назвал место, куда ему следовало попасть.
— Что же, сумею подбросить, — кивнул головой Мачехин. — Деньком кончу все свои дела. К вечеру, думаю, доставлю вас.
— К вечеру? — озабоченно переспросил Углевич. — Вот товарищу днем обещали машину. Или я уж на попутной доберусь.
— Попутные здесь на Герасимовское редко, — объяснил Мачехин.
Углевич расстегнул китель, под которым оказался тонкий серый свитер, уселся на кровать и принялся снимать ботинки без шнурков, с хвостиками, какие носят военные.
— Будем спать, — сказал он.
Время приближалось к часу ночи. Мы разделись и легли на свои койки. Прошлепав босиком к двери, Иван загасил свет. Я лежал во тьме, глядя на чуть светящееся окно, за которым все шел дождь, и думал о том, что даже встреча ревизора с Мачехиным не дала мне понять, что за человек Углевич.
Кажется, никто из нас не успел еще закрыть глаза, как у дома для приезжих остановилась машина. Остановившись, шофер не выключил мотора, и грузовик гремел под окнами, лихорадочно сотрясая стекла нашего дома. С улицы постучали. Опять загремел засов, и в сенях послышался приглушенный мужской голос. Человек спрашивал о чем-то хозяйку. Потом в комнату вошли люди. Хозяйка зажгла свет, и мы увидели здоровенного парня в промасленном ватнике, с коричневым, небритым, словно закопченным лицом и такими же руками. Он был в старой солдатской шапке, на которой еще темнело пятно от снятой звездочки.
— Извиняюсь, товарищи, — проговорил шофер. — Сиволобова Матвея Карповича с Заготзерна тут нету?
Мачехин посмотрел в мою сторону, вероятно думая, уж не я ли Сиволобов, которого ищут.
Шофер медлил уходить. Досадливо почесал затылок:
— Скажи, куда мог запропаститься? Сам нынче домой собирался. Велел непременно заехать. Значит, нету?
Я смотрел на парня и думал: до чего же беспокойная и бродяжная профессия — грузовые шоферы.
Парень, нарушивший наш покой, был, по-видимому, человек деликатный. На прощание он даже приподнял свою шапку над темными, давно не стриженными волосами и уже было потянулся к выключателю, чтобы погасить свет, как вдруг Углевич спросил:
— Вы сейчас куда едете, товарищ?
— Герасимовский район.
Углевич сел на койке:
— А само Герасимовское не будете проезжать?
— Да как же его объедешь? — улыбнулся шофер наивной неосведомленности приезжего.
— Значит, будете?
— Через него и поедем.
— Сейчас, сразу?
— Да когда же?!
— Сколько дотуда?
— Как поедем… — Шофер посмотрел в окно, за которым гремел грузовик. — Дорога-то сегодня… Ну да ничего, у меня цепи… Часа не больше как через три будем.
— Можно, я с вами? — спросил Углевич и резким движением спустил на пол худые ноги в голубых трикотажных кальсонах.
— Чего же… — неуверенно проговорил шофер. — Только у меня в кабине женщина с ребенком. Жена нашего помтеха автоколонны. Из больницы едет.
— Ничего. У меня дождевик, — твердо сказал Углевич.
Он уже натянул брюки и теперь энергично всовывал ноги в ботинки с резинками. В этот миг порыв ветра с новой силой ударил в окна дома, и стекла ответили ему дружным дребезжанием.
— Да куда же это вы, на такую ночь глядя, товарищ Углевич? — оторопел Мачехин. — Или, думаете, днем мы вас не довезем?
Иван скинул с головы одеяло и, как на чудо, смотрел на ревизора.
— День еще когда будет, — говорил тот, торопливо впихивая в портфель пакеты и коробки, вынутые из тумбочки. — А я уже утром буду там.
«И охота вам, действительно…» — хотелось сказать мне, но, вспомнив недавние колючие ответы ревизора, я промолчал.
Меж тем Углевич, уже надевший плащ, оглядывал койку и тумбочку, проверяя, не забыл ли он чего впопыхах.
Шофер терпеливо поджидал ревизора, наблюдая за ним с любопытством и даже с какой-то радостью.
Уже в дверях Углевич поклонился нам, на прощание забавно мотнув капюшоном.
— Ну, так. Желаю всего хорошего.
Они ушли. За окнами несколько раз взревел грузовик, лязгнули рычаги сцепления, прощально продребезжали стекла, и все стихло.
— Ну и тип, вот служба, — рассмеялся вдруг в темноте Иван. — Ну не чудак ли, в такую ночь в кузове поперся, лишь бы пораньше за бумаги засесть! Будто не успеет?!
Сетка на койке под Мачехиным скрипнула, чиркнула спичка.
— Ну, скажи, пожалуйста! — внезапно воскликнул он. — Кто бы мог подумать? И годы не умаяли, таким же остался.
— Воевали с ним, значит? — спросил я.
— Да так, — неуверенно ответил мой сосед.
— Кем же он служил?
— Начфином.
Собственно говоря, я мог и не спрашивать об этом Мачехина. Мне было ясно: Углевич — типичный начфин военного времени, буквоед и придира. Таких приходилось немало встречать на фронтах.
— «Прекрасный пример доблести», как говорил Швейк, — отозвался Иван. — Сразу видно — бухгалтер. Начфин — и все тут.
— Да нет, — вдруг как-то неожиданно задумчиво произнес Мачехин. — Это человек не совсем такой, как другие. Мы-то его, во всяком случае, на всю жизнь запомнили.
— Кто же это — вы? — поинтересовался я.
— Да мы, вояки некоторые.
— Чем же?
— Рассказывать долго. Спать надо.
Но спать никому не хотелось.
— Давайте рассказывайте, — заявил Иван.
— Давно это было. Во второй год войны, стоит ли вспоминать?
— Стоит!
— А может, и вправду интересно, — сказал Мачехин.
Он раскурил папиросу, в темноте багряным отблеском вспыхнуло широкоскулое лицо. Очень неторопливо, сперва как бы нехотя, начал:
— Во второе лето войны это случилось. Помните, наверное? Наступали мы. Харьков взяли. А потом что-то поломалось — стали отходить. Да все как-то второпях. Связь теряем. Зацепиться стремимся, а оно никак… А тут с утра попал наш полк в такую обработку — от батальона рота осталась, да еще слухи пошли про охват. А он нас фугасками да листовками посыпает. Ну, листовки, сами знаете, как мы употребляли, а с фугасками похуже.
В общем, остался я за старшего с группой в семь человек. Звание тогда имел еще сержантское. Приказ был простой: любыми средствами добираться до своих и на переформирование в новые части…
Не помню уж, какой день идем. Потрепанные, злые. Ну, вот так… Пробираемся небольшим леском, и вдруг выходит на нас из-за кустов военный. Худощавый такой, сутулый, уже немолодой. Вижу — старший лейтенант. Гимнастерка летняя, выцветшая, а брюки суконные. Наган на боку оттянул ремень вниз. Сапоги раструбом. Ну, совсем фигура не военная. Подошел, смотрит такими глазами, вроде не знает, с чего начать.
— Вы, — спрашивает, — куда следуете?
— До своих, — отвечаю.
— А знаете, где наши?
— Не знаем, но дойдем.
— Вы, товарищ сержант, старший?
— Я.
— Можно вас на минуточку?
А к остальным обращается:
— Извините, пожалуйста.
Хоть и не больно веселая обстановочка была, а ребята расхохотались: что, думают, нам за интеллигент такой попался?!
Отошли в сторону. Спрашивает:
— Вы член партии?
— Кандидат, — говорю.
Даже обрадовался вроде.
— Это, — говорит, — очень хорошо. — Вынул из кармана удостоверение: старший лейтенант Углевич. Начфин. И часть назвал.
И тут он рассказывает эдакую, можно сказать, не очень редкую историю: сопровождал он в тыл, как он их называл, ценные финансовые документы. Везли на волах. Ездовым был дедок с хутора. Ну вот, налетел стервятник и обоих волов уложил, а они со стариком как-то живы остались. Деда он домой отпустил, а сам забрал документы и один — дальше на восток.
— Прошу, — говорит, — товарищ сержант, разрешения к вашей группе присоединиться. Я с документами. С вами будет спокойнее.
— Много у вас их, документов? — спрашиваю.
— Ящик.
Как сейчас помню этот ящик… Он его в кустах заховал. Небольшой такой сундук. Обит железом. Сбоку — дверная скоба и замок болтается. Что у него, думаю, в этом ящике за документы такие… Но интересоваться не стал.
— Ладно, — согласился, — идемте.
— Я сам понесу, — говорит он. — Мне только чтобы не одному идти.
Помог я ему взвалить ящик на плечо. Почувствовал — далеко не протащит. Будет нам морока.
Вышли мы к ребятам.
— Вот, — говорю, — товарищ старший лейтенант со штабным имуществом отстал. С нами пойдет.
Вижу, они на него хмуро глянули. Подумали, наверное, что задержит он нас со своим ящиком!
Словом пошли. Углевич с ящиком на плече не отстает. Помощи ни у кого не просит. Но замечаю — идти старшому нелегко. Может и из сил выбиться.
Остановил я своих.
— Вот что, ребята, — говорю, — эту штуку по очереди будем нести.
Первым взял ящик Клепалкин. Низкорослый такой, крепкий паренек, из автоматчиков. Легко вскинул на плечо, автомат свой кому-то отдал и зашагал впереди. Но как ни бодрился — далеко не пронес, попросил сменить.
В общем, движемся понемногу. Где-то бахает близко, но где — не поймешь. Так и тащим ящик по очереди. А жара градусов тридцать, и так с ребят пот ручьем льет, а тут еще этот ящик! Но что будешь делать — приказ, идем, движемся. Но тут он догнал меня, пошел рядом и говорит:
— Вот что, товарищ Мачехин. Давайте носилки сделаем. По двое нести легче будет. А время, что потеряем на изготовление носилок, наверстаем тем, что быстрей пойдем.
Подумал я — дело говорит. Остановил ребят. Наломали жердей, кое-как их связали. Поставили на эти самодельные носилки ящик — дальше несем.
Трудно сказать, сколько мы за день прошли. Солнце уже на запад начало клониться. Меж рощиц проходим — видим, справа хутор какой-то небольшой показался. Был с нами такой Сидоркин, долговязый парень.
— Хорошо бы, — говорит, — сержант, в хуторок зайти, кваску хватим и салом, может, обзаведемся. Казачки — бабы добрые, а тут наверняка ничейная линия.
Я посоветовался со старшим лейтенантом. Спросил:
— Как думаете, если в хутор зайти? Может, и наши рядом?
— Если, — отвечает, — вы, товарищ Мачехин, мое мнение хотите знать, то, я думаю, этого делать не следует. Обстановки мы не знаем, а можем нарваться на передовые отряды немцев. Во всяком случае, я документами никак рисковать не могу.
Я как ложку дегтя проглотил. Думаю, здорово он отбрил меня, хоть и по-интеллигентному.
— Ладно, — говорю, — мы вот тут в балке привалим. А Сидоркину потихоньку огородами к хутору подобраться и проверить, что там делается.
Дал ему точное место, как нас найти, предупредил, чтобы осторожней был.
Ушел наш Сидоркин.
Сколько он ходил, трудно сказать. Часов, как назло, и у старшего лейтенанта не оказалось. Но вот, смотрим, бежит.
— В хуторе немцы, — говорит. — Два транспортера в тени у хат видел и солдаты ходят в шлемах. Черт те как и не заметили.
Поглядел я на нашего начфина. Вот те, думаю, история. Где же наши теперь? А Сидоркин продолжает:
— За селом перестрелка и миномет тявкает.
Екнуло у меня сердце. Кто там: может, ребята нашего батальона дерутся?
А старший лейтенант опять свое:
— Если моим мнением интересуетесь, то правильно будет на восток идти. До наших должно быть уже недалеко, а так мы только в засаду можем попасть.
Я не выдержал:
— Да как же уходить, а может, мы помощь оказать можем. У нас четыре автомата, если внезапно напасть…
Начфин даже в лице не изменился. Только угрюмей стал.
— Я в строевом деле, конечно, не специалист, — говорит, — но точных данных у нас нет. Что мы наделаем — не знаю, а себя обнаружим обязательно, и тогда уже нам никуда не пройти. Я, во всяком случае, должен приказ выполнить и документы куда следует доставить.
«Ах ты! — думаю. — Ну, что тут твои документы, когда с людьми неизвестно что делается».
А все же соображаю: прав он, толку от нашего налета никакого, а погубить всех — три минуты. Даю команду вставать и дальше двигаться.
Идем опять все лесом, а спиной чувствуем — догоняет нас враг: скорей до своих надо. Ребята хоть и меняются, хоть я и сам несу ящик, и старший лейтенант тоже, а вижу — из сил все выбиваются. Скомандовал. Присели закурить. Немец все ближе и ближе постреливает. Не дойти нам, чувствую, до своих с этим ящиком. Мешкать будем — вместе с ним к фашистам попадем. Подвинулся я к начфину и предлагаю:
— Давайте мы этот ящик в приметном месте замаскируем, как надо сховаем. Место запишем, чтобы не забыть, когда вернемся.
— Нет, — говорит. — Я этого не могу. Мне без документов являться нельзя.
Взяла меня внезапная злоба.
— А если никто из нас до своих не дойдет, что тогда будет? — спрашиваю.
Он мне тоже вопросом:
— А если вы, сержант Мачехин, один, без подчиненных до своей части доберетесь?
— Ну, — говорю, — черта с два! Так быть не может.
— Вот и я без доверенных мне документов не могу явиться.
Что ты с ним будешь толковать, такой формалист!
— Извиняюсь, вы кем до войны работали? — спрашиваю.
— А разве это имеет какое-то значение? Что же, пожалуйста, бухгалтером.
— Спасибо, — отвечаю ему. — Больше вопросов не имею.
Тут этот самый Сидоркин в наш разговор встрял:
— Если вы, товарищ старший лейтенант, боитесь, что вас в чем-то обвинят, так мы все, сколько тут нас есть, с полными фамилиями и рядовыми своими званиями, вам бумагу подпишем, что ящик в запечатанном виде спрятан, и вы чисты будете.
Он только побледнел, Углевич.
— Нет, — говорит, — этого не будет.
Вижу, дело принимает нехороший оборот. Встал, скомандовал дальше идти.
А мины где-то совсем близко от нас шлепаются, уже это самое «хлюп, хлюп» слышно. И не знаем, откуда, кто бьет и далеко ли наши или совсем рядом? Нервы на самом пределе. Может, мы за линией фронта? Как к своим перейдем?
Тут Сидоркин, который в это время нес ящик, притормаживает и говорит:
— Давайте мы этот сундук гранатами, чтобы вдребезги. Тогда наверняка врагу не достанется.
А из ребят кто-то еще:
— И верно, ну его! Сам не знаешь, еще себя не придется ли?..
Начфин услышал это — и к ящику. Схватил его своими худыми руками.
— Не дам! — кричит. — Если не можете дальше нести, сам один с ним пойду. Только попрошу вас, товарищ сержант, две гранаты выдать. Ящик уничтожу, когда настанет необходимость.
Потом отвел меня в сторону — и уже спокойно, а губы бледные:
— Я, товарищ Мачехин, как и вы, коммунист, и долг свой, стало быть, выполню.
Просто это так, даже душевно сказал. Глянул я на него. Вижу, человек не шутит. Взял я и сменил Сидоркина. Сам для примера спереди у носилок встал. Остальные ребята слова не сказали. А Сидоркин не унимается, подошел ко мне и эдак со смехом говорит:
— И чего у него в этом гробу? Может, денег много? Боится, оставить — судить будут. А кто в этой обстановке судить за такое станет? Города, заводы оставляем… А тут что — бумаги.
Старший лейтенант сразу же ему:
— Вы, товарищ красноармеец, зря все это говорите. В ящике ценные бумаги, а какие, я доложу кому нужно, когда на место прибудем.
Сидоркин ничего не ответил, только рукой махнул.
Солнце уже книзу. Если дотемна своих не нащупаем — ночевать нужно. Ночью пустяк с пути сбиться, к немцам угодить. В темноте и тот, кто эти места знает, потеряется.
Только я это подумал, как вдруг меж берез впереди блеснула река.
— Дон, Дон!..
Чуть ли не разом закричали. Знали мы — за Доном где-то наши. Хоть и не велика, и не больно глубока река, а все — рубеж, и значит, здесь наши насмерть должны стоять.
Увидели мы Дон, и, знаете, будто сил у нас сразу прибавилось. Кругом свистит, а у нас на душе повеселело. Подошли к реке, спустились к воде. Теперь бы только переправу, мостишко бы какой сыскать. Посылаю ребят — ищите мост или там что-нибудь.
Наверное, десяти минут не прошло, возвращается один, запыхавшись.
— Есть, — кричит, — переправа! Метров четыреста отсюда. Мост саперами налажен, возле него солдаты. Наши, я видел.
Ну, едва мы других разведчиков дождались. Наш коротыха Клепалкин по собственной инициативе ящик с носилок на плечи и бегом по берегу…
Мачехин вдруг замолчал и захлопал рукой по тумбочке, по-видимому отыскивая папиросы и спички. Мы ждали. Наконец он закурил.
— Да, только черта лысого мы успели. Метров еще двести не дотянули, а мост на наших глазах в воздух взлетел. Как увидели мы этакое зрелище, худо нам сделалось. Если уж саперы мосты взрывают, значит, наши отошли, а немец на пятках. А мины так и ложатся возле моста. Из тихого Дона только фонтаны! Будто браконьеры рыбу глушат.
— Переправляться надо. Вона как кладет! — кричит Сидоркин. — Кто переплыть не может, пускай идет к мосту, доски себе найдет.
Ребята без команды винтовки на землю, и кто гимнастерки стягивает, кто уже портянки разматывает. Только старший лейтенант стоит без движения. На меня смотрит:
— Что же с ящиком делать будем?
А кто-то прямо так:
— Своя шкура дороже. Какой тут ящик?!
Я — что мне врать теперь, — честное слово, не знал в ту минуту, что и делать. А Углевич этот:
— Плот вязать нужно. Лес есть. Вот мы ящик и переправим.
Сидоркин, уже почти голый, связывает свою амуницию:
— Новое, — говорит, — дело. Пока мы тут плот вязать будем, он нас всех перебьет и вместе с ящиком червей кормить останемся!
И вдруг, знаете, как взглянул он на Углевича, так сразу и осекся. Уж что с нашим старшим лейтенантом произошло — не знаю. Только, смотрю, кинул Сидоркин свои пожитки и как-то так, не своим голосом:
— Пакуйте, я брод поищу! Должен здесь по моему росту брод быть.
И что вы думаете? Походил-походил по воде и нашел брод! Вылез, подбежал к нам, схватил ящик и с каким-то шутовством:
— Спасайся кто может! Несите мое обмундирование.
Потащил ящик в реку. Вода ему до подбородка, а момент — над водой только руки жилистые да ящик. И кажется — это не он несет, а сам ящик держится. Так и не бросил, вытащил на тот берег. Опустил на песок. Потом говорит:
— Пожалуйста, товарищ старший лейтенант, ваш ящик с штабными бумагами…
Перебрались мы на тот берег и как-то вроде и совестно нам, и радостно. Теперь каждый ящик хватает, хочет нести.
В общем, к темноте мы уже были среди своих. В хуторке поели чего-то и свалились спать под вишнями.
Наутро добрались мы до начальства. Доложил я, откуда мы и кто. Собрали нас в какой-то сад, велели назначения ждать. Тут и пришло время прощаться. Старший лейтенант нам всем руки пожимал.
— Ну, — говорит, — спасибо, товарищ Мачехин. Может быть, еще и увидимся.
И, знаете, так это сказал, будто ничего такого особенного и не произошло. Вроде как бы мы в одном поезде всего-навсего ехали.
Сидоркин вызвался дотащить ящик до штаба тыла. Видать, разбирало его любопытство, хотелось узнать, что за ценные бумаги в ящике. Вернулся он к обеду, а то и позже. Задумчивый какой-то пришел. Таким я его и не видел раньше. А на лице будто виноватая улыбка.
— Знаете, — рассказывает нам, — что у него в этом ящике оказалось? Думаете, денег тыщи или карты секретные какие? Бумаги исписанные да ведомости разные, и все. Я не выдержал: «На кой же, говорю, черт, товарищ старший лейтенант, вы со своей этой писаниной жизнью рисковали?» А он на меня этак глянет сычом: «Это не писанина, товарищ Сидоркин, а финансовые документы. Копии денежных аттестатов на весь комсостав полка. Если бы мы их там оставили, могло бы получиться, что жены и дети командиров в тылу на долгое время денежного содержания лишились бы».
Рассказал нам это Сидоркин, и вот, скажу вам, такое у нас у всех состояние получилось: друг другу в глаза смотреть стыдно. Выходит, человек не того боялся, что его к ответу потянут, а о незнакомых людях в такой обстановке думал.
В общем, вот она и вся недолгая история… Пришлось нам потом с этим Сидоркиным всю сталинградскую войну в катакомбах у Волги просидеть. Оба мы, правда, целы остались. И вот, одни сутки, можно сказать, мы с этим старшим лейтенантом Углевичем на фронте прожили, а всегда он нам потом помнился.
Мачехин опять чиркнул спичкой. Папироса его давно погасла.
— С тех пор я его больше не видел, а оно вон где пришлось встретиться.
Мачехин умолк. Мы с Иваном тоже молчали. На улице по-прежнему свистел ветер.
Проснулся я, когда было уже совсем светло. Запотевшие стекла туманно белели в расплывчатых лучах холодного осеннего солнца. Ветер стих, и дождь перестал.
Мои товарищи уже не спали. Иван, сидя на койке, хмуро натягивал сапоги. Мачехин, вернувшись из сеней, вытирал вафельным полотенцем раскрасневшееся лицо и руки.
К тому времени, как я стал одеваться, он уже натягивал на лоб свою не просохшую за ночь фуражку.
— Ну, до свиданьица, — сказал он. — Надо разворачиваться. С сахаром у нас затор. Требуется сегодня непременно доставить.
Он приложил руку к козырьку и деловито вышел из комнаты. Дробь каблуков его коротко простучала по ступенькам крыльца.
Вскоре вошла хозяйка:
— Чай кто будет пить? Самовар ставить? — спросила она.
— Ну его, с чаем, — отмахнулся Иван. — Я на попутную, и домой. Отпуск сегодня кончается. Надо прибыть вовремя.
Я сказал, что тоже не буду пить чай.
Удовлетворенная нашим ответом, хозяйка кивнула головой и вышла. Вероятно, ей не доставляло особого удовольствия возиться с чудовищем-самоваром.
Минут через десять ушел со своим чемоданом Иван, сегодня вовсе уже не такой картинный, как вчера вечером. С утра говорил он мало, фразами из Швейка не щеголял и был озабочен тем, удастся ли ему скоро сыскать машину в свою сторону. Намерение нагуляться вдоволь Иван, видимо, оставил.
Я принялся накручивать ручку допотопного телефона и, дозвонившись до райисполкома, стал требовать, чтобы мне немедленно дали машину, так как не мог больше понапрасну терять время. Просьба моя была наконец удовлетворена, и вскоре я покинул гостеприимный дом для приезжих.
Районный центр Герасимовское я проезжал в обеденное время. На пустынной центральной улице, через которую проходил наш путь, я заметил знакомую сутуловатую фигуру в черном плаще с откинутым назад капюшоном. Углевич задумчиво шагал к чайной. Вероятно, по пути он заходил в районный универмаг, потому что нес под мышкой большую детскую книжку в яркой обложке. Может быть, это была одна из тех книг, которые редко удается приобрести в городе. Я не окликнул его, и он меня не заметил, погруженный в свои мысли. Мне хотелось есть, и за несколько минут до этого я намеревался завернуть к чайной, но, передумав, решил ехать прямо до глубинного совхоза — конечной точки моей командировки.
На обратном пути я Углевича не встречал.
АНЕЧКА
Федору Абрамову
Директор приехал в институт задолго до девяти. Он поднялся на второй этаж и, нажимая на ходу кнопки выключателей, прошел в непривычно пустынную приемную. Старое шведское бюро секретарши стояло наглухо закрытым.
Когда он обыкновенно сюда входил, Анечка — она всегда была на месте, — привстав, отвечала на приветствие. Он протестовал — зачем она встает?! — но напрасно. Секретарша к этому безнадежно привыкла.
Ключом, врученным ему вахтером, директор открыл дверь и вошел в кабинет. На стол с мягким звуком шлепнулся черный, под крокодиловую кожу, портфель на молнии. Директор зажег свет и подошел к окну. За окном еще дымилась утренняя туманная синь. Стекло могло служить зеркалом. Он огляделся и остался доволен собой: в стекле отражался еще молодой мужчина в элегантном пиджаке. Снежно белел воротник сорочки. Широкий галстук — приобретение, сделанное во Франции во время командировки, — узорился лиловым отливом.
С утра он ждал вызова к высокому начальству и потому хотел сегодня выглядеть чуть торжественней обычного. Он руководил институтом уже несколько лет и знал, что там, «наверху», отдавалась дань и внешней привлекательности.
Директорское отражение тонуло в глубине рассвета, но синь еще не растаяла за окном, придавая начинавшемуся дню сумеречное настроение. Хотелось смыть ее одним движением руки, подобно тому как художник взмахом кисти светлит акварель. Хотелось, чтобы заголубело небо, заискрился снег на крышах домов, что бестолковой толпой коротышек обступали вытянувшиеся к облакам здания новой Москвы.
Он подошел к столу. На листке откидного календаря зелеными чернилами было перечеркнуто то, что надо было сделать вчера. Директор перевернул листок.
В начале недели он закончил статью, посвященную идее проведенного эксперимента. Статью ждали в редакции журнала, автора поторапливали. Статью, как и все его работы, перепечатывала секретарша Анечка. Перепечатывала на своей машинке дома, с той тщательностью и графическим блеском, которая отличает машинисток — истинных художников своего дела.
Лет пятнадцать назад — нет, побольше, — он обратился к ней с просьбой напечатать диссертацию. О «легкой руке» Анечки в институте ходили легенды. Она посмотрела на него своими будто подсиненными глазами и, вздохнув, сказала: «У меня до черта работы, Саша, но вам я сделаю». Как она успела закончить к сроку, он не знал. Возможно, не спала ночей, но работа была выполнена отлично. В те годы он был еще стеснен в средствах, но кроме гонорара преподнес Анечке коробку шоколадного набора. Сперва она отказывалась, повторяла: «Ну к чему это, к чему…», — но потом приняла и сказала: «А впрочем, как раз вовремя, спасибо…»
Диссертация прошла с блеском. С тех пор он навсегда уверовал в волшебную силу Анечкиной руки. С годами из Саши он сделался Александром Павловичем, а затем и главой института. Технический секретарь осталась той же милой Анечкой. Наверное, она бы даже удивилась, если бы ее стали звать иначе.
Шло время, «сверху» не звонили. Он подумал о том, что Анечка, вероятно, уже принесла статью, было время перечитать ее и поставить подпись.
Он нажал кнопку вызова, пристроенную справа под столешницей. Именно с этой минуты и начались неожиданности дня.
Вместо предупредительной Анечки в кабинет вошла девчонка в свободно сидящем мохнатом свитере, из-под которого снизу, едва сантиметров на десять, выглядывала клетчатая узенькая юбка. Стройные ноги были обуты в бордовые, чуть широковатые для них сапоги. Едва ли ей было лет семнадцать. Во всяком случае так она выглядела. Округлое лицо, придававшее сходство с симпатичным котенком, тонуло в высоком вороте свитера.
Девчонка старательно прикрыла за собой двери и сказала:
— Здравствуйте. Вы — Анну Петровну? Я сейчас за нее. Она заболела.
Это было новостью. Аня, кажется, вообще никогда не болела. Во всяком случае, он не запомнил, когда она не выходила на работу. И отпуск Анечка брала только тогда, когда уезжал отдыхать он. Были, правда, дни — ее заменяла сухая и предупредительная Вера Платоновна из отдела кадров, но это случалось редко.
— А что с… — он вовремя остановился, едва не сказав: «с Анечкой». — Что с Анной Петровной?
— У нее сердце… Что-то с сердцем.
Щеки девочки зарозовели. Она не могла объяснить, что случилось с секретаршей. Болезни и недомогания были так далеки от этого юного существа, что она не знала, как они называются.
— Гм, гм, с сердцем… — проговорил директор, продолжая разглядывать вошедшую. — Значит, вы сидите за нее… разве больше никого нет?
— Я не знаю. — Она едва заметно пожала плечами под широким свитером. — Анна Петровна звонила, попросила… Она сказала, день-два… Меня зовут Люда. Я у вас курьером работаю.
— Ах, вот что! Курьером? Что ж, будем знакомы. Вы недавно у нас? Ну-ка, садитесь. — Директор указал ей на кресло по ту сторону стола. — Да, да, я подписывал приказ, там было о курьере… Недели две тому назад, так ведь?
— Три, — поправила девушка, опускаясь в кресло. Округлились ее колени, обтянутые колготками. — У меня испытательный срок…
Он не мог не заметить: усаживаясь, она бросила взгляд на его галстук. Галстук, по-видимому, ей понравился. Директор вспомнил курьера — знаменитую Глафиру Никитовну, работавшую задолго еще до того, как он переступил порог институтского старого здания. Куда она делась, хлопотливая старушка с потрепанным школьным портфельчиком под мышкой, придававшим курьерше забавно деловой вид? Были потом и другие курьеры, но стерлись в памяти. Но Глафира Никитовна в ее неизменной синей вязаной кофте, с дешевенькими серьгами в ушах, Глафира Никитовна — она всегда поправляла тех, кто называл ее «Никитична», — постоянно куда-то спешащая по институтским коридорам или отправлявшаяся в поход по столице… Как же не был схож с нею этот современный курьер в трико цирковой гимнастки!
Приглушенно заверещал телефон.
— Филиал, — сказал директор, кинув взгляд на столик справа, где теснились разноцветные аппараты, и досадуя на то, что сигналил не тот, чьего звонка он дожидался.
— Минуту, — предупредил он в телефон и, не опуская трубки, снова обратился к уже поднявшейся из кресла Люде: — Я сейчас пойду в группу. Меня должны вызвать по вертушке. Пожалуйста, никуда не отлучайтесь. Как только спросят, звоните в лабораторию. Вы знаете, где меня найти?
— Знаю. Внутренний телефон сто девяносто семь.
Директор удовлетворенно кивнул. Ему не могло не понравиться, что эта девчонка, работающая в институте, что называется, без году неделю, знала, где и как его разыскать, если это внезапно потребуется. Он еще раз наклонил голову, давая понять, что она может идти.
Выслушивая по телефону доклад заместителя, директор посмотрел вслед девушке. Походка была легкой, во всей фигуре ощущалось изящество, как бы нарочно скрываемое мешковатостью свитера.
Двери за Людой закрылись. Затворила она их осторожно, без малейшего шума, и это внимание пришлось по душе директору. Не успел он положить трубку, как раздался звонок. На этот раз вызывали из города.
— А-а, больная, — мягко заговорил он, услышав голос секретарши. — Что же это вы? Вот уж, что называется, непорядок. Надеюсь, не всерьез? Вы же никогда…
— Да нет, бывало, Александр Павлович, — сказала Анечка несколько глуховатым по сравнению с обычным тоном. — Вчера вечером прихватило. Сестра вызвала неотложку. Ну да, кажется, ничего. Давление уже терпимо… День-два можно еще мне? Не погибнете?
— Погибнем. Обязательно погибнем… Что за вопрос, Анечка. — Директор было хотел сказать, что он готов ждать и больше, была бы она здорова, но секретарша перебила его:
— Александр Павлович, работу я вашу все-таки закончила. По-моему, все хорошо.
— Спасибо, — сказал он. Это «спасибо» скорее всего относилось вовсе не к тому, что Анечка закончила перепечатку статьи, а к брошенному ею: «по-моему хорошо». Разумеется, в научных вопросах секретарша разбиралась мало, но было у нее что-то такое… Если Анечка говорила «дело» о работе, которая ей попадалась в руки, почти не бывало случая, чтобы автора ждали огорчения. И он, директор, несмотря на достаточно прочное научное положение, всякий раз, закончив ту или иную статью или доклад и вручив их Анечке, с нетерпением ждал часа, когда секретарша произнесет свое успокаивающее словечко.
— У меня все готово. Люда может заехать, — между тем продолжала она. — Хотя… Хотя как же вас там оставить одного…
— Не тревожьтесь, Анечка, — сказал директор. — Мы что-нибудь придумаем. Будет время, пришлю Володю. Дайте-ка на всякий случай ваш адрес.
— У Люды есть, но пожалуйста, Александр Павлович…
Он переложил трубку в левую руку и, взяв фломастер — подарок чешских коллег, — стал записывать. Адрес был долгий. Анечка жила в новом, далеком районе. Пахнущая спиртом зеленая дорожка побежала по листу бумаги, почти целиком заполнив его.
— Как вам Люда? Она была у вас? — спросила секретарша, окончив диктовать. — Вы не беспокойтесь, Александр Павлович, способная, старательная девочка. Я нарочно посадила ее. Давайте попробуем… В случае чего позвонит мне. Телефон возле кушетки. Как она вам понравилась?
— Милая Анечка, — коротко рассмеялся директор, — и это спрашиваете вы, можно сказать, мой первый заместитель, что же я могу понять за пять минут в этом Коте в сапогах!
— Хорошая девочка. Вы убедитесь, — повторила секретарша. Говорила она все-таки нелегко, с паузами и придыханиями, которые особенно заметны при разговоре больного человека по телефону.
— Отдыхайте. Отдыхайте, пожалуйста, прошу вас. Мы уж как-нибудь с вашей выдвиженкой. До скорой встречи, Анечка!
Разговор был окончен. Упершись руками о стол, директор поднялся. Еще раз бросив взгляд на другой, обидно молчавший аппарат, он подошел к шкафу и, растворив его обе створки, снял с вешалки халат.
Натягивая его, он нарочно медлил, однако звонок так и не послышался. Директор покинул кабинет.
Лишь только успел раскрыть двери в приемную, Люда поднялась из-за бюро.
— Сиди, сиди, — протестующе замахал рукой он. — Я пойду. Значит, все ясно? По пустякам звонить не нужно.
Уже идя по коридору, он мысленно сделал себе замечание. С какой это стати взял и обратился к ней на «ты»? Какая дурная и как прочно въевшаяся привычка!
Был седьмой час, когда директорская «Волга» отделилась от строя машин, наискось свесивших свои зады возле внушительного, полного света здания.
День прошел в напряженном ожидании. «Наверху» директора приняли только к вечеру. Однако все получилось именно так, как он надеялся. Сообщение о проделанном эксперименте вызвало живой интерес. Директор возвращался домой в преотличном настроении.
На перекрестках подолгу стояли в ряду машин под светофорами. Он мучительно припоминал, что ему сегодня весь день не давало покоя, что еще не было сделано?
Анечка! Вспомнил внезапно, как только «Волга» в стаде себе подобных рванулась через улицу. Конечно же Анечка! Статья. Нужно сейчас же ее прочитать. Занятый сперва в лаборатории, а затем наконец вызванный «наверх», он так и не послал никого за перепечатанной рукописью. Директор расстегнул пальто и, сунув руку в боковой карман пиджака, нащупал там гладкий, вчетверо сложенный лист. Это был адрес Анечки. Удачно, что он захватил его с собой.
— А ну, Володя, — коснулся он локтя шофера, — встань где-нибудь на минуту.
Не сразу нашли место, где можно было остановиться. Ярко засветилась белая кнопка в потолке автомобиля. Вместе с водителем стали они разглядывать записанное с утра.
— Далеко? — спросил директор.
— На машине все недалеко, — уклончиво ответил Володя. — Возил я ее, знаю. Последняя станция метро. Оттуда рядом.
— Давай поехали! — Он любил принимать быстрые решения. — И вот что, заверни к какому-нибудь гастроному.
Но с магазинами не везло. Возле одних запрещалось стоять машинам, в других толкалось множество покупателей, а терять время на очереди директор не любил. И тут где-то по пути они увидели продавщицу цветов.
— Отлично! Стоп! Кажется, ландыши…
Подрулили к тротуару, и Володя побежал за цветами. Вернулся он запыхавшись, с тремя букетиками. Передавая ландыши, сказал:
— Кончаются. А тут как саранча налетели.
— Ну и молодец. Отлично. Теперь жми, — приказал директор.
Машина вышла на широкую автостраду и полетела вперед, минуя один за другим линейно ровные кварталы-близнецы.
Так как до подъезда Анечку никогда Володя не доставлял, некоторое время еще ушло на поиски нужного корпуса в сложном лабиринте новостройки. Однако вскоре директор уже поднимался по лестнице пятиэтажного дома, построенного без лифта.
Анечка жила на четвертом этаже. Единственная кнопка звонка свидетельствовала о том, что квартира была отдельной. Вероятно, однокомнатная, подумал почему-то про себя директор. Он поправил кашне, выбившееся из воротника пальто, и нажал кнопку.
Послышались шаги, и дверь распахнулась. За нею стоял долговязый, чуть ссутулившийся от своего роста парень в спортивной куртке в два цвета. Он с некоторым удивлением смотрел на звонившего.
— Мне бы Анну Петровну. — Он поймал себя на том, что опять чуть не сказал «Анечку». Впрочем, был убежден, что спутал номер квартиры и попал не туда, куда нужно, и повторил: — Анну Петровну Камгину.
— Здесь, проходите, пожалуйста, — буркнул низким голосом юноша, не выразив на еще безусом лице ни приветливости, ни недовольства.
— Тетя, к тебе пришли, — пробасил он, повернувшись к двери со стеклом, на котором желтым масляным пятном расплылся отблеск светильника.
— А-а, — послышался оттуда голос, — это, наверно, от Александра Павловича. Кто там, это Володя?
— Нет, это сам Александр Павлович, — сказал директор.
— Боже мой! — удивленно и несколько испуганно воскликнула за дверью Анечка. — Проходите же, пожалуйста, Александр Павлович… Сережа, помоги снять пальто.
С портфелем в руках директор вошел в комнату, где пахло валерьяновыми каплями. Комната была маленькая, чем-то напоминала каюту. Анечка лежала на раскрытом, занимавшем едва не треть площади диване-кровати, под клетчатым пледом, рядом — раскрытый толстый журнал. Порываясь встать, Анечка спустила ноги в плотных чулках на пол и стала шарить ими, отыскивая притиснувшиеся к дивану домашние туфли. Но директор остановил ее.
— Анечка, умоляю вас, лежите!
Он даже коснулся рукой ее плеча. Она не была похожа на больную. Волосы по-обычному прибраны назад под заколку. Если бы не бледность лица, Анечка не отличалась бы ничем от той, какую он видел всегда.
— Тогда, прошу, садитесь и вы, Александр Павлович. Сюда, в кресло.
Повинуясь, он опустился в низенькое кресло-скорлупку и сразу же почувствовал себя свободнее. Между ними оказался полированный столик. На нем — телефонный аппарат с длинным, протянутым из коридора шнуром и большая стеклянная пепельница: Анечка курила. Возле пепельницы теснились пузырьки и коробочки с лекарствами. На диване рядом с больной — пачка сигарет и спички.
— Что же это вы так, курительница, не похоже на вас. А как сейчас?
— Лучше. Вот велели полежать и попринимать какую-то гадость. Бр-р-р-р. Не терплю… Сердце, сердце, Александр Павлович… Да что об этом, оставим. Кого это интересует…
Разговаривая, он продолжал оглядывать комнатку. У окна на другом столе примостилась прикрытая черной клеенкой старомодная машинка. Рядом с ней директор узнал потолстевшую красную папку со своей статьей. Еще в комнате был полированный, как вся мебель, шкаф, видимо служивший и гардеробом, и книжными полками библиотечки. Над диваном висели какие-то фотографии и небольшая застекленная репродукция пышной ренуаровской красавицы.
Во всей комнатке ощущался какой-то стройный и обжитой порядок. Свет от торшера падал на диван-кровать и придавал обстановке теплый уют. Но это был какой-то неженский уют. Не было ни туалета с пахучими флаконами, ни мелочей обихода, которые женщины так любят повсюду разбрасывать. И тут директор спохватился:
— Да, вот же вам, Анечка!
Он раскрыл портфель и вынул три помятых букетика.
— Спасибо, очень тронута, — улыбнулась секретарша. Она обхватила букетики двумя руками и наклонила голову. — Пахнет весной. Прелесть! Нужно сейчас же в воду… Света, Светочка! — закричала она в дверь.
И сейчас же оттуда появилась большеглазая девочка лет семи, с бантом, концы которого, как лопасти вентилятора, торчали за ее тоненькой шеей.
— Здравствуйте, — серьезно сказала девочка.
— Света, будь любезна, возьми вот ту вазочку и налей воды.
Девочка снова кивнула и, забрав вазу, ушла.
— Вы спешите? — спросила Анечка. — Отчего приехали сами? Вот уж не ожидала.
Директор улыбнулся:
— Интересно. Должен же чуткий руководитель знать, как живут его верные помощники.
— Вот так и живут. — Анечка сделала округлый жест, как бы демонстрируя свою комнату.
— Симпатично, — не найдя более подходящего слова, проговорил директор.
— Да, теперь ничего.
Меж тем, девочка вернулась, молча поставила на стол наполненную водой вазочку и так же молча удалилась.
— Моя внучка, — сказала Анечка, освобождая букетики от ниток и расставляя цветы в вазе. — Очень самостоятельная особа. Ходит в первый класс. Ни за что не позволяет ее провожать. Ну да у нас тут рядом.
— Внучка? Неужели правда, Анечка?!
— Не совсем, конечно, — поспешила секретарша. — Двоюродная, или, как там называется, внучатая племянница. Потомство сестры. Но все равно внучка. Именуюсь бабушка Аня.
— Не рано ли? — бросил директор.
— Нет, в самый раз. Ничего не поделаешь. — Анечка подчеркнуто вздохнула. — Родители далеко. Заняты более серьезными делами. Свету воспитываем мы.
В дверь постучали. Вошел тот самый парень, который отворял двери. Он был уже в пальто.
— Тетя Аня, я на тренировку. Если задержусь, скажешь маме, чтобы не беспокоилась.
— До которого часа? — строго спросила Анечка, вглядываясь в лицо юноши.
Тот пожал плечами.
— Не знаю. В общем, приду.
Дверь за ним затворилась. Затем щелкнул замок в дверях на лестницу.
— Сережа! — крикнула с запозданием Анечка. — Ах, шляпа я, не познакомила вас. Между прочим — самбист, чемпион среди юниоров.
— Да мы вроде уже… Племянник?
— Да. Без ума от этого самбо.
И вдруг Анечка спохватилась:
— Александр Павлович, может быть, кофе?
— Нет, нет. Ни в коем случае. Я вот так. — Директор провел ребром ладони под подбородком. — И не думайте… Сейчас двинусь. Богатая вы, и племянники, и внучата.
Анечка вдруг сделалась очень серьезной. Негромко, с какой-то жестокой откровенностью сказала:
— Знаете, своей жизни у меня в общем не было, а главой семьи стала чуть ли не в семнадцать лет. Так получилось, когда мы остались без отца. Был еще младший братишка. Мама была добрым, но беспомощным существом. Сестра вышла замуж и уехала. Друг отца помог мне устроиться в институт. Я выучилась печатать и стала секретарем. Думала — недолго, а вышло… — Она подняла глаза и улыбнулась. Глубокие морщинки легли по сторонам рта и скобочкой собрались на переносице. — Надо было учить брата, и я работала.
— Учиться самой не было возможности?
— Когда же? Знаете, что такое жить на зарплату секретаря… Я печатала. Ой сколько я печатала! Работала по воскресеньям и по ночам. За свою жизнь я, по-моему, перепечатала целую библиотеку.
— М-да, — как-то неопределенно уронил директор.
— Говорили, что я была способная. Хотела стать юристом. Но вы не думайте, я не очень-то страдала. Была молода.
Внезапно она умолкла. Короткое время оба не говорили ни слова. Стало слышно, как за стенкой, сверху и снизу одно и то же бормотали телевизоры. И тут Анечка увидела, что директору интересно ее слушать. Не глядя на него, она продолжала:
— Я долго в жизни ждала. Был жених. Ушел на войну со студенческим ополчением. Пропал без вести… Я верила, годы верила — вернется. Не вернулся. Потом стала старовата, невест был перебор. У сестры семейное счастье не сложилось. Жили они с мужем плохо, но жили, и все-таки потом разошлись. Мы съехались с ней. Теснились впятером в одной комнате на Якиманке. Сестра болела, и я опять стала основой семьи.
Директор молчал. Что он еще мог? Сказать Анечке, что она молодец, что он ничего подобного не ожидал? Похвалить ее? Нет, это было бы совсем глупо. Он смотрел на ее руки, нервно отложившие в сторону журнал. Вот этими тонкими пальцами, с колечком на одном из них, она перепечатывала тысячи страниц, чтобы поддержать мать, братьев, семью сестры. Сколько ей было лет? Удивительно, но он никогда об этом не задумывался. Он попытался представить себе Анечку молодой — и не смог. Она никогда не казалась старой. Сослуживцы в институте называли ее кто Аннушкой, кто Нюрой. Кто-то из профессоров на французский лад — Аннет, прочая научная братия — Анечкой, буйногривая ироническая молодежь — Железным Канцлером. Вряд ли этим бородатым гениям приходило в голову, что Анечка была уже бабушкой. Что-то не помнилось, чтобы отмечали какой-нибудь ее юбилей. Может быть, она не хотела того сама?
Анечка взяла со столика сигареты. Она знала, что директор не курит, но все же предложила ему. Он отказался и хотел дать ей огня, но Анечка уже чиркнула спичкой, наклонилась к огню и, опустив ресницы, по-мужски втягивала в себя дым.
— Ну а позже, разве не было возможности?
Она поняла, о чем он спрашивает. Она всегда очень быстро понимала.
— Учиться? Была возможность, даже собиралась на заочный. Но профессор Везель готовил докторскую и просил меня помочь. Ни за что не хотел никого другого. Ох и была пудовая эта диссертация! Я неплохо заработала, но опоздала с документами. Потом — война…
— Везель стал доктором и получил премию.
— Да, ему повезло, — сказала Анечка, пустив дым и выпятив при этом нижнюю губу. — Но я тоже осталась не в уроне. Перепечатывала диссертацию дважды. Как раз совпало с отпуском. — Она снова затянулась. Исчезли морщинки возле губ. — И потом… Знаете, Александр Павлович, чертовски приятно чувствовать себя хоть капелечку причастной к настоящему делу. Я ночи не спала, ожидая сообщения о лауреатах… Ведь мы знали и ждали, а Григорий Михайлович принес мне цветы. Белые розы. — Она вздохнула. — Славный был человек.
— Мы потеряли серьезного ученого, — сказал директор.
Он смотрел на секретаршу, и странный вопрос не давал ему сейчас покоя. Была ли Анечка красивой? Нет, кажется, никогда. Но ведь этого никто не замечал. Она была именно такой, какой ей надо было быть, и вообще будто не менялась с годами.
— Войну я встретил мальчишкой, — неизвестно с чего сказал он.
— Разумеется, — кивнула Анечка. — Вам тоже повезло.
Он понял, что допустил бестактность, но было уже поздно. Однако Анечка не придала тому значения. Она продолжала:
— Я ведь не была в эвакуации. Я оставалась здесь. Институт выезжал в октябре, впопыхах. Вывезти все было невозможно. Снялись чуть ли не за сутки. Остались только мы с Глафирой Никитовной да еще сторож. В здание вселились интенданты. Знаете, чего мне стоило не пустить их в комнаты, куда мы стаскали весь архив!.. — Неожиданно она рассмеялась, умело потушила в пепельнице недокуренную сигарету. — Из тыла я получала письма. Меня называли «наш фронтовой директор». Ведь оттуда Москва казалась фронтом. Мои домашние тоже застряли здесь. Ничего, пережили…
Директор вдруг вспомнил — ему рассказывали. В грозные для Москвы дни многие из институтских растерялись. Анечка держалась спокойно. Профессору Везелю, тогдашнему главе института, она сказала: «Вы можете не волноваться, Григорий Михайлович, я сохраню все… Ну, а в случае… Покажите мне, что нужно уничтожить в первую очередь». Везель поверил Анечке, тогда совсем еще молодой. Архив сохранился в неприкосновенности. Кто же ему обо всем этом рассказывал?.. Теперь уже немного оставалось сотрудников института, работавших с довоенных лет.
И вдруг Анечка как бы стряхнула ворох воспоминаний, перешла к настоящему.
— Александр Павлович, — спросила она, щурясь в сторону директора, — как вам эта девочка? Не правда ли, сообразительная? Горжусь — моя находка. Будем ее готовить. Заменит меня хоть завтра, и не почувствуете.
— Ну-ну-ну! — активно запротестовал он. — Что вы! Без вас? Нет, не представляю. Да нет, просто невозможно.
Секретарша взглянула на него, усмехнулась. Видно, ей понравился искренний испуг шефа.
— Возможно, Александр Павлович, еще как возможно. Мне ведь скоро на пенсию… Да, да! Старушка, ничего не попишешь. Распрощаюсь со своим шведским бюро, найду какое-нибудь легкое дело. Буду продавать театральные билеты в метро. Может, и встретимся…
Несколько сдержанная в институте, она, кажется, впервые говорила с ним в столь шутливом тоне. Она была дома. Смеясь, коснулась его руки.
— Да вы не тревожьтесь. Я еще поработаю, а Люда… Увидите, из нее выйдет толк.
Решительным движением Анечка откинула к стене плед и спустила ноги на пол, на ощупь зацепив ими туфли. На протест директора ответила жестом неповиновения. Поднявшись, прошаркала каблучками к окну и принесла красную папку.
— Вот, все сделано. Три экземпляра, как вы просили. По-моему, у вас хорошо. Даже я поняла, что это дело.
Он не стал развязывать папку. Он не сомневался, что работа выполнена наилучшим образом.
Вкладывая папку в свой лакированный портфель и задвигая молнию, сказал:
— Между прочим, в институте существует железная вера. Говорят, что все, идущее через эту машинку, получает зеленую улицу. Да я и сам в том убедился. Неужели не бывало осечки?..
— Нет, — дважды мотнула головой Анечка. — Во всяком случае, полных срывов не помню. Профессор Серебрянский называл меня Маскоттой — женщиной, приносящей счастье.
— Кажется, действительно так.
— И да и нет. Я ведь кое-кому отказываю.
— Шестое чувство?
— Нет, скорее… Не выдадите? Обещаете? — Анечка уткнула себе в лоб указательный палец и, улыбнувшись, подмигнула директору. — Я хитрая, я просто не беру работу у бездарностей. У меня на них безошибочный нюх.
— Гм… Вот оно что… Интересно.
Он стал раскланиваться.
— Спасибо, что навестили. Посмотрели, как живет Маскотта. — Она взглянула на часы. — О, мне пора принимать очередную гадость!
Директор возвращался домой в полупустом вагоне метро. За зеркальными стеклами кометами проносились освещавшие тоннель лампочки. Держа потяжелевший портфель на коленях, он в одиночестве сидел на мягкой скамье. Он думал об Анечке. Улыбнулся, припомнив: в минуты, когда приходилось трудно, в институте что-то всерьез не ладилось, казалось, многое рушится, и он, случалось, выходил из себя, — Анечка, улучив момент, спокойно говорила: «Да бросьте, Александр Павлович, увидите — обойдется…» И в самом деле, со временем все становилось на место. И еще вспомнилось…
…Были трудные времена. Институт топтался на месте. Надо всем властвовала осторожность. Именно в те годы — он тогда начинал младшим научным сотрудником — обрушились беды на профессора Черных. Эксперименты ученого подверглись жестокой критике. Над ним нависла угроза быть низвергнутым отовсюду. Состоялось собрание, на котором Черных винили в пропаганде чуждых идей. С убийственным словом выступил тогдашний недолгий директор, деспотичный службист и себялюбец, чей научный авторитет ничего не стоил в сравнении с именем Черных. А те, кто мог сказать слово защиты, угрюмо молчали. Донкихотство все равно ни к чему не привело бы. Кто-то внезапно «заболел», иные избегали смотреть друг другу в глаза. И тогда неожиданно для всех попросила слова Анечка. Он помнил, как она шла к трибуне сквозь настороженный зал, как произнесла первые слова: «Я ничего не понимаю, что здесь происходит?..» А затем говорила о том, что она мало разбирается в научных вопросах, но знает одно — профессор Черных честный человек, и она ручается за него всем, чем только может… «Да разве вы не думаете так же?» — спросила Анечка, вдруг обернувшись к президиуму, и губы ее задрожали. В зале стояла мертвая тишина. Многие сидели, уперев взгляд в спинку впереди стоящего стула. Когда она закончила свою взволнованную речь, не раздалось ни хлопка, только в первых рядах было слышно, как в президиуме профессор Черных, которого туда посадили словно на позор, сдержанно сказал: «Благодарю, Анечка». И вдруг, как шквал, как обвал в горах, грянули аплодисменты. Аплодировал весь зал. Нещадно били в ладоши профессора, научные работники и многочисленные служащие. Хлопали, пока Анечка со вспыхнувшими ушами шла до своего места, и пока она садилась, и еще, и еще. Напрасно малиновел директор института, напрасно растерявшийся председатель стучал карандашом по графину и требовал тишины. Зал успокоился не сразу.
Анечка стала героиней, но многие считали, что дни ее в институте сочтены. И хотя с утра она, как всегда, сидела за своим бюро, сослуживцев в тот день заходило в приемную меньше обычного.
Профессора Черных скоро перевели в сибирский филиал. О злополучном собрании старались не вспоминать, будто его и не было. Он не помнил, чтобы Анечка еще когда-нибудь выступала с трибуны. О той ее отчаянной речи, кажется, позабыли. Интересно, помнит ли о ней нынче прославленный академик Черных?
На одной из узловых станций метро директор вышел, чтобы пересесть на другую линию. До дома ему оставалось еще три остановки. Он вынул из портфеля папку и, развязав ее, раскрыл страницу наугад. Перепечатка радовала чистотой шрифта и точностью окончания строк. На открытой странице попалась формула, она была тщательно и точно переписана от руки.
Директор убрал папку и подумал о том, что́ бы могло получиться из Анечки, если бы она пошла в свое время учиться. И вдруг мелькнула мысль: а что бы институт, его сотрудники, дирекция и он сам — уважаемый доктор наук — делали бы без милой, скромной Анечки?.. Нет, кажется, и в самом деле без нее было невозможно…
Весь следующий день с утра он надеялся провести в своей лаборатории. Хотелось поскорее освободиться от административных забот и заняться делом, к которому его влекло во всякую минуту.
Около девяти, проходя в кабинет, он уже застал Люду за секретарским столом и минут через пять вызвал к себе. Она появилась с раскрытым блокнотом и шариковой ручкой. Он улыбнулся, отметив похвальное старание. Анечка все запоминала наизусть. Глядя на девушку, директор подумал, что где-то он видел такую вот секретаршу. Видел совсем недавно. Да, конечно же, в кино! В каком-то заграничном фильме. И этот блокнот, и карандаш, и готовность немедленно исполнить любое желание шефа.
Сегодня Люда была одета в серенький, схваченный в талии костюмчик с брюками клеш, отглаженными столь тщательно, что, казалось, о их складку можно порезаться.
— Садитесь, — кивнул директор. — Пишите. Первое.
Красный блестящий карандашик, сжимаемый наманикюренными пальцами, заскакал по листу.
— Заказать разговор с Киевом на двенадцать часов. Затем…
Продиктовав все, что следовало, директор о чем-то задумался и спросил:
— Умеете печатать на машинке?
— Одним пальцем, — покраснев, ответила Люда. — Но ничего, я научусь.
— Лучше пойти на курсы, — сказал он, помня, что Анечка в свое время окончила курсы машинописи. — Как ваше отчество?
— Людмила… Зачем? Просто Люда…
— А все-таки?..
— Владиленовна.
— Отлично. Так вот, Людмила Владиленовна, так мы вас и станем называть. И пожалуйста, отзывайтесь только на имя и отчество.
Она была удивлена. Пожала плечами.
— Зачем?
— Видите ли, Люда, — он сам не заметил, как назвал ее так, — видите ли, дело в том что… Сколько вам лет?
— Семнадцать, — с готовностью ответила девушка.
— Да, сейчас семнадцать, а потом двадцать… Предположим, вы проработаете в институте лет двадцать пять… — Он увидел, как девушка беззвучно охнула. — К «Людочке» все привыкнут и будут вас называть так и через четверть века. Меж тем вы будете уважаемая женщина — мать семейства…
— О, я еще не собираюсь замуж, — отмахнулась карандашиком Люда.
— Не имеет значения. Придет время — вы станете секретарем дирекции, смените Анну Петровну.
— Я не стану секретарем, — мотнула она головой. — Я учусь на вечернем искусствоведческом.
— У вас дома большая семья?
— Не очень. Я, еще братишка.
— А кто отец?
— Он строитель.
— Вам было необходимо пойти работать?
— Почему? Я решила сама. Хочу иметь свои деньги.
— Зачем?
— Как зачем? Ну хотя бы одеваться.
Директор с любопытством смотрел на девушку. Люда решительно ломала все его догадки о ней.
— Значит, дома от вас ничего не требуют?
— Вы про деньги? Конечно нет. У нас хватает на жизнь.
Он не стал расспрашивать дальше. Было вполне возможно — у Люды есть своя комната, и у родителей, наверно, дача.
— Понятно, — сказал он и повторил: — Понятно. Ну, хорошо…
— Все? — спросила Люда, взглянув на блокнот с записями.
— Пока все, — кивнул директор.
Она повернулась и пошла к двери, а ему пришла мысль задать ей еще один вопрос.
— Минуту, Людмила Владиленовна! — остановил он девушку. — Ну, а кто же у нас будет секретарем после Анны Петровны?
Она повернулась и посмотрела на него с нескрываемым удивлением, словно хотела сказать: «Откуда я знаю, кто у вас будет секретарем? Вот уж действительно!..»
Но тут же ответила:
— Найдется, думаю, кто-нибудь. Да и Анна Петровна еще поработает.
— Верно, — согласился он. — Анна Петровна еще поработает.
Дверь за новым курьером, временным секретарем и будущим искусствоведом, затворилась.
— Анечка еще поработает, — задумчиво повторил директор, глядя на календарь с пометками, и поднялся, чтобы идти в лабораторию.
ЛЕГЕНДА О МАРИИ
Егора Яновича я знаю давно. Столько времени, сколько хожу в цирк уже не обыкновенным зрителем, а человеком более или менее своим — знакомым с артистами и теми, кто в свете прожекторов на арене не появляется, но от кого ежедневные представления зависят во многом.
Когда я вечером сижу в ложе или пристраиваюсь где-нибудь в рядах, я непременно вижу в боковом проходе фигуру чуть ссутулившегося старика в синем поблекшем берете, внимательно следящего за тем, что делается на манеже. Стоять здесь никому не полагается, а Егору Яновичу можно. Так заведено издавна. И если в какой-нибудь вечер в цирке его не видят, начинают беспокоиться. Все ли благополучно с нашим завсегдатаем?!
Уже мало кто помнит номер, с которым работал Егор Янович, и цирковая фамилия, с какой он выступал, позабылась. Зато у самого старого артиста память поразительная. Глядя под купол, чуть ли не на любую воздушную пару, Егор Янович может вам рассказать ее родословную до четвертого колена. Назовет и дедов, и отцов, и дядек, и теток. Объяснит, когда какая цирковая семья с кем породнилась и кто из нее вышел. И, можете не сомневаться, все будет правдиво и точно. Егор Янович — летопись нашего цирка.
Однажды спросил я его о гимнастке, про которую слышал много, но все как-то неопределенно и путанно. Старик оживился. Видно, был не прочь поделиться тем, что знал. Мы задержались в пустом ряду кресел после просмотра нового акробатического номера. Круглый зал был освещен скудным дежурным светом и выглядел буднично и неуютно. Услышав мою просьбу, Егор Янович чуть улыбнулся и задумался. У глаз сбежались морщинки.
Неторопливо он заговорил:
— Говорите, о ней ходят легенды? Я встречал Марию не однажды… Как вам о ней рассказать? Да, если бы вы знали, что это была за гимнастка! Кто ее видел хоть раз на трапеции, думаю, помнил всю жизнь. Может быть, забывали ее имя, но артистку, на которую завороженно смотрели тысячи сидящих в цирке, позабыть было невозможно… Скажете — я был в нее влюблен? В нее влюблялись все, кто бывал на представлении. За всю свою жизнь, когда я еще только мечтал выйти на манеж, и потом, когда уже только смотрел, как там работали другие, я не видел такой удивительной гимнастки. А я, поверьте, их видывал.
Егор Янович умолк. Взгляд его ушел куда-то вдаль, в глубину затемненного полукружия верхних рядов. Неожиданно на бледных губах старого артиста дрогнула сдержанная улыбка. Как бы спохватившись, он продолжал:
— Знаете, Мария очаровывала публику с той минуты, когда прожектора выхватывали ее из тьмы, появившуюся в проходе меж униформистов, а потом сбрасывающую на ходу легкую накидку и стремительно взбиравшуюся по веревочной лестнице. Вверх взлетала, словно птица, без всяких заметных усилий, и уж тут от нее нельзя было оторвать взгляда до самого конца номера, когда, вытянув ноги и чуть скрестив их, она летела на руках вниз по канату, спущенному из-под купола, а затем прыгала точно в центр арены и раскланивалась с такой грациозностью, что я не знаю, много ли было на свете балерин, которые умели так покоряюще прощаться со зрителями.
Полагаете — преувеличиваю? Какие особые трюки исполняла, чтобы так восхищаться ее работой, да еще нынче, когда молодежь проделывает в цирке такое, что, кажется, и не снилось нам, старикам? Нет, тут дело было совсем не в трюках, хотя и сейчас их можно оценить. Полет у нее был невиданный. Замирал дух у любого, кто хоть сколько-нибудь разбирался в нашем деле.
Когда она отрывалась от раскачивающейся трапеции и делала сальто и потом винт… Да, это был уже не пируэт, который исполняли многие, а именно стремительный винт. Ну, а потом Мария ласточкой слетала вниз и приходила в руки ловитора так свободно, что казалось, это она просто играла в воздухе.
Поверьте, я смотрел этот номер, наверное, сотню раз и не припомню случая, чтобы она в чем-то ошиблась. Чтобы, как это иногда случается, от беды артиста спасло только чудо. Здесь все бывало точным, тысячу раз выверенным, но всякий раз представлялось, что так летать ей вздумалось сегодня, а партнер лишь вовремя догадался о ее намерении.
Да, смысл был не в трюках, пусть они и считались рекордными. Секрет успеха таился в неповторимом обаянии артистки. Мария никогда не заигрывала с залом. Не расточала в ряды комплиментов. Вы знаете, в цирке так называют разные реверансы, улыбки и воздушные поцелуи. И обманом она не занималась, как, например, изображая опасность, неудачу, пугают публику, чтобы вызвать страх за себя. И все-таки… Когда номер заканчивался и ноги гимнастки касались манежа, сотни людей на скамьях облегченно вздыхали. Вздыхали и мы — свои, кто наблюдал из проходов или смотрел в щель меж двух половин форганга.
Вы, может быть, слышали — в театре самые строгие ценители актерского мастерства — рабочие сцены? Если они не играют во время действия в домино в своей каморке, а, затихнув, стоят в кулисах и следят за тем, что делается на сцене, не сомневайтесь — актеры играют превосходно. Все, кто находился в цирке вечером, когда в программе участвовала Мария, не упускал возможности взглянуть на ее работу.
Что там говорить! Это была артистка — богиня на трапеции. Ее полет был каким-то неповторимым танцем в воздухе. Ну, сравнимым, что ли, разве лишь с соло для скрипки… Наблюдал я, как заглядывались на нее художники. Поэты сочиняли про нее стихи. Еще бы!..
Но такой она была только в час представления. Увидели бы ее на улице — пожалуй, прошли мимо, не обратив внимания. Во всяком случае, встречались девушки куда эффектнее.
Мой собеседник снова замолчал. Я не торопил его, ждал. И он заговорил:
— Когда она уже славилась, наш цирк еще не вышел на мировую арену. Со своим багажом мы блуждали от Минска до Владивостока, и не помышляя поглядеть в Париже на Елисейские поля или побродить по Пиккадилли в Лондоне. Те, кто по вечерам на ярко освещенном манеже казался публике небожителем, проводили свободное от репетиций время в тесных комнатенках. Тут тебе и гримерная, и жилье. Бегали с чайником за кипятком к титану и спали иногда на своих ящиках с реквизитом. Теперешняя молодежь, привыкшая к гостиницам и разным там душам, и понятия не имеет, как жили те, про кого нынче красиво пишут в книгах.
Мы все любили Марию. Кто бы и где ни съехались на программу, она среди других бывала равной. Попади к нам в общежитие посторонний, ни за что бы не догадался, что перед ним женщина, которая вечером покорит всякого, кто ее увидит. Идет себе с кастрюлькой по коридору или чистит на лестнице пиджак мужа.
Да, да, — продолжал он, — такой она была. А теперь слушайте самое удивительное.
Знаете — весь секрет успеха Марии под куполом начинался вовсе не с нее. Нет, понятно, она была прекрасна. Но никто и никогда ничего этого не увидел бы, если бы… Если бы не Серж Дональдо. Вы о нем, возможно, и не слыхивали. Он ушел с афиш давно, а известность в цирке не длится долго. Самого Сержа сейчас помним только мы, кто начинал с ним рядом, да, может быть, немногие из зрителей, кому за пятьдесят.
Личностью в нашем деле он был заметной. Не просто хороший акробат и гимнаст. Он, понимаете… как бы это получше пояснить?.. Встречаются такие профессора — открыватели музыкальных талантов там, где другие, не распознав их, проходят мимо. Пролетает несколько лет, смотришь, и уже гремит новая знаменитость. А кто предугадал? Так вот, Серж Дональдо был именно таким выискивателем талантов, только талантов для цирка. Никому еще не виделось, а Серж примечал и бил без промаха. И был он не только открывателем тех, кто потом вызывал восторги, но и сам создавал их, подобно умелому скульптору, который вырубает из мрамора статую.
Нет, он не был известным цирковым режиссером, — покачал головой Егор Янович. — Мы их раньше вообще не знали. Только акробат и гимнаст. Но тут, я вам доложу, сидел в нем особый, можно сказать, профессорский гений.
Сережа Донатов — так звали его. В те годы мы под своими фамилиями выступали редко, все мы назывались разными Польди, Зеро, Чалнджерами. Был и Жан де Колон. Считалось — публика хочет смотреть только иностранное. Глянешь на афишу — ни одного русского имени. Так водилось у нас и между собой. Окликали друг друга Джонами, Максами, Мишелями… Привыкли. Забывали, как и назывались по-настоящему.
Акробат Серж Дональдо в разные годы выступал с разными партнершами, и всегда это были преотличные гимнастки. Грациозные, легкие, изящные. Любо посмотреть. А делал такими их он, Дональдо. Выглядывал какую-нибудь на физкультурных соревнованиях, увлекал приманкой славы и зрительского поклонения и превращал в своих акробатических партнерш. Но каких! Настоящих артисток. Хватка у него была завидная. Из кого выйдет толк, он чувствовал прямо-таки, можно сказать, инстинктом. Ни разу, кажется, ни в одной не ошибся. И все в один голос: «Ах, какая прекрасная девушка!.. И где только он их находит?» Тогда Дональдо все знали как партерных гимнастов. Сменялись партнерши, имена их позабывались, но номер «Дональдо — акробатический дуэт» цены не терял. Каждый из директоров цирка, кто хотел составить программу получше, старался заполучить эту пару себе.
Вам ведь известно, раньше считалось — настоящий артист в цирке получается только из тех, кто на арене с малых лет. Все мы, кто постарше, еще с пеленок видели перед глазами брезентовый потолок, когда матери клали нас на барьер шапито, пока рядом на манеже репетировали свои трюки. Но Серж этот закон опровергал. Его девчонки постигали механику акробатики и в шестнадцать, и в семнадцать лет, а то и постарше. Бывало, даже искушенные люди не верили, что с новой партнершей он работает всего-то ничего и что еще недавно она вообще не ведала, что такое флик-фляк или купе.
Как он того достигал? Трудно понять. Знали одно — своих воспитанниц Серж никогда не ругал, как у нас частенько водится. Не кричал на них и при неудачах из себя не выходил. А вот нас, когда учили, известно, и бивали. Знаете, как раньше приучали мальчиков безошибочно делать стойку на руках? Тот, кто их готовил, клал рядом с собой борону зубьями вверх. Попробуй упади!.. А уж затрещины!.. Про то нечего и рассказывать. Считалось — иначе нельзя. Без того не будет толку. Нет, Серж с ученицами поступал иначе.
Мне не раз приходилось видеть его репетиции. Трюк не выходил. Он повторял его с партнершей, наверное, уже в сотый раз. Девушка — взглянуть — на полном издыхании. Майка от пота мокрая. На барьере лежит полотенце, и девица только и делает, что подходит и вытирает лицо и шею. Думаешь, и сил у нее больше нет. А Серж соблюдает спокойствие. Выдержит две-три минуты и снова: «А ну, давай попробуем еще раз, детка… Ты соберись, соберись…» Ласков так, будто мать уговаривает слабое дитя. И понимаете, эта самая девчушка, уж, видно, через силу, а и в самом деле соберется, спружинится всем телом и, верите, сделает. Получится трюк, который еще полчаса назад, казалось, ей никогда не осилить.
Тут уж он прекращает репетицию или объявляет перерыв. Улыбнется, обнимет за плечи и скажет: «Ну вот, уже лучше… Теперь отдохни…» И опять же заботливо, как с малым. Пустяк вроде бы… Кто не знает — лаской можно добиться многого. Но нет, у других ничего подобного не выходило. Пробовали подражать Дональдо, а не получалось.
Кем ему приходились его молодые партнерши, в то не вникали. Жены, не жены? Откуда было знать. До войны ведь порядки были попроще. Сходились и расходились без судов. Свадеб и прочего, что теперь в большой моде, не устраивали. Живут вместе — муж и жена. Разъехались — чужие. Однако скандалов в жизни Сергея не помнится. Партнерши выходили замуж. Кто продолжал выступать с кем-то другим, кто оставлял акробатику навсегда. Позже поди уже с трудом верили в свое цирковое прошлое. Они ведь, девушки, были намного моложе Дональдо, ну и расставались с ним без особых горестей.
Так оно все и шло до тех пор, пока неизвестно, опять же, где и как он повстречался с Марией. Тогда Серж начал разменивать пятый десяток. Но был куда еще как хорош. С манежа больше тридцати не дашь. Словом, артист в самой форме.
Бог его знает, по какому признаку — на то он и был Дональдо — Серж увидел в Марии воздушную гимнастку. Он и эту работу знал неплохо: в юности выступал в группе воздушников. Выходит, снова потянуло ввысь, под купол. Не задумываясь, оставил он партнера и взялся готовить полет. Принялся за дело так, как умел только наш Серж…
Рассказ на какое-то время прервался. Егор Янович заинтересовался работой униформистов. Дневные репетиции закончились. В цирке ненадолго наступила послеобеденная тишина. Униформисты, сейчас совсем не эффектные, одетые по-рабочему, ровняли песок манежа, выводя граблями замысловатый узор. С минуту Егор Янович придирчиво и, как мне показалось, не совсем одобрительно наблюдал за молодыми ребятами, явно спешившими поскорее закончить свое дело, но, ничего им не сказав, продолжил:
— Да, так вот про Марию… Года на два я застрял на Востоке, ездил с моими ящиками от Иркутска до Хабаровска и из виду их потерял. Когда же судьба снова столкнула нас под одной крышей, я даже ахнул от удивления. Серж уже работал полет с ней, с Марией. Такой у них получился номер — лучше не пожелаешь. Про нее я вам уже говорил, добавлю только, что это было самое начало их участия в представлениях, но слух по циркам уже шел. Дальше — куда там! Взяли их в Москву, и там прогремели.
Это были лучшие годы в жизни нашего товарища. К тому времени манера называться на заграничный лад прошла. На афише они писались: «Мария и Сергей Донатовы». Выступали только в хороших цирках. Фамилию их печатали красной строкой, после знаменитостей, которые со своими аттракционами занимали целые отделения. Номер Донатовых не длился и десяти минут, а публика, покидая цирк, только о них и говорила.
Есть такое поверье — если человек очень счастлив, даром ему это не проходит.
Годы-то свое все-таки отсчитывали, и если Мария только расцветала и становилась все прекраснее… Знаете, что такое в нашей работе успех у публики? Это как чудесный бальзам. Ну, а наши женщины… Да что там разъяснять. Взгляните на любую, когда, провожая ее, цирк гремит аплодисментами.
Я все-таки скажу. Нельзя было не упиваться красотой полета Марии. Даже тогда, когда она делала передышку, пританцовывала на рамке, пока Серж, раскачиваясь, готовился к заключительному трюку, весь цирк любовался только ею. Да, только ею. В том-то и суть всего, что было дальше. Ведь лишь несколько лет назад они с Сержем смотрелись вместе как одно целое. Совсем недавно было так, и вдруг…
Старик слегка вздохнул.
— Наверное, вы уже догадались. Он стал тяжелеть. Как-никак приближался к концу пятого десятка, а может, и перевалил за него. Юбилеи у нас отмечают редко. Нам это ни к чему.
Что тут рассуждать — время! Попробуй-ка не замечай его! Как ни поступай, что ни предпринимай, возраст есть возраст. Не помогут никакие изнурительные тренировки, ни жизнь впроголодь, ни какой-то там особый режим. Наступает час, глядишь в зеркало — ты уже не тот. Хочешь того или нет, а прежних аполлоновых форм не видать. Живот, сколько его ни массируй, не хочет уходить под ребра, да и вообще… Трудный это час для артиста цирка. Дрессировщикам, иллюзионистам еще куда ни шло. Но гимнасту… Нет, тому от публики не скрыть ничего. Даже лысина, как бы ни был ловок акробат, для него помеха. Ну а когда начинаешь набирать в весе… Тут, считай, твоей карьере на манеже пришел конец. Цирк — искусство молодых. Постарел — на виду у публики делать нечего. Недаром же нам и пенсию решили исчислять с возраста, который у людей других профессий даже не считается зрелым. Но сколь же это бывает горьким! Еще чувствуешь, что ты не стар, лишь сделался мудрее, а здесь уже конец, пора… Настал день уступить место другому. Нелегко пережить такое, хоть тебе не грозит ни голод, ни безделье. Психологический шок, вот что тут главное. Нужно переступить барьер, за которым, может быть, пропасть. Не каждому удается сделать это спокойно.
Как-то даже с гордостью Егор Янович проговорил:
— А вот Серж Донатов переступил. В какой-то час, наверное куда раньше, чем о том подумали другие, он понял, что начинает становиться балластом.
Теперь они уже не являлись одним целым. Он как бы отошел на второй план и лишь соответствовал Марии. Замечательный ловитор, он по-прежнему безошибочно справлялся со своим делом, но догадывался — еще год-два, и начнет мешать партнерше, потому что станет невольно раздражать зрителей. О, поверьте, нет ничего жесточе публики, когда ей кто-нибудь не нравится. Люди в рядах не свистят, не прогоняют с манежа. Они казнят равнодушием. И, как бы ты далеко ни находился от сидящих в зале, непременно почувствуешь десятки пар скучающих, если не ненавидящих глаз. Вот тогда-то и падают булавы из рук жонглера, а эквилибрист на проволоке с трудом удерживает равновесие.
Егор Янович снова вздохнул:
— Но тут было, пожалуй, и тяжелее. Ведь к тому же Серж Донатов — наш милый, не очень-то постоянный раньше в своих симпатиях Серега — нешуточно любил Марию. Может быть, она была его лебединой песней. Те, кто знал Сергея издавна, никогда не видели его раньше таким, каким он становился рядом с Марией. Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы заметить, как загорался его взгляд, когда он смотрел на свою жену — она была его настоящей женой, — как светлел, когда она ему улыбалась. А до чего же сделался заботлив и внимателен! Нет, тут была не знакомая всем его привычка создавать, как говорят, климат партнерше — здесь угадывалась любовь.
Они бывали всегда вместе: и в наших круглых коридорах, и в цирковой столовой, и в пустых рядах дневного зала, когда наблюдали оттуда за репетицией товарищей. Думалось — эта пара неразделима. Моложавый, подтянутый Серж вполне выглядел парой для Марии, хотя в летах между ними была разница в два десятка, коли не больше.
В воздухе получалось по-другому. Там, под куполом цирка, все заметнее и заметнее становилась разница в возрасте.
Серж Донатов был потомственным циркачом. Понятно, никаких университетов он не кончал. Какое у нас у всех, кто вырос под брезентовым пологом, было образование? Насколько хватало ума у родителей, так и учили. И все же Сергея за неуча принять было нельзя. Скажу, среди других он выделялся. В наших, не искушенных наукой кругах его уважали.
Пораскинул он, видно, умом и решил, что пришло время дать простор Марии. Понял, что не имеет права сковывать ее в лучшие годы. Она была на подъеме. Ей еще оставалось время покорять зрителей. Он отцветал.
Работала тогда в программе группа «Братья Ракитины — гимнасты на батуте». Никакими братьями они не были. Двое и верно Ракитины. Остальные назывались так по традиции номера. Выделялся там из группы один парень — Валентин. Не так чтобы особенно отличался, но, как у нас говорят, имел выход. Заметный был молодой человек. Рослый, торс к талии треугольником. Сложения картинного, и лицом вышел. Женщины заглядывались. С манежа приятно улыбался. Улыбаться у нас тоже, имейте в виду, нужно уметь. Чтобы натурально.
Одним словом, Серж заметил этого Вальку. Тот еще ходил в холостых. Опять-таки в цирковом деле это не пустяк. Мы ведь ездим семьями, и на манеже часто всей семьей. Циркач — как цыган-кочевник. Весь он здесь со своей поклажей: с детьми, а то и с бабками. А тут Валентин — птица вольная. И это положение учел Серж, ну и предложил парню заменить себя в номере. Обещал, что тот не станет жалеть об оставленном батуте. Валька, в чем тут было сомневаться, от радости ног под собой не чуял. А как же! Войти в такой номер! Стать, можно сказать, самим Дональдо!
В Риге мы тогда были заняты в одном представлении. Город большой. Программу исполняли долго. Поглядел я, как Сергей вводил его в номер. Нелегким орешком оказался Валька. С ходу что требовалось брать не мог. По нескольку часов репетировал по ночам и днем, когда только были свободны подвески. Три пота сходило с Валентина. Ой как далеко было до Сержа! Ничего похожего. Только что внешне он был подходящим. Но Сергей от него не отставал.
Упорно возился с Валькой. Считал, видно, что хоть дара у того особого нет, но материал в нем выгодный. Должно получиться. И, представьте, получилось. Вышло!
Егор Янович даже слегка хлопнул меня по коленке.
— Примерно через год, может и чуть побольше, опять с ними повстречался. Мария работала уже с Валентином. Разумеется, номер назывался так же: «Донатовы — воздушный полет», только вместо Сергея в афише стояло имя молодого гимнаста.
Я был занят в том же, что и они, отделении и едва успел переодеться, чтобы проникнуть в зал и увидеть их номер. Черт знает почему, но я, понимаете, волновался, словно меня это близко касалось. Можно было подумать, боялся потерять что-то родное.
Оказалось — зря беспокоился.
То, что пришлось увидеть, было удивительным. Номер, созданный Сергеем, не только ничего не утерял — наоборот, расцвел, омолодился, родился заново, если хотите!.. Невероятно было то, что выжал Серж из Вальки. Он работал отлично. Завлекательно играл своим превосходным телом. Это был новый Серж, молодой и притягивающий к себе внимание. И номер был будто новый. Состоял из великолепных отважных трюков. Вы спросите, а Мария? Она была дивной, ни в чем не уступала партнеру. Нет, пожалуй, все-таки была лучше его. Оставалась неотразимой. Я говорил вам — раньше полет Марии был бесстрашным соло под куполом. Теперь он стал будто воздушным танцем вдвоем, таким, что спирало дыхание у всех, кто находился внизу. И все это сделал для них Серж. Другой бы никто не смог.
Я часто наблюдал его. Пока длился номер, Серж стоял в проходе меж униформистами и следил за тем, что делается наверху. Возле барьера он появлялся в момент, когда Мария, ослепленная лучами прожекторов, уже приближалась к подвескам. Уходил Серж, пока еще не включали общий свет и проход оставался затемненным. За форгангом он оказывался, когда гимнасты опускались на арену. Зрители Сержа не замечали. Какое им дело до толпящихся у выхода? Их кумир — артист. А тот, кто его создал, отдал ему все, что знал сам, пусть довольствуется чужой славой.
Еще слышались аплодисменты. Мария оказывалась по нашу сторону форганга. Здесь ее ждал бывший партнер — теперь муж. Перед тем как уйти в гримерную, она успевала улыбнуться ему, и Серж бывал счастлив. Все это видели. А Мария была благодарна ему.
Серж теперь числился руководителем номера. Дирекция цирков позволяла себе такую роскошь. Мог он, конечно, выходить на манеж и тянуть вниз лестницу, по которой поднимались гимнасты, а потом стоять, будто на пассировке. Но он этого не делал. Да и какая уж тут могла быть пассировка? Сорвись Мария или ее партнер с трапеции, спасать их внизу было бы напрасным делом.
С тех пор, включаясь в программы различных представлений, они ездили втроем по разным городам. Валентин все еще был холостым и жениться не спешил. Заведут с ним о том разговор, ухмыльнется и скажет: «А к чему мне? Мне и чужих хватает».
Говорил смело, потому что всякий понимал — жен товарищей в виду не имел. У нас такое не водится. Цирковые подруги — народ верный. Да и как иначе? Все у нас на виду и днем, и по ночам. Словом, на этот счет никаких безобразий, хотя публика по незнанию думает иначе.
Сделав паузу, Егор Янович повернулся и посмотрел на меня, как бы желая понять, не думаю ли и я так же. Но, видно, ничего не заметив, вдруг сказал:
— А все-таки нет-нет да и бывает. Да, — кивнул он. — Тут вышло не по нашим законам. Неизвестно мне, когда это и где началось. Марию, хотела она того или нет, потянуло к Валентину. Никто не знал, предпринимал ли Валька что-либо для того со своей стороны — ведь обхаживать женщин был мастак… В общем, со временем стали замечать, как Мария смотрит на своего молодого партнера. И перед тем, как выйти на манеж, и на репетициях, и в другие часы. Может быть, она и боролась с собой, хотела преодолеть вспыхнувшее чувство. Возможно и так. Любви, говорят, не прикажешь. Только стали их встречать вдвоем там, где им вдвоем быть вовсе не обязательно.
Как раз тогда наши начали ездить за границу. Воздушников Донатовых послали с одной из первых групп, не припомню, не то в Англию, не то еще куда-то там. Проходили в Европе, слышно было, на ура. Писали о них в иностранных газетах. На обложках журналов печатали цветные снимки — Мария в полете. Вернулись радостные. Шутка ли, мировое признание!
Серж с ними за рубеж не ездил. В заграничные гастроли посылают скупо. Тут главная дирекция рассуждает — обойдутся и без руководителя. Обошлись и на самом деле. Ну, а дома опять, как было. Снова втроем по нашим циркам.
Я уже о том вел речь — Серж был человеком догадливым. А тут, после заграничной поездки, у Марии и Вальки и совсем все на виду. Не надо ни о чем и догадываться. От мужа она, правда, таилась, но разве утаишь? Пришел час, ничего не поделаешь. Это как напасть. Женщина, она, будь хоть и герой, существо слабое, от любви, сами знаете, дуреет. Осуждать Марию, понятно, было проще всего, но можно и понять. Сержу-то ведь уже за пятьдесят, а тут Валентин — молодец молодцом, красавец и ей, верно, ровесник. Каждый вечер они вдвоем под куполом цирка, и Мария ощущает надежную крепость Валькиных рук.
Со стороны, если не приглядываться, все будто оставалось, как и раньше. Но нет, было не так.
Вам, наверное, и не помнится, — когда еще был немой кинематограф и картины смотрели в тесных киношках под игру таперов, шел такой заграничный фильм из цирковой жизни, «Варьете». Несколько раз я смотрел эту кинокартину. Участвовал в ней замечательный немецкий артист. Он играл гимнаста в летах — главного в воздушном номере. Они работали втроем. Старший был ловитором, а его юная жена с партнером проделывала сальто под шатром шапито. Но, между прочим, началась у молодых любовь. Дело зашло далеко. Муж их выследил, но виду не подал. Решил рассчитаться с любовником по-своему. По ходу номера, когда молодой должен был приходить в руки ловитора, тот решил изобразить неудачу, сделать так, будто не сумел поймать партнера. Работали, разумеется, по-заграничному, без всякой страховки, и, случись такое, парню, понятно, был бы конец. Так вот, старший задумал его не словить и… не сумел. Профессиональная привычка и гордость циркача не дали того сделать. Он поймал молодого партнера, как ловил на каждом представлении, а ночью, когда любовник жены спал в своем вагончике, зарезал его, спящего. Как сейчас помню спину этого широкоплечего актера. Наклонившись над раковиной, он смывал с рук кровь. Стоящая была картина. Я о ней вспомнил в тот день, когда узнал про Сергееву беду.
И опять Егор Янович умолк. Тут, может, и нарочно. Он действовал, как опытный рассказчик.
— Нет, не думайте, — достаточно потомив меня, продолжал старик. — Он не вознамерился убить Вальку. Все было проще, а возможно, и сложнее. Мария с партнером снова улетели куда-то в чужие края. Серж их провожал. В аэропорту от него не могло ускользнуть — молодые были не в силах скрыть радость, ведь опять оставались вдвоем. Улетали они на долгие гастроли, и Сергею все стало ясно.
Ну, а дальше — вернулись Валентин и Мария через несколько месяцев. Опять привезли пачку газет. Чего только не писали о них на разных языках! Называли Марию русской жар-птицей. Тогда-то, по-видимому, и начался шум о ее, как вы говорите, легендарности. Возвратилась, значит, наша уже знаменитая пара в Москву и узнала, что тот, кому они были обязаны всем, распрощался с цирковой дирекцией и уехал неизвестно куда. Марии он оставил письмо. Объяснил, что все понял, отлично осознает — больше не нужен ни ей, ни Валентину, оставляет Марию и желает ей счастья и добра.
Даже узнать не могли, куда он запропастился. Исчез, как и не бывало..
Но любовь, сами знаете, вещь эгоистичная. Она безжалостна. Влюбленным не до тех, кто страдает. Бывает и похуже — любящие ненавидят того, кому причиняет мучение их безоблачное счастье. Серж это понимал и ничего подобного переживать не захотел. Он ушел с пути молодых. Валентину и Марии, видно, лишь того и нужно было. Теперь они были свободны. А старший друг? Стоило ли о нем сейчас думать!
Свадьбу отметили по-походному. Собрались после представления в номере гостиницы, который занимала глава аттракциона — дрессировщица львов. Пили за молодых, за их будущее, за новую цирковую семью. Мария в тот вечер выглядела изумительно. Известно — счастье окрыляет женщину. Теперь-то, приодевшись в заграничное, она была заметной. Ну и Валентин куда как хорош. Словом, завидная пара. Про Сержа в тот вечер не говорилось, Кто и в самом деле за рюмкой позабыл, а кто помалкивал. Понимали — не место о нем вспоминать.
Интересно вам, что было потом?
Менялись города. Дороги, дороги… Воздушный дуэт Марии и Валентина и на родине имел огромный успех. Работали много и хорошо. Прошло недолгое время, и Валька купил машину. Теперь аппаратуру отправляли багажом вперед, сами переезжали на новое место на своем «Москвиче». За рулем в замшевом пиджаке горделиво посиживал Валька — молодой муж… Мария рядом, как обычно, с непокрытой головой. Волосы цвета каленого ореха с медно-красным отливом. Крупными волнами ниже плечей. Тряхнет головой и откинет их за спину. Губы готовы всегда к улыбке. На лице читалась радость. Довольна женщина, что жизнь ее так ладно обернулась.
Годы словно не касались Марии. Видывал я их в ту пору. Взглянешь вверх — та же, что и десяток лет назад, ласточка, и тот же бурный прием публики.
Правда, можно было заметить и другое.
Прежде, в ту минуту, когда заканчивался номер и Мария, раскланиваясь, прощалась со зрителями, Серж оказывался чуть поодаль. Он как бы старался подчеркнуть, что все дело в искусстве его партнерши. Ну, к примеру, как в балете. Теперь было иначе. Валентин оставался рядом с Марией. Впрочем, может быть, и законно. Ведь сейчас они одинаково заслуживали признания и делили успех поровну. Не тот опытный мастер с юной гимнасткой, а молодая достойная пара.
Но, если уж рассказывать все до конца, должен признаться, что-то тут во мне переломилось. Теперь не спешил я в зал, как делал это всегда раньше, чтобы посмотреть на полет Донатовых. Ничего как будто не изменилось, и Мария так же завораживала сидящих в рядах. И все-таки… Не спрашивайте, в чем тут было дело, я и сам того не смогу объяснить, но случалось — не видел их номера по нескольку представлений подряд и не жалел о том.
Но и жизнь-то ведь шла.
У Марии появился ребенок. Пока она готовилась рожать и потом кормила, Валентин работал в воздухе один. Говорили, получалось малоинтересно. Что делать? Не бездельничать же ему без жены. Ну, а затем, конечно, снова выступали вместе, и преотлично. Когда малыш подрос, стали его возить с собой, как это у наших заведено.
Казалось, что Мария вечно будет неизменной. Встречаются ведь великие артистки, которых щадят годы.
Да, казалось. Но такое бывает редко. Догадываетесь, наверно, не произошло чуда и тут.
Настало время, и, пожалуй, раньше, чем того ожидали. Валентин поторопил время, что ли. Словом, он явился всему причиной. Кто знает, может быть, ему было и виднее. Он же только что достиг высокого мастерства. Был в самой форме. Ему хотелось еще поработать лет десять, а то и дольше. Для ловитора он годился надолго. Ну, а Мария? Много ли времени публика могла верить в ее молодость?
Егор Янович снова взглянул в мою сторону, будто заинтересовался, каково мое мнение, и, убедившись, что я хочу лишь слушать, продолжал:
— Нет, публика, особенно нынешняя, не дура. Провести ее дело напрасное. Публика все видит и свой суд имеет.
Был у меня знакомый. Башковитый человек, из любопытных типов. Пересмешник. Как-то он мне сказал: «Уходить всегда надо в зените». Это в том смысле, что не следует дожидаться, когда другие увидят, что ты уже не тот. Неизвестно мне, что за разговор был у Вальки с Марией. Не знаю я, как он убеждал ее в том, что еще недолго, и ей придется покинуть воздух, и что лучше это сделать, не дожидаясь ничьих состраданий. Жестоко, понятно, но ведь прав был, ничего не скажешь.
Я не знаю, что делалось в душе Марии. Рассказывали — она как-то сразу потускнела. Еще бы! Какой артист не играл свой последний спектакль без горечи в сердце? Но ведь Мария была неглупой. С мужем согласилась, чтобы сохранить номер еще на годы. Я ее в те дни не встречал, но наши говорили — оставалась все той же. Правда, сделалась задумчивой. Порой не сразу отвечала, когда о чем-нибудь спрашивали. Нечему удивляться. Не могла она пережить легко свой уход. Ведь для нее это… как бы получше сказать?.. Она ведь сделалась как птица, у которой обрезали крылья, и о небе она может только вспоминать.
Так оно или нет, но Мария покинула манеж.
А Валентин? Валентин подобрал себе новую партнершу, фигуристую девчонку из недавно окончивших московское училище. Та, разумеется, с легким сердцем оставила четверку воздушниц, в которой до тех пор работала. Хорошенькая была девица. Впрочем, почему была? Она и сейчас еще хоть куда!
Смирилась Мария, с новым положением. Смирилась, что тут поделаешь. Это же цирк!.. Готовили Эльвиру — так будто ее звали, ту девушку, — они вдвоем. Нужно было, чтобы достойно вышла на публику. Мария передавала ей свой опыт и умение. Припомнила, как готовил ее Серж, и старалась учить свою замену, как когда-то Серж учил ее.
Ну что ж, теперь молодые хваткие. Они ведь приходят к нам с цирковой школой. Не мы — прежние самоучки на манеже. Скоро и Эльвира крутила в воздухе штопор и делала прочее. И ее эффектно, будто ненароком, ловил в воздухе Валентин. Снова были и смелый полет, и трюки, заставлявшие ахать весь цирк. Номер Донатовых продолжал жить и вторично омолодился…
Нам с Егором Яновичем пора было покидать зал. За раскрытым форгангом засветился уходящий к конюшням коридор. Цирк за кулисами начинал оживать. По коридору молодые джигиты, пока одетые по-будничному, прогуливали своих еще не оседланных коней. Мерно поцокивали копыта по бетонному полу. Где-то в глубине помещения визгливо пролаяли собачки и умолкли. Егор Янович молчал, а мне не хотелось мешать его мыслям и спрашивать, что было в дальнейшем. А что, собственно, могло быть? Но я почему-то был уверен — рассказ не окончен. И не ошибся.
Старик осведомился, который час, хотя и сам о том мог легко догадаться. Он, вероятно, никуда не спешил. И спросил, видно так, для порядка.
— Да, — сказал он, помолчав, — многое переменилось с тех пор, как я впервые попал сюда. Помните ли этот цирк, когда вот там, у барьера, были ложи? Не помните? Да оно и понятно… Давно было. И наша жизнь циркачей-кочевников с тех пор изменилась. Марию и Валентина я в последний раз встретил в Москве. Они там уже жили на постоянной квартире. К тому времени я на манеже уже не работал. Получал пенсию. Но я цирка не оставлял. Разве может оставить цирк тот, кто отдал ему полвека? Мы, старики арены, если и ничего там не делаем, все равно ходим в цирк до последнего своего дня. Вот, видите, хожу и я. Тянет иногда и поворчать, но сдерживаюсь. У молодежи свои порядки. Мы им не академия.
Мимо цирковой афиши мне не пройти. Давно исчезли с них различные звенящие «2 — Ругби — 2», «Три Маноллио», «Железные капитаны» и всякие Жаки и Аннет. Наверное, это хорошо, что теперь в программах стояли простые фамилии: Зайцевы и Семеновы, привычные имена Тамара, Василий, Наталья… Сейчас, рассказывают, артисты на Западе называют себя в цирке на русский лад Ивановыми и Кузнецовыми — мода! Что же, возможно, где-нибудь в Марселе и Мадриде это звучит так же загадочно, как у нас звучали итальянские имена? Само собой решилось — не в именной цветистости дело. Конечно, это так. Но знаете, что я вам скажу: цирковая афиша перестала быть притягивающей и немножко таинственной, что ли.
Но это уже иной вопрос. Раз вы интересуетесь Марией, доскажу вам.
Лет пять, пожалуй, назад или меньше в Москве на афишном щите увидел я — стояло в цирковой программе: «Мария и Валентин Донатовы — воздушный полет».
Глазам своим, представьте, не поверил. Неужели Мария вернулась под купол? Может ли быть?.. Но ведь случается всякое. Она такая артистка!
Вечером я пробрался в старый цирк на Цветном и сидел на служебном месте. Меня еще, понимаете, помнят, и попасть на представление не составило особого труда.
Так вот, сижу в публике и жду выхода Донатовых. Как чуда какого-то жду. Настала та минута. Шпрех объявил номер. Затухли верхние лампы, заиграла давно знакомая их музыка — вроде позывных. Серж в музыке толк понимал. Ну, так. Два прожектора скрестились у форганга, и вырвали из тьмы гимнастку в легкой накидке, и повели ее к распахнутым створкам барьера. Она шла, знакомо ступая на носки и сбрасывая на ходу накидку, которую подхватывал униформист. Вот уже приближалась к спущенной сверху веревочной лестнице. Я сидел в десятом ряду и что было сил вглядывался в лицо артистки. Мы, старики, дальнозорки. Не потребовалось и полминуты, чтобы увидеть… Нет, это была не Мария. Еще несколько секунд, и я не сомневался — в центре арены стояла та самая Эльвира… Я узнал ее, хоть раньше видел всего два-три раза, и то на репетициях. Узнал, несмотря на то, что волосы ее теперь отливали тем же медно-красным цветом и так же, как у Марии, они были схвачены на голове обручем со сверкающими на лбу камешками. Может быть, тем самым обручем, который носила Мария.
Не сумею вам передать, что за чувство тогда охватило меня. То ли отлегло от сердца — могла ли разве она еще работать в воздухе? — то ли, наоборот, внутри что-то горестно сжалось. Меж тем гимнастка уже взбиралась по лестнице, которую снизу натягивал униформист. За ней, которая теперь звалась Марией, устремился вверх Валентин, такой же ладный, как раньше, но словно какой-то более в себе уверенный. Затем начался номер.
Все в том, что делалось под куполом, было мне знакомо до деталей. И раскачка ловитора, и его негромкое «ап!», и полет партнерши со сложнейшими пируэтами в воздухе, и ловкость Валентина, успевшего ее подхватить тогда, когда всем сидящим в зале казалось, это сделать уже невозможно. Да, все будто бы оставалось таким же, как бывало раньше. Номер их отличался красотой и дерзостью. И все-таки… Скажу по совести. Это было совсем, совсем не то. Наверху виделась работа. Именно работа. Умелая и рискованная. А душа?.. Нет, души не было и в помине. Нет, чудо не состоялось.
Егор Янович, конечно, и сам не заметил, что вдруг перешел на какой-то возвышенный стиль. Я понимал, он в эти минуты был весь там, в прошлом, казавшемся ему единственно прекрасным.
— Может быть, запоздало, но вот тогда я понял окончательно, что то, что в цирке называют работой, какой бы трудной и опасной она ни была, настоящим искусством становится, лишь когда на манеже или в воздухе происходит озарение, что ли, которое ни на минуту нельзя спутать ни с какими самыми невероятными трюками.
Тут только я, старый цирковой пентюх, догадался, зачем Валентин назвал молодую партнершу Марией. Зачем велел выкрасить в тот же цвет волосы, научил похоже выходить на манеж и так же по-Машиному улыбаться публике. Подражанием всему, что делала Мария, он надеялся сохранить невозвратимое очарование Марии. Пытался добиться успеха у тех, кто много слышал о Донатовых, но никогда их не видел, а возможно, и у тех, кто не очень-то памятлив и, когда-то посмотрев их номер, по простодушию поверит, что перед ними та же артистка.
Нет, Валентин ошибался. Никто не мог подменить собой Марию. Не помогало ни внешнее сходство, ни повторенные жесты. Разве можно повторить истинный талант?! Никогда.
Как это вам сказали: она была легендой. А нынешний номер Донатовых — лишь воспоминание о нем.
Что же еще? Старые товарищи передавали мне, что Мария по-прежнему живет с Валентином. Он не оставил семью, чего многие, знавшие его, ожидали. Из долгих поездок возвращается в квартиру, где ждут тепло и уют. Растут у них дети. Двое, мальчик и девочка. Мария говорит, что ни за что не хочет их видеть артистами цирка. В гастроли и по нашей стране она с Валентином не ездит. Он будто и не настаивает на том. Почему? Кто его знает!
Рассказывают, что, когда Валентин с партнершей возвращаются в Москву и проводят там дневные репетиции, Мария приходит в цирк и садится в пустом зале. Поставив у ног хозяйственную сумку, она, подняв голову, смотрит туда, где в неярком свете дежурных лампочек Валентин не спеша повторяет трюки с той, кому Мария отдала свою славу и вообще все, вплоть до собственного имени. Кто может распознать, о чем она думает в эти моменты. Вспоминает прошедшие дни, когда там, под куполом, в ослепительном свете прожекторов, чувствовала тысячи устремленных на нее глаз и слышала бурю аплодисментов? А может быть, наблюдая репетицию, попросту молит судьбу, чтобы та хранила ей раскачивающегося на своей ловиторке мужа?
— Ну, а Серж Донатов, что с ним? Жив он, где находится? Так ничего и не слышали о нем? — спросил я.
Егор Янович, чуть помолчав, продолжал:
— Что сейчас с ним, с Сержем? Точно ответить затрудняюсь. Слышал я, готовил он акробатов-любителей во Дворце культуры какого-то прославленного гиганта индустрии. На Урале или в Сибири, не помню. Говорили, что ребята его не раз занимали призовые места.
Ну и вот еще: как-то будто видели его на представлении, в котором были заняты Валентин со своей партнершей. Старые служители цирка узнали его. Но за кулисы Серж не зашел и впечатлением о виденной программе ни с кем не поделился.
Да, так. Говорите — легенда? Возможно, обыкновенная цирковая история.
Егор Янович умолк окончательно и развел руками, как бы добавив: «Вот все, что я вам могу рассказать». Мне не о чем было больше расспрашивать. И в самом деле, это была одна из цирковых историй, которыми полна жизнь этих смелых и простых людей. Впрочем, может быть, история и не совсем обыкновенная.
Свет в зале усилился. Появились билетерши и стали снимать с кресел полотняные чехлы. Цирк готовили к представлению.
Я поблагодарил старого друга. Мне пора было домой. Егор Янович пошел в проход за кулисы. Я знал, сейчас он поднимется на второй этаж, где находятся гримерные артистов, которые будут работать сегодня вечером. Он зайдет к кому-нибудь из своих молодых товарищей и просидит там до начала пролога, чтобы потом занять свое постоянное место в проходе недалеко от барьера. Славный старик! Не верится, что его здесь когда-нибудь не будет.
МИШЕЛЬ ПАНТЕЛЕИЧ И ЕГО ВНУК
То, о чем здесь пойдет речь, я услышал за границей.
В далекой чужой стране мне посчастливилось встретить друга-артиста, с которым дома мы живем на одной улице, а видимся до обидного редко. Секрет тут в том, что знакомый мой постоянно в отъезде и бывает в нашем городе не каждый год.
До чего же я обрадовался, когда, вынырнув из подземелья метро зарубежной столицы, был остановлен плакатным изображением своего друга.
Выглядывая из-за занавеса — в цирке его называют форгангом. — длинноволосый клоун с синими зрачками-точками и красным шариком носа, добродушной улыбкой зазывал прохожих на представления прибывшего сюда Московского цирка.
Тот, кому приходилось надолго уезжать из родных мест, знает, что за праздник повстречать на чужбине невесть как туда попавшего соседа или попросту земляка. Что уж говорить о свидании со славным товарищем!
Словом, торжеству моему не было границ. Я решил навестить его — вот удивится! — в тот же вечер. Пройду, полагал, со служебного входа — пропуском мне будет русский язык. Как-нибудь доберусь до своего приятеля.
Но по мере того как вечером я приближался к самому большому в той столице спортивному залу, все больше охватывали меня сомнения. Попаду ли? Я слышал — за билетами на представление москвичей выстаивали ночи. Говорили, что у входа в зал дежурят полицейские.
Над крышей здания, похожего на освещенный изнутри гигантский аквариум, в осеннем небе летел огненный всадник. «Цирк — Москва — Цирк» — горела надпись. Внушительное сооружение из стекла и бетона временами будто вздрагивало от взрывов аплодисментов.
Мне повезло. Вблизи служебного входа по плитам площадки прогуливал свою поджарую лошадь джигит в красной черкеске. Он нисколько не удивился незнакомому русскому и на мой вопрос, как мне повидать друга-клоуна, ответил с легким восточным акцентом:
— Сейчас. Пройдете со мной.
Ведя коня под уздцы, джигит приоткрыл широкие двери-ворота и пропустил меня вперед.
В неуютном просторном коридоре с бетонным полом толпились артисты. Три девушки в белых трико, плотно облегающих их пружинистые тела от шеи до пят, ожидали своего выхода на публику. Рядом делал разминку обнаженный до пояса красавец гимнаст. Униформисты в расшитых золотом голубых венгерках куда-то спешили с длинным никелированным шестом. Ни на меня, ни на моего проводника никто не обратил внимания.
— Он на манеже, немного погодите, — покидая меня, показал в сторону зала молодой наездник.
Но он мог мне и не объяснять. По тому, как смехом гремел огромный зал, я догадался — на арене мой друг.
В зал не было дверей. Проем в стене, ведущий к зрителям, отделяла занавеска. Я заглянул за нее и увидел полукружие горой уходящих во тьму тесно заполненных рядов и ярко освещенный диск манежа, на котором уморительно приплясывал желтоволосый клоун.
Осмелев, я откинул занавеску, шагнул в пространство импровизированной ложи и опустился на стул позади сидящего там гладко причесанного человека в ослепительно белом воротничке. Скрестив руки, он следил за представлением.
Еще полминуты — и, позабыв о своем полулегальном положении, я громко смеялся, Да и как было не смеяться! С десяток раз я видел эту сценку и всегда хохотал до слез. Ничего тут, казалось, не было особенного, а вот поди же — как смешно. Дурашливо припрыгивая, клоун наигрывал веселый мотивчик. Одетый во фрак инспектор манежа не позволял чудаку озорничать и отбирал у него то дудочку, то маленькую гармошку. Но лишь только инспектор уходил, клоун доставал другой инструмент и принимался за свое. Из необъятного его пиджака и штанов появлялись: скрипка, флейта, труба. Инспектор терял покой и, забыв о своей важности, уже гонялся за клоуном, который и на бегу продолжал веселиться. В конце концов он глотал последний свисточек и сдавался, подняв руки. Но лишь успокоившийся инспектор, одергивая борта фрака, удалялся, клоун непонятно откуда вытаскивал тромбон. Теперь он, сумасшедше трубя, наступал на инспектора и, оглушив того, убегал с манежа под смех и грохочущие аплодисменты.
Многие из тех, кто в цирке зовется коверным, исполняли эту клоунскую сценку, но не имели в ней такого успеха, как мой друг. Он был одновременно смешон, по-мальчишески ловок и обаятельно лукав.
И здесь, в малопригодном для циркового представления спортивном зале, он покорил всех. Клоуну шумно хлопали и с нетерпением ждали его нового выхода.
Сидевший впереди человек резко повернулся ко мне. Но не самовольное мое вторжение сюда было тому причиной. Кивнув головой в глубину зала, по-русски сказал:
— Там президент. Видите? Смеется…
В сумерках рядов напротив я разглядел ложу с флагами, ниспадавшими с ее барьера. Красным, с серпом и молотом, и трехцветным — страны, где гастролировал цирк. Снежно белели манишки мужчин. Отблеском прожекторов сверкали драгоценные камни на шее супруги президента. Сидящие в ложе смеялись. Смеялся и глава республики, хорошо знакомый мне по снимкам, часто появлявшимся здесь в столичных газетах.
— Исключительно! — проговорил человек в высоком воротничке и снова повернулся к манежу.
Встретились мы, как я и ожидал. Мой друг был удивлен и счастлив. За розовым носом-картошкой и наведенными дугой бровями тепло светились серо-синие живые глаза и угадывалась его домашняя приветливая улыбка.
После представления я ждал его в комнате, превращенной в гримировочную. Со стен ухмылялся и подмигивал мне знаменитый клоун, нарисованный на плакатах с надписями на разных языках. У зеркала трельяжа теснились баночки с кремом, коробки с пудрой и гримом, флаконы с лаком и еще какими-то жидкостями. У входа высилась горка вместительных чемоданов о именем артиста на крышке и стенках.
Его куда-то позвали, как только отгремел оркестр. Он просил подождать и вернулся минут через десять. Был в заметно приподнятом настроении. Торопливо снял мешковатый пиджак и скинул свои смешные разлапистые туфли. В тельняшке с широченными полосами уселся к зеркалу, чтобы снимать грим.
Сорвав с головы желтый парик и сняв клоунский нос, повернулся ко мне, наполовину еще цирковой, а наполовину уже привычный, жизненный, и, сам будто в то не веря, сказал:
— Понимаете, представили президенту. Привели в комнату за ложей… Пожал мне руку. Сказал, что давно так не смеялся. Господа, что с ним были, хлопают… Не знал, что делать. Кланяться глупо. Благодарить с такой рожей?..
Но он был рад, хотя и пытался этого не показать, закрывая лицо ладонью, которой размазывал вазелин. Щеки и лоб его заблестели. Яркие клоунские черты уступили место обыкновенным, человеческим, ничем особо не приметным.
Он предложил мне пойти пешком, и вскоре, покинув затухшую громаду спортивного зала, мы уже неторопливо шагали к центру столицы. Конечно же, я радовался малейшей возможности поговорить с ним, когда ничто тому не мешало.
Но он шел и молчал, жадно вдыхая холодный воздух ночи. Коротко отзывался, если я начинал разговор, и снова умолкал. Потом сказал:
— Очень мало удается видеть, хотя я здесь в третий раз. Работаем по два представления в день. Почти ежедневно.
Мы приближались к центру. Где-то за спиной остался подмигивающий тысячами цветных огней, но уже затихающий луна-парк.
Трудовой народ на Западе ложится спать рано. Зато деловая жизнь начинается там чуть свет. В шесть часов тебя уже будит уличный грохот. Взглянешь в окно гостиницы и увидишь поток несущихся в обе стороны автобусов, машин, мопедов… По панелям спешат тысячи людей. Если на улице дождь, сверху видишь гусеницу из мокрых зонтиков.
А теперь залитые светом витрин тротуары были свободны. Легковые автомобили всех марок, вплотную подобравшиеся один к другому, вытягивались вдоль улиц замершей пестрой лентой. По брусчатке мостовых между дремлющих до утра машин сновали ночные такси с огнями на крышах кузовов и, тревожно сигналя, куда-то неслись полицейские пикапы.
Ночная жизнь города малолюдна. Прохожих на улице почти не было. Но, повстречайся их множество, они нам не могли бы помешать. Несмотря на популярность моего друга, вряд ли кто распознал бы знаменитого клоуна в невысоком коренастом человеке с лицом мастерового, с плоской кожаной кепкой на голове, из-под которой выглядывали начинавшие серебриться волосы.
Еще немного, и мы оказались в одном из переулков у центрального столичного рынка. Здесь не спали. К мясным лавкам с настежь открытыми двустворчатыми дверьми, басовито урча, подходили грузовики-рефрижераторы. Лязгали запоры, и свет падал на бледнеющие В вагонных просторах машин повешенные вниз уже отрубленной головой массивные туши. Могучие краснолицые грузчики в белых халатах снимали их с крюков и, лишь чуть пригнувшись, тащили на спине в помещения лавок, где многопудовые туши снова вздевали на крюки.
— Отлично работают. Смотрите, какой точный ритм. Поднял, подхватил, понес… Все рассчитано. Не мешают друг другу.
Не узнанный никем, клоун замер, любуясь работой дюжих грузчиков. Может быть, в этой картине ночного труда он увидел что-либо привлекательное для своего искусства.
— Зайдемте сюда. Ненадолго, — показал он в сторону дома напротив. — Я был тут в прошлый приезд. Интересно.
Мы перешли улицу и оказались в ночном бистро — кабачке, какие в этом городе встречались на каждом шагу.
Небольшое помещение освещали подвешенные к потолку лампы, напоминавшие старинные керосиновые. У стен с деревянными панелями теснилось несколько столиков. Напротив высилась стойка, сплошь облепленная табличками винных реклам. За ней, перед полками, уставленными бутылками, как книгами, перетирал стаканы тучный усач без пиджака, в красных подтяжках.
Все столики оставались свободными. Мы выбрали дальний и уселись друг против друга. Отсюда было хорошо видно все, что делалось в бистро. В конце стойки, возле витрины, собралось трое грузчиков. Различного роста, одинаково крутогрудые, с шеями борцов, одетые в белое, они походили на группу, высеченную из мраморной глыбы и слегка расцвеченную. Медно-красные лица со спущенными на глаза каскетками, в пальцах мясистых рук стаканчики с каким-то темным напитком. Грузчики переговаривались негромко и коротко. До нас долетали лишь отдельные, малоразборчиво брошенные слова.
Усатый хозяин принес на подносе кофе и две порции коньяка в приземистых пузатых бокалах.
— Прошу, — проговорил он, с удивительным проворством для своей массивной фигуры расставив все это перед нами, и, поклонившись, отошел.
— Артист, — оценив ловкость толстяка, отметил мой друг.
Я коснулся чашки и сразу же оторвал от нее пальцы. Заметив это, клоун улыбнулся.
— Осторожно! Кофе здесь подают огненный. Тут мастера своего дела. Посмотрите на этих тяжеловесов, — глазами он показал в сторону грузчиков. — Каждый из них по-своему артист.
— У вас все артисты, — рассмеялся я. — Это, видимо, оттого, что вы сами превосходный мастер.
Он немного подумал и ответил:
— Артист лишь тогда мастер, когда в нем не видишь артиста. Тогда он настоящий.
Я понял, он не прочь поговорить, что вообще с ним случалось не часто. Надеясь воспользоваться удачной минутой, я все же спросил:
— Вы, наверно, устали? Завтра опять работать.
— Завтра одно представление, — он поднял указательный палец. — Суббота. Здесь свои законы.
Решившись, я ринулся в атаку:
— Давно хотел вас спросить: как вы стали клоуном? С чего вообще это началось?.. Вы ведь не из цирковой семьи?
Он быстро взглянул на меня и наклонил голову. Пожалев о своей беззастенчивости, я решил, что вечер погублен. Но мой знакомый вздохнул, подвинул свой бокал к моему, слегка чокнулся и, отпив коньяка, сказал:
— Нет, отчего же… Если вы хотите… Давно это началось. Я заболел цирком с мальчишеских лет. Виновата во всем оплошность нашего деда. — Видно, что-то припоминая, он задумчиво улыбнулся. — Длинная забавная история. Нет, пожалуй, не такая уж и забавная. Знаете, моему деду не могло и сниться, что мне, клоуну, станет пожимать руку президент.
Глядя на бокал с зажатой между пальцами коротенькой ножкой, он поводил им по столу и, опять взглянув на меня, спросил:
— У вас есть время?
— Сколько хотите.
В ту ночь в маленьком ночном бистро мы засиделись запоздно. Над дверью предупредительно позвякивал колокольчик. В помещение входили грузчики и другие запоздалые люди. Недолго стояли у стойки и, выпив свое, уходили. Нас никто не тревожил. Вот тогда я и услышал эту действительно не совсем забавную историю, которую намерен рассказать, конечно же с разрешения моего друга.
Одного он мне не позволил — назвать его настоящее имя. Рассмеявшись, сказал: «Придумайте какое-нибудь. Не все ли равно». Но я все же не стал выдумывать. Герой моего рассказа остается без имени и фамилии. Черты его тоже несколько изменены. Ну, а если найдутся те, которые догадаются, о ком идет речь, — я в том не виноват. Данное слово я сдержал. Впрочем, кто он, это и в самом деле не имеет большого значения.
Мой знакомый отодвинул опустевший бокал, придвинул к себе чашку с кофе и начал:
— Я из Черемшинска. Значился такой старинный город на российской карте. Теперь его, можно сказать, нет. Черемшинск вошел, в большой город с другим названием. Рядом вырос завод-гигант. Нашего городка не узнать и тому, кто прожил там долгие годы. Где были палисадники, поднялись нынешние дома. Есть и четырнадцатиэтажные. Мало кто помнит траву на обочинах. Ходят троллейбусы. Из старины осталась одна церквушка да угол монастырской стены. Говорили, когда-то Иван Грозный сослал туда одну из своих жен. Может быть, и правда, потому что Черемшинск почти до самой войны был городом, как у Гоголя, — сто лет скачи, до него не доскачешь. Летом к нам ходили пароходы «Лебедь» и «Товарищ Чичерин». Зимой — как знаешь, так и добирайся. Правда, когда начали стройку, картина изменилась. Тянули ветку, строили мост. Но сам Черемшинск еще оставался далеким городом — районным центром с редкими каменными строениями, с деревянным театриком в Саду трудящихся.
А для меня с моими босоногими товарищами не было на свете земли лучше черемшинской. Где-то я читал, что настоящие люди выходят из провинции. Возможно, и преувеличение, но хотелось бы верить… Да, так вот. Какие окуни ловились в нашей Черемшинке!.. Грибов в лесах!.. И все яблоки в садах наши. Только не трусь и разбирайся, где какая собака и что у нее за нрав.
Жил я с отцом и матерью в доме, построенном еще прадедом. Летом отец работал на пристани. Зимой где-то слесарил. Мама трудилась на кружевной фабрике.
И вот перед войной, года, наверно, за три, появился откуда ни возьмись дед, о котором раньше я ничего не слышал. Я знал, что мой дед — мамин отец — погиб в империалистическую войну под неизвестным мне Перемышлем. На стене в большой комнате висела пожелтевшая фотография. Дед в лихо сдвинутой набок папахе, с закрученными усами, с погонами на шинели. На середине груди — медали и крест. Потом я узнал, что дед мой был георгиевским кавалером — героем той далекой войны, а тогда всех, кто с погонами и крестами, я считал белогвардейцами и никак не мог смириться с тем, что мой дед сражался за царя.
Тот дед, что появился однажды осенью, был совсем другим. Он был моим двоюродным дедом — братом маминого отца. Худощавый, среднего роста, с бритым лицом, на котором навсегда осталось такое выражение, будто он сделал что-то плохое и теперь ему совестно.
Мама не помнила своего дядьку. Да и не могла помнить. Он пропал, когда ее еще не было на свете. Из семейных рассказов было известно, что дядька ушел из дому мальчишкой, будто бы еще в том веке. Пока была жива его мать — моя прабабка, он время от времени присылал ей из разных городов деньги. О себе ничего не писал и, где живет, не сообщал. В семье этого деда считали беспутным бродягой. Потом он и вовсе словно сгинул со света. Про него забыли.
И вот он вдруг объявился. Приплыл на «Лебеде» с большим обшарпанным чемоданом-гармошкой, добела потертым на сгибах, и неуклюжим каким-то сундуком, вернее, даже ящиком, на стенках которого остались следы старательно содранных наклеек.
Вернулся уже стариком. Был совсем лыс. Только на висках и затылке оставалась белесая подковка волос.
Видно, он не очень-то и надеялся, что его пустят жить к нам, хотя на старости лет и потянуло домой. Но места у нас хватало. Тогда еще не началась стройка и в старых домиках не теснились, как это было позже.
Пропащему деду выделили комнатку. В ней он и обосновался со своим странным багажом. Где он с тех давних пор скитался и что делал, старик не рассказывал. Но его и не расспрашивали. Отец у меня был не из любопытных, молчаливый, оживлялся он только выпив. Тогда становился весел и говорлив. Умел плясать и выделывал разные фигуры, что меня с малолетства приводило в восторг. Я как праздника ждал, когда отец немного выпьет. Это и случалось лишь в праздники.
Не расспрашивал деда про прошлое отец, не донимала расспросами и мама. Они во всем с отцом были заодно. Только и узнали от старика с его слов, что он не женился, детей не имел и остался одиноким.
Поселившись у нас, он поступил ночным сторожем на кружевную фабрику. Уходил на работу поздно, а днем спал мало. Так я и не понимал, когда он спит.
Не сговариваясь, стали мы его называть «нашим дедом». Дед не дед, а все-таки… А для меня он стал просто дедом. Не было у меня раньше дедушки и вот появился.
С нашим дедом мы хаживали на Черемшанку за окуньками. В летнюю пору часто бродили по лесам. Лесов вокруг города было вдоволь. По лесу дед ходил непохоже на других. Останавливался и, запрокинув голову, глядел на верхушки елок, замирал перед полянами. В лесу он становился иным. Громко хлопая в ладоши, гонялся за пичужками. Бегал забавно. Походка у него была смешная — носками врозь. Умел дед замечательно свистеть. Свистел так громко, хоть уши затыкай. Он и меня научил этому свисту. Сколько ни бились мои уличные приятели, у них и похожего ничего не получалось!
Но хоть и стали мы с дедом будто бы товарищами, а разузнать у него, откуда он приехал и что был за человек, я не мог. Только слышал — объехал он всю нашу страну, видел множество разных городов. Я был готов слушать его раскрыв рот, я ведь дальше деревень за Черемшинском не ездил никуда. Но он не был щедр на рассказы. Обронит что-нибудь про дальние места и больше ни слова.
Иногда я замечал — он скучает. Сидит на стуле в своей комнатенке, руки сцеплены на коленях, наклонив голову смотрит вниз. Но стоило мне застать его в таком положении, тут же поднимается и заговорит со мной, словно и не скучал.
Как-то я, не выдержав, спросил его:
— Дед, кем же ты все-таки был, когда ездил по всем городам?
Он заговорщически мне подмигнул, рассмеялся.
— А никем. Просто так мотал с места на место.
— Нет, неправда, — не соглашался я. — Был ты кем-то.
Тогда он, слегка вздохнув, сказал:
— Может быть, и был, да забыл. Не помню.
И больше о том ни звука.
Тогда закралась мне в голову дурная догадка, что наш дед был вором. Теперь, став старым, порвал с воровской шайкой и приехал туда, где о нем никто не знает ничего плохого. От мысли, что мой нынешний, такой тихий дед прожил жизнь вором, у меня спирало дыхание. Если бы, думал я, он доверил мне свою тайну, я бы никому не выдал. Тем более что он сам, конечно, стыдится своего прошлого. Теперь наш дед — человек честный, иначе кто бы ему доверил охранять фабрику?! А если он бывший вор, то при советской власти это не считается. Я читал, что еще не такие преступники исправляются и живут как все люди. Про себя я уже простил деда, но сказать ему о своей догадке не решался. Что, если не так?!
И понятно, что больше всего меня в те дни интересовало содержимое дедова сундука. Что он там в нем прячет? Быть не может, чтобы наворованное. Дурак он, что ли? Но сундук, который при мне никогда не раскрывался, стоял затворенным на ключ, а кроме того, на нем еще висел вдетый в кольца надежный замок. Какие такие ценности мог хранить в этом загадочном ящике наш дед, совсем не похожий на богатого?
Еще в первые дни после приезда дед вынул из чемодана-гармошки, развесил и разложил свои вещи: неновый серый костюм, широкополую шляпу, лаковые, когда-то, наверно, шикарные, сильно потасканные туфли с острыми носами… Похоже было на то, что расположился он здесь временно, а вовсе не навсегда, как нам объявил.
Однажды, когда мы были вдвоем, я, показав на сундук, будто от нечего делать, поинтересовался:
— Что у тебя там за чудо, дед?
Он ответил не сразу. Взглянул на ящик так, словно и сам увидел его впервые, и сказал:
— И верно, чудо. Ничего там нет. Разный хлам. Давно бы пора выкинуть.
Не очень-то я ему тогда поверил. Кто же станет держать хлам, который надо выбросить, за двумя замками.
Любопытство распирало меня. Порой, когда деда не бывало дома, я припадал к сундуку. Оглаживал его и ощупывал. Прикладывал ухо к замочной скважине, будто что-то мог услышать. Я и обнюхивал ящик. Ведь он на самом деле чем-то пахнул. Это был незнакомый мне запах. Теплый, немного кисловатый и чуть горький.
Что думать? Я был окончательно сбит с толку.
Года два уже прожил у нас дед. Привыкли к нему и дома, и по соседству. Все звали его Пантелеичем, а имени — Михаил — никогда не упоминали. Так уж было заведено на нашей улице. По имени взрослые никого тут не называли. Только и слышалось: «Ивановна», «Мироновна», «Петрович», «Савельич»…
Старый Пантелеич больше ни у кого не вызывал особого интереса. Живет человек, никому не мешает. А откуда он взялся, почему к старости причалил к родным берегам — о том уже перестали и говорить. У каждого своя судьба. У Пантелеича, стало быть, такая.
И вот наступил день, когда все обернулось по-другому.
Мой знакомый оборвал рассказ. Уже совсем было переселившись в старый русский город, я вновь оказался в чужой стране. Рассказчик умолк, внимательно глядя на меня. Вероятно, стремился понять, интересно мне на самом деле или я из вежливости слушаю его, не перебивая. Однако, убедившись, что внимание мое искренне, задумчиво проговорил:
— Да вот, удивительно, все помнится, будто было вчера.
Мы подозвали усача и повторили заказ. Принесли кофе. Мой друг продолжал:
— К нам в город приехал цирк. Было это уже перед войной, когда началось строительство завода. Наш Черемшинск ожил. Будто протер глаза после долгого сна. В старых домиках поселились квартиранты. На работу их возили на автобусах и грузовиках. Жили и за городом. Поставили там палатки, похожие на длинные сараи с окнами.
В тот год после майских праздников на заборах и стенах запестрели афиши: «Едет цирк!», «Госцирк-шапито», «Внимание, скоро — цирк!» Появились плакаты с замысловатыми фамилиями акробатов, гимнастов и дрессировщиков и обещанием, что «весь вечер у ковра» станет веселить публику клоун Лев Удачкин.
Нечего говорить о мальчишках, которые по десятку раз смотрели картину «Цирк», славу которой для нас затмевал только «Чапаев». Тут мы вообще не хотели уходить из кино. И взрослые с нетерпением ждали начала гастролей. А мы, огольцы, что ни день носились к полуразвалившимся воротам городской заставы «встречать цирк» и дрожали при мысли, что может он вдруг в Черемшинск не приехать.
Но цирк все-таки прибыл. Приехал в нескольких вагончиках на колесах, прицепленных к грузовикам. Расписанные словом «Госцирк» вагончики полукругом поставили на Базарной площади. Из одного, к нашему ликованию, слышался медвежий рев.
Уже на следующий день стали устанавливать шапито. Подняли две высоченные мачты и принялись сколачивать что-то похожее на круглый забор, за которым строились невысокие трибуны с деревянными скамейками. Потом поднялся брезент и закрыл от нас все, что было за ним.
Нисколько не интересовался приезжим цирком, кажется, только один наш дед. Когда я прибегал с площади, рассказывал ему, что там видел, дед слушал меня рассеянно. Покивав головой и пробормотав: «Ну хорошо, хорошо…», он уходил к себе в комнату.
Я приставал к нему:
— Дед, мы пойдем с тобой в цирк вместе. Мама мне даст денег.
Он отнекивался:
— Иди один. Я сам тебе на билет дам. Что мне смотреть, не видал я цирков?!
Это было странно, потому что, например, наш дед часто бывал в кино. На картины, когда пускали до шестнадцати лет, мы ходили вместе. Оба мы любили комедии. На комедиях дед смеялся не меньше моего. Задиристо, как-то по-детски, хохотал. Засмеется, потом оглядывается в темноту, на соседей. Будто стыдился своего смеха.
И тут он пошел со мной в кино. Даже охотно пошел. Было ему в те дни дома как-то не по себе. Даже на дежурство на фабрику уходил раньше времени.
И с кино происходило что-то непонятное. Всегда мы ходили в наше кино «Коммуна» через Базарную площадь. Так было ближе. А тут дед повел меня по главной улице, не сокращая дороги. Сказал: «Идем так».
Назад шли тем же путем, хотя мне очень хотелось показать ему цирк-шапито, который вот-вот уже должен был открыться. И разговора про увиденную картину, как это у нас водилось обычно, на тот раз не получилось. Почти все время шли молча.
На той главной улице находилась гостиница «Центральная». Двухэтажный каменный дом с рестораном. Почему она называлась «Центральной», неизвестно. Других гостиниц в городе не имелось.
Ну так, шагали мы молча домой. Приближались уже к гостинице. На улице было светло. Темнело поздно. У самой «Центральной» навстречу нам попался незнакомый человек. Мне показалось, увидев его, дед хотел юркнуть в сторону, но было уже поздно. Встречный заметил его и шел к нам, удивленно вскинув брови и приподняв руки.
Был он одет не по-здешнему: в светлый костюм и высокие начищенные сапоги. На шее бантик-бабочка. На голове большая кепка с пуговкой сверху.
— Мишель!.. Ты?! Глазам своим не верю!.. Откуда в этой дыре?!
Прокричав все это так громко, что было, наверно, слышно на другом углу улицы, человек в кепке с кнопочкой обнял нашего деда и, не выпуская из своих рук, расцеловал.
— Так вот ты куда спрятался, старый хитрец!.. — продолжал он, уже отпрянув и стискивая деду плечи. — Пропал, совершенно испарился… Я и в Москве интересовался. Никто не знает, куда подевался…
Увидев, что дед кидает в мою сторону растерянные взгляды, я решил пройти вперед и подождать его поодаль. Назвавший его хитрецом был моложе нашего деда, хотя из-под кепки и выглядывали аккуратно подстриженные седые височки.
Но тут меня позвали. Показав на меня, дед сказал:
— Это мой внук, Иван Августович.
— Глядите, все у него есть, — проговорил тот и, оставив старика, пожал мне руку. — Рад знакомству.
Рука у него была твердая, будто из камня. Мне показалось, где-то я уже видел этого человека, слышал его громкий голос. Вскоре они с дедом попрощались.
— Приходи!.. Обязательно приходи с внуком, Мишель. Зайдешь, и вспомним былое, — крикнул нам вдогонку дедов знакомый.
Расставшись с ним, дед заспешил домой, а я вдруг вспомнил, где видел и слышал этого человека. Совсем не такой нарядный, в рабочей одежде, он распоряжался иа Базарной площади, когда там расставляли вагончики.
— Я знаю этого, в кепке! — вскричал я. — Он из цирка, да?
Мысль о том, что человек, с которым наш дед на ты, какой-то начальник в цирке-шапито, взволновала меня.
— Да, — глотая слова, проговорил он. — Это Иван Августович. Он там служит.
— Откуда ты его знаешь?
— Знаю. Давно.
— Откуда?
— Встречались. Говорил же я тебе, что бывал повсюду. Ну, людей разных знаю, мало ли!
— Почему он сказал, что у нас дыра?
— Для него, может быть. Он и за границей бывал.
— А почему он тебя назвал Мишель?
— Так меня звали раньше.
— Кто звал?
— Все кому не лень.
По тому, как он неохотно отвечал, я понял, что большего мне от деда сегодня не добиться. Надувшись, я молчал всю оставшуюся дорогу до дома. Но он, видимо занятый своими мыслями, кажется, и не заметил.
А через день произошло еще более для меня удивительное.
Забежав из школы домой, чтобы забросить свой испытанный в боях парусиновый портфель и удрать на улицу, я услышал в маленькой комнате голоса. У нас с дедом не имелось секретов, и я заглянул за дверь. В гостях у него был тот самый Иван Августович из цирка. Значит, он знал адрес и пришел к нам.
Гость уже собрался уходить и стоял, держа в руках кепку. Наш дед тоже стоял, прощаясь с ним. Увидев меня, он запоздало снял со стола и опустил на пол опорожненную высокую винную бутылку.
— Ну, все! По гроб жизни будем тебе обязаны, — гремел уходящий. — Ты всегда выручал, кто не помнит… Старая гвардия, что там говорить…
— Да ладно, — отмахивался дед. — Я ведь уж и не думал… Что поделаешь, придется… Только уж как договорились. И вот, — он повернул голову ко мне, — его на представление.
— Какой разговор! Этого-то атлета, — знакомый деда, как тогда, у гостиницы, протянул мне руку. — Сделайте одолжение! Приходи, друг, завтра на премьеру. Начало в восемь. Минут за пятнадцать приходи. Скажешь — от Ивана Августовича. Можешь с приятелем…
— Мы с дедом, — сказал я.
— С дедом? — гость как-то многозначительно посмотрел в его сторону. — Это уж вы сами.
Дед пошел провожать гостя. Когда он вернулся, я спросил:
— Ты пойдешь со мной в цирк?
Он замотал головой.
— Не могу. Ты уж с кем-нибудь.
— Я хочу с тобой.
— У меня дело.
— Какое дело? Завтра ты не дежуришь. Я знаю.
— Все-то ты знаешь, все понимаешь. Занят я, и все! Иди сам, раз тебя позвали.
Тут дед неожиданно рассердился и стал кричать, что я слишком много о себе понимаю, — визгливо, совсем не похоже на себя. Что он хочет покоя, а ему не дают. Что с него довольно и всякое такое прочее.
Прежде с ним такого не случалось. Подавленный, я ушел на улицу, но и там не мог успокоиться. Не понимая, что стряслось с нашим дедом, я догадывался, что причиной внезапной перемены был посетивший его гость. Но зачем же ругать меня? Я обиделся, решил с ним не разговаривать и в цирк, куда меня обещали пропустить бесплатно, вот взять и не ходить.
На другой день дед исчез из дома с утра. Не пришел и обедать. Маме он сказал, что должен будет в чем-то помочь на фабрике, но я тому не верил.
Была суббота. Обыкновенно по субботам мы с отцом или дедом ходили в баню. Но сегодня мои родители отправились на свадьбу в другой конец города, и в баню со мной никто не пошел.
После обеда, пользуясь полной свободой, я гонял с мальчишками по улице. Играли в чижика и попа-загонялу. Меж тем про себя я все время твердил, что назло деду ни за что не пойду в цирк. Однако по мере того как время склонялось к вечеру, твердость решения начинала давать трещину. А при чем тут, в конце концов, думал я, дед? Ведь в цирк меня позвал Иван Августович. Вот возьму и пойду, а дома вообще не скажу, что был там.
Словом, в семь часов вечера я уже рылся в мамином комоде, отыскивая свою праздничную синюю рубаху, а в начале восьмого, положив в условленное место ключ, во всю прыть несся к Базарной площади, беспокоясь, как бы не опоздать на представление.
Я пошел в цирк один. Что-то удерживало меня от того, чтобы взять с собой кого-то из ребят. А вдруг знакомый деда позабыл про меня. Хорош тогда буду!
Я не только не опоздал, а явился на площадь, когда широкие двойные двери шапито были еще заперты. Над окошечком кассы висело объявление о том, что все билеты на сегодня проданы. И все же возле нее, неизвестно на что надеясь, толпился народ. Подозрительно поглядывая на снующих возле входа мальчишек, прогуливался милиционер с наганом на боку. Неужели, думал я, вот так, запросто я пройду в цирк? И чем больше я сомневался, тем сильнее хотелось туда попасть. Дважды я обошел кругом двугорбый шатер. За забором слышалось что-то похожее на выстрелы, лай собак и ржание коней.
Наконец голубые двери растворились, и нетерпеливая публика повалила в цирк. С дрожью в ногах вступил я под брезентовые своды.
— Проходи на свободные, — велела мне толстая контролерша с надписью «Госцирк», вышитой по обоим углам воротника тужурки.
Я кивнул и оказался по ту сторону барьера. Шапито внутри показался мне похожим на океанский парусник, каких я тоже, конечно, не видел, но о которых к тому времени достаточно начитался. По-корабельному высились две мачты. Круглые отверстия на вершине брезентового шатра не прилегали к ним вплотную, и в кольцах оставшегося пространства виднелось еще не угасшее сиреневое небо. По-корабельному спускались сверху канаты и свисала веревочная лестница. Казалось, поднимись ветер — заскрипят мачты и цирк-парусник помчится по бурным волнам.
Мне нашлось место в седьмом ряду у среднего прохода. Оттуда был отлично виден занавес, за которым скрывались артисты. На тесной площадке сверху настраивали свои инструменты музыканты.
Но вот и зажглись яркие лампы, в сумерки погрузив скамьи со зрителями и высветив желтый круг манежа.
— Представление начинается!
Это чеканно выстрелил словами человек во фраке. Он стоял посреди арены и, крутя напомаженной головой, оглядывал заполненные публикой ряды. Я узнал его сразу. Это был тот самый Иван Августович, сейчас по-особенному шикарный. Я был горд знакомством и с превосходством смотрел на сидящих поблизости мальчишек. Знали бы они, что этот главный распорядитель еще вчера здоровался со мной за руку! Мне очень хотелось, чтобы Иван Августович увидел меня, и я изо всех сил высовывался вперед. Представление меж тем уже шло. Вся в лиловом с блестками на груди гимнастка вертелась на трапеции, укрепленной в вышине. Ее сменил молодой жонглер. Взяв в зубы палочку, он ловил на нее мячи, бросаемые публикой. Потом скакала на лошади наездница с длинными волнистыми волосами и с золотыми кольцами в ушах. Вот она спрыгнула с седла и, отпустив коня, раскланялась перед зрителями. Знакомый нашего деда не отпускал наездницу с манежа, и она снова кланялась, придерживая руками край своей воздушной юбочки, и благодарно улыбалась.
В это время за моей спиной послышался оглушительный свист. Вниз по проходу, топая ножищами и вовсю вопя «браво, браво» и «бис», пронесся рыжий клоун. В вытянутых руках, на которых манжеты болтались отдельно от рукавов, он держал горшок с цветком, намереваясь поднести его наезднице. Рыжий уже было перепрыгнул через барьер, но споткнулся, растянулся. Горшок вылетел из рук, взорвался и разлетелся на куски. Клоун поднялся, выплюнул с полкило опилок и, громко рыдая, прохромал за наездницей.
В следующий раз он выбежал на арену сразу же после выступления прыгунов-жокеев. В руках Рыжего оказался длинный хлыст. Он щелкал им и требовал от одного из подметавших манеж униформистов, чтобы тот изображал коня. Ловкий парень, пробежав один круг, сумел провести Рыжего и выманил у него хлыст. Теперь, уже сам превратившись в дрессировщика, униформист гонял клоуна. Он заставлял его бегать все быстрее и быстрее. Клоун несся по кругу, широко раскидывая ноги в узких клетчатых штанах. Он тяжело дышал и, оглядываясь, просил пощады. Размалеванное лицо с загнутым вверх глупым носом стало совсем не смешным, хотя иные из публики и радовались потехе. Мне сделалось жаль бедного Рыжего? Густой грим не скрыл от меня того, что клоун был стариком.
И тут я чуть не закричал, пораженный внезапным открытием. В гоняемом униформистом Рыжем я узнал нашего деда. Не было сомнений — это он. Его смешная походка носками врозь. Именно так он бегал по лесу, пугая пичужек. Это были его длинные костлявые руки, высовывавшиеся из коротких рукавов.
К моему счастью, фрачный распорядитель прекратил затянувшееся чудачество. Он забрал кнут у молодого униформиста и, погрозив ему, прогнал обоих с арены. Рыжий ускакал за кулисы, держась за штаны, а Иван Августович объявил:
— Весь вечер у ковра клоун Мишель!
Сраженный невероятной новостью, я в антракте не находил себе места. Наш дед — рыжий клоун! Что делать — радоваться? Но ведь деда все обижали. Разве это было смешным, хоть он и старался рассмешить публику? Кончились подозрения о дурном прошлом Пантелеича. Он служил в цирке, с ним и побывал повсюду. Но почему не хотел об этом ничего рассказывать? Стыдился, что всю жизнь падал и глотал опилки? Что получал по заду метлой, что его гоняли? Но ведь это было понарошку. И потом, зачем тогда вернулся в цирк и вот снова на манеже?..
К антракту на улице потемнело. В пространство меж мачтами и поднятым на них брезентом гляделись звезды. Зрители выходили на площадь, но я не покидал шапито. Я обходил круг барьера, приближался к занавесу, отделявшему нас от служебных помещений цирка. Пытался заглянуть за него и узнать, что там делается. Но подойти не позволяли дежурившие у выхода на арену служители. С той стороны из-за занавеса до меня доносился непонятный запах. Пахло горьким и немного кислым теплом. И тогда я вспомнил — ведь так же пахнул сундук нашего деда. Это был запах цирка, который навсегда въелся в стенки ящика. Почему же, почему дед все скрыл от меня?..
Во втором отделении Рыжий выходил несколько раз. Когда выступали собачки, дед вертелся среди них и ускакал с манежа только тогда, когда и ему, как заупрямившемуся шпицу, дали конфетку. Он еще путался в сетке, которую натягивали для воздушных гимнастов. Желая показать, что может быть акробатом, скинул пиджак, и оказалось, что у него вместо рубашки только бант с драным нагрудником и весь он по пояс голый. Не очень-то смеялась публика над его шутками. Но я всякий раз, когда видел, что Рыжий хочет рассмешить зал, хохотал во все горло. Мне очень хотелось поддержать деда, и я делал вид, что смеюсь от души. Но на самом деле ни его грим, ни приклеенный нос не могли скрыть от меня невеселого лица деда. Лучше бы, думал я, никогда не знать, что он был клоуном.
Кончилось все тем, что перед выступлением джигитов надоевшего униформистам Рыжего закатали в ковер и, верещащего и дрыгающего ногами, увезли на тачке.
В заключительном параде дед, чуть ссутулившись, стоял на нашей стороне цирка. Я был рад, что он на меня не смотрел.
Лишь только участники программы стали покидать манеж, я бросился к выходу и, пробившись сквозь толпу, побежал к дому.
Сидя на представлении, я твердо решил скрыть от деда, что был в цирке, видел его и узнал. Тогда не придется уверять, что мне было смешно.
Хорошо, что отец с матерью еще не возвратились со свадьбы. Никто не знал, когда я вернулся.
Войдя в дом, я прежде всего включил всюду свет. Потом решил — разденусь и улягусь в кровать. Потушу лампу, сделаю вид, что давно сплю. Дед и подумает, что я нигде не был.
Щелкая выключателями, я меж тем забрел в его комнату и невольно, по привычке, взглянул на сундук. Тут я заметил, что наружный замок был оставлен вдетым в одно кольцо. Убежденный в том, что ящик заперт на ключ, я все же подошел к нему и тронул крышку. К моему изумлению, она легко подалась вверх. Сундук раскрылся.
Еще несколько секунд я колебался. Так долго испытывающий мое мальчишеское любопытство загадочный ящик готов был открыть свою тайну, а вместе с тем и тайну нашего непонятного деда, хотя теперь уже… Я поднял крышку, откинул ее к стене.
Сундук был заполнен лишь наполовину. В нем лежали удивительные вещи. Забыв обо всем и, главное, о том, что собирался в постель, я стал вынимать оттуда одно за другим: посеребренную ложку такой величины, что я бы мог в ней усесться, ненастоящий будильник размером в банный таз, ножницы из жести с лезвиями длиной в метр, толстую бамбуковую трость и другие немыслимые клоунские доспехи.
Тут же были вложенные один в другой, наверно, дюжина разноцветных шапочек-колпаков и длиннющие, с загнутыми носами полуботинки. Под ними пиджак, расписанный разноцветными кругами, полосатые штаны, какой-то красный жилет и еще разная цветистая, очень не новая одежда Рыжего.
Вытащив что попалось мае под руку из сундука, я окончательно осмелел и решил нарядиться клоуном. Сумев кое-как натянуть на плечи пиджак, я замотал рукава. Потом нахлобучил на голову все шапочки, влез в ботинки и взял в руки палку. Давясь от смеха, в таком невероятном виде я, как на лыжах, зашаркал в большую комнату к стенному зеркалу. Там я увидел себя в съехавшем на глаза колпаке и пиджаке, доходящем мне едва ли не до пят. Мой вид, к тому же в туфлях-лыжах, развеселил меня еще пуще. Вертя палкой, я принялся корчить забавные рожи и раскланиваться перед зеркалом. Потом стал срывать с головы колпаки и кидать их воображаемой публике. Клоунские штиблеты мешали мне двигаться. Я сбросил их и начал прыгать, дурацки задирая ноги и самому себе подмигивая.
Все это казалось мне очень смешным. Неожиданно для себя я вдруг пришел к мысли, что клоун может быть очень даже веселым и забавным, а вовсе не тем, над которым все только насмехаются и подставляют ему ножки. Мне уже не было жаль деда. Он сам, полагал я, виноват в том, что его обижают. Я бы ни за что не позволил. Сами бы от меня заплакали.
В самый разгар моих вывертов, когда я, подражая Чарли Чаплину, снова влез в ботинки и размахивал палкой, я увидел в зеркале глаза деда. Остановившимся взглядом он смотрел на меня, замерев в отворенных дверях.
Я застыл в глупейшей позе, не зная, что делать. Что могло быть нелепей моего вида? Мы смотрели с дедом друг на друга в зеркало. Я ждал, что он сейчас закричит на меня,-но он, не знаю почему, молчал. Могло ли так долго продолжаться? Выйдя из оцепенения, я кинулся собирать валявшиеся повсюду колпаки. Но дед остановил меня.
— Погоди, погоди, чего ты испугался? — заговорил он. — Продолжай… Браво!.. Что делать, я сам оплошал. Забыл затворить сундук. Теперь ты знаешь, что за чудо твой дед и где он скитался. Я хотел, чтобы вы этого не знали. Что делать! Сам виноват…
Он сделал несколько шагов и, отодвинув стул, опустился на него. Попросил:
— Отвори окно.
Я поспешно выполнил его желание и вернулся. Дед сидел, положив на колени свои большие руки. Теперь уже не было смысла врать, что я не был в цирке.
— Дед, ты не думай, — сказал я. — Я все равно бы узнал тебя.
Он покивал головой и, еще немного помолчав, спросил:
— Ты смеялся?
Разве мог я сейчас, когда видел его таким, сказать правду? От деда попахивало вином. Наверно, там они отметили его возвращение на арену. Но он не был ничуточки пьяным. Выцветшие глаза смотрели устало.
— Еще как!.. Я хохотал вовсю. Было здорово смешно.
— Правда смешно?
Он вскинул на меня оживший взгляд.
— Конечно.
Но его нельзя было обмануть. Артиста вообще трудно обмануть, когда он знает, что публике не понравился. Вспыхнувший в глазах огонек потух. Дед помотал головой.
— Нет, они не смеялись. Совсем не смеялись… А раньше смеялись все. Весь вечер… Так было долго. Почти сорок лет. — Он снова умолк и как бы про себя добавил: — Старый клоун — это не смешно.
С облегчением я понял, что он не станет меня ругать за то, что я залез в сундук. И тогда я, показав на уже собранные мной вещи, спросил:
— Зачем ты все это прятал от меня?
Не шелохнувшись, он ответил:
— Не хотел, чтобы вы знали обо мне все.
— Зачем же притащил с собой сюда?
Он виновато посмотрел на меня и пожал плечами.
— Не знаю. Не мог сразу расстаться.
Я принялся собирать клоунскую одежду, чтобы отнести ее на место, но дед остановил меня.
— Постой. Садись, слушай. Из цирка трудно уйти, если ты в него попал… Цирк — это семья. Когда-то таким, как ты, я ушел из семьи с цирком, а теперь, когда стал старым, решил — уйду из цирка. Я уехал от него далеко, как мог. Но не распрощался со всем этим. Надо было все выбросить. Не хватило духу. И вот цирк сам пришел за мной… Я не хотел, но они просили выручить. Их коверный приедет только утром. Без Рыжего нет программы. Я не мог не выручить. В цирке всегда выручают. Если бы я все выкинул, я бы им не был нужен.
— Хорошо, что ты не выбросил, дед.
— Нет, зря. Ты бы не узнал.
— И ты бы мне никогда не рассказал?..
Он поднял голову и посмотрел на меня. Глаза потеплели.
— Не знаю. Может быть, ты и сам бы дознался. — Помолчал и заговорил снова: — Нет, Мишеля больше не будет. Есть Пантелеич. И знаешь что? — Зачем-то он оглянулся на отворенное окно. — Про сегодняшнее ничего не говори ни матери, ни отцу, ладно? Ты когда-нибудь поймешь, они — не смогут.
Видно, он принимал наш Черемшинск за тот же, каким оставил его много лет назад. Я не стал ему противоречить и кивнул в знак согласия. Как это ни было трудно, обещание свое я сдержал. С утра сундук в комнате деда снова стоял запертым на все замки. Тайну его я открыл маме только после войны, когда деда уже не было в живых. Мой отец так ничего и не узнал. С войны он не вернулся.
Умолкнув, мой знакомый смотрел в чашку с остывшим кофе. За стеклами витрины натужно урчали разъезжавшиеся тягачи с рефрижераторами. Я молчал, надеясь, что рассказ еще не закончен, и не ошибся. Кинув на меня любопытный взгляд, он продолжал:
— На следующий вечер на манеже был обещанный молодой коверный. Я бегал в цирк чуть ли не каждый день. Иван Августович разрешил пускать меня, и не одного. Кажется, я перетаскал в цирк, всех своих приятелей. Именно с тех пор я вбил себе в голову, что стану клоуном и никем другим. И чем дальше шло время, тем тверже становилось во мне это намерение, и, видите, я им все-таки сделался. — Мой знакомый улыбнулся. — А виноват во всем дед Мишель Пантелеич. Не привези он с собой тот ящик, вы бы не сидели теперь здесь с клоуном из Московского цирка.
— Его можно вспомнить только добром, — сказал я.
— Пожалуй, — кивнул мой друг. — Хотите знать, что было с ним дальше? Он уехал со своим багажом в тот же день, когда снялся с места шапито. Прибежав из школы, я уже не застал ни нашего деда, ни его сундука, Откуда-то прислал маме немного денег и открытку. Просил извинить его за беспокойство, писал, что уехал к старому товарищу. Я-то знал, что это был за товарищ. Теперь, когда цирк сам явился за ним, дед не смог с ним больше расстаться.
С тех пор я его не видел. Много позже узнал, что, работая то берейтором, то служителем у дрессировщиков зверей, во время войны Мишель еще выходил на манеж в клоунадах, где изображал битых гитлеровских вояк. Говорили, у него это получалось. Кончил жизнь он в небольшой группе на Дальнем Востоке. Годы были трудные. У цирковой группы не имелось лошадей, и моего деда везли на кладбище на тележке с впряженным в нее осликом. Знал бы это дед, не обиделся бы. Ведь он был Рыжим, каких теперь больше нет.
— А знаете? — Мой знакомый вскинул на меня быстрый взгляд. — Я навсегда запомнил его слова: «Старый клоун — это не смешно».
Из бистро мы уходили последними. Проводив нас, усталый хозяин затворил двери. В это предутреннее время город был пустым. Угасшие рекламы на крышах позволяли увидеть сереющее к заре небо. Изредка нас обгоняли груженные ящиками с овощами небольшие полупикапы. Это из павильонов центрального рынка мелкие торговцы развозили товар, чтобы через час-два продавать его в своих уличных палатках. Мой друг жил ближе меня, и я проводил его до отеля. Не знающий сна портье с готовностью отпер, двери и приветливо, хотя и профессионально улыбнулся, впуская знаменитого русского артиста цирка.
Мы с моим знакомым расстались, чтобы встретиться уже дома, на родине.
КОНФУЗ
Многие знают, я люблю цирк.
Да и как его не любить?! В цирке весело и интересно. Бывает и страшновато. Конечно, не за себя, а за артистов. Ведь чего только они там не вытворяют!
Люблю людей цирка за их нетребовательность к житейским удобствам. За неприкованность к городским квартирам, которые они легко покидают, чтобы отправиться на край света. Но главное, что покоряет меня в циркачах, как их называли издавна, — это дерзостный вызов судьбе, который они запросто считают ежевечерней работой.
Понятно, это бесстрашный народ. Судите сами. Станет ли трус взбираться на полтора десятка метров ввысь, под самый купол, и летать там по кругу, как на «гигантских шагах», да еще вниз головой? Ну, а его красавица партнерша, проделывающая всевозможные трюки на трапеции, которую этот смельчак держит зубами, разве это не отважная женщина? Или решится обыкновенный человек разгуливать с живой пантерой на плечах, будто на нем богатый меховой воротник? Да что там говорить — храбрецы!
И дело вовсе не в том, чтобы влезть черт знает куда и очертя голову прыгать вниз или, демонстрируя неустрашимость, играть с тигром, словно с котенком. Нет, тут всякий раз надо быть твердо уверенным, что ничего с тобой не случится. Просто ты не имеешь права о том и думать. Должен знать — сумею выйти из любого положения.
Да, в цирке ничего нельзя делать кое-как или, просто говоря, спустя рукава.
Попробуйте, скажем, хоть долю секунды быть не настороже, когда за спиной находится зверь, которому невесть что может прийти в его хищную голову, или оплошать, запоздав поймать на руки подброшенного с доски акробата…
Думаете, лучше быть клоуном? Смеши себе народ — и все будут довольны.
Если так рассудили — ошибаетесь. Хороший клоун в цирке — самый искусный и разнообразный артист. Он обязан не только уметь делать то, что делают здесь другие, но еще и провести публику, уверив ее, что перед ней добродушный недотепа, над которым можно вдоволь посмеяться.
Видели вы, как какой-нибудь рыжеволосый чудак о красным носом, подцепленный за шиворот, с невообразимым визгом взмывает под купол, теряя при том свои широченные штаны? Так вот, знайте: этот эксцентрик — самый лучший мастер в группе выступающих воздушных гимнастов.
Что касается меня, то я во всех этих клоунских штуках и разных цирковых фокусах разбираюсь запросто. Ничего удивительного в том нет. В цирк я хожу везде, где только он есть. А наш, ленинградский, посещаю — подумать только! — почти шестьдесят лет. Я бывал в нем так давно и помногу, что друзья мои удивляются, почему я до сих пор не стал там главным режиссером или хотя бы дрессировщиком белых собачек.
Все-таки с годами я сделался в цирке своим человеком. Прохожу туда со служебного хода со словечком «Здрасте!». Меня не останавливают, потому что известно — я давно знаком с директором, инспектором манежа и со многими знаменитостями, которые к нам приезжают и задерживаются, бывает, надолго, пока не меняется программа. Люди эти, между прочим, почти всегда покладистые и симпатичные. За годы я немало поразузнал от них о цирке и стал себя считать в некотором роде знатоком.
Иногда я сижу в первом ряду на служебном кресле и очень бываю доволен, когда работающие на манеже артисты, узрев меня и узнав, поглядывают в мою сторону после проделанных трюков, как бы спрашивая: «Ну как, ничего я сегодня?»
Порой я устраиваюсь на свободном месте, среди прочей публики. Попадаются тут и люди, цирк посещающие изредка, секретов его не знающие и потому многому по ходу представления дивящиеся, как малые дети. В таких случаях, стоит только моему неумудренному соседу по ряду чему-то поразиться — как, дескать, такое возможно, глазам своим не веришь! — я тут же спешу на помощь.
Выступают, например, акробаты-эквилибристы. У нижнего, стоящего на арене, на плечах лестница. Сверху на ней стоит другой и держит на себе еще одну лестницу, а в вышине, на второй лестнице, молоденький гимнаст делает стойку на руках.
Сидящая рядом со мной женщина в страхе зажмуривает глаза.
— Ах, он упадет!
— Ничего страшного не случится, — успокаиваю ее. — Повиснет на лонже и будет плавать, как космонавт в невесомости.
— На какой такой лонже?
Я ей разъясняю:
— На тросе, на канате стальном тоненьком. Видите, вон там, у входа на манеж, молодой человек держит конец? Это и есть трос, а через лебедку он прикреплен к скрытому поясу. Сорвется акробат, тросик натянется и артиста аккуратненько спустят на арену.
— Вот оно как! Спасибо, что сказали, — благодарит женщина и дальше смотрит номер уже без всякого страха.
Или какой-нибудь серьезный дядя интеллигентного вида поражается, куда деваются у иллюзиониста лилипуты. Только что были в ящике и… нате, никого!
И ему, помогаю разобраться.
— Дело в аппаратуре, — говорю. — В ней весь секрет.
— Но где же они все-таки? Куда делись?
— Аппаратура, — повторяю я несколько загадочно. Не могу я открывать профессиональные тайны. Хватит и того, что сказал.
А то еще во время работы с хищниками. Ближайшие соседи начинают переживать за дрессировщика, на которого лев с рыком замахивается когтистой лапой.
— А если он его поранит?
— Бывает. Известны случаи, что и загрызали укротителя. Вообще-то, лев ударом лапы перебивает хребет лошади. Но вы не бойтесь. Он тут просто играет. Так, чтобы публике было пострашнее. Этот лев у него самый ручной, даже защитник от других.
Соседи в ряду уже не беспокоятся за укротителя.
Словом, как кого, а меня в цирке ничем особо не удивишь. Человек я тут бывалый. За себя спокоен так же, как и за всех остальных.
Люблю я цирк и днем. Парадности тут не увидишь и следа. В такие часы распахнуты занавески у входа на манеж. Освещенный дежурными лампочками круглый зал удивляет своей неуютной огромностью. Кресла нижних рядов, словно снятыми парусами, прикрыты от пыли большими белыми чехлами. Отогнув их, в первых рядах сидят всего два-три человека. Оживленно бывает только на арене, Там с утра репетируют. Вот тренируется группа прыгунов. Сейчас они в невзрачных майках, в обычных спортивных штанах. Волосы девушек по-школьному повязаны ленточками. Акробаты разучивают новые трюки. Двое парней прыгают с невысокой площадки на край подкидной доски. С другого ее конца вверх взлетает легковесная девчушка. Сделав двойное сальто в воздухе, она должна «прийти» на плечи стоящего поодаль партнера. Но у группы что-то не получается. Гимнастка повисает над манежем в широком кожаном поясе. Он надет поверх легкого трико. К поясу с двух сторон прикреплены тонкие веревочные канатики. Трос на тренировке опасен. Им можно пораниться. Спущенная на арену девушка снова становится на край доски, а двое опять прыгают. Так делается уже в десятый, может быть, в сотый раз. Усталости тут знать не хотят. Будут прыгать и крутить сальто, пока трюк не станет получаться.
В стороне от акробатов жонглер. В расстегнутой до живота рубашке, он, наверное, уже с час подбрасывает вверх и ловит шарики. Что-то не ладится и у жонглера. Реквизит то и дело падает на опилки. Артист поднимает шарики и кидает, кидает их вверх без конца. Рубаха его потемнела от пота. Мокрыми сделались волосы. Трудно и представить себе, что вечером, одетый в сияющий блестками костюм, он, улыбающийся и ловкий, будет безошибочно кидать и ловить свои крутящиеся в воздухе тарелки и шарики, и зрителям будет казаться, что делает он это шутя и играючи.
Народа за кулисами цирка в дневное время немного. Откуда-то из глубины помещения послышится лай собачки или прорычит хищник, да незнакомо крикнет диковинная птица. Обыден и неживописен цирк в эти часы.
Теперь, когда я вам рассказал про цирк и немного про себя самого, про то, что видел и о чем наслышан, Должен поведать и о том, что со мной однажды приключилось.
Шел я в цирк. Было это осенью. Моросил долгий сплошной дождь. Такой, что его и не видно, а все кругом, и ты сам, промокшее. Свинцовое небо так низко нависло над Фонтанкой, что, казалось, скоро соединится с ее водами. Кто долго жил в Ленинграде, знает, что в такой день на улице и не разберешь, какое время года. Весна ли, осень, а то сырая, бесснежная зима.
В цирк я спешил по делу, к директору. Он меня ждал, а я уже чуть запаздывал. Наконец добрался до служебной двери.
Поздоровался с охранником и двинулся влево, где находится служебный гардероб. Сдал мокрую одежду и поскорее к директору.
За гардеробом дверь со стеклом, а за ней большое предкулисное помещение. Влево от двери автомат с газированной водой. Пей, если хочешь! В стене напротив большой проем, за которым находится коридор, опоясывающий кольцом весь зрительный зал. Справа в толстой стене каменная широкая арка. За ней просторный проход от конюшни до самого зала.
Тут, слева, с обратной стороны форганга, по вечерам, перед тем как вылететь на манеж, посиживают на своих нетерпеливых конях джигиты в черкесках или спокойно ожидают выхода к публике симпатичные гиганты слоны. Здесь, приготовленная и заряженная, стоит цветистая аппаратура иллюзиониста. Тут дремлет, дожидаясь и своего выезда, ушастый ослик клоуна Карандаша, когда тот выступает в Ленинграде. В этом же коридоре, на всю его протяженность, вытягивают поезд из сцепленных один с другим вагончиков, в которых живут хищники. В клетку на манеже они бегут через тоннель из надежных железных прутьев. Зверей подгоняют помощники дрессировщика. Работают они в комбинезонах, на головах шлемы, как у монтажников. Наконец, здесь ждут очереди все, кому еще предстоит предстать перед зрителем.
Во время подготовки хищников даже привычному в цирке человеку лучше держаться отсюда подальше. Бывает, тут вывешивают табличку: «Внимание! Тигры!»
Помещение, в которое я вступил, служит подсобным местом. Тут, поблизости от выхода на арену, все, что потребуется во время работы артистов: лестницы и шесты балансеров, постамент для тяжеловеса, позолоченный двухколесный кабриолет, в котором выедет наездница, какие-то клоунские гигантские чемоданы и разное другое, что вытаскивают на время номера, а потом снова возвращают сюда.
Сколько лет я бываю в цирке, столько вижу здесь на стене, левее арки, большую, написанную масляными красками картину в бронзовой раме. На картине изображен провинциальный деревянный цирк, то место возле форганга, где готовятся к выходу артисты. Стоит конь с расчесанной гривой и седлом-панно на спине. Рядом делают разминку преувеличенно мускулистые акробаты. Прислонившись к стене, скучает коверный Чарли Чаплин, без которого прежде не обходилась ни одна программа. В стороне белый клоун с круглым воротником, в шелковом балахоне, с напудренным лицом и пунцовыми ромбиками на щеках. Тут и наездница в легкой балетной пачке, которая будет танцевать на коне. Пока что, положив ногу на ногу, она сидит на табурете и кокетничает с мужчиной, одетым по моде прошлых лет.
Никто, кажется, не знает автора этого не отличающегося высоким мастерством творения и не помнит, когда и кто его сюда водворил. Скорее всего, другого места в цирке для живописного полотна не нашлось. Но с картиной тут так свыклись, что, наверное, исчезни она однажды, стало бы чего-то не хватать. Что до меня, то всякий раз, когда я вхожу в помещение за гардеробом, я непременно кидаю на нее взгляд, а иногда и чуть задерживаюсь. Как-никак, а все-таки трогательная сценка старого циркового мира.
В тот день, когда я спешил к директору, уже с месяц шла программа, основным номером в которой было выступление знаменитой дрессировщицы львов. Плакат, где она в венгерке с галунами и в черных блестящих сапогах была нарисована среди сидящих на тумбах грозных хищников, высился у входа в цирк и закрывал собой два этажа. Смелая укротительница являлась гвоздем представления.
В тот же вечер выступала и ее дочь, юная Вероника. Она работала с попугаями. Белые и цветные, вынесенные на арену на специальном металлическом устройстве, с жердочками, они, нахохлившись, ждали, когда настанет их черед что-то исполнить. Исполняли они то, что делают в цирке все попугаи. Раскачивали друг друга на маленьких качелях, запрягшись тройкой в крохотную коляску, катали в ней по барьеру самого из них ленивого. Еще вертели колесо и выкрикивали что-то не очень понятное.
На манеж Вероника выходила в коротеньком платьице и туфлях на невысоких каблучках, по-балетному ступая на носки. Ее, длинные волосы были широко расчесаны, а на макушке завязаны большим розовым бантом. Вся она походила на нарядно одетую живую куклу. Публике ее номер был по душе. Он был легким и изящным. Вероника обворожительно улыбалась и делала реверансы зрителям, за что те ее награждали аплодисментами.
Признаться, глядя на нее из зала, я рассуждал иначе. «Здорово, — думал я, — живешь! Мать — бесстрашная дрессировщица диких зверей. Каждый вечер входит в клетку со львами, которые могут ее растерзать, а дочка забавляется с попугайчиками. Носит их на пальчике и пританцовывает, демонстрируя публике свои стройные ножки. Красиво, мило и совершенно безопасно. Это тебе не целоваться с царем природы, что на страх публике ежедневно проделывает героическая женщина». Да, так я думал, но вернемся к рассказу.
Вот, значит, открыл я дверь и вступил в то самое помещение, где висела знакомая картина. День был будним. Время этак часов около четырех, когда в цирке все затихает. Артисты уходят в гостиницу — она рядом, по соседству с Инженерным замком. До представления нужно успеть пообедать и немного отдохнуть. Уходят и те, кто бывает тут днем. В огромном помещении так пустынно, что с трудом веришь: придет вечер и все тут озарится яркими огнями, заполнится шумом и заживет деловитой закулисной суетой.
Словом, вхожу в тихий час туда, где лежит всякая нужная для представления всячина, и хочу наискось пройти в проем в стене, чтобы направиться по круглому коридору дальше, к директору.
И вдруг…
Я теперь уже не помню, как это я сумел с ходу мгновенно затормозить и застыть на месте.
Понимаете, одновременно со мной в помещение, куда я шагнул, намеревался войти огромный гривастый лев.
Лев оказался в пространстве арки, за которой был проход к конюшням. Не знаю, может быть, у него было желание прогуляться дальше и походить по арене. Но в этот момент, завидев меня, лев остановился и, повернув свою большую голову в мою сторону, стал, кажется с интересом, меня рассматривать.
Я окаменел. Чего там скрывать, душа ушла в пятки, если от этой души вообще еще что-то оставалось. Никогда мне еще не приходилось встречаться один на один со львами, не считая тех случаев, когда они были в клетке, а я на свободе.
Мелькнула надежда: сейчас, сразу вслед за львом, должна показаться его укротительница или кто-нибудь из ее помощников.
Ведь известно — некоторые дрессировщики даже любят, на удивление прохожим, разгуливать со своими любимыми хищниками по улицам городов. Не понимаю, как это им позволяет милиция? Детей можно напугать. А взрослому, пожалуй, и того страшней.
Ну, окаменел я, как статуя, и лев не шевелится. Стоит, будто не лев, а его изваяние или чучело. Но нет, живой. Ноздри раздувает, и глаза на меня щурит. Словно примеряется, как лучше меня сцапать. Стоим так и смотрим друг на друга, и, между прочим, никто вслед за львом не показывается. Вдвоем мы с этим выходцем из Африки, и ничего нас с ним не разделяет, кроме арки в стене, которая нашей близкой встрече помешать не может.
Я и пальцем не могу двинуть. Стою, как дурацкий манекен в портновском ателье. Почти дышать перестал. Давно я слышал про то, что, если за тобой, например, гонятся злые собаки, убегать от них не надо. Побежишь, только хуже будет. Кто его знает, может быть, и львы не любят, чтобы от них бегали. Решил — буду стоять как неживой, а ну лев подумает, что я какая-нибудь неодушевленная кукла и набит соломой. Сообразит, что вкусного во мне ничего нет, и уйдет в свой вагончик.
Однако лев с места не двигается и все продолжает меня с подозрительностью разглядывать. Кругом, как назло, совершеннейшая тишина. Пудель и тот нигде не тявкнет. Будто бы на весь цирк сейчас нас всего двое: я и этот свободно гуляющий хищник. Он молчит, и я ни гугу. А что мне остается делать? Крикни я или начни его, скажем, уговаривать — вдруг ему мой голос не понравится? Слышал я от одного знаменитого укротителя, что тигры делают полный оборот в одну десятую секунды. Откуда знать, возможно, и львы на такое способны. Так что уж лучше стоять и не рыпаться.
И лев, между прочим, все так же стоит, словно мраморный, какие красуются у лестниц некоторых красивых старинных зданий нашего города. Так же, как те истуканы, не шевелится и тоже словно ждет — не кинусь ли я на него.
Но это он напрасно. Я даже стараюсь не смотреть. Может, ему мой взгляд не по душе. Тем более что не он, а я изображаю безжизненное чучело. Но, посудите сами, могу я на него не смотреть? Мало ли что вздумается этому дикому зверю? Продолжаю в своем недвижном положении на него поглядывать и вижу: в глазах его зарождается этакий кровожадный огонек. Еще миг — кинется на меня и съест. И ничего ему за это не будет. Он же зверь.
И чего только не пронеслось за эти минуты в моей голове! Говорят, что человек перед гибелью мгновенно вспоминает всю свою жизнь. Всю жизнь я не вспомнил, но что с утра было — в мыслях пролетело.
Как хорошо начинался день! Звонили из телестудии, просили выступить. Почему бы нет? Охотно согласился. Кто же станет отказываться от того, чтобы его увидели на голубом экране?! Да, хотелось. Ну вот, теперь будет мне голубой экран!
Сколько прошло времени, пока мы так вдвоем со львом переглядывались, — сказать не могу. Может быть, и всего-то минута-другая, а возможно, и четверть часа. Тут и чуточка и малость покажутся за час.
В конце концов льву, по-видимому, надоело на меня глазеть. Смотрел он, смотрел, да как откроет свою пасть! И зубами щелкнул. Не то зевнул, не то показал мне, что у него за глотка. А уж ротик!.. Теленка может запросто проглотить. Язык красный. Клыки… Что вам рассказывать!..
Можно было и так понять, что ему просто приелась моя недвижимая фигура и он попросту от скуки стал зевать. Но об этом я уже потом рассуждал, а тогда решил: «Все! Будет мне сейчас — специалисту по цирку».
И тут, в самый, как думается, трагический момент, слышу — по бетонному полу дробно стучат каблуки. Кто-то сюда приближается. Лев повернул голову и, не двигаясь с места, оглянулся, Кто, мол, там еще бродит и что ему здесь нужно. Я, поверите, как за себя ни дрожал, а за того человека испугался. Сейчас, думаю, рассердится хищник. Кинется на неосторожного и… привет!
Но, представьте себе, в ту самую минуту появляется возле льва девчонка лет четырнадцати. Одета в джинсовые брючки со штанинами, подвернутыми внизу на голых ногах чуть ниже колен, и полосатую тельняшечку с короткими рукавами. Волосы разобраны на две стороны. Поверх ушей петли кос, завязанные ленточками. В руках у девчонки палочка вроде линейки.
Подбежала девчонка к опасному хищнику и этак с ним, словно со щенком:
— Ты куда это ушел, Фомка?! Вот безобразник!.. Смотрю, его уже в клетке нету. Сейчас же на место!.. Этакий неслух.
И этой линеечкой льва по заду..
— Ну, пошел, пошел!..
И поверите?.. Лев поднял голову, посмотрел на девчонку и, лениво повернувшись, побрел назад в глубину прохода. На меня на прощание он даже не взглянул. А девчонка мне говорит:
— Проходите, пожалуйста. Он не тронет, не бойтесь.
«Не бойтесь?!» Ничего себе! Между прочим, тут только я в ней и узнал вечернюю красулечку — Веронику..
Ушла она со львом, как с каким-нибудь спущенным с поводка эрдельтерьером, а я не сразу еще и с места двинулся. Сам себе глупо улыбаюсь. Неужели все это так просто и, можно сказать, даже немного смешно кончилось?! Ведь, казалось, находился на волосок от трагической гибели.
Перевел дух и двинулся к кабинету директора. Вошел к нему и сразу плюхнулся на кожаный диван.
— Дайте, — прошу, — поскорее, Владимир Андреевич, воды. Хочу в себя прийти.
Он за графин.
— Что с вами? Сердце?
— И сердце, — отвечаю. — И все на свете.
Выпил воды. Сделалось легче, и рассказал ему, какого натерпелся в его цирке страха.
Владимир Андреевич слушал меня. Сперва смотрел с тревогой, затем с сочувствием, а потом весело рассмеялся.
— Так это, значит, Фомка! Ну, он среди наших гастролеров самый смиренный. С Вероникой они приятели. Вместе, можно сказать, выросли. Этот лев никого не тронет. Чего вы испугались? Фомке до вас никакого дела.
— Да откуда же мне это, — стал я возмущаться, — мне это откуда известно?! Почему у вас в цирке хищники среди бела дня, как куры по деревне, разгуливают? Ладно, я еще ничего. Другой бы на моем месте умер с перепугу.
— Вообще-то да, — кивнул директор.. — Надо будет сказать матери, чтобы задала Вике. Недоглядела она, видно, за Фомкой, вот он и пошел гулять. Так-то она с ним запросто. И часто вместе прохаживаются. У нас в цирке Фомку все знают.
— Так она, эта Вика, не только с попугаями?
— Что вы!.. Первая помощница матери. Она в клетку к зверям, как и та, входит. Репетировать с ними помогает… Погодите, еще немного — и со львами станет работать Вика, а помогать тогда будет мать. Девчонка о том только и мечтает. Да ведь ей еще и шестнадцати нет, кто разрешит… А насчет попугайчиков, так это так, чтобы к манежу, к публике привыкать. Этот номер она потом кому-нибудь передаст. У них же звериная цирковая династия. Дед Вики со слонами работал. Да вы же знаете…
— Знаю, — подтверждаю я. — Слышал. Да, смелая все-таки девчушка. Как это она мне: «Он не тронет!»
А про себя думаю: «Вот тебе и Вероника-Вика с танцами возле попугайчиков в легких туфельках!..» Да, получился со мной конфуз. Хорошо, что, кроме Фомки, никто этого не видел. Вышло-то — не такой уж я в цирке свой. Только воображал, что все знаю и понимаю. На самом деле так — вокруг да около. Честно признаться, неплохой получился урок.
С тех пор, сидя в креслах рядом с теми, кто в цирковом деле не очень-то искушен и готов поражаться чуть ли не всему, что там происходит, я со своими знаниями арены к ним не пристаю. Пусть думают, что воздушные гимнасты ежедневно рискуют жизнью, что хищники могут съесть своего повелителя, а иллюзионисты и в самом деле творят чудеса.
Да ведь так оно, пожалуй, и есть.
А цирк я люблю по-прежнему.
МАРСЕЛЬ В БЕРЕЗЯНКАХ (Рассказ, услышанный в чайной)
История эта берет начало еще с военных лет, когда я, понятно, был на фронте. А тут у нас в деревне угнали в Германию девчат. Самых что ни на есть заметных, и так не свыше лет семнадцати.
Попала среди них и дочь моей соседки Матрены Дмитриевны, Таисья, Таська по-простому. Девица завидная. Митревне сейчас шестой десяток, а тогда еще была женщина молодая. Муж ее Тихон, колхозный шофер, с первого года войны в без вести пропавших. У них четверо было — все девчата. Ну, старшую и забрали. Увезли ее, как рассказывали, в Саксонию — земля такая немецкая есть. Сперва письма писала; мать, как получит, — к соседям и реветь. А потом сообщает: «Полюбила я тут, мама, такого не хуже, как я, угнанного, француза по нации, и он меня полюбил. И, значит, вместе нам теперь горькое наше житье переживать».
Тут вскоре пришла победа. Согнанный немцами народ с разных стран, кто жив остался, — по домам. Ждут Таисью, а та не едет. Не может, значит, со своим французом разлучиться, Да так, вместо того чтобы в Березники — во Францию за ним подалась. Отрезанный, стало быть, ломоть. Но что ты с бабой будешь делать — любовь!
Ну, пока мы первые роды мыкались, подымали свое колхозное хозяйство, Таисья там, в городе Дижон, вышла замуж по ихним законам. Писала, что до смерти бы хотела родню повидать, но дело это невозможное — потому ждет прибавленья. Одним словом — семья!
А тут вдруг третьего года зимой приходит в правление та самая Матрена Дмитриевна, в руках письмо с заграничными печатями, и прямо к председателю.
— Вот, — говорит, — Максим Андроныч, какие новости немыслимые. Дочь моя с мужем Марселем и внучатками едут в гости. Не знаю, что и делать. Кабы одна Таисья, так что там, а то с французом. Кто знает, как принимать? Дом у меня хоть и ничего, и есть чем покормить, да поди он к городской жизни, к ванным комнатам, к мягким мебелям привык…
Наш председатель Максим Андронович — хозяин, между прочим, башковитый. Повертел он в руках конверт и говорит:
— Ничего особенного тут, Матрена Дмитриевна, нет. Человек как человек, хоть и из Франции. Помнится, писала твоя Таисья, рабочий человек — механик. Но все ж дело, в своей мере, политическое, и, хоть ты колхозница передовая, одну тебя оставить тут нельзя. А чтобы не получилось никакой некультурности и чтобы во Франции знали, что из себя наши Березянки являют, следует принять твоего зятя по всем законам гостеприимства, и для этой цели в помощь тебе небольшую инициативную группу выделить.
Ну, создалась группа. На первый случай в нее вошел заместитель председателя Сивухин. Он у нас все больше по снабжению. Потом Ия Павловна — учительница, что как раз французскому в школе учит. Еще по молодежной линии — Витька Колотушин. Тот и дирижер духового оркестра, и первый ухажер, и другая самодеятельность. Ну, конечно, Матрена Дмитриевна, как к тому делу не посторонняя.
Насчет угощения — Максим Андронович посоветовал, чтобы водки было поменьше, а выставить вина шампанского, которое как раз у нас на полках в сельпо третий год без спросу пылилось, а французу, говорит, без него зарез.
Сивухина с Ией Павловной, за тем, чего у нас нет, в город направили, приобрели, между прочим, статую-бюст французского классика по фамилии Вольтер. Ну, книг разных, не наших, чтобы гость на отдыхе не заскучал. По требованию Колотушина искали еще французских нот, но только что и привезли — гимн «Марсельезу».
Вскоре и телеграмма из Москвы. Дескать, едем, встречайте! Самые морозы шли. Станция от наших Березянок — семнадцать километров. Сивухин идею выдвигает.
— Хорошо бы, — говорит, — этого француза до деревни на тройке домчать. Машина что — она везде машина, а тройка — дело звонкое, русское!
Послушали. Соорудили тройку, Как положено, с бубенцами — у деда Евдокима отыскались. Для Матрены Дмитриевны и ее семьи Максим Андроныч не пожалел колхозной «Победы» на высоком ходу. Ию Павловну с собой взяли, Колотушина — он во всем впереди. Прибыли. Ждут..
В положенный час подходит московский почтовый. Бегут наши к вагону, который в телеграмме указан. И что же видят?
Сперва спрыгивает на платформу куда как еще молодой мужчина. Лицо бритое, смуглое. В плечах не сказать узок, но и особого размаху нет. Курточка на нем вязаная, вроде бабьей кофты. Сделал всем привет ручкой. Дескать, спасибо всем за встречу, и уже снимает с площадки своих мальцов. За ними два чемодана стаскивает, а тут уж и жену — Таисью нашу, — как что бьющееся, аккуратно на руки берет и на платформу ставит. Ну, сцены, понятно, семейные. Матрена с дочерьми к своим кинулись. Обнимают сестру, разнолеток целуют, с французом осторожно здороваются.
Витька Колотушин для усиления, значит, момента хотел было приветственное слово рвануть. Мигнул Ии Павловне — переводи, мол… Но только и сказал:
— Здравствуйте!
Француз сразу же обеими руками давай ему руку трясти.
— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте…
Совершенно переводить нечего.
Только гости хоть и растроганы встречей, а уже дрожат, зубами стучат. Еще бы! Февраль, а на отце и сынах тоненькие беретки. Да что там французы — Таисья наша. Видно, девке на чужой земле все свое позабылось. Простоволосая и тоже в куртенке, а брючки синие в обтяжку всех форм. Кино, да и только!
Поторопили Матрену. Дескать, доплачешь свое по дороге, и поскорей их в председательскую машину. А уж на тройке с бубенцами свои до деревни мерзли!
Прибыли гости удачно. Воскресенье было. Все по-праздничному. На столе, что там наша продукция, — деликатесного из города навезено всякого… Ну, француза с Таисьей во главу стола. Максим Андронович поблизости. Деда Евдокима, как почетного старика, позвали. Он по такому случаю весь в медалях явился. Три у него еще с той германской войны в сундуке пролежали, а уж четвертая наша, советская. Дед волосы на две стороны расчесал, уселся. Лишних слов не роняет.
Марсель сразу к нему, и пальцем в медали. Гранд-папой называет, интересуется, за что награды у деда. Но Евдоким Изотович отвечать не стал. Об этом, сказал, речь дальше пойдет.
Первую, как полагается, подняли за мир и за дружбу. Далее за Францию — страну уважаемую и в прошлом союзницу. За ее трудовой народ. Марсель во все стороны:
— Мерси вам, спасибо!.. Мерси!
И сам в ответ: «Виват!» Только вот удивление. Никаких шампанских пить не стал, а облюбовал нашу белую. Да так на нее приналег… Стопку опрокинет и большой палец вверх: «Бом! Бом!..» Вполне то есть русский вкус одобряет.
Некоторые из колхозного актива за столом перемигиваются. Рады, что человек хоть и француз, но с понятием. Но сами, между прочим, ничего, держатся.
Разговоры разные пошли. Какая погода во Франции и что в ихней местности на полях растет. Ия Павловна с Марселем ловко так изъясняется. Тот весь в удивлении, что у нас в деревне ребятишек французскому учат. Но больше все внимание к закуске.
Надо сказать, и тут не как ждали. К деликатной полное равнодушие, а как до наших березянских огурчиков добрался, так даже застонал. Схрустнет половинку и соседа по плечу бах. Такая у него привычка свое удовольствие показывать.
Ну, так слово за слово, что в смех, что всерьез. Пора бы уж и кончать. Но только, видим, наш гость от стола не спешит. А тут еще такая штука не в лад. Дед Евдоким по недосмотру соседей пропустил лишнюю, и поделать уже ничего нельзя. Поднялся он с места. По столу вдруг ладонью хлоп и громко заявляет:
— Это, — говорит, — все бирюльки да пардоны. Мы тоже парле франсе понимаем, а ты его, Ия Павловна, спроси, по каким правам он на Россию в двенадцатом году шел?
Учительница лицом вспыхнула. Не смеет и переводить. Марсель глазами мигает. Понять не может, про что речь. Гости в замешательстве, а дед свое:
— Пусть он мне докладывает, зачем ему с ихним Наполеоном Москва наша потребовалась, или, может, ему, французу, как германскому кайзеру Гитлеру, чужой земли надо?
Максим Андронович, наш председатель, урезонить его хотел:
— Это ты, дед, лишнее. Совершенно твои вопросы даже неуместные. Человек приехал в гости.
Но деда разве уймешь.
— Я ведь не скандалю, — шумит. — Я с дипломатикой. И насчет Алжира пусть ответ перед всем миром дает. Почему он так безобразничал?
Тут уж и женщины видят — в голове у деда вся политика перемешалась. В голоса вдарились и общим пеньем старика заглушили. А там уж под шумок и домой повели.
Словом, время в клуб. Там молодежь собралась. Эти уже и Таисью не помнят. Она им тоже вроде иностранного гостя. Как вошли, Витька Колотушин махнул своему оркестру, и те во все медные трубы эту «Марсельезу». Но то ли у них мотив от старанья не получился, то ли Марсель от принятого за столом недопонял, что играют, только в ладоши захлопал и требует:
— Катушу!.. Катушу!..
Танцы пошли. Он и тут отличился. Ловко так ногами выворачивает. К девчатам, к какой подскочит. Голову вниз — прошу, мол. Одним словом — кавалер. Хвать, и уже в центре зала. И девчат все позаметней выбирает. Но Таисья ничего. Без ревностей. Потому что у них на этот счет… В общем, наших строгостей нет. Ну, а девицы, те прямо в нетерпении ждут, когда их Марсель подцепит. До того дошло — некоторые парни коситься стали.
Есть это в женском поле. Все им заграничное поинтересней своего. Даже обидно бывает. Весной к нам делегация из Венгрии приезжала. Народ наш, социалистический. Простые люди. Только что в шляпах. Так нет же. Каждая вырядилась, и все норовит навстречу попасть. А тут, куда там, — француз. Причесан до блеска. Манеры всякие. Смех и тот не наш.
Но насчет культуры картина потом прояснилась. На второй день повели его туда-сюда, хозяйство показывать. В школу всей компанией направились. Школа у нас новая. На полках за стеклами скелеты, черепа всякие. Есть чему порадоваться. Но главный козырь в голове-бюсте того самого Вольтера намечался. Вот, дескать, хоть у нас и своих классиков не один шкаф, и не хуже они будут, а чужой ум в почете.
Ну, Ия Павловна подводит француза к статуе и ждет, что тот сейчас что-нибудь прочувственное скажет. А Марсель на других смотрит и тоже чего-то ждет. А потом показал на бюст и спрашивает:
— Что это у вас тут за милая старушка?
Учительница никак такого не ожидала. Не знает, что и сказать.
— Что вы? Разве не похоже? — говорит.
У Сивухина, который тут же от правления был, даже сердце екнуло. Неужели, думает, в городе надули — вместо великого человека старушку подсунули.
Но тут выяснилось, что Марсель в школах обучался мало — и до этого классика не дошел. Похлопал он своего земляка по белой шее. Теперь-то, сказался его запомню, поскольку в России познакомились. Ну и пошел посвистывая.
А во всем другом оказалось, парень свой — простой и веселый. Полюбился он всем. А что язык не наш, так это вскоре как бы и замечать перестали. Вполне даже объясняемся. С утра, как проснется, всякий спешит в свой дом зазвать. Ну, понятно, угостить, как водится. А Марсель не отказывается ни от каких приглашений и угощений. Начинается все гладко, а уж кончается непременно шумом и песнями. Тут уж француз целует всех, обещает помнить по гроб жизни и требует, чтобы всей деревней приезжали к нему в город Дижон.
Таисья тем временем ходит по своим старым подружкам.
Те, конечно, в расспрос: как она в этой самой во Франции живет и по своим не скучает ли?
Ну, Таисья отвечает, что живет вполне хорошо и всем вроде довольна. А все же, глядят подруги, чего-то недоговаривает. Скажет, и глаза в сторону. Про что-то свое думает. Ну, а мальчишки, те, как валенки и ушанки понадевали, вовсе от наших не отличишь. С горушки на ледянках, на скамейках, на чем попало… Наши им по-французскому: «Эй, мусье! Мерси боку…», а те в ответ: ««Будь здоров, друг сосиска!» Откуда и научились?
Ну, в общем, так привыкли мы к ним, вроде — свои.
А тут вдруг в один из дней пропал Марсель. Хватились, говорят, видели — дед Евдоким его к себе потащил. Ну, думаем, гляди, опять к Наполеону метнется — доведет парня.
Послали за ним Таисью — и что же, представьте. Сидят за столом в самом дружеском расположении. Перед ними пустая посудина и такой разговор. Дед Евдоким в первую германскую войну во Франции служил, в русском корпусе. Потом ранен был и отправлен домой. Но пока до боев не дошло, завел он в том селе, где стоял, подружку. Первую, как заявлял, красавицу, которая его все яблочным вином поила. Так вот теперь подвыпил и требовал, чтобы Марсель сообщил во Францию, что Евдоким жив и кланяется.
Марсель всей душой, но загвоздка. Дед только и помнит — звали его знакомую Терезой и живет она в деревне, которая, если во Францию с моря попадать и проходить город Гавр, так сразу после мельницы налево.
Марсель все поточней хочет дознаться, а дед одно:
— Как во Францию войдешь, аккурат влево, тут и есть!
Вот так и бьются. Еле растащили.
Дед после этой истории, то ли от лишнего выпитого, то ли от приятных воспоминаний, занемог. Думали — уж не встанет. Да нет, отдышался. До сих пор скрипит. А французу — тому хоть бы что. На другой день как ни в чем не бывало — улыбается и опять в гости готов.
Но тут уж замечаем — председатель хотя и молчит, но только в некотором недовольстве. Конечно, мы за связи, но только… что получается… то один на работу не выйдет, то другой к концу дня веселенький притащится, и все на француза ссылаются. Дескать, доказывали ему свое гостеприимство.
Однако всему свой черед. Пришло время и прощаться.
Провожать их на станцию народу куда как набралось. Бочоночком огурцов на дорогу снабдили. Одним словом, едут. Марсель со всеми обнимается, за хорошую жену благодарит. Как с родным расстаемся. Дети с той и с другой стороны по-свойски друг друга дубасят. Матрена Митревна, наблюдаю, хоть и взгрустнула, но виду не показывает. Таисьины сестры тоже ничего, без лишнего. Словом, проводы. Тут уж и дымок паровозный в снежной дали затемнел. День такой ясный — мороз с солнцем — стоял. Примолкли все. Предотъездная минута. Сейчас увезет московских наших гостей в ихнюю милую Францию. И вдруг — нате вам, что стряслось… Как примется наша Таисья реветь. Слезы по лицу, и плечи вздрагивают.
— Как же это?! Куда же я от вас всех, от родных своих?
Мальчики притихли, к ней жмутся: «Маман! Маман!» Марсель растерялся. Ничего понять не может. А она детей гладит, а сама и прежнего хуже.
Витька Колотушин хотел положение выправить.
— Ты, — говорит, — успокойся, Таисья. Если по науке пойдет, то в недалеком будущем земли в одну соединятся и вопроса этого ставить не придется.
А Таисья сквозь слезы:
— Та-ак когда же это еще будет, а мне, может, Березянки каждую ночь снились, и вы все, и снег этот белый…
Ну, тут как раз и поезд подошел. Подняли их поскорей, усадили в вагон. Таисья на площадке осталась, да так в слезах и уехала.
Вот какая веселая история.
АРТИСТ И САНЯ
Памяти Д. Деля
Как-то одного моего знакомого артиста обворовали. Это был очень хороший артист и добрый малый. Его любили и уважали все: большие и маленькие актеры, театральная дирекция, костюмерши и администраторы киногрупп.
Кроме того, этот проживший большую жизнь даровитый человек еще писал пьесы и сценарии. И, значит, был не только известным артистом, но еще и талантливым литератором.
Словом, этого, не знавшего к себе зависти и никогда никому не завидовавшего добряка обворовали в самом, что называется, прямом смысле.
Однажды он вернулся с гастролей и в отличном настроении неплохо поработавшего человека, с легким чемоданом в руке, направился к себе. Артист жил в огромном доме на людном проспекте Петроградской стороны и занимал небольшую квартиру, окна которой выходили во двор и смотрели в бледное небо Ленинграда. Не успел мой знакомый пройти и половину пути по двору, как его остановили скакавшие на асфальте девочки. Дети здесь не только знали и тоже любили артиста, но еще и гордились тем, что тот, кто сыграл в кино одного из самых отважных и обожаемых ими героев, запросто жил с ними рядом и иногда проходил через двор с обыкновенным батоном в прозрачной сумке.
Девочки радостно встретили прибывшего издалека славного соседа. Побросав криво нарисованные классы, они стали прыгать перед ним и весело кричать:
— А вас обокрали!.. А вас обокрали!..
Нужно сказать, что жена моего знакомого, не имевшая никакого отношения к театру, на время, пока артист где-то там гастролировал, уехала в санаторий и адреса никому в доме не оставила. Мария Михайловна — так звали жену, с которой артист прожил долгие годы, — вернуться должна была уже после мужа и потому также пребывала в полном неведении о случившемся.
Немедленно возникшая дворничиха — молоденькая симпатичная Надя — сообщила, что кража произошла три дня назад и что неладное обнаружила соседка артиста по лестнице. Она-то, подняв тревогу, и дала весь ход делу. Самым неожиданным было то, что хозяин не мог сейчас попасть к себе домой, так как двери были засургучены милицейскими печатями.
Вместо того чтобы отдохнуть и принять душ — время было летнее, — артист, оставив чемодан у дворничихи, поспешил в милицию, чтобы объяснить, кто он и зачем пришел.
Но милиционеры, казалось, только и ждали его появления. Увидев и узнав артиста, они счастливо заулыбались, а один из них — лейтенант по званию — усадил его в коляску своего желто-синего мотоцикла и немедленно повез на квартиру.
По дороге милицейский офицер сообщил пострадавшему, что посетивший его вор был, видно, совсем неопытным вором — парнем, жившим поблизости, что из квартиры он ушел, даже не закрыв за собой двери, и что был взят в тот же вечер у себя дома. Теперь он находится под следствием, для чего дополнительно необходимо запротоколировать показания обворованного квартиросъемщика.
— Мы ничего не трогали. Сняли только отпечатки пальцев. Вы должна определить, что именно у вас пропало, а мы запишем ваши показания, — сказал лейтенант, выходя из лифта с артистом, и потребовал у последнего ключ.
— Но, позвольте, — проговорил сбитый с толку мой знакомый, — разве замки не взломаны?
— Нет, — снисходительно улыбнувшись, проговорил милицейский детектив. — В том-то и дело. Это настоящие воры идут через двери при помощи разных там щупалец и отмычек. Ваш дилетант забрался в квартиру через окошко в ванной, которое у вас выходит на лестницу и даже, видимо, не было заперто на шпингалет.
Взломав печати, он нажал на ручку двери и распахнул ее, приглашая артиста войти первым.
Не заметив в кухне, куда вела ближайшая дверь, следов какого-либо разгрома, наш знакомый в сопровождении милицейского лейтенанта двинулся по комнатам. В спальной, находящейся по соседству с ванной, дверцы гардероба были распахнуты настежь. Но на первый взгляд все в нем оставалось таким, как было, когда артист покидал дом. В гостиной, служившей, одновременно и кабинетом, на круглом столике против кресла стояла почти выпитая бутылка армянского коньяка «Гремми». Возле нее маленькая приземистая рюмка с толстым дном и обыкновенный стакан с высохшими на дне его коньячными остатками.
— Выпивали посошок перед отъездом? — спросил лейтенант, так внимательно глядя на артиста, что можно было подумать, будто, он подозревает его в сговоре с вором.
— Нет, — чуть растерянно пожав плечами, ответил тот. — Я вообще-то не пью. Коньяк держу на случай, если заглянет кто из друзей. Но тогда у меня никого не было. Я уезжал один. Коньяк стоял вот тут, в серванте. Я это отлично помню.
Детектив удовлетворенно кивнул.
— Проверьте шкаф, — сказал он. — Посмотрите, чего там не хватает.
Артист вернулся в спальню и, вдохнув нафталинный запах, стал передвигать плечики с навешенными на них пиджаками и женскими платьями.
— Нет, знаете, ничего не могу определить, — проговорил он уже более бодрым тоном. — Вроде все… Вот и костюм с медалью — считается, золотая — на месте.
— Так. Ну а в комнатах? — продолжал лейтенант.
Артист снова прошелся по квартире. Как это бывало всегда, на столиках и полках, расставленные Марией Михайловной, высились бокалы и вазы и лежали пепельницы из цветного стекла, к которым она питала особое пристрастие.
— Все будто на месте, — сказал он.
— Ладно. Поглядите потом внимательно. Сразу можно и не заметить.
Лейтенант присел к столику и вынул из черной пластикатовой папки лист протокола, приготовившись что-то записывать.
— Так вы утверждаете, что ни вы, ни ваша жена коньяка из этой бутылки не пили? — продолжал он.
— Утверждаю, — кивнул артист. — Я — нет, а жена из рюмки пьет только валокордин, и я, понимаете, даже очень рад тому, что она еще ничего не знает о воре.
— Но вот видите, — снова заговорил милиционер. — Передо мною стакан. На нем определили отпечатки пальцев задержанного. Со стаканом все ясно, но рюмочка… В ней тоже обнаружены следы коньяка. Кто же пил из нее? Между прочим, там тоже отпечатки пальцев, но скорее женщины.
— Значит, их здесь было двое! — воскликнул артист тем самым тоном, каким произносил нечто подобное, играя доктора Ватсона в телевизионной передаче.
— Не спешите с выводами, — охладил его лейтенант. — Мы с почти исключающей ошибку точностью установили, что в квартире был один человек, без сообщников.
Артист молчал, молниеносно припоминая сложнейшие ситуации прочитанных за последние годы сценариев, в которых он, не имея тяги к детективному жанру, Не захотел сниматься. И вдруг его осенило.
— Знаете что? — заявил он. — Я понял! Это отпечатки пальцев Марии Михайловны — моей жены. Она очень любит, чтобы стекло сияло, и вечно его перетирает, а значит, и держит в руках. И еще… — внезапно его охватило вдохновение, и он продолжал: — И еще! У меня возникла мысль. Ваш вор начал было пить коньяк из этой рюмки, но она показалась ему слишком маленькой, и он взял стакан.
— Не наш вор, а ваш, — строго сказал милиционер. — То есть задержанный по подозрению в краже. Но догадка не лишена… Эти отпечатки есть и на бутылке. Он, видимо, действительно пил один, и рюмка не подошла ему по емкости. Бутылка была запечатана?
— Да. Как говорил вам, стояла до случая, и, как видите, случай пришел.
Мой немеркантильный друг уже готов был шутить, так как понял, что пострадал самым ничтожным образом и отделался легким испугом.
Но лейтенант, кажется, не склонен был к шуткам.
— Он открыл ее зубами, — зачем-то объяснил он. И вдруг с какой-то внезапной прямо-таки ласковостью в голосе заключил: — Очень неопытный вор. Совсем дурачок.
Тут он поднялся из-за столика и уже не сыщицким испытующим, а восхищенным взором поклонника таланта окинул висящие по стенам крупные фотографии, где мой знакомый был снят в разных ролях.
— Очень рад был познакомиться, хотя и при обстоятельствах… Значит, если что обнаружите. — просим сообщить немедленно. Да, вот что… Задержанный показал, что он здесь надел на себя, а потом продал какой-то заграничный, надо полагать, модный пиджак в клетку, а вы говорите — все пиджаки на месте.
— Заграничный, модный, в клетку… — задумчиво пробормотал артист. — Нет. У меня такого нет… Может быть, он еще у кого-нибудь?…
— Проверим, — сказал лейтенант. — Показал, что у вас.
Они пожали друг другу руки и расстались. Оставшись один, артист облегченно вздохнул. Он скинул пиджак и пошел в ванную проверить шпингалет на матовом окошке, выходившем на лестницу.
Уже на следующий день случай со странным ограблением его квартиры не вызывал у моего друга ничего, кроме улыбки. Пиши он прозу — у него было бы увлекательное начало рассказа, продолжение которому можно бы и выдумать…
Вскоре из санатория вернулась Мария Михайловна. К тому, что произошло дома, эта далекая от легкомыслия женщина отнеслась вовсе не с той беспечностью, что ее популярный муж.
Отчитав артиста за то, что он покидает дом, не удосужившись даже проверить запоры на окнах, Мария Михайловна устроила ревизию гардеробу и, к своему ужасу, обнаружила пропажу жакета от английского костюма из моднейшей ткани, который удалось ей по чистому везению приобрести перед самым отъездом. На вынутых из шкафа плечиках теперь сиротливо болтались лишь клетчатые брюки клеш.
К тому же открылось исчезновение еще старых часов с браслетом. Мария Михайловна все собиралась их сдать в починку, да не успела. В день ее отъезда часы лежали на туалете, приготовленные, чтобы нести их в мастерскую.
Не склонная, как она говорила, выбрасывать деньги на ветер, Мария Михайловна была готова кое-как примириться с пропажей часов, но исчезнувший жакет не на шутку расстроил жену артиста.
Напрасно умелые сотрудники уголовного, розыска Петроградской стороны еще надеялись напасть на след этого примечательного жакета. Местным детективам так и не удалось его обнаружить, а месяца через полтора над вором-неудачником состоялся суд, на который были вызваны и потерпевшие урон супруги.
Влекомый Марией Михайловной, мой знакомый артист с большой неохотой направился в здание суда, Единственное, что примиряло его с необходимостью идти туда, был интерес художника, к личности парня, замявшегося делом, к которому, по-видимому, у него не было никаких склонностей.
За барьером на скамье подсудимых и в самом деле сидел совсем еще молодой — лет семнадцати — парнишка. Он был худощав, с тонкой шеей. Торчащие в стороны мальчишеские уши выделялись особенно теперь, когда парень был подстрижен под машинку. Он не был ни напуган, ни нагл, что часто отличает начинающих преступников. С почти детским любопытством смотрел то на три тронообразных кожаных кресла с гербом Советского Союза над средним из них, то на приготовляющуюся к записи молоденькую — почти девочку — секретаршу, то на спину защитника, уверенно устроившегося у подножия барьера подсудимого. На бледном лице парнишки выделялись какие-то совсем не воровские, лучисто-синие глаза, взор которых он устремлял в зал, в тот дневной час заполненный едва ли на треть. Еще до того, как началось слушание дела, подсудимый, рассматривая пришедших сюда, вдруг остановил свой взгляд на сидящих в первом ряду артисте с женой. И моему знакомому даже показалось, что на губах парнишки дрогнуло что-то вроде счастливой улыбки. Будто он увидел знакомого, на помощь которого мог надеяться.
Артист почувствовал себя неловко и принялся рассматривать свои отлично начищенные ботинки темно-бордового цвета, но когда он оторвал от них глаза и снова взглянул на подсудимого — увидел, что тот все еще смотрел в его сторону и синь его взгляда выражала любопытство, смешанное с непонятным здесь чувством признательности.
Обвинительное заключение было кратким и малоинтересным, поскольку парнишка во всем признался еще на следствии, а новых материалов не поступило. Для моего знакомого неожиданным было лишь то, что он уже имел судимость за кражу колес от машины «Запорожец», совершенную в свое время в компании с умелым автомобильным вором, но ввиду смягчающих обстоятельств был тогда осужден на год условно.
При допросе подсудимого судья — лысоватый мужчина с таким выражением лица, будто больше всего на свете ему наскучили суды и все, кто здесь сидит, — спросил парнишку, почему он выбрал из вещей, да еще надел на себя, именно дамский жакет.
Ответ его рассмешил всех, кто был в зале.
— Самый красивый был, — сказал подсудимый. — Я такой в кино у Миронова видел. Потом узнал, что он бабский, и с ходу загнал.
Услышав это, улыбнулся и судья. А мой друг-артист весело расхохотался, чем навлек на себя недовольство жены. Но, пожалуй, самым забавным было то, что вместе со всеми смеялся и подсудимый парнишка, словно сказал это кто-то другой.
Речь обвинителя — миловидной женщины в форменном костюме с университетским ромбиком на лацкане не отличалась оригинальностью. Она говорила о необходимости пресекать беззаконие в самом его зачатке, о социальном зле тунеядства, ведущего к воровству и прочему, и потребовала возможно строгого наказания молодому человеку, вставшему на путь преступности.
И защитник — цветущий тучноватый мужчина средних лет, в больших очках, которые он в продолжение всего заседания так старательно протирал платком, что, когда их надел, думалось, от стекол уже ничего не осталось — не блеснул красноречием. Говорил о беде безотцовщины, о пагубном влиянии улицы, о том, что чего-то недоглядели и все сидящие в зале, и идущие сейчас по улице, и он сам, и просил у суда снисхождения к подзащитному юноше, уверяя, что тот все осознал, искренне раскаялся и теперь станет работать и учиться. Закончив выступление, адвокат тяжело опустился на место и вновь принялся терзать свои еще не дотертые до дыр очки.
Но окончательно всех поразило заключительное слово подсудимого.
Поднявшись со скамьи и ухватившись за барьер обеими руками, глядя не на суд, а на сидящего в первом ряду моего знакомого, он тихо проговорил:
— Перед артистом совестно… Знал бы, в эту квартиру ни за что не полез бы.
Больше от него добиться ничего не могли.
Суд вынес решение. Определив иск в пользу потерпевших, парнишке дали два года изоляции в колонии строгого режима.
Выслушав приговор, он даже будто бы кивнул судье — дескать, вполне с тем согласен, заслужил — и тут же опять стал смотреть туда, где сидел артист, но, к своему огорчению, увидел лишь его жену, так как мой знакомый в эту минуту уже находился на киностудии и, чуть посмеиваясь, рассказывал о суде, где провел половину дня.
Как ни тяжело было Марии Михайловне расстаться с мыслью блеснуть новым костюмом на открытии сезона в Доме кино, но за житейскими хлопотами случившееся в конце лета как-то позабылось.
Но до поры до времени.
Однажды в почтовом ящике на лестнице наш артист, возвращаясь с дневной репетиции, обнаружил денежный перевод. Сумма была незначительной, и мой знакомый в недоумении вертел в руках извещение со штампом совершенно незнакомого ему города отправления.
— Знаешь, что это такое? — надев очки и взглянув на плотный листочек извещения, сказала Мария Михайловна. — Это частичное возмещение иска. Будут присылать еще.
— Какого еще иска? — не понял артист.
— Того самого. За мой жакет и часы. Они определили смехотворную сумму — восемьдесят рублей!.. Комедия! Один мой жакет! Я его всего раз надела… Но все-таки, — она вздохнула, — хоть шерсти клок, как говорится.
— Значит, со своего там тюремного заработка этот парень еще посылает нам деньги? — удивился артист.
— А ты как думал, грабить — это так, развлечение? И потом, посылает вовсе не он, а дирекция, командование… Не знаю, как там называется.
— Этого только не хватало! — воскликнул мой друг.
Мария Михайловна оказалась права. Она сходила на почту, где ей по давнишнему знакомству доверяли получать переводы за мужа, и принесла девятнадцать с копейками рублей и отрезок от отправного бланка с печатью и объяснением перевода как части суммы, взысканной с отбывающего срок осужденного. Далее следовали имя, отчество и фамилия забравшегося в их квартиру парня.
— Немедленно отправить это все к черту назад, — решительно заявил запротестовавший супруг.
— С чего это!
— С того, что я не хочу получать воровские деньги.
— Вот еще! — возмутилась внезапной строптивости мужа Мария Михайловна. — Это постановление советского суда.
— Но неужели тебе нужны эти деньги?
— А почему нет?.. Во-первых, нечего разбрасываться. Я и так погорела рублей на сто. А во-вторых, ты же работник идеологического фронта и своим искусством воспитываешь массы. — В часы решительного проявления характера Мария Михайловна неожиданно переходила на язык агитлозунгов тридцатых годов. — Наш суд не карает, — продолжала она тоном клубного лектора. — Органы правосудия воздействуют на преступный элемент в целях его исправления. Иск в пользу пострадавшего советского гражданина тоже является средством социального воспитания…
— Ну, знаешь!..
Как только Мария Михайловна начинала высказываться в подобном многозначительном стиле, ее в общем-то послушный муж взбрыкивал, как необъезженный конь, и отвечал с резкостью, которая — как бы это лучше объяснить? — ну, в общем, не принята, например, в детской литературе.
Словом, произошла короткая семейная размолвка. Одна из тех, что, не имея никакого значения для дальнейшей жизни, лишь оставляют тень горечи на сердце, впрочем вскоре проходящей, когда люди любят друг друга.
Но на следующий день мой щепетильный знакомый, найдя тот самый бланк и списав адрес исправительной колонии и фамилию парня, из чьих принудительных заработков поступил перевод, отправился в почтовое отделение подальше от своего дома и из собственных секретных, или, как он это называл, подкожных, денег отправил точно такую же сумму отбывающему срок парнишке с синими глазами.
Совершая этот осознанно непедагогический поступок, артист-отправитель назвался выдуманной фамилией и сочинил несуществующий адрес.
С тех пор в квартиру в верхнем этаже дома на шумном проспекте Петроградской стороны приходили небольшие денежные переводы. Мария Михайловна получала их и прибавляла к строго соблюдаемому ею семейному бюджету. Мой знакомый артист находил бланки и исправно отсылал деньги назад, старательно при этом охраняя тайну производимых им операций. Собственно, продуманного основания действий у него не было. Просто артист считал для себя постыдным получать деньги из колонии за пропавшие из дому не столь уж ценные вещи.
Опасения того, что переводы вернутся назад, а это может вызвать дома уже не размолвку, а небольшой скандал, со временем и вовсе отпали.
И вот как-то, когда финансовые отношения с отбывающим наказание парнем, к удовольствию моего друга, уже были завершены и он почувствовал облегчение оттого, что больше не должен таиться, в весенний день на киностудии ему отдали немало побродивший по почтовым отделениям, сто раз заштемпелеванный и испещренный пометками конверт, на котором полудетским почерком было написано:
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СНИМКАМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КИНОКАРТИН-ФИЛЬМОВ.
АРТИСТУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ РОЛЕЙ…
Дальше следовало перечисление имен героев, которых за последний десяток лет пришлось сыграть моему знакомому.
Собственно говоря, подобных писем на студию приходило не столь уж мало и поражаться тут было нечему, но в этом побродившем по свету конверте было что-то не совсем привычное, и артист это почувствовал, лишь взяв его в руки.
Мой знакомый надорвал конверт и вынул оттуда сложенные вчетверо два двойных листа в линейку, вырванных из школьной тетради и довольно плотно заполненных тем же, что и на конверте, почерком.
Письмо начиналось интригующе:
«Здравствуйте, уважаемый народом товарищ артист!
Трудно вам дознаться, кто тот бродяга и подлец, кто набрался геройства написать вам это письмо.
Если вдруг догадались, прошу не кидайте сразу на пол, а хоть дочитайте.
Я тот самый балда парень, который в прошлом году залез в вашу квартиру с лестницы через окно, не зная, кто за ним живет. Только знал — хозяева уехали на курорт.
А если бы я знал, то в жизни бы к вам не полез, а тому, кто бы посоветовал, набил морду. Разве же можно наносить материальный ущерб такому человеку?!
Но тогда я еще мало чего вообще соображал и только думал в молодости пожить полегче. Теперь рад, что воровать как надо не научился и по той причине попался как чудачок. Теперь с тем покончено навсегда. Даю честное слово. Ну, ладно. Это еще поглядим. Что стоит бывшее воровское слово? Так, понятно, вы думаете!.. Но сейчас не про то.
Когда я надел тот заграничный пиджак и часы на руку, я погляделся в зеркало. Тогда у меня еще были волосы. Теперь их тоже уже немного разрешили отпустить за поведение. Тогда у меня еще были старые волосы, и я решил, что из меня по внешности вышел нормальный парень, каких я видел в кино из иностранной жизни.
Они всегда там что-то пьют из высоких стаканов. Коньяки, что ли? И я нашел у вас коньяк, целую бутылку. Рюмку, как неподходящую по габаритам, отставил и взял стакан, наливая в него по-заграничному (неполный), хотел сидеть, смотреть телевизор и попивать коньячок. Но телевизор не включался, и я давил коньяк так, без кино и закуски (ее не нашел).
На стенах были ваши портреты из кино. Великие люди. Я их всех уважал. Я думал, кто тут живет, тоже их уважают. Потому и повесили. И я, выпив коньяк, огорчился, почему я не могу быть такой личностью, как, например, композитор Моцарт? Ведь в школе я играл на мандолине, и Б. Я. Дашкин (руководитель) говорил, что я способный. И тогда я в вашей квартире, под влиянием вина, заплакал, жалея о погибшей молодости. И тут, с этого огорчения, набрался так, что еле ушел из вашей квартиры.
Дальнейшее вам известно не хуже моего. Взяли меня вечером, тепленьким. Как продал пиджачишко и куда дел часы, сам плохо помню. Денег у меня не было. Я еще угощал всех шампанским в кафе «Грот».
А вот потом, когда следователь рассказал мне, кого я обчистил, я расстроился хуже, чем тогда, с коньяком, хоть и по-трезвому. Но нечего было лить слезы. Следователь все равно бы им не поверил. Только были в душе стыд и обида. Мне тогда стало все равно, что со мной будет. Пусть засадят.
А когда на суде я увидел вас в живом виде, я, честно, так обрадовался! Надо же, сам пришел на меня, недодумка, посмотреть! Я тут в колонии, когда шло кино с вами, рассказывал, что знаком лично, через суд, так они не поверили. Потом говорят, что если я правда обчистил такого человека, то трижды дурак и поросенок.
Когда вы стали обратно отсылать деньги, я догадался, что это вы, хоть и адрес чужой. Больше мне из Ленинграда посылать некому. Понял, что вы моими воровскими деньгами брезгуете и меня презираете, как низкую личность.
Только деньги ваши я отсылал матери. На руки их все равно не дают. А она все-таки мать, хоть и в том, что я таким вышел, тоже виновата. Но она-то сама знает и в письмах страдает. Когда меня судили, она сидела в далеком ряду. Пряталась. Ей было стыдно людей. Теперь мне присылает посылки. Посылки можно. Не часто.
Товарищ хороший артист!
Я теперь уже не тот или хочу быть не тем. Я получил квалификацию слесаря, и инструктор говорит, что у меня есть глаз и дело пойдет на хороший разряд. Я стараюсь. Не хочу быть каким-то ширмачом. Хочу стать человеком, если не поздно. Воспитатели считают, что так. С теми, кто только и думает, как бы отбыть срок, а потом опять за свое, я не объединяюсь. Они мне теперь поперек горла. Но с этим вопросом трудно. Всего не расскажешь.
Может быть, мне сократят срок. Есть такие надежды. Тогда выйду и начну новую жизнь. Может быть, еще свидимся, и вы увидите, что я не зря обещался.
Товарищ артист! Мне от вас ничего не надо. Хотелось выговорить душу. Больше некому. Девушки, которая ждет меня, тоже нет. Остались вы один. Я никому тут не сказал, что написал. Поднимут на смех. И вы мне не пишите, не надо. Ну их. Не поймут. Пока до свиданья».
Последние несколько строк письма, свалившись с линеек, клонились вниз, вправо и лепились вплотную к срезу листка. Письмо заканчивалось неожиданно коротко-домашним: «Саня».
Дочитав его, артист снова взглянул на первую страницу. Письмо, по-видимому, писалось долго. Были в нем слова, старательно зачеркнутые, и другие, написанные поверх них. Разобрать строки оказалось делом не столь уж сложным, и ошибок виделось не так уж много. Но не орфография и стиль письма занимали сейчас моего знакомого, Он думал, что, наверно, поступил правильно, когда посылал назад «воровские деньги». Не предполагая того, он, оказывается, задел душевные струны парня, которые еще не заржавели до конца. Захотелось поделиться охватившими его мыслями с кем-то близким, способным понять его. Но с кем? Разговор о трогательном и немного смешном послании с Марией Михайловной исключался. Для этого пришлось бы открыть тайну возвращенных денег, а время еще никак не пришло.
Так ничего и не сказав жене, артист прочел письмо нескольким старым товарищам-коллегам, с кем в те дни встречался на съемочной площадке в студии.
Актерский люд, как обычно, собрался здесь с бору по сосенке, кто откуда. Кто, только что отснявшись под солнцем Гагр, за несколько летных часов сменил знойное небо субтропиков на сумрачные своды туч над Невой. Кто, лишь поутру выйдя из «Красной стрелы», сегодня же снова проведет ночь обратного пути в Москву в этой гостинице на колесах, где частым путешественникам хорошо знакомы не только буфетчицы и проводники, но и машинисты. Случалось, чтобы не опоздать на утреннюю репетицию в театре — театр настоящий актер не променяет ни на какую самую соблазнительную кинославу, — приходилось мчаться домой и на электровозе, пущенном для него в нарушение самых строгих инструкций. А кто — уже второй день наслаждается покоем «Европейской гостиницы», прибыв из Варшавы, со съемок совместного фильма. Меж тем весь этот кочевой народ друг друга хорошо знает и почти все тут на ты. Встречаются с поцелуями, по старой театральной традиции, на день-два, не больше, но зато по нескольку раз в год. У каждого есть что порассказать любопытного. В большом ходу здесь веселые истории и остроумные анекдоты. Времени на них куда как хватает, потому что известно, сколько пропадает часов попусту, когда что-то там у киношников не ладится, кого-то еще ждут, кому-то придумали добавить бороды или сменить лошадь, которая, как на грех, вчера подвернула ногу, а новая другого оттенка, и ее срочно перекрашивают.
И идет то, что, по перенятому от флота обычаю, называется «травить». Только здесь травили актеры. Прорваться и «получить площадку» нелегко. И горе тому, кто хоть коротко, а расскажет неинтересную байку или старый анекдот. Проштрафившийся будет безжалостно унижен. Не спасут ни великая известность, ни звание. Потому что здесь равны все — маститый трижды лауреат, кому искусный гример убрал морщины с лица, и начинающий сниматься молодой актер, которому для солидности выбрили залысины.
Моего знакомого — а ему не терпелось поведать историю с так глупо обворовавшим его парнем — внимательно выслушали, поулыбались и покивали головами. Иные строчки из письма вызвали взрыв хохота. Одним словом, над историей с вором, надевшим женский жакет, посмеялись и тут же о ней забыли, перейдя к другим, еще более забавным. Мой знакомый отделился от веселой компании и, убирая письмо, пожалел о том, что, сам того не желая, выставил на осмеяние все происшедшее.
Его безусловно устраивало во всем этом то, что парень и сам его просил ничего не отвечать.
Еще раз перечитав письмо и подумав о том, что про историю с незадачливым воришкой можно сочинить рассказ или что-то вроде сценария, он пока что положил любопытное письмо Сани в папку других интересных писем и записей, набросанных впрок, и скоро о том запамятовал. Лишь в разговорах с друзьями или за столом в компании добрых знакомых артист вспоминал случай с кражей женского жакета вместо модного пиджака и все, что было потом удивительного.
Прошло два или три года. В жизни его не произошло никаких серьезных изменений. Артист по-прежнему снимался в кино, отдавая сердечную привязанность родной сцене. За это время он написал пьесу и тешил себя надеждой, что вскоре она увидит свет рампы, давно не существующей в театре. Были удачи, были и разочарования. В эти годы ему удалось сыграть роль старого ученого — человека яркого ума и чуткого характера. Спектакль и исполнение им роли профессора, живущего любовью к людям, имели успех. Моего друга хвалили. Публика, заполнявшая театр, подолгу вызывала артиста. И он, под бледным гримом, который становился еще бледней, когда добавляли света, усталый и счастливый, по нескольку раз выходил кланяться уже перед опущенным занавесом.
На одном из утренников, прошедших с особым подъемом, когда наконец погасли слепящие огни софитов над сценой и артист добрался до своей гримерной, чтобы опуститься в кресло и немного передохнуть, на столике перед зеркалом он увидел записку, набросанную шариковой ручкой на листке из блокнота в клеточку:
«Пожалуйста, если можете, придите после конца вниз. На минутку. Очень просим вас. А мне так необходимо. Саня».
Не поняв, какой такой Саня просит его спуститься вниз, с запиской в руках, припоминая всех знакомых Александров, Саш и Сань, мой друг вышел в актерское фойе и набрал по телефону номер проходной. На вопрос, кто его там ждет, вахтерша ответила, что ждет его какая-то делегация, ремесленники, что ли…
Тогда, сунув записку в карман, артист, не снимая грима, направился к лестнице, ведущей к служебному входу.
В маленькой прихожей за дверью, где сидел вахтер, со скамьи одновременно поднялись пятеро молодых людей, пожалуй, даже мальчиков.
Разного роста и цвета волос, достаточно вольно отпущенных, все они, на первый взгляд, были чем-то похожи друг на друга. В устремленных на него пяти парах глаз артист увидел удивление, мгновенно сменившееся открытым восхищением. И тут навстречу ему сделал шаг юноша с темными волосами, закрывавшими уши, которые все же упрямо выбивались наружу. Он был, как и другие ребята, одет в аккуратный пиджачок. На артиста с надеждой, если не с мольбой, смотрели лучистые синие глаза.
— Не узнали? — краснея, не без труда выдавил из себя паренек, не зная, смеет ли он протянуть руку, и потому по-солдатски стоя «смирно». — Саня я… Тот, который, помните?..
Но артист уже и так все вспомнил: и на треть заполненный судебный зал, и худенького стриженного наголо парнишку с торчащими ушами на скамье подсудимых.
— Все помню, — приостановил он ненужность дальнейших объяснений и протянул руку. — И письмо помню.
От него не ускользнуло, какой радостью блеснули иконописные глаза парнишки. Пожав протянутую артистом руку, он, не отпуская ее, повернулся к ребятам, как бы говоря: «Вот видите, ничего не наврал…»
— Бригада наша, — продолжал он уже торопливо. — Не все тут. Двух нету. Егоровцы мы. Вагоны делаем… Это Коля, наш бригадир слесарей-сборщиков.
Отпустив руку артиста, Саня подтащил к нему парня немного выше себя и чуть постарше, на вид очень серьезного, который без улыбки, с чувством пожал руку артисту и представился:
— Захаренко. Поммастера.
— Выходной у нас сегодня, — объяснил Саня. — На заводе на вас билеты продавали, я и купил на всех, а то в кино все не то. Тут — живой, рядом, как дома.
Наступила неловкая пауза. Мой знакомый понимал, что настало время что-то сказать ему, и, не найдя ничего лучшего, спросил:
— Как же дела-то теперь?
Но это, видимо, и было как раз то, что требовалось.
— Нормально теперь, — словно докладывая, выпалил паренек. — Работаю. Пятый разряд, премии… Вот спросите у бригадира.
Тот, снова без улыбки, кивнул головой, что должно было подтверждать, что старый знакомый артиста работает нормально.
— А с матерью как? — спросил мой друг, мучительно соображая, что еще можно спросить, чтобы не поставить парня в трудное положение.
— И с матерью вроде порядок. — Он чуточку помолчал и резко добавил: — А с тем — все! Это точно. Точка. Навсегда! — провел себя по горлу ладонью, словно отрезал.
Понимали все — настало время расставаться. Как-то надо было кончать разговор, и стоящий в гриме перед ребятами исполнитель главной роли сказал:
— Запиши телефон, Саня. Как-нибудь позвони. Расскажешь, как живешь.
Саня торопливо вытащил из кармана блокнот в клеточку и записал номер продиктованного ему телефона. Но по тому, как он это делал, было понятно, что звонить артисту совсем не собирается и чертит цифры на листке лишь для того, чтобы закончить встречу.
Попрощались все за руку и стояли в проходной, пока за стеклянными дверьми еще был виден уходящий артист.
Он поднялся к себе наверх, чтобы поскорей разгримироваться и, переодевшись, поспешить домой, где его ждала с обедом Мария Михайловна.
Но это было еще не все.
Когда артист покидал театр, чтобы к вечеру вернуться и повторить роль, его остановила вахтерша.
— Просили вам передать, — сказала она, назвав артиста по имени и отчеству.
— Мне? Что еще такое? — удивился он, принимая из рук женщины какую-то тяжелую, завернутую в бумагу и перевязанную шнурком коробку удлиненной формы.
Не сдержав любопытства, артист тут же развернул пакет и вынул из упаковки вазу, замысловато отлитую из цветного стекла.
— Чехословацкая, — залюбовавшись, проговорила вахтерша. — Хорошая. Рублей пятьдесят стоит, а то теперь и все восемьдесят… Вот это да! Ребята, поклонники, скажите пожалуйста, а?!
— Пятьдесят, а может быть, и восемьдесят… — проговорил артист, думая совсем о другом. На дне вазы лежала записка, снова на листке из того же блокнота.
«Оставляю, потому что знаю — так вам не отдашь. Если не возьмете — лучше тюкните вдребезги. Мой долг и память. Не серчайте. Навсегда. Саня».
Неловко захватив коробку и попросив вахтершу прибрать обертку, артист вышел на улицу.
Вызванное к театру такси везло его домой. Он сел сзади водителя и, откинувшись на спинку сиденья, думал о том, что одолевающие его порой мысли, что сделано очень мало, хотя лучший для художника возраст давно миновал, отступают, когда происходит такое, как сегодня после утренника.
И еще, улыбнувшись, подумал о том, что придется во всем признаться жене и что вряд ли она станет долго сердиться и упрекать его в простодушии, к которому привыкла. К тому же она любила хорошие вещи и в особенности питала слабость к стеклу — и тут каким-то образом Саня догадался, чем он может возместить Марии Михайловне нанесенный им несколько лет назад моральный, да и материальный ущерб. И артист рассмеялся, решив, что из всего этого, если поработать, может получиться добрая и смешная комедия.
Он так и не написал ни рассказа, ни сценария, и теперь уже никогда их не напишет. И вот я, которому он с большим юмором, окрашенным его сценическим талантом, как-то поведал всю эту историю, решился теперь, как смог, ее рассказать, ничего, по возможности, не упустив и ничего от себя не прибавив.
ПОВЕСТИ
НЕБО ЗА СТЕКЛАМИ
Памяти моей жены Гали
Уж не помню, зачем мне понадобилось побывать в этом прежде столь знакомом квартале. Несколько лет не сходил я на остановке на углу около вокзальной площади, где когда-то бывал ежедневно. Я доехал до нее на сияющем зеркальностью стекол новеньком троллейбусе.
Залитая солнцем левая сторона Невского, несмотря на рабочий час, была заполнена так, что казалось — по ней в двух направлениях двигалась колонна демонстрантов. В троллейбусе же на редкость свободно.
Я прошел к выходу и встал, глядя вперед через кабину водителя. Там спиной ко мне сидела молоденькая девушка с длинными, прямыми, почти до пояса, лимонными волосами. Девушка вела троллейбус с такой завидной легкостью, что казалось — делать это ей не труднее, чем музыканту пробегать пальцами по клавишам пианино. На ней была надета куртка под замшу, шея повязана легким шарфиком. Стройные мальчишеские ноги обтягивали охристые брюки, из-под которых выглядывали тупоносые сапожки. Ногами она нажимала на педали тормоза и хода, и это прибавляло сходства с пианисткой. Она могла бы быть кем угодно, эта водительница: киноактрисой, продавщицей из парфюмерного магазина, гидом «Интуриста» или студенткой филологического факультета.
Троллейбус плавно подкатил к широкому тротуару и остановился. Девушка отворила двери для меня одного. При этом, встряхнув желтой гривой, она повернула голову в мою сторону.
— Всего хорошего, — сказал я, выходя из троллейбуса и воспользовавшись тем, что дверца в кабину была до конца раздвинута. Хозяйка вагона ответила легким кивком, однако без ожидаемой ответной улыбки, а просто и непринужденно. Двери вагона вздохнули и затворились за моей спиной.
И вот я попал на улицу, по которой ходил еще в шинели с дырочками для крепления погон на плечах и в шапке с темными очертаниями снятой звездочки. Это было в первый послевоенный год. В тот год, когда фанера в окнах чернела привычнее стекол, а на рынках из-под полы продавали ворованных кошек. Кошки в Ленинграде были редки, как нынче борзые псы.
Подсыхавший асфальт, от которого на солнце маревом поднимался пар, чуть горбатясь, уходил вдоль улицы. Бурела земля на газонах. Вверх, к солнцу густо тянулись белесые ветви тополей. Как же они выросли, эти тополя, высаженные в те послевоенные годы и никак не хотевшие приниматься на теневой стороне. Отчаянно чирикали воробьи, радовавшиеся весне, солнцу, теплу, счастливые тем, что удалось пережить морозную зиму. Кое-где на этажах бесстрашные хозяйки, стоя на подоконниках, мыли закопченные с прошлого года окна. Я пошел вдоль улицы к маленькому, зажатому в ее центре скверику. В скверике, как и прежде, сидели на скамьях мамы. Только мамы словно очень помолодели с тех пор и выглядели совсем девчонками; как мало были похожи их добротные пальто и яркие косынки на то, в чем ходили молодые матери после войны. Да и коляски, в которых спали розовые младенцы, были не схожи с неказистым транспортом новорожденных того времени.
Вокруг памятника носились упитанные малыши и расстреливали из пластмассовых автоматов всякого, кто попадался на пути.
С мраморного постамента в сторону Невского печально вглядывался великий поэт. Патина зеленела на курчавых волосах и плечах скромного монумента.
Обогнув скверик, я пошел дальше по улице. Дома на ней имели опрятный вид. На углу Кузнечного переулка десятком овальных витрин светился продовольственный магазин «без продавца». Ходили женщины в белых халатах, у стендов с продуктами с задумчивым видом стояли редкие покупатели. Земля, где росли деревья, у входа в магазин была выложена плитами — предусмотрительно. Ведь все равно люди будут сокращать путь по газону. Припомнился булыжник, которым была замощена покатая к середине улица. Сколько бед доставляла она в дни гололеда.
Я свернул по Кузнечному и прошел в сторону рынка. В переулке прятался давно выдворенный с Невского проспекта трамвай. Он был таким же оживленным, Кузнечный переулок, только куда более чистым, чем я его помнил. Вот и внушительное здание рынка, немного не доходя до него, в полуподвале, находилась пивнушка. Были они тогда на каждом углу. Нынче бесследно исчезли, замененные чистенькими «Воды-мороженое». В тот год стоило только приблизиться к пивнушке — отворится дверь, и слышна в любой час игра залихватского баяна, звуки которого тонули в шуме пьяного говора.
Вернулся я тем же путем. Остановился возле дома № 13. Дом мало изменился. Конечно, фасад с тех пор приводили в порядок. Тогда он был облуплен и закопчен. Но что имело совсем иной вид, так это двор. Прежде заброшенный, мрачный, с дровяниками, напоминавшими курятники, он теперь был залит асфальтом и свободен от всяких построек. Стены двора-колодца гладко оштукатурены и выкрашены в теплый желтый цвет. Справа и слева насквозь светились прилепленные к стенам прозрачные колодцы лифтов, о которых в тот год никто, разумеется, и думать не думал. Все было иным, мало похожим и незнакомым. Но нет, не все. Вот оно, памятное!.. Над когда-то, в незапамятные времена, каретником с конюшней, а позже перестроенными в жилье помещениями, сохранилась лошадиная голова. Она выглядывала из каменного кольца в стене. Как это ни странно, никому не нужная голова была восстановлена с такой трогательностью, будто скульптура была художественной ценностью. Норовистый конь с раздутыми ноздрями рвался на волю.
Лошадиная голова находилась как раз против комнаты в квартире во втором этаже, в которой… Впрочем, это довольно длинная история с продолжением.
В тот год по-зимнему лютовала поздняя осень. Шквальные ветры дули на город. Они словно сорвали погоны с шинелей мужчин, еще не собравшихся сменить военную одежду на издавна привычную штатскую.
Подняв холодные воротники, сдвинув на лоб серые шапки, в армейских сапогах или сохранившихся довоенных ботинках с калошами, торопились они, обгоняя друг друга по пути к трамваю, потом дрогли в неотапливаемых старых вагонах, спешили на заводы и в учреждения заново начинать мирную жизнь.
Злой студеный ветер поднимал с земли пыль, набившуюся меж булыжников, гнал ее вдоль прямых узких улиц. Кое-где каменные коридоры обрывались черными щербинами в несколько этажей — памятью блокадных пожаров.
Война угрюмо напоминала о себе на каждом шагу. Виделась в полустертой надписи «Бомбоубежище» над подвалами, фанерой в окнах с маленькими прорезями для света, гортанным криком серо-зеленых немцев, волокущих вдоль мостовой трубы газопровода, газетой, наклеенной с утра на щите, в которой объявлялось об очередном продуктовом «отоваривании».
Дом на улице, упиравшейся в Невский, был таким же потемневшим, промерзшим за блокадные годы, но все же сохранившимся в целости, как и те, схожие с ним пятиэтажные каменные бастионы, что примыкали к нему вплотную или слепо глядели с другой стороны.
И квартиры в них были схожими. Когда-то барские, на одну семью, а потом долгие годы «коммунальные», где иногда дружно, а порой и не очень, жило немало народа.
Квартира, о которой пойдет речь, была обыкновенной, похожей на все те, какие располагались сверху донизу по лестницам, раньше называвшимся парадными. Правда, эта квартира была попроще, а прежде подешевле, потому что находилась над аркой, ведущей во двор, а стало быть, считалась холодной.
Однако те, кто жил здесь, не помышляли о переменах к лучшему. Радовались тому, что есть. Пусть и тесно, пусть окно единственной комнаты выходило на темный, вымощенный булыжником двор-колодец.
Вот сюда-то, на второй этаж, по ордеру райисполкома и въехал в конце сорок четвертого года Алексей Поморцев — двадцатипятилетний балтийский старшина — электрик в прошлом, а теперь инвалид Отечественной войны. Лешка-морячок, как его звали новые дружки.
Отвоевал он в начале того же года. Беда случилась во время наступления, когда Алексей, всю войну проведший на Ораниенбаумском «пятачке», не раз ходивший в штыковую, переживший сотню бомбежек и минные обстрелы, к которым привык, как к дождю, и окончательно уверовавший в свою неуязвимость, был срезан осколком снаряда.
Помнил страшное: он видел, как в сторону отлетела часть сапога и снег стал алым, будто опрокинули банку краски.
Очнулся уже в госпитале в Ленинграде, в палате, заставленной койками, на которых тихо стонали запеленатые, как куклы, люди. Палата была когда-то школьным классом. В ней сохранилась белесая от времени, передвигаемая вверх и вниз классная доска. Нижняя часть была замазана белилами. На верхней, поднятой под потолок, голубела нацарапанная мелом надпись: «Наше дело правое. Мы победим!» Старая школьная доска была первым, что увидел Алексей после того, как потерял сознание на «пятачке».
Лежал он в госпитале долго. Говорили, много потерял крови. Лежа на койке, вскидывал вверх, не узнавая, свои руки, исхудалые, с повисшими, как на палках, мускулами, и все думал, нальются ли они прежней силой. Сила возвращалась медленно. Вспоминал он предвоенное время, миноносец «Славный», на котором служил электриком и с которого ушел на берег в морскую пехоту. Вспоминались и кореши с «пятачка», которые были теперь уже, наверное, далеко.
— Ты пойми, пехота, — изливался он в тоске соседу по койке, рыжеватому солдатику, довольному тем, что судьба определила его в госпиталь, — я же специалист-моряк. Три года на флоте служил. Куда же теперь, какой флот?..
Заживала нога медленно. Врачи по двое, по трое, а то и больше, собирались у Алексеевой койки. Говорили непонятное. Видно, удивлялись, почему так плохо идет дело.
И все же медицина сделала свое. К концу осени дело пошло на поправку. Алексею соорудили временный протез-ботинок. И он мог уже сносно ковылять по засыпанным желтой листвой дорожкам сада позади госпиталя.. Тут и вернули ему баян. Все, что осталось от флотской, да и мирной жизни. Баян, с которым не расставался ни на эсминце, ни на «пятачке». Баян, как оказалось, привезли в госпиталь вместе с Алексеем, да только медицинское начальство не спешило его вручать раненому моряку.
С возвращением баяна словно вернулось и прошлое. Веселые молодые дни до войны, служба на «Славном», лихая жизнь на «пятачке»; там не знаешь, что ждет тебя через час, а возьмешь в руки баян — и ни войны, ни немцев, до которых можно доплюнуть, — поет душа. Может, потому и доставили ребята инструмент в госпиталь, что понимали — нет без него жизни старшине Лешке Поморцеву.
Играл, изливал душу на баяне Алексей в дальнем углу бывшего институтского парка. Собирались вокруг раненые. Кто на костылях, кого приводили товарищи, кто добирался на собственных. Слушали Алексея, сколько позволяло время, а стоит подняться — просили: «Поиграй еще, кореш».
До холодных дней, пока не затворили на замок двери в парк, терзал Алексей баян. С заморозками снова явилась нестерпимая тоска. В помещении играть позволяли редко. Меж тем он окреп. Мускулы снова затвердели под кожей. Если бы не нога… Были дни — походит, походит Алексей, а потом лежит, корчится от боли, не рад белому свету.
А сильней болей была все та же тоска. В ноябрьские дни, когда стало чуть полегче ходить, решился на отчаянный поступок. Уж очень нестерпимым сделалось бесконечное пребывание в госпитале. Захотелось ухватить вечерок настоящей жизни, а там — хоть амба!..
Неподалеку от Фонтанки, где находился госпиталь, как помнил Алексей, против цирка, жила его знакомая Зоя. В последний раз встречались — уже началась война. Прощались под лай зениток, паливших в чистое желтое небо. Такого не забудешь. Адрес Зои он запамятовал, а так на глаз запомнил и дом, и лестницу, и дверь в квартиру. «Вот бы навестить!..» Знал Алексей, многих, ой как многих недосчитался Ленинград с той белой ночи, но отчего-то верил — выжила его знакомая. Жива и здорова и, вполне возможно, проживает на прежнем месте. Мало ли людей осталось… Куда как больше, чем померло. И решил Лешка в предпраздничный вечер, когда будет и в госпитале свое веселье, сбежать часа на два-три, провести время. Авось и не заметят.
План был задуман хитро. Другие слонялись по госпиталю в тапочках. Им бы надо еще найти обувь. А у Алексея обувь была при себе.
Вечером, когда передавали доклад из Кремля и все устремились к репродукторам, удалось стянуть из гардероба едва налезшую ему женскую шинель и чью-то шапку. Шинель надел поверх госпитального халата. Презрев столь неподходящий для военного моряка вид, вылез в окно уборной и спустился на мокрый снег. Крадучись, как вор, пробирался вдоль зданий набережной. Хромая, пересек скользкие камни на подъезде к мосту. Вот и знакомый дом. Теперь во двор, налево, третий этаж…
Не сразу решившись — мало ли что может быть, — дернул ручку допотопного звонка. Электрический не работал.
Услышал шаги. Дверь широко распахнулась.
Ну и повезло!
Она!
Стояла о приготовленной для кого-то улыбкой. В синем крепдешиновом платье, с ожерельем на шее. Причесанная, пахнущая духами. Увидев его, отшатнулась, но, видно, узнала.
— Здравствуй, Зоя!
— Алексей, ты?! В таком виде, откуда?
— С того света, на часок, на побывку.
Шепотом наскоро объяснил, как ловко удалось улизнуть из госпиталя.
— С ума сошел! Как же можно! Ты же врачей подведешь…
Пытался объясниться.
— А ну их… скука заела. Мочи больше нет…
— Нельзя, нельзя!.. — как-то излишне напористо заспешила Зоя. — Тебе надо назад в госпиталь… Я провожу, буду заходить. Я же не знала, что ты рядом… — Видя, что он не собирается отступать, продолжала: — И потом у меня гости — лейтенанты. Узнают — все равно направят. Будет хуже…
Как дурацки ни выглядел Алексей в своем наряде, в женской, не по росту короткой шинели, в белых больничных штанах, наспех заправленных в невероятные ботинки, а посмотрел он на свою бывшую подругу так, как смотрел на новичков перед очередной «психовой» атакой фрицев.
Скрипнула где-то дверь, в переднюю прорвались звуки танго, хрипел патефон, громкий мужской смех, звон разбившейся рюмки. Значит, не врала — гости… Из коридора выскочила раскрасневшаяся девушка.
— Ах!
— Маруся, — полушепотом проговорила знакомая Алексея. — Принеси мое пальто. Потихоньку… Займи их, я скоро… И стопочку водки с чем-нибудь. Человеку необходимо согреться.
— А-а, согреться?! Благодарю за заботу.
Алексей рванулся к двери и с сердцем захлопнул ее за собой.
Слетел с лестницы, слышал, сверху кричали:
— Алексей, Алеша!.. Алексей!
Он не ответил. Эх, сказал бы он ей сейчас! Неудобно было орать на всю лестницу.
В госпиталь вернулся нахально — с парадного хода. Переполох был первостатейный. Полковник — главный врач — сгоряча грозил трибуналом. Чудак человек, разве страшен Лешке трибунал!.. Хоть в штрафники… Но шумел полковник, наверно, больше для острастки других. Алексея никуда не таскали, и фортель его остался безнаказанным.
В феврале сорок пятого с военной медициной было покончено. Из госпиталя выписали. Раздумывали недолго — списали «вчистую». Пробовал было просить, чтобы оставили. Он электрик и без ноги на флоте не оказался бы балластом. Не согласились. Разъяснили, как маленькому, — войне и так скоро конец, а он парень со специальностью. Дела и в тылу достаточно. В общем, выписали пенсионную книжку — греби, моряк…
Форму, хоть ладно, вернули. Рад был несказанно. Могли бы ведь выдать и солдатское. Алексей застегнул бушлат на медные пуговицы, вскинул на плечо баян. Через два дня с ордером на жилплощадь в кармане хромал по Невскому, отыскивая улицу, где надо было жить дальше. Думал он тогда сперва малость отдохнуть от пережитого, потом куда-нибудь на работу, забывать понемногу о проклятой войне.
Но нет, она не забывалась.
Обиженным обосновался Алексей на новом месте. Обозлен был на весь мир. На немцев — ну, гады!.. На врачебную комиссию — списали все-таки, канальи… На женщин… И соседи в квартире не приглянулись ему с первого взгляда. Ползают людишки, как мыши в норах. Пробовал пойти на работу, да долго не протянул. Не по его характеру. Ему ли, кто три года под пулями презирал смерть, теперь трястись затемно в трамвае, стоять в обеденный перерыв в очереди в столовскую кассу, вырезать — будь они неладны — талоны на карточках, до вечера томиться в цехе?!
Сославшись на боли в своей культе, с завода уволился и больше никуда поступать не стал. Как проживет — не задумывался. Считал, будь что будет, и это все равно не жизнь. Приходила ему порой мысль — не лучше ли было сложить голову на «пятачке», как многие его дружки, чем так прозябать дальше?
Квартира, в которой до недавнего времени оставались одни женщины, а теперь жили еще двое мужчин, была им полностью терроризирована.
Немало их, таких вот моряков и бывших сухопутных солдат-инвалидов, слонялось в те дни по израненным улицам Ленинграда. Суетились на толкучках и при рынках, беспробудно пили; охмелев, нещадно дрались, пускали в ход и костыли. Хрипло ругались и кричали всякому, кто пытался их урезонить:
— Ты бы не здесь давал! Ты бы там давал!..
И посылали вдогонку отборный мат.
В те дни и в самом деле казалось, что уже никогда не избавиться этим искалеченным душам от их беды. С обидой и беспричинной злобой поглядывали они на тех, кто вернулся с войны целым. Словно и те были в чем-то виноваты.
В квартире он поднимался последним.
В десять, а то и в одиннадцатом часу распахивалась дверь из ближайшей к черному ходу комнаты. В кухне появлялся по пояс голый Алексей. Он был одет в лоснящийся от времени матросский полуклеш. Бахрома снизу над ботинками тщательно подстрижена. Похрамывая, чуть раскачиваясь, шел к раковине и отворачивал кран в полную силу. Кран в квартире зимой никогда не заворачивали до конца. Завернуть кран в морозы — значило поставить жильцов под угрозу остаться без воды. О том всякому, кто подходил к раковине, напоминала краткая надпись на прибитой к стене картонке. Не закрывать крана было, кажется, единственным квартирным правилом, которое выполнял Алексей.
Отвернув кран до предела, Алексей начинал мыться. Брызги летели во все стороны. Мокрыми становились стена и пол вокруг раковины. Мылся старательно, долго и отчаянно. Мылился первым попавшимся под руку мылом, если его кто-нибудь неосторожно оставлял. Не было мыла — мылся и так, но тогда еще дольше. Шея и лицо его при этом сперва розовели, а затем становились пунцовыми. Мускулы на лопатках словно совершали какой-то сложный танец. Татуировка — меч, разбивающий фашистскую свастику, — густо синела на правом предплечье. Потом он прикручивал кран, запрокидывал голову назад и, широко расставив ноги, с силой приглаживал назад волосы, почти черного от воды цвета.
Если в эту минуту в кухне кому-нибудь случалось быть, с Алексеем здоровались, и он ответно кивал на приветствие. С утра он бывал тихим. Однако сам предпочитал находиться на кухне в одиночестве и, когда его заставали моющимся, сокращал процедуру, чтобы поскорей убраться в свою комнату.
Проходило немного времени, и квартира наполнялась звуками баяна. Мелодии одна за другой обрывались так же внезапно, как и начинались. То ли проверяя репертуар, то ли разминаясь, Алексей добрый час испытывал терпение соседей, нещадно гонял свой проверенный инструмент.
Вдоволь наигравшись для души, он уходил из дому. Во втором часу пополудни покидал квартиру с черного хода. С парадной ходить не любил. Тот, кто в эти минуты находился в квартире, слышал, как сперва затихал баян, потом доносились тяжелые шаги и звук захлопнувшейся двери на лестницу.
Хромая, он спускался вниз. Причесанный и чистый, в застегнутом до горла бушлате, с баяном на плече, проходил двор и терялся в тени тоннеля. На улице сворачивал вправо и шел в сторону от Невского.
Так было каждый день. Куда уходил Алексей, в квартире не знали. Да никто его о том и не спрашивал.
А шел он в пивную-полуподвал в Кузнечном переулке. Там его ждали. Приходил туда, как на работу.
Началось это вскоре после того, как распрощался с заводом. В квартире Алексей скучал. От скуки однажды и забрел с баяном в пивную на Кузнечном. Мраморные столики, оставшиеся с довоенного времени, были почти все свободны. Алексей, уселся в углу в одиночестве. Заказал водки и пива. Закуски не брал. Чтобы получить закуску, надо было вырезать талон из продовольственной карточки, а карточка у него была давно «съедена». Выпив, вынул из футляра баян, стал негромко играть песню за песней. Играл для себя, задумчиво и печально. Белели кнопки баяна, в такт с музыкой раскачивалась эмблема морского электрика — красные, потускневшие молнии в кругу — на рукаве бушлата. Какая-то подвыпившая личность с висячими усами, в поношенной офицерской шинели без погон, подсела к столику со своей недопитой кружкой пива.
Алексей не обращал внимания. Хочет — пусть сидит.
— Ах, хорошо играешь, морячок. Переливчато играешь, — сказала личность, дотянув из, своей кружки. — До души доходит… А ну, можешь «Раскинулось море широко»?
И заказал водки и пива себе и музыканту.
Лешка сверкнул глазами в его сторону, хотел было обидеться и послать усатого подальше, да раздумал — черт с ним, пусть заказывает. Вместо того чтобы отказаться, потребовал закуски. Усач кивнул и опять крикнул официанта.
Так начал он карьеру пивного музыканта. Зашел в пивную и на следующий день, да и зачастил. Садился всегда на одно и то же место — в углу, в стороне от буфета. Если баянист запаздывал, стул его не занимали. Буфетчик предупреждал — место музыкантское. В пивной люд собирался все один и тот же. У Алексея появились постоянные слушатели и почитатели его таланта. Часто играл по заказу, играл что хотели. Если не знал мелодии, быстро подбирал на слух по напетому. Денег не брал. Когда новичок, не знавший неизменного правила, сулил денег, Алексей прекращал музыку и обрывал оплошавшего:
— Ты что?! Кто я тебе?.. Хочешь, можешь поставить, — и обескураженный любитель музыки спешил к стойке исправить ошибку.
К вечеру от этих подношений он напивался. Напивался, тяжелел и начинал громко жаловаться кому придется:
— Списали меня. Все… Вчистую… Судьба. Ты, может, думаешь, я спекулянт какой?.. Я старшина-электрик второй статьи, вот кто я. Понял, дурочка безмозглая?
Потом, привстав, с презрением окидывал переполненную к концу дня пивную и громко задирал:
— Кто тут еще второй статьи электрик, ну, кто?
Пьяный, теперь уже в бушлате нараспашку, шел домой. Шел всегда без чужой помощи, достаточно твердо, чтобы добраться до дому. Шел, всю дорогу кого-то ругая. Кому-то обещая «припомнить». Порой останавливался возле дежурных дворников. Изливал, им свои обиды. С ним не связывались. Если он задирал, миролюбиво говорили:
— Иди, иди, морячок, домой, не шуми зря…
И Алексей смирел. То, что его признавали моряком, смягчало злость.
Каждое утро, просыпаясь с головной болью, будто удивлялся, как попал сюда. Видел почерневший по углам от времени потолок и давным-давно выцветшие обои с пятнами от висевших когда-то картинок. По этим пятнам можно было догадаться — обои были в цветочках.
Комната, в которой поселился Алексей, прежде принадлежала одинокой старухе. Жила она здесь невесть с каких времен, во всяком случае раньше всех других соседей по квартире. Была тут когда-то не то хозяйкой, не то барской прислугой. Толком этого никто не знал. Старухи не стало первой блокадной весной. Родственников не отыскалось, и все ее небогатое имущество сделалось ничьим.
Ко времени, когда сюда водворился Алексей, в комнате оставались железная кровать с витиеватыми спинками, с высоченным матрасом, пузатый, поеденный жучком комод с навсегда сохранившимся запахом нафталина и странное сооружение — старинное просиженное кресло.
На голой стене против кровати грубо вырисовывались косяки двери в соседнюю комнату. Обои на дверях потрескались и отстали от стены. Из соседнего помещения, где так же долго никто не жил, тянуло холодом. Морозный ветер проникал к Алексею и через кое-как заделанное окно.
Через запыленные стекла окна, которое выходило во двор — тусклый колодец, — не виделось ничего, кроме стены с проплешинами обвалившейся штукатурки и подслеповатыми на ней окнами, которые по вечерам вспыхивали робким светом. Ниже второго этажа из стены торчала побитая временем лошадиная голова. Зачем она тут, Алексей не понимал. Обшарпанная голова печально поглядывала в окна его комнаты, словно разделяя с ним тоску холодного одиночества.
Ордер на кубометр дров, полученный в день прописки, загнал в тот же час и теперь согревался, сжигая толстенные и совершенно непонятные ему, скорее всего немецкие книги, сваленные в угол, — также бесхозное старушечье наследство. Остались от нее книги и русские, в большинстве — классики. Русские книги Алексей не жег. Проснувшись утром, читал в постели до тех пор, пока не отступала похмельная головная боль.
А читать он любил всегда. Еще мальчишкой в деревне хватал какие ни попадались книги. Которые нравились, прочитывал не по одному разу. И на действительной службе проглатывал все, что появлялось в небогатой корабельной библиотеке. Скучал без книг на фронте. Удавалось найти что-нибудь зачитанное до дыр — не выпускал, пока не закроет последнюю страницу — лишь бы сыскалась минута почитать. Кореши-морячки удивлялись этой его страсти. Удивлялись и уважали Лешкину любовь к чтению.
Как-то случилось, что старухиных книг тут в квартире не сожгли, хоть и было известно — пылало их в блокаду!..
Глядел Алексей, как догорали в топке пухлые немецкие тома, и понимал, что, может, и в них было написано что хорошее. Но уж очень было ему ненавистно все «фрицевское». Гори они к черту, их книги!
Лишь только появился Алексей в квартире, женщины на всякий случай решили не забывать лишнего на кухне. Но вскоре убедились — опасения были напрасными. Из дома ничего не пропадало. Никогда он не пользовался ни чужой посудой, ни веником. Единственное, в чем не признавал собственности, являлось мыло. Любой забытый у раковины кусок, не задумываясь, пользовал в своих целях. Жильцы не жаловались. То ли прощали эту незначительную слабость, то ли не решались входить в конфликт с нелегким соседом.
Со временем завелись у него и новые дружки. Старые фронтовые были далеко. Связь с ними Алексей потерял. Эти находились рядом. Сидели за столиками в пивной. Шумели и требовали к себе особого внимания.
Самым близким сделался Санька Лысый, или, как его еще называли, Коммерсант. Настоящей фамилии Саньки Алексей не знал, да и не интересовался. Про себя он презирал нового приятеля, но обойтись без него не мог. Лысый уверял, что он тоже бывший фронтовик, и даже офицер. В доказательство тому носил засаленный китель с красным артиллерийским кантом и фуражку с ломаным козырьком. В офицерское прошлое Саньки Алексей верил слабо, но в спор с ним не вступал — черт с ним!
Санька был ловкий пройдоха и спекулянт. С утра он, как сам называл, «химичил» на толкучке. Зазвал туда и приятеля. Правда, в аферы он Алексея не втягивал. Просил постоять в стороне. Лысый рассуждал так, что на случай, если кто привяжется, он отвертится, скажет, что ни при чем — вот демобилизованный морячок-инвалид просил продать. Алексею объяснил:
— Тебя не заметут. Ты герой.
Чем промышлял Санька, Алексей не догадывался. Да и что ему-то за дело. После удачной сделки шли в пивную. Санька Лысый ставил водку и закуску. Алексей играл на баяне. Иногда веселье продолжалось за полночь. Гулял и на чьих-то квартирах, среди темных Санькиных друзей и бесстыдных женщин.
По утрам он ненавидел себя и готов был плакать. Чтобы забыться, хватался за книги. Потом долго и грустно растягивал баян. Затем уходил в пивную.
А время шло.
Появился в квартире высокий сутуловатый человек невоенного вида в армейской форме. Это был демобилизованный немолодой старший лейтенант — муж такой же, как и он, тихой женщины Марии Аркадьевны, недавно вернувшейся из эвакуации откуда-то из Сибири, где она четыре года ждала встречи со своим малоразговорчивым мужем. Теперь их бездетная семья, пережив суровые времена, снова соединилась.
Не пролетело и недели — недавний старший лейтенант Галкин вернулся за свой рабочий стол главного бухгалтера на хлебном заводе, на котором служил с тех пор, как тот был пущен. Мощным своим производством в начале тридцатых годов хлебозавод заменил десятки ютящихся по полуподвальным этажам пекарен, что расточали аппетитный аромат сдобы в тихих переулках. Про пекарни в те годы вскоре позабыли, привыкнув к заводу, из-под арки ворот которого выезжали грузовики-фургоны с надписью «Хлеб». Галкин-то знал, сколько трудностей стояло перед этими необычными для города предприятиями, пущенными тогда чуть ли не одновременно во всех его районах. И на далеких фронтах, читая скупые строки о Ленинграде, радовался Галкин — не закрыли их завод. В самые тяжелые дни выпекал горький блокадный хлеб. Думал тогда Глеб Сергеевич — придется ли ему еще увидеть знакомые серые корпуса? Пощадит ли их вражеская бомба? Тем более что находился хлебозавод неподалеку от железнодорожных путей.
А надо же — сохранился, во всяком случае внешне цел и невредим. Но это внешне, а внутри чуть ли не все надо было начинать заново. И начинали, не страшились трудностей, как в те, тридцатые, когда с оборудованием приходилось ой как худо.
Ни дня не раздумывая, где ему работать после демобилизации, Галкин отправился на свой завод. Знакомых оказалось не густо. Кто еще не вернулся с войны. Другие уже и не вернутся. Кого скосила блокада. Об иных не было и вестей. Возвращению Галкина обрадовались. Тут же предложили должность заместителя директора завода, но Глеб Сергеевич от нее отказался, предпочтя свое давно знакомое дело.
Он вошел в ту же комнату, где сидел четыре с лишним года назад, невольно удивившись тому, что стол был тем же самым, только выцвела и потерлась на нем клеенка. Именно с этим канцелярским столом он прощался, кто знал, может, уж и навсегда, когда в июле сорок первого уходил в ополчение с группой заводских коммунистов. Глеб Сергеевич присел за стол и с удовлетворением подумал о том, что и работа будет та же самая, привычная и любимая. Только расчеты нынче посложнее прежних и ответственности пожалуй что больше, чем раньше.
Офицер запаса Галкин еще имел право на отдых после демобилизации. Но на хлебозаводе бухгалтерский учет был столь запущен, а со счетными работниками так бедно, что Галкин пришел на работу на третий день после посещения заводского управления.
В первый раз на заводе он появился в погонах и при тех немногочисленных наградах, которые заслужил. Потом орден и медали над карманом гимнастерки заменила скромная полосатенькая планка. Но и планку Галкин вскоре посчитал надевать не обязательным. А военное обмундирование — офицерскую форму без погон — носил долго. Больше, собственно, носить было и нечего. Единственный костюм, самоотверженно сохраненный женой в то время, когда жить в эвакуации можно было лишь на вещи, этот не модный, не новый костюм сделался теперь выходным и надевался только в праздники.
Алексей увидел Глеба Сергеевича утром, когда вышел из своей комнаты. Не очень умело тот насаживал на черенок полинявшую от времени половую щетку. Галкин поздоровался с жильцом-инвалидом, о котором уже был наслышан. Алексей буркнул в ответ что-то похожее на «драсте» и, как обычно, вернулся к себе.
Хотя Глеб Сергеевич и был старшим лейтенантом, уважения в глазах Алексея не вызвал. Уж очень этот офицер имел какой-то небоевой вид. И незначительные награды на его гимнастерке не произвели впечатления на бывшего моряка. «Интендант, штафирка, — решил Алексей. — Мало ли их таскалось по фронтам. Люди воевали, а они по штабам, подальше от передовой». Когда же узнал о том, что всю войну Галкин прослужил начфином, успокоился окончательно. Вернулся и ладно, радуйся, что цел остался. Иди, трудись, благодари бога — другие за твои награды пострадали. Алексей, если случалось ему столкнуться с Галкиным, проходил мимо, словно и не замечал соседа. Всячески подчеркивая, что он, Алексей, в своем звании отличившегося защитника морских рубежей, не намерен считать за фронтовика какого-то там тылового начфина.
Как-то осенними сумерками Алексей задержался дома дольше обычного. Дело было в субботу. Пивная наверняка была переполнена до отказа, а он не любил излишнего галдежа. Забегавшие на Кузнечный перехватить сто грамм «с прицепом» перед возвращением домой музыку не слушали. Алексею нравилось ублажать посетителей постоянных, которые любили его игру и баяниста уважали.
Словом, он не торопился в пивную. Пусть схлынет, разбежится лишний народ и останутся свои. Час-другой он еще проведет дома.
Темнело. Алексей повернул выключатель. Электричество не зажигалось. Вскоре через дверь услышал разговор о том, что огня нет по всему дому.
На улице засинело. Предметы в комнате сделались едва видны, электричество не загоралось. На кухне кто-то зажег свечу. Оранжевый отблеск ее пробрался из-под двери в комнату Алексея. Со двора доносились крики. Дворничиха Спиридоновна орала на весь двор, что настоящего монтера не найти, а «эти» сообразить ничего не могут. На возмущенные реплики жильцов, не желавших оставаться в темноте, бодро отвечала: «А и посидите без огня. Не столько сидели, а тут что — до утра!..»
Алексей натянул бушлат и нахлобучил фуражку. Старшинскую звездочку он с нее не снимал. Прошел через освещенную одиноким пламенем кухню и спустился во двор.
Спиридоновна все еще стояла тут и вела разговор с жильцами, интересовавшимися в приоткрываемые окна, когда же будет наконец электричество.
— Кто его знает? Может, и будет, а может, и нет, — с каким-то веселым злорадством ненужно громко отвечала она.
— Будет, — сказал неожиданно появившийся возле нее Алексей. — Чего зря горло дерешь? Где свет чинят?
— На третьем подъезде ремонтируют. Чай, все грамотеи там собрались, а свету не видать.
И приумолкнув, проводила взглядом захромавшего в сторону подъезда Алексея.
На площадке первого этажа с огарком свечи в руках стоял управхоз. Рядом находились какие-то домашнего вида интеллигенты. На лестницу, которую придерживал управхоз, забрался молоденький парнишка в полосатой рубашке. Ящик распределительного щита был распахнут настежь. Мальчишка то вывинчивал, то опять ввинчивал пробки. Стоявшие внизу давали советы и по мере познания в электроделе высказывали свои предположения. Чуть в стороне — Алексей его приметил сразу — молчаливо наблюдая за происходившим, стоял его сосед по квартире, Галкин.
— Если бы контрольную лампу, — оправдывая свою беспомощность, объяснял с лестницы парнишка.
— А ну, давай, салага, слазь! — неожиданно для всех гаркнул Алексей.
Парнишка беспрекословно подчинился требованию моряка и, оглянувшись, спустился со ступенек.
С поразившей всех легкостью Алексей поднялся по лестнице, глянул в расположение пробок на щите и помотал головой.
— На соплях все у вас тут, батя. Удивляться надо, как вообще-то горело.
Голой рукой — не привыкать ему, случалось бывать и не под таким напряжением — коснулся входящих контактов.
— Не здесь, — сказал Алексей. — Зря тут и тюкаетесь!..
Он деловито, по-хозяйски, подкрутил все пробки и захлопнул ящик. Спустившись вниз, спросил управхоза:
— Где общий ввод?
— В подвале, — ответил управхоз. — Я там не знаю, там боюсь. Там же… Настоящий электрик нужен.
Алексей смерил управхоза таким взглядом, что тот, должно быть, понял, взгляд означал: «А я, по-твоему, кто? Я, по-твоему, балаболка?»
— Если можете, пошли, — пожал плечами управхоз.
В подвал вместе с ними увязался и парнишка. Тот шел будто на правах подмастерья. Не отставал и Галкин. Остальные разошлись по своим квартирам. Зачем пошел с ним бывший начфин, Алексею было непонятно. А впрочем, пусть идет, не все ли равно.
Как и предполагал он, авария произошла на главном щите. Алексей потребовал тонкой медной проволоки. Нашлась у паренька. Он запасся ею на случай необходимости поставить «жучка».
— Вот с жучками-то и пережгли, — заявил старшина-электрик, налаживая что-то в щитке. — Последнее это дело… Сейчас дадим свет, а завтра вызывайте дежурного, — это уже к управхозу, — иначе накуролесим тут.
И свет с помощью Алексея в доме зажегся. Разом вспыхнуло множество окон, и словно теплее сделалось в сумрачном дворе. Вышло что-то вроде маленького праздника после темных будней. Те, кто и в самом деле сидел в городе без электричества не один и не два месяца, умели ценить труд избавителей от мрака.
— Морячок с тринадцатой починил! — сообщила кому-то со двора помягчавшая Спиридоновна.
Алексей сделался героем вечера. Управхоз заявил, что непременно добудет по такому поводу «маленькую». Но лучше бы он такого не говорил.
— Я тебе что, калымщик? — огрызнулся Алексей. — Я для людей. Понял, деятель?.. У тебя, может, и во всем жакте не хватит водки меня напоить!
В квартиру возвращались вместе с Галкиным. По дороге сосед нарушил молчание:
— Ловко вы это, быстро разобрались. Пустяк, кажется, а мы там все мудрили, мудрили…
— Впервой, что ли, — пожал плечами Алексей.
— Я и говорю — чувствуется специалист. — Галкин чуть помолчал и, кашлянув, продолжал: — Не мое, понятно, дело, но такие люди теперь на вес золота. Вот взять и у нас на хлебозаводе, хозяйство надо приводить в порядок, а умелых электриков раз, два и…
— Будто только у вас, — усмехнулся Алексей. — Где их взять-то, специалистов? Одних земля прибрала, другие вроде меня, подбитые.
— Однако вы бы еще, как полагаю, вполне могли бы, и польза была бы… Ну и для себя, разумеется…
— Это что, — издевательски проговорил Алексей, — как Утесов по радио агитирует: «Я, демобилизованный, пришел домой с победою. Теперь, организованный, работаю как следует…» С меня хватит. Я с автоматом довольно поработал. Моя польза под Рамбовом на черной земле в сапоге осталась, — и хлопнул себя по ноге ниже колена. — Теперь пусть те, кто отсиживался, кто целеньким остался, налаживают.
На том разговор и окончился. Алексею еще хотелось послать подальше этого штафирку — Галкина, но удержался. Все-таки пожилой человек.
А тут еще и дома встретили приветливыми взглядами. Скажи пожалуйста, удружил им, а?!
Как обычно, ни на кого не глядя, он прошел в свою комнату и вскоре, забрав баян, покинул ожившую квартиру — направился своим обычным курсом.
Но пока шел в пивную, пока сидел там, не хватив еще лишнего, все почему-то думал, что все-таки правильно сделал, что помог этому лопуху-управхозу. Суббота, нехорошо, чтобы люди сидели без света. И слова Галкина отчего-то не выходили из головы. Вот еще! Ему-то какое дело до его инвалидного положения?!
Как всегда, Алексей явился домой поздно. Двери ему отворил, как нарочно, тот самый Галкин. Видно, он еще не ложился. Вышел на кухню в очках, в которых читал и работал.
Ничего они друг другу не сказали. Галкин пропустил соседа и запер двери.
В комнате Алексей снял баян, бережно опустил его. Спать не хотелось. Что-то давило, мешало сразу заснуть.
Зиме уже надо было бы побелить крыши домов, а с них по трубам все еще лилась вода. Не к месту, не ко времени снова пришла оттепель. В городе началась эпидемия. Грипп укладывал людей в постели в каждой квартире. Сбивались с ног районные врачи.
Уткнув лицо в бушлат, воротник которого он придерживал за концы правой рукой, Алексей с буханкой хлеба спешил домой.
Два дня назад его начало знобить. Не помогали ни натопленная печь — было у него теперь немного дров, — ни водка с горячим чаем, которой пытался отогнать одолевавшую хворь.
Ни что такое простуда, ни какое другое болезненное состояние — прежде Алексей не знал. Тяжелое ранение не в счет. Тут случай особый. Правда, на передовой, какая бы там погода ни бывала — что слякоть, что мороз, — никто вообще не болел. По палатам фронтовики залегли после того, как вылезли из окопов. И каких только тогда не пооткрывалось болезней, о которых четыре года не имели и понятия.
Но Алексей хворать не собирался, этого еще не хватало. Нет, он не поддастся. Познобило и перестало. С утра на третий день почувствовал себя вполне нормально. К тому же явился такой аппетит, что стало ясно — хворь миновала.
Вот и торопился домой с буханкой. Думая соорудить чаю и навернуть хлеба с маргарином, которым был «отоварен» перед болезнью. Прошел двор и поднялся на свой этаж по пустынной, со слезливыми от сырости стенами лестнице. Свернув на последний пролет, увидел — у черного входа в квартиру стоит молодуха. Голова обвязана серым платком. Одета в пальто в талию. На ногах армейские сапоги. Возле, на полу, большая, перевязанная веревками корзина с замочком и узел в байковом одеяле, также в веревках со всех сторон, как в шлее. К узлу еще приторочен старенький эмалированный кофейник без крышки и кастрюлька. Стояла эта невысокого роста молодая женщина и нажимала кнопку неработающего звонка.
— Стучать надо, если сюда, — сказал Алексей, поднимаясь на последнюю ступеньку.
— Стучала, — ответила женщина. — Никто не выходит. Я по ордеру. Комнату тут дали. Я с той лестницы звонила — никого. Дворничиха сказала: «Ты с черной попробуй, может, там отворят».
Голос у нее был чистый и настойчивый, так, во всяком случае, Алексею показалось. Насколько можно было разглядеть при тусклом лестничном свете, была она совсем молоденькой. Лицо в платке чуть скуластенькое, а глаза карие, быстрые. Говорит и будто виновато улыбается. Она раскрыла сумочку с замочком (шариками на козьих ножках) и вынула оттуда желтый листок бумаги.
— Вы, наверно, отсюда? Вот ордер. Проверьте, если хотите.
В жизни Алексей не терпел никаких бумажек. Оттого иногда и случались у него разные недоразумения. Зачем ему этот ордер?!
— Я тебе что, комендант, документы проверять! Сюда так сюда. Мне все одно.
Отыскал в кармане бушлата ключ, всадил его в скважину и распахнул перед приезжей дверь — дескать, входите, будьте любезны. Поселяйтесь где хотите, дело не наше.
Она кивнула, проговорила что-то вроде «спасибо, вот спасибо» и наклонилась, чтобы сразу нести корзину и узел. Но, видно, не очень-то легко это ей было. Вздохнула и снова растерянно улыбнулась.
— Дай-ка, — сказал Алексей.
Свободной рукой хотел легко подхватить корзину, но она оказалась неожиданно тяжелой.
— Что там у тебя, камни?
— Книги, — будто виновато проговорила девушка. — Учусь.
— А-а, на профессора кислых щей?
— Нет, не на повара, — ответила она, то ли не поняв его шутки, то ли не желая ее понимать. — На водителя троллейбуса учусь. Там книги по электричеству. Ну и тетради. Выдали нам.
— По электрике, — непонятно пробурчал Алексей, подцепил свободной рукой корзину и, стараясь как можно меньше хромать, понес ее впереди девушки к двери в закрытую комнату. Приезжая с узлом доверчиво шла за ним.
— Сюда, наверно, — сказал он, опустив корзину возле двери. — Больше тут селиться некуда.
Девушка подергала ручку запертой двери и спросила:
— А вы в которой живете?
— Я?
Новое дело, зачем это ей еще знать? Алексей помолчал и ответил:
— Я по соседству. Рядом.
— Тогда правильно, — оживилась приезжая. — Управхоз сказал, за стеной живет моряк…
Она не договорила. Похоже было, что осеклась на слове «инвалид», скользнула взглядом по ногам Алексея.
— Пребывает такой, — кивнул он. — Догадливый ваш управхоз.
И пошел, больше не говоря ни слова, с хлебом в руке в свою комнату, вход в которую был из кухни.
Никого из жильцов в этот час в квартире не находилось. Никто не вышел посмотреть, кто это с багажом появился в коридоре. Из своей комнаты Алексей услышал, как приезжая шебаршила ключом в замке, не в силах его отомкнуть.
В старой тельняшке, с медной бляхой на ремне, он опять появился в коридоре. Девушка скинула платок на корзину. Расстегнув пальто, она напрасно пыхтела, пытаясь отворить дверь.
— Дай-ка, — опять сказал Алексей. — Ключ-то тот?
— Управхоз дал.
Покорно отдала ключ, взглянула на соседа с надеждой. Волосы у нее были мягкие, непонятного цвета. Он вставил ключ в замок, крутанул туда-сюда. Замок не поддавался. Пришлось поднажать. Заскрежетало и хрястнуло. Двери были отперты.
— От Петра Первого, наверно, не отворяли, — сказал Алексей.
Из комнаты потянуло сыростью. В раскрытую дверь увиделся покрытый пылью стол и венские стулья.
— Все, — сказал Алексей. — Можете располагаться.
Он вернулся к себе и прилег на кровать. Через заклеенную обоями дверь слышал, как девушка волоком втащила в комнату корзину. Потом были слышны шаги, она задвигала стульями. Вскоре в двери к нему постучались. Алексей поднялся и вышел на кухню.
— У вас не найдется, чем бы забить гвоздик?
Теперь она была без пальто, оказалась одетой в побелевшую от стирки гимнастерку и черную юбку.
Молотка у него не было, но ящик стола, где лежал чей-то квартирный молоток, он знал. Он указал девушке на стол.
— Вон там есть, возьмите.
За стеной вбивали гвозди. «Устраивается, скажи пожалуйста», — думал он про себя. Вынул из футляра баян и, усевшись, начал играть. Играл как всегда, незаметно переходил с мелодии на мелодию. Потом вдруг оборвал игру. Еще, чего доброго, решит — нарочно музыку для нее развожу, завлекаю… Упрятал инструмент в футляр. Немного побыв в комнате, надел бушлат, повесил на плечо баян и отправился из дому.
Когда спускался по лестнице, подумал о том, что новая жилица была ему как-то совсем ни к чему. Так он жил отдельно, в стороне от всех. Теперь за стеной будет эта девчонка. Станет там расхаживать, смеяться или петь, еще гостей приведет. Ему тут давно сделалось привычно быть одному, никого не слышать. Вот еще, новое дело. Откуда и взялась такая!
А взялась Аня Зарубина из того же Ленинграда, хотя в Ленинграде у нее никого не было родных.
Но родных у Ани не было и в других городах. Выросла она в детском доме, в который попала такой маленькой, что не знала откуда и как.
Весной сорок первого года Аня было уже поступила в Механический техникум. Из детдома переехала в общежитие. А тут война. Пошла в ополчение. Хотела стать санинструктором, но направили в стройбат. Спорить не стала, решила — все равно, где воевать. Вначале строила укрепления за городом. Девчат в стройбате был целый взвод. Как могли, делали мужскую саперную работу. Потом немцы подошли ближе к городу, тогда перебрались строить доты на окраинах, в подвалах домов со срезанными углами. Зимой отвезли их на Ладогу. Обслуживали Дорогу жизни. Пилили елки в лесу, возили, укладывали в настилы, меняли мосты через канавы.
Жили в землянках. Безрадостные сводки в газетах читали при свете коптилок. Терпели обстрелы и бомбежки. Упрямо ждали, когда станет легче. Пришло время и принесло первые радости. Сперва все короче и короче становилась дорога через коварную Ладогу. Позже, как прорвали блокаду, стала и совсем ненужной.
Батальон, в котором служила добровольцем Анна Зарубина, передислоцировали в Ленинград. Еще рвались на улицах снаряды, а девчата в шинелях наводили тут порядки… Растаскивали завалы, забивали фанерой разбитые витрины полуразрушенных домов.
Кончилась блокада, и пошла Аня в строители. Строить не строили, но дыры латали. То, что могли восстановить, восстанавливали. Научилась она работе и каменщика, и штукатура, и маляра. Квалификации невысокой, но все же что-то делать умела. А тут и транспорт уже покатил по избитым осколками улицам. Сперва понемногу, а потом все больше и больше зазвенели трамваи. Ожил и побежал по Невскому троллейбус. Тогда и прочитала Аня объявление о приеме на курсы водителей. Хоть и со вздохом, но из стройотряда отпустили. Распрощалась с девчатами. Устроилась сперва у матери одной из подруг, а потом повезло. На правах демобилизованного воина и ленинградки выхлопотала жилплощадь. Тогда и поселилась невдалеке от Невского в ничейной теперь комнате. Произошло это уже на третьем месяце учения ее в троллейбусном парке.
Вся биография комсомолки Ани Зарубиной укладывалась на одной страничке школьной тетради. Хотя и досталось лиха Ане на войне, а все же и горестное время не прошло даром. Возмужала она за эти годы и окрепла. Из худенькой, голенастой девчонки превратилась в крепко сбитую девушку. Научилась жить самостоятельно, ладить с разными людьми, да и не страдать, не паниковать по пустякам.
Три дня Алексей не видел, а если и видел, то не замечал новой соседки. Слышал, как она расхаживала по своей комнате. Позвякивала там какой-то посудой. Уходила на кухню и возвращалась назад. Слышал, как обменивалась короткими репликами с жильцами. Слышал, как запирала замок и уходила. Тихая была соседка. Ни пения, ни плясок. Гости вроде не появлялись, а может, и ходили — по вечерам, когда его дома не бывало.
Он, как всегда, возвращался, когда все уже спали. Запирал за собой двери черного хода и шел к себе. Ничего не было слышно за дверью, заклеенной обоями. Анька, как он сразу ее стал называть про себя, спала тихо, будто ее там и не было! Ни койка не скрипнет, ни вздоха не донесется.
Каким ни бывал подвыпившим, а баян снимал и опускал аккуратно, спать ложился без особого шума и хождения по комнате. Сам не знал, откуда это у него взялось. Прежде не считал нужным ни на кого обращать внимания. А тут… Да и к чему? Спит, наверно, из бронебойного пали — не разбудишь.
На четвертый день ночью, поднявшись на площадку, обнаружил, что ключа от двери в бушлате нет. Порылся в карманах и стал по обыкновению барабанить в дверь.
В таких случаях открывали ему не сразу. Жильцы, не желавшие подниматься с постелей, пережидали. Каждый надеялся, что поднимется и пойдет не он, а кто-то другой. Алексей это знал и, настучавшись, терпеливо ждал, кто откликнется. С некоторых пор двери ему отворял Галкин. Выходил на кухню в нижнем белье, глухо спрашивал: «Кто?» — и, убедившись, что на лестнице беспокойный жилец, отодвигал засов старинного замка. Не успевал Алексей бросить свое обычное «пардон, мерси…», как Галкин уже только белел вдали коридора, не забывая всегда негромко предупредить:
— Двери затворите, пожалуйста.
Но в ту ночь было по-иному.
Куда скорее, чем обычно, проскрипела внутренняя дверь в квартиру, а затем кто-то, не окликая Алексея, стал отмыкать замок.
Чаще всего ему отворяли в темноте. Тем более что дворовый фонарь достаточно освещал через окно дорогу, чтобы добраться до двери в комнату. А тут в кухне был зажжен огонь. Яркий свет лампочки, горящей при полном ночном напряжении, бил в глаза. Против света Алексей не сразу рассмотрел, кто его впускал в квартиру, а затем увидел Аньку. Стояла она, запахнувшись в пальто, босые ноги всунуты в какие-то старенькие туфли. Русые волосы в беспорядке раскинулись по плечам.
— Позже не мог прийти? — сказала она, пропуская Алексея и снова взявшись за замок. — И еще без ключей. Не стыдно? Людям чуть свет на работу.
Пока он раздумывал, Аня уже затворила вторые двери и все так же запахнутая заспешила по коридору, кинув на прощанье:
— Спокойной ночи.
Алексей вошел в комнату. Слышал, как по соседству щелкнул замок. Потом легко скрипнула кровать и все стихло.
— Видали, потревожил! — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. — Не выспятся они, труженички!.. Человек, может, три года не спал… Вас бы туда на недельку… Имею полное право. Идите вы все…
Баян в футляре стоял на полу. Алексей сидел на кровати и говорил все это, глядя на заклеенную дверь. Из соседней комнаты не слышалось ни звука.
— А вот возьму сейчас и выдам боевую тревогу на всю железку! Поглядим, как выскочите! На что способны, кому Родина обязана, а?
Он уже потянулся к футляру, но только махнул рукой. А ну их, все равно не поймут… Скажут, пьяный. Какая им тревога… Эх, не знаете вы Алексея Поморцева!..
А каким он был!
Не было в их роте, а возможно, и во всем батальоне, везучей Лешки Поморцева Не только что кореши, но и командование прочно уверовало в его неуязвимость. Сколько товарищей полегло, сколько эвакуировали в госпитали, а Лешке все нипочем. Посылали его в разведку чуть ли не через день. Ходил и за «языками». С добычей возвращался или пустой, а всегда целый. С утра, где бы ни побывал, начищал свою форму, надраивал медные пуговицы, так что можно было подумать — из блиндажа ему прямо в патруль по городу. И брился он, свисти не свисти над головой снаряды, каждый божий день. Нет горячей воды — пойдет и холодная, не беда. Зеркальце всегда отыщется. Нет его, так и в снарядную гильзу поглядеться можно. А бритва в любом боевом снаряжении при Лешке.
Ребята — теперь сухопутные морячки, хоть и сами старались не терять моряцкого вида, посмеивались: «И куда ты, Леха, внешность свою надраиваешь? Сад Госнардома нам пока не светит». А Лешка, между прочим, был первым парнем не только в батальоне.
Появилась у них на «пятачке» санинструктор Клава Клепикова.
Невысокая, тоненькая — перетянута ремнем, будто и совсем нет никакой талии. Нос с задорной курносинкой, а глаза черные, быстрые. Смеялась, словно не в пекло к ним ее прислали, а в тихое приятное местечко. Может, и трясло ее от страха, только она того не показывала. Отзывалась на любую просьбу. Бегали к ней палец перевязать или еще за чем-нибудь. Внимательная была до удивления. Пришла к ним с русой косой за плечами, но потом остригла и положила в свой вещмешок: оставила на память.
Был у Клавы небольшой и приятный голос, за что ребята ее называли «нашей Клавочкой», намекая на любимую на всем флоте Клавдию Шульженко. Устраивали они с Алексеем где могли концерты. Он научился играть, сдерживая звук баяна, чтобы не мешать ей петь. Ну а когда Клава умолкала, тут уж и он давал волю своему инструменту. В общем неплохо у них получалось.
Но концерты концертами, а как только прибыла в роту санинструктор Клава Клепикова — Алексей и минуты не сомневался, — для его радостей объявилась девчонка. Он даже торопить события не стал. Так, покрасуется, подбросит ей словечко-другое с шуточкой и будто забыл про Клаву. Был у него такой проверенный способ завлекать девчат, который до тех пор срабатывал без осечки. Ну, а Клава. Клава будто бы воспринимала по-должному и ждала своего часа.
И час такой пришел. Как-то раз выдался случай. Было это после их очередного концерта. Остались они вдвоем под звездным небом. Такой тихий опустился вечер на землю. Можно подумать — никакой тебе войны и тем более рядом переднего края: Лешка обнял Клаву, прижал к себе. Она, как и полагалось в таких случаях, начала всякое там: «оставь» и «не надо». Лешка нахально спросил:
— А что, не нравлюсь? Лучше у тебя есть?
— Не время сейчас, — ответила. — Теперь не время.
Он смеялся.
— Какое же тебе нужно время? Может, у нас его потом вообще не будет.
— Ну и что же, — упрямо отвечала, — если и не будет. А теперь — война. Видел, что в Ленинграде делается?.. Нет, ни о чем таком и думать не время.
Лешка рассуждал иначе. При чем тут война. Жизнь из-за нее остановилась, что ли. Наоборот, нужно пользоваться, пока цел. Но события и тут форсировать не стал. Решил — дойдет все само по себе, сложится, как ему хочется.
Но что-то не складывалось. Шло время, улыбалась ему Клавочка, пела под баян песни про «огонек» и прочие, и не больше.
И тогда Алексей отважился действовать по-своему. Пришла, решил, пора. Знал он, что женщинам нравится напор, против которого трудно устоять.
Опять-таки, как когда-то, настал момент, когда остались они вдвоем. Лешка смело облапил Клаву и с ходу впился в розовые, теплые губы. Рассудил так: все, кончено, моя!
Только получилось не по его решению. Вырвалась Клава из его объятий и засветила Алексею оплеуху. Крепко засветила. Неизвестно, откуда в ней взялось столько силы. Умела, значит, защищаться.
Отпрянула она подальше.
— Ты что, с ума сошел, гад?!
Лешку как из ушата холодной водой.
— Это я гад?!
С искренней обидой сказал. Действительно, что же это она за такие-то пустяки его «гадом», как последнего… Только увидел Клавины глаза и сник. Столько в них было яростного возмущения и обиды, что и лихости Лешкиной будто не бывало. Однако он сразу же собрался и с деланным безразличием бросил:
— Видали, принцесса. Знаем таких, знакомились… Не хочешь — и не надо. Страдать не станем.
С тех пор у них все разладилось. Вроде бы и перестали замечать друг друга. Одиноко играл баян в блиндажах, но не пела под него Клава. Для неосведомленных был у нее короткий ответ: «Не до того мне сейчас». Разошлись они как в море корабли. Словно ничего и не было между ними. Хотя, вообще-то, и в самом деле ничего не было. Да нет, не так уж чтобы совсем ничего. Замечал Алексей, как радостно блестели Клавины глаза, когда он целехоньким возвращался после ночных поисков. Неспроста же это. Значит, ждала, беспокоилась. Может, и не спала до утра.
И насчет того, что страдать не собирается, — врал. Не по себе было с тех пор, как она его отрубила. Казалось, все наблюдали его позор и сделался он посмешищем на весь батальон морской пехоты. Чтобы как-то защитить себя от того, стал Алексей хорохориться, делать вид, что ему это все ни к чему. Начал он отпускать в сторону санинструктора разные колкие шуточки. Бывали и такие, что она, может быть, от них и плакала, только никто этого не видел.
Но кончилось совсем не смешно, да и вовсе не так, как мечталось Алексею.
Была у них разведка боем. Поморцева оставили в резерве во втором эшелоне. С потерями тогда, с немалой кровью, а отбили у немцев клочок земли, совершенно необходимую небольшую высотку. Разъяренный противник обрушил на них шквал огня. Многие, кто не успел укрыться, были ранены. Туда, в огонь, и устремилась со своей санитарной сумкой Клава. Вернулись те, кто мог вернуться. Привели и тех, кто сам не мог дойти. Не было среди, возвратившихся лейтенанта Антоненки, который повел моряков в атаку на высоту. Вроде бы и видели его ребята, кто впереди, кто рядом, потом потеряли. А кроме Антоненки не было среди возвратившихся и санинструктора Клепиковой.
Вот тогда-то и вызвался Алексей идти их искать. Никакой не было гарантии, что и сам возвратится. Разве только вера в то, что ничего его не брало.
И тогда ему повезло. Отыскал он их обоих вместе. Нашел в воронке от снаряда. Клава ждала темноты, а потом пыталась дотащить раненого лейтенанта до безопасного места. Лейтенант был ранен осколком и упал в воронку. Потому и не видел его никто из ребят, а Клаве посчастливилось до него добраться. Перевязать она лейтенанта перевязала, но тащить его не хватало у нее сил.
Взвалил Алексей лейтенанта на себя и где пешком, где ползком поволок. Клаве велел идти вперед и не дожидаться, пока немцы откроют огонь. Но она не послушала его, сказала: «Нет, нет, я с вами…» Зря не послушала. Алексей как в воду глядел. Немного они до своих не дошли — начали немцы бить из миномета. Беспорядочно били, наугад, а Клаву зацепило, и крепко. До блиндажей все-таки кое-как добрались.
Позже, когда отправляли их с Антоненкой на Большую землю, Алексей пришел, постоял возле Клавиных носилок. «Ничего, — сказал, — поправишься. Будешь еще со своей сумкой бегать». И она, наверно, поняла. Смотрела на него своими черными глазами и силилась улыбнуться. Никакого, видно, зла против него не имела.
Представили Алексея к медали «За отвагу». В то время, в первые военные годы, награды скупо давали, и была эта медаль еще редко у кого на груди.
Потом узнал он, что у Клавы с лейтенантом Антоненкой была любовь, которую они от всех прятали.
Ничего о них больше он не знал. Может, и выжил лейтенант, может, и поправились оба. Возможно, потом поженились. Алексей ничего не имел против, в душе желал им счастливой жизни, хоть и понимал, что сам в смешном положении, потому что считал, будто кроме него, кудрявого, Клаве никто не мог приглянуться.
И все же было на душе что-то радостное, хорошее от той мысли, что если бы не он, может не видать ни Клаве, ни лейтенанту следующего дня.
Никакой у него тогда больше не оставалось на нее обиды. Наоборот, досада на себя. А про Клаву думал: сильна все-таки деваха, надо же! А сама-то — всего ничего.
Так он тогда решил. По справедливости. А почему?.. Потому, что был старшина второй статьи Лешка Поморцев человеком. Да и бойцом-моряком, хоть и на суше. Стоящим был парнем. Ни пуля, ни снаряды его не задевали. Поверил в то, что вроде у него такая особая звезда. Напрасно поверил. Пришел и его черед. Что он теперь? Инвалид с баяном. Так, да? А как же иначе?!
Он слегка пнул стоящий перед ним на полу футляр. Пнул не зло и не всерьез. Чем был виноват баян? Но баян грохнулся на пол. Раздался глухой удар.
— Извиняюсь, — опять вслух произнес Алексей и, встав с кровати, поднял баян. — Извиняюсь.
— Тише ты. Людей разбудишь! Спал бы… — послышался голос из комнаты за заклеенной дверью.
Надо было отбрить, чтобы… Но голос был совсем не обидный, скорее какой-то просящий. Показалось Алексею, кто-то уже говорил с ним так, но когда, где, не помнил. И вместо того чтобы отбрить Аньку, он только и сказал:
— Ладно, ладно…
И в самом деле затих до утра.
Алексей любил ходить в баню. Баня помещалась тут же, на Пушкинской. Минут пять ходу, не больше. Старая была баня, неремонтированная с давних времен. Однако действовала каждый день. Был в ней и зал для инвалидов Отечественной войны. Алексей в этот зал сходил всего один раз и с тех пор посещать его закаялся. Может, и толкалось там поменьше народу, и в раздевалке попросторнее, но ему в особом зале не понравилось. Входили в него голые мужики — кто на костылях, кто с палкой. Некоторые мылись одной рукой, а кого и мыли, поскольку сам он справиться с банным хозяйством не мог. Наводила на Алексея эта печальная картина душевную тоску и лишала банного удовольствия. А мыться он любил. Любил влезать в парной под самый потолок и разогреваться там до одури, а потом поскорей в прохладу мыльной, да еще растянуться на цементном полу, остужать распаренное тело. В специальном, как его называли, зале инвалиды приставали: «Тебя это где, морячок?.. Тебя не под Ханко ахнуло?.. Я дак там…» Алексей отвечал нехотя. Трезвый он о подвигах не распространялся. Но и находиться в мыльной, где орудовали с мочалками недавние вояки с культей чуть ниже зада и всякие однорукие, глядеть на этих отмеченных радости не доставляло… Потому Алексей и предпочитал обыкновенный зал, где мылись мужчины без телесных повреждений, и он себя там чувствовал таким же.
Раздевшись, он быстро засовывал свои пожитки в шкафчик. Громко орал:
— Батя, закрой!
Не дожидаясь банщика, прыгая на одной ноге, добирался в мыльной до свободного таза, плюхался на скамью, и лилась шайка за шайкой на его растатуированное тело.
Умудрялся он в бане произвести и мелкую постирушку. Выполоскать тельняшку и высушить ее на батарее в предбаннике, пока парился и потом отдыхал от жары.
По пути домой освежался кружкой холодного пива и ковылял к себе в преотличном расположении духа. Баня придавала бодрости. Жизнь казалась еще не вся позади и игра не проиграна.
В баню ходил с утра, когда народу бывало поменьше. А тут вдруг пришла идея отправиться мыться в субботу. Случилось это в день пенсионной получки, весь день в ожидании почтальона Алексей лежал на кровати.
Пенсию принесли в пятом часу; Алексей расписался. Не пожалел рубля почтальонше и, отложив книгу, отправился в баню.
В инвалидный зал, хоть там и не было очереди, не пошел. Отстоял некоторое время, пока попал в общий зал, и, скинув одежду, заспешил в мыльную. Здесь было шумно, гремели тазами, перекрикивались намыленные мужики, обильно текла вода. То и дело отворялись двери из парной. Вместе с белой тучей оттуда выскакивали распаренные дядьки с поредевшими вениками.
Любил Алексей всю эту туманную сутолоку. В баню он ходил, как в кино.
Ну и типов там наглядишься, пока вымоешься!
Вот один — розовый, как поросенок. Сидит на мраморной скамейке, будто на даче в жару. Охлаждается после парной и обрызгивает себя налитой в таз студеной водой. Этот никуда не спешит. Не то что вот тот, что наскоро трет шею. Прогнала, наверно, в баню жена: «Пора, пора, милый!..» Там нещадно по очереди друг другу дерут спины два здоровяка. Откуда такие и сохранились?.. Шпарят один другому на тело кипятком с мыльной пеной, аж вздрагивают, а терпят. Эх и поддадут же эти после баньки!.. Один верзила вот уже, наверно, минут пятнадцать, как статуя, стоит без движения под душем. Мыться ему лень. Надеется, лодырь, что вода сама все смоет. Плюет нахал на то, что и другим людям не вредно окатиться под душем. Вон батька с сыном. Парню, видно, уже надоело, сидит скучает, поглядывает на потолок, с которого шлепаются вниз увесистые капли, а отцу все мало. Снова тащит наполненный таз. Придется еще потерпеть мальчишке. Против Алексея — дед. Немощный, белый как бумага и худой что скелет. На шее мокрый шнурочек, на нем прилипший к впалой груди крестик. Может, он этого креста отроду не снимал, лет семьдесят… Надо же, есть еще люди, выжил, хоть и прогремела над землей этакая битва, и блокада косила…
Устроился Алексей у стенки — удобно и краны с водой поблизости. Далеко прыгать не надо. Мочалкой обзавелся при входе. Купил за пятнадцать копеек. Веник, решил, чей-нибудь найдется. Притащил воды и стал для начала обмывать свою, ни к чему, как он теперь понимал, разрисованную грудь. Готовился к пару.
Рядом довольно старательно намыливался какой-то худощавый дядька. Алексей глянул в его сторону и увидел, у соседа на правой ляжке ниже бедра не хватает этак, можно сказать, чуть ли не с полкило мяса. Вырезано, будто на хорошую порцию. Крепко же где-то зацепило! Поднял Алексей взгляд, выше и увидел у мывшегося рубцы на ребрах. Поглядел еще выше и, к своему удивлению, узнал в соседе по банной скамейке квартирного соседа Галкина. Тоже, стало быть, забежал помыться.
Первым движением было — потом он сам не знал, с чего бы, — забрать таз и улизнуть в дальний угол мыльной. Но тут глаза его и Галкина встретились, и бежать было поздно. Квартирный сосед сразу признал Алексея, молча поздоровался и даже подвинул поближе к себе таз, как бы освобождая для Алексея место, которого и без того было достаточно. Оба молчали. Галкин намыливал голову. Когда Алексей, опростав таз, поднялся, чтобы запрыгать за водой, Галкин спросил:
— Может, помочь?
В другой бы раз Алексей огрызнулся. Не любил он ничьей помощи. Терпеть не мог, когда ему напоминали, что он безногий. А тут сосед, как показалось, спросил запросто. Мог бы спросить и у любого, и Алексей лишь бросил: «Что вы…» Схватил за скобу таз и будто даже показно, легко запрыгал к крану.
Когда вернулся, Галкин уже скатил с себя пену. Поставив тяжелый таз, Алексей опять уселся рядом и тут задал тот самый вопрос, на который так не любил отвечать, когда спрашивали его:
— Где это вас, а?
Галкин, казалось, не сразу понял, потом словно с любопытством взглянул на свою изуродованную ногу и ответил:
— А, это? Под Сталинградом.
— Крепко, — кивнул Алексей. — Миной?
— Осколочным. Я только из блиндажа… Он как ждал меня…
— Подразделением командовали? — продолжал Алексей, полагая, что в своем интендантском положении Галкин оказался уже после ранения, и потому внутренне смягчая к нему отношение, как к тыловому вояке. Но Галкин лишь помотал головой:
— Нет, я всю войну начфинил.
— Кассира, значит, поцарапало, а касса целой осталась? — попробовал пошутить Алексей.
— Ящики у меня до конца невредимыми были, — всерьез продолжал Галкин. — Только я не кассиром служил. Начфином полка.
Больше вопросов Алексей не задавал. Мылись молча. Потом, как-то не сговариваясь, вместе и завершили банную операцию. В раздевалке оказались поблизости. Затем пили пиво на лестнице в банном буфете у прикрытой клетчатой клеенкой стойки. И домой шли вместе.
Улица уже погрузилась в сумерки. В синем, мутноватом тумане зажглись фонари. Шли мимо слабо светившихся окон первых этажей. Потом пересекли сквер с памятником. Через него катила отчаянно скрипящую коляску с двумя детьми молоденькая женщина. За ней несла тяжело нагруженную сумку полная женщина постарше.
— Смазать колеса бы надо, — оглянувшись, бросил Алексей.
— Идет все-таки жизнь, идет, — сказал вдруг Галкин. — А ведь думали они, а?!
Он не договорил, но Алексей отлично понял, про что шла речь, кто это «они» и что именно «думали».
Вот и все, кажется, что проговорили они оба за всю дорогу. Но казалось потом Алексею, что говорили они с Галкиным немало и понимали друг друг сполна.
Тот субботний вечер хорошо запомнился, и не только потому, что впервые заставил его по-новому взглянуть на одного из презираемых соседей, а еще по обстоятельствам куда более для него, Алексея, значительным.
В пивную он после бани не пошел.
Мало было, что суббота и народу там, понятно, шумело до черта, а еще почему-то и не хотелось.
Решил устроить себе домашний ужин. Пусть и в одиночестве. В одиночестве, может, даже и лучше…
Приняв такое решение, поднялся и, снова надев бушлат, направился в гастроном на Невский. У кассы в коммерческом магазине сновали назойливые личности. К одним приставали — не продадут ли те лимитную карточку, другим, наоборот, предлагали их купить, дескать все равно так дешевле продукты выйдут.
Алексей с презрением отпихнул от себя прыщавого коммерсанта:
— Иди-ка ты, гнида, пока…
Тот мигом затерялся в толпе.
Алексей купил маленькую водки, граммов двести зельца, копченую сельдь. Хлеб дома был. Ничего, славный будет пир. Можно позволить себе такое удовольствие.
С покупками вернулся в квартиру. Когда проходил через кухню, увидел — там собралось все ее женское население. На Алексея взглянули с любопытством. Может, удивились, почему дома в такой час, а может, по причине его неожиданной трезвости.
На кухне и во всей квартире стихло. Отхлопали двери в передней. Уходили парочками соседи, наверно в кино. Вечер субботний — законное дело.
И вдруг необыкновенно тоскливо и одиноко почувствовал себя Алексей. Не в радость была и ожидавшая на подоконнике водка, и коммерческая закуска. Привязалась шальная мысль. Как ни гнал — не отвязывалась. Почему он такой молодой — и разнесчастный? Кто его проклял, что он должен куковать в одиночестве? За что ему это? Разве не отдал за других все, что имел в своей небольшой жизни?
Встал, прошелся по комнатке, натянул фланелевую форменку — ничего еще была, держалась.
Идти куда-нибудь, идти немедленно! Выпить разом вот эту чекушку — и в разгул.
Схватил было уже бушлат и вдруг с силой бросил его.
Куда идти?!
Минут через пять из коридора постучал в дверь к Ане.
Если бы потом спросили, почему так сделал, ответить бы не сумел. Надо было кого-то видеть, ну и решил посмотреть, как живет соседка.
А жила Аня удивительно, как ему показалось, хорошо. Чисто в комнате. На окне занавеска, и лампа под бумажным абажуром. Застелена постель, и подушки прикрыты кружевной накидкой. Еще какой-то коврик возле кровати. Со стола свисает намытая клеенка. Как это она, когда все успела? А сама Анька у стола в белой кофточке, юбке и шлепанцах на босу ногу. Она держала в руках электрический утюг.
Когда он появился в дверях, Аня, кажется, хотела спрятать утюг за спину и залилась краской.
— Я чуть-чуть… Я только блузку.
Только тут он сообразил, в чем дело. Испугалась того, что он застал ее «за незаконным потреблением электроэнергии». На электричество был установлен строгий лимит. Перерасход грозил отключением света во всей квартире. Между жильцами была договоренность — плитками и утюгами не пользоваться. Но все это была ерунда. Утюги и плитки потихоньку жгли все, да помалкивали. Ну, а Анька, наивная душа…
И такое было в ее растерянности простодушие, что Алексей рассмеялся:
— Да я не затем. Гори они…
Хотелось ему быть сейчас простым и веселым. Не спугнуть ее. Спросил вдруг почему-то на «вы»:
— Собирались куда?
— Да нет, так.
Аня вытащила вилку из штепселя.
— Может, поужинаем вместе? — сказал Алексей. — Скука тут. Никого нет.
И Анька, наверно, не так поняла его. Она растерянно огляделась вокруг и пожала плечами.
— Да у меня нет ничего.
— Порядок, — кивнул Алексей. — У меня кое-что найдется.
Он торопливо зашагал по коридору к себе. Когда вернулся с продуктами, увидел, что дверь в Анину комнату была по-прежнему раскрыта. Прошел к столу и положил покупки на клеенку.
— Вот, что есть.
Аня затворила за ним дверь. Потом сказала:
— У меня кабачковая икра и конфеты. Садитесь…
Не знала, видно, как его называть, и он подсказал:
— Алексей Прокофьевич. Алексей, сын божий… А вообще-то Лешка, и все.
— Леша, — сказала Аня. — Леша — это хорошо. Так и звать вас можно?
— Пойдет. Только почему «вас»? Кто мы такие?
Аня быстро и умело захлопотала у стола. Вытащила тарелки и блюдечки. На клеенку легли нож и две алюминиевые вилки. Отыскалась стопка и зеленая пузатая рюмка толстого стекла. Копченая селедка была нарезана на кусочки и уложена, будто целехонькая. Алексей с удовольствием наблюдал за тем, как быстро и ловко со всем этим справлялись Анины руки.
Затем она очистила головку лука и настругала его тонкими ломтиками. Положила их плашмя на тарелку и полила уксусом.
— Вот такая еще закуска, — сказала Аня.
Сели к столу. Легким ударом ладони Алексей выбил пробку, водка вспенилась. Он экономно налил неполную стопку, а рюмку хотел дополнить до края, но Аня предупредила:
— Мне немножечко. Вот столько… Все!
Алексей выпил всю порцию разом. Аня тянула водку, как вино. Он подбадривал:
— Что, и такой не осилить?
— Да я захочу — могу, — махнула рукой Аня. — Приходилось на фронте. Согревались при помощи…
— Без нее и вовсе сдохнешь, — мотнул головой Алексей, закусывая куском пахучей селедки.
— А с ней и подавно. Случались у нас случаи, — сказала Аня.
— Ты где была?
— Тогда на Ладоге. Знаешь Кобону?
— Слышал.
— В стройбате. С него начинала, им и кончила.
— Хлебнула, значит, своего.
Она пожала плечами.
— Там на дороге, вообще-то, бомбили. У-у-у!.. А страху показать нельзя. Я же сержант была. Младший…
— Да ну! Начальство. Наградили хоть?
Простодушно рассмеялась.
— За что это? Мы немцев только пленных видели.
— Они и там такие же. Только пожирнее.
— Убивал?
Анька смотрела ему в глаза с любопытством и каким-то боязливым интересом, будто впервые видела перед собой человека, который сам убивал врагов.
— Приходилось, — кивнул Алексей.
— Жалел потом?
— Нет. Не ты его — он тебя, гнида… Всех нас до единого. Такую им Гитлер задачу поставил. Ну, а мы.. Ненависть к захватчикам, понятно?
Оба помолчали. Аня взглянула на руки Алексея. Пальцы его лоснились от селедочного масла. Сунула старенькое полотенце. Он поблагодарил кивком и принялся вытирать.
— Теперь вон, как свои… На улице канавы для газа копают. Будто и не фашисты, — продолжала она прежнюю мысль.
— Люди, — вздохнул Алексей. — Тоже люди…
Он вытянул ногу с протезом и невольно взглянул на нее. Так случилось, что на его протез в этот момент посмотрела Аня.
— Их работа, — кивнул Алексей. — Теперь не воин и не человек вообще при их содействии…
— Ты герой, — сказала Аня.
Взглянул исподлобья — всерьез она? Может, и не шутит. Продолжал:
— А нас они ух боялись. «Шварцтот» называли. Черная смерть по-ихнему.
— Ты герой, — повторила Аня.
Он налил еще. Она подняла свою рюмку.
— За героев, которые землю нашу спасали.
И выпила до дна.
Сидела она невысокая и крепкая. Щеки раскраснелись, и небольшой, немного курносый нос забавно белел. Юбка ей, наверно, становилась узка, она плотно обтягивала бедра и все время лезла вверх, обнажая круглые колени. Анька видела, что Алексей смотрит на ее колени, и поминутно напрасно оттягивала юбку вниз, как будто ехала на велосипеде.
Хорошо было у Аньки в комнате. Тепло и чисто. Не то что у него. А ведь жили рядом, разделяла всего-навсего лишь вот эта заклеенная с двух сторон дверь, на которой с Анькиной стороны был приколот вырезанный из «Огонька» портрет Сталина. Выпитое для Алексея было совершенным пустяком, а вот почему-то разливалось блаженным теплом по всему телу.
Но и Ане, видно, хотелось поговорить. Она засмеялась и выложила Алексею сполна свою коротенькую биографию, первая часть которой была детдомовская, вторая полуфронтовая, а третья еще неизвестно какая, поскольку лишь начиналась. Выложила все до конца, утаив разве только самую малость про свою нескладную любовь, которая вот уже, кажется, начала ослабевать.
— Вот и вся я, — завершила недолгий и нехитрый рассказ Аня и вдруг спросила:
— А у тебя мать есть?
И впервые за долгое время Алексей почувствовал, как загорелось у него лицо. Вспыхнуло не от чего-нибудь, а от стыда. Чувства, которого давно не испытывал.
— Есть, — сказал он. — В деревне. В Тюменской области.
— Пишешь ей?
Ответил неопределенно:
— Пишу иногда.
Алексей врал. Матери он не писал. Не писал давно. Послал последнее письмо из госпиталя. Дал знать, что жив и здоров. Воинскую часть-де переменил и сообщал новый адрес. Про то, что лишился ноги и лежит в госпитале, — ни слова. Давно он не был в своей деревне Скоблино. Сам даже не помнил, когда ездил в последний раз. По первому году службы, что ли. Была потом мечта — явиться домой с победой, грудь, как говорили старики, в крестах… Вот каков он, Леха Поморцев!.. Вышло иначе. Куда он домой безногий, кому нужен?! Собирался про все написать, да не до того было. Закрутила новая разгульная жизнь. И не видел он ей конца и не знал, чем она кончится.
А тут впервые за долгое время сидел перед Анькой будто виноватый. Чувствуя свою вину перед старухой матерью и сам до конца не понимая, в чем эта его вина есть.
— Погоди, — сказал он Ане. — Погоди малость, я сейчас…
Поднялся, тяжело прошагал в свою комнату. Аня слышала, что-то там ворочал. Решила — пошел за баяном. И не хотелось ей сейчас баяна, не нужна была музыка, а чтобы Алексей поскорей вернулся нужно было, необходимо. Не хотелось быть дольше одной в сегодняшний субботний вечер, так неожиданно вспыхнувший чем-то новым, неясным.
И Алексей вернулся. Положил кулак на стол, а затем разжал его и убрал руку. И остались на клеенке орден Красной Звезды и две белые серебряные медали.
— Вот они, мои кровные, думаешь, зря я с фрицами… — тихо сказал Алексей и опустился на стул.
Аня взглянула на его награды с засаленными ленточками. Потрогала рукой звездочку.
— Что же не носишь?
— Куда, в пивную?
— Будто бы тебе только там и место?
— А где? В почетных рядах бойцов у красного знамени?
Он взялся за бутылочку, поглядел на свет. Осталась там самая малость, но все же хотел разделить пополам.
— Мне хватит. — Аня прикрыла свою рюмку ладонью.
Алексей не стал настаивать. Выпил сам.
— А где мне место, — продолжал он начатый разговор, — за что я там каждый день на «пятачке» голову сложить мог?.. За что калекой стал? Чтобы теперь чуть свет и до вечера, как и те, кто нигде не был?..
— Как же все другие, которые не хуже тебя? — спросила Аня.
Вопрос поставил в тупик. Вспомнился тихий Галкин, рубцы на его теле.
— Что мне другие, — отмахнулся Алексей. — Моя душа иного требует. Не могу я теперь, после того, по-обыкновенному…
Он замолчал. Снова поднял опустевшую посудину и бессмысленно повертел в руке.
— Хочешь портвейна, у меня есть? — спросила Аня.
— Правда?
— Есть. Дожидалась случая. Да не будет, верно, его…
Она встала, сходила к шкафчику в углу комнаты и принесла запечатанную сургучом темную бутылку.
— По карточке получила. Две загнала, а эту себе.
— Конец месяца, у меня эти талоны давно тю-тю! — свистнул Алексей.
— И с чего ты пьешь, Леша?
Алексей скривил рот в усмешке:
— А ты побудь в моей шкуре.
Была открыта бутылка вина, и Аня тоже согласилась немного выпить, сказала: «Этого могу». Спросила Алексея, не много ли ему. Он засмеялся.
— Мне это что слону дробина.
Но вино подействовало. Словно не выдержали нервы, которые, казалось, закалились в его непутевой нынешней жизни. Сам не думал, а вдруг, помолчав, печально сказал:
— Никуда я теперь. Загубленная личность. Бывший военный моряк. Ничто нынче, ничто… Списали по всем статьям..
Положил руку на стол и опустил на нее голову. Аня видела, как раз и два вздрогнули его плечи. Хотела коснуться его распушившихся после бани волос, но не решилась и убрала руку.
Алексей поднял лицо. Глаза взмокли. Пьяные были слезы. Да ведь трезвым наверно не заплакал бы.
— Ты меня извини… Зря это все я… Ну на черта тебе… Навязался…
— Нет, — сказала Аня. — Нет, неправда, не верю, наговариваешь на себя. Зря ты, зря… Хороший ты.
Алексей замер с приподнятой над столом головой. Стопка с невыпитым портвейном стояла перед ним. Смотрел на Аню широко раскрытыми заблестевшими глазами. Не понимал, думал про себя: «Что это? Что это? Или взаправду?»
И тут произошло непонятное, может быть, для обоих. Аня коснулась его волос, погладила их, потом обхватила рукой шею Алексея, притиснула голову к своей груди и поцеловала в затылок. Волосы у него были мягкие, и Анины губы утонули в них. Потом оторвалась, а руки продолжали гладить.
— Жалею, — ответила шепотом.
— Жалеешь, — сдавленно проговорил Алексей. — Не первого, наверно, жалеешь?
Руки ее разжались и легли на колени. Аня глядела в окно, за которым совершенно ничего не было видно. Глядела мимо Алексея.
— Да, — сказала. — Жалела одного. Как еще жалела! Он к жене вернулся. Все!.. А тебе что?
— Да я так, сдуру. Ну ладно, ладно…
Решительно обнял, прижал к себе. Стиснул плечи.
— Ну ладно, ну ладно…
Не сопротивлялась, безвольно положила руку ему на плечо. Говорила-сквозь горестные вздохи:
— Не понять тебе, не понять… Одна ведь я. Одна… Вот приду домой и опять одна.
И стала его целовать. В подбородок, в щеку. Потом хотела вырваться:
— Зачем, зачем! Не надо, ни к чему!..
Пусто было в этот час в квартире. Все затихло. Может быть, кто-нибудь уже спал или притаился. Ему было все равно. Да, наверно, и ей тоже. Еще час-полтора назад оба ни о чем подобном и не думали, а теперь только отчаянным, горячим шепотом повторяла Анька:
— Ну, будешь ты человеком, бросишь пить, так?.. Ну, обещай, что станешь, ну, обещай. Станешь?
И он, не помня себя от счастья, нисколько не вдумываясь в то, что говорил, повторял:
— Стану, стану, стану!..
Проснулся Алексей поздно. Пахло оладьями — кто-то готовил воскресный завтрак. Слышалось, как аппетитно шипит масло и тесто шлепается на сковородку. Почему-то подумалось о том, как давно никто не готовил ему завтрака. Лепешек хоть каких-нибудь, что ли. Оглядел, не вставая с постели, свою неказистую комнату. Обстановочка!.. И ладно, что сюда никто, кроме Саньки и ему подобных, не заглядывал.
И сейчас, прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате, Алексей испытывал что-то до сих пор ему незнакомое. Было это чем-то вроде боязни: не показалось ли все, что вчера произошло между ними?
И вдруг забеспокоило, как они встретятся, как он посмотрит ей в глаза. Неужели «здрасте» и все? И видеть ее удивительно хотелось, и побыстрее. Нет, не может быть, что для нее это так… Нет…
Шипение на сковороде оборвалось. Он поднялся с постели. Надо было выйти, помыться. Послушал. С кухни, кажется, ушли все. Заспешил к крану. Припустил студеную воду. Хорошо!.. Минуты через три опять был у себя и вытирался. Тут услышал с той стороны заклеенной двери, как Аня негромко позвала:
— Леш, а Леш, ты один там?
— Я! А кто же еще может быть?..
— Ты завтракал?
— Нет, пока не успел. (Ничего у него нет на завтрак.)
— Иди, я оладий напекла, любишь?
— Могу. Я сейчас.
Ну о чем спрашивает, дуреха? Любит ли он оладьи. Не помнил, как они и выглядят, только запах, приплывший сегодня из кухни, навеял что-то далекое, крепко позабытое. Может, с давних лет, когда огольцом прибегал из школы, забрасывал самодельную сумку с книгами и исписанными каракулями тетрадками, в избе стоял этот теплый, манящий запах, мать сажала его за стол, торопила есть. Пододвигала блюдце со сметаной и глядела на него, как на кутенка, который впервые лакал молоко.
— Иди же, — снова позвала Анька. — Простынут…
Прошел по коридору, не встретив никого, и без стука отворил двери Аниной комнаты.
Аня стояла возле стола в легкой кофточке. Волосы прибраны назад и перевязаны. Как вошел, заметил — вспыхнула, даже открытая шея порозовела.
— Садись!
Сказала просто и даже хлопнула по сиденью ладонью, как предлагают садиться детям.
Он послушно уселся. Не спрашивая, Аня налила в кружку молока из бутылки и поставила перед ним.
— Пей. Не вредно будет.
И пододвинула тарелку с оладьями.
Молоко! Сколько времени он его не пил. Опять же, пожалуй, с тех самых незапамятных пор. Поднял белую с трещиной кружку и выпил залпом.
— Ты с оладьями, с оладьями…
Аня взяла опустевшую кружку, молока в бутылке больше не было. Значит, ему последнее, а он-то без внимания. И показались ему в ту минуту черные оладьи едой что ни на есть самой вкусной, будто таких и не пробовал никогда в жизни. Аня сполоснула кружку и снова поставила перед ним, чтобы налить чаю.
Ничего, ни одного слова о вчерашнем. Будто и не было ничего. Ни жарких объятий, ни его обещаний стать другим, в которые она, наверно, и не поверила. Будто и не было той ночи.
Ох, не так! Хоть и говорили мало и все больше о постороннем, не касаясь ни Алексеевых дел, ни Анькиной жизни, говорили о том, что окон, забитых фанерой, на Невском теперь уже почти нет, а в городе начинают рыть метро, и про то, что какой-то хитрец заработал тысячи денег тем, что организовал частным образом заготовку веников для бани, про то, что ожидается — Аня слышала — снижение коммерческих цен. Но о чем бы постороннем ни шла речь — то, что произошло тут, в комнате Ани, полсуток назад, стояло перед ними и помнилось, может, до каждой проведенной вместе минуты.
Еще крепко спал Алексей, казнилась в своей комнате проснувшаяся Анька.
Что стряслось вчера с ней? Разве не клялась она себе: ну их всех! Никогда больше, никогда! Одна буду жить. Хоть как, а одна. Не так-то и давно дала себе это слово. И вот, расчувствовалась…
Была у Ани любовь. Думала, на всю жизнь. Началось на Ладоге. Был он старше ее лет на десять. Да кто на войне то замечал. Немецкая бомба про возраст не спрашивала, метила в кого попадет. Человек был хороший, спокойный и к ней внимательный. До войны техник-строитель, потом старший лейтенант. Только на военного походил мало. Больше на прораба по строительству, хоть и носил поверх полушубка наган на ремне. Бывало, в часы, когда не надо было латать ямы на трассе, вспоминал свою жену и сына, пропавших с начала войны. Не легче, что пропали они в тылу, а не на фронте. Ане в такие минуты становилось жаль своего командира. К тому времени была она назначена кем-то вроде учетчика. Сперва стала ефрейтором, а потом и младшим сержантом. Как сделалось потише на дороге, прорвали блокаду и пошли поезда, сидела часто в жарко натопленной избе и составляла отчеты для командования. Второй год маялся в одиночестве старший лейтенант Федор Кузьмич. Тут и пожалела его Аня. В той избе, вроде ротной канцелярии, они жили вместе. Тесно было в ладожской деревеньке. Куда денешься! Там все и получилось. Утром Аня плакала, он утешал, говорил какие-то нескладные слова: «Ну чего ты, чего ты?.. Раз вышло так, стало быть и ладно… Я же с тобой, Аня… Не бойся ничего».
С тех пор и пошло, и все они вместе. Хоть он и офицер, а она два шага от солдата. Не обижал ее никогда. Сложилось все по-хорошему, и все принимали это как должное. Война войной, а жизнь ведь тоже идет. Так они с Федором и не расставались. В одной части и в город вернулись. Прикидывала уже Аня, как свою жизнь с ним станет строить, когда придет победа. Про то, что может отыскаться семья Федора, не задумывалась, а может, и не хотела думать. Он все повторял: я никуда без тебя… Ну как же теперь без тебя мне?.. Верила. Про нее спрашивать нечего, давно любила. Единственным он был ей, родным. А потом стала замечать — задумчивым сделался Федор Кузьмич. Спросишь его что-нибудь — ответит не сразу и глядит на нее как-то непривычно, будто и сам хочет что-то спросить и не решается. После узнала — нашлась его семья. Жили в эвакуации и через какого-то человека, видевшего Федора на фронте, о нем узнали.
Пришел, значит, конец их любви. Надо было ему возвращаться домой. Умом Аня понимала — иначе и быть не может, а сердцем… Страшной ей жизнь казалась, если Федор уйдет. Нет, не пущу, мой теперь, только мой!.. Так она решила и клялась себе: не отдам, никому не отдам!
В Ленинграде помог Федор Аньке поступить на курсы и комнату потом выхлопотал. Тут и вернулась его семья. Решение было такое. Расстанутся они на некоторое время. Он побудет в семье, потом объяснит, что стал за военные годы другим. Ой как не хотелось его отпускать, и сам он твердил, что нет для него теперь другой женщины на свете. Федор тихо и спокойно объяснял, что нельзя так сразу, уж очень убийственно. Ведь ждали его, надеялись… Ну и согласилась, отпустила. Только не могла с собой сладить, все искала с ним встреч, спрашивала: «Когда же придешь-то, когда?» А кругом слышала, и в очереди, и в трамвае ругали женщины почем зря таких, как она. Как только не называли: и бесстыдницами, и аферистками. Подумать, так и на войну они для того пошли, чтобы чужих мужей сманивать. Аня в разговоры не вступала, молчала, а про себя думала: «Дуры вы, дуры, а про то, сколько нас там осталось, не помните? Не гнал нас никто, сами шли. Ну, а мужья ваши золотые… Может, иных и не увидеть бы вам больше, кабы не мы, хоть и клянете нас, дуры…» И слушая такие разговоры, догадывалась — не дождаться ей Федора, не придет. Оттого места себе найти не могла. Что тогда, неужели опять одна!
И ждала. Упрямо ждала. На тот случай и бутылка портвейна была припасена. Придет Федор и скажет: «Все, я твой, теперь навсегда». Но он не шел, раза два только и встретились. При встречах Аня замечала, что хоть и говорил он: «Погоди, погоди еще малость, все будет как сказал», — а сам от нее все дальше и дальше. Один раз и вовсе не явился на свидание. Прождала на холоде возле закрытого газетного киоска на углу Марата и Невского и вернулась домой ни с чем. Всю ночь потом проплакала, утопив голову в подушку, чтобы никто в квартире не услышал. Утром решила: все! Увидимся, скажу — теперь поздно, конец! Не понимала тогда еще, что только себя обманывала, а на самом деле все равно ждала, и приди бы он, ничего бы не сказала, а только бы радовалась и надеялась — может, и вправду навсегда.
Но Федор Кузьмич больше не появлялся и вестей о себе не подавал. Хоть бы пришел, открыто сказал: «Кончено, не надейся, улетело наше время…» Нет, не приходил. Решил так, потихоньку…
А в один день напрасных ожиданий как-то вдруг оборвалось. Показалось, что было все как во сне. Та вьюжная ночь в избе на Ладоге, утро, растерянность Федора, а потом счастливые дни с ним, когда только и думалось: лишь бы его не задело, только бы не тронула пуля. Ничего, ничего не осталось. Аня снова была одна. Ну и хорошо, ну и легче, твердила себе. Ни о ком не надо заботиться, ни о ком не страдать. Только за себя отвечаешь.
И хоть стояла по-прежнему в шкафчике темная бутылка с портвейном, а никого уже та бутылка не ждала. Так стояла, до веселого случая.
Одной так одной, не привыкать же. Есть у нее троллейбусный парк и новые подруги по работе. Есть среди них и немолодые, что потеряли мужей на войне и остались одни с детьми. Ничего, живут и не ноют, а сладко им?
С тех дней с каким-то особенным рвением, с приметной хваткостью стала относиться она ко всему, чему ее учили. Сдала все, что требовалось, самым лучшим образом и уселась за большую баранку. Умело крутила ее, плавно нажимала на педали. Старые были троллейбусы, по две зимы простояли там, где застал час, когда не стало в городе электричества. После, как отогнали немцев, отремонтировали как могли прошитые осколками вагоны. Вставили новые стекла, выкрасили в прежний голубой цвет. Сделались они будто такими, как раньше. Но, конечно, были не те, которыми любовались до войны на Невском проспекте, да и пребывали больше в ремонте в парке, чем бегали.
Работу свою Аня любила. Нравилось думать, что вот сейчас, в набитом троллейбусе, который ведет она, ей доверена жизнь десятков людей. Тут и женщины, и дети. Вон едут, улыбаются, переговариваются меж собой, смеются. Кто-то читает книгу. И никто не сомневается в том, что все с ним будет в порядке, доедут куда надо. Водитель не подведет. А кто водитель? Она, Аня Зарубина, бывшая фронтовичка, младший сержант, готовая невеста, как называли ее в парке. Но мало ли их было теперь, невест!
Любила Аня работу в вечернюю смену. На улицах просторно. Ездить лучше, посвободнее, чем днем, и скорости не утренние. Да и пассажиров поменьше. Все сидят и тем очень довольны.
Но главным было то, что день получался занятым до конца. С утра встанет, то да се, прибраться в комнате или на кухне, если выпадет ее день наводить чистоту в квартирных местах общего пользования, потом сбегать в магазин, сготовить себе что-нибудь, и уже пора в парк. А придет Аня поздно, доберется до дому, вымоется в комнате из таза, и спать.
А в утреннюю смену хорошее кончалось с воротами проходной. Приезжала домой и не знала, куда себя девать. И делать для себя одной ничего не хотелось, и книги не читались. Послушает немного радио, да и надоест, и вытащит вилку репродуктора. Ходила в кино, да одной и хорошая картина не в радость. Хочется же поделиться, поговорить про увиденное, а с кем? Перекинешься парой словечек с соседками на кухне, и все. Ушлепают, запрутся по комнатам, свои дела…
Где-то прочитала Аня, что человеку очень плохо, если ему вечером некуда идти, и решила, что это про нее. Даже пожалела себя, испугалась: неужели так теперь всегда и будет?!
В такой тоскливый вечер, когда не знала, как его убить, а впереди еще было свободное воскресенье, — в такой вот вечер и постучался к ней неожиданно сосед, хромой морячок-баянист Алексей.
Никогда этого прежде не было.
С того дня, как открыл он ей квартиру, помог внести вещи и отпереть замок, никаких между ними не то что дел, но и разговоров не случалось. Увидятся утром на кухне или в коридоре столкнутся, поздороваются, и все. Да и не очень-то много бывали они в одно время дома. Разве только в дни, когда она работала в вечернюю смену. Аня слышала, как за стенкой поднимался сосед. Туда, сюда, прихрамывая — это было и по походке понятно — прохаживался по комнате. Потом брал баян и начинал играть.
Жил он для Ани непонятной жизнью. Не работал нигде, а каждый день до вечера пропадал со своим баяном. Жильцы считали его личностью погибшей, терпели все его шутки и опасались, как бы не было худшего. Иногда и вздохнет кто по-женски о несчастной инвалидной доле бывшего морячка, и согласятся: во всем виновата распроклятая война. Радовались, что хоть редко водил к себе дружков, трезвый был тихим, а пьяный — не задевай его, и он тебя не заденет.
Бывали случаи, Аня выйдет за чем-нибудь на кухню, он там моется или разогревает утюг. Это чтобы выгладить брюки. Она уже приметила — хоть и было у него одежды одна форма, а грязным не ходил. Брюки, пусть и лоснятся — всегда наглажены, и ботинки почищены. Бушлат блестит на локтях, а пуговицы пришиты.
Так вот, увидятся они мельком на кухне, кинет Алексей взгляд в ее сторону, и все. А она заметит, как бы ни был короток взгляд — смотрел на нее не так, как на других соседей. К тем полное безразличие. Существуете, дескать, ну и ладно, бывайте… И на нее будто бы так же, а все не так. Виду не показывает, но она-то замечает — смотрит с интересом, тоже хочет понять, что она за человек. А глаза у него живые и, как Ане казалось, добрые, хоть и глядит хмуро. Вскинет на нее взгляд и тут же отведет, как бы молча говорит: нечего тут смотреть, совсем не интересно.
Так и жили рядом, стена в стену. Ни слова друг другу, и взгляды ничего не значащие. Между тем Анина отзывчивая душа уже страдала за Алексея. Так уж устроена была. С детства жалела других. В детдоме, что могла, отдавала подругам и на фронте тоже меньше всего думала о себе.
Зайдет среди женщин разговор про беспокойного соседа, кто-нибудь скажет: «Погибнет парень, жалко… Молодой ведь еще, а такой пьяница. Погибнет ни за что». А кто добавит: «Война молодую жизнь исковеркала, ее вина. Мало ли их у нас теперь таких. Вон, посмотреть, полная толкучка…» Вспомнят тут еще к чему-то и беспризорников, которых не могли забыть с послереволюционных времен, хотя и ни при чем тут беспризорники. То были дети, а тут люди взрослые. Иным и за тридцать перевалило. Аня про других и про беспризорников ничего не говорит, а за Алексея возьмет и вступится. Делает свое дело и, не глядя ни на кого, бросит:
— А может, и не погибнет. Выровняется. Покуролесит и бросит — надоест.
Соседки в спор не вступали. Может, конечно, и выровняется. Однако, видно, верили в то слабо.
Женщины в квартире живут немолодые. На своем веку повидали достаточно. Ане с ними по опыту жизни не тягаться, а все же не хочется вот так, запросто, соглашаться, что молодой парень — и вдруг ни за что погибнет, когда в войне, в этаком месиве, выжил, на самой что ни на есть передовой. Знала Аня — Алексей в таком месте был, что сразу после войны и не отойдешь.
Но другие так не думали. Другие считали, что Алексею отойти от своих военных воспоминаний можно, а то уж и давно пора.
Как-то Аня отворила двери с парадной. На площадке стоял младший лейтенант милиции. Представился как участковый и спросил, здесь ли живет инвалид войны Поморцев. Аня проводила милиционера до Алексеевых дверей и, указав на них, вернулась к себе.
Знала — нехорошо прислушиваться к тому, о чем пойдет за стеной речь, но не могла иначе. Защемило сердце. Неужели натворил чего-нибудь неладное? Самой Ане с милицией еще в жизни не приходилось сталкиваться. Разве только на улице свистнут, что не там перешла. Тут же отругают, да и отпустят. А уж если, полагала, милиция приходит домой, тут уж дело серьезное.
Но участковый спрашивал моряка, долго ли он собирается ничего не делать и вот так играть по пивным. Тот хорохорился, говорил, что он по своему положению имеет право жить как хочет. За то и кровь проливал, и ноги лишился.
Трудный был разговор. Участковый напирал на свое: работать надо. Алексей не желал и слушать.
— Хотите, можете полегче себе работу подобрать, — слышался окающий голос за стеной. — А тунеядцем не положено…
Этот «тунеядец» окончательно вывел из себя Алексея.
— Какой же я… Вы что, милиция, шутки шутите?! Нет таких законов больного человека насильно… На то мне и пенсию Советская власть выплачивает.
Но участкового, видно, криком было не запугать.
— Пенсия у вас, инвалидов, это верно, — спокойно продолжал он. — Только пенсия вам дана в подмогу, а работать надо. Категория вашего ранения под безработное состояние не относится.
Так они ни о чем и не договорились. Алексей стоял на своем и заявил, что ему никто ничего запретить не может, не заставит против воли делать. Доказательства у него были слабые, но упорства хватало. Участковый долго спорить не стал. Сказал, что дается Поморцеву месяц для устройства на работу, в противном случае милиция примет свои меры.
Алексей не пошел провожать участкового до выхода, и Ане пришлось снова появиться, чтобы показать, как выйти из квартиры. В передней младший лейтенант задержался. Вынул из полевой сумки какой-то список и стал перечитывать под лампочкой.
Анька воспользовалась моментом и сказала:
— Он вообще-то ничего, тихий.
— Знаем, — равнодушно кивнул участковый, убирая список в сумку и продевая ремешок в медные скобочки. — Их у меня вот сколько, — он, вздохнув, провел ладонью по горлу. — Беспонятливый народ. Вроде они одни воевали… А как с ними сладишь?
Ушел, извинившись на прощанье, что побеспокоил. Поднимался вверх по той же лестнице. Металлические подковки сапог звенели в тусклом колодце лестничной клетки.
Ане запомнились слова: «Беспонятливый народ». Но еще больше удивило, что участковый сказал: «Как с ними сладишь…» Если того не может милиция — то кто же?
Но что ей, в конце концов, было за дело до соседа — бывшего моряка. У Ани самой складывалось все не так, как думалось. Приходилось держаться, чтобы не раскиснуть.
А вчера, именно в один из тех вечеров, когда отдельная комната, о которой она столько мечтала, и квартирная тишина — такая, казалось раньше, радость — были наказанием одиночеством за несуществующую провинность, — вот тогда он и постучался к ней. Ведь и не думала о нем, совсем не думала.
Пришел так неожиданно, что она даже испугалась, не из-за утюга ли, который она включила, пока в квартире никого не было.
Был он на себя не похожий, стоял у двери нерешительный. Скажи бы она: «Закройте дверь с той стороны…» — ушел бы немедленно. Хотя в квартире его многие побаивались, Ане он не был страшен. Но она не велела ему уходить, молчала и ждала. Почему? Сама на то, хоть пытайте ее, не смогла бы ответить. Будто кто-то, кому она верила, дал совет: да пусть он не уходит, пусть останется. Что тебе сидеть-то все одной да одной.
Потом они ужинали. Она выпила совсем малость и отчего-то не боялась, что он напьется и станет буянить. Была уверена, что при ней ничего такого не случится. А он и впрямь был тихий, уважительный. Словно и не тот Лешка, что жил за стеной и никого не признавал за людей. Только вчера она, кажется, рассмотрела, каким он был. Волосы пушистые, светлые, и глаза светлые. Такие, что целовать бы их… Так вдруг подумалось, и она испугалась. Поглядела на старательно и неумело заштопанные рукава форменки и только вздохнула про себя.
Одни они были в квартире, а может, и вообще одни. Поняла она в тот час, что вся спесивость Алексея оттого, что боялся он, как бы не сочли его за человека никудышного. Вот и выворачивался наизнанку, не давая никому сказать слова, сам первый заявлял, что его заслуги все в прошлом. Так-то так, а внутри, как поняла Аня, был стеснительным, а может, и ласковым. Хотя со своими переживаниями про всех позабыл, даже о матери своей.
Что потом получилось, как? Сама не знала… Захлестнуло ее. Не то жалость к Алексею такая нашла, что сил не было устоять, не то осточертело одиночество…
С утра казнилась: и что про нее думать станет? Потом пошла готовить себе завтрак, пока стояла у плиты, решила: забыть, забыть, будто и не бывало ничего. Просто такой вечер… И он пусть не надеется. Ничего не было.
Решила бесповоротно. Даже легче как-то стало. Принесла оладьи в комнату. Поставила их на стол и посмотрела. А что? Для себя готовила! Но тут услышала, как он вошел в комнату, и неизвестно зачем спросила:
— Леш, а Леш, ты один там?
И вот снова сидели вдвоем за столом. Пили чай и ели уже поостывшие оладьи. Говорили мало, словно боялись напомнить о вчерашнем.
Кончены были оладьи. Аня пододвинула Алексею последнюю и кивнула, — бери, мол, но он помотал головой:
— Не хочу больше.
Аня поднялась, стала прибирать со стола. Тут он сказал:
— Пошли в кино.
Убирала в шкафчик посуду, обрадованно обернулась:
— На дневной?
— Ага, на дневной.
— Пошли.
Но к какому кинотеатру ни подходили, выяснялось — то сеанс только что начался, то еще и половины не прошло фильма. Отстояли очередь через весь двор в кинохронике на Невском и смотрели картину про восстание парижан против немецких оккупантов. На улице продрогли и теперь согревались в маленьком зале хроники, прижимаясь друг к другу. Алексей взял Анину руку и держал ее весь сеанс.
Так случилось, что и эту ночь он опять провел у нее. Пришел в ее комнату, когда в квартире все уже затихло. Весь вечер никуда не ходил. Томился в ожидании и читал, что попалось под руку. Все время ждал и прислушивался, что она делает в своей комнате.
Около одиннадцати пошел к Ане. У двери недолго раздумывал: нажал ручку, оказалось не заперто. Аня стелила постель. Когда вошел, оглянулась. Молча поглядели друг на друга. Он не был уверен, может, и скажет: «Зачем явился…» Но она ничего не сказала, не прогнала.
Не спали долго, говорили шепотом, пусть в квартире никто не знает, что они вместе. Глядя в серо-синий в трещинах потолок — свет дворового фонаря отбрасывал на него кресты оконных рам, — Лешка тихо проговорил:
— Ань, Анюта, выходи за меня замуж, что ли…
Она помолчала. Потом вздохнула и ответила:
— Придумал же…
— Как хочешь, понятно…
— Замуж! Да как же жить с тобой?
— Как все живут.
— Как все?.. Ты подумал, ты-то как все?
— Хуже?
— Лучше, по-твоему?
Она на все отвечала вопросами. Потом сказала:
— Куда же за тебя замуж. Ты пьяница.
Алексей поразился. Ну, набралась храбрости. Сказать ему такое!.. Да ведь он может за этого «пьяницу» такого дать… Пользуется, что трезвый, и как не боится?
Он отвернулся, смотрел в стену. Про себя повторял: пьяница, пьяница… Да, пьяница! А отчего я такой, об этом подумала… Потом спросил:
— Не человек, значит, Лешка Поморцев? Зачем же ты тогда со мной, зачем же с последним пьяницей? Знаешь, кто ты есть?
Аня приподнялась на одной руке. Бретелька простой рубашки сползла к локтю, она не стала ее поправлять. Глаза ее зло сверкнули даже в темноте, это можно было разглядеть, волосы раскинулись по плечам.
— Кто я, ну кто, говори…
Села в кровати, обхватила коленки. Он видел ее гладкую, обтянутую дешевенькой рубашкой спину. Плечи ее вздрогнули, не оборачиваясь, тихо проговорила:
— Уходи, убирайся!
Но что-то он уловил в этом категорическом требовании неуверенное. Он лежал не шелохнувшись. И тогда она упала на подушку, закрыла лицо руками и заплакала, дрожа всем телом.
— Ну, ладно, — миролюбиво сказал он. — Ладно, квиты мы. Сгоряча я.
Хотел погладить ее волосы, но не решился. Видел, плечи Аньки перестали дрожать. Она затихла и больше его не гнала.
Ушел Алексей к себе утром, когда еще никто в квартире не поднимался. Тихо пробрался в свою комнату. И до того ему при свете того же все фонаря показалось здесь неприветливо, голо и холодно, что и сам был готов, как Анька, заплакать.
Временно он стал жактовским кустовым монтером. В понедельник пришел к управхозу, сказал, что готов делать что нужно, может и оформиться. Электричество бытовое знает, о том можно не беспокоиться.
Знакомый уже управхоз Яков Кириллович обрадовался.
— Куда как хорошо! Нужен электрик, кругом нужен… Есть тут один, да только за маленькую или поллитра и работает. Ну, порядок ли это? В то же время, понимаете — как вас зовут? — Алексей Прокофьевич, понятно… Вся проводка и прочее за блокаду в негодность обратилась. Если, конечно, с умом, так тут и заработать возможность, и польза общему делу, а если одна пьянка в голове…
И пошел, и пошел. Алексей думал — и не остановится. Он придержал болтливого старика:
— Ладно лишнее-то, я работать пришел… Что могу в вашем хозяйстве, все сделаю, приведу в порядок. А насчет маленьких, я и сам куплю, когда потребуется. Мне плати что положено.
Но штатной монтерской должности в междомовой конторе не было. Алексей обязался работать по договору. Подписали бумагу. Деньги хоть и небольшие, но все же добавка к его военной пенсии.
А работы оказалось пруд пруди. Позвали в квартиру. Ну, если свет перегорел. Замыкание произошло или что. За такую «скорую помощь» Алексей денег не брал, не хотел пользоваться чужой бедой. Другое дело, если заменить проводку, повесить люстру или еще что-нибудь. Мало-помалу люди начали отходить от войны. Кое-кто, разжившись обоями, начинал обновлять свое закопченное буржуйками, промерзшее блокадными зимами жилище. Маляров-халтурщиков откуда только и взялось. Толкались они в камуфлированных белилами одеждах возле рынков и магазинов хозтоваров. Как на винтовки, опирались на свои малярные кисти. Стреляли туда-сюда глазами, искали, кто их позовет домой, и окликали прохожих:
— А ну, кому ремонт, кому ремонт?
И стекольщики, время которых пришло, вертелись тут с деревянными коробами, полными невесть где добытых стекол. Плати деньги — любое вставят. Ожидали халтуры — бригадами по два, по три — дядьки, пильщики дров. Приплясывали с обмотанными тряпьем лезвиями пил, которые они на манер портфелей держали под мышками.
Монтеров, понятно, на толкучке видно не было. Они действовали по домовым конторам. Такие, что знали дело, и те, кто всего-то умел заменить пробки или поставить выключатель. Все это у них было при себе. Откуда брали, никто не спрашивал. Лишь бы горел свет, можно было бы зажечь его и потушить.
И к Алексею обращались, не сможет ли он сменить проводку со своим материалом. Но тут было не по адресу.
— Я вам что, — не очень-то вежливо отвечал он. — Я вам техинтендантство?
Другое дело, когда позвали в квартиру, в которой было все припасено. За ремонт проводки брался с охотой. О том, сколько это будет стоить, не говорил. Любо было смотреть, как он делал все чисто, добротно и аккуратно. Видно, стосковались его руки по работе. Пальцы, привыкшие к клавишам баяна, действовали ловко. Тут же еще успевал и пошутить с хозяйкой, которая с детским любопытством наблюдала за тем, как он привинчивал к стене розетку или натягивал по потолку шнур. Работал только под током. И ничего, ни разу не дернуло, хоть и инструмент у него был самый примитивный. Набрал где мог.
С Аней в эти дни они виделись редко. Он встанет — она уже ушла в утреннюю смену. Как уходила, Алексей не слышал. Придет он вечером, после того как справится с каким-нибудь делом на стороне, она уже спит.
Так шло с самого понедельника. Получалось, что с того ночного разговора как бы вышел у них разлад. Но разлада не было. Просто он хотел доказать, что, если надо, он может и работать, и не пить тоже, пожалуйста… Пусть она удивляется. Чувствует ведь — трезвехонек аж до тошноты. И звуков баяна не слышно. В квартире, небось, поражены, что за чудеса?
Только раз вернулся Алексей домой, зашел в свою комнату — она у него по-прежнему никогда не запиралась, — зажег свет и замер, будто окаменел. Лампочку прикрывал невесть откуда взявшийся абажур-конус из плотной бумаги. Кругом все прибрано и пол вымыт. На окне вместо газет, которыми закрывались стекла, висит белая занавеска. На кровати аккуратно сложена чисто выстиранная тельняшка.
Стоял в обалдении и не знал, что делать, как к тому отнестись. Слышал, вернее чувствовал — Аня дома и ждет, что теперь будет.
Минуту-другую выдерживали они эту паузу. Потом Алексей через стенку спросил:
— Это ты тут все, Анюта?
Ответила тихо:
— Я, а кто же…
Не знал, благодарить, что ли. Глупо как-то. И вдруг сказал:
— Я сейчас, погоди немного…
— Хорошо, — ответила Аня, хотя и не догадывалась, чего ей надо было ждать.
Он торопливо ушел и вернулся с колбасой, пивом, французской булкой. Денег как раз было на то достаточно. Позвонил с парадной пять звонков, как следовало звонить Зарубиной, согласно строгому квартирному звонковому расписанию. Двери отворила Аня. Он сунул покупки ей в руки и прошел к себе. Вымылся, надел чистую тельняшку и форменку и явился, не удивившись тому, что закуска уже стояла на столе.
И опять был тихий вечер и горячая ночь. Лежа усталый, он спрашивал:
— Ну что, последний пьяница я, так, что ли?
Вместо ответа она прижималась, сжимала в руках его лицо и закрывала ему рот поцелуем.
Он не спрашивал, выйдет ли она за него замуж. Про себя почему-то весело думал: это еще вопрос, захочет ли он жениться. Вон ведь влюбилась будь здоров как. Теперь уже ясно.
Уходил от нее к утру, чтобы успеть, пока квартира не оживет. Самым стеснительным и неудобным было надевать перед Анькой протез. Но у нее хватало деликатности. Лишь он спускал ноги с кровати, она, завернувшись с головой в одеяло, лежала лицом к стенке до тех пор, пока он не касался рукой ее плеча.
Тогда резко поворачивалась, откидывала одеяло, тянула Алексея к себе и, обняв голыми по плечи руками, целовала на прощанье, шепча:
— Иди, иди… Тихо только. Узнают — ужас!..
Но и сами они догадывались, тайна их в квартире давно была раскрыта. Но если жильцы и знали, то помалкивали. Вслух не говорилось и полслова. Может быть, женщины про себя и обсуждали событие, но лишь в отсутствие молодых людей.
И снова Алексей возвращался к себе. Стараясь не шуметь, осторожно взбирался на старую гудящую и звенящую кровать.
Лежа, он еще некоторое время глядел на свой зачерненный растресканный потолок и никак не мог понять, счастлив ли он сейчас, бывший старшина второй статьи Алексей Поморцев, и могут ли быть в его положении радости, кроме страданий баяна да пьяного разгула. Когда уж так весело — ничего другого не надо.
А баян стоял на полу забытым, и не сотри сегодня Анна с футляра пыль, он уже посерел бы от нее. Не тянуло почему-то Алексея к баяну, не тянуло, и все.
В полуподвале на Кузнечном его меж тем потеряли. Приходили постоянные посетители, спрашивали, где же хороший баянист, без него все не то. Официанты отвечали, что и сами не знают, куда задевался моряк. Может, и прихворнул. В одном бушлатике ходил. Чего не бывает, а может, и еще хуже что.
Утренний завсегдатай Санька Лысый взялся разузнать, что стряслось с его, как он утверждал, фронтовым другом. Адрес Леньки-моряка он знал. Раза два и прежде к нему случалось наведываться, и потому по товарищескому праву направился к нему.
Аня днем была дома и услышала, как зазвенел старый колокольчик на кухне. С черной лестницы, как ее по старинке называли, в квартире ходили редко. Она, не спрашивая кто, отодвинула засов и толкнула дверь.
На площадке стоял высокий, немного ссутулившийся человек в поношенной офицерской шинели без погон и плоской кепчонке. Из-под шинели — штатские брюки и давно не чищенные ботинки. Лицо у звонившего было бритое, с красными пятнами, помятое какое-то лицо, на котором застыла заранее приготовленная улыбка.
— Леша… Алексей дома, разрешите узнать? Может, заболел часом? — спросил звонивший, сверкнув золотым зубом.
— Нет, он здоров, — сказала Аня.
— Здоров. Это приятно. Может, дома, отдыхает?..
Меж тем человек в шинели оказался уже на кухне.
— Да его нет. Вы не поняли, — продолжала Аня.
— Нету?! И где же это он, интересно… Сгинул, можно сказать, с глаз своего лучшего друга. Растворился в тумане.
Продолжая болтать эту чепуху, помятая личность прилипчиво оглядывала Аню, Вошедший оглядывал ее так, будто оценивал. Аню это напугало. В квартире сейчас она была одна. Однако показать того не показала. Быстро проговорила:
— На работе он. Может, что передать?
— На работе?!
Человек с пятнистым лицом удивленно надул губы. Он не переставал въедливо приглядываться к Ане. На губах играла все та же улыбочка.
— Где же это они работают? Не по артистической ли части?..
— Нет, — сердито сказала Аня. — По обыкновенной, а где, не знаю.
— А вы соседочка, значит?
— Соседка, как и другие.
— Ясно. Но подумайте, милочка, и меня не предупредил. Ай, Леша, Леша!.. Я, может, беспокоюсь зазря — не приболел ли наш герой, а он где-то вкалывает.
Краснолицый, видимо, не спешил уходить. Ане стало не по себе. Она решилась на хитрость, крикнула в коридор:
— Глеб Сергеевич, вы не знаете, когда Алексей Прокофьевич домой придет?
И хотя ответа не последовало, действие это свое возымело. Гость затоптался на месте, поспешно заговорил:
— Не стоит беспокоиться. Извиняюсь, что потревожил… Я в другой раз…
Он стал задом отходить к двери.
— Передайте, пожалуйста, что Санька заходил. Скажите, все общество удивляется, и беспокоимся, куда делся.
— Какое общество?
— Фронтовое, боевая компания, понятно, а кто же еще может о таком человеке тревогу проявлять? Грех, скажите, нас так пугать.
Говорил он все это с какой-то усмешкой и вздохами. Чувствовалось, был недоволен Лешиным отсутствием и вообще тем, что тот ходит на какую-то неизвестную этому Саньке работу. Уже взявшись за скобу, продолжал?
— Очень приятно было познакомиться. Надеюсь, не в последний раз, и опять извиняюсь, конечно…
С этим ей удалось затворить за ним дверь. Аня слышала — ушел он не сразу, Словно что-то еще раздумывая, постоял на лестнице, затем послышались удаляющиеся шаги.
Непонятно почему, но Аню встревожил приход человека, вызвавшего в ней какую-то неприязнь. С кем водится Алексей, что это еще за «компания»? Подумав, Аня решила — будь что будет, а она ничего не скажет Алексею про приход этого Саньки. Будто запамятовала, и все.
Аня тревожилась не зря.
Алексей хоть и ушел от своих недавних приятелей, а знал, что они есть и что про него не забыли. Ждут, надеются — придет. Явится, а как же иначе?! Так они, разумеется, полагали. Про себя он смеялся: напрасно надеются. Не дождутся Лехи-морячка. Есть у него теперь, куда идти. Не одинок он больше. Все! Прощайте, выпивохи!
Так он думал и тем гордился.
Зря, оказалось, гордился. Вышло по-иному, и кто виноват — поди разберись.
Алексей получил первую домхозовскую зарплату. И тут, как нельзя кстати, вечером с ним расплатились и за ремонт проводки в одной из больших квартир соседнего дома, Денег у него в карманах неожиданно набралось порядком. Он подумывал, как ими распорядиться. Была мысль отдать на сохранение Ане. Потом пойти с ней и купить чего-нибудь из одежды. Пора бы. Матросская форма уже на износе. Ну и Аньке, по возможности, что-нибудь купить.
Но на деле все обернулось совсем иначе.
В связи с получкой Алексей всякую работу прекратил с половины дня, как только расписался в ведомости. Тем более, происходило это в субботу. А тут, как говорят, сам бог велел…
Забежал он домой. Убедился, что Ани нет. Значит, водит свой троллейбус в утреннюю и вернется затемно. Странно, но он даже почему-то обрадовался, что ее нет. Хотел было оставить деньги дома, с собой взять немного, но потом подумал: к чему? Пусть будут при себе. Никуда не денутся. Вернется домой, тогда и с Анькой разберется.
Вышел на улицу, и сами ноги, черт знает почему, понесли на Кузнечный.
Явился туда в такой час, когда питейное это заведение его представляло образец чистоты и порядка. Холодно белели мрамором незанятые столики. Горками возвышались за стеклом бутерброды с кильками — закуской, отпускавшейся в неограниченном количестве без выреза талонов. Намытые, никогда не вытираемые кружки и граненые стаканы матово поблескивали, теснясь на буфете.
Алексею обрадовались как родному. Готовы были угощать от души, хоть явился на этот раз и без баяна. Но Алексей, наоборот, угощал сам. Велел налить по сто граммов официантам и вина старухе-уборщице. По неписаному закону буфетчиков не угощают. Буфетчик сам всему хозяин. Захочет — выпьет. Но Алексей никаких таких законов не признавал. Приказал налить себе и буфетчице, а та и рада.
Так выпили за его выздоровление. Почему-то все были уверены, что Алексей все эти дни болел и вот теперь поправился и явился. Он не стал возражать. С выздоровлением так с выздоровлением, если им того хочется. Тут — известно, на ловца и зверь бежит — появился Санька Лысый… Хлопнул Алексея по плечу. Очень рад был, что наконец увидел.
Сели в уголочке за Лешкин музыкантский столик. Заказали того-сего, выпили. Санька жаловался на то, что время работает не на него, и на какие-то трудности. Все повторял малопонятную фразу: «Пора, Лешенька, закрывать контору… Пора, пора закрывать…»
Появился еще один постоянный посетитель — дядя Витя, пожилой, молчаливый человек с черными с проседью висячими усами, концы которых всегда были мокрыми от пива.
Посидели немного втроем. Но тут Санька, почуяв, что у Алексея денег довольно, предложил перебазироваться в ресторан Московской гостиницы, где можно и выпить и поесть чего-нибудь стоящего, как он объяснил.
Давно Алексей не ходил в ресторан. Он и прежде-то в них бывал всего раза два-три, не больше. Что тут долго раздумывать?
— Пошли!
Раздеваясь внизу, в гардеробе, Алексей чувствовал себя в форменке не так чтобы очень ладно, дядя Витя и вовсе стеснялся своего старенького пиджака и рубашки без галстука. Зато Санька, как сбросил шинель, оказался в пиджаке из материи букле и выглядел в нем очень даже по-современному. Он был здесь как будто своим, повел их по лестнице. По пути здоровался с официантами, называя их по именам, а полноватого парня в черной паре из большого зала похлопал по плечу, и тот, побежав вперед, усадил их у огромного окна на площадь. Командовал Санька. У него отыскались и лимитные карточки, так что оплата была со скидкой. Выпили порядком. Шли разговоры самые интересные. Алексей припомнил боевые дела. И дядя Витя не остался в долгу. Было ему что рассказать. Санька, тот больше слушал, улыбался и кивал головой. Нет-нет и вставит: «Понятное дело, Леш, мы с тобой повоевали. Нам и отдохнуть не вред. Пускай теперь другие лямку тянут. Мы с тобой, Лешенька, дело найдем…» При этом он подмигнул Алексею. Тот не стал задумываться, что у Саньки может быть с ним за дело, кроме выпивки, но ничего не сказал. Настроение было куда как хорошим. Заработанных денег, что сейчас горели пламенем, жаль не было, потому что Алексей считал их шальными, а проделанный труд вроде баловства.
Правда, Санька под конец раскошелился, а когда дело дошло до расплаты и появилась девушка с коробочкой, куда собирала лимитные талоны, Санька откуда-то из глубины внутреннего кармана вытащил сотню, положил ее на стол, прихлопнул ладонью, будто поймал и боялся выпустить.
— Это тебе в поддержку, Леша.
На улицу вышли в самом распрекрасном расположении друг к другу. Чего никак не хотелось, так это расставаться. Санька еще на лестнице шепнул Алексею, что хорошо бы от старика отколоться и завалиться куда-нибудь, где тепло и не дует. Но Алексей такое дело по отношению к дяде Вите посчитал предательством и Санькино предложение пропустил мимо ушей.
На улице ему пришла в голову идея пригласить обоих к себе; не к себе, понятно — что там у него делать, — а к Ане. Она, по всему, была уже дома, и надо думать, не откажется от симпатичных гостей.
До того эта мысль всем понравилась, в особенности Саньке, что сразу же заспешили в Особторг, чтобы кое-чего там купить. Не с пустыми же являться руками! Вскоре гуськом, с пакетиками и бутылками в карманах, поднимались с парадного входа. Алексей глянул через окошко с лестницы на окно Анькиной комнаты. Все в порядке, горел огонек. Значит, дома.
Позвонил нарочно не ее звонком. Пусть отворят другие, чтобы получилось совсем неожиданно. Открыла старуха Мария Кондратьевна. У Алексея отношения с ней были вполне нормальные. Никаких, в общем, отношений. Он торопливо извинился и повел за собой по коридору подтянувшихся по такому случаю собутыльников.
У дверей Аниной комнаты остановились. Алексей постучал.
— Кто? — послышалось за дверью.
— Мы, Анюта. К тебе. Я с товарищами…
Не получив ответа, нажал ручку. Все трое ввалились в комнату и остановились, щурясь от света и переминаясь с ноги на ногу.
Аня не сразу поняла, чего от нее хотят; ошеломленная этаким явлением, она смотрела растерянно. Теперь только Алексей сообразил, что могли они ее застать в домашнем, неподходящем виде, но она была в блузке и черной юбке. На ногах чулки и тапочки.
— Мы к тебе, Анюта, — повторил Алексей. — Запросто посидеть, если уважишь. Это вот Санька — Александр, а то дядя Витя…
— Виктор Аполлинарьевич, — поспешно представился тот, приминая в руках еще в коридоре снятую кепку.
— А мы вроде знакомы, — проговорил Лысый, улыбаясь, как он, наверно, предполагал, подкупающей улыбочкой. — Забегал я, тебя спрашивал. Мы тут поговорили малость…
Было похоже, Санька намекал на какой-то особый с Аней разговор, которого вовсе не было. Но Алексей не обратил внимания на его игривый тон. Пьяно и простодушно сказал:
— Знакомы? Ну, тем лучше. Вот тебе, чем богаты, Анюта. — Он протягивал ей покупки так, словно хотел этим оправдать неожиданное явление.
— Заходите, — сказала Аня. — Снимайте пальто.
Неуверенность незваных гостей улетучилась. Они засуетились, переговариваясь и стаскивая с себя одежду. Алексей между тем выложил покупки. Он уже понимал, что сделал что-то не то, и избегал Аниного взгляда.
Уселись за стол. Все так же молча Аня вынула посуду, какая была у нее, разложила закуски. Лысый ловким ударом раскупорил бутылку и налил кому в стакан, кому в рюмку и чашку.
— За близкое знакомство! — чокнулся он с Аней, глядя на нее наглыми глазами.
— Именно за знакомство!.. Со свиданьицем, — держа в левой руке стакан, а правой вытирая промокшие на улице усы, вторил Лысому дядя Витя.
Алексей чокнулся молча. Изо всех сил старался показать, что совершенно трезв и привел своих друзей не по пьяному делу, а так, ради интереса. Еще на лестнице он думал, что его подруге это будет даже очень приятно. Теперь видел — она с трудом сдерживалась, чтобы не прогнать всех троих. Он решил, что самым лучшим будет этого не замечать.
Теплая комната — у Ани было натоплено, — домашняя обстановка располагали к свободе. Гости отогрелись и оживились. Лысый завладел столом и начал рассказывать анекдоты, которыми был набит, как консервная банка кильками. Сперва анекдоты шли безобидные, но потом, осмелев, Санька перешел на истории с рискованным концом. После, достаточно выпив и распоясавшись, начал нести откровенную похабщину, которой никогда не смущались компании, в которых им с Алексеем приходилось бывать.
Анины щеки вспыхнули, но она молчала. Не успел Лысый досказать второй истории, как Алексей властно остановил его:
— Ну-ну, ты… Очень-то не забывайся. Не туда попал, ясно?
— Ясно, — кивнул Санька и сразу же смолк. Алексея он предпочитал слушаться. — Я так. Веселый разговор…
К тому времени дядю Витю развезло. Он блаженно улыбался и, встряхиваясь, изображал, что все слышит и понимает, но было видно — засыпает. Учуяв угрожающие нотки в голосе Алексея, дядя Витя и в самом деле проснулся, оглядел стол, опустевшие бутылки и сказал:
— Пора, пора… Домой, лапушки…
Задвигали стульями и стали прощаться. Поднявшись, Алексей плохо встал на протез, качнулся. Зазвенела посуда, на тарелку упал граненый стакан.
— К счастью! — поторопился дядя Витя. Но напрасно. Все на столе осталось целым.
Санька Лысый, надев шинель и кепку, долго повторял глупо: «Извиняюсь, извиняюсь», — и норовил поцеловать хозяйке руку, которую Аня — от Алексея это не ускользнуло — успела спрятать за спину.
Выводил их Алексей по черной лестнице. Парадная уже была заперта. У ворот дежурила дворничиха Спиридоновна. Она неодобрительно взглянула на гостей моряка и ничего не сказала, но лишь те шагнули за калитку в воротах, дворничиха заперла и калитку, а сама осталась на улице.
Алексей еще постоял под аркой, докуривая папиросу, взятую у Саньки. Курил он редко, только когда выпьет, и то так, из баловства.
Убедившись, что Лысый и дядя Витя ушли, он бросил окурок и через двор возвратился в квартиру.
Из кухни, стараясь идти потише, двинулся по коридору к Анькиной комнате. Привычно нажал ручку и слегка толкнул дверь. Дверь не поддавалась. Алексей заметил, что и свет из-под нее не падал на пол коридора. Аня выключила электричество.
— Это я, Анюта, — хрипло сказал он.
— Чего тебе еще? — послышалось за дверью.
— Как чего?.. К тебе.
— Иди, хватит, покуролесили.
— Открой, Анют…
— Не открою. Ступай.
Какое-то время оба молчали. Алексей нажимал и отпускал слегка взвизгивающую ручку. Аня к двери не подходила.
— Открой, говорю, — наконец повторил он.
Ответа не было.
— Открой, тебе говорят, Анюта…
— Сказала, не отворю.
— Я объяснение дам, слышишь?
— Нечего нам объясняться.
Подождав, он сперва негромко, потом посильнее застучал в двери.
— Уходи, — повторила Аня издали. — Не отворю, хоть ломай.
Как ни был Алексей выпивши, а понимал, что сейчас в квартире проснутся все и станут прислушиваться к тому, что происходит.
— Эх, не человек ты, — вздохнув, сказал он и, отпустив уже согревшуюся в его ладони медную ручку, захромал к себе.
В комнате зажег свет и сел на кровать. Разбирала его пьяная обида. За что, за что!
Громко сказал:
— За что ты меня? Хорошие люди, что они тебе сделали не так?
Аня, конечно, все слышала, но не отвечала. Алексея это подзадоривало. Знал он, что Санька — человек плохой. Даже наверняка прохвост, но какое это сейчас имело значение? Он был оскорблен и за себя, и за своих собутыльников.
— Хорошие люди. Очень даже хорошие. Получше некоторых, — упрямо твердил он.
Наконец за стеной послышалось:
— Дай спать, Алексей.
— Ах, спать ей… Видали, спать. Люди на войне четыре года не спали, им привет нужен, а она спать, спать…
Бормотал он еще долго, не получая ответа да и не ожидая его. Казался он себе сейчас человеком самым разнесчастным, всеми покинутым, а презираемые Аней Санька и дядя Витя постепенно превращались в таких славных и добрых, что хоть беги за ними, чтобы вернулись и пожалели его.
Потом он выдохся. Кое-как освободился от протеза, взобрался на кровать и, не снимая тельняшки и брюк, уснул тяжелым хмельным сном.
С того дня он снова запил и вернулся к своей прежней бездельной и разгульной жизни.
В контору домохозяйства больше не заглядывал. Когда приходили звать что-либо делать — дома не заставали. На оставленные записки с просьбой зайти в какую-нибудь квартиру не обращал внимания.
В утро после того, как привел домой Саньку и тихого дядю Витю, Алексей проснулся с головной болью. Кажется, не был вчера сильно пьян и не буянил, а как провел вечер — помнил не очень-то четко. Денег оказалось одна смятая пятерка. Куда дел остальные, понять не мог, ведь казалось, потратил совсем немного, и думал, что сумеет купить себе что-либо путное.
Ани дома не было. Не слышал, когда она ушла из дому. Этому обстоятельству был рад. Встречаться с ней не хотелось. Плохо помнилось, как вели себя вчера у нее он со своими дружками. Хорошего, конечно, могло быть мало.
Нет, не годится он Анюте ни в мужья, ни в товарищи. Верно тогда сказала — пьяница. А кто виноват?
И опять он клял войну, которая надругалась над его молодой судьбой, немцев, принесших ему несчастье, а заодно и тех, кому посчастливилось выйти целехонькими. Что им теперь до него? Кому он такой нужен?
Кончать, кончать все надо с Анькой. Ни к чему он ей, и она ему не нужна. Глупо это все получилось. Забыть, будто и нет ее рядом.
Болела голова. Не помогало ничего, требовалось одно — опохмелиться.
Час был еще ранний, и он взялся за баян. Вынул его из футляра и прошелся по клавишам, разминая пальцы. Сидел Алексей в своей комнате, растягивал баян, и лились по квартире мелодии — одна задумчивее и печальнее другой. Веселые мотивы под его настроение не шли.
Наигравшись вдоволь, снова упрятал баян в футляр, повесил на ремень через плечо. Раньше, чем обычно, отправился с инструментом на Кузнечный.
Там будто и не удивились тому, что он снова здесь со своим баяном. Усадили на постоянное место под пальмой с будто обкусанными листьями, немедленно принесли водку и бутерброд с килькой. И опять играл он кому что захотелось. Принимал подношения и, как должное, выслушивал восторги посетителей, набившихся к вечеру в пивную до отказа. Выпив, почувствовал себя в нормальном, как он говорил, состоянии. Утренняя душевная горечь словно куда-то улетучилась. Было ему хорошо и вольготно тут, в досиня задымленном полуподвале, где его понимали, ценили и любили… Да, да, дьявол их побери, любили его и прощали в нем неладное, не то что Анька. Да при чем тут, собственно, Анька? Ну было и было. Мало ли у него бывало, а может, и у нее, кто знает? Не о чем тут задумываться.
И пошла изо дня в день старая песня. Снова он приходил домой, когда квартира уже спала, тяжело добирался до своей комнаты, заваливался на кровать и засыпал, чтобы с утра и до конца дня повторить то, что было сегодня.
Так получилось, что, живя через стенку, с Аней они перестали видеться. Если она и бывала при нем дома, прохаживалась там потихоньку и голоса не подавала. Да и он старался не прислушиваться к тому, что происходило в ее комнате. Не все ли равно? Какое ему дело… Лучше всего, если ее не случалось дома. Так он чувствовал себя спокойнее, а бывало, нет-нет и заденет за живое: неужели ей все равно, что тут с ним делается? Может быть, только и искала способ избавиться от него? И так для нее хорошо получилось: притащился со своими дружками. Оскорбил. Сам же он, выходит, и виноват. Куда лучше!
Но Алексей ошибался.
Аня не находила себе места. Не знала, что ей и делать. Только и обретала спокойствие, когда катила в своем голубом троллейбусе по желтой кашице перемолотого колесами снега на дороге. Здесь надо было глядеть во все глаза. Попадались островки гололеда, и такую громадину, как троллейбус, могло занести запросто. Тогда жди беды. Но ничего, с машиной она справлялась. Слушался ее старый троллейбус.
Но только оставит Аня вагон, по пути к проходной перекинется словечком-другим с теми, кто попадается навстречу, выйдет на улицу — и хоть домой не иди… Что там ее ждет, какие радости?!
Был момент, показалось ей, что возвращается вновь к ней счастье. Было это счастье в образе Лешки-соседа. Кому бы сказать, только головой бы покачал. Ну какое тут может быть счастье! Непутевый, искалеченный, да еще выпивающий через меру. Но она поверила в Алексея. Один он — вот и причина его безалаберной жизни. Чувствовала Аня, не настоящее это у него: и злость, и пьяная лихость. Не видит человек тепла. Сколько уже времени не видит. И вокруг него не люди, а так, всякая нечисть.
Аня, вышедшая из детдома, помнила, как было там заведено: когда девочки вырастали и учились в старших классах, лучших из них прикрепляли к маленьким. Учили воспитывать младших: ведь растут без отца и матери, а им так нужна человеческая забота. Конечно, матери не заменишь, и Ане никто ее не заменил, а все-таки, если кто-то думает о тебе, и жить легче.
Замечала она уже тогда — выговорами, строгостью и разъяснениями, что лучше быть хорошей, чем плохой, ничего не добьешься. А найдешь путь к сердцу маленького человека — и пойдет все ладно. Поймет и оценит заботу, станет стараться не огорчать тебя.
Понятно, Алексей не девчонка из детдома, а все-таки и он к ласке тянется, и ему приятно казаться лучше, чем есть. Да, может, и не плохой он, загляни только поглубже.
Нет, не думала она обо всем этом в тот вечер, когда сделались они близкими. Захлестнуло ее. Сама себе отчета не могла бы дать, отчего так вышло. Поздно о том жалеть. Как радовалась она, заметив в нем изменения… Думала: неужели, неужели? Тревожилась, боялась спугнуть и уже поругивала себя за резкие слова, когда он заговорил с ней о женитьбе. Да разве могла она иначе? Ей мечталось, чтобы прочно, чтобы на всю жизнь, чтобы любить друг друга… А тут — нет, не серьезным это было. Что же, неужели она только из одной к нему жалости? Значит, и не было у нее к нему настоящей любви? Так — одна жалость?
А тут стала замечать, что в своей комнате прислушивается, что делает у себя Алексей. А нет его — беспокоится: где он сейчас? И не могла она ему уже ни в чем отказать. И счастлива была в минуты, когда бывала с ним, о том, чем все кончится, и не думала.
И в тот вечер, когда явился к ней пьяный со своими товарищами — разве товарищи они ему! — ждала его. Субботний был вечер. Так хотелось быть вдвоем. Она даже приоделась. Только туфли не успела надеть. А он!.. Значит, не думал про нее с утра. Так, по пьянке завалился, пришел…
Обидно было, а все-таки выдержала и гостей и его приняла, хотя ой как они были ей противны. Ну, а потом не пустила его к себе. Пусть знает, не для того она с ним…
Только не ждала Аня, что снова закрутит Алексея лихая жизнь. Переживала потом, не она ли причина тому, что опять он бродит с баяном до поздней ночи. Днем никому не показывается. Домой является пьяным.
Как-то раз, опять, видимо, забыв ключ, к ночи звонил он в двери с кухни. Она не решилась отворить. Вышел, кажется, Глеб Сергеевич. На кухне произошел короткий разговор. Как Аня ни прислушивалась, слов разобрать не могла. Было только понятно — Галкину надоели Алексеевы штуки и он ему что-то такое сказал, а тот, как это ни было удивительно, грубить не стал. Пробормотал что-то там в свое оправдание, потом про-хромал к себе и затих до утра.
Может быть, и зря Аня так поступила в тот неладный вечер. Ну притащил своих дружков. Ох уж эти дружки!.. Да ведь он не хотел ее обидеть, решил, что ей это в радость. Даже конфеты для нее принес… Может, стоило просто поругать его утром. Аня даже улыбнулась, припомнив стеснительный вид Алексеевых гостей и то, как они нерешительно топтались в дверях. Улыбнулась и испугалась своей покладистости. Что же это, неужели она так и готова все прощать?.. Ну, а если и поведется?.. И начнет таскать к ней кого попало… Нет, такая жизнь не для нее.
Лежала Аня и прислушивалась к тому, что делалось за стенкой, и снова испытывала жалость к одинокому, беспутному парню, можно сказать своему брату-фронтовику, такому же, как и она, одинокому. Гнала от себя эту жалость и не могла отогнать. Чувствовала, что должна что-то сделать для него, на то ведь она и женщина. Да и что от себя скрывать, не чужая теперь ему…
И вдруг она устрашилась мысли, что постучись бы сейчас Алексей, каким бы он ни был — пустила бы к себе. И не понимала Аня, что же это такое с ней делается. Злилась на Алексея, поносила его про себя, и надо же, вот ведь — хотела, чтобы он сейчас был рядом. Может, и упрека бы ему не высказала, ничего и не припомнила бы. И опять спохватилась: неужели так?.. Да разве может быть у нее хоть какое-нибудь с ним счастье?!
А утром, когда тихо было в квартире, — Аня в этот день выходила на работу после обеда, — услышала: Алексей уже встал. Сама не знала, почему она тогда пошла на кухню. И никакого плана у нее в голове для разговора с ним не сложилось, а вот так, почувствовала, пора ему сказать… Нельзя так дальше.
Подошла к его двери и негромко позвала:
— Алеша!
Молчал недолго, откликнулся:
— Ну, что?
— Поговорить надо. Выйди.
Опять молчал, потом:
— А зачем? Кому нужен — пусть тот заходит.
Но грубости в словах не слышалось, скорее обида. Она решилась.
— Мне что. Я могу.
И вошла в его неуютное жилище.
— Алексей, — сказала она, глядя на него как могла строго. — Алексей, долго так будет продолжаться?
Отвел взгляд и уставился в пол:
— Неясно. Не понять, о чем речь.
— Неправда, понимаешь, о чем говорю.
— Ты «здравствуй» бы сказала для начала.
— Скажу, когда надо будет. Зачем тебе здравствовать, чтобы опять в пьянку?
— А что, или мешаю кому? Песни пою, ансамбли устраиваю…
— Не ломайся, Алеша!..
Аня решила попробовать подойти по-другому.
— Алексей, — начала она. — Я же для тебя. Думаю о тебе…
Нет, и это не помогло.
— Не надо, не надо! Нечего меня жалеть. Никто не поможет мне, никто… Сам я такой. Сам дошел. Конченый человек, отпетый… Вышлют к черту из города. Вот и вся ваша жалость. Вы, здоровые, тут жить будете. По кино ходить, в ресторанчики… А мы, отпетые, отдали свою кровь — и амба, не нужны больше.
И тут неизвестно, что произошло с Аней. Куда девалось все ее терпение. Была бы у нее сила, взяла бы и так тряхнула его. Ведь что несет, что несет!..
— Это ты-то отпетый?! — заговорила она с такой вдруг напористостью, четко, словно рубя слова. — Да ты сам любого отпоешь, на тот свет отправишь… Лживые твои слезы, вон как еще бегаешь, водку пьешь, музыку для своего удовольствия разводишь. Ты что, один такой герой-горемыка? Люди самолеты без двух ног водили. В парке у нас диспетчер однорукий и на другой руке три пальца, и работает, ничего, и до чего же еще мужик человечный, отзывчивый. Ты видел — девчонки на морозе кирпичи кладут, откуда они такие, ты думал? Все они настрадались не меньше тебя! В общежитиях живут. А ты знаешь те общежития?.. Потому что все они люди и беда одна, общая. Надо же из нее выходить! Кто же поможет, кроме самих нас?.. Все это понимают. Только ты да нечисть, с которой возишься, ничего знать не хотите… Кричат: «Давайте нам, давайте, мы свое отвоевали!» А где мы вам возьмем, ну где?!
Алексей слушал не перебивая. Слушал вовсе не потому, что взяло его за живое так внезапно и горячо ею высказанное, и не потому, что понимал — Анька говорит правду. Нет, скорее от удивления. Никогда он от нее, этакой небольшой, узкоплечей, не ждал таких слов. А она говорила и говорила и сама не знала, откуда у нее взялось. Просто захотелось сказать все, что думает о нем. Пусть его знает. Пускай между ними конец Теперь уже все разно.
— Я к тебе по-людски, — продолжала она. — Может, и полюбила бы, а ты вон что… Ну и продолжай, ну и погибай как хочешь, герой неоцененный… Знать тебя больше не хочу! Я думала, ты человек, ты ко мне пришел… А ты, ты…
Она не договорила. Запал вдруг будто разом кончился. Чувствовала, что сейчас разревется, и думала: только бы удержаться, не показать, что с ней творится.
Ничего не нашла лучше, как поскорее выйти и прихлопнуть дверь. На кухне, в коридоре, у себя в комнате дала волю заглушенным слезам.
Последнее, что запомнила, когда уходила, стоял он перед ней, голову наклонил и чуть ссутулился, как-то сник. И ничего он ей не сказал, ничего. Только очень скоро ушел, и так тихо, словно не хотел, чтоб услышала, что уходит.
Аня осталась одна. Присела и задумалась. А зачем все это? Ну наговорила, а толк-то какой? Смешно, шла совсем с другим, шла примириться, сказать, чтобы не злился, а вот что получилось. Ну, может, и к лучшему. Теперь-то уж кончено, кончено, и она опять свободна.
Свободна! А зачем ей эта свобода, вроде пустоты? Снова одна в своей комнате. Только теперь еще хуже. Теперь будет рядом он. Куда от этого денешься.
Алексей шел по улице.
Шел просто так, неизвестно куда и зачем. Ничего не замечал и не видел вокруг. Только когда переходил перекресток, услышал, как его обругал шофер. Высунулся из кабины и пробрал:
— Ты что, глухой?! На войне не добили. Сам лезешь…
Хотел было Алексей ему ответить, послать куда следует, но почему-то смолчал. Добрел до садика, где бегали и играли в войну дети, и опустился в стороне на свободную скамейку. Мысли были путаные. Не выходили из головы Анькины слова: «Погибай как хочешь, герой неоцененный…»
Сидел, вытянув вперед ногу с протезом, застывшим взглядом смотрел на кончик сапога, как бы повторял про себя: «Герой!.. Герой неоцененный…» Глядите, ведь как уязвила! Можно сказать, в самую душу попала. Ничего ему сейчас не хотелось. Некуда было идти, нечего делать.
Против скамейки, на которой сидел Алексей, остановился мальчишка лет пяти, бледненький и тонконогий, с деревянным самодельным автоматом через плечо на тесемочке. Стоял и смотрел на Алексея. Смотрел, будто на застывшую статую, и вдруг спросил:
— Дядя, ты моряк, да?
— Ясно моряк, — нехотя ответил Алексей и убрал под скамью ногу с протезом.
Но мальчик не ушел, а шагнул на шаг поближе, по-прежнему внимательно разглядывая сидящего. Потом он опять спросил:
— На море воевал, да?
— На море, — кивнул Алексей. Ну что было объяснять этакой мелюзге, где он воевал…
А мальчишка не унимался:
— Ты фашистские подводные лодки топил?
— Бывало, — невнятно проговорил Алексей.
Но врал же. Никаких он не топил фашистских подводных лодок. Да не все ли равно, раз парню так хочется.
Увидев, что его не гонят, и осмелев, мальчик с автоматом подошел еще ближе. Потемневшими запачканными руками «по-военному» сжимал свое оружие. Так крепко держал автомат, что даже вызвал у Алексея улыбку. Подумалось: «Придется тебе, наверно, еще и настоящий носить. Хорошо, чтобы не в такой обстановке, как у нас была». Но мальчишка, видно, понял улыбку по-своему. Улыбка моряка приободрила его. Он спросил:
— Ты Ленинград защищал, да?
— Ну ясно, Ленинград, а то что же?..
— А мой папа не Ленинград. Он немецкий Берлин защищал…
Мальчик смутился, сообразив, что сказал не то. На бледных щеках зарозовел румянец. Он заторопился объяснить:
— Он не защищал Берлин. Он его взял.
— Вот как? Понятно.
— Он нам свою военную карточку прислал. Это когда еще не раненый был, а теперь он в госпитале. Его в Берлине ранило. Он скоро приедет. Будет здоровый. Мама так сказала.
— А ты своего отца видел?
Мальчик помотал головой.
— Нет. Только он меня видел. Совсем маленького, а теперь я большой. Он далеко, наш папа. Там, где немецкий Берлин. Скоро приедет. Он мне ботинки прислал.
Чтобы Алексей получше разглядел его ботинки, мальчик уселся рядом с ним на скамейке и вытянул напрямую обе ноги.
— Вот.
Ботинки, наверно, ему были велики. Синие, прошитые белыми нитками ботинки. Эдакий знакомый Алексею немецкий эрзац военного времени из какой-то подделки под кожу. Такими трофеями торговали и с рук на барахолке.
— Хорошие, — сказал Алексей.
— Немецкие, — кивнул мальчик. — Они мне большие. Мама сказала, ничего, вырастут ноги.
— Вырастут, куда им деться.
Алексею вдруг подумалось, а ведь и у него уже мог быть вот такой мальчишка. Что бы теперь он делал, будь у него сын — такой парень? Неужели так же играл бы в пивной на баяне? И сам себя убеждал: «Да нет, тогда бы другое дело».
Мальчик молчал. Он в свою очередь смотрел на опять вылезшую из-под скамейки Алексееву ногу с протезом. Видно, что-то поняв, совсем тихо, будто хотел, чтобы это было только между ними, спросил:
— Ты тоже раненый был?
Алексей наклонил голову.
Мальчишка понимающе продолжал:
— Как мой папа?
Что ему было отвечать? И Алексей только снова кивнул.
В эту самую минуту и появился неизвестно откуда Санька Лысый. Он поспешно шел через сквер. Вид имел озабоченный, но, заметив Алексея, заулыбался знакомой кривой улыбкой.
Деловитое выражение сошло с его красного, будто всегда обветренного лица. Оно стало обычным — ласково-прилипчивым. Заторопился к скамье.
— С фронтовым приветом! Отдыхаем?
Мальчик с автоматом оглянулся на подходившего Саньку, спрыгнул со скамьи и, не говоря больше ни слова, убежал к другим ребятам. Алексей даже пожалел, что разговор у них так внезапно оборвался. Вот кого ему сейчас вовсе не хотелось видеть, с кем встречаться, так это с Санькой…
Однако тот подошел и опустился на скамейку.
— Закурим, что ли?
Вынул папиросы — дорогой коммерческий «Казбек». Щелкнул полосатенькой зажигалочкой, затянувшись, спросил:
— Что молчим?
— Мысли, — сказал Алексей.
— Это иногда пользительно, а про что мысли?
— Разные. Про жизнь, например. К чему она у меня теперь?
Санька качнул головой, пустив дымок, беззвучно рассмеялся:
— Будь доволен, что жив остался, а житуху нынешнюю, если к ней с головой, можно очень даже подходящую сообразить.
— В пивной играть, бухариков веселить? — зло огрызнулся Алексей.
Но Санька будто и не услышал его сердитого тона. Повернулся к нему, опять пустил дымок из носа и рта одновременно и снисходительно заговорил:
— Эх, Леша! С твоей военной биографией еще и задумываться! Ты теперь от жизни имеешь право все свое потребовать. С тебя взятки гладки. Ты для Родины ничего не жалел, мог и голову сложить. Вот так.
Алексей удивился. Откуда у Саньки Лысого взялись такие высокие слова: «Родина!» Скажи пожалуйста!.. Прежде он ничего подобного не говорил. Но Алексей только покачал головой и сказал:
— Значит, выходит, по-твоему, я для нее, для Родины, все сделал. Ни мне от нее, ни ей от меня больше ничего не надо? Военный пенсионер, играй на баянчике, заливай душу вином, и баста?!
Санька молчал. Алексей думал про себя. Нет, тут было что-то не так. И он решил поделиться охватившими его сомнениями. Черт с ним, хоть с Санькой, раз никого не было другого рядом. Не стал он говорить, что пришли эти сомнения о правоте своей нынешней жизни после разговора с Аней. Так, будто сам до того дошел. Теперь необходимо было открыть хоть кому-то душу.
— Муторно так-то жить, Санька, — не глядя на приятеля, продолжал Алексей. — Напьешься — вроде и ничего, а вообще-то скука. Получаюсь нечто вроде балласта в трюме, а ведь таких теперь у государства… — Он не закончил своей мысли, ждал, что ответит Санька, хотя отлично догадывался — не с ним о том говорить, но не мог больше молчать.
— А они все разные, такие-то, как ты, — сказал наконец Санька. — Государство тебе права дает и как героя уважает. Ну, а дальше… Сам не будь дурак. Вот так.
— Как понимать?
— Да так, что… — Санька взглянул на Алексея и без обычных шуточек, всерьез продолжал: — Из всякого положения возможно свои полезные выгоды выстроить и жить так, чтобы тебя окружали заслуженные радости. Тут тебе не пивной подвал. Тут, если с башкой, при нынешней обстановке можно такую житуху организовать… Только если, говорю, с башкой. Без звона.
— Ты про что?
— Да так, я вообще. Тоже мысли всякие.
Лысый словно спохватился, что сболтнул лишнее, повторил с какой-то поспешностью:
— Вообще говорю. Расстраиваться тебе нет причин. Анкета у тебя по всем пунктам. Ну отдохни немного. Имеешь право?.. Имеешь. Ну, а если уж задумываться, так не по-мелкому. Ударять, так ударять.
Говорил он непонятно и загадочно. Что-то такое крутил свое, но Алексею не хотелось вдумываться в Санькины слова. Одолевали собственные неотвязные думы. И все же теперь был рад и тому, что хоть Санька подсел на скамейку. Сделалось будто спокойнее. А что, если прав Лысый? Имеет он, Алексей, право жить как ему хочется, и никто ему тут не указ.
А Санька Лысый словно уловил этот момент. Бросил папиросу, придавил окурок подошвой ботинка и, сплюнув в сторону желтой слюной, ударил кулаком по Алексееву колену.
— Философию, в общем, давай пока отбросим. День какой-то сегодня не тот. Сырость, недолго и простыть. Погреться имеет смысл. Пойдем, Лешенька, малость развлечемся. А там, глядишь, загляну как-нибудь к тебе, поговорим и о серьезных вещах. Сообразим и для тебя дело. Есть тут люди — голова — совет министров. А выключатели ставить… Стоило за это нам кровь проливать?..
Хотелось спросить Алексею: «Ты-то какую кровь проливал, где это было?..» Но ничего он не сказал. Глупо — все кровь да кровь… Ну, не Санька. Один он, Алексей, что ли?.. Повернул голову и посмотрел на бегающих в стороне по дорожкам мальчишек, поискал среди них того забавного с автоматом, который с ним разговаривал. Вот ведь не придумал же, что отец у него брал Берлин и был там ранен. Это уж совсем обидно. Под самый-то победный салют… Впрочем, тут же позавидовал мальчишкиному отцу. Человек хоть своими глазами видел, как немцы выкидывали белый флаг — сдаемся все!.. Не то что он, Лешка, на своем «пятачке». Но мальчишки в трофейных ботинках среди бегающих детей не было видно, а между тем Санька уже опустил ему руку на плечо.
— Пойдем, адмирал, рассеемся. Брось ты эту тоску, ни к чему. Повеселимся. Есть тут вариант. Потопали…
И Алексей поднялся за Санькой и пошел за ним, пошел, не зная куда, но отлично понимая, что веселье с Лысым у него будет недолгим, а потом снова придут мысли, которые уже столько времени донимают его по утрам. Да вот и сегодняшний разговор с Аней… И все-таки он пошел за Санькой. А куда он мог еще идти? Кому он был нужен, кроме Лысого, и для чего?..
И про Аню подумал: так она это, из гордости своей, чтобы уязвить его, а на самом деле — что ей до него, не все ли равно? Шел за Санькой и успокаивал себя — дескать, будет он пока жить как живется. Его это дело, и больше ничье.
Что же касается Ани, то именно с этого утра она пропала из квартиры. Предупредила соседку Марию Кондратьевну, чтобы не беспокоилась, и уехала. Висел замок на дверях ее комнаты. В квартире особого внимания на Анин отъезд никто не обратил, мало ли у кого какие обстоятельства в жизни.
Время шло своим чередом. Нелегкое было время первого послевоенного года, и забот у людей было еще куда больше, чем радостей.
Жила Аня несколько дней у своей подружки по строительному батальону, по работе на восстановлении города. Сходна была судьба Любы — так звали подружку. Сходна, да не совсем. У Любы была мать, отец погиб на войне, а мать выжила в блокаду. Много лет работала на мясокомбинате. Может, потому и выжила. Люба потом получила специальность маляра и жила ничего. А вот личной, как говорила она, жизни не имела. И собой будто ничего девчонка, а не заглядывались на нее парни, не звали в кино и на танцы. Но была она неунывающей и верила — придет и ее час, а пока без зависти радовалась удачам других и переживала неладное в их жизни.
Настало у Ани время высказать кому-то все, что наболело. Не было лучше для этого человека, чем Люба, ну и поехала к ней. И как раз мать подруги отправилась на две недели в дом отдыха на Карельский перешеек, в поселок с названием, которое и не выговоришь. Аня и поселилась у Любы. В первую же ночь выложила ей все про свои жизненные дела. Ничего не утаила. Хотелось знать, что скажет подруга, как посоветует жить дальше.
Люба слушала участливо, вздыхала и ахала. Умела она слушать. Даже легче становилось, когда ей расскажешь про свои мытарства.
Потом Люба сказала: «Дуры мы, девчонки! Вот ты жалеешь, все жалеешь, а тебя кто пожалеет? Не справиться тебе с ним, себя только погубишь, и все тут… Беги от него. Лучше будет».
Аня задумалась. Может, именно таких слов она и ждала от подруги, а может, и совсем других. Пожала плечами и, как бы про себя, сказала:
— Куда же бежать-то, Любка? От себя бежать?
— Комнату сменяй, что ли. Какая же у тебя может быть жизнь с таким человеком?
— Ну а он-то как же, — вдруг сказала Аня, не глядя на подругу. — Пусть, значит, так-и катится?
Люба даже ахнула от такого Аниного заявления, покачав головой, продолжала:
— Ой, Анька, боюсь я за тебя. Разве остановишь ты его? Где у тебя силы на то?
Понимала Аня, вряд ли и в самом деле хватит у нее сил совладать с Алексеем, и все-таки вдруг сказала:
— Нет, так нельзя.
А Люба опять поглядела на нее внимательно, так, будто впервые ее увидела, и, будто что-то решив, вздохнула:
— Вижу я — влюбленная ты в него. Ну, тогда — беда.
Аня закрыла лицо руками. Тихо, шепотом, словно боясь, что кто-то услышит:
— Не знаю я, что со мной, Любка…
Люба сочувственно смотрела на нее. Был в ее взгляде и страх за подругу, и жгучий интерес к тому, что творилось в ее душе, а может, и женская зависть.
— Боюсь его, — сказала Аня. — А вот хожу и все думаю, что там с ним, неладным.
Любка рассудила по-своему.
— Ты вот что, — решила она. — Поживи пока у меня. Пройдет время, оглядишься. Ну, а там и само разберется…
Так и жили в те дни. Про свои чувства Аня подруге больше не напоминала. Вместе ходили в кино, пили чай по вечерам под разные разговоры. У Любки тоже историй всяких хватало.
Только чем дольше находилась Аня у подруги, тем все лучше понимала, что никто не может дать ей совета, как разобраться в ее отношениях с Алексеем. Бежать ли, правда, от него куда глаза глядят, вычеркнуть из своего сердца, забыть навсегда, как и не бывало? Или, может быть, поймет он все-таки? Нельзя так, чтобы махнуть рукой… Ведь обещал же, говорил, что станет другим. Неужели же так, ради того, чтобы была с ним… И опять думалось ей по ночам, когда не спалось, как он там живет в своей холодной комнате, что думает про то, куда она делась… Неужели ему все равно?
Но и Алексею было не все равно.
Как ни старался он убедить себя в том, что нет ему дела до Аньки, до того, куда она вдруг задевалась, как ни старался уверить самого себя, что не было у них ничего серьезного, мало ли приключалось с ним такого… Как ни уговаривал себя, а нет, не выходило.
Придет домой — что днем, что вечером или ночью — и все слушает, не вернулась ли Аня. Нет-нет да и подойдет к ее двери, когда никого нет в квартире, и глянет на замок. Будто замок мог ему про нее что-то рассказать.
И баян днем не брал в руки, не гонял пальцами по клавишам и не выводил грустных ли, веселых ли мотивов.
На Кузнечный ходил по-прежнему. А куда было еще ходить? Где его еще ждали? А там под пыльными пальмами, в чаду дыма, среди пьяного гомона был своим. Встречали радостно и провожали добром.
Только заметил вдруг Алексей: иначе он теперь шел на Кузнечный. Раньше тянуло. Едва своего часа дожидался дома. Теперь шел с неохотой, будто по скучной обязанности. Нет желания, а идти надо, надо.
Раньше он, шагая по улице, никого не замечал. Имеет право моряк, пострадавший за родную землю, куда ему угодно брести со своим инструментом. Никто ему не указ. Останови бы кто и скажи что-нибудь не по душе ему — был бы не рад, что и задел инвалида. А теперь шел торопливо. Шел так, будто хотел скорее преодолеть пространство от дома до полуподвала пивной. И стало казаться ему — плохо глядят на него на улице люди. Никакого нет в их глазах сочувствия. Бегут — кто по своим делам, кто катит ребенка в коляске, старухи спешат с рынка с бидончиками молока, с сетками, в которых с килограмм картошки да две морковки. И вроде никому нет никакого дела до его личности, а кажется, всякий глядит так, что хочет сказать: и куда это он тащится без дела, и что болтается среди дня со своей не к месту музыкой?
И в пивной заметили в нем перемены. Стал мрачноват. Не играл теперь каждому, кто захочет, а лишь по своему желанию или так, для друзей по знакомству. Если приставали подвыпившие, то мог и грубо ответить, и сказать свое известное: «Я тебе не шансонетка, чего привязался…», — хотя о шансонетках имел самые приблизительные понятия.
Только с Санькой Лысым принимал разговор. Тот забегал в пивную с толкучки, на которой у него всегда были какие-то непонятные дела. Санька знал подход к Алексею, присаживался и вел беседы про жизнь и политику, в которой будто бы хорошо разбирался.
Санька поговаривал о том, что собирается куда-то уехать. Трепал про то, что хорошо нынче в теплых краях, где бы можно было славно отдохнуть месяцок-другой, неизвестно уж от каких таких Санькиных занятий. Намекал на то, что способен с собой взять и Алексея. Было бы у того желание. Но Алексей все эти слова пропускал мимо ушей. Никуда он не собирался ехать, хотя и тут, в нынешней своей жизни, не находил радостей.
Были дни, когда он уходил из пивной, не дождавшись ее закрытия. Не так, как прежде, когда своей компанией с буфетчицей и официантами сидели запоздно, заперев двери с улицы. Теперь ему вдруг все отчаянно надоело. Оборвав музыку, принимался укладывать инструмент в футляр, не обращая внимания ни на какие просьбы.
И в квартире сделался молчаливей прежнего. Слова ни с кем почти не скажет. Кивнет головой, если кто встретится по пути, и закроется у себя.
Тихо было в его комнате. Квартира замрет — и не слышно ни звука за стеной. Не расхаживает там, хлопоча по своему нехитрому хозяйству, Аня, не поет, забывшись, песен и не окликает через стенку его. Пропала, как с квартиры съехала. Подойдет Алексей к окошку, поглядит во двор на стену напротив, на вделанную в нее голову коня. Скажет про себя: «Вот так, лошадка, торчу я тут, вроде тебя, один, без дела». Махнет рукой и отойдет от окна.
Был такой поздний вечер. Алексей вернулся домой. Снял с плеча баян, опустил его на пол. Выпрямился, чтобы немного размяться, и тут услышал за стеной осторожные шаги. Кто-то, словно босиком, торопливо пробежал по полу, и все стихло.
Аня! Вернулась, значит, пришла!
Алексей присел на табурет. Слушал. Ни звука. Потом что-то скрипнуло, и снова тишина.
— Анюта! — решившись, окликнул он. — Где же была-то?
Ни звука, никакого ответа. Повторил:
— Анюта? Чего молчишь? Слышу же, дома.
Опять не последовало ответа. И тут он услышал шепот, поспешный такой шепот. Кто-то сказал:
— Тихо!
Не одна, значит. Кто же у нее?
— Анька, ты чего? Гости у тебя?
Шепот усилился, но ему не отвечали.
— Что молчишь? Спрашиваю, не одна?
— Что тебе? — послышалось из-за стенки.
— Кто у тебя?
Глупый, понятно, был вопрос. Какое, собственно, ему было дело, кто там у нее и по какому поводу. Не муж он ей, никаких не имел прав на допрос. И все же повторил уже громче:
— Кто, говорю, у тебя?
Ответила с вызовом:
— Ну, может, и есть кто. Тебе-то что? Чего шумишь?
— Зайти хочу на минуту.
— Еще что! Зачем это?
— Поговорить надо.
И снова быстрый шепот. Потом сказала:
— Утром что надо скажешь.
— Сейчас надо.
— Сейчас нельзя.
— Почему нельзя?
— Вот еще, новое дело! Отчет тебе?
Что же это такое, кто же у нее? Почему она так разговаривает? Его словно в жар бросило. Не отдавая отчета в своем поступке, поднялся и пошел кругом через коридор. Подошел к ее двери, нажал на ручку — заперто.
— Открой!
— Еще что! И не подумаю, уходи…
Нажал на дверь — не поддается. Стукнул кулаком. Раз, два, еще два раза.
— Открой, слышишь! С кем ты там?
— Ни за что не отворю. Людей разбудишь, полоумный.
Послышалась какая-то возня.
— Пьяный он, — прошептали за дверью.
Но Алексей вовсе не был пьян. Но хуже, чем пьяного, сейчас завело его. Кровь прилила к вискам. Должен ой был знать, кто у нее там. Вот она, значит, какая…
Услышал, где-то в конце коридора скрипнула дверь. Кто-то выглянул, и дверь сразу же затворилась. Алексей вернулся к себе. Вплотную подошел к перегородке, разделявшей их комнаты. Опять услышал шепот, напуганный, тревожный. Ну Анька, ну пакость…
— Говори, кто у тебя там? С лестницы спущу!
Забывшись, он уже почти кричал, но и Анька за стенкой отвечала дерзко:
— Да тебе-то какое дело? Что ты мне за проверщик…
И тут он увидел перед собой дверь. Ту самую, заклеенную старыми обоями дверь, которая когда-то соединяла эти две комнаты. Скоба с двери была тоже кое-как заклеена обоями. Что-то случилось с Алексеем, будто помутилось на миг в голове. Как же это так? Смеется над ним, издевается… Ну, не знаешь ты Лешки Поморцева… Будешь жалеть о своих номерах! А ему терять нечего. Один черт теперь…
Рукой он нащупал скобу и разорвал обои. Крепко ухватил холодное железо, что было силы рванул дверь на себя. Раздался треск, похожий на выстрел. Дверь поддалась и распахнулась. Клочья обоев, как тряпки, повисли сверху. Он, словно ничего не слышал и не видел, сразу же шагнул в комнату. А там горел свет и испуганно визжали в два голоса.
На кровати, прижавшись к стенке, прикрывшись одеялом, сидели Анька и еще какая-то всклокоченная девчонка. Босые их ноги выбивались из-под одеяла. Насмерть перепуганные, они дрожали от страха. А в двери со стороны коридора уже стучали соседи, кто-то из женщин крикнул: «Милицию позвать надо… Убьет он ее…» И голос Галкина, спокойный, хоть и тревожный:
— Что случилось? Откройте немедленно…
Алексей стоял ошеломленный, пристыженный, только сейчас поняв всю нелепость своего поступка.
— Не надо милицию, — сказал Алексей. — Никто никого не убьет, извините за беспокойство, граждане. Погорячился немного…
Посмотрел на Аньку, которая не могла еще прийти в себя, и сказал:
— Дура ты, дура! Нашла с кем шутить…
Сказав это, повернулся и, не говоря больше ни слова, пошел к себе. Потом хлопнул взломанной дверью, снова пошумев обоями, и повалился на койку, зажав голову руками. Он уже не слышал, как шептались Аня и ее подруга, как расходились по своим комнатам соседи, понявшие, что и в самом деле скандал утих и опасность миновала. Он ничего этого не слышал. Уткнувшись лицом в подушку, он глушил слезы стыда и нестерпимой обиды, которым, казалось, теперь не будет и конца.
Алексей проснулся, когда стало уже совсем светло, насколько бывает светло в серые дни оттепели в Ленинграде. Первое, что он увидел, были разодранные клочки обоев вокруг прямоугольника двери. Сжав зубы, отвернулся к стене. То, что случилось вчера ночью, вызывало чувство гадливости к себе. Чувство, может быть, прежде его не посещавшее.
Надо было вставать. Он поднялся и первым делом, подойдя к двери, загнул гвозди, которыми довольно-таки неумело был прежде забит вход в соседнюю комнату. Зачем это ему понадобилось? Вряд ли Аня захотела бы воспользоваться вскрытой дверью, чтобы зайти к нему. Гвозди он загнул скорее механически, удивившись, между прочим, тому, что поддались они легко. Значит, прежняя сила в руках еще не пропала. Растопырив пальцы, протянул ладони вперед и посмотрел на них не без интереса. Сгодились бы еще, найдись дело для его рук.
Вышел из квартиры в этот день рано. Раньше обычного. Не мог больше сидеть в комнате. Надо было что-то делать. Куда-то идти. Едва дождался часа, когда на Кузнечном уже можно было стучаться в стеклянную дверь.
Он не спеша шел по улице. Шел мимо недавно поставленной решетки сквера между домами. Небольшой садик вырос на месте старого дома, в который попала бомба. Теперь от развалин не осталось следов. Там, где когда-то высились стены, чернели высаженные осенью кусты. За решеткой бегали дети. Мальчишки играли в войну и палили по «фрицам». «Прибавилось в городе за год и старух и детей, — подумалось Алексею. — И вообще кое-что переменилось». Почти совсем не было видно свалок на пустырях, исчезли кучи разного железного хлама, отчего-то больше всего состоящие из ржавых перекореженных кроватей. Не огораживали теперь эти кровати жалких дворовых огородиков.
Да, менялся израненный город. Все меньше оставалось слепых окон магазинов. Во всю длину улиц лежали трубы для газа. Засинеет, значит, скоро в конфорках, и забудется керосиновое время.
Задумавшись, он не заметил, как чуть не столкнулся с человеком, который читал на его пути газету, наклеенную на щит. Только Алексей хотел обойти его, как узнал в нем Галкина. И тот как раз обернулся и увидел Алексея. Ничего не оставалось, как поздороваться.
И надо же было встретить его именно в такой день, после вчерашнего. Встретить, тащась на уже осточертевший ему Кузнечный.
И все-таки Алексей решился, он замедлил шаг и поздоровался с Галкиным. Ему даже хотелось пробормотать что-то вроде извинения за вчерашнее. Никогда раньше такое не приходило в голову, а вот теперь был готов. Уж очень получилось по-дурацки.
Но Галкин не стал дожидаться никаких Алексеевых объяснений. Кажется, даже не обратил внимания, что тот с утра куда-то бредет со своим инструментом.
— Вот, — сказал он, слегка вздохнув, — читаю. До чего же много рук надо. Где и взять…
Тут только Алексей заметил, что читал его сосед вовсе не газету, а объявления о приглашении на работу, которыми был заклеен уличный щит.
— Нужны люди, — кивнул Алексей и тут же почувствовал, что сказал глупость.
Но Галкин опять будто не заметил.
— Вот и по радио все время передают, — сказал он.
Постояли еще с полминуты. Как-то неловко было сразу двинуться дальше, и тогда Алексей, неизвестно с чего, спросил:
— Что же не на работе сегодня?
— Бюллетеню, — сказал Галкин. — Война сказывается. Вот ведь любопытно, там не болел, а тут, в тепле… Просто беда, как схватывает. В поликлинику сейчас ходил… Ну, а у вас как?
— Скриплю вроде, — пожал плечами Алексей.
Удивляло, что Галкин говорил с ним так, будто и не было вчерашнего шума в квартире. Будто не требовал он отворить Анькину дверь, чтобы прекратить его, Алексеевы, безобразия.
Они разошлись. Глеб Сергеевич пошел в сторону дома. Алексей побрел дальше. Шел он медленно, все раздумывая над тем, зачем опять идет в полуподвал на Кузнечном, неужели не надоело? Он даже плюнул с досады, а все же продолжал идти в привычном направлении.
С того дня, после встречи на улице с Галкиным, — встречи, которая почему-то не выходила у Алексея из головы, прошло еще несколько дней. Он по-прежнему совершал свой маршрут на Кузнечный.
Так шел и в памятный в его жизни день, когда что-то в нем, — потом и сам не мог понять, почему это именно тогда с ним случилось, — что-то в нем перевернулось.
Он уже приближался к знакомой двери. Она была совсем рядом, эта дверь с картонной табличкой за стеклом. С одной стороны картонки надпись: «Закрыто». Надписи было не видать. Значит, открыто — заходите, будьте любезны!
Алексей поглядел через окно вниз. Час ранний, в пивной сидели только те, кто с утра едва дождался, когда можно уже опохмелиться в тепле у столика.
Его, наверно, уже заметили и не сомневались: сейчас запоет свою песню давно ослабевшая пружина двери, и он, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, сойдет в заставленный столиками зал, чтобы остаться там до самого вечера.
И тут с ним произошло что-то непонятное. Внезапно он круто повернул и поспешно, будто уходил от преследования, зашагал назад, к дому.
Все вокруг было самым привычным — и Кузнечный переулок с людьми, спешащими с базара, и продавцы случайного товара с рук, которые начинали попадаться далеко еще от рынка, и приплясывающие вблизи толкучки пильщики дров с посиневшими носами. Все было самым обыкновенным, до скуки привычным и, казалось, теперь уже неизменным на долгие годы. И все-таки он повернул и решительно пошел прочь.
В обратном направлении миновал угол, где он сворачивал, деревянный щит с объявлениями, возле которого повстречался с Галкиным, низкую решетку лежащего в поблекшем снегу садика, ворота дома и двор.
Он отворил двери своим ключом. Вызывая недоумение Марии Кондратьевны, которая была на кухне, прошел к себе, снял с плеча баян и осторожно опустил его на пол. Потом присел на табурет, снял фуражку и, вздохнув, вытер ладонью выступивший пот.
С какой-то неясной надеждой он прислушался. Нет, Ани не было дома. Теперь она находилась здесь редко, а сейчас и вовсе пропала. Будто съехала с квартиры. За стеной тишина. И старуха ушла из кухни. Во всей квартире тоскливая тишина. Помяукает где-то в коридоре просящаяся на улицу кошка — и снова тихо.
Несколько минут посидел так, не двигаясь и ни о чем не думая. А может, за эти минуты передумал так много, как не приходилось никогда раньше? Потом почувствовал, что не может больше быть здесь один. Вдруг вспомнились кореши из морской пехоты. И те, что теперь были неизвестно где, и те, кого давно не было в живых. Подумалось страшное: какое же хорошее было для него время, эта всеми распроклятая война, когда он ни минуты не был один и ничего не боялся, потому что знал — нужен. Без него не обойтись никому, всей стране…
Глупые были мысли. При чем тут война… Война — прошлое, и он на ней — прошлое… Только не мог он больше один в этой комнате с тусклым светом через окно. Не мог… Не было у него сил.
Алексей поднялся, застегнул бушлат и, нацепив фуражку, направился на лестницу.
Выйдя со двора, он свернул в обратную сторону той, в которую ходил каждый день. Легко — ноши-то обычной за спиной не было — прошагал мимо бани и вскоре вышел на Невский. Здесь он повернул направо и двинулся к вокзалу, совершенно не зная, зачем туда идет.
Не доходя площади, остановился. Напротив, на углу, высился забор, оклеенный афишами. Алексей знал — здесь должна быть построена станция метро. Но пока что еще не виделось ничего, а над забором возвышался огромный плакат: «Сделаем город Ленина краше, чем прежде». Возле забора какие-то женщины продавали цветы. Не цветы, а просто зеленые веточки. Да и в самом деле, какие сейчас могли быть цветы, откуда!
На Невский с обеих сторон Лиговской улицы со звоном сворачивали трамваи. Свистя колесиками по проводам, их обгоняли троллейбусы. Один вот из таких сейчас ведет его Анька. Он так и подумал: «Моя Анька». А с какой стати, собственно, его? Алексей зашагал через площадь к вокзалу. Наверно, только что пришел дальний поезд. От вокзального здания, растекаясь по трамвайным остановкам, шли люди с чемоданами, баулами, корзинами. Неказистой у многих была поклажа. Алексей заметил: какое еще множество было среди них в военном обмундировании! Одетые по форме офицеры, и офицеры уже без погон донашивали зеленые шинели военного времени. Эти, видно, спешили по домам, втаскивали с передних площадок бывалые, потертые чемоданы. Были тут и демобилизованные солдаты с вольно расстегнутыми бортами зеленых армейских бушлатов. Толпились и девушки. Кто в военной шапке, обвязанной сверху цветастой косынкой, кто в шинели, а на голове платок, иные в ватниках военного происхождения и армейских сапогах. Толпа была шумной и оживленной. Алексея поминутно спрашивали:
— Морячок, не скажешь, как добраться до Гатчины?
— Кореш, где военная комендатура?
— Не знаете, как ехать на Васильевский остров?
Знал он, в общем, не так уж много и, когда толкового ответа дать не мог, советовал обращаться к старикам, которых на улицах хватало.
Он дошел до вокзала и постоял с той стороны, где вокзал выходил на Лиговскую. С интересом смотрел на штурмом бравшиеся передние площадки трамваев. Стоял и думал о том, как давно для него кончилась война. Полагал, что и вообще для всех она прошлое, а вон ведь только сейчас выпускала из своих цепких рук этот стосковавшийся по дому народ. И вспомнился недавний утренний разговор с Галкиным у щита объявлений. Зря, кажется, беспокоился его сосед. Найдется еще кому поработать. Вон сколько здоровых рук цепляются за вагонные поручни.
Так же бесцельно, как прежде, он пошел по Лиговской улице. Вспомнил, что сегодня был день, когда действовала барахолка на Обводном канале. Не раз его туда таскал с собой Санька Лысый. Наверно, и сейчас он там. Поехать, что ли, туда? Все равно нечего делать.
Все же решил пройтись пешком хоть одну-две остановки. И как раз выглянуло солнце. Пригрело теплом. По широкой, с высаженными посередине ее липами улице идти было легко и весело.
Так шел он вперед, никуда не спеша и забыв на время о своих горестях. Не обращал внимания на проносившиеся навстречу грузовики и на брызги, которые долетали до его брюк. Нет, он не шел на барахолку. Просто ему надо было куда-то идти, и он шел.
Неожиданно в нос ударило аппетитно-раздражающим запахом печеного хлеба. Он замедлил шаг и остановился. От удовольствия закрыл глаза. Запах горячего хлеба напомнил далекое: морозное утро в деревне. Он еще спит, в избе тепло. Давно затоплена печь. Теперь согрелись даже стены и можно откинуть полу старого отцовского полушубка. Пекут хлебы. Глаза Алешки закрыты, но он видит эти хлебы — пышные, серо-коричневые, с растрескавшейся коркой, обсыпанные сверху мукой. Ничего нет лучше горбушки с обжигающе горячим мякишем. Вспомнились и теплые буханки хлеба в дни, когда завозили их из пекарни прямо в часть. Такого хлеба моряки съедали больше положенной нормы. Хороший был флотский хлеб. Помнил он и другой хлеб, на «пятачке», — твердый, белый от инея, как расколотый булыжник. Тот хлеб рубили топором, кое-как отогревали и ели, так и не понимая, из чего он испечен.
Хлеб! Хоть и просидел Алексей всю блокаду на «пятачке», хоть и старалось командование, чтобы моряки силы не потеряли, а знал он, что значит хлеб для тех, кто оставался в городе, кто получал его одно время — в самый раз накормить пару голодных синиц. И что это был за хлеб? Теперь, говорят, такой только в Музее обороны города. Лежит на тарелке весов эта порция, чтобы никто о том кусочке, о тех днях не забывал.
Хлеб! Вот он. Самый его нормальный запах. Алексей даже улыбнулся, не открывая глаз. Пахнет, как тот, деревенский. Нет, скорее похоже на флотский.
Он открыл глаза. Показалось, очнулся от короткого чудного сна.
Откуда шел теплый запах хлеба?
Алексей стоял на тротуаре против булочной. Это была одна из самых больших булочных в городе. Две огромные витрины под сводами гранитных арок отгораживали ее от улицы. В одной из арок находилась дверь. Она поминутно отворялась и затворялась. Люди входили в булочную и выходили из нее, неся свежие буханки. Но нет, запах был слишком сильным, чтобы пробиваться сквозь двери. Левее высилась третья арка-ворота — вход внутрь высокого серо-гранитного здания, выстроенного незадолго до войны. Справа от входа поблескивала стеклом небольшая вывеска: «Хлебозавод Фрунзенского района». Вот откуда шел по улице этот нестерпимо влекущий к себе запах горячего хлеба.
Люди шли мимо. Иные из них спешили. Другие шагали неторопливо, и все непременно либо замедляли шаг, либо на короткое мгновение останавливались.
— Хорошо пахнет, а, служивый? — сказал Алексею остановившийся возле него старик, вероятно заметивший замешательство моряка.
Сказав это, старик пошел дальше. Что касается Алексея, то он будто прирос к месту. Он запрокинул голову и смотрел вверх. Над заводской стеной плыли разодранные в клочья облака. Надо было идти, а он все стоял. И тут, рядом с дверью в булочную, он заметил щит, а на нем объявление, какие теперь попадались на каждом шагу в городе:
«Внимание демобилизованных из рядов Советской Армии! Хлебозаводу требуются…»
Он подошел ближе и стал читать объявление.
Много кто требовался заводу. Среди других значился и мастер-кондитер. Дошли, значит, и до кондитера. Пришло время. А вот монтер, электрик не требовались. Почему не требовались?.. Он же знал. Ему кругом твердили: с вашей специальностью сейчас… Да, вот и Галкин недавно… Галкин!.. Да ведь он же должен работать здесь, на этом заводе. Ну конечно же, сам говорил: тут поблизости… И, еще не отдавая себе полностью отчета в том, что задумал, Алексей решительно шагнул под арку.
— А ну, Глеб Сергеевич, поглядим, как вы отвечаете за свою агитацию, — проговорил вслух.
За аркой проходная. Сидит толстая тетка в военной шапке. Алексей — к ней.
— У вас тут работает товарищ Галкин? Начальник финансов, что ли?
Тетка пожала плечами, заинтересованно посмотрела на Алексея.
— Какой такой начальник финансов? Главный бухгалтер Галкин. Такой есть.
— В точку. Он самый. Можно до него?
— А вам зачем?
— Есть, значит, дело. Не козла, понятно, забивать.
Тетка опять взглянула на Алексея.
— Позвонить надо. Как ваша фамилия будет?
Указательный палец ее руки прошелся по списку служебных телефонов, лежащих перед ней под стеклом, и замер на трехзначной цифре.
— Алексей, скажите. Поморцев Алексей.
Вахтерша принялась набирать номер. Алексей ждал. По ту сторону провода сняли трубку.
— Товарища Галкина просют. Это с вахты говорят. Товарищ Галкин, к вам человек хочет пройти… Фамилия Поморцев… Алексей, говорит, Поморцев. Не знаю, по какому делу. Не докладывает… Так, так, хорошо. Пропустим.
Лестницу Алексей преодолел с необычной легкостью. Вот и коридор, табличка: «Гл. бухгалтер». Он взялся за скобу и толкнул дверь.
Глеб Сергеевич сидел в маленькой, заставленной шкафами комнате. На столе множество бумаг. Был он одет в знакомую гимнастерку. Встал навстречу Алексею.
Тот закрыл дверь и снял фуражку.
— К вам я, Глеб Сергеевич. Если нужны еще электрики… Помните, вы говорили… Там, у ворот, про мою специальность не написано…
Галкин все еще с интересом смотрел на Алексея. Потом, кивнув, сказал:
— Сыщется тебе работа, Алексей Прокофьевич, сыщется. Не беспокойся. Нам все теперь нужны. Цех фигурной выпечки восстанавливаем. Неважно, что там не написано.
Он протянул Алексею руку и добавил:
— Ну вот, значит, кончился демобилизационный период. Я ведь знал, что ты придешь. Ну, не к нам обязательно. Куда-нибудь, может, в другое место. Не могло быть иначе… Как же тебе дальше по-другому жить?
Санька Лысый искал Алексея.
Заходил в пивную. Говорили, что его нет уже третий день. Санька сокрушался, объяснял: до зарезу нужен. Ходил к Алексею домой. Один раз на звонок никто не вышел. Значит, в квартире Лешки не было, и вообще никого. Во второй раз повезло. Отворила старуха и сказала, что Алексея с утра теперь не бывает. Уходит куда-то спозаранку. Будто бы поступил на работу. Опять на работу? Санька не поверил. Спросил Аню, но и ее не было. Сходя с лестницы, Лысый думал: «Этого еще не хватало, неужели и верно работать пошел, дурак? Нет, быть не может!»
Затем Санька внезапно исчез. Не видно было ни в пивной, ни вблизи рынка, и на квартиру к Алексею больше не заявлялся.
А в живущей привычным порядком квартире были новости. Там затеяли на коллективных началах ремонт кухни и коридоров. Материалы на побелку и окраску раздобыл Галкин через ОРС своего завода. Долго искали маляра, чтобы был не пропойца с улицы, а человек, которому можно довериться. И подходящий маляр был найден. Он приходил в квартиру, качал головой, говорил какие-то отпугивающие слова про то, что потолки только мыть надо неделю, и прочее, но в конце концов о цене столковались. Мастер ушел, сообщив, что начнет работать в субботу, придет вместе с женой — своей помощницей — и потребовал, чтобы к субботе кухня и все остальное было освобождено от лишнего.
Предстоящее обновление мест общего пользования обрадовало живущих в квартире женщин. До чего же им мечталось увидеть хотя бы кухню очищенной от блокадной копоти, с побелевшим потолком и заново выкрашенным полом, с которого исчезнет след кирпичной буржуйки, выложенной в первую военную зиму и сломанной лишь в прошлом году.
Но главным событием последних дней было что-то непонятное, случившееся в жизни обитателя комнаты рядом с кухней.
Началось это с утра после той ночи, когда квартира была разбужена шумом, происходившим в Аниной комнате. Напуганные женщины ожидали, что теперь подобное будет повторяться. Но опасения оказались напрасными. Аня, наверно боясь новых скандалов, куда-то скрылась. Ну, а без нее что шуметь Алексею? Но то, что он стал покидать квартиру с рассветом, одновременно с другими мужчинами, а возвращался лишь на следующее утро и спал целый день… То, что вдруг перестал уходить из дому со своим баяном… То, что вот уже который день не брал инструмент в руки. Все это удивляло и сбивало с толку.
Спрашивать Алексея, что с ним стряслось, никто не решался. Сам он ничего и никому не докладывал. Понятным было одно. Уходил он с раннего утра не на гулянку и не шляться по городу, а возвращался — это каждому, кто его видел в эти минуты, было ясно — в состоянии той спокойной усталости, которая отличает немало поработавшего человека.
Был вечер. В кухне гремели посудой и двигали столами. Алексей вышел посмотреть, что там делается. Увидел, как хлопочут женщины, перетаскивают из кухни посуду и убирают все лишнее, догадался, что происходит, но на всякий случай спросил:
— Ремонт, что ли, будет?
— Будет, будет…
Женщины ответили чуть ли не хором, а затем загалдели, объясняя, почему именно сейчас необходим ремонт. Казалось, что они доказывают это вовсе не Алексею, а каждая убеждает сама себя в том, как вовремя и к месту они обновляют квартиру.
Алексей постоял, посмотрел на взбудораженных соседок. Похоже было на аврал. Весело авралили бабки. Снимали со стен полки и шкафчики. Домашнее барахло, которое не трогалось отсюда черт-те с какого времени.
— Помочь, может, что? — спросил он у Марии Кондратьевны.
Старуха отмахнулась:
— Да чего тут. Тяжестей нету. Сами мы… Иди уж.
А ему отчего-то не хотелось уходить. Алексей взглянул на ужас до чего черный потолок, на котором, как нитка паутины, провис такой же черный от копоти шнур, и вдруг сказал:
— Проводку менять никого не зовите. Я сделаю.
Сказал, повернулся и пошел в свою комнату. Закрыв двери, услышал, что в кухне затихли, да и как было не затихнуть… Женщины переглядывались — что же это такое происходит с беспокойным жильцом?
С Алексеем и вправду происходило нечто необычное.
Галкин сдержал свое слово. Неделю Алексей уже работал на хлебозаводе. Дежурный монтер-электротехник было его звание. Сгодилась приобретенная на флоте специальность. Ой, как еще сгодилась! И сам прежде не думал, что так может получиться.
Но до чего же было непривычно с утра не валяться на койке, а спешить на работу, идти в темный еще час по скользким, тускло освещенным улицам, вешать свой номерок и шагать через двор, а потом в дежурную, принимать смену… Жил он до сих пор в свое удовольствие — что захочу, то и делаю. А тут не успевал подняться в «дежурку», как уже вызывали. Нужен монтер то в один цех, то в другой, то в управление. И скакал Алексей по лестницам с чемоданчиком, которым на время снабдил его напарник.
Электрохозяйство было старое. Лишь кое-где проводку успели заменить, а так многое держалось, что называется, на честном слове. Горит свет, и ладно. Алексей к такому на флоте не привык. Вступал он в споры, требовал материалы. Были — давали, не было — выкручивайся, как хочешь, сам. И он научился выкручиваться. Что удавалось, чинил добротно и обстоятельно, как там, на флоте, когда от ремонта порой зависела и сама жизнь. За несколько дней новый монтер, бывший морячок, понравился и начальству, и тем, кто его узнал на заводе. Работали тут все больше женщины. Старые, пережившие голод работницы и молодые девчата из деревни или демобилизованные. Вскоре он заметил — иногда его вызывали, можно сказать, зазря. Позовут девчонки и скажут: «Погляди, пожалуйста, искрит вроде у нас…» Он посмотрит. Ничего не искрит. Тогда стал понимать — звали из озорства, желая поглядеть на него, что ли… Решил он такие штучки пресечь в корне. Однажды сказал заигрывающим с ним девчатам: «Ничего тут нет. Одна трепотня. Еще раз напрасно вызовете — гореть будете, не приду».
Поймал себя на мысли вскоре, что на кого ни посмотрит из заводских молодых женщин, невольно сравнивает их с Аней, и всегда в ее пользу. Аня лучше, так думалось постоянно, и вообще, черт знает почему, о ней думалось все время. Идет он утром по переулку, навстречу спешат навьюченные бидонами молочницы, а он думает о ней. Стоит на стремянке где-то под потолком, зачищает концы для соединения — и опять мысль: «Где же она, куда делась?» В столовой сидит в ожидании щей, жует свежий хлеб, а в голове опять Анька и тот, будь он неладен, вечер, когда он поднял шум… Гнал он ее из головы, хотел забыть. Нет, не получалось. Думалось о ней и денно и нощно. Сам не понимал. Никогда еще такого с ним не случалось. И тревожное приходило в голову. Ну а если она совсем не вернется, съехала с квартиры? Не найти ему ее. А возможно, и вообще она с другим. Становилось от этих мыслей не по себе.
Но еще хуже бывало дома.
Лишь оставался у себя в комнате — только и прислушивался. Хлопнет дверь с лестницы — не Анюта ли это вернулась? Придет Алексей домой с работы и снова слушает, нет ли ее у себя, а может, она приходила, пока его не было. Появилась в ту ночь, когда он поднял аврал, и с тех пор снова исчезла. Спугнул он тогда их с подружкой, как пташек.
Пробовал в такие минуты опять взяться за чтение, но не читалось. Вынимал из футляра баян — редко стал брать его в руки, — пробегал пальцами по кнопкам, да что-то не игралось. И баян опять укладывался в футляр.
И такая вдруг брала тоска, хоть беги, было бы куда бежать. И понимал тогда, что лишь один человек мог бы сейчас его понять. Отругать за дурость, а потом простить и приласкать, позабыв старое. Была этим человеком Анька — Анюта. Ну разве не порадовалась, не улыбнулась бы тому, что поставил он себе заслон на пути в полуподвал на Кузнечном и носится с утра с контрольной лампой по хлебозаводским цехам?
А тут еще подкатило.
С чего это началось? Ведь, кажется, совсем позабыл о своей прежней деревенской жизни, а тут… С тех пор, как тогда вдохнул запах печеного хлеба, будто такого же, с горячей ломкой горбушкой, которого ждал от матери, когда она пекла хлебы. Не давали покоя, все вспоминались Анькины слова: «Мать у тебя есть?» И стыд. Казалось, совсем потерянный стыд врезался в душу. Как же он так? Словно и не было у него никого на свете, кто о нем думал. Мать. Она-то как же? Может, ждет его не дождется. В деревне, верно, его уже схоронили. Числят в пропавших без вести. Не один он такой оттуда. Но мать не числит. Мать, понятно, надеется, что жив. Глядит, наверно, в окошко на хромого почтаря дядьку Филарета, нет ли ей чего от Алешеньки, а он вон тут здоровехонек.
Здоровехонек?!
Потому ведь и не писал ничего, что считал себя теперь к делу негодным. Со злости тогда перестал посылать домой бумажные треугольники. Не хотел возвращаться инвалидом. Вот, если б с победой, как старики говорили: грудь в крестах. А такой… Кому он был нужен такой? Только чем дальше шла жизнь, тем все больше понимал Алексей: а ведь нужен еще, нужен. Вон и на хлебозаводе оказался нужен, и еще как! Кто его уверил в том, что он человек конченый? Не Санька ли Лысый? Нет, тот говорил, из инвалидности можно свою выгоду извлечь. У Саньки это, как и все, по-подлому. С Санькой было теперь отрезано навсегда. Ну его к чертям! Видеть его хитрой рожи больше не хотелось.
И опять думалось: «Мать-то, конечно, ждет».
Как-то вышел у них разговор с Галкиным. Встретились в обеденный перерыв в столовой. Сидели за одним столом. Оба ели винегрет. Небогатый был выбор закусок в заводском буфете. Зато хлеба уж давали достаточно.
— Ну, как работается? — спросил Глеб Сергеевич, когда с винегретом было покончено. Ждали, пока им принесут суп.
— Работаем, — отозвался Алексей. — Делаю, что положено.
— Не трудно?
Алексей искренне засмеялся:
— Чего же тут трудного? Ржавые ящики с рубильниками на новые менять. Это, Глеб Сергеевич, нам не задача.
Помолчав и о чем-то подумав, Галкин сказал:
— Завод наш — один из городских первенцев. Год-два, и начнем его переоборудовать. Придет время — перейдем на полную автоматику. Никакие кренделя тогда никто здесь руками не станет лепить. Идет уже о том разговор. Назначена специальная комиссия.
Принесли суп. Ели молча. Алексей опростал тарелку быстро. Галкин помедленней. Когда и его тарелка опустела, продолжал, как бы вернувшись к прерванному разговору:
— Я вот к чему. Хотел сказать, что тогда, после реконструкции, все у нас будет электрифицировано. Самая главная фигура станет здесь электрик.
— Высокой квалификации понадобятся люди, — согласился Алексей, понимая, что речь идет об инженерах и техниках. Хотел этими словами объяснить, что, разумеется, он тут ни при чем. Его дело скромное — монтерское.
Но Галкин, оказалось, начал разговор неспроста. Поднял голову, поглядел в упор на Алексея и спросил:
— Где же мы возьмем этих, высококвалифицированных, с улицы позовем, что ли? Свои кадры нужны.
Вместо ответа Алексей пожал плечами, а про себя подумал, что Галкин-то вовсе был не таким замкнутым, как показался ему поначалу в квартире.
— Сколько тебе лет, Алексей?
Он называл его на «ты», и получалось это у Глеба Сергеевича как-то естественно. На «ты» обращались к нему и другим ребятам на фронте их командиры, и не было в том ничего обидного. Даже так считалось: если заговорил вдруг комбат с тобой на «вы», что-то тут, значит, неладно. Чем-то он недоволен. Неспроста это «вы» появилось, хоть и было уставным. И потому сейчас обращение Глеба Сергеевича на «ты» обрадовало. Повеяло чем-то знакомым, уже позабытым. Алексей поспешно ответил:
— Двадцать пять. Двадцать шестой уже…
Галкин улыбнулся, потом опять стал серьезным и, как бы думая о чем-то своем, продолжал:
— Квалификация у тебя, конечно, есть. Монтер ты, говорят, хоть куда, только что же тебе на том останавливаться… Жизнь теперь, после войны, пойдет… За ней лишь поспевай.
Алексей понял — вон куда клонит.
— Так у меня же образование… — несколько растерянно продолжал он. Но Галкин, казалось, только того и ждал.
— Ну, понятно, образование у тебя невысокое, — закончил тот как бы за Алексея.
Потом поговорили еще о разном. Когда Галкин поднимался из-за стола, он, будто невзначай, бросил:
— А что касается образования, так оно во сне не приходит, а голова у вас, Алексей Прокофьевич, на плечах, и, по-моему, ничего голова.
Так и разошлись. Больше между ними в те дни разговора не было, хоть встречались в квартире. Но сказанное Галкиным не забывалось. Нет-нет да и подумывалось Алексею, верно ведь сказал сосед: голова — не нога, голова у него в порядке, и руки тоже действуют как надо. Что, если и верно взяться без дурости за ум, пойти получиться?.. Может, и не поздно еще? А сумеет ли, вытянет ли он? Ведь отвык учиться… С кем бы посоветоваться? И опять подумалось об Ане. Будь бы она здесь, рядом, она бы уж обязательно рассудила, что делать. Чуткая она, умная…
Но Ани не было.
Пришел день. Алексей решился написать письмо домой.
Не мог больше молчать. Получалось — словно скрывался. Возвратится ли он к себе в деревню, съездит ли на побывку — неизвестно, но о том, что жив и здоров, написать время настало. Тем более что теперь он при деле и на инвалидное положение жаловаться нечего. Демобилизовался, дескать, работает, как другие, и все тут.
Зашел как-то на почту и купил несколько листков почтовой линованной бумаги. Жесткая была бумага, сине-серого цвета. Не письма писать, а селедку заворачивать. Но другой бумаги не продавалось. Ладно, решил, сойдет и такая.
Взял и конверт с маркой. Хотел тут же присесть за стол рядом с другими. Писали люди куда-то письма. Но, подумав, на почте этого делать не стал. Что и как написать, сразу и не сообразишь. Сложил листки пополам, меж ними конверт, чтобы не мять ни того ни другого, и понес все это почтовое хозяйство домой.
Алексей попросил у Марии Кондратьевны чернил и ручку. Знал, что старуха получает письма и сочиняет на них ответы.
Мария Кондратьевна отозвалась охотно, вынесла ему старинную чернильницу без крышки, на подставке из черного мрамора, с бронзовыми ножками, а ручку, в противоположность тому, самую современную, тоненькую, школьную.
Отнес это все Алексей к себе в комнату и поставил на подоконник. Пододвинул к нему табуретку и, усевшись, принялся было писать. Обмакнул перо в чернила, поглядел на него, чтобы не накапало на бумагу, и вывел над верхней линией голубоватого листочка:
«Здравствуйте, мама!»
И вдруг мелькнула тревожная мысль. Незнакомо защемило сердце. А жива ли она?.. Да нет, конечно жива. С чего бы!.. Мать совсем была еще не старой. Живет и ждет не дождется от него вестей. Пора, давно пора отозваться.
Подумал и продолжал:
«Пишет вам, мама, пропавший ваш сын Алексей и очень извиняется, что не подавал так долго о себе никаких сведений. Была тому, мама, серьезная причина. Я был ранен немецко-фашистским снарядом, и никто не знал, выживу ли. Ну, что было писать. Только вас зазря пугать. Лучше было числиться в пропавших без вести.
Болел я долго и все думал, как полегче станет, так и напишу вам. Чтобы уже не было вам большого беспокойства и слез».
Алексей оторвал руку от бумаги и тяжело вздохнул. Письмо шло трудно. Должен был и мог бы написать давным-давно. Но разве было ему что писать? Разве мог он сообщить матери, в каком находится положении, и написать про жизнь, которую вел? Нет уж, лучше пусть мать про то ничего не узнает. Сгинул вроде с глаз. Ничего о нем не известно. Так-то ей, может, и легче ждать и надеяться.
Посидел еще. Поглядел через запылившееся стекло на небо. Медленно плыли над колодцем двора серые облака. Те, что потемнее, бежали ниже и быстрее. Светлые повыше шли, медленней. На миг пробилась брешь с голубой полыньей неба и тут же затянулась туманной пленкой.
Снова обмакнул перо и начал новую строку:
«А теперь я, мама, вполне здоровый…»
Про инвалидность свою и вовсе решил не писать ничего. К чему?.. Мало ли домой вернулось инвалидов. Что он за особенный! Вон и по лестнице бегом скачет. Усмехнулся. Сам удивился своим мыслям. Ведь еще недавно скажи бы кто-нибудь ему такое — ох и дал бы он тому жару!
«Медицина меня вылечила, мама. Живу я в городе Ленинграде, за который…»
Хотел Алексей написать «проливал кровь», но остановился и написал:
«…за который воевал и сдерживал поблизости его врага почти всю блокаду. А какое тут положение было, вы теперь и сами знаете, потому что это больше не секрет и про все, что люди здесь пережили, теперь передают по радио…»
Писать стало легче. Алексей продолжал:
«Сейчас я демобилизованный военный моряк, а работаю по специальности электрика, которой обучился на флоте. Понятно, тут работа другая, но все же, чему учили, пригодилось, и монтерить вполне могу. А если захочу, мама, то повышу свою техническую специальность…»
Перестав писать, он представил себе, как мать дрожащими руками раскрывает конверт и читает его письмо. Увидел, как потом она ходит с письмом по домам и читает вслух соседям, утирая глаза и делясь тем счастьем, что он, ее Алешка, жив и вот находится в Ленинграде, работает монтером, а в дальнейшем…
И тут Алексей задумался. А что в дальнейшем?.. Что с ним будет дальше?.. Так и покатится его одинокая жизнь. Если бы мог написать матери, что он теперь не один, женился и как-нибудь соберется погостить со своей женой.
С кем это он поедет, с какой женой?
Анька! Она, конечно. Только она. Ведь решил же, говорил ей, что все — никого ему больше не надо. Неужели не поймет его, не простит той дурости? Должна понять. Обязательно должна. Знает же, не так он к ней, что покрутить — и в сторону. Не может она не понимать, что хочет он с ней всерьез, так, чтобы рядом в жизни.
Встал, заходил по комнате. Не было сил больше ждать.
Найти Аньку. Найти! Увидеть сейчас же! Во что бы то ни стало отыскать обязательно, где бы она ни пряталась. Сказать ей все, что думает. Ну чего она дичится? Зверь он, что ли?!
Опять подошел к окну и снова посмотрел на небо. Все так же куда-то бежали и бежали смешавшиеся облака, только голубые разрывы виднелись теперь чаще.
И тут он окончательно понял, что не сможет дальше продолжать письма матери, пока не увидит Аньку и не выложит ей всего. Всего того, что сейчас сил нет как ему необходимо ей сказать.
Найдет ее. Не Алешка он Поморцев, если не найдет!
Не прошло и четверти часа, он шагал в сторону Невского. Точного плана поисков еще не было, но он знал, что найдет Аню. Найдет, чего бы это ему ни стоило. Не мог он жить дальше, не повидав ее.
Знал — Анька водит первый номер троллейбуса. В нем ее и нужно искать. Может, и повезет ему.
Добрел до проспекта и перешел на его солнечную сторону. Скользил под ногами покрытый прозрачной корочкой растрескавшийся асфальт. В воздухе легкий морозец. Алексей шел, твердо ступая. Он так научился ходить на своем протезе, что не сразу заметишь, что нет ноги. Хромает человек, не больше того.
Подходили к остановке троллейбусы, тяжело тормозили. От торможения их заносило вправо. Туго надутые колеса глухо ударялись о гранитный борт тротуара. Троллейбусы замирали, скрипели и дребезжали бывалые двери. Выходили и входили пассажиры: Троллейбусы рвали с места, искря колесиками у проводов, бежали дальше по проспекту.
Уж три первых номера прошли мимо Алексея. Он стоял в стороне и вглядывался через ветровое стекло в лица водителей. Анюты за баранкой видно не было. Еще один… Нет, за стеклом тонколицая женщина в меховой шапке с висячими серьгами. И что вырядилась! Опять подряд два первых. Нет, не она, не видно Ани, не видно.
Он порядком продрог. Теперь уже заодно не пропускал и другой маршрут. Могли же и пересадить ее на другой маршрут. Кто их там знает… Но нет, не виделось и там. Алексей принялся подсчитывать, сколько времени нужно троллейбусу, чтобы пройти от точки до точки. Еще минут десять для стоянки на кольце. Долго ли нужно стоять здесь, чтобы понять, чтобы убедиться — это не ее смена. Тогда он уйдет и вернется сюда же вечером. Подсчитать было нетрудно. Решил ждать, пока перед ним снова не поедут те же водители. Стал внимательней вглядываться в сидящих за баранкой, чтобы узнать, когда те же, что были, проедут остановку. В промежутках, пока троллейбусов не было, согревался, прохаживался вдоль стены дома, где была сосисочная. И тут вдруг увидел: из сосисочной вместе с паром на проспект выплыл Санька Лысый с каким-то типом в пальто с меховым воротником. Вид Санькиного знакомого был солидный — откуда такие связи? В руках небольшой чемоданчик. Он что-то говорил Лысому, и тот, вслушиваясь, мелко кивал головой. Алексей отвернулся и стал рассматривать через стекло людей, сидящих за столиками в сосисочной. Чего ему сейчас никак не хотелось, так это встречи с Санькой. В отражении стекла он увидел, как Лысый и человек в шубе прошли за его спиной. Санька его не заметил. Меж тем к остановке подходил еще один троллейбус. Алексей обернулся — первый номер!
Хоть и ждал он этой минуты и надеялся на нее, а тут вздрогнул. За ветровым стеклом троллейбуса сидела Аня. Не было никаких сомнений — она! Ее русые волосы до плеч под солдатской шапкой. Ее застегнутое на большие пуговицы пальтишко и знакомый голубой шарфик на шее.
Подкатила к остановке и, продолжая глядеть вперед, отворила двери. Троллейбус ровненько подошел к самому тротуару, и его ничуть не занесло. Алексей метнулся за спины пассажиров и, хотя имел право на вход с передней площадки, устремился в хвост вагона. Главным было, чтобы она не увидела, что он сядет в троллейбус.
Но что это, почему не все входят в машину? Возле задних дверей происходила какая-то сутолока. Он услышал, как кондукторша объявляла:
— Граждане, вагон идет только до Штаба!.. Только до Главного штаба… Садитесь в следующий…
Пробившись через замешкавшихся, он все-таки успел ухватиться за поручень и вскочить в троллейбус.
— До Штаба только едем, — повторила кондукторша.
Ему не надо было брать билеты, и он прошел вперед. Внезапно сделалось жарко. Как-то незнакомо щемило в груди. Алексей подошел к кабине. Теперь перед ним была дверь, отделявшая водителя от пассажиров. Он видел руки Ани, державшие троллейбусную баранку. Дешевенькое колечко с синим камнем засветилось на одном из ее пальцев, отражая пробившийся сквозь облака в троллейбусное стекло солнечный луч. Ноги Ани в поношенных и, как всегда, старательно начищенных сапогах нажимали большие закругленные педали. Он испытывал чувство какого-то раньше неизвестного ему страха. Шли секунды, троллейбус неторопливо катил по уже начавшей оттаивать дороге. Впереди улицу не на месте собралась переходить какая-то пара. Он — в офицерской шинели. Она — в кожаном пальто и шапке-папахе. Аня дала сигнал. Молодые люди замерли на месте.
Заметила ли она его? Должна была заметить. Перед ее глазами было зеркальце, позволявшее наблюдать за тем, что творилось в троллейбусе. Он продолжал стоять и следить за каждым ее движением. Видел носки ее сапог, коленки в серых чулках в резиночку — пальто внизу распахивалось, и юбка доходила лишь до коленок. Видел ее руки… Знакомые ее руки. И тут заметил, как вспыхнула ее до тех пор бледная щека. Она увидела его, узнала.
Алексей взялся за ручку дверцы. Дверца оказалась не запертой изнутри. Он повел ее влево и раздвинул. Теперь между ним и Аней не было никаких преград.
Именно в этот самый момент троллейбус затормозил на перекрестке и стал. За спиной Алексея столпились люди, собиравшиеся выходить у Литейного проспекта.
— Анюта! — позвал Алексей.
Она не обернулась, хотя сейчас могла бы, но, как ему показалось, щеки ее запылали ярче.
— Анюта, — повторил он, — это я.
— Затвори двери, — сдавленно сказала она, по-прежнему не оборачиваясь. Зажегся зеленый фонарь светофора. Аня нажала на педаль — троллейбус двинулся к остановке.
Пассажиры выходили на тротуар. Кондукторша громко сообщала, что троллейбус идет только до Штаба. Алексей продолжал стоять за спиной Ани.
Лишь тронулись с места, он снова взялся за скобу дверцы. Ведь Аня не заперла ее.
— Анюта, — повторил он. — Забудь. Я не могу без тебя… Ну куда ты подевалась, в самом деле!
Она не отвечала, но теперь не затворяла дверей. Он надеялся — сейчас будет перекресток у Аничкова моста и он успеет сказать ей все, что надо было сказать. Но мост, как нарочно, проскочили с ходу. Троллейбус уже приближался к Садовой улице.
— Анюта, а Анюта, вернись, — продолжал он. — Вернись, я человеком стану. Может быть, стал уже. Все, все теперь… Вернись, проверишь… Не могу без тебя.
За ним столпились те, кто выходил на Садовой. Алексей посторонился, пропуская пассажиров. Как он их сейчас ненавидел! Ведь говорят же людям, что не идет. Нет, лезут и лезут… Больше всего он боялся, что Аня сейчас возьмет и запрет двери. Но она не сделала этого, и, лишь поехали дальше, Алексею прибавилось смелости.
— У нас в квартире ремонт замыслили. Вот тебя только ждут, — неизвестно зачем выдумал он, снова заполнив собой узкий проем дверцы.
И тут увидел, как дрогнула зарозовевшая щека. Не оборачиваясь, Анька улыбнулась:
— Для того и искал меня?.. Послали новость сообщить?
Он было чуть не взорвался. Кто его пошлет! Такого не дождутся. Не знает его, что ли? Но тут же понял — она из озорства. Позлить его малость… И верно, уже перестала улыбаться. Тряхнула рассыпанными по спине волосами и совсем не смешливым тоном сказала:
— Врешь ты все. Не верю я тебе. Затвори двери.
— Не затворю. Не гони ты меня, бесчувственная… Я матери письмо написал. И про нас с тобой написал. Не могу без тебя, слышишь, Анька?!.
— Это я-то бесчувственная? Матери написал, что человеком стать собираешься? Напиши. Обмани и ее тоже.
— Морячок, а морячок! — закричала с хвоста кондукторша. — Ты чего там увлекся… С вожатым разговаривать не полагается. Выходить пора. Дальше не едем.
В этот самый момент, воспользовавшись короткой остановкой, Аня резко обернулась:
— Домой приду. Нужно мне домой все равно…
Но Алексей не слышал этих слов, не вникал в них. Он понимал одно: значит, придет, придет. Нужно ждать. Она велит ему ждать. Он дождется… Втиснулся грудью в кабину, только и спросил:
— Скоро?
Ответила:
— Не знаю. А теперь выходи. Ну, быстрее… Нельзя тут.
И раскрыла перед ним механические дверцы. Нарушая закон, раскрыла не на остановке троллейбуса.
Не скажи бы она последних слов, показалось бы, что гонит, не простила и не простит, а эти «нельзя тут», может быть, и не зачеркивали его объяснений…
Он выскочил на дорогу. Дверцы затворились, и троллейбус взял с места. Алексей стоял на дороге, глядя вслед машине. Через стекло на него, не понимая, с чего он тут вышел, удивленно смотрела кондукторша.
Выждав момент, он зашагал к тротуару. Солнце, освободившись от облаков, по-весеннему прогревало стены проспекта. На потускневшей, облупившейся краске кое-где еще бледнели трафареты «…во время обстрела… сторона… опасна». Никто не обращал внимания на стершиеся слова. Люди не спешили, радуясь редкому солнцу. Лед на тротуарах подтаял, превратившись в слой грязноватой кашицы. Шагать можно было без предосторожностей.
В квартиру со своими захваченными наспех пожитками Аня вернулась на утро следующего дня. Ахнула, зайдя в кухню и увидев еще синеющий непросохшими белилами потолок. Шел ремонт и в коридоре. Там на одной из стен были уже наклеены дешевые, в цветочек, обои.
Дома была одна Мария Кондратьевна. Встретила она девушку приветливо. Из любопытства спросила:
— Где же пропадала-то? Вроде редкого гостя у нас стала. Видишь, чего без тебя затеяли?
— Неудобно, что без меня, — сказала Аня. — Я и не знала. Я во всем буду участвовать. Нехорошо. Вы и мое, вижу, переносили.
— Э, да чего тут твоего-то… Много нажила? — рассмеялась старуха. — Я твое в стол сложила, на него газетку, и все. Новости у нас есть, Анна.
— А что? — насторожилась девушка.
— Газ будут проводить. Вон гляди, уже пометили, где плита. Две у нас поставят. Жарь, пеки…
Она умолкла, пережидая, пока Аня с интересом смотрела на непонятные знаки, начерченные на стене газопроводчиками. Потом старуха продолжала:
— И еще новое. На работу пошел наш-то, — она кивнула головой, указав глазами на дверь комнаты Алексея. — Не знаю уж, надолго ли. И спрашивать боимся, не сглазить бы, — снова помолчала. Но распирало, видно, желание поговорить. Может быть, и было теперь у нее, одинокой, это единственным удовольствием. Летом хоть на скамеечке во дворе со старухами посидишь, а зимой, на морозе, какие разговоры. Задумавшись, она продолжала: — Парень-то он не богом проклятый, нет… Война искалечила. Вот и мечется, мечется. Себя терзает и других обижает… А поглядеть, злобы в нем нет. Так, петушится от обиды на жизнь. Не сгорит от водки, так выберется. Видела я таких после гражданской войны, и того хуже были, а потом ничего, сгладилось… Человеку одному, особо мужчине, жить вроде кошки бездомной. Дичают они… Вот что я тебе скажу, слабые они без женщины. Другой и скатывается.
Мария Кондратьевна вздохнула и, не ожидая, что по этому поводу скажет Аня, пошла к себе, тяжело переступая отечными ногами, каким-то чудом втиснутыми в совсем небольшие тапочки.
Аня осталась на кухне. Стояла и думала, просто ли так, от скуки, высказала ей все это Мария Кондратьевна, или, повидавшая много в жизни, она хотела дать понять, что вовсе не осуждает Аню за то, что она пожалела Алексея, а может быть, и наоборот — считает ее легкомысленной, не понимающей, что приласкать легко, распознать труднее.
Потом Аня пошла к себе. В комнате, пока ее не было, набралось пыли. Аня надела старую вылинявшую кофту-распашонку и стала вытирать пыль. В кухне звякнул колокольчик. Раз, два… Звонили осторожно. Аня прислушалась. Нет, это не Алексей. В коридоре скрипнула дверь. Мария Кондратьевна зашлепала на кухню. Аня слышала, старуха отперла двери. Недолго с кем-то говорила. Потом двери снова закрылись. Хлопнула вторая дверь. Мария Кондратьевна ушла к себе, и все стихло. Не прошло и пяти минут, послышался звонок с другой стороны, с парадной. Кто-то осторожно нажал кнопку пять раз. Ко мне! Кто бы это мог быть сейчас? Аня торопливо скинула старую кофту и натянула другую, получше. В двери снова позвонили. Так же осторожно пять раз.
Кто же это?..
Она заспешила в переднюю, щелкнул старый замок, который в квартире почему-то называли французским. Аня распахнула двери на площадку. Там стоял Санька. Тот самый Санька Лысый, как его называл Алексей, с которым они тогда явились в злополучный вечер. Аня сразу узнала Саньку. Был он в той же шинели. С улыбочкой приподнял плоскую кепчонку. В руке сжимал ручку небольшого чемодана с двумя замками, белеющими в тусклом свете лестницы.
— Приветствую, Анечка, — Торопливо заговорил Санька каким-то заговорщическим полушепотом. — Леши, понятно, нет. На работе… Вкалывает по восстановлению хозяйства. Честь героям труда!.. Я, понятно, к нему… Вот, надо чемоданчик пристроить. Можно, поскучает, а вечером я загляну к Лехе. Вечером-то будет, надо полагать…
— Нет, и вечером, наверно, не будет. Он сутками работает, с утра ушел, — сказала Аня.
Она не знала, когда ушел Алексей, но до чего же ей неприятен был этот заискивающе улыбающийся облизанными губами Санька! Что-то настораживающее виделось во всем его поведении, как он был сейчас не похож на наглого, самоуверенного, каким был в тот вечер. Казалось, что Санька откуда-то улизнул, но еще не чувствовал себя в безопасности. Он даже успел оглянуться в темноту лестницы, будто хотел удостовериться, что за ним не следят. За разговором он умудрился проникнуть в переднюю и потянул дверь, чтобы затворить ее за собой.
— Тогда позволите, Анюточка, у вас оставлю, — залебезил Санька, — смотаться мне надо срочно в одно место, так чтобы зря не таскать.
Он уж было собирался пройти в ее комнату, но Аня преградила дорогу.
— Я тоже сейчас уйду и приду не скоро.
— Ну и ладно. Успеется. Я вечером…
— И вечером не буду.
— Что за беда! Пустяки, так, тяжесть лишняя… Завтра загляну. Вы не беспокойтесь.
Видно было, что Саньке во что бы то ни стало хотелось оставить чемодан в квартире, и Аня поняла, скорее почувствовала, что ни в коем случае не должна его брать.
Санька Лысый устало и как-то затравленно вздохнул. Несколько секунд он молчал, будто раздумывал. Потом сказал:
— Ну, ладно. Я У него поставлю, у него не запирается, я знаю… Но у вас в квартире такой народ… Сомневаться не в чем… Ленинградская публика. Проводите меня, Анечка, чтобы никаких…
Он было уже хотел обойти ее и двинуться по коридору, но тут увидел, что Аня не хочет его пускать дальше передней.
— Нет, и у него теперь запирается, — глядя на Саньку в упор, продолжала Аня. — И ключа он не оставляет.
— Врешь ты все, — внезапно перейдя на «ты», проговорил он сквозь зубы.
Лицо из угодливого вдруг сделалось недовольным. В белесых глазах вспыхнул злой огонек.
— Ну, чего боишься, чего боишься! Говорят же тебе, что до вечера. Не сделаешь, Леха придет, ну и даст тебе…
Он поставил чемодан на пол.
Они были один на один в квартире, где находилась еще только старуха, но у Ани откуда-то достало смелости. Она видела — перед ней стоял тип, способный на все. Стоял и, глядя на нее, хотел запугать. Но именно потому, что он хотел ее запугать, Аня не испугалась.
— Забирайте свой чемодан и уходите, — нарочито громко сказала она. Так громко, что могли слышать и на лестнице — вторые двери оставались растворенными. — Берите, и все!.. Будет он дома, тогда сами договоритесь.
Санька вытаращил на нее глаза. Они были какими-то ненормальными. Наверно, хотел сломить ее упорство и этим сумасшедшим взглядом заставить слушать себя.
И как раз в эту минуту в коридоре появилась и встала вблизи выхода в переднюю Мария Кондратьевна, заинтересовавшаяся тем, что тут происходит. Как только Санька увидел старуху, он опять стал прежним, тихоньким и любезным. Скорее всего, в его планы входил разговор с Аней один на один. Он схватил чемодан.
— Ну, что же, раз нет, извиняюсь, конечно… — заговорил прежним тоном, — не обижайтесь, что потревожил… Был, как и не был. Потом наведаюсь, когда Алексей Прокофьевич будет дома.
Аня растворила дверь на лестницу. Санька ловко, воровски проскользнул в нее. Мягко звякнул замок. Аня затворила вторую дверь, но чувствовала, Санька еще не ушел. Он о чем-то раздумывал там, на площадке. Она напряженно вслушивалась. Наконец по лестнице простучали быстрые осторожные шаги, хлопнула внизу дверь на улицу. Ушел!
Аня пошла к себе. В коридоре все еще стояла Мария Кондратьевна.
— Кто это, приятель Алексеев, что ли? — спросила она. — Настырный какой. Я ж ему сказала — нет дома, а раз нет, к нему нельзя. Дак кругом сюда обошел… Знаешь его, что ль, ты, Анна?
— Знаю.
— Знаешь, так чего же чемодан не взяла?
— Не надо.
— А может, и верно, не надо, — легко согласилась старуха. — Кто он хоть, ведаешь?
— Знаю. Темный тип.
— А-а-а, — понимающе закивала Мария Кондратьевна, хотя тут-то, скорее всего, и не могла ничего понять. Была она от природы нелюбопытной и обладала тем врожденным тактом, который отличает простых русских женщин. Ничего больше не говоря, старуха тяжело вздохнула и пошла по коридору в свою комнату.
Аня вернулась к себе. Хотела было снять кофту и продолжать уборку, но против желания опустилась на стул и задумалась. Приход Саньки Лысого вызвал в ней тревогу. Что-то недоброе, подозрительное было в его появлении. Неужели и Алексей с ними?.. Может, бежать ей от него, пока не поздно? Да нет же, нет, не такой он… Ведь искал он ее. Каким она его увидела в троллейбусе!.. Поверила ему. Неужели зря? Что же ей делать, что делать?!
Мысли пошли вразброд, и чем Аня больше задумывалась, тем больше брал ее страх за Алексея. Вовремя ли она вернулась? Не слишком ли для них обоих поздно?
В тот же день Алексей должен был прийти домой утром. Но его попросил отработать до вечера напарник, у которого были какие-то неотложные домашние дела. Алексей легко согласился. Лучше уж коротать время на заводе, чем в одиночестве в своей комнате.
С работы он возвращался в одиннадцатом часу. Неторопливо шел по Лиговской улице. От нечего делать поглядывал на витрины редких магазинов. Витрины светились тусклым дежурным светом, и смотреть в них было нечего. Алексей пошел дальним путем, через Невский. И на проспекте в этот час уже было мало народу. Полупустыми двигались освещенные изнутри трамвайные вагоны. Огни фонарей желтой цепочкой уходили вдаль и терялись во тьме вечера. С площади свернула и, стрекоча моторчиком, побежала в сторону Литейного маленькая машина-такси. Были они еще редкостью. Парк такси состоял из трофейных лимузинов, низкорослых и тесных. Неуютным был Невский проспект в этот поздний час и ничем не манил Алексея.
Домой он поднялся по лестнице со двора и отворил двери. Прошли времена, когда приходил в первом часу, забывая ключи, и стуком будил всех квартирных соседей.
Алексей прошел к себе. Снял бушлат и хотел уже его повесить на гвоздь, когда услышал, как за стенкой кто-то передвинул стул. Аня!.. Значит, явилась. Алексей замер, не показалось ли ему? Но за стенкой Аня прошла по комнате. Конечно же она. Ее, только ее походка.
— Анюта!
За стеной молчали.
— Анюта, ты?
— Ну а кто же еще!
— Анютка!
Она была здесь, рядом. Слишком долго, казалось, идти по коридору, стучать ей и ждать, пока отворит двери. Не отдавая отчета в том, что делал, Алексей схватился за скобу забитой двери, еще недавно заклеенной им. Рванул на себя. Выскочил и ударился об пол загнутый гвоздь. Алексей уже был в Анютиной комнате. Потом, много позже, он не раз задумывался над тем, как на такое решился. Ведь она могла испугаться и закричать, и опять бы все пошло кувырком. Но Аня и не подумала кричать, а может, и не удивилась его выходке, потому что именно этого и ждала от него. В комнате прибрано. Лежала на столе раскрытая книга, и приглушенно звучала музыка из черной тарелки репродуктора.
— Делай, что хочешь, хоть милицию зови. Не уйду от тебя.
Вместо ответа улыбнулась, неожиданно спросила:
— Ну, послал письмо матери?
— Послал, — уверенно кивнул Алексей.
— Что написал?
— А-а, что…
Он не знал, говорить ли ей. Решился и продолжал:
— Женюсь, написал, вот что… Ну, а теперь гони, если хочешь… Матери наврал, последний тогда я подлец… Ну так прогоняй, если не так. Соседей зови, участкового, кого хочешь… Сам не уйду!
Заблестели Анькины глаза. Вдруг она весело засмеялась. Так весело, как, кажется, не смеялась при нем никогда. Потом, сдерживая смех, проговорила:
— Сумасшедший, ну сумасшедший… Ведь отворено. Жду тебя… — И, подойдя к нему, прижалась щекой к его груди, сцепив руки под подбородком. Смеха больше не было. Тихо, доверчиво заговорила: — Ждала тебя, ждала, Леша… Не обмани меня. Боюсь я, боюсь… Только и мне теперь без тебя не жизнь… — и шептала еще что-то бессвязное, пока он больно сжимал ее плечи.
Алексей плохо слышал Анины слова и совсем не вдумывался в их смыслу счастливый тем, что она здесь, с ним и не гонит, не отталкивает, что они вместе, вдвоем и теперь нет для него больше ни тоски, ни одиночества.
— Аня, Анюта… Анютка…
И так много слышалось в этом горячем повторении ее имени, что было, наверно, для Ани убедительней самых страстных объяснений и любовных клятв.
Прошло немало лет. Мне пришлось побывать на знакомой улице. Я тогда зашел в дом на углу, поднялся по лестнице и позвонил в неузнаваемо изменившуюся, обитую черной клеенкой дверь. Памятной дощечки с разъяснением, кому сколько раз звонить, не было.
Все же я решился нажать кнопку единственного звонка. Отворили сразу. Я уже начал было бормотать извинения, но в свете чисто оклеенного коридора узнал Марию Кондратьевну.
Она почти нисколько не изменилась, словно застыла на том седьмом десятке, который шел ей в тот наполненный квартирными событиями год.
По-прежнему словоохотливая, Мария Кондратьевна рассказала мне, что старых жильцов, кроме нее, никого здесь не осталось. Все они переселились в далекие, вновь выросшие кварталы города.
От Марии Кондратьевны я узнал, что Алексей с Анной поженились, что еще здесь у них родилась двойня и что назвали их Анной и Алексеем.
Старая женщина вздохнула.
— У них, — продолжала она, — ведь не все сразу по-хорошему образовалось. Он и потом еще, Алексей, случалось, куролесил. Доставалось с ним Ане. Только крепкая она оказалась. Не бросила его. Все выдержала. Можно так сказать: стеной встала и сумела отвадить его от всякой дряни. Да, повезло ему, непутевому, сделался человеком. Учиться ведь заставила. Маленькая такая, а настойчивая, самостоятельная, помните?.. Ничего не испугалась. Любовь у нее к нему. Забега́ла тут как-то. Он теперь мастером работает… Ничего, сказала, ладно живут. Да мне и говорить много не надо. Глянула я на нее — счастливая. Вы-то, может, и не узнали бы. Посолиднела. Не та девчоночка в пальто, из шинельки перекроенном. Ну и хорошо, что все так вышло… За Московскими воротами у них квартира. Дали ему от работы, так рассказывала.
Вот и все, что известно мне о дальнейшей судьбе Ани и Алексея. Что касается Марии Кондратьевны, то свое право жить близ Невского она отстояла со свойственным старым ленинградцам упорством.
— Я, — заявила мне Мария Кондратьевна, — весь ремонт в маневренном фонде переждала. Ни за что, говорю, в новые районы не поеду. Тут я свою молодость провела, тут и в блокаду мерзла, здесь и помру. Долго-то со мной и не спорили. Видят — старуха упрямая… Вот и вернулась к себе. А квартира теперь у нас маленькая. Всего еще одна семья. Люди хорошие, живем тихо. Иногда припомнишь, даже заскучаешь: сколько на кухне народу собиралось и разговоров разных…
С той последней встречи с Марией Кондратьевной снова прошли годы. Кто его знает — здравствует ли эта славная женщина, живая летопись старой квартиры?
Вот обо всем этом я и вспомнил на узкой улице вблизи Невского в ясный солнечный день, когда прикатил туда в блистающем лаком троллейбусе, который вела девчонка с лимонными волосами. Я вспомнил, о первом послевоенном годе, когда в буфетах продавали кофе с сахарином, по Невскому громыхал старый трамвай и люди радовались сумрачному ленинградскому небу, которое наконец можно было увидеть в окна через стекло, заменившее фанеру.
Но яснее всего в тот весенний день я вспомнил маленькую русоволосую Аню. Ее открытую, жаждущую тепла душу и то отчаянное упорство, с каким она боролась за свое трудное счастье.
Рассказать бы все это водительнице с лимонными волосами… Ведь на таком же месте в старом, гремящем железом троллейбусе когда-то сидела молоденькая Аня в голубой цигейковой шапке с темнеющим очертанием уже снятой солдатской звездочки.
СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
Доброй памяти Михаила Михайловича Зощенко
Глава 1 СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО
Петр Васильевич Рябиков направлялся в театр. По утрам он любил ходить туда пешком. Да и далеко ли? Под старыми липами мимо громады Инженерного замка, вдоль Кленовой аллеи, потом пересечь Садовую, а тут — рукой подать.
Сентябрь выдался на редкость сухой и солнечный. Не заржавей бы по-осеннему листья — ни дать ни взять лето. Да и нечастое в наших северных краях.
И настроение у Рябикова было светлым, почти безоблачным, если бы… Если бы не генеральная репетиция, на которую он шел.
Тот, кто хоть год потолкался в тесноте закулисных помещений, с их постоянным запахом столярного клея, пудры и нафталина, тот хорошо знает, что за беспокойный, полный недобрых предчувствий день генеральной репетиции.
Еще вчера был скандал с художником, который требовал невыполнимого. Еще вчера осветители путали лунную ночь с закатом и морзянкой мигали звезды. Еще вчера спокойный и уравновешенный Рябиков кричал на помощников и клялся бросить театр, а сорвавший голос главный режиссер грозился уйти в водители такси. И вот — настала «генералка».
Но — спокойствие! Как бы ни прошла генеральная репетиция, чем бы ни кончилась — шумным триумфом или старательными аплодисментами приглашенных родственников, все равно из театра никто никуда не уйдет. Потому что, однажды попав на сцену — кем бы там ни было — премьером балета или помощником реквизитора, — уйти с нее так же затруднительно, как надеяться на будущее мухе, застрявшей в центре липкого листа.
«Генералка» была назначена на двенадцать, и Петр Васильевич шел в театр позже обычного. Он уже достиг площади и собирался перейти ее напрямик, через сквер, но был задержан поливочными машинами. Медленно, уступами кружили они одна за другой, низвергая водопады на побелевший от суши асфальт. На минуту Петр Васильевич залюбовался этим великолепным зрелищем утреннего туалета города.
Слева от него резвилась группа маленьких школьниц. Скорее всего это были первоклассницы, рано окончившие занятия и не спешившие домой. Размахивая толстенными портфельчиками, они выскакивали с тротуара на дорогу и, задетые холодными брызгами, сумасшедше визжа, удирали от водяного вихря.
По-видимому, шло какое-то соревнование в ловкости и бесстрашии. Сквозь шипение каскадов и рев мощных моторов слышались задиристые выкрики:
— Боишься?!
— А нет, не боюсь!
— Эх ты, зайчишка-трусишка, считайте!
— Ра-а-з, два…
Маленькая тонконогая девчонка в зеленом пальтишке, из которого она уж вырастала, выскочила на дорогу и стремглав кинулась наперерез очередной, кружащей по площади машине.
Девчонка пробежала перед ней так близко, что облако водяной пыли на миг скрыло ее от глаз Петра Васильевича. Но уже через секунду она выскочила с другой стороны каскада и победно подняла над головой свой портфельчик, а затем, шлепая по воде, побежала назад к подругам, которые визгом и прыжками выражали ей свое восхищение.
Щемящее чувство страха за жизнь ребенка мгновенно сменилось у Рябикова резким возмущением. Не дав девочке достигнуть тротуара, Петр Васильевич кинулся ей навстречу. Но в этот самый момент шофер следующей поливочной машины высунулся из кабины и, прокричав что-то грубое, погрозил ему кулаком. При этом мощная струя воды достигла Петра Васильевича и окатила его с головы до ног.
Но он все-таки догнал девчонку, пока та еще не смешалась с подругами, и, схватив за мокрый рукав, крепко сжал в нем тонкую руку выше локтя.
— Ты что делаешь, безобразница! Могла бы ведь под машину… Где твои родители?
Капли воды, как прозрачные сережки, свисали с ушей и вздернутого носа озорницы. Девочка едва сдерживала смех.
Она пожала плечами:
— Нигде.
— Ты еще дерзить!
Рябиков был зол не на шутку.
— Ты где живешь?
— Там, — озорница неопределенно взмахнула портфельчиком.
Нет, этого нельзя так оставлять. Нужно немедленно отвести ее домой. Если нет дома родителей, передать живущим в квартире. Пусть расскажут, на что она способна. Девчонку необходимо строго наказать.
— А ну-ка, идем!
Увидев, что веселая забава с движущимися фонтанами оборачивается плохо, соучастницы представления стихли и с боязливым сочувствием смотрели на свою бесстрашную подругу.
— Она правда там живет? — строго спросил он у тех, которые оказались к нему поближе.
— Правда, правда… — как-то нехотя закивали они.
Не выпуская промокшего рукава, Петр Васильевич быстро шагал в указанном направлении. Девочка, припрыгивая, кое-как поспевала рядом. Она не хныкала и не просила простить ее и отпустить. Не старалась вызвать сочувствие. Он даже не знал толком, куда идет, и шел вперед лишь потому, что туда же шла конвоируемая им нарушительница уличного порядка. На безопасном расстоянии напуганной стайкой за ними следовали остальные.
— Вот здесь я живу, — девочка неожиданно остановилась.
Петр Васильевич увидел перед собой несколько ступенек и широкие двери. Уже поднявшись на площадку, он заметил скромную стеклянную табличку.
Это был детский дом того района, в котором жил Рябиков.
Отступать было поздно. Натужно простонала пружина, и тяжелая дверь захлопнулась за спиной Петра Васильевича и его маленькой пленницы. Открыли еще одни двери и оказались в небольшом, по-зимнему прохладном вестибюле. Вверх вела чисто вымытая лестница. Под ней стояла зеленая скамья-диван, а рядом на венском стуле сидела дородная женщина в сатиновом халате. Неторопливо шевеля губами, она читала журнал «Искорку».
— Вам кого? — не сразу спросила она, обернувшись и подняв на Рябикова до неестественности увеличенные под очками зрачки. Но, разглядев озорницу, не стала дожидаться ответа. — Ага, привели… Опять ты, Антонова. Сызнова, значит, по деревьям лазала?
Девчонка решительно помотала головой.
Сторожиха или нянечка — Рябиков не знал, кто эта строгая старуха, — подняла со стула свое грузное тело и, не выпуская из рук журнальчика, двинулась к лестнице.
— Сейчас я Нину Анисимовну позову… Пусть-ка ее проберет… Что это за наше наказание такое…
Медленно отрывая от ступенек тяжелые ноги в тапочках со смятыми задниками, она поднялась во второй этаж и удалилась в глубь помещения, а на площадке лестницы начал собираться обитающий здесь народ. Сперва прибежал коротко остриженный, с рыженькой челкой, мальчик лет десяти и, перегнувшись через перила, принялся разглядывать Петра Васильевича. Затем появилось еще несколько круглоголовых мальчишек и девочек с косичками. Наверное, они с озорницей, оба мокрые, были достаточно забавным зрелищем, потому что дети смотрели на них так, будто ждали: сейчас тут, внизу, произойдет что-то очень интересное. Кое-кто посмелее уже стал потихоньку спускаться по лестнице.
А дерзкая девчонка стояла теперь, опустив голову, и выглядела такой кроткой и тихой, что Рябикову подумалось: уж не ошибся ли он? Могла ли такая вызвать его возмущение?
— Вы папа Антоновой? Вы пришли за ней? — спросила вдруг сверху девочка с тоненькой шеей.
Озорница протестующе замотала головой.
— А чей вы папа? — продолжал уже другой детский голос.
Петр Васильевич растерялся:
— Ничей…
На площадке произошло движение. Рябикову показалось, что его ответ вызвал разочарование.
— Вы просто дяденька?
Он невольно кивнул.
И в самом деле, кто он для них такой?
Петр Васильевич уже ругал себя за то, что ввязался в эту глупую историю. У него вдруг пропала всякая охота требовать строгого наказания девчонки.
Кто знает, чем кончился бы внезапный допрос, если бы за спиной детей не появилась воспитательница детского дома, сопровождаемая нянечкой.
— А вы что сюда высыпали?! Марш по своим делам! — строго обратилась она к выбежавшим на лестницу. — Ничего нет интересного… Ну!.. Быстрее, быстрее!
Еще несколько секунд, и скорые детские ноги затопали в верхнем коридоре.
— Я вас слушаю. Что случилось? — еще с лестницы обратилась к Рябикову воспитательница. Это была женщина средних лет, белый халатик сидел на ней как аккуратное домашнее платье. С округлым мягким лицом, казалось, никак не вязался строгий взгляд, который она бросила на присмиревшую озорницу.
Петр Васильевич мял свою начавшую высыхать кепку.
— Да вот, девочка ваша, — неуверенно начал он, — я привел ее… Видите ли, нас случайно облили машины на площади. Так я думал, чтобы не простудилась…
Он не увидел, а скорей почувствовал, какой быстрый благодарный взгляд был брошен на него снизу.
Но воспитательница, наверно, не очень-то поверила его вялым словам.
— Ты опять напроказничала, Тоня?
Девочка молчала.
— Что же, за тобой в школу Анну Поликарповну посылать? Ты ведь знаешь, у нас для этого нянечек нет. Иди и сейчас же переоденься. Потом я поговорю с тобой.
— Хорошо, Нина Анисимовна.
Тоня кивнула и пошла наверх по лестнице, тихая и пряменькая, как стебелек в безветрие, — воплощение воспитанности и послушания.
— Вы извините, что мы доставляем вам беспокойство, — нарочито громко продолжала Нина Анисимовна, пока девочка не скрылась из виду.
— Да нет, ничего… Я тут неподалеку в театре работаю, так что по пути…
Следовало прощаться и уходить. Но что-то не позволяло Петру Васильевичу вот так просто покинуть незнакомый детский дом. Словно он чувствовал себя в чем-то неправым, чего-то недосказавшим. Да и воспитательница, казалось, не стремилась так быстро с ним расстаться.
— Девочка, конечно, провинилась? — спросила она, когда стало ясно, что Тоня уже не могла их слышать.
— Ничего особенного, — замялся Рябиков. — Компания их там целая была… Ну, бегали, бегали возле машин по дороге — вот и результат…
— Наша Тоня, разумеется, была заводилой?
Рябиков неуверенно пожал плечами.
— Большая баловница, — продолжала воспитательница, глянув в ту сторону, куда удалилась девочка, — непосредственная и вдумчивая, но… Порой в нее как бесенок какой-то вселяется.
— У нее есть кто-нибудь?
— Вы о родителях? Нет. Мать умерла в больнице.
— Ну и она, эта Тоня… — Рябиков отчего-то заговорил тише. — Она про то знает?
— Что вы! Конечно же нет. У нас каждый ребенок ждет, что за ним когда-нибудь придут. Без этого трудно жить.
— Так, а если не дожидаются?
— Вырастают и начинают понимать. А дальше — это уже взрослые люди. Дальше — у каждого своя судьба.
Воспитательница чуть заметно улыбнулась. Как бы винясь в том, что задержала занятого человека посторонним для него разговором.
— М-да. — Петр Васильевич надел уже совсем просохшую кепку. — Ну, извините. Спешу. У нас сегодня генеральная. Если когда-нибудь захотите в театр, пожалуйста.
— Спасибо.
Это были ни к чему не обязывающие слова, обычная вежливая форма расставания. Конечно же ни Рябиков никогда больше не собирался заходить в детский дом, ни тем более воспитательница обращаться к нему с какими-либо просьбами. Оказавшись на улице, Петр Васильевич торопливо закурил и почти побежал к театру. А Нина Анисимовна поднялась наверх, чтобы заняться своими неотложными делами и, в частности, сделать строгое внушение не в меру шаловливой Антоновой.
Глава 2 КВАРТИРА № 77
Дом, где жили Рябиковы, был обыкновенным домом, каких тысячи в Ленинграде.
Он стоял на узкой, весь день храпящей грузовиками и автобусами улице, которая брала начало от Литейного проспекта.
С улицы во двор нужно проникать через каменный тоннель, как во всяком старом ленинградском доме. В тени тоннеля, на стене, «Список квартиросъемщиков» — строго разграфленная таблица под давно не мытым стеклом.
В середине последней колонки списка значится:
Кв. 77
1. ЗАРЕЦКАЯ А. Я.
2. ГАВРИЛОВА М. Г.
3. НАЛИВАЙКО Е. П.
4. РЯБИКОВ П. В.
5. КУКС О. О.
Кв.78
БОБРО В. Ю.
Квартиры под этими номерами расположены во втором дворе дома. В этот второй, ничем не отличающийся от первого двор ведет такой же узкий тоннель.
В давние времена квартиры здесь были дешевле тех, что находились в первом дворе. Нынче дворы, этажи, солнечный свет не принимаются во внимание. Кому как повезет.
Правда, в квартиру № 77, как и в соседнюю, солнце все-таки ненадолго заглядывает. Иногда луч его сквозь лестничное окно добирается до старых двухстворчатых дверей и освещает потускневшую жестянку:
ЗАСТРАХОВАНО ВЪ ОБЩЕСТВѢ
«МЕРКУРІЙ»
Ее в свое время вывесил молодой присяжный поверенный Илья Маркович Зарецкий. Память о нем хранит и медная табличка с буквой «І».
Члена коллегии советских защитников Зарецкого не стало еще до войны. Его вдова Августа Яковлевна проживает здесь до сих пор и по привычке числится ответственным съемщиком. Звонить к ней нужно один раз в главный звонок. Три раза эту же кнопку нужно нажимать, чтобы вызвать Марию Гавриловну или ее племянницу Риту. Два звонка не нужно давать никому. У остальных жильцов звонки индивидуальные.
В семьдесят седьмой квартире еще три семьи, если считать за семью одинокого Олега Оскаровича Кукса. У него, кроме звонка, персональная щель для почты. Над щелью строгое предупреждение:
ТОЛЬКО О. О. КУКСУ
Есть на дверях и внушительный короб, сплошь заклеенный заголовками газет. Их доставляют лектору-международнику Евгению Павловичу Наливайко. Другие жильцы удовлетворяются общим почтовым ящиком. Рябиковы получают «Ленинградскую правду», Рита выписывает «Смену», в которой ее тетя любит читать статьи на моральные темы. Августа Яковлевна каждый год подписывается на вечернюю газету.
Напротив квартиры № 77 — квартира № 78. На добротно обитых клеенкой дверях нет никаких надписей, кроме врезки: «Для писем». Из дверей часто слышатся тугие звуки разучиваемых на виолончели гамм.
Здесь, в отдельной квартире, с женой и единственным сыном Толиком живет доцент Бобро.
Мария Гавриловна и Рита
Первой в квартире № 77 поднимается Мария Гавриловна. Никаких будильников при этом ей не требуется. Мария Гавриловна сама себе безотказный будильник.
Просыпается она от старушечьей бессонницы около семи часов. Будь на улице весеннее звонкое солнце или декабрьская синь, Мария Гавриловна не считает даже нужным сверять время со старыми часами-домиком, которые скрипят над ее головой.
Так же безошибочно, не заглядывая в окно, она сообщает о том, что делается на улице:
— Пятки у меня захолодали — зимно сегодня.
При помощи своих чувствительных частей тела Мария Гавриловна не только догадывается о настроении погоды, но и предсказывает ее наперед.
Прогнозы всегда коротки и категоричны. Ломит у Марии Гавриловны спину — будет ненастье. Заноют коленные суставы — ждите дождя. Бывают предсказания и более научные:
— Нынче с ночи в ушах свинец. Давление… Не иначе, жара идет, — объясняет старуха.
В ту минуту, когда Мария Гавриловна, спуская с кровати свои ноги-градусники, делает первое заключение о погоде, ее племянница Рита еще лежит на кушетке с плотно сомкнутыми ресницами.
Она слышит все, что говорит тетка. Слышит стоны пружин и шарканье тапок по полу — слышит и спит.
Рита вернулась поздно. Весь вечер она танцевала в Доме офицеров. Рита не выспалась, а нужно вставать, есть и бежать на работу.
Ничего не поделаешь. Длинные ресницы наконец разжимаются, и открываются быстрые серые глаза.
Два спортивных рывка, и Рита уже одевается. Делает это она заученно и точно, хоть хронометрируй.
Чулки пристегиваются к резинкам с неуловимостью действий манипулятора, причем точность положения шва можно проверять по отвесу. Ступни ног сами находят туфли и ловко влетают в них. Облачение в юбку с застежкой-молнией отнимает секунды. Два-три взмаха гребня — и вечерний начес высотой с уланскую каску превращается в скромную прическу. Пятиминутное пребывание в ванной, совсем немного времени на завтрак, и Рита, одетая в легкое пальто, с толстой книгой под мышкой, уже спешит на трамвай к Литейному.
Это торопится на завод Рита дневная.
Рита дневная внешне очень скромна. Даже, можно сказать, неприметна. Забившись в передний угол второго вагона, она привычно «голосует» карточкой и, если удается сесть, немедленно уходит в книгу.
Читает Рита все, что ей попадается. Непременное требование при этом, чтобы книга была потолще и «про одно». Коротких рассказов она не признает и авторов их не считает за писателей. Если роман увлекает Риту, она забывает обо всем и порой едва успевает вовремя выскочить из трамвая.
На заводе Рита на хорошем счету.
Руки ее монтируют телевизоры. Десятки разноцветных проволочек следует надежно прикрепить на свои места. Рита любит эту работу и делает ее весело. Наверное, так в старину девушки любили рукоделие. И так же, как когда-то, вышивая, мастерицы пели, Рита напевает на конвейере. Без паузы, как в магнитофонной записи, песни летят одна за другой: «Бродягу» сменяют «Парни всей земли», за ними следует «Морской дьявол».
Иногда Рита успевает закончить операцию раньше, чем к ней придет следующий аппарат. И тогда, словно в самом деле тонкой вышивкой, она любуется сложным лабиринтом телевизионных артерий.
Дневную Риту нужно помещать на обложки молодежных журналов. Оперативные газетчики могут писать о ней производственные очерки.
Но есть и другая Рита — Рита вечерняя.
Рита вечерняя начинается после шести часов. Перед стенным зеркалом, которое помнит отражение еще молоденькой Марии Гавриловны, Рита терпеливо восстанавливает вчерашний начес. Несколько позже ее чудо-сооружению будут завидовать на танцах.
Вечерняя Рита любит модно одеваться. Она из тех девчонок, которые, соорудив себе платье «из ничего», бывают довольны, когда их оглядывают на улице.
Больше всего Рита вечерняя любит танцы. Ради того, чтобы попасть на них, готова ехать на край города и отстаивать длинную очередь в кассу «Мраморного зала».
Вместо толстого романа у вечерней Риты завернутые в газету туфельки на каблуках-гвоздиках. В трамвае эта Рита никогда не садится, чтобы не помять накрахмаленной юбки.
Дневная Рита на заводе ест все, что посытней. Вечерняя пьет только молоко с печеньем. Она бережет фигуру и не без тревоги измеряет окружность своей талии.
На этажерке у дневной Риты среди немногих книг увесистый том «Молодой гвардии» и биография Софьи Перовской. Над кушеткой, где засыпает Рита вечерняя, открытка — Тихонов в роли мичмана Панина — и вырезанная из польского журнала фотография рыжей Бабетты.
Дневная Рита порой сокрушается о том, что идет время, а она не учится. Рита вечерняя, возвращаясь с танцев, думает о том, чтобы не ушли годы, пока можно хорошо выйти замуж. Потом она стирает губную помаду и тушь с ресниц и укладывается спать.
Вечернюю Риту можно рисовать в карикатурах и сочинять про нее эстрадные куплеты.
Впрочем, она уже спит, чтобы встать Ритой дневной.
Утром, примерно через час после племянницы, квартиру покидает Мария Гавриловна.
С клеенчатой сумкой, вооруженная старинным кошельком с замочком-шариками, она начинает обход ближайших торговых точек.
Все закупки она могла бы сделать в какие-нибудь полчаса. Прежде, когда Мария Гавриловна работала, она так и поступала. Но это было прежде, пока Мария Гавриловна не ушла на пенсию.
С тех пор ей стало казаться, что продукты в других магазинах, куда она еще не успела заглянуть, непременно лучше и дешевле. Но и в другой лавке ей приходит на ум, что языкастые мясники только о том и заботятся, как бы провести ее, и решает присмотреть кусок мяса на рынке.
Но главная ее стихия — промтовары.
Вдруг старухе приходит мысль сшить себе новое платье. Этому непременно сопутствует убеждение, что подходящей бумазеи в магазине поблизости нет. Однако нужный материал может оказаться в универмаге у Нарвских ворот, и Мария Гавриловна, захватив Ритину модную сумку на молнии, отправляется на другой край города.
Если ее ждет неудача, Мария Гавриловна нисколько не смущается и вечером заявляет Рите:
— Завтра на Охту подамся, может там найду.
Исколесив десятки километров и побывав во всех концах города, Мария Гавриловна неожиданно, забыв цель своих путешествий, рассказывает соседкам на кухне:
— Настроено-то везде! Это же мыслимо-немыслимо. Ездила, ездила, и конца нет.
Впечатлений Марии Гавриловне хватает недели на три, а затем она, решив, что настало время заменить полинявшие занавески на окнах, снова отправляется в дальний поход.
Кандидат Наливайко и Ольга Эрастовна
В то время как Мария Гавриловна осторожно прикрывает за собой дверь, лектор по международным вопросам завершает утренний моцион на «велосипеде».
Свой пробег Евгений Павлович проделывает, лежа в постели, уже покинутой его женой.
Отяжелевшему в последние годы кандидату наук была рекомендована утренняя гимнастика. Из женского календаря Наливайко узнал, что мускулы живота можно развивать, лежа на спине. Такая гимнастика вполне устраивала Евгения Павловича. Он находил ее соответствующей своему возрасту.
Не покрутив ногами и минуты, Наливайко делает вдох и выдох и, бодро вскочив с постели, в пижаме, кидается к ящику на входных дверях. Затем, зажав под мышкой солидную пачку газет, бежит назад столь стремительно, что, можно подумать, боится, как бы их не отняли.
Несмотря на многолетние протесты жены, Евгений Павлович немедленно приступает к беглому обзору событий. С кинематографической быстротой он, стоя, оглядывает развернутые на столе метровые полосы. Молниеносный охват событий сопровождается короткими восклицаниями: «Ага! Следовало ожидать…», «Ясно, понятно», «Так я и думал», «Ах, подлецы!»
Убедившись, что все в международной жизни идет так, как он и предсказывал, Евгений Павлович складывает газеты стопкой и отправляется в ванную.
В этот час его супруга Ольга Эрастовна в платье, туго обтягивающем скульптурные бедра, хлопочет у своего нарядного, как нетронутая пластмассовая игрушка, столика.
Уголок Наливайко на кухне похож на витрину магазина «Новинки». Вдоль сметанно-белых полочек развешена и расставлена самая совершенная кухонная аппаратура. Ослепительным никелем и чистыми красками спектра сияют новейшие приспособления для чистки, натирания, варения, тушения и прочих кулинарных операций. На полочки Ольги Эрастовны нельзя глядеть без чувства собственной неполноценности.
Ольга Эрастовна высоко ставит свою технику, но справедливости ради нужно сказать, что механические нарезалки, электрические мельницы, самые совершенные выжималки и хитроумнейшие наборы разных черпалок красуются здесь в парадной неприкосновенности. Что касается приготовления еды, то Ольга Эрастовна обходится ножом со сточенным наискось лезвием и старенькой мельхиоровой ложкой.
Из дому она уходит раньше мужа. Вот уже сколько лет Ольга Эрастовна служит секретарем в научно-исследовательском институте полимеров и гордится своей работой.
— Когда придешь? — уже в дверях спрашивает она у мужа и неизменно слышит в ответ:
— Постараюсь пораньше.
Удовлетворенно кивнув, Ольга Эрастовна закрывает дверь, а Наливайко вооружается ножницами и начинает детальное изучение прессы.
Августа
Несколько позже, когда квартира пустеет, а в коридоре у телефона начинает топтаться кандидат Наливайко, Августа Яковлевна поднимается со своей, некогда цвета слоновой кости, деревянной кровати.
Комната Августы, как потихоньку называют ее в квартире, напоминает заднее помещение комиссионного магазина. Чего здесь только нет! Секретер времен Директории с рассохшимися ящиками и люстра синего хрусталя со свечами, в которых давно перегорели все лампочки; кресло, последнее, сохранившееся от гарнитура, который дважды в истории города становился дровами, и огромные, в облысевших плюшевых рамах, хромолитографии: пышнобедрая Леда с Лебедем и бледный скрипач, из-за спины которого выглядывает безносая с косой. Вещи не помещаются в комнате, некогда служившей кабинетом присяжного поверенного, они вылезли в кладовую, кухню, на чердак. Даже в передней с незапамятных времен стоит сложенная железная кровать, на которую Августа Яковлевна мечтает найти покупателя.
Всякий раз, натыкаясь сослепу на это нелепое спальное сооружение, Августа восклицает:
— Бог мой, до чего же мне надоело это чудовище! Помог бы мне кто-нибудь выдворить ее отсюда!
Однако в квартире все знают, что этому порыву не стоит придавать серьезного значения. И кровать третье десятилетие ржавеет в темном углу.
Но не думайте, что музей хлама прошедшей жизни — душа ответственной квартиросъемщицы. Нет, новенький динамик «Утро» уживается здесь рядом с позеленевшим от старости бронзовым сатиром. Белозубый Гагарин улыбается с календаря «Огонька», не смущаясь выцветшей под стеклом нагой натурщицы Дега. А под старым романом на французском языке лежат аккуратно перепечатанные и выправленные протоколы товарищеского суда, строгим и внимательным секретарем которого Августа Яковлевна стала с первых дней его существования.
Приготовление утреннего кофе на дне старинного кофейника не отнимает у Августы и десяти минут, но если все, что громоздится на огромных, будто вагонных, полках, сравнить с современной аппаратурой Ольги Эрастовны, можно наглядно убедиться — кухонная техника за прошедшие полвека ушла вперед не менее, чем автомобиль на воздушной подушке от «тележки Кюньо». В одной медной кастрюле Августы вместились бы все блестящие сосуды и пластмассовые формочки Ольги Эрастовны. Полупудовая мясорубка и чугунные латки могли бы служить балластом для глубинного водолаза. Впрочем, все эти устрашающего вида сечки-алебарды и тяпки-кувалды напоминают реквизит снятой с репертуара сказки, сама же Августа Яковлевна пользуется услугами домовой кухни.
После кофе она читает доставленный утром номер вечерней газеты, из которого узнает вчерашние городские новости. Дойдя до последней страницы, Августа проглядывает объявления о разводе и, не найдя фамилий знакомых, удовлетворенно откладывает газету.
Если Августе Яковлевне звонят по телефону и зовут в гости, она бодро кричит в трубку:
— Спасибо, дорогая! Непременно приду. Только не ждите в ближайшие дни, у меня масса дел.
За долгую жизнь машинистки-переводчицы Августа Яковлевна не знала, что такое покой, и теперь, если дел не хватало, она их себе придумывала.
По своим хлопотам Августа Яковлевна отправляется в двенадцатом часу. Равнодушно проходит мимо каких бы там ни было очередей. Августа Яковлевна их презирает. Но есть очереди, которым она посвящает не один день, — очереди за билетами на концерты музыкальных знаменитостей. В них Августа Яковлевна устает и мерзнет, но стоически переносит трудности.
Однако предложи ей кто-нибудь билет на редкий концерт в Филармонию, она не испытала бы большой радости, потому что нелегкая задача доставать билеты и есть одно из дел, которыми живет теперь эта старая женщина.
Никто не знает, сколько ей лет. Сама Августа этой темы предпочитает не касаться, но все меньше и меньше на земле остается ее подруг и сверстниц.
Похорон Августа Яковлевна не любит, но по необходимости бывает на них, хотя никогда не остается на поминки. Вернувшись с кладбища, она без лишней удрученности делится с Ольгой Эрастовной:
— Знаете, сегодня проводила сестру моей старой подруги. Представьте, какая глупость! Умерла от воспаления легких! Я почему-то вспомнила: мы с ней ходили встречать Макса Линдера… Был такой знаменитый комик, вроде Чарли Чаплина… Нас, гимназисток, тогда чуть не задавили… Когда это было?.. Раньше, чем сюда приезжал Пуанкаре… Давно… Бог знает когда!..
И уходит к себе читать «Неделю», которую приобрела по пути домой.
Евгений Павлович Наливайко обыкновенно покидает квартиру несколько раньше Августы Яковлевны.
Заперев комнаты и потянув ручку двери — инструкция Ольги Эрастовны, — он поднимает с пола тяжеленный портфель-чемодан и бежит к выходу.
На площадке лестницы Наливайко порой встречается с выходящим из квартиры доцентом Бобро. Тогда оба ученых мужа, вежливо коснувшись схожих, как униформа, шляп, буркают нечто отдаленно напоминающее «здр-с-те» и наперегонки устремляются вниз.
У ворот Бобро обычно ожидает машина, и Наливайко стремится обойти доцента, чтобы выскочить на улицу первым и удалиться прочь, всем своим видом давая понять, что к научному положению Бобро относится с полным равнодушием.
Если же судьба сталкивает доцента на площадке лестницы с Августой Яковлевной, Бобро приподнимает шляпу, а старуха приветственно тянет:
— Здравствуйте, Виталий Юлич. Как поживаете? Как Тамара Борисовна? Как Толик? Слышала, делает успехи.
Большой неловкий доцент в тяжелых очках, с таким же, как у Наливайко, пудовым портфелем смущается и бормочет:
— Спасибо, спасибо… Все будто как-то так… И Тамара ничего, и Толик…
Задержанный Августой Яковлевной, он провожает ее до ворот, а на улице, кивнув на машину, спрашивает:
— Может быть, подвезу? Вас в какие края?
Но Августа энергично отказывается:
— Нет, нет, благодарю! Что вы, мне совсем рядом.
Бобро снова приподнимает шляпу и ныряет в машину. А Августа Яковлевна идет в сторону Литейного. Она не терпит ничьих снисходительных услуг. Близоруко щурясь, она узнает знакомых и, улыбаясь, кивает им. Иногда останавливается у расклеенных с утра газет, вынимает из сумочки очки и, не надевая их, как в лорнет, проглядывает новости. Но, вспомнив, что ее ждут дела, поспешно прячет очки и торопится к трамваю.
Супруги Рябиковы
Рябиковы жили в квартире № 77 с тех пор, как однажды осенью, вернувшись из отпуска, Петр Васильевич стеснительно сообщил соседям, что познакомился с хорошей женщиной и решил жениться. С того времени прошло больше десяти лет. Супруги Рябиковы ладили со всеми и между собой. Одно только в их жизни было огорчительным… Но не станем торопиться. Знакомство с Рябиковыми предстоит близкое, и о них мы еще многое узнаем.
Шли дни. Как и до встречи на площади с озорной девчонкой, Петр Васильевич возвращался домой в четвертом часу. Аня обычно еще не приходила. Квартира хранила дневную тишину. Запертыми бывали даже двери в комнату Олега Оскаровича. Он поселился тут несколько лет назад по обмену. Днем Олег Оскарович покидал квартиру последним. Впрочем — еще одно знакомство.
Олег Оскарович Кукс
Олег Оскарович стойкий индивидуалист. В дневные часы он наслаждается одиночеством в покинутой соседями коммунальной квартире.
Как только из коридора слышится звук захлопнувшегося замка за последним жильцом, Олег Оскарович настежь отворяет двери своей комнаты.
Кукс служит плановиком-сметчиком в одной весьма серьезной строительной организации. Там Олега Оскаровича уважают как опытного и знающего дело работника. Ему поручают самые ответственные и нелегкие сметы. Положение Кукса в конторе настолько высоко и прочно, что он вытребовал себе право в иные дни работать над сметами дома. Сперва начальство с трудом шло на просьбу Кукса, но, когда Олег Оскарович блестяще доказал, что производительность его труда дома, в одиночестве, повышается чуть ли не вдвое, дирекция, на свой риск, разрешила ему эту вольность.
Что же касается Олега Оскаровича, то у него были свои соображения. Обложенный толстенными справочниками, он сидел за бумагами до полудня, справляясь за это время по крайней мере с полуторной служебной нормой.
Причиной столь интенсивного труда было желание как можно скорей освободиться от скучного общения с цифрами и целиком отдаться истинному призванию.
Дело в том, что Кукс был равнодушен к славе даровитого плановика и совсем не дорожил оценкой его заслуг в этой области. В душе Олег Оскарович считал себя поэтом, и не просто поэтом, а прирожденным сатириком, и рвался к сатире всем своим уже немолодым одиноким существом.
Началось это несколько лет назад. Однажды Олег Оскарович, возмущенный долгим сроком ремонта часов в ателье, написал басню о том, как в городе остановилось время, и послал ее в редакцию вечерней газеты.
Басню Кукса напечатали, а неосторожный заведующий отделом направил ему письмо с предложением присылать новые произведения. Олег Оскарович вспомнил, что еще в детстве писал стихи, обличающие школьных шалопаев, за что не раз был бит, и стал думать, что, наверное, он рожден поэтом и лишь в силу родительской практичности окончил плановый институт, навсегда породнившись с арифмометром вместо пера.
Ничто не поздно, пока живешь на свете. И Кукс принялся за сатиру, наверстывая упущенные годы.
«Вот кто жить мешает нам…» — писал Олег Оскарович в своих куплетах.
Из сатиры Кукса следовало, что жить ему мешали молодые люди в узких брюках и девушки с высокими прическами, черноусые продавцы, торгующие грушами на рынке, и жены, разводящиеся со своими мужьями.
Однако за первыми газетными успехами триумфа не последовало. Басни и эпиграммы Кукса принимали и печатали с большим скрипом. К тому же со временем Олег Оскарович стал замечать, что вокруг остается все меньше и меньше объектов для сатирического пера.
На улицах сделалось чисто. В различных ателье мод не только исчезли очереди, но, наоборот, в витринах появились объявления, вежливо приглашающие заказчиков воспользоваться услугами мастерских. И к тому же в этих ателье научились шить. Даже излюбленные сатириками коммунальные квартиры потеряли свой прежний зловещий облик. Олег Оскарович, например, жил в чистой и аккуратной квартире, где давно не коптили керосинки, а женщины спокойно и мирно сосуществовали, не давая никакой пищи сатирику.
С одной стороны, Кукса радовали счастливые изменения последних лет. Как-никак он считал, что здесь заслуга и его острого пера. А с другой стороны, Олег Оскарович с тайной грустью взирал на то, что из окружающей жизни понемногу исчезает обыватель и хулиган и все меньше и меньше остается мишеней для обличения, и задумывался над своим поэтическим будущим.
Однако он не хотел сдаваться. Закончив свои служебные дела, Олег Оскарович решительно отодвигал разграфленные на колонки листы и, сев за пишущую машинку «Мерседес» — громоздкое приобретение по случаю, — быстро перепечатывал все, что создал накануне вечером. При этом Олег Оскарович громко смеялся. Свою сатиру он находил смешной.
В квартире на Куксе лежали обязанности общественного счетовода. В определенные дни он вывешивал перепечатанный на машинке список, в котором точнейшим образом было указано, кому из жильцов и сколько нужно платить за газ, электричество и прочие коммунальные услуги.
На улицу он удалялся во втором часу дня. Выходил через черный ход — из кухни. Этот ближайший к его комнате выход казался Куксу индивидуальным.
Спускаясь по тускло освещенной лестнице, Олег Оскарович крепко держал желтую пластикатовую папку. В папке, кроме умело составленных смет, лежало все, что определяло литературную судьбу Кукса. Здесь хранились две давно сочиненные, но так нигде и не принятые одноактные пьесы, вырезанная из газеты рецензия, в которой ругали группу эстрадных авторов, а Кукса не упоминали; тонкий сборник самодеятельного репертуара, где была напечатана его басня «Дали пенсию слону…», два заявления о неправильной выплате гонорара и прошлогоднее приглашение на совещание молодых сатириков.
Минуя двор, по которому в тот час гоняются друг за другом уже вернувшиеся с первой школьной смены горластые мальчишки, Олег Оскарович часто думал о том, до чего ему повезло: в квартире, где он живет, нет детей и поэтому сохраняются тишина и порядок.
Да, в квартире № 77 по случайному стечению обстоятельств не было детей. Никто не врывался в нее с победным гиком или громкой слезливой жалобой на дворового обидчика. Никто не рисовал чертиков на обоях и не строгал лодочек на кухне.
Жили здесь люди серьезные, взрослые, занятые собой.
После ухода Олега Оскаровича в квартире оставалась только любимица Марии Гавриловны кошка Василиса — попросту Васька, медлительная и равнодушная ко всему, что не касалось ее кошачьих страстей и обязанностей. Впрочем, и Василиса часы квартирного безлюдья предпочитала проводить в прогулках по лестницам и подвалам.
Эта осень, как и многие предыдущие, не внесла изменений в жизнь квартиры № 77. Разве только чуть прихворнула и снова пошла в свои походы Мария Гавриловна. Супруги Наливайко ездили в отпуск не в Гагры, как обычно, а на Золотые пески в Болгарию. Куксу удалось поместить два афоризма в «Крокодиле», и он ходил счастливый и гордый. Рита выиграла по лотерее тридцать томов сочинений Диккенса и так увлеклась его объемистыми романами, что охладела к танцам.
В остальном все было по-прежнему, и только со спокойным и уравновешенным Петром Васильевичем творилось неладное.
С того памятного дня, когда он, задержавшись с Тоней, чуть не опоздал на генеральную репетицию, сделался он задумчив и рассеян, торопливо и невпопад отвечал на вопросы окружающих.
Между тем жизнь Рябиковых шла своим чередом. Они побелили потолок и переменили обои. Делали все вдвоем, без помощи мастеров. Белили и клеили дружно и споро. В освеженной комнате стало светлей и будто бы даже просторней. В свободные вечера ходили в кино и, возвратившись домой, пили чай со свежими бубликами, а Петру Васильевичу иногда выставлялась и «маленькая». Делала это Аня, как ей думалось, неожиданно, с лукавым прищуром. Дескать, не считай, что я нечуткая и не знаю, что ты не прочь рюмку…
Словом, и тут все было, как прежде, и все же для Петра Васильевича не совсем так.
Спешил ли он в театр по кроваво-желтому ковру прилипших к асфальту кленовых листьев, сидел ли в своей регуляторской, управляя светом на сцене, дремал ли дома на оттоманке, опустив газету, он нет-нет да и видел девчонку с агатовыми быстрыми глазами. Странно, но маленькая озорница с капельками воды под вздернутым носом-кнопкой не выходила из головы.
Прежде с Рябиковым такого не случалось. Да, бывало, что он в погожий солнечный день, возвращаясь с работы, сбавит шаг и остановится среди сквера, наблюдая деловитую возню малышей. Порой даже наклонится к какому-нибудь бутузу с ладонями будто в песочных перчатках и поможет ликвидировать аварию с опрокинувшимся самосвалом. Или на улице с любопытством наблюдает неторопливо шагающих домой первоклассников, таких маленьких, что и фуражки и набитые портфельчики — все не по ним. Иногда даже остановит, спросит, какие несут отметки, и, откозыряв школьникам, улыбаясь, пойдет дальше.
А тут все сделалось другим. Странно, но Рябикова вдруг охватило такое чувство, будто он в чем-то был не прав, будто не так поступил и остался в памяти озорной девчонки грубым и бездушным.
Отчего-то запомнились глаза детей на лестнице и то нескрываемое разочарование, когда они узнали, что он «ничей папа — просто дяденька». Помнился голос воспитательницы, сказавшей: «Каждый из них ждет, что за ним когда-нибудь придут».
Петр Васильевич вырос в семье, где было шестеро детей. Двое умерли маленькими. Четверо выжили, и только один не вернулся с войны. В доме никогда не было большого достатка. Отец служил ремонтником в трамвайном парке, мать подрабатывала дома — строчила мережку, делала цветы на продажу, и все в семье, особенно сестры, помогали ей. Все они были для отца с матерью одинаковыми, никого в доме не выделяли, никто не был обойден. Самостоятельно он стал жить с восемнадцати лет. Потом ушел из семьи, но навсегда сохранил в памяти скупые слова отца, материнскую заботу — чистые рубахи по воскресеньям и полтинники, которые она ему выкраивала на мальчишеские развлечения. Сколько мог, он помогал старикам и младшим в семье. Трудно было себе представить, как бы вырос он один, хотя бы в детском доме.
Хорошо помнились Рябикову годы раннего детства. Страшные, как наваждение, беспризорники, что вылезали из люков на площадях города. Оборванные, с черным сквозь лохмотья телом и единственным чистым пятном — белками глаз. Давным-давно нет этих бедолаг. Великого труда стоило стране забрать их с улицы. А нынешние детдомовцы! Да разве мог он отличить от других детей эту озорницу?! Опрятное пальтишко, гладко прибранные волосы. Видно, что живется им неплохо. И все же ждут! Ждут своих матерей и отцов.
Вспомнилось Рябикову, как однажды пришел он в подшефный театру детский интернат. Следовало кое-где заменить проводку. Было воскресенье, и интернат пустовал. Оставались только завхоз, дежурный воспитатель да те немногие воспитанники, которым некуда было идти. О причине Петр Васильевич допытываться не стал, но долго не мог забыть уныло слонявшихся по опустевшим комнатам ребят, их радость, когда он просил подать ему молоток или сбегать за водой — развести алебастр.
Нет. Никакими самыми добрыми детскими домами не заменишь семьи — ласкового слова матери, прикосновения твердой руки отца.
Уговаривал себя Рябиков — нынче не то. Детские дома теперь — дружные семьи. А из головы не выходили завистливые взгляды: «Вы Тонин папа?»
Но была и другая печаль. Печаль, которая долгие годы исподволь подбиралась к сердцу и завладевала им.
Было время — после женитьбы, — когда Рябиковы не задумывались над тем, что у них нет детей. Может быть, даже радовались возможности подольше побыть вдвоем. Аня оказалась заботливой и веселой. Петр Васильевич, тогда еще молодой, старался доставить жене побольше радостей. Она ходила на спектакли театра, где он тогда работал помощником главного осветителя. Устраивал ее то в ложе, то на откидном месте, а иной раз и прямо в регуляторской, рядом с собой. Аня сидела притихшая, гордая тем, что от ее мужа многое зависит в спектакле. В отпуск Петр Васильевич — страстный рыбак — брал с собой жену и вез ее под Лугу, на реку Оредеж, к знакомому леснику. Там они отдыхали от городской жизни.
Так шли дни.
Как-то раз Петр Васильевич проходил мимо рынка. Там сидел желтоволосый от старости деревенский дед и продавал расписные березовые поделки. Пятнистых коней на колесиках, лопатки, детские диванчики и кресла.
Дедовский веселый товар шел ходко. Петр Васильевич тоже поддался общему влечению и неизвестно зачем купил у деда маленькое креслице с лиловохвостыми павлинами на спинке.
Когда входил домой со своей покупкой, в коридоре встретилась Августа Яковлевна. Она сразу же приметила игрушку в его руках:
— Какая прелестная вещица! Народный мотив! Не ошибаюсь, мебель приобретаете неспроста?
— Да нет, так, случайно попалось, — замялся Рябиков. — Старичок один продавал. Решил поддержать коммерцию. Пусть стоит, как забава.
Аня покупке удивилась, осмотрела креслице, нашла его красивым, но тут же сказала:
— К чему оно нам?
Петр Васильевич и сам понимал, что с креслицем поторопился. Получилось не очень умно. Решил свести все к шутке:
— Мебели у нас изящной мало. Вот и приобрел обстановку. Цветок на него можно поставить. Ну, а в дальнейшем, может быть, кому-нибудь и пригодится. — И он хитро подмигнул жене.
Но веселое деревенское креслице не пригодилось. Немало лет простояло оно в углу за шкафом, все кого-то ожидая и так никого не дождавшись. Анилиновые краски на нем поблекли. Некогда свежая береза мутно зажелтела. Рассохшееся возле батарей креслице как-то при очередной уборке было вынесено во двор и навсегда забыто.
Время шло. Детей не было.
Как-то раз Аня сказала мужу:
— Я виновата, что никого у нас нету. Не повезло тебе, Петя.
Рябиков даже рассердился на жену. Сказал, что она говорит глупости. Потом стал утешать, объяснять, что ему очень повезло, что она, Аня, хорошая и никакой другой ему не надо.
Но она упрямо повторяла:
— Нет, неладно тебе со мной.
Петр Васильевич и сам догадывался: что-то у них неладно. Все сроки прошли. Он и в самом деле давно подумывал о ребенке. Говорят, мужчины всегда хотят сына. А ему мечталась девочка. Маленькая, забавная и ласковая. Он видел себя идущим по городу с уже подросшей дочерью. Она пытливо расспрашивает про все, что видит, а Петр Васильевич обстоятельно и понятно отвечает.
Желание быть отцом со временем поостыло. Успокоились каждый по-своему. Аня нашла себе утешение в заботе о доме. Рябиков бывал много занят в театре. Свободное время уделял всяким техническим выдумкам. Казалось, с бездетностью свыклись.
И вот теперь Петра Васильевича снова охватило какое-то беспокойное чувство.
Анна Андреевна по-женски сразу же приметила перемены в муже. Сперва она делала вид, что ничего не замечает, но как-то, не выдержав, спросила:
— Что-то ты не в себе, Петр. Может быть, я что-нибудь делаю не так, ты скажи.
Петр Васильевич удивился прозорливости жены. Он деланно рассмеялся:
— Что ты, Аня. Так все, так… Даже очень хорошо. Устал я немного, что ли. Пройдет… Ты ни о чем не думай.
И в самом деле, что за причина для беспокойства? Выкинуть из головы следует эту дурь. Выкинуть навсегда!
Глава 3 И ОПЯТЬ ВСТРЕЧА
Но выкинуть не удалось.
Как это произошло, Петр Васильевич и сам не мог бы толком объяснить.
Вскоре после того короткого разговора с Аней он возвращался днем из театра по улице, где жила Тоня Антонова. Рябиков обычно ходил домой другим путем, но тут отчего-то решил направиться именно так. И чем ближе он подходил к зданию, где находился детский дом, тем непреодолимей становилось желание зайти туда и справиться, как учится, как ведет себя озорница. А собственно, зачем? Кто он такой? Случайный встречный, о котором все забыли.
Там, наверное, удивятся и не станут отвечать на его праздные вопросы.
Но, поравнявшись с домом, он вдруг отбросил всякие доводы, поднялся на ступеньки и потянул тяжелую дверь.
Тот же вестибюль и лестница. Так же вымытые ступени со следами пробегавших по ним быстрых ног. Дружный топот и крики где-то наверху. Та же нянечка с толстыми ногами в шерстяных чулках и смятых тапочках. Только теперь читает не «Искорку», а журнал «Костер».
Неторопливо она подняла на него свои очки-лупы.
Рябиков снял кепку и кивнул:
— Извините, нельзя ли увидеть воспитательницу Нину Анисимовну?
Старуха с журналом ответила не сразу. Как бы решала, стоит ли к нему кого-либо вызывать. Потом, будто ни к кому не обращаясь, неторопливо произнесла:
— Нина Анисимовна у нас теперь за директора. Нашего в начальники забрали, а Нина Анисимовна, значит, за него. А воспитательницей младших заместо ее Ольга Францевна. Так вам кого, по какому делу?
— Нет… — сказал Рябиков, путаясь в словах. — Мне бы, я думаю, все-таки Нину Анисимовну. Пусть директора…
— Пальто придется снять, — так же степенно продолжала нянечка, положив на стул «Костер». — В пальто у нас наверх нельзя.
Петр Васильевич снял пальто.
— Провожу вас. Сами не найдете.
Нянечка повела Рябикова по лестнице, потом по коридору. На стенах его висели разрисованные цветными карандашами картинки: похожий на дом ледокол «Ленин» во льдах, космический корабль будто артиллерийский снаряд, из сопла которого вылетает малиновое пламя; краны, краны под самые облака.
— Или Антонова опять в чем провинилась? — спросила шагавшая впереди нянечка.
— Нет, что вы. По другому делу, — успокоительно ответил Петр Васильевич.
— По другому, значит. А то что удивляться. Девчонка — только гляди… Да и что скажешь — шустрая.
Навстречу попадались то пробегающие, то чинно проходящие дети. Маленькие, лет по восьми, и побольше, с одинаково подстриженными челками. Дети приостанавливались, быстро и пытливо оглядывали Петра Васильевича и шли дальше. Но Рябиков слышал, как за спиной его затихали шаги, чувствовал, что вслед ему глядят.
Больше всего на свете он сейчас не хотел бы встретить Тоню. Девочка, конечно, узнала бы его. В этом Петр Васильевич был уверен. А вдруг она остановит его и спросит, зачем он сюда явился. Что он ей ответит?
Так подошли к двери с маленькой эмалевой табличкой.
— К вам тут, Нина Анисимовна, пустить? — приоткрыв двери, спросила нянечка с наивной бесцеремонностью, свойственной людям, чье маленькое служебное положение позволяет им оставаться такими, как они есть.
Он вошел в кабинет.
Сидя за столом, знакомая воспитательница писала. Работала она в очках и поэтому, повернув голову, не сразу разглядела вошедшего.
Рябиков приблизился к столу. Нина Анисимовна сняла очки и, видно, сразу узнала его:
— Ах, это вы?!
Петру Васильевичу показалось, что она вовсе не была удивлена его приходом.
— Садитесь, пожалуйста.
Глазами она указала на кресло с высокой клеенчатой спинкой.
— Что-нибудь случилось?
Рябиков опустился на сиденье и подался вперед, чтобы усесться понадежнее.
— Да нет, ничего такого… — торопливо и нескладно забормотал он. — Я так, по пути. Помните, говорил вам. Работаю рядом в театре. Приводил девочку промокшую… Так вот, извините, узнать хотел — не простудилась ли она, ну и вообще… Как ведет себя?
— А, это Антонова. Тоня совершенно здорова. Вы хотели ее повидать?
Чего угодно мог ожидать Рябиков, но не такого вопроса. Он замялся, не зная, как быть дальше.
— Значит, говорите, здорова?
— Вполне. Сейчас на прогулке.
— Это хорошо, что здорова, — кивнул он, старательно придумывая, что еще можно сказать. А Нина Анисимовна продолжала смотреть в его сторону. Тут бы закурить — сигареты и спички теснились в кармане, но какое там, он в кабинете директора детского дома!
Петр Васильевич убрал под сиденье ноги, а руками ухватился за натертые до блеска львиные головы подлокотников. Можно было подумать, что он боится выпасть из кресла. Нине Анисимовне стало жаль этого нескладного, стеснительного человека, и она пришла ему на помощь:
— Значит, вы в театре работаете?
— Старшим электриком, — с готовностью закивал Рябиков.
— А я у вас «Риголетто» слушала. Есть хорошие голоса.
— Когда Чувляев герцога поет. Молодой, а талант!
— Да я его, кажется, и видела.
Оба они понимали, что говорят совсем не о том, и оба старательно поддерживали эту беседу. Но все же необходимо было переходить к делу, и Рябиков, собравшись, проговорил:
— Я, извините, хотел спросить. Если вашу Тоню, с подругой конечно, пригласить на утренник. Пусть посмотрит… Детский балет у нас есть — «Тараканище».
Воспитательница задумалась. Пальцы с бесцветно наманикюренными ногтями сжали дужки очков.
— Видите ли… Как ваше имя-отчество?
— Петр Васильевич.
— Видите ли, Петр Васильевич. В практике у нас это не водится. Детей мы отпускаем только с близкими им людьми. Вы и сами, вероятно, понимаете.
Руки Рябикова усиленно полировали деревянных львов.
— Я понимаю, но вы можете обо мне узнать… Я тут работаю двенадцать лет…
— Да полноте, — легким движением руки остановила его Нина Анисимовна. — У меня нет никаких оснований… Вы, конечно, женаты?
— Больше десяти лет.
— И детей нет, — скорее сказала за него, чем спросила она.
— С женой хорошо живем, — почему-то заторопился сообщить Рябиков.
— Видите ли, — помолчав, продолжала воспитательница, — тут есть один серьезный момент. Наши дети чрезвычайно чутки к чьему-нибудь вниманию со стороны. Самое опасное — заронить им в душу смутную надежду, а потом оставить травму. Ну, а Антонова вообще ребенок очень восприимчивый.
— Да, да, конечно… Я понимаю.
Наступило неловкое молчание. Из коридора доносился топот и ребячьи крики.
— Она вам понравилась? — неожиданно спросила воспитательница.
— Смешная.
Директорша улыбнулась:
— Именно смешная. Озорная, конечно. А судьба ее не из легких. Мать ведь от нее отказалась чуть ли не сразу… Оставила ей только имя.
— Антонина?
— Нет. По-настоящему ее зовут Жульетта. Тоня — это по фамилии. Дети назвали так. Ну, а и мы привыкли. Как-то уж очень непросто: Жульетта.
— Да, Жульетта… откуда и взялось?
— Из кино, наверно, — Нина Анисимовна задумалась. — И вообще ребенок не простой. Хотя душа открытая.
— И мне так показалось, — кивнул Рябиков. — А что не простой, так ведь как всякий… Своих у меня не было, но чужих видел много.
Воспитательница скрестила дужки и решительным движением положила очки на стол.
— Ну вот что, — твердо произнесла она, глядя на Рябикова. — Я здесь давно работаю и догадываюсь, что пришли вы неспроста…
Бледно наманикюренные ногти застучали по стеклам очков. Рябиков ждал. И вдруг директорша сказала:
— Хорошо. Я отпущу ее с вами на утренник. И отпущу одну, хотя это и против наших правил. Но не все в жизни делается по правилам, — она как-то очень по-домашнему, облегченно вздохнула. — Когда кончается спектакль?
Петр Васильевич назвал время.
— Это хорошо, что так рано. Утром вы приходите за Тоней сюда. Я скажу ей, что, если она будет себя вести хорошо всю неделю, — пойдет на балет. А Тоня постарается, я знаю. Когда утренник кончится, кто-нибудь из наших подойдет к театру и встретит ее. И еще одно условие. Пожалуйста, ничего ей не обещайте. Решительно ничего.
— Хорошо, — сказал Рябиков и поднялся.
Они попрощались за руку, как старые знакомые.
— Долго же, — сказала ему толстая нянечка, когда он очутился внизу.
Она отложила журнал и стала подавать Петру Васильевичу пальто. Старуха настойчиво проявляла к нему внимание. Даже смахнула ладонью невидимую пыль с его кепки и одернула на нем пальто.
Словно он напряженно проработал день — с таким чувством Петр Васильевич покидал детский дом. Он отворил вторую дверь и вдохнул свежего воздуха. И тут же кто-то налетел на него с разбегу и уперся ему в живот. Петр Васильевич услышал смех, крики и увидел группу детдомовцев, возвращавшихся с прогулки. Уже подходя к дверям, они вздумали пуститься наперегонки, а Рябиков оказался на пути самой шустрой и столкнулся с нею в тот миг, когда она уже собиралась влететь в помещение. Девочка подняла голову, и Петр Васильевич увидел знакомые быстрые глаза и нос-кнопку. Озорница, видно, тоже сразу его узнала. Щеки ее вспыхнули малиновым румянцем. Оба растерялись.
— Здравствуй, Тоня! — сказал Петр Васильевич.
Дети столпились вокруг.
— Вы опять жаловаться на кого-нибудь приходили?
— Откуда взяла? — Петр Васильевич не ожидал этакой резкости. — Я и раньше на тебя не жаловался.
Девочка чуть помолчала.
— Правда. А тогда зачем из двери нашей выходите?
— А может быть, я ходил кого-нибудь в театр к нам пригласить.
— Вы артист?
— Нет, не совсем.
— А кто?
— Ну, работаю в театре…
— В театре артисты работают.
— Не только. И другие тоже. Когда придешь — увидишь, кем я работаю.
— А меня в театр не пустят.
— Может быть, и пустят.
— Когда?
— Не знаю. Как себя вести будешь.
Обойдя группу, молодая воспитательница отворила двери.
— Дети, не задерживайтесь, проходите! — настойчиво потребовала она.
Петру Васильевичу удалось отступить. Ребята пошли в дом. Тоня махнула рукой и заспешила за остальными:
— Пока. Позовите нас в театр!
Она еще кивнула и исчезла за дверьми.
Весело насвистывая, он поднимался по лестнице и отпирал дверь. Но, войдя в комнату, почувствовал себя как-то неловко. Будто провинившийся, уткнулся в газету, пряча взгляд от хлопотавшей у стола Ани. После обеда сел к окну, принялся разбирать похожий на папиросную коробку полупроводниковый приемник, который давно обещал отремонтировать одному из актеров.
Глава 4 НАЧАЛО РОМАНА
В воскресенье на утреннике ставили «Тараканище».
Этот балет прошел в театре уже не один десяток раз и был хорошо знаком Петру Васильевичу.
Каких только тут не было трюков — и танцевальных, и постановочных, и особенно световых. Петр Васильевич понимал, что «Тараканище» не мог не понравиться Тоне. Ведь всякий раз, когда шел спектакль, зал дрожал от шумного восторга и дружных детских хлопков.
В самом начале одиннадцатого он уже торопился на свидание. Рябиков волновался. Отчего-то казалось — он идет зря: вдруг в последний момент Нина Анисимовна не решится нарушить существующие правила. А может быть, маленькая озорница не захочет идти в театр одна. Может, она вовсе его и не ждет.
Вчера вечером он сказал жене, что спектакль в воскресенье очень ответственный, что смотреть придут важные гости. В этих словах за скрытой шуткой таилась попытка хоть как-то оправдаться перед Аней. Во всяком случае, для Петра Васильевича это было облегчением.
С утра Аня дала ему подкрахмаленную рубашку, надевать которую было для него истинным мучением. Без помощи жены он вообще не справлялся с запонками и воротничком. Когда она повязывала ему галстук, Петру Васильевичу стало как-то не по себе. Показалось, что он несправедливо обижает Аню. Он выпил чай, съел все, что от него требовалось, и, раньше чем следовало, покинул дом.
И вот, ругая себя за то, что волнуется как безусый мальчишка, он снова отворял двери детского дома.
Тоня ждала его в вестибюле. Пальто было застегнуто на все пуговицы. На голове ладно надет беретик. На ногах — старательно намытые резиновые ботики. В руках девочка держала принаряженную куклу.
Как только Рябиков вошел, она вскочила со скамьи и, забыв поздороваться, радостно воскликнула:
— Сейчас я скажу Нине Анисимовне!
Она было уже побежала вверх по лестнице, но вдруг, видимо о чем-то вспомнив, вернулась назад, стащила с ног ботики, поставила их под скамью и, дробно постукивая подошвами начищенных ботиночек, снова бросилась наверх.
Все это произошло так быстро, что Рябиков даже не заметил, что Тоня, наверное от волнения, позабыла с ним поздороваться. Да ведь и он тоже не успел вымолвить ни слова.
Они вернулись вдвоем. Назад девочка шла чинно, ступая впереди Нины Анисимовны.
— Здравствуйте, Петр Васильевич, — сказала та, поздоровавшись с ним. — Так, значит, минут двадцать второго… Смотри, Тоня, не шали в театре.
А Тоня уже успела надеть и застегнуть ботики и смело и доверчиво протянула Рябикову свою тщательно отмытую от чернильных пятен ладошку.
Когда оказались на улице, оба не знали, с чего начать разговор.
— Ты в каком классе, Тоня? — спросил Рябиков.
— Во втором «Б».
Помолчали. Потом он опять спросил:
— А зачем ты куклу с собой взяла?
— Это Люся. Она всегда со мной. Только когда я в школе или гуляю — она спит. Я ее воспитательница. Она тоже хочет в театр. Можно ей посмотреть? — забеспокоилась девочка.
— Конечно, можно. Раз ты взяла ее.
— Ей самой хотелось.
— Кто же тебе ее подарил?
— Мне подарили на день рождения. — Она задумалась. — Кто подарил? Все.
— Понятно, — кивнул Рябиков.
Подошли к зданию театра, недавно выкрашенному, но потемневшему от дождя, который непрерывно моросил последние дни. Петр Васильевич раздумывал, куда усадить Тоню. Он заранее договорился с администратором, и тот обещал хорошее место в директорской ложе. Но Рябикову вдруг не захотелось расставаться с девочкой. Если он на минуту и забежит повидать ее во время антракта, что же это у них будет за знакомство! И он решил взять ее к себе в регуляторскую. Ведь оттуда все отлично видно. Правда, слишком близко. Но возможно, Тоне именно это и будет интересно.
— Хочешь сидеть там, где я работаю? — спросил он.
Она сразу же уверенно кивнула.
— Только это почти на сцене. Танцевать будут прямо перед тобой. Согласна?
Тоня опять наклонила голову.
— Из зала ты еще успеешь насмотреться, — сказал Рябиков.
Они разделись на служебной вешалке. Косички Тони были хорошо прибраны. Байковое платьице выглядело строго и нарядно. Тоня раздела и куклу, сунула ее пальто в рукав своего.
— Ваша? — спросила гардеробщица.
Петр Васильевич сделал вид, что не слышал вопроса. Он взял Тоню за руку и повел вверх по узкой каменной лестнице.
Поднялись во второй этаж, потом пошли длинным коридором. В конце его, на площадке лестницы, докуривая папиросу, стоял человек в меховом комбинезоне. За спиной его, как мешок, висела медвежья морда. На площадке было тесно, и, чтобы разойтись, пришлось потесниться.
— А, привет, Васильич, — сказала медвежья шкура. — Привел? Давно пора. Хорошая девочка. А я и не знал. Будем знакомы.
— Мы спешим, — бросил Рябиков и потянул Тоню дальше.
Они стали спускаться по крутой железной лесенке. Больше, к радости Петра Васильевича, на пути никто не попадался, и они наконец очутились в регуляторской. Синим отливом поблескивали металлические дуги, горели красные огоньки. Петр Васильевич нажал какую-то кнопку и сказал в круглую сеточку:
— Мамкин, я здесь. Все в порядке?
— В порядке, привет, Петр Васильевич. Все на месте! — послышалось откуда-то из стены. — Вместо Чистякова сегодня Римма. У Чистякова бюллетень. Грипп схватил.
— Хорошо, — сказал Рябиков и нажал другую кнопку. — Римма, это я, Рябиков! Здравствуй! Выписку хорошо знаешь?
— Это и есть театр? — спросила Тоня, с каким-то даже страхом оглядывая помещение регуляторской.
— Вот театр. Смотри сюда.
Он велел ей заглянуть в маленькую щелку. Тоня увидела огромный зал, в огнях и золоте. Было много детей. Они занимали места и громко переговаривались между собой. А где-то рядом бестолково трубили трубы и, будто передразниваясь, пилили скрипки.
— За нами оркестр, — пояснил Рябиков. — Слышишь? Это музыканты настраиваются.
В тесной регуляторской стояли две треноги с просиженными кожаными сиденьями. Петр Васильевич покрутил сиденье, и оно поднялось выше. Но он что-то прикинул и сказал:
— Низковато.
Петр Васильевич вышел и вернулся с толстой твердой подушкой. Положив ее на сиденье, он усадил Тоню так, чтобы ступни ее упирались в перекладину треноги. Показав на широкий вырез под потолком регуляторской, он сказал:
— Смотреть будешь сюда.
Тоня увидела перед собой доски пола, а за ними, совсем близко, желтый плюшевый занавес. Она подняла голову — занавес уходил вверх, как дорога.
И вдруг кто-то приглушенно произнес:
— Регулятор, приготовиться! Выводить зал!
Петр Васильевич, который уже устроился на другой треноге, взялся обеими руками за черные рукоятки и медленно повел их вниз. И сразу же ярко, как солнце, засветился желтый занавес. Затих оркестр, и в зале наступила тишина. И сейчас же, как гром, так что Тоня даже вздрогнула, совсем рядом ударили барабаны.
— Теперь начнется, — наклонился к ней Петр Васильевич.
Занавес пополз вверх, и на Тоню повеяло холодом. Почти рядом она увидела чьи-то беленькие лапки. Занавес поднялся еще выше и исчез, а перед Тоней открылся целый звериный город.
У зверей был праздник.
Тоне нужно было не только смотреть спектакль — еще показывать его кукле Люсе. Надо было держать Люсю так, чтобы она тоже все хорошо видела. Сперва Тоня даже спрашивала Люсю: «Интересно, да? Нравится?» Но вскоре кукла уже лежала у нее на коленях вниз лицом, а Тоня, замерев, во все глаза глядела на сцену.
Сидя на своем привычном месте, Петр Васильевич украдкой наблюдал за маленькой гостьей. Она сидела не шелохнувшись, почти не мигая, с полуоткрытым от удовольствия ртом. Щеки Тони порозовели. В регуляторской было душно, и Рябиков включил вентилятор. Но Тоня не замечала ни жары, ни внезапно пришедшей прохлады. И как-то рука Петра Васильевича сама по себе оторвалась от рычажка реостата и легла на голову девочки. Он осторожно погладил ее шелковые волосы и почувствовал, как Тоня чуть заметно вздрогнула и… — или ему это только показалось? — прижалась к его ладони.
Наступил антракт.
Петр Васильевич оставил Тоню и велел ей ничего не трогать. Наскоро выкурив сигарету, он поднялся в актерский буфет и попросил взвесить ему самый большой апельсин. Потом вернулся в регуляторскую.
— Тебе, — сказал он и протянул апельсин. Но Тоня вдруг убрала свободную руку за спину:
— Мне не надо. У нас все есть.
— Ну, вот еще… — Рябиков как-то сразу растерялся. — Ты смотри. Таких апельсинов нигде нет.
Он отколупнул кусок толстенной шкурки и стал очищать апельсин. В регуляторской приятно запахло. Потом он взял Тонину руку и вложил в нее апельсин, ставший вовсе не таким большим.
Тоня ела апельсин и спрашивала:
— А зачем эти колесики?
Рябиков пояснял.
— А можете сделать, чтобы везде, везде стало темно?
— Могу!
— Сделайте! — Она даже зажмурилась, вообразив такой невероятный случай.
— Зачем же? — опешил Петр Васильевич.
— А интересно. Вот все завизжат!
Он погрозил ей пальцем и улыбнулся. Ему нравилось, что Тоня даже не верит, что он такой большой начальник — командует всеми огнями в театре.
А та немного помолчала и вдруг спросила:
— А как мне вас называть?
Он задумался. Уж очень не хотелось, чтобы она звала его «дядей Петей».
— Меня Петром Васильевичем зовут, Тоня.
— А вот я и не Тоня. Отгадайте, кто я!
— Отгадаю.
— Ну, кто?! Ни за что не отгадать!
— Ты — Жульетта.
Тоня подозрительно насторожилась:
— А откуда знаете?
— Знаю! Давно.
— А откуда?
Но тут снова послышался голос:
— Начинаем второе действие… Рябиков, приготовиться. Свет в зале!
Тоня прильнула к вырезу, открывающему ей сцену.
Глава 5 ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ СЛОВО
Как полюбил Рябиков театр!
Скажи ему кто-нибудь лет пятнадцать назад, что с годами он заделается чуть ли не артистом, будет участвовать в представлениях, он бы только отмахнулся. А теперь не понимал, как мог раньше жить без театра. Нужно было, и Петр Васильевич проводил в нем дни и ночи, лишь бы добиться слаженности на сцене.
Всякий раз, сидя в регуляторской во время спектакля, он волновался не меньше любого исполнителя, и, хотя пальцы его механически передвигали рычажки реостатов ровно на столько, на сколько это предписывалось строгим порядком постановки, Петру Васильевичу каждый раз казалось, что он по-своему освещает сцену и что именно от него зависит, насколько удачно пройдет спектакль.
Тоня уже заметила, что стоило ему повести рычажки вниз — и все на сцене становилось красным, а солнце заходило за горы. Стоило поднять их вверх — и откуда-то возникал лунный свет. Нажимал он кнопку — и зажигались звезды, а большая круглая луна загоралась ярче и ярче.
На сцене все было так интересно. Но и за руками Петра Васильевича было интересно следить, а потом смотреть, что стало на сцене.
Но вот последний раз ударили и задрожали могучие барабаны, и золотой занавес опустился. Петр Васильевич вырубил сцену и стал включать зал. Актеры выбегали кланяться. Тоня видела только их ноги. Наконец занавес потух и сделался тусклым и скучным.
— Вот и все, — сказал Рябиков. — Ну, понравилось?
Тоня была разочарована тем, что все так быстро кончилось. Она сказала:
— А я бы Тараканища не испугалась. Я бы ему как дала!..
— О, я знаю, ты смелая. Видел.
Петр Васильевич затянул чехлом реостаты.
Узкими лесенками пошли к выходу. Пахло чем-то сладким, как на кухне, когда готовят пирожные. Чтобы сократить путь, Рябиков повел Тоню главным актерским коридором. В открытые двери маленьких комнат без окошек было видно, как перед ярко освещенными зеркалами артисты стаскивали с себя волосатые шкуры. В одной из комнаток на диване валялась зеленая лягушечья оболочка, в другой лежала голова льва.
Тоня во все глаза глядела на эти удивительные вещи. Так и тянуло что-нибудь потрогать. Но Рябиков вел ее по коридору как мог быстрее.
Внизу, возле служебного гардероба, к Тоне, уже одетой, подошел толстенький лысый человек со скрипкой в черном футляре. Музыкант тоже собирался домой. Остановившись возле Тони, он приподнял за подбородок ее лицо и громко сказал:
— Ах, какие у нас глаза! Доченька! Маслины алжирские… — и, обернувшись к Петру Васильевичу, добавил: — Ваша такая?
— Моя, — буркнул Рябиков, не желая давать объяснений.
Вышли на улицу. Моросил мелкий, как мокрая пыль, дождик. Лишь только захлопнулись за ними двери с тугой пружиной, Тоня сразу же вырвала свою руку:
— Зачем вы сказали, что я ваша? Я не ваша! Я детдомовская.
Петр Васильевич опешил. Он не нашелся, не знал, что ответить. Но как раз в этот момент перед ними возникла Нина Анисимовна. Значит, она сама решила встретить девочку.
— Ну, вот и вы! И вовремя, как говорили. Ну как, Тоня, тебе понравилось?
— Понравилось, — насупясь, ответила та.
Нина Анисимовна сразу заметила неладное:
— Ты сказала спасибо Петру Васильевичу?
— Спасибо, — коротко кивнула девочка.
— Ну, хорошо. Подожди меня. Сейчас пойдем.
Тоня отошла в сторону и молчаливо, покорно стала ждать.
— В чем дело? Почему такая суровость? — спросила Нина Анисимовна, тревожно вглядываясь в лицо Рябикова.
Он смущенно рассказал о том, что произошло у вешалки.
— Да, — сделавшись задумчивой, кивнула воспитательница. — Я вам говорила. Девочка с характером.
Помолчали. Нина Анисимовна протянула руку.
— Спасибо вам, — сказала она.
— Да за что же! Ничего не стоит. Вы бы видели, как она смотрела… Если позволите, я еще приду. Я думаю, мы помиримся.
— Прежде обдумайте хорошенько. Мне кажется, вы Тоне понравились.
— Да? Вы думаете? — растерянно переспросил Рябиков.
— Мне так кажется.
— Ну, прощайте. Всего хорошего. Она ждет, — закивал Петр Васильевич. — Я думаю, я… Мы скоро придем.
Нина Анисимовна подошла к Тоне и взяла ее за руку. Петр Васильевич стал хлопать себя по карманам, отыскивая сигареты и спички. Уже закурив, он посмотрел им вслед. Ему показалось, что Тоня обернулась и помахала ему куклой.
Глава 6 НЕМНОГО ЖИТЕЙСКОГО
В семействе Наливайко произошел небольшой разлад.
Ольга Эрастовна вернулась с работы несколько позже обычного.
Наливайко сидел за столом, отщипывал кусочки с утра нарезанного серого кирпичика и, смиренно пережевывая черствый хлеб, читал журнал «Международная жизнь».
Он был голоден и раздражен долгим отсутствием жены. Это состояние выразилось в том, что по-детски надувший губы кандидат наук не проявил должного внимания к супруге в тот момент, когда она наконец вошла в комнату.
Из многолетнего опыта совместной жизни Ольга Эрастовна знала, что сердитое настроение мужа улетучивается немедленно, как только он съедает тарелку супа. Но на этот раз она не спешила на кухню. Больше того. Именно сегодня решила она кое-что высказать Евгению Павловичу, и его молчаливый вызов лишь придал ей боевого духа.
— Все получают квартиры. Только мы, наверно, так и умрем в этом общежитии, — бросила Ольга Эрастовна с явным расчетом неожиданной атакой застать мужа врасплох.
Наливайко оторвался от статьи о движении буддистов на Среднем Востоке и сквозь очки обалдело посмотрел на раскрытую дверцу гардероба, за которой переодевалась жена. Подумав, он решил не реагировать на ее неожиданный выпад.
В следующую минуту Ольга Эрастовна в домашнем халатике уже стояла возле стола.
— Пожалуйста, не притворяйся, что ты не слышал, — продолжала она, отодвигая от него плетенку с хлебом.
Кандидат стойко молчал, делая вид, что чрезвычайно увлечен событиями религиозной распри.
— Как ты думаешь, почему я задержалась?
Евгений Павлович пожал плечами, но, поняв, что дальнейшее невнимание к словам жены может дорого обойтись, закрыл журнал.
— Нам утвердили список на десять квартир. Нужно было дождаться, пока его привезут из жилуправления, и позвонить всем счастливчикам. Да еще поздравить их жен, — продолжала она.
— Ну и что же, хорошо, я ведь ничего не говорю…
— Конечно, хорошо, кто в этом сомневается… Кое для кого даже слишком хорошо. Мальчишки, давно ли кончившие аспирантуру, получают по две комнаты.
Наливайко отлично понимал, куда клонит Ольга Эрастовна, но делал вид, что к нему это не имеет отношения.
— Ну, значит, люди были не устроены… Пришло время, — скороговоркой откликнулся он, собираясь снова окунуться в международную жизнь.
Но это ему не удалось.
— Вот именно, пришло время, — в голосе Ольги Эрастовны появились драматические нотки. — Пришло для всех, кроме тебя. Тебе время не пришло… Конечно, с твоим характером…
— Но, Ольга! Это же справедливо…
— Справедливо! — Она с сожалением посмотрела на мужа. — У тебя все справедливо. У нас тоже есть праведники вроде тебя, готовые ждать и ждать…
— Но позволь. — По профессиональной привычке Наливайко готов был ринуться в спор. — В конце концов, у нас с тобой две комнаты. Соседи — мирные, хорошие люди. Тихо… Детей в квартире нет.
— Но могу же я, в конце концов, хоть умереть в отдельной квартире?! — с пафосом воскликнула Ольга Эрастовна, вовсе не собиравшаяся умирать в ближайшее время.
— Конечно, можешь. И я убежден — придет время. У нас организуется кооператив. Потерпи немного, — Евгений Павлович снова потянулся за корочкой.
— Перестань кусочничать! Не будешь обедать!
Ольга Эрастовна окончательно забрала плетенку с хлебом и, чуть шаркая каблучками домашних туфель, покинула комнату.
Нужно сказать, что вообще-то супруги Наливайко вовсе не тяготились пребыванием в коммунальной квартире. Прежде Ольге Эрастовне и в голову не приходила мысль о необходимости каких-либо перемен. Но теперь, когда повсюду только и слышалось: «Мы получили в новом доме…» — «Далеко?» — «Что вы, метро десять минут…» — теперь Ольге Эрастовне непреодолимо захотелось обзавестись собственной квартирой, пусть небольшой, но отдельной, в которой не какой-то там кухонный уголок, а все — с коридорчиком и балконом — можно будет убрать по-своему.
Когда Ольга Эрастовна появилась на кухне, там собрались все женщины.
— Евгению Павловичу предложили вступить в кооператив, — объявила она. — Будет прекрасный дом со всеми новшествами. Только боюсь… Я так привыкла к центру. Не представляю, как жить где-нибудь у Средней Рогатки!
— Поздравляю, весьма рада за вас, — певуче откликнулась Августа Яковлевна, которая разогревала два сырника на полуметровой в диаметре сковороде. — Это же прелестно, что у нас теперь строят новые кварталы среди зелени, на открытом воздухе.
— В конце концов, все будут жить в отдельных квартирах, — сказала Ольга Эрастовна.
— Ну, голубушка, — продолжала Августа, — мне отдельной квартиры уже не надо. Что мне в ней делать? Разговаривать сама с собой?
— И верно, — включилась в беседу Мария Гавриловна, вытиравшая клеенку на своем столе, — без людей — тоска. Какое житье без людей?
— Захотите поговорить с соседями, пойдете в сад. Теперь строят микрорайоны со специальными садами для пенсионеров. Просто мы привыкли жить как в купейном вагоне. Пора уже от этого уходить, — заявила Наливайко.
В этот момент со щеткой и платьем в руках на кухне появилась Рита.
— Вот спросим молодежь, — обрадовалась случаю Ольга Эрастовна. — Скажите, Рита, вы бы хотели получить отдельную квартиру?
— А куда она мне, — пожав плечами, бросила девушка.
— То есть как — куда? Выйдете замуж. Вы же, естественно, захотите жить в своей квартире.
— Ну, тогда конечно. — Рита о чем-то задумалась.
— Вот видите! — торжествовала супруга Наливайко, нарезая тончайшими дольками очищенный огурец.
— Понятное дело, когда семья, дети, — продолжала Мария Гавриловна. — Ну, а вот хоть взять Аню с Петром Васильевичем. Оба работают. Какая им надобность в квартире?
Анна Андреевна участия в разговоре не принимала. Молча слушала, что говорили другие. Она стояла у плиты и дожидалась, пока вскипит чайник.
— Отдельная квартира нужна человеку для осознания личной полноценности!
Это произнес Кукс. До этой минуты на него никто не обращал внимания, и он молчаливо, как всегда, что-то закладывал в свой индивидуальный кухонный шкафчик.
— Семейным нужно наперво давать, у которых дети, — стояла на своем Мария Гавриловна.
— Да, сегодня, — холодно продолжал Олег Оскарович. — Но что мы скажем завтра, если, предположим, население квартиры увеличится? — И он почему-то покосился в сторону Риты.
Хотя сырники Августы давно зарумянились и огонь был выключен, она не покидала кухню. Но Кукс больше не высказывался. Полный достоинства, он отправился в свою комнату. Послышался звук запираемой двери. Все знали — сейчас застучит машинка.
Аня — незаметно для других — тихо рассмеялась. Ее развеселила эта досужая женская болтовня, в которую включился Олег Оскарович. Аня сняла с плиты закипевший чайник и ушла к себе, чтобы, как это делала всегда, в лицах передать мужу забавный разговор.
Глава 7 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ПРИШЛИ
Этот обычный кухонный обмен мнениями, конечно, никому не запомнился. Да такие ли дискуссии возникают тут, когда собираются женщины! Бывает, поднимаются вопросы немалого жизненного накала, а ответы и выводы следуют — только слушай и набирайся мудрости. Но, как ни странно, именно этой обычной беседе суждено было стать преддверием событий, которые вскоре развернулись в квартире № 77.
Прошла неделя с тех пор, как Петр Васильевич так неладно расстался с Тоней-Жульеттой. Дни в театре шли хлопотливые, беспокойные. По горло занятый Рябиков старался не вспоминать о девочке — не потому ли, что сознавал: сложностей на пути к осуществлению его мечтаний было бы чересчур много. Постепенно он все тверже приходил к выводу, что Ане, а в особенности ему, поздно менять жизнь.
Убеждал он себя в этом и по ночам, когда докуривал перед сном сигарету, глядя на спокойно прикрывшую глаза, такую милую и близкую ему жену. Думал, гнал всякие навязчивые мысли и решал, что жить должен по-прежнему.
В следующее воскресенье на утреннике опять шел «Тараканище». В этот день многое не ладилось. Внезапно перегорели лампы в одном из верхних софитов. Еще утром Рябикову по телефону домой сообщили, что его помощник внезапно заболел, на работу не выйдет. Пришлось заменить его молодым, недостаточно опытным осветителем.
Кое-как справившись со всеми бедами, Петр Васильевич уже снимал чехлы с реостатов, когда ему позвонили и сказали, что его срочно требуют на вахту.
Рябиков никого не ждал и ни с кем не уславливался. Однако подумал, что мог и позабыть. До начала спектакля оставалось двадцать минут, и он торопливо направился к служебному выходу.
В освещенной слабым верхним светом вахтерской, у двери, жалась группа девочек разного роста, но чем-то схожих, а впереди них — это Рябиков сразу разглядел — стояла Тоня. Увидев Петра Васильевича, она виновато и счастливо заулыбалась, а темные зрачки засияли тревожно и просительно.
— Здравствуйте, это мы пришли, — еще издали закивала она. — Это мои подруги, я им рассказала про Тараканищу, и они тоже очень хотят посмотреть. Пустите нас к себе.
— Всех?! — Петр Васильевич был сражен.
— Да, — заторопилась Тоня. — Это всё мои подруги. Мы из разных классов. Нас отпустили гулять до обеда, а я их привела. Вы пустите?
— Тоня, но ведь… Нужно было хотя бы раньше договориться.
— Это верно, — вздохнула она. — Я рассказала, и им так захотелось… А потом мы узнали по радио, что сегодня «Тараканище», вот и пришли… Вы не думайте, мы будем тихо-тихо… Нельзя, да?
Четыре девочки, которых притащила с собой Тоня, с такой мольбой и надеждой смотрели на Рябикова, что казалось, от того, попадут они сейчас на балет или не попадут, зависит, жить ли им дальше на свете.
И Петр Васильевич не выдержал.
— Ждите тут, — скомандовал он и, оставив девчонок, кинулся внутрь театральных лабиринтов.
Что было делать?
Рябиков побежал к администратору. Тот сидел в своей крохотной, обвешанной афишами каморке, возле кассы, и, как нельзя некстати, говорил по телефону. Администратор кому-то очень мягко и очень обстоятельно в чем-то отказывал. По-видимому, человек, с которым он говорил, был тоже не из тех, что легко отступают, разговор грозил затянуться надолго.
Некоторое время понаблюдав за Рябиковым, который в нетерпении переминался с ноги на ногу у его стола, администратор сказал в трубку: «Подожди одну минуту» — и, прикрыв рукой мембрану, спросил:
— Что тебе, Петр Васильевич?
— Илья Маркович, — Рябиков молитвенно сложил свои жесткие ладони, — Христом-богом умоляю: устрой куда-нибудь детей! Пришли, понимаешь… Через десять минут начинаем.
— Минуточку, — повторил Илья Маркович в трубку и положил ее на стол. — Твои, что ли? — Он взял вечное перо и потянулся к маленькому блокнотику.
— Пятеро их, — выпалил Петр Васильевич.
— Что?!
Администратор положил перо.
— Все детдомовские, — поторопился разъяснить Рябиков.
— Детдомовские?! Откуда у тебя пятеро детдомовских? Ничего себе… Что вы хотите от меня, товарищи?!
У Ильи Марковича была такая привычка. Когда он отказывал в контрамарке кому-нибудь из сотрудников, он обращался к нему, как к осаждающей толпе.
— Вы что смеетесь, товарищи! — Администратор опять поднял трубку.
— Илья Маркович, прошу тебя! — хрипло проговорил Рябиков. — Девять минут осталось… Свои бы, не просил… Детдомовские!
— Детдомовские ходят организованно!
Петр Васильевич оперся руками о стол Ильи Марковича и навис над ним всем своим худощавым телом:
— Я тебя прошу. Слышишь, один раз так прошу… И не уйду. Не могу уйти… Нельзя мне их прогнать назад. Понимаешь, нельзя!..
Администратор снова прикрыл рукой мембрану и поднял голову. Никогда он еще не видел таким покладистого Рябикова. Илья Маркович понял — это уже не просьба. И Илья Маркович сдался.
— Под суд вы меня отдадите, товарищи! Пять штук, — плачущим тоном произнес он и снова взялся за перо. Лысина администратора почти уперлась в грудь Петра Васильевича. — В ложу дирекции… Скажешь, я велел посадить. Выговор я за вас всех схлопочу, товарищи.
Но Рябиков уже не слышал привычных причитаний. Схватив спасительную бумажку, он спешил к служебному выходу. Пять пар девчоночьих глаз встретили его единым молчаливым и тревожным вопросом.
— Бегите скорей кругом, раздевайтесь! — Он сунул бумажку Тоне. — Покажете контролеру. Она вас посадит.
— Я вам говорила! — вырвалось у Тони. — Побежали!
— Тоня! — Рябиков на секунду задержал девочку. — Когда окончится, подождите меня у входа.
— Хорошо! — крикнула она и исчезла в дверях вслед за своими подругами.
В регуляторскую он влетел за три минуты до начала. Отчаянно мигал сигнал вызова.
— Все в порядке, я на месте, — сообщил Рябиков в микрофон ведущему спектакль.
— Фу ты. — Слышно было, как помреж шумно вздохнул. — Где тебя носит? Тут уже не знаю что и делать… Предупреждать надо.
— Срочно был вызван начальством, — засмеялся Рябиков, устраиваясь на своей треноге. Он заглянул в глазок с правой стороны будки.
В полумраке директорской ложи у барьера появилось пять детских головок, и одна из них на тоненькой шее очень знакомая.
В антракте он купил апельсин, чтобы отдать его после спектакля Тоне.
Девочки ждали его на улице у служебного входа.
— Спасибо, спасибо!.. Вот так спасибо!.. — заплясав, стали визжать они на разные голоса, как только Рябиков, застегивая на ходу пальто, показался в дверях.
Пошли всей толпой, шумно обмениваясь впечатлениями.
Тоня была ближе других. Она все время поднимала голову и смотрела в глаза Петру Васильевичу.
— А почему, — вдруг спросила Тоня, — лягушка, когда испугалась, прыгала, прыгала, а потом взяла и пошла, как все люди?
Петр Васильевич рассмеялся.
— Так ведь это уже за сценой. Там артисты всегда так.
— Значит, они все по-нарочному? — обидчиво протянула одна из девочек. — А мы думали, она и правда боится Тараканищу.
Свернули на улицу, где находился детский дом. Стало совсем пасмурно, начался мелкий дождь.
— Побежали, девчонки! — предложила Тоня.
Петр Васильевич решил, что и ему придется бежать вместе с ними, но Тоня хитрила. Только девочки бросились наперегонки к дому, она сжала ему руку.
— А мы пойдем тихо.
Это уже было похоже на маленький заговор. Вдруг она спросила:
— А почему вы за мной не приходили? Не было детских спектаклей, да?
— Я был очень занят, Тоня, — не очень-то находчиво ответил Петр Васильевич.
«Почему не приходили?» Значит, она ждала его. Нет, не простой была его затея. Вот и теперь… С той минуты, когда он увидел ее сегодня в вахтерской, его опять упрямо потянуло к ней.
Подошли к дверям, за которыми уже скрылись Тонины подруги. Следовало прощаться, но Тоня, кажется, не спешила. Не торопился и Петр Васильевич.
— Вы теперь домой? — спросила она.
— Теперь домой. Пора.
— А что будете делать? У вас есть дети?
— Нет.
— А почему? У других есть.
Он не знал, что ответить, а Тоня продолжала допрашивать:
— Вы живете один?
— Нет, вдвоем.
— С мамой?
— Что ты, я уже старый.
Тоня о чем-то задумалась, и тогда он спросил:
— А ты бы хотела жить с мамой?
— Да, когда она приедет и заберет меня к себе. — Она помолчала и добавила: — И папа, наверно, приедет.
Дождь пошел сильнее, но они не обращали на него внимания, как влюбленные, которым трудно расстаться, хотя уже пришло время.
— Тоня, — спросил Рябиков, — а тебе нравится со мной?
Она кивнула.
— Ты бы хотела бывать со мной часто?
Девочка подняла голову и в свою очередь вопросительно посмотрела в лицо Рябикову.
— Я пойду. — Тоня внезапно сорвалась с места и, вбежав по ступенькам, приоткрыла дверь. Потом она крикнула: — А больше детских спектаклей нет! Я знаю, — и исчезла за дверью.
Дождь пошел ровно и длинно, как идут осенью в Ленинграде. Не было никакой надежды на то, что он приостановится хотя бы на несколько минут. Рябиков поднял воротник и двинулся к дому.
Об ногу его бил апельсин, который он забыл отдать Тоне.
Глава 8 ЕЩЕ ОДНО ОБЪЯСНЕНИЕ
— Ой, до чего же вымок! — воскликнула Аня, когда он вошел в комнату. — И куда спешил, обождал бы.
— Да разве переждешь! Льет без остановки.
Петр Васильевич снял промокшие пальто и кепку и повесил их на крючок.
Стол был накрыт по-праздничному. В вазе лежали яблоки. Аня его ждала.
Рябиков скинул пиджак, повесил его на спинку стула и отправился в ванную. Он мылся с удовольствием. Весело насвистывал мотивчик польки из «Тараканища».
Аня сходила на кухню и принесла кастрюлю с супом. Суп перегрелся. Петр Васильевич опоздал к обеду. Аня посмотрела на мокрое ссутулившееся на вешалке пальто и решила растянуть его на двух крючках. Так пальто скорее высохнет. При этом что-то в кармане его мягко ударилось о стену. Аня сунула руку в пальто и вынула большой бугристый апельсин. «Зачем он принес его? Есть яблоки». Аня положила апельсин на стол и снова пошла на кухню.
Петр Васильевич вернулся в комнату с полотенцем в руках. Посредине стола, рядом с яблоками, рыжел апельсин, Пальто висело, старательно распятое на двух крючках вешалки. Сомнений не было — это тот апельсин, который он купил для Тони.
Вернулась Аня. Петр Васильевич, избегая ее взгляда, надел домашнюю куртку и сел к столу.
— Хорошо прошел утренник? — спросила Аня.
— Нормально. Как всегда.
Съели суп. Апельсин лежал на столе, и Рябиков будто не обращал на него внимания. Конечно, ничего не стоило сказать: «В театре были хорошие апельсины. Вот и взял тебе один». Но нет, он не мог лгать. Это было бы подло по отношению к Ане. Он молчал. Аня заметила внезапную перемену в настроении мужа. Она ни о чем его не расспрашивала, но Рябиков почувствовал — чего-то от него ждала.
И вдруг он даже обрадовался этому нелепому случаю. Когда бы еще он решился признаться? Так бы все и тянулось. А тут… Сейчас он ей все расскажет. А она… Она его жена. Ей думать, как быть.
— Аня, — произнес он, стараясь придать голосу как можно больше спокойствия. — Я давно хотел с тобой поговорить.
Она невольно вздрогнула.
— Ты не бойся, — деланно рассмеялся Петр Васильевич. — Ничего такого… Пустяки. — И тут же поправился: — Не совсем пустяки, конечно.
Аня молчала, наклонив голову. Она понимала, что сейчас услышит что-то очень серьезное, от чего будет зависеть многое в их жизни.
— Я давно тебе хотел рассказать, Аня…
— Я ждала… — тихо проговорила она.
И тут он неожиданно рассмеялся. Рассмеялся весело и непринужденно, как редко ему доводилось смеяться, но уж если случалось, то от чистой души. И Аня знала это.
Она подняла голову и с надеждой в глазах взглянула на мужа.
— Слушай, — начал он, коснувшись ее руки и сразу оборвав смех. — Помнишь, когда меня облила машина на площади?.. Тогда я тебе не все рассказал.
Там, на кухне, наверное, давно вскипел чайник, а они все сидели за столом. Аня слушала опустив голову, а он негромко и не очень-то складно рассказывал обо всем, чем жил последние дни.
— Ну, вот и все. И апельсин был ей. Забыл отдать сегодня… Теперь суди.
Аня по-прежнему еще не проронила ни звука. Может быть, в душе ее и шевельнулась скрытая обида. Если бы не случай, когда бы еще сказал… Но ведь это он, ее Петя. Она всегда хотела, чтобы ему было хорошо.
Рябиков ждал.
Как раз в этот момент раздался стук в дверь.
— Аня, я чайник твой выключила. Как есть весь выкипел! — кричала Мария Гавриловна.
— Ой, что же это я? Спасибо!
Аня вскочила. Рябикову показалось, что она обрадовалась тому, что ее окликнули. Так ничего и не сказав, она кинулась на кухню. Но уже в дверях обернулась и улыбнулась знакомой доброй улыбкой.
Будто тяжелое обвинение свалилось с Петра Васильевича. Поспешно закурив, он взволнованно заходил по комнате.
Аня вернулась. Она деловито отыскала подставку и опустила на нее еще булькающий чайник.
— Вот что, Петя, — сказала она, переставляя на столе чашки. — Возьмем ее, раз ты решил. Неужели мы вдвоем-то одну не прокормим не хуже других? Тесно, правда, у нас, — она как бы впервые окинула взглядом комнату. — Да хватит и на троих места.
Он был сражен внезапным согласием.
— Да как же так, сразу… — растерянно проговорил Петр Васильевич. — Ты же и не видела ее.
— Так тебе же нравится… Смешная, говоришь…
— Но все-таки, а ты?
— И мне понравится, раз уж так по-твоему, — она вздохнула и снова ему улыбнулась.
Рябиков понял. Теперь она сделает так, как захочет он. Так бывало всегда. Порой даже если ей и не очень хотелось. И ему будет никогда не дознаться — произошло это по зову сердца или против Аниной воли. И все же в этой покорной ее готовности, в быстрых согласных словах он не увидел, а скорее почувствовал плохо скрытую ревность.
— Нет, — уже совсем спокойно сказал Рябиков. — Решать мы будем вместе. И решать не так, что мне в голову взбрело… И ты поглядишь, подумаешь… Пораскинем, как быть, и вообще все… Назад потом некуда.
Глава 9 БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Нет, не из тех была Аня, кто забывает однажды доверенное близким человеком. С того вечера у Ани на выходило из головы признание Петра Васильевича, и она все время поторапливала мужа.
И началось.
Читал раньше Рябиков в газетах — там-то нашла родителей девушка, обездоленная войной, кто-то вырастил и воспитал четверых чужих детей, другие забрали ребенка у недостойной матери, — и думалось ему: все просто. Захотели люди, сказали, что согласны взять ребенка, — и новый член семьи в доме.
Никогда не мог он себе представить, что дело, такое доброе и человечное, вдруг окажется столь хлопотливым.
Петр Васильевич ходил к Тоне. Однажды принес ей подарок. Подарок был скромный, но добротный — вышивальный набор. Выбирала его Аня. Тоня за подарок поблагодарила, а потом сказала, что вышивальный набор хороший, но еще больше ей нравится набор для выпиливания.
Ходили они с женой в детский дом на праздник. Аня сидела отдельно от Рябикова. Жульетта Антонова читала на празднике стихи, а потом танцевала обезьянку в паре с другой девочкой. Аня смотрела на нее, и ей казалось — все видят, как она краснеет.
После праздника, как только остались вдвоем, Рябиков не без волнения спросил жену, понравилась ли ей девочка.
— Маленькая очень. Меньше своих лет, — сказала Аня.
— Ничего. Подрастет. Она крепкая, — заторопился Петр Васильевич.
Но по тому, как Аня произнесла эти слова — задумчиво и чуть-чуть беспокойно, он понял, что Тоня ей понравилась.
Потом уже Аня узнавала, что следует делать дальше. Вместе ходили по детским учреждениям и различным исполкомовским комиссиям. Формальностей было так много и казались они такими ненужными, что порой даже спокойный Петр Васильевич выходил из себя.
Брали справки из поликлиники о здоровье его и жены. Брали справку в домовом хозяйстве. В театре, конечно, уже все знали о его затее и все поздравляли. Кто искренне радуясь, а кто и с некоторым сочувствием, как бы подбодряя перед рискованным делом.
Потом к ним приходила Нина Анисимовна. Пили втроем чай. Рябиков при Нине Анисимовне не курил и пепельницы все спрятал. Разговор был отвлеченный, но Петр Васильевич все больше молчал и только изредка поддакивал женщинам.
И вдруг Аня сказала:
— Кроватку вот сюда поставим. Я уже приглядела. Есть такие аккуратные — до четырнадцати лет считаются. Как раз встанет, а шкафчик уберем в коридор.
Показывала она все это с какой-то опаской, словно боялась, что Нина Анисимовна не согласится. Но та только кивнула головой и рассказала о том, как одну девочку взяли к себе какой-то генерал с женой и была для девочки отдельная комната и все будто куда как хорошо, а генеральша потом приходила и жаловалась, что девочка потихоньку плачет и скучает по детскому дому. Генеральша тоже расстраивалась и спрашивала, что тут делать, и Нина Анисимовна не могла им дать никакого совета.
Она умолкла. Молчала и Аня. Петр Васильевич решил, что директорша рассказала эту историю неспроста. Он с опаской посмотрел на Аню, и она сказала:
— Не поняли, значит, они друг друга.
Подумав, Нина Анисимовна кивнула.
— Наверное. Но так бывает не часто. Дети тянутся к семье.
И от этих слов всем сделалось легче.
Кажется, все было решено. Оставалось главное: согласие Тони.
И вот настал день.
Петр Васильевич и Аня пришли в детский дом и, притихшие, уселись рядышком на старом клеенчатом диване в знакомом ему кабинете.
Позвали Тоню. Она вошла настороженная, немного испуганная. Увидев на диване Рябикова, Тоня улыбнулась ему и сразу же почему-то застеснялась.
— Садись, — сказала Нина Анисимовна и показала девочке на кресло.
Та не без труда забралась в него, свесив ноги в чулках резиночкой.
Немного помолчали, и первой заговорила Нина Анисимовна.
— Тоня, — произнесла она, — знаешь ли ты, что это твои папа и мама?
Нет, это был не вопрос, скорее утверждение. И Тоня, наверное, поняла. Она внезапно вспыхнула. Быстрый взгляд скользнул с директорши на Аню и остановился на Рябикове.
— Не знаю, — тихо сказала девочка.
— Да, — кивнула Нина Анисимовна. — И они этого раньше не знали. Ты потерялась, а теперь тебя нашли. И фамилия твоя, оказывается, не Антонова, а Рябикова.
— А зовут Жульетта? — быстро спросила Тоня.
— Зовут, правильно, Жульеттой.
Тоня молчала. Ее маленькие ладони, выдавая волнение, ерзали по краю сиденья.
— А почему меня нашли только сейчас?
— Так случилось. Ты потерялась крошкой, и никто не знал, где ты. А Петр Васильевич тебя узнал.
— А почему сразу не сказал?
— Он не знал, ты ли это, а потом все стало известно.
— Мне не говорили, что я потерялась.
— Знали, что тебя найдут. Теперь ты будешь жить с папой и мамой, как все дети. Ты пойдешь к ним.
— Сейчас? Сразу?
— Да.
— Ну, Тоня, милая, пойдем домой, — Анна Андреевна поднялась с дивана и погладила девочку по волосам.
— А вы правда моя мама? — спросила Тоня.
— Ну конечно же, — кивнула Анна Андреевна.
Девочка задумалась.
— Значит, я здесь больше не буду жить?
— Да.
Тоня соскользнула с высокого кресла.
— Можно, я побегу расскажу девочкам, что я нашлась?!
Глава 10 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ЖУЛЬЕТТА!
Ее привели во второй половине дня. То, что она тут появится, знали уже все обитатели семьдесят седьмой квартиры, и каждый к этому относился по-своему.
— Абсолютно правильный поступок, — сказала Августа Яковлевна. — Я всю жизнь прожила одна, а посмотришь — глупая, никому не нужная жизнь.
Мария Гавриловна повздыхала, заметила, что с ребенком хлопот хватает, но все же сделала философский вывод:
— А она, жизнь, — вся в заботах. Без них-то что и делать?
Рита сказала просто:
— Вот и хорошо, пошумней будет, а то скука в квартире.
Ольга Эрастовна расспросила Аню, что за девочка, и обещала принести книгу «Питание детей», которая продавалась у них в институте в киоске.
Наливайко тоже отнесся положительно, сказал Петру Васильевичу, что он и сам давно подумывал, но дело в том, что Ольга Эрастовна и он — люди не очень здоровые, и пойти на такой шаг рискованно.
Что касается Олега Оскаровича, то он не сказал ничего. Отношение Кукса к надвигающемуся событию осталось загадкой.
Первой, с кем познакомилась Тоня, была Августа Яковлевна. Ее догнали на площадке возле дверей квартиры. Августа Яковлевна неторопливо поднималась домой.
— Здра-а-вствуй, девочка, — чуть нараспев приветствовала она Тоню. — Как тебя зовут?
— Жульетта, — сказала Тоня.
— Ка-а-к? — Августа Яковлевна вынула из сумки очки и, приложив их к глазам, дружелюбно, с любопытством осмотрела новую соседку.
— Жульетта — это по-взрослому, — поторопилась объяснить Анна Андреевна. — Пока Тоней зовут.
— Прелестное имя Жульетта. И тебе идет. А меня зовут Августа Яковлевна. Будем знакомы.
Аня отлично знала, как не любила старуха, когда ее называли бабушкой. Однажды она даже остановила упорно нажимавшего на «бабушку» водопроводчика. «Друг мой, — сказала она, — у меня еще нет внуков».
Петр Васильевич ожидал, отворив двери.
— За границей есть такой обычай: молодожен вносит жену в свою квартиру на руках. Ну, а дочка, я думаю, должна входить сама, — сказала Августа.
Тоню пропустили вперед. Последним вошел Петр Васильевич. Он внес чемодан и захлопнул дверь.
Прошли коридором и, отворив нехитрый замок, очутились в комнате. Тоне показали столик перед окном.
— Здесь ты будешь готовить уроки, а спать — вот тут.
Тихая и послушная, она сейчас ничем не напоминала ту озорницу, с которой познакомился Рябиков. Ему показалось: девочка робеет, оставшись с ними наедине.
— Ничего не бойся, — сказал Петр Васильевич. — Ты дома. Это твой дом, как и наш, — всех троих.
Не очень умело Анна Андреевна переодела ее в домашнее платье. Рябиков дал Тоне книгу, которая была специально для нее приготовлена, и та уселась с нею к окну.
Из коридора слышалось, как хлопали двери, до Тони доносились негромкие голоса, приглушенно брякала посуда. Квартира по-вечернему оживала.
Пообедали, и Петр Васильевич отправился в театр. На прощание он погладил Тоню по голове.
— Ну, не скучай, дочка.
Они остались вдвоем. Хлопоча по своим делам, Аня украдкой посматривала в Тонину сторону. А Тоня — тоже нет-нет да и взглянет на нее. Похоже было — обе они чего-то ждали друг от друга. Стемнело, и Аня зажгла свет.
— Почитай мне вслух. Можешь?
Тоня кивнула. Она раскрыла книгу и стала бойко читать про храброго Чиполлино.
Аня села и, сложив руки, стала слушать.
— Ты быстро читаешь, молодец, — сказала она.
— Могу еще скорей, — Тоня принялась так быстро бегать глазами по строчкам и такой скороговоркой выпаливать целые фразы, что Аня догадалась — девочка хитрит: книгу она знает наизусть.
— Подожди-ка. А вот почитай мне тут, — Аня взяла газету и ткнула пальцем в заголовок статьи на первой странице.
— На уро-ве-нь но-вых задач, — торопясь и от этого спотыкаясь больше обычного, прочла Тоня.
— Это неинтересное, — сказала она.
Аня засмеялась:
— Верю, что ты хорошо читаешь.
Вдруг она вспомнила, что сегодня кое-чего не успела купить. Она спросила Тоню, не боится ли та посидеть одна. Но Тоня и не думала бояться. Тогда Анна Андреевна быстро накинула пальто, взяла сумку. Потом сказала:
— Ты ведь знаешь, где у нас что, если будет надо?
— Знаю, — кивнула Тоня.
Она осталась одна. Читать про Чиполлино надоело. В квартире снова все стихло. Тоня взяла куклу Люсю и стала устраивать ей комнату.
— Ничего не бойся. Это наш дом, твой дом, — сказала она, — а я теперь твоя мама. Ты нашлась.
Откуда-то из коридора послышалось негромкое «чик, чик, чик…» Потом один раз — «чик!». И вдруг быстро-быстро — «чики, чики, чики, чики…» Словно чирикали маленькие птички. Почирикают, подумают и опять свое — «чик, чик, чик».
Тоня оставила Люсю и вышла в коридор. Там было темно. Из-под двери наискосок пробивался слабый свет. Чикало за дверью. Тоне так хотелось узнать, кто это там чикает… Нащупав в темноте ручку двери, она тихонько приоткрыла ее и заглянула в комнату. За столом сидел лысый в клетчатой кофточке человек и что-то выстукивал на маленькой машинке. Оказалось, чикала машинка.
Дверь скрипнула, и лысый повернул голову.
Делать было нечего, и Тоня вошла в комнату.
— Что вы делаете? — спросила она.
Лысый, видно, не сразу понял:
— Я печатаю.
— А что?
— Печатаю стихотворение.
— Какое?
Он немного подумал:
— Это стихи про тунеядцев.
— Про кого?
— Про плохих людей.
— А зачем про плохих стихи писать? Чтобы они стали хорошими?
— Называется сатира, — пояснил лысый. — А ты откуда?
— Я Тоня. Так меня зовут, а правильно Жульетта. Я буду тут жить. Это теперь мой дом. Я нашлась.
— Значит, ты и есть та самая девочка… — Он не договорил. — Закрой, пожалуйста, дверь.
Тоня затворила за собой дверь и приблизилась к лысому. Ей очень хотелось посмотреть машинку, на которой печатают стихи.
— А вас как зовут?
— Меня — Олег Оскарович.
— Вы можете еще постучать?
Кукс посмотрел на бумагу, которая лежала рядом с машинкой, и несколько раз ударил по клавишам одним пальцем. Машинка весело зачикала.
— Так печатают книжки? — спросила Тоня.
— Книги печатают на больших машинах в типографии.
— Хм, — пожала плечами Тоня, — а я думала, у вас птички.
Кукс задумался.
— Птички! Это хорошо, — сказал он про себя и что-то записал в маленькую книжечку.
— Я пойду, — вздохнула Тоня.
Он поднялся из-за стола и, выпустив Тоню, зачем-то запер за нею двери на ключ.
В коридоре над столиком, где стоял телефон, горела лампочка. Наверное, кто-то забыл ее погасить. Тоня подошла к телефону и, не снимая трубки, покрутила колесико. Вдруг телефон весь задрожал и зазвонил. Тоня вздрогнула и отскочила. Открылась дверь напротив, и оттуда вышел толстенький человек в очках. Он подошел к телефону и в свою очередь удивился, увидев Тоню.
Толстенький поднял трубку и сказал:
— Да, Наливайко!
Тоня не поняла, кому он это сказал. А Евгений Павлович, поговорив еще немного и обещав завтра где-то обязательно быть, положил трубку. Телефон динькнул и умолк.
— Ты кто такая, девочка? Как тебя зовут? — спросил он так, как спрашивают маленьких детей. При этом Наливайко снял очки и внимательно осмотрел Тоню.
— Я Жульетта, — сказала она.
— Жульетта!.. Скажи пожалуйста!..
— Ну тогда — Тоня.
— Вот как! Понятно. Ты оттуда… Там твои папа и мама?
Тоня кивнула.
— Знаешь что?.. Зайдем-ка к нам, — он отворил двери и пропустил ее в комнату. Тут было очень красиво. Над диваном с подушками горела лампа из трех разноцветных колпачков на тоненькой золотой ножке. И еще длинной светящейся трубочкой голубела лампа над столом, где лежали книги. На стенах зачем-то висели тарелки, а в шкафу за стеклом были расставлены всякие блестящие жирафчики и собачки, деревянные пузанчики и матрешки.
— Олюшка! — окликнул кого-то толстячок. — Посмотри-ка, к нам пришли познакомиться!
Из соседней комнаты вышла высокая женщина в черном с цветами халате. Яркие желтые ромашки величиной с Тонину голову будто рассыпались по нему от плечей до полу, где халат кончался.
— Это Тоня-Жульетта, Олюша.
— А-а! Очень рада… Хочешь, девочка, печенья?
Ольга Эрастовна подошла к шкафу, отодвинула в сторону большое стекло и вынула вазочку с печеньем. Потом протянула ее Тоне. Печенье было обсыпано сахаром и искрилось, как снег.
— Я не хочу, — сказала Тоня.
— Бери, бери, детка.
— Не стесняйся, — настаивал толстяк, — мы свои, соседи.
Тоня вздохнула и взяла одно печенье. Но есть его не стала, а держала в руке. Она опять огляделась и спросила:
— А у вас есть дети?
— Нет, — помотал головой Евгений Павлович.
— А чьи это игрушки?
— Это?.. А-а… — он рассмеялся. — Это игрушки Ольги Эрастовны. Она их собирает.
— А зачем?
— Для красоты, деточка, чтобы в комнате было красиво, — пояснила Ольга Эрастовна.
Больше говорить было не о чем. Вазочку с сахарным печеньем поставили назад за стекло.
— А печенье тоже для красоты? — спросила Тоня.
— Нет, печенье чтобы есть, к чаю.
— Очень милая девочка, — сказала Ольга Эрастовна и пошла, шурша шелковым халатом.
— До свидания, — сказала Тоня.
— До ближайшего свидания, — кивнул ей толстенький.
Тоня дошла до двери и вдруг спросила:
— А кому вы велели по телефону: «наливай-ка»?!
Толстенький весело рассмеялся:
— Это я никому не велел. Это у меня такая фамилия — Наливайко. Евгений Павлович Наливайко. Смешная, да?
Тоня деликатно пожала плечами.
— Ничего, все привыкают. Привыкнешь и ты, — он выпустил девочку и притворил за ней дверь. Потом крикнул:
— Забавная, правда, Олюша?
— Ребенок как ребенок, — отозвалась та из соседней комнаты. — Слава богу, кажется, тихая.
Тоня опять оказалась в пустом коридоре. Телефон молчал. В углу, сложенная, стояла большая кровать с медными завитушками. Тоня положила печенье в кармашек платья и потрогала кровать. Ничего не случилось. Сделалось скучно. Тоня подумала, что в детском доме сейчас играла бы с девочками в школу. А одной играть неинтересно. Она не знала, что еще придумать. Вдруг где-то рядом мяукнуло. Это мяукнуло за еще незнакомой дверью. Потом мяукнуло еще раз. Двери немного растворились, и из комнаты, косо щурясь на лампочку, вышел полосатый, как тигр, рыжий с серым кот. Его пушистый хвост поднимался вверх и расходился, как дым из трубы. Кот лениво приблизился к Тоне и понюхал ее ботинки.
Она наклонилась и осторожно погладила его вдоль упругой и теплой спины.
— Как тебя зовут, кот? — Но так как кот ничего не отвечал, решила представиться сама: — А меня — Тоня.
— Ах вот, значит, ты и есть Тоня!
Это сказал не кот. Тоня увидела чьи-то ноги в сапожках с остренькими носиками. Она подняла голову. На нее, улыбаясь, смотрела совсем молоденькая тетенька. На голове, прикрывая высокую прическу, у нее был повязан желтый платочек.
— Это не кот, это кошка Васька, — сказала тетенька.
— А почему Васька не кот?
— Она Василиса, но все зовут Васькой, чтобы скорей. А я Рита.
— Тетя Рита?
— Нет. Просто Рита, и все. А ты Тоня. Я знаю.
Василисе, видно, надоело их слушать, она мурлыкнула что-то свое и пошла на кухню.
— Сколько тебе лет, Рита? — спросила Тоня.
— Двадцать три. Много.
— Да, — согласилась Тоня. — Ты уже старая. А мне уже восемь с половиной. А детей здесь нет.
— Ничего. Дети во дворе. А мы с тобой будем дружить. Ладно?
Тоня кивнула. Можно было дружить и с Ритой, раз в квартире больше никого не было.
— Мне нужно идти, — сказала Рита. — Мы еще с тобой поговорим. А теперь пойдем к нам.
Она взяла Тоню за руку и повела в свою комнату.
— Тетя Маня! — крикнула Рита. — Тут наша соседка, Тоня.
В комнате было почти темно. Горела лампочка над кроватью, абажур ее был прикрыт плотной материей. На стуле сидела старушка в домашних тапочках и смотрела в телевизор, который стоял на высоком столике.
— Здравствуй, Антонина, — сказала она. — Садись-ка рядом. Посидим с тобой, послушаем, что говорят.
— Я не Антонина, я Жульетта, — сказала Тоня. — Тоня это меня зовут, чтобы скорей.
— Все едино. Садись, Жульетта, гостьей будешь, — она подвинула Тоне стул рядом с собой.
— Пойду, опаздываю, — взглянув на свои часики, заторопилась Рита. И каблучки ее сапожек, отстучав в коридоре, стихли.
Тоня уселась на стул рядом с тетей Маней. В телевизоре все что-то говорили и говорили. Тоня посмотрела, посмотрела и заскучала. Глаза привыкли к темноте, и она стала оглядывать комнату. Тут не стояли за стеклом ни игрушки, ни печенье, но Тоне здесь понравилось. И старушка была чем-то похожа на Анну Поликарповну.
— У вас только Василиса? — спросила Тоня.
— А кого еще?
— А у нас в уголке природы были снегири и длиннохвостка. А еще черепаха, твердая как камень.
— Черепах у нас нет.
— А птичек весной мы выпускали в небо.
— Вот и хорошо.
— А зимой ведь им лучше в тепле? И мы их кормили.
— Зимой кому на холоде хорошо?
— А синичка и зимой любит лес.
— Синица — зимняя птица.
Поговорили еще о понятном для обеих. В дверь постучали, и она отворилась.
— Вот ты где! Она у вас, а я ищу.
— Телевизор глядим, Аня. Все про Африку говорят, а мы свое.
— Идем, Тоня, кушать и спать. Тебе пора.
Через полчаса, закрывая глаза, она подумала о том, что завтра увидит Риту, с которой есть о чем поговорить, и сразу же уснула. Впервые в своей жизни уснула в домашней постели, в квартире, где жило так немного людей и кошка Василиса. Уснула в комнате, где стала третьей в семье. Рот Тони был полуоткрыт. Она дышала неслышно и ровно, и ничего ей не снилось.
Глава 11 ТАКОГО ЕЩЕ НЕ СЛУЧАЛОСЬ
Это был просто неслыханный звон. Так в семьдесят седьмой квартире не звонили, даже когда приносили телеграмму-молнию. Трезвонили все звонки. Сперва каждый по очереди на свои тон. Потом сразу по два, затем опять один за другим. Настойчиво гудел зуммер в комнатах Наливайко. Надрываясь, хрипел старый квартирный звонок. Отрывисто сигналил экономически выгодный звонок Кукса.
Неизвестно, сколько бы времени продолжалась звонковая вакханалия, если бы с черного входа в квартиру не вошел Олег Оскарович. Положив на шкафчик переполненную покупками пластикатовую папку — с утра Куксу пришел долгожданный перевод, — он направился отворять двери.
На площадке Олег Оскарович увидел Тоню. Она стояла ногами на своем портфельчике и старательно давила на все кнопки.
— Здравствуйте! Я пятерку по-русскому получила!
— Хорошо, — сказал Кукс. — Но зачем так ненормально звонить?
Он шагнул за дверь и нажал кнопку своего индивидуального звонка. Звонок действовал. Олег Оскарович вернулся в квартиру.
Тоня еще была в коридоре и разыскивала в условном месте ключи от комнаты.
— Ты разве не знаешь, какой звонок ваш? — спросил Кукс.
— Знаю, с красненькой кнопочкой, и написано «Рябиковым».
— Почему же звонила во все другие?
— А я свои ключи дома забыла.
— Не следует забывать ключей, — сказал Кукс.
— Верно, — согласилась Тоня.
— Испортишь чужой звонок. Кто будет чинить?
— Кто? Петр Васильевич. Он умеет. Я попрошу его, и он починит… Он мой папа…
Тоня отворила двери и вошла в комнату, а Кукс пошел на кухню. Там принялся разгружать папку. Он вынимал из нее коробки, банки и заряжал запасами свой шкафчик. Так он добрался до кулечка с конфетами. Сперва Олег Оскарович подумал, не угостить ли девочку, но, рассудив, решил, что угощать нашалившего ребенка непедагогично, унес конфеты к себе.
В комнате Тоня положила портфельчик и увидела на нем высохшие следы ног. А портфельчик был новый, только что подаренный папой. Да, ее папой!.. А почему Олег Оскарович так посмотрел на нее, когда она сказала: «Он мой папа»? Петр Васильевич велел, чтобы она звала его папой. И тетю Аню чтобы звала мамой. А у Тони не выходило… Почему? Ну, просто потому, что раньше у нее их не было.
Но задумалась Тоня над этим ненадолго. Нужно было почистить портфельчик. Тоня приподняла краешек пальто и стала счищать высохшую грязь.
С утра ей была дана инструкция. Вынуть из кастрюли с супом кусочек мяса, намазать маслом хлеб и съесть с мясом. А потом выпить кружку молока. Но ей было скучно возиться с мясом. Да и доставать молоко долго. Тоня отрезала горбушку хлеба, посыпала солью и стала есть. Хлеб был вкусным, и соль тоже. Тоня сидела на стуле, ела хлеб и думала.
Она думала о новой школе. Дети в новой школе сначала показались чужими, а теперь уже казалось, что она учится с ними очень давно. Появилась даже подруга. Ее звали Эля Лопатина. Она приехала с Севера. Эля спросила Тоню, откуда она приехала и почему по-настоящему ее зовут Жульетта. Дома Тоне не велели говорить, что ее нашли, и она никому этого не говорила, но Эле она сказала, что ниоткуда не приехала, а нашлась. Как только Эля это услышала, она запрыгала и захлопала в ладоши:
— Ой, как интересно! Как в книжке «Без семьи»! Мне мама читала. Я бы тоже хотела потеряться, а потом найтись.
— Попробуй-ка потеряйся, — сказала Тоня.
— Верно, — вздохнула Эля. — Теперь уже поздно теряться, я большая.
Наверное, Эля все-таки проболталась, потому что на Тоню стали поглядывать другие девочки. Но она на них не обращала никакого внимания. Пусть смотрят и завидуют. А с Лопатиной решила больше не играть, раз у нее такой длинный язык.
Тоня доела горбушку и соскочила со стула. Нужно было идти во двор гулять. Она вышла в коридор и закрыла дверь на ключ.
Чикала машинка Олега Оскаровича. Тоня показала язык его двери и пошла к выходу. Когда она зажгла свет перед зеркалом, чтобы надеть шапочку, как это делала Рита, она вдруг подумала, что еще не заглядывала в ящик столика, на котором стоял телефон. Тоня выдвинула его и удивилась. В ящике лежали щетки, бархотка и разные банки с мазями. Тут она поняла, что нужно почистить ботинки. Скинула ботинки и открыла одну из баночек. Мазь оказалась коричневой. Открыла другую. Там была вовсе белая, как жир. Только в третьей баночке нашлась черная мазь. Тоня старательно намазала ею ботинки и начистила щеткой. Правда, потом поняла, что щетка была для желтой мази, но от этого ботинки не испортились.
Пока чистила ботинки, устала. Поскорей засунула все в ящик и задвинула его, как было.
Облегченно вздохнув, Тоня пошла к двери. Она поднялась на носки и повернула собачку замка. В это время под ногами оказалась Василиса, которая стала мяукать и проситься, чтобы ее тоже пустили гулять. Тоня выпустила ее и сама вышла на площадку. И как раз в это время из дверей напротив на площадку лестницы вышел мальчик такого же роста, как Тоня. Он был одет в серенькую курточку, застегнутую на все пуговицы. Высоко под подбородок повязан шарф, а ноги в толстых чулках и ботиках, какие носят девочки. Лицо у мальчика было такое, будто он никогда не ходил гулять. Бледное. А глаза за очками казались очень большими. Мальчик уставился на Тоню, но заговорить не решался.
Она тоже молча смотрела на мальчика. Потом ей надоело молчать, и она спросила:
— Ты откуда?
— Отсюда, — мальчик показал на двери за спиной. — А ты?
— Отсюда, — Тоня кивнула на свои двери.
— Я тебя раньше не видел.
— Я тебя тоже.
Мальчик пожал плечами:
— Раньше тут не было детей.
— А теперь есть. Нашлись. Ты куда идешь?
— Я никуда. Я жду маму. А ты?
— А я во двор играть.
— А меня во двор не пускают. Я болел целый год.
В это время за спиной мальчика появилась женщина в высокой, как ведро, шляпе. Тоня догадалась, что это мама мальчика.
Мама мальчика внимательно осмотрела Тоню и сказала ему:
— Идем, Толик. Мы опаздываем к профессору.
Она взяла его за руку и повела вниз. Тоня обогнала их и выскочила во двор.
Во дворе гуляла тонконогая Лера, которую Тоня не любила. Лера училась в третьем классе и поэтому смотрела на всех, кто младше, свысока, а сама, по мнению Тони, была очень глупой и плохо скакала в «классы».
Стали играть. Тоня проскакала все куда скорее Лериного. При этом Тоня еще умудрялась держать рукой свою другую ногу, а Лера этого не могла.
Пока они так скакали, домой вернулась Анна Андреевна. Проходя через двор, она остановилась возле девочек и спросила:
— Ты ела, Тоня? Ты сыта?
— Сыта-рассыта! — ответила Тоня.
На минуту они перестали скакать, и, когда Анна Андреевна ушла, Тоня сказала:
— Это моя мама — Аня.
— Знаем, — сказала Лера. — Сто лет знаем, что ты нашлась и что зовут тебя Джульетта.
У нее сделалось такое лицо, будто она съела что-то невкусное. Тоня насторожилась. Показалось, что Лера не очень-то ей верит. «До чего же она противная», — подумала Тоня, но только бросила:
— Никакая не Джульетта, а Жульетта! — и заскакала опять.
Но Лера только надула свои тонкие губы: она больше не будет скакать. Тогда Тоня сказала:
— Давайте рисовать на асфальте.
Но своенравная Лера не согласилась и на это. Дело было в том, что до появления во дворе Тони девочками верховодила Лера, а теперь положение менялось, и Лера тяжело переживала потерю прежнего влияния.
Походив одна, она все-таки вернулась к девочкам и нарисовала принцессу в широкой, как абажур, клетчатой юбке и с прямыми, как палки, волосами до колен. Тоня нарисовала школьницу в фартучке и с косичками, как крючки от вешалки. Потом она посмотрела, что делает Лера, и отнеслась к ее работе критически. На голову своей принцессы Лера насадила корону. Тоня сказала:
— Принцесс с коронами не бывает. С коронами — королевы.
— Ну и пусть, — не стала вникать в ее критику Лера. — Может, моя уже королева.
— Королев таких тоже не бывает. Они в платьях до полу и старые, — авторитетно настаивала Тоня.
— А моя молодая и в юбке из ателье.
— Все равно непохоже. Пусть лучше у нее в волосах будет гореть алмаз.
Тоня присела и, как мастер ученику, стала перерисовывать корону в большой синий камень с лучами.
— Нет, пусть не будет! — крикнула Лера.
Она стерла ногой Тонин алмаз и снова упрямо нарисовала корону в три раза выше, чем была раньше.
— Королев теперь никаких нет, — сказала Тоня. — Тогда пусть она с начесом, — и торопливо переделала корону в высоченную прическу, как у Риты.
— Не смей! Не твоя! Никакого у нее начеса нет! Она принцесса! — визгливо закричала Лера и, подбежав, толкнула Тоню. — Уходи с нашего двора!
— Не уйду, это теперь и мой двор, — Тоня была готова к бою.
— Тогда, тогда… Твоя школьница противная!
Лера кинулась к Тониному рисунку и принялась топтать его и стирать ногами. Тоня подбежала к ней и так сильно толкнула ненавистную Леру, что та не устояла на своих тонких ногах и упала. При этом она задела маленькую девочку. Девочка тоже упала и заревела на весь двор.
Неизвестно, что было бы дальше, если бы в этот момент Тоню не позвала спустившаяся вниз Анна Андреевна:
— Тоня! Иди-ка домой.
Тоня поскорей подняла маленькую Ксанку и почистила ей пальто.
— Только посмей… Как дам! — грозно и тихо сказала она Лере.
— И посмею! Сотру твою дурацкую жабу.
Драться на виду у всего дома все-таки не стоило. Тоня бросилась к ни в чем не повинной принцессе и одним взмахом пририсовала ей длинный нос Буратино, потом побежала домой. За спиной она слышала, как шаркали по асфальту Лерины ноги. Но Тоне уже не было жаль своего рисунка. Пусть стирает — она нарисует еще лучше, а королев в таких юбках все равно не бывает!
Еще на лестнице Анна Андреевна сказала:
— Ты зачем это обманула меня? Почему ничего не съела?
Теперь Тоне очень хотелось есть, и она сама не знала, почему тогда не поела.
Вошли в квартиру.
— Сейчас же раздевайся и мой руки, — последовал приказ.
Мимо дверей ванной проплыла кастрюля. Вкусно запахло борщом. Тоня заторопилась.
Через минуту она уже сидела за столом и, дуя на ложку, ела горячий борщ.
В коридоре захлопали двери. Соседи по одному возвращались домой.
— Тоня, — спросила Анна Андреевна, — ты сегодня оставила незакрытыми двери на лестницу?
Тоня поперхнулась остатками борща и закашлялась.
— Не торопись. Ешь спокойно.
— Я увидела мальчика в очках — он живет напротив — и забыла захлопнуть, — сказала Тоня. — Я буду теперь захлопывать.
— Смотри, — кивнула Анна Андреевна.
Тоня надеялась, что на этом дело и закончится. Но когда Аня вышла, оставив дверь приоткрытой, Тоня услышала разговор на кухне.
— Строго ей наказать надо. Так и обворовать могут. — Это Мария Гавриловна.
— Я уже ей говорила. Она больше не будет. — Это Аня.
Тоня в комнате кивнула головой.
Все, кажется, затихло. Но прошло еще немного времени, и Тоня услышала, как в коридоре громко заговорил Олег Оскарович.
— Извините, Анна Андреевна, — сказал он. — Сегодня ваша дочь ушла из дому… Про двери тут уже шла речь, и я не стану повторяться. Но по поводу света… Дело в том, что ваша девочка оставила горящими лампочки по всей квартире… Конечно, пустяки. Но здесь дело общественное. Хорошо, что я был дома и все погасил. И вообще это становится системой… Звонят звонки, горит свет в ванной и кухне… Звонки — это тоже расход энергии. Словом, зачем же звонить во все сразу?
Аня вернулась в комнату.
— Тоня! Ты слышала? — строго спросила она.
— Я забыла ключи, — сказала Тоня.
Анна Андреевна вздохнула.
— Я больше не буду давить на все кнопки, — сказала Тоня.
Вдруг Аня почему-то улыбнулась. Тоня никак не могла понять, чему она рада. Но догадалась, что гроза миновала, и улыбнулась в ответ.
— Ну, чего же ты смеешься? Ах, Тоня, Тоня. Жульетта… — покачала головой Аня. — Ну разве так можно — во все звонки?!
Можно было надеяться, что на этот раз неприятностям пришел конец. Но прошло еще немного времени, и из коридора послышался голос Ольги Эрастовны.
— Женик! — кричала она. — Женик! Это ты перепутал все крышки банок и намазывал черную мазь желтой щеткой?!
В коридоре скрипнула дверь, и раздался голос Евгения Павловича:
— Я не трогал никаких щеток, Олюша!
— Все банки закрыты кое-как. Щетка — в черном!
— Действительно, странно, — сдержанно прогудел Наливайко. — Кто бы это мог…
— Бог знает что делается! Чем теперь чистить бежевые туфли?!
— Ты? — тихо спросила Анна Андреевна Тоню.
— Я, — шепотом созналась Тоня.
Аня встала и вышла в коридор.
— Извините, Ольга Эрастовна, — проговорила она так громко, что в комнате было все отлично слышно. — Это натворила Тоня. Она не знала, что щетки не наши.
Тоня высунула голову в коридор и прокричала:
— Я думала, что они общие, всех!
Ольга Эрастовна ничего не ответила. Дверь в их комнаты захлопнулась.
Вскоре Наливайко куда-то ушли. Тоня уже была в коридоре и играла с Василисой. Видно, Ольга Эрастовна все-таки нашла чем ей почистить бежевые туфли. После того как за ними затворилась дверь и в коридоре еще пахло духами, Тоня услышала, как за дверью Рита говорила своей тете Мане:
— Ну, правда, как не стыдно… Твои, мои щетки!.. Твоя, моя кнопка! Для смеха это, что ли, назвали квартиры коммунальными?
Глава 12 ГЛАВА, НЕ ИМЕЮЩАЯ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ
— Здра-а-вствуй, Жульетта, — негромко протянула Августа, встретив в коридоре Тоню. — Пойдем-ка ко мне, девочка.
В комнату Августы, как на лестницу, вели двойные двери. Сперва она отворила одну из них, затем вторую.
— А почему две двери? — спросила Тоня.
— Для изоляции… Чтобы здесь было тихо. Когда-то, милая Жульетта, это был кабинет моего мужа… Давно, очень давно!
Тоне нравилось, что Августа Яковлевна называет ее Жульеттой. Так ее больше никто в квартире не звал. Она огляделась. Ну и заставлено же тут было!
— Зачем так много всего? — спросила Тоня.
Августа Яковлевна тоже осмотрела свою комнату так, будто увидела впервые.
— Действительно, много лишних вещей, — согласилась она. — Человек, Жульетта, ко всему привыкает, и к ненужному тоже. Надо бы давно половину выкинуть, но — все память…
За долгие годы одиночества Августа Яковлевна привыкла выражать свои мысли вслух. Ей было безразлично, с кем она говорила.
— А вот зачем я тебя позвала! — воскликнула она.
На столике с ножками, как вопросительные знаки, лежал пакетик. Августа Яковлевна развернула его и протянула Тоне:
— Угощайся, пожалуйста, дорогая!
В пакетике были конфеты в цветных блестящих обертках. Тоня уже знала, что отказываться нехорошо. Она взяла красную бомбочку.
— Еще, еще, девочка…
Тоня взяла темно-синюю и спросила:
— А кто этот чертик?
— Где? — не сразу поняла Августа. — Ах, вот этот? — Она указала на бронзовую фигурку на невысоком шкафу. — Это, милая, фавн.
— Кто?
— Мифологическое существо. Ну, как бы тебе объяснить… Он играет на свирели.
— А где он играет?
— В лесу, дорогая. Но это выдумка. Понимаешь мифология. Ну, сказка.
— Почему он с рожками и копытцами? — продолжала Тоня, не отрывая взгляда от странного зеленого человека с дудкой, на козлиных ногах.
— Так придумали. Давно. На самом деле его, конечно, никогда не было.
— Чертей тоже не бывает, — сказала Тоня.
— Конечно же. И бог с ними. Кушай конфеты.
Развернув конфету, девочка увидела картину Беклина.
— Это смерть? — спросила она. — А зачем он ей играет на скрипке?
— Это символ, милая. Он больной. Видишь, какой худой. Вот смерть и пришла за ним.
— Я бы ее скрипкой по голове, — сказала Тоня.
— И правильно поступила бы.
Тоня продолжала с любопытством обозревать разношерстную коллекцию Августы Яковлевны. Взгляд ее равнодушно скользнул по репродукции с шедевра Дега и застыл на висящей над кроватью внушительного размера литографии, изображающей белотелую Леду и плывущего к ней Лебедя.
— Эта тетенька загорает? — спросила Тоня.
— Да… вполне возможно.
— А гусь дрессированный?
— Это Лебедь, детка, ее друг, — пояснила Августа и торопливо добавила: — Ты, пожалуйста, ешь конфеты.
— Он говорящий?
— Это тоже мифология, то есть выдумка.
— А почему у вас все выдумка?
Августа Яковлевна немного задумалась.
— Ты, пожалуй, верно сказала. Сама я тоже уже выдумка.
— Нет, вы настоящая.
— Ты находишь?!
Похоже было, что Августа Яковлевна обрадовалась. Она обратила Тонино внимание на открытку, приколотую к стене возле шкафчика.
— Ты, конечно, знаешь, кто это?
— Конечно, знаю. Это Гагарин.
— Замечательный молодой человек. Когда я была девочкой, немного старше тебя, Блерио — французский герой — перелетел через Ла-Манш. Его носили на руках. А теперь люди у нас летают к звездам. Разве я могла думать, что доживу до этого? До чего же доживешь ты, дорогая? Я читала во французской газете, что на завтраке у английской королевы Гагарин поразил всех умением держаться… Это английских-то аристократов! Впрочем, что ему короли?
Как обычно, Августа увлеклась и не подумала о том, что Тоне неизвестно, ни что такое Ла-Манш, ни кто такие аристократы. Но такова уж была Августа Яковлевна.
— А разве королевы еще есть? — спросила Тоня.
— Есть. Немного.
— А я думала, они только в сказках. А зачем есть королевы?
Августа Яковлевна снова задумалась:
— Действительно, зачем?
— Я пойду, — сказала Тоня, покончив с первой конфетой.
— А?.. Подожди, Жульетта. Да… Я хотела тебе подарить книжки, которые читала еще моя племянница… «Алису в стране чудес»… и про собачку Бума… Но где они у меня?.. Ну, хорошо — найду позже.
Тоня еще раз посмотрела на фавна, на Леду с Лебедем и пошла к выходу. В коридоре свет не горел, и Тоня вдруг стукнулась плечом обо что-то железное.
— Ой! — вскрикнула она.
— Что такое? — встревожилась Августа. — Осторожнее! Ты наткнулась на кровать. Нужно обходить левее. Боже мой, ну когда же кто-нибудь поможет мне избавиться от этого чудовища!
Привычное восклицание, конечно, ничего не значило. И если даже и было услышано еще кем-либо в квартире, не могло быть воспринято как призыв к действию. Но в дальнейшем эти брошенные Августой слова привели к неожиданным последствиям.
Глава 13 ТОЛИК
Тоня захлопнула дверь и потянула за ручку, чтобы убедиться, что дверь заперлась надежно. В это время за спиной что-то щелкнуло. Она обернулась. Это щелкнул замок в соседней квартире. В дверях ее стоял знакомый мальчик в очках и смотрел на Тоню.
— Здравствуй, девочка, — сказал он.
— Здравствуй, Толик.
— Ты знаешь, как меня зовут?
— Знаю.
— А я не знаю, как тебя.
— Меня зовут Жульетта…
— Ого! Ты опять идешь играть?
— Да.
— А я не хожу без мамы. Она ушла к портнихе.
— Ты один играешь?
— Нет. Одному неинтересно. Иди к нам. Будем играть вместе.
Тоня задумалась.
— Ну, иди, — повторил мальчик.
— Ладно.
Толик отступил в сторону и, пропустив Тоню, затворил дверь.
— Снимай пальто. Это моя вешалка, — и он сам повесил ее пальтишко на низенькую вешалку, которая была прибита рядом с другой — для взрослых.
У Толика была своя комната. Тоня никогда раньше не могла подумать, что у такого маленького мальчика может быть своя комната. Кажется, она была больше, чем Тонина — на троих, с Петром Васильевичем и Аней. В комнате стояли кровать, шкаф, полка с толстыми книгами. На стенах висели картинки. Комната была нарядной, веселой.
— Ты тут живешь один? — спросила Тоня.
— Раньше мы жили с Иришей.
— С какой Иришей?
— Это была моя няня. Но теперь мне няня уже не нужна.
— У нас тоже была нянечка, — сказала Тоня. — И не одна.
— И у тебя?
— У нас всех.
Толик не очень хорошо ее понял, но переспрашивать не стал.
— У вас чисто, — сказала Тоня.
— Это все мама. Она мне надоела своим пылесосом.
— А книги это чьи?
— Мои.
— Такие толстые?
— Ничего особенного. Это Майн Рид, собрание сочинений. А тут — Гаргантюа. Я год не ходил в школу и все прочитал. А теперь мне читать нечего. Папа своих книг не дает. Он говорит, что жалеет, что так рано меня научили читать. Что у меня не будет детства… Но я все равно беру у него книги, только он не знает… Сейчас я читаю про графа Калиостро. Это был знаменитый авантюрист, ну, жулик… Она у меня вот тут замурована.
Хотя говорил он по-взрослому, но полез под шкаф, как обыкновенный мальчишка, и вытащил оттуда толстую книгу.
— Вот, только ты — ни слова!
И спрятал книгу назад.
Потом Толик повел ее к окну.
На окне лежал большой кусок полированной фанеры. А на фанере выстроились солдатики из цветного пластилина. Их было сотни. Каждый ростом чуть выше наперстка, но все в высоких шапках и даже с тоненькими киверами. У каждого солдатика ружье. Тут были маленькие пушечки на красных пластилиновых колесиках. Командиры сидели на конях с саблями над головой, и шапки у них были с хвостами.
— Ой! — вырвалось у Тони. Она была поражена.
— Это сражение под Тарутином, — пояснил Толик. — В войне тысяча восемьсот двенадцатого года. Вот здесь Наполеон среди своих верных маршалов. — Толик показал на темную фигурку в треугольной шляпе в конце фанерного листа. — А это фельдмаршал князь Кутузов. Рядом Барклай де Толли. Видишь, высокий!
— А зачем перед ними барабанчик? Они будут барабанить?
— Нет. На барабанах писали приказы. Вот сейчас начинается бой.
Толик тоненько запел трубой. Тоня во все глаза смотрела на фанерный лист, и вдруг ей показалось, что по нему, как по полю, забегали солдатики с ружьями. Командиры, размахивая саблями, заскакали на своих конях. Пушечки стали стрелять. Это было недолго. Наверное, не больше минуты. Потом все снова замерло, и солдатики сделались пластилиновыми.
— Кто победит? — спросила Тоня.
— Конечно, Кутузов, как в истории. Ты разве не читала «Наполеона» Тарле?
— Нет, — смущенно помотала головой Тоня.
— Я потом утащу у папы и дам тебе. Очень интересная книга.
— А кто это все вылепил? — спросила Тоня.
— Я. Смотри!
Толик вынул из коробочки, которая стояла тут же на окне, кусочки красного и синего пластилина, немного помял их в своих тоненьких пальцах и очень быстро стал что-то лепить. Еще минута — и перед Тоней на скачущем красном коне сидел синий всадник в треуголке.
— Как хорошо! — всплеснула руками Тоня.
Она еще раз оглядела комнату и увидела, что в углу, прислоненная к стене, стоит странная большая скрипка на тоненькой короткой ножке.
— Это твоя скрипка? — спросила она.
— Это виолончель.
— Ты на ней умеешь играть?
— Умею. Меня учат, и мама заставляет играть каждый день.
Тоня подошла к виолончели и потрогала струны. Они негромко загудели.
— У меня еще неполная, — сказал Толик.
— Можешь немножко поиграть? — осторожно попросила Тоня.
Толик подумал:
— Ну, ладно. Садись вот туда.
Тоня устроилась на диванчике. А Толик пошел к шкафу и вынул оттуда длинную палочку, которой играют.
— Смычок, — пояснил он. Потом поставил стул посредине комнаты, принес виолончель, поудобней уселся на стуле и сказал: — Пьеса. Сочинение Корелли.
Виолончель будто запела. Песня была красивая и задумчивая. Тоня слушала и сама придумывала к ней слова. Ей почему-то виделся лес, возле которого в прошлом году жили они с детским домом. В лесу было тихо, и деревья пели свою песню про то, что им тут хорошо расти и жить вместе с птицами.
Толик играл, не глядя ни на виолончель, ни на Тоню, а куда-то в пол, будто там лежали ноты. Но вдруг он поднял глаза и, близоруко взглянув через очки, увидел, что Тоня сидит не шелохнувшись и слушает его внимательно, как на концерте. И тогда он опять наклонил голову и заиграл еще старательнее.
Толик кончил. Тоня похлопала в ладоши и сказала:
— Ты как артист в телевизоре.
Он был польщен. Бледные щеки его зарозовели.
— Хочешь, еще поиграю? — предложил он.
Тоня кивнула и уселась поуверенней.
Но сидеть ей пришлось недолго. Толик заиграл танец. Танец был такой легкий и красивый, что Тоня не выдержала, поднялась с диванчика и стала раскачиваться в такт веселой музыке, потом кончиками пальцев взялась за свое платье и начала пританцовывать. Теперь Толик уже не смотрел на пол, а во все глаза глядел на Тоню и улыбался. Оказывается, он умел улыбаться! Тоня закружилась по комнате. Она чуть подпевала, помогая виолончели. Толик смеялся и сиял, наблюдая, как она кланялась вправо и влево и подпрыгивала в ритм музыке. Им было очень хорошо. Они радовались счастливым звукам и солнечному зайчику на картине и тому, что были вдвоем и никто на свете им сейчас не мешал.
Но именно в ту минуту, когда Тоня собиралась развернуться на одной ноге, как это делала Синичка в «Тараканище», приоткрылась дверь из передней и в комнату заглянула Толина мама. Она была в пальто, а в руках держала клетчатый чемоданчик.
Тоня застыла на месте. Толик оборвал игру.
— Это Тоня, — сказал Толик. — Она живет в семьдесят седьмой квартире.
— Я знаю, — кивнула его мама. — Здравствуй.
— Здравствуйте, — проговорила Тоня.
— Ты взял слишком быстрый темп, Толик, — продолжала мама. — Тебя учили не так.
Лицо у Толика сделалось скучным. Он слез со стула и понес виолончель в угол.
— Да нет. Пожалуйста, играй. И ты, девочка, можешь его слушать. Только надо, как велел педагог.
Но Толику не хотелось играть, как велел педагог.
— Я уже играл целый день, — сказал он.
— Я пойду гулять, — сказала Тоня. — До свиданья.
Она пошла в переднюю, и Толик двинулся за ней.
— Подождите, я угощу вас яблоками, — сказала Толина мама. — Я купила чудных яблок. Только их нужно вымыть.
Тоня не стала ждать. Со двора через двойные рамы доносились крики ребят. Она торопливо сунула руки в рукава своего пальтишка, нахлобучила шапочку и, не застегиваясь, вышла на лестницу. Толик успел спросить ее:
— Ты еще придешь ко мне?
Тоня молча кивнула.
Глава 14 СНОВА ОГОРЧЕНИЯ
И Тоня пришла.
Был такой же день. Она вернулась из школы и сразу же села делать уроки. И вдруг ей сделалось скучно сидеть одной и решать задачи. Тоня подумала: «Потом!» Она побегала по пустой квартире, поговорила о своих делах с Василисой. Подошла к телефону и сняла трубку. В ней загудело. Тоня поскорей положила трубку. Ей захотелось позвонить Нине Анисимовне и сказать, что ей хорошо живется у папы и мамы, только скучно одной в квартире. И тут она вспомнила о Толике. Он, наверное, сидит в своей комнате и тоже скучает. И Тоня решила: нечего ему там сидеть!
Она накинула пальто, вышла на лестницу и позвонила в соседнюю квартиру.
— Кто там? — послышалось из-за двери. Это был его голос.
— Это я, Тоня.
Двери сразу отворились. В них стоял Толик. Он заулыбался и сказал скороговоркой:
— Ой, как хорошо, что ты пришла! Хочешь, я буду играть тебе сколько хочешь?
Тоня вздохнула. Она подумала о том, что потом опять придет его мама и Толик перестанет играть, а ей надо будет уходить. И она сказала:
— Идем лучше гулять.
Толик подумал и вдруг решительно кивнул:
— Ладно, пойдем. Согласен. Мне надоело дома. Сейчас надену калоши.
Он выскочил на лестницу в криво надетом беретике и пальто нараспашку.
— Застегнись как надо, — сказала Тоня и поправила ему берет.
Когда они с Толиком появились во дворе, все, кто там был, очень удивились. Кое-кто даже поглядывал, не идет ли за Толиком мама. Но мама не шла.
Тоня сказала:
— Давайте играть все вместе. С Толиком.
Но немедленно выступила Лера:
— Во что с ним играть? — Она презрительно сжала свои тонкие губы. — Он не умеет играть. Он только с мамой своей гуляет.
— Сумеет. Не кривляйся, — твердо заявила Тоня. — А ты, если не хочешь, можешь уходить.
Лера только хихикнула и пожала плечами, но никуда не ушла. А Тоня действительно придумала такую игру, что Толик оказался в ней вовсе не лишним.
Играли в космонавтов. Толик был главный конструктор. Он, оказалось, все знал и требовал, чтобы все было так, как на самом деле. А Тоня была Терешкова. Ее запустили в космос, и она кружила по двору. Лера тоже захотела быть Терешковой, но Толик сказал ей, что она будет дублером. Лера рассердилась, дублером быть отказалась и сказала, что Тоня на Терешкову нисколько не похожа, потому что Терешкова красивая. Но ее никто не поддержал, так Тоня и осталась Терешковой.
Только Тоня ступила на землю и начала рассказывать, что она видела в космосе, как к дому подъехала машина и из нее вышел папа Толика.
Увидев отца, Толик ничуть не испугался, побежал ему навстречу и крикнул:
— У нас никого нет дома, а мы играем. Я пришел с Жульеттой!
— Ну что же, — доцент Бобро растерянно оглядывался, заметив рассыпавшихся по двору детей, — если тебе нравится… А что скажет мама?
— Мне нравится. И я вовсе не простудился. Пусть она не думает. А теперь я пойду с тобой.
Он взял отца за свободную руку — в другой, как всегда, у того был тяжелый портфель — и, довольный, пошел со двора, будто забыв, что игра была устроена для него.
Кто-то крикнул:
— Давайте без Толика!
Но охота играть в космонавтов без главного конструктора отпала. Игра окончилась внезапно, как кончаются все игры. Сколько ни спорили, как бы играть еще, выдумать ничего не могли.
Тоня подумала о том, что в это время в детском доме они обычно гуляли по городу.
— Девочки! — крикнула она. — Давайте пойдем на экскурсию. И мальчишек, если хотят, возьмем.
— А куда? — спросил кто-то.
— В сад, — решила Тоня. — В Летний сад собирать листья. Кто соберет самый красивый букет!
— Ну вот еще! Кому нужны твои листья?! — заныла Лера.
Но другим Тонина идея пришлась по душе.
— Пошли, пошли!
Нина с пятого этажа робко напомнила, что следовало бы спроситься у мамы. Но ей сказали:
— Мы же все вместе и сейчас вернемся. А то еще не пустят.
Присоединились и мальчишки. Они пошли вперед, размахивая самодельными мечами, которыми играли в мушкетеров, а теперь собирались накалывать на них листья.
Лера выскочила на улицу и кричала вдогонку:
— Вам всем попадет, попадет!
Но ее никто не слушал. Тоня командовала:
— Только не разбредаться. Идти всем вместе!
Решетчатые ворота Летнего сада оказались запертыми. Висела табличка: «Сад закрыт».
Сквозь решетку были видны пустынные сырые дорожки, вдоль которых стояли будки, похожие на громадные скворечники. В будках прятались на зиму статуи. Стало обидно, что пришли понапрасну. И тогда Тоня предложила:
— Идемте смотреть на «Аврору». Она стреляла по дворцу. Там есть пушка.
Мальчишкам это понравилось, но девочек охватило сомнение:
— Далеко туда.
— Ну да! Только мост перейти.
Но, как говорится, чего не сделаешь за компанию. Двинулись через длиннющий Кировский мост. По пути говорили о разном. О том, что днем с крепости стреляет настоящая пушка и что зимой тут в проруби купаются дядьки, которые называются «моржами». Тоня сказала:
— А есть еще паровоз, на котором Ленин был за кочегара. Он теперь никуда не ездит, а стоит на вокзале.
— А туда тоже пойдем? — встревожилась Нина с пятого этажа.
— В другой раз, — успокоила ее Тоня.
Дорогу им преградили огромные машины. На прицепах везли целые стены с окнами.
— Дом едет, — сказал кто-то.
— Не дом, а только один этаж. Таких будет до самого неба, — сказала Тоня.
Мальчики наперебой стали кричать, какие теперь есть громадные подъемные краны. Утверждали, что они могут поднимать целые этажи. И что есть кран, который может поднять со дна моря затонувший пароход, а сам он тоже плавает по воде.
Когда подошли к «Авроре», начало смеркаться. Казавшийся издали маленьким корабль возвышался над водой, как дом. Три трубы темнели на фоне низких тяжелых туч.
— Теперь никаких труб нет, — заявил кто-то из мальчишек. — Все двигатели атомные.
— Зато с трубами красиво рисовать, — сказала Тоня.
И тут пошел дождь. Он начался неожиданно, и спрятаться от него было некуда. Кто-то крикнул:
— Побежали скорей домой!
И мальчишки наперегонки бросились к мосту.
Девочки бежали, взявшись за руки. Так велела Тоня. И дождь оказался вовсе не таким страшным. Он был не сильный. Вместе бежать было даже весело. По дороге все визжали. Так делалось еще интересней.
Когда заскочили в ворота, стали отряхивать свои шапочки и береты. Потом разошлись по квартирам. Никто не ждал, что их похвалят за прогулку.
А Тоню ожидала неприятность покрупнее.
По дому уже распространился слух, что детей увела она. Еще немного, и собирались обращаться в милицию.
— Как же ты могла выдумать такое?! — спрашивала Аня, стаскивая с девочки мокрые чулки. — Да еще всех потянула за собой.
— Они сидят во дворе и ничего не знают. А я им показала «Аврору» и про революцию рассказала.
— Да разве же можно уходить без взрослых! — как могла строже сказала Аня. — Вот придет папа, он с тобой поговорит.
Вскоре Тоня, уже тихонькая и аккуратная, сидела за столом и делала уроки. Аня следила за ее занятиями, но больше ни о чем с нею не разговаривала. Она надеялась — молчание будет хорошим укором ребенку. Аня ждала, что к ней вот-вот явятся родители детей, которых увела Тоня, и придется выслушивать возмущенные речи. Но, как ни странно, жаловаться никто не пришел. Вскоре Тоня решила все примеры и, соскользнув со стула, спросила:
— Можно я пойду к Рите?
Аня ничего не ответила, и Тони сразу же не стало в комнате.
Глава 15 КАК ЖЕ С ТОБОЙ БЫТЬ?
Тоня постучала в дверь.
— Можно к тебе, Рита?
Рита сидела у стола и с пером в руках думала над листом бумаги.
— Ты тоже делаешь уроки? — спросила Тоня.
— Нет, пишу письмо.
— Кому?
Рита вздохнула и улыбнулась Тоне. Потом она сказала:
— Кому нужно. Одному человеку.
— А куда?
— В Мурманск.
— Где это Мурманск? — спросила Тоня.
— Далеко на севере.
— Мы ведь тоже на севере.
— Там север настоящий.
— Красивый, как юг?
— Нет, совсем другой. На юге море Черное, а на севере Белое.
— Белого цвета?
— Так называется. Север красивый. Там скалы над морем и птиц целые тучи. А в море моржи. Большие, жирные… Полгода там светит солнце, а полгода ночь.
— И все спят?
— Нет. Работают, как всегда. Рыбаки уходят в море за рыбой на больших кораблях. А привозят ее столько, что можно наполнить наш дом.
— Ого! Ты была там?
— Нет еще.
— А откуда знаешь?
— Знаю, — кивнула Рита и чуть покраснела. — Там еще бывает северное сияние… А в самом Мурманске бухта, и в ней стоят корабли со всего света.
— Я хочу на север, — сказала Тоня.
— Еще успеешь.
Рита смотрела на Тоню, а думала о чем-то своем. Она снова взялась за перо.
— Не мешай мне, садись и рисуй. Вот тебе бумага.
— Я буду рисовать север, — сказала Тоня.
Она побежала к себе в комнату и отыскала цветные карандаши.
— Я пойду к Рите. Рисовать север.
— Разве тебе тут мешают? Садись к столу и рисуй, — попробовала ее остановить Аня.
— С Ритой лучше.
Тоне, конечно, и в голову не могло прийти, что брошенные ею слова задели Аню. Шаги девочки простучали в коридоре, хлопнула дверь Ритиной комнаты. Аня села на стул. Почему она так торопливо бежит отсюда? Почему ей лучше у Риты? Разве она, Аня, не делала все для того, чтобы Тоне было у них хорошо? Разве она не старалась дать девочке понять, что ее здесь любят и о ней заботятся? Вот и сегодня. Другого бы ребенка наказали за такую выходку. А она с Тоней только поговорила, и все. И вот благодарность! Как же быть с ней? Аня терялась в догадках.
Когда через некоторое время Аня вышла в коридор, из комнаты Марии Гавриловны слышался смех.
— Какое же это северное сияние? — сквозь смех говорила Рита. — Оно у тебя похоже на радугу.
— А я не видела его, — в ответ хохотала Тоня.
— А это кто такие?
— Моржи.
— Совсем непохожи. Вот они какие…
— А у тебя похоже на птичек с усами.
И снова обе весело смеялись. Видно, им было хорошо вдвоем и они ни в ком больше не нуждались. Аня вернулась к себе.
Пришел Петр Васильевич. Аня рассказала ему о дворовом приключении. Она думала — он не на шутку расстроится, а Петр Васильевич выслушал ее с интересом и как-то странно, чуть ли не восхищаясь, сказал:
— Вот заводила!
— Я обещала, что ты задашь ей. Ты уж, пожалуйста, построже, а то что же это будет.
— Хорошо, — кивнул Рябиков.
Он вышел в коридор и через дверь позвал дочку.
Тоня прибежала с листком бумаги, на котором была нарисована кривая разноцветная дуга.
— Это такое северное сияние, — сказала она, приглашая Петра Васильевича вместе посмеяться над рисунком.
— Садись-ка, — сказал он. — Ты как же это отличилась сегодня?
Петр Васильевич говорил, а Тоня сидела потупя взор и слушала. Она видела, как через угол стола, останавливаясь и потирая задние ножки, бесстрашно ползла муха, но не смела ее пугнуть. Рябиков старался быть строгим, но вдруг понял, что Тоня его нисколько не боится, а только ждет, когда он кончит говорить. Тогда Петр Васильевич решил переменить тактику:
— Ты уже большая. Лучше бы сделала что-нибудь для общей пользы.
— А что? — оживилась Тоня и наконец согнала нахальную муху.
— Ну, например, помогла бы взрослым. Не гоняй мух, слушай.
— Хорошо, — кивнула она. — Я больше не буду.
— Что не будешь?
— Уводить девочек на экскурсию, а буду помогать взрослым.
Кажется, оба они остались довольны друг другом.
Петр Васильевич сходил на кухню, где была Аня, и сказал:
— Я с ней серьезно поговорил. Она больше не будет.
Но когда через полчаса Тоня уже спала, жарко раскидавшись на постели, Аня увидела, как он, пряча счастливую улыбку, поправлял сползшее с ног девочки одеяло.
Глава 16 ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
Это был на редкость счастливый день. Домой не задали никаких уроков. В такие дни и серое небо кажется голубым, и мокрые тротуары гладенькими, как каточки, по которым можно катиться на подошвах до самого дома.
Тоня почти бежала домой. Хотелось сделать что-нибудь для всех. Хотелось не оставлять открытыми дверей, не жечь понапрасну свет в коридоре и вообще делать только хорошее.
Она разделась и пошла на кухню, чтобы отдать Василисе половину сосиски, которую принесла ей, сохранив от школьного завтрака. Но Василисы, как нарочно, дома не оказалось. Тоня была одна-одинешенька. От скуки она пробежалась по коридору и тут заметила электрический полотер, которым супруги Наливайко натирали пол у себя в комнатах. Вчера вечером Тоня видела, как этим делом занимался Евгений Павлович. Он-то и оставил здесь полотер, который теперь тихо скучал, уткнувшись в угол. Тоня посмотрела на пол в коридоре, на следы от своих ботиков и пришла к выводу, что пол пора натереть. Возле полотера стоял еще маленький черный ящичек. Провод от него шел к штепселю. А другой провод от электрополотера надо было включить в свободные дырочки в ящичке. Так — Тоня видела — делал вчера Наливайко. Еще он щелкал рычажком между ручек. Тоня нащупала этот рычажок и щелкнула им так же, как Евгений Павлович. Потом размотала черный провод, протянула его до ящичка и включила. Полотер загудел и сумасшедше завертелся на месте. Он, наверное, бы упал, если бы Тоня не успела его схватить. Она взялась за резиновые ручки, и полотер послушно и легко пополз вправо и влево по паркету. От удовольствия Тоня даже засмеялась. Пол был очень скоро натерт. Следов от ботиков не осталось. Тоня заглянула в кухню и подумала, что там пол тоже стоило бы натереть. Она отключила полотер от ящичка и поволокла в кухню. Это было совсем не легко, но она справилась.
Потом еще хотела перетащить и ящичек, но он оказался таким тяжелым, что она решила: можно обойтись без ящичка — и включила провод прямо в штепсель на кухне. Полотер взревел на всю квартиру. Но мотор погудел совсем недолго и вдруг затих. Напрасно Тоня щелкала рычажком вверх и вниз. Напрасно вытаскивала и вставляла в штепсель вилку. Упрямая машина больше не хотела гудеть. И тогда Тоня поняла, что в полотере что-то испортилось. Сперва она испугалась, а потом решила, что самое правильное — считать, будто полотер сломался сам, стоя в углу. С трудом она оттащила его на место и ушла к себе.
Вскоре захлопали двери. Потом в коридоре раздались шаги. Тоня прислушалась. «Шор, шор, шор…» — это зашлепала в своих туфлях Мария Гавриловна. А вот это — «цок, цок, цок…» — застучала каблучками Рита. Из кухни донеслись голоса. Может быть, это уже Ольга Эрастовна? Вот сейчас она придумает опять натирать пол и станет удивляться.
Пришла Анна Андреевна, посмотрела на подозрительно притихшую Тоню и отправилась на кухню.
Тоня приблизилась к двери и стала слушать, не говорят ли на кухне что-нибудь про электрополотер. Но на кухне говорили о том, что надо написать в газету, чтобы с улицы убрали пивной ларек, потому что пьяницы безобразничают и с ними нет никакого сладу. Тони это не касалось, и она успокоилась.
Пришел Петр Васильевич. В театре был выходной день, и Рябиков ходил по всяким своим делам. Теперь он вернулся, снял пиджак и переодел туфли.
— Какие дела, дочка? Есть новости?
Тоня помотала головой.
— Неужели так-то уж ничего нет нового?
— Ничего.
Рябиков взял девочку за подбородок и заглянул ей в глаза.
Тоня застеснялась и отвела лицо в сторону.
— Значит, хороших новостей так и нет. Ну, ладно. — Петр Васильевич отыскал газету и хотел с ней усесться на оттоманку. Но тут вдруг Тоня сказала:
— Есть новость. В школе не задали уроков.
— И все?
Тоня чуть вздохнула:
— И еще есть новость.
— А ну-ка!
Она перешла на шепот:
— Сломался полотер.
— Какой такой полотер?
— Которым натирают пол.
— Где?
— У нас дома. Ольги Эрастовны.
— Вот те раз! Как же так он сломался?
Тоня молчала опустив голову.
— У Ольги Эрастовны сломался?
Тоня снова помотала головой. Уши ее покраснели.
— Нет. Ее не было дома. Сам сломался.
— Как же это он так, взял и сам сломался? — Рябиков отложил газету.
— Я только хотела натереть пол на кухне. Для всех.
— Так ведь там же не паркет.
Тоня молчала.
— Ты что же, сама его туда потащила? — продолжал Петр Васильевич.
— Только ящичка я не тащила.
— Какого ящичка?
— А он такой маленький, черненький, — Тоня показала, какой там был ящичек.
— Трансформатор?
— Я только вставила, а он погудел и перестал.
— Ах ты техник!
— Я хотела, чтобы на кухне было красиво.
В этот момент в комнату вошла Анна Андреевна.
— Слышала новости? — сказал Петр Васильевич. — Натирала пол на кухне наливайкиным полотером и включила его без трансформатора. А он же у них старый, на сто десять, — и он рассмеялся.
Аня схватилась за щеку:
— Этого нам только не хватало! Что же ты смеешься, Петя? Что теперь люди скажут…
— Кто смеется? Я совсем не смеюсь, — лицо Петра Васильевича сделалось преувеличенно строгим.
— Как это ты так отличилась?
— Что же это, Тоня? Разве можно брать и ломать чужие вещи? — сказала Аня.
Тоня взглянула на Петра Васильевича. Может быть, здесь она найдет сочувствие. Но ни сочувствия, ни оправдания ей не было. Взрослые молчали. Плечи Тони мелко задрожали.
— Плакать поздно. Не надо было брать. Как теперь с Наливайками объясняться? Ведь ты уже большая.
— Ладно, я с ними поговорю. Но это верно. Не надо брать чужих вещей, дочка.
Рябиков погладил Тоню по голове и пальцами стер с ее щеки слезу.
Тоня уже не плакала, но, как и раньше, глядела в пол.
Аня взглянула на Петра Васильевича и, вздохнув, вышла с баночкой соды, за которой приходила.
Петр Васильевич понимал — Аня права. Понимал и казнился. Но что делать? Он не мог видеть Тониных слез. И он тоже вздохнул и сказал Тоне:
— Вот видишь?
Потом он пошел к Наливайкам и осторожно постучал в двери их комнаты.
— Да, да!.. — послышалось оттуда.
Петр Васильевич отворил двери. Супруги готовились к своему позднему обеду. Шурша шелковым халатом, Ольга Эрастовна хлопотала между столом и сервантом. Наливайко, в полосатой курточке, читал у лампы дневного света. Когда вошел Петр Васильевич, он обернулся. Кандидат любил всякие новости.
Петр Васильевич кашлянул и рассказал семейству о том, что случилось в их отсутствие.
Узнав, что новость касается порчи домашнего имущества, Евгений Павлович надел очки и снова уткнулся в книгу. Этим он как бы хотел показать, что это дело целиком компетенции Ольги Эрастовны.
— Я его возьму и починю. Может быть, только перегорел предохранитель. Она, видите ли, включила без трансформатора. Ну, и вот… — Закончил свою неловкую речь Рябиков.
Вместо ответа Ольга Эрастовна посмотрела в сторону мужа:
— Это ты, конечно, Евгений, оставил там?
Не оборачиваясь, кандидат неуверенно пожал плечами.
— Так я возьму его, — продолжал Петр Васильевич.
— Берите, — Ольга Эрастовна снова принялась накрывать на стол. — Придется теперь все убирать в комнаты.
— Я думаю, больше этого не повторится, — сухо произнес Рябиков.
— Да нет, пустяки, — спохватилась Ольга Эрастовна. — Конечно, ребенок! — она выдавила улыбку. — Я только хотела сказать: будет у вас теперь забот, Петр Васильевич.
— Будет, — Рябиков кивнул и вышел из комнаты.
— Вот ведь он же еще и обиделся, — сказала Ольга Эрастовна. — Жили люди спокойно, а теперь… Нет, я, конечно, не против детей. Аня еще молодая. Они бездетные. Понятно. Но ведь сколько хлопот!.. В квартире одну оставишь — думай, не натворила бы чего-нибудь, на улицу уйдет — не случилось бы что с ней… О школе тоже думай… Есть, конечно, и радости, — Ольга Эрастовна задумалась. — Если бы у меня в молодости была отдельная квартира, мы бы, наверное, тоже мечтали о маленьком живом существе. Как ты думаешь, Женик? — неожиданно обратилась она к молчавшему за рабочим столом мужу.
— Я думаю, я думаю… — буркнул, не отрываясь от книги, Наливайко. — Я думаю, что детей не заводят и не отказываются от них по квартирным соображениям.
Ольгу Эрастовну задело.
— Может быть, ты хочешь сказать, что в свое время это я не захотела, чтобы у нас кто-нибудь был?
— Причем тут мы! Я вообще… — Евгений Павлович понял, что допустил неосторожность, которая будет ему дорого стоить.
— Посмотрела бы я на тебя! Что бы ты сказал, если бы такая Тоня похозяйничала тут хоть один день… Садись, пожалуйста, есть.
Садиться было еще рано, так как приготовления к обеду не были закончены, но Евгений Павлович забрал книгу и послушно перебрался к другому столу.
Глава 17 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
Не догадываясь о том, какие чувства вызвал его приход в семье Наливайко, Петр Васильевич сидел за столом и насвистывал перед разобранным на газетном листе электрополотером. Машина оказалась старой и никуда не годной. Она уже доживала свой технический век. Предохранитель действительно перегорел. Но и другие части имели изрядно потрепанный вид. Петр Васильевич делал то, что было возможно сделать в домашних условиях. Он старательно перетирал детали, чистил их, смазывал и ставил на место.
Он предполагал провести вечер совсем по-иному, и вот дочка дала ему неожиданную работу. Но самое удивительное было то, что ему доставляло непонятную радость чинить старую рухлядь, которую поломала Тоня. Он делал это с таким усердием, словно отремонтированный полотер мог доставить дочке необыкновенную радость.
Тони в комнате не было. Аня устроилась на кушетке, штопала детские чулки. Петр Васильевич отлично понимал, что Аня осуждала его мягкость, что вот, например, сегодня ему следовало поговорить с Тоней по-отцовски серьезно, а он глупо радуется тому, что ремонтирует этот разваливающийся на ходу электроприбор.
И Аня словно поняла его мысли. Неожиданно она рассмеялась, показала мужу надетый на гриб детский чулок и сказала:
— Вот видишь. Я тут, а ты там — оба на дочь работаем. Похожи на настоящих родителей. — Она немного помолчала и добавила: — Нет, Петя. Так уж оно, видно, сложилось — если ей и будет доставаться, так только от меня. Она меня боится, а тебя — нет. Тебя любит. Ну что ж, пусть так. Кому-то надо…
— Ну, подожди, подожди, — возразил Рябиков. — Не все я ей потакать стану.
— Ой ли! — и Аня опять рассмеялась.
А Тоня меж тем уже забыла о всех огорчениях. Она сидела на стуле в комнате Риты, болтала ногами и смотрела эстрадный концерт по телевизору. Играл оркестр, и пели певцы. Но это было не самое интересное. Самое интересное было то, что Марии Гавриловны дома не оказалось, она ушла в кино, а у Риты сидел гость. Гость был моряком, в пиджаке с блестящими пуговицами. Он сидел рядом с Ритой на диване и тоже смотрел телевизор.
Когда Тоня вошла в комнату, Рита торопливо встала и познакомила ее:
— Это Юрий Всеволодович. Он приехал из Мурманска, — сказала она. — А это наша соседка Жульетта.
Так, значит, это и был тот самый «один человек», которому Рита писала письма? Он тоже встал и пожал Тоне руку. Потом опять сел на диван. От него пахло одеколоном. Рита была одета в новое платье и туфельки, но никуда не спешила, а сидела на диване рядом с моряком и смотрела телевизор.
Тоню тоже усадили. Только не на диван, а на стул перед телевизором. Рита принесла картонку с пирожными и велела выбрать, какое она хочет. У Риты Тоня никогда не смущалась. Она взяла пирожное и стала есть. Было очень хорошо смотреть телевизор и есть пирожное.
Тоня покончила, с пирожным и обернулась. Рита и моряк сидели совсем рядом на диване и держались за руки, как дети. Когда Тоня на них посмотрела, они отодвинулись друг от друга.
— Там вам далеко. Идите сюда. Тут есть стулья, — позвала Тоня.
— Нам видно, — сказала Рита.
Концерт по телевизору кончился, и стали говорить что-то совсем неинтересное. Тоня поняла, что Рите и ее гостю тоже было скучно. Она решила их немного повеселить. Соскочила со стула и побежала к себе в комнату. Там, не обратив внимания на то, чем занимается Петр Васильевич, схватила недавно подаренный ей фильмоскоп и кинулась назад.
Когда она распахнула двери в Ритину комнату, моряк и Рита резко отодвинулись друг от друга, и Тоня подумала, что они поссорились. Она поняла, что пришла вовремя.
— Давайте смотреть фильмоскоп! — предложила она. — Здесь сказка про Карлика-Носа. Он очень смешной.
Тоня уселась на диван между Ритой и ее гостем.
— Давайте зажжем свет, — сказала она.
Но Рита не согласилась:
— Сейчас по телевизору будет интересное. Иди садись туда. А фильмоскоп мы потом посмотрим.
Моряк встал и заходил по комнате. Звездочки на его плечах, как снежинки, белели в темноте.
Тоня немного посидела у телевизора. Но ничего интересного так и не было. Рита и моряк тоже, наверное, ждали, что вот-вот начнется веселое. Они притихли за Тониной спиной. Она подумала, чем бы их развеселить.
— Я сейчас, — вдруг сказала Тоня.
Она вернулась к себе и стала рыться в портфельчике, разыскивая книжку про «Золотой ключик». Уж этой-то сказкой можно занять Риту и ее гостя.
Но когда она вбежала к ним, Рита сразу же поднялась навстречу. Они все еще сидели на диване и скучали.
— Тоня, — сказала Рита, — тебе пора спать. Поздно.
— Я хотела вам почитать.
Моряк ничего не сказал. Он только щелкнул крышкой портсигара и положил в рот папиросу.
Рита взяла Тоню за плечи и повернула лицом к коридору:
— Иди, Тонечка. Время. И телевизор сегодня неинтересный.
Двери закрылись. Тоня осталась одна.
«Странные взрослые, — подумала она. — Им же хочешь сделать как лучше, а они сами не хотят. Ну и пусть».
Она снова отворила двери. Моряк вскочил с дивана.
— Отдайте фильмоскоп, — сказала Тоня.
Ей отдали фильмоскоп и закрыли двери. Вдруг Тоня увидела в конце коридора Олега Оскаровича. Он шел из кухни с кастрюлькой и держал ее через полотенце. Тоня вспомнила, что Олег Оскарович не любит, когда в коридоре горит свет. Она кинулась к выключателю и повернула его.
— Кто это сделал? — послышался голос в темноте.
— Я, Тоня.
— Сейчас же зажги. Я могу обвариться.
— А вы сами сказали, надо беречь электричество.
— Да. Но не тогда, когда человек идет с кипятком. Зажги!
Тоня включила свет. Кукс прошел к себе в комнату, поставил кастрюльку на мраморную подставку и тогда выглянул в коридор:
— Вот теперь следует погасить.
Но в коридоре уже никого не было, и Олег Оскарович выключил свет сам.
Тоня вернулась к себе.
Петр Васильевич кончил чинить полотер и опустил его на пол.
— Внимание! — предупредил он. — Сейчас будем пробовать.
Полотер был включен в черный ящичек, который стоял раньше в коридоре. Петр Васильевич щелкнул рычажком. Машина запела свою электрическую песню и легко заползала по паркету.
— Работает, и еще почище, чем раньше! — весело крикнул Рябиков.
Тоне опять захотелось поводить полотер, но она не решилась просить об этом и убрала руки за спину. Петр Васильевич выключил машину. В комнате сделалось тихо.
— Больше не смей его брать. Не надо трогать чужого. Слышишь? — сказал он Тоне.
— У нас в детдоме не было чужого, — сказала Тоня.
— То детский дом, а тут коммунальная квартира, — непонятно пояснил Рябиков. — Вот здесь, в комнате, все наше. Твое, мое, мамино… А там чужое. Если тебя просят о чем-нибудь — делай, а без спросу — нет.
— Хорошо, — кивнула Тоня. — Я без спросу не буду.
Тут Петр Васильевич опять включил и выключил электрополотер.
— Слышишь, как гудит?
Петр Васильевич наклонился, чтобы поднять с полу ящичек. Они были одни в комнате. Быстрым движением Тоня обняла его за шею и коротко чмокнула в щеку.
— Ну, ладно, — сдавленно произнес он. — Смотри…
А Тоня подумала о том, какие смешные эти взрослые: те — сидят в темноте и не хотят, чтобы им читали веселую книжку, когда самим скучно. А тут… Сначала ее ругают за то, что сломался полотер. А теперь, когда его починили и Ольга Эрастовна сердиться больше не будет, Петр Васильевич смотрит на нее так, будто готов заплакать.
Но Тоня ничего не сказала, решив еще подумать об этих странных вещах.
Глава 18 ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ
Петр Васильевич проверял свет выносных прожекторов, когда его позвали к телефону.
— Рябиков, из дому звонят!
Время было неподходящее. Аня не должна была еще вернуться. Петр Васильевич заспешил по узкому коридору.
— Слушаю! Кто говорит?
— Это Петр Васильевич?.. — запищало в трубке.
— Да. Я слушаю, — он узнал голос Тони. — Что тебе, дочка? Почему ты звонишь?
— Я нашла твой номер. Тут записано.
— Что тебе?
— Знаешь что? Можно мне оставить собачку? Ведь ты разрешишь. Она ничья. Я привела ее из садика.
— Какую собачку, Тоня?
— Лохматенькую. Она немножко хромая, но хорошая. Она сначала была грязной, но я ее вымыла в ванной. И она теперь дрожит. А Мария Гавриловна говорит, что ее нужно отвести назад… Не надо ведь, правда? — надрывалась в трубке Тоня.
— Что ты придумала? Где ты взяла собаку?
— Говорю же, в садике, на углу. Она ничья собачка. Потерялась…
— Тоня, — сказал Петр Васильевич. — Не смей брать никакой собаки. Отведи туда, где взяла.
— Ей там холодно.
— Найдутся хозяева. Отведи.
— Мне ее жалко.
— Отведи, отведи.
— Василиса на нее фыркает, но я им не дам драться.
— Тоня, слышишь, что я тебе говорю? Сейчас же сведи в сад чужую собаку. У нас в комнате ей негде жить.
— Пусть она будет всех вместе, как Васька.
— Все не захотят. Я знаю.
— Ну, можно, она полежит, пока ты придешь? Ну, можно?!
Петр Васильевич почувствовал: еще немного — и он согласится. Но уж если собака останется до его возвращения, отказать Тоне потом не хватит сил. И Рябиков проявил твердость.
— Нет. Нельзя, — сказал он. — Делай, что тебе говорят. И не мешай мне. Я на работе. Слышишь?
— Слышу, — тихо сказала Тоня. В трубке щелкнуло, и аппарат засигналил короткими гудками.
— Что-нибудь дома стряслось? — спросила проходившая мимо костюмерша с десятком одетых одна на другую островерхих шляп.
— Да нет, — пожал плечами Рябиков. — Дочка… Знаете… Придумала взять собачку с улицы.
— Добрая душа, — вздохнула костюмерша и понесла шляпы дальше.
Когда он вернулся домой, собаки в квартире уже не было и никто о ней не вспоминал. «Добрая душа» Тоня встретила его молча. Петр Васильевич знал: так она выражала свой пассивный протест досадившим ей взрослым. Она могла молчать несколько часов, послушно делать все и молчать. А у Петра Васильевича при этом боролись два чувства: одно требовало, чтобы он делал вид, будто не замечает ее упрямства; другое, более близкое его натуре, вопреки рассудку, сближалось с Тониной обидой. Ему было жаль, что пришлось помешать добрым намерениям девочки.
Помолчав некоторое время, Рябиков не выдержал.
— Ну, — спросил он, стараясь казаться вовсе незаинтересованным, — куда же ты дела свою собачку? Нашлись хозяева?
Тоня решительно помотала головой.
— А где же она?
— У Толика.
— Как у Толика?
— Он попросил свою маму, и она оставила. Мы повесили объявление на дереве. Его мама сперва не хотела, но Толик просил, просил… И она оставила собачку, хоть до утра. А утром придут хозяева.
— Ну, а если хозяева не придут?
— Толик все равно не даст ее прогнать. Он добрый.
Рябиков понял, что это камешек в его огород. Нужно было понимать — он злой, потому что не пожалел собаки. И в квартире тоже, наверное, все злые. До чего же ему хотелось объяснить дочери, что он и без уговоров позволил бы оставить собачку, живи они в отдельной квартире. А так одна она, Тоня, доставляла соседям столько беспокойства. Но ведь получилось бы, что он перед ней чуть ли не оправдывается. Нет, Тоня должна привыкать к слову «нельзя». Об этом Петр Васильевич хорошо знал из статей о воспитании детей, которыми стал интересоваться в последнее время. Правда, всякий раз приходил к печальному выводу, что далек от рекомендуемых педагогических истин.
Перед сном Рябиков докуривал сигарету на утихшей, чисто прибранной кухне. Он думал о том, что ему — в общем покладистому и уступчивому — нравится настойчивость, которая стала проявляться в маленьком Тонином существе. Та черта, которой, может быть, не хватало ему в жизни. Он понимал — упрямство дочери принесет им с Аней еще немало хлопот, и все же не предпочел бы ему кротость и послушание.
Глава 19 ДЕЛА БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
Были новости.
На улице выстроили леса из железных труб и стали наводить красоту на давно не ремонтированном фасаде дома. Во дворе меняли какие-то трубы. Двор изрыли канавами и ядами. Домой пришлось ходить по железным мосткам. Мостки гремели, и Тоня любила на них прыгать.
Были новости и дома.
Олег Оскарович напечатал рассказ о том, как девочка в коммунальной квартире, решив натереть «общий» пол, взяла чужой старенький электрополотер и сломала его. Девочке крепко попало. Но другие жильцы, объединившись, купили новый отличный электрополотер и предложили им пользоваться и владельцам давно изношенной машины. Чувство коллективности победило. В квартире задумали приобрести даже общий пылесос. Вышло так, что напроказившая девочка сломала долголетние индивидуальные устои.
Мария Гавриловна поверила в подлинность описанных событий.
— Вот уж правильно люди в той квартире поступили, — заявила она.
— Это вы в точку, — сказала Рита, увидев Кукса. — Будто и не вы писали.
Олег Оскарович не обиделся. Он решил, что это все-таки комплимент.
Августа Яковлевна тоже не осталась равнодушной.
— Поздравляю, поздравляю, — заулыбалась она, повстречав в коридоре соседа. — Очень милая вещица… Есть наблюдательность. Я, знаете, придирчивый читатель… В молодости я предсказала большую будущность Маяковскому. Все тогда на меня махали руками… Поздравляю. Ребенок у вас — прелесть!
Супруги Наливайко своего мнения о сочинении Кукса не высказали, хотя все знали, что газету они видели и рассказ прочли.
Впрочем, вечером следующего дня, когда на кухне собралась женская половина квартиры, Ольга Эрастовна, не обращаясь ни к кому, вдруг сказала:
— Действительно. Кто в наше время, когда кругом такие события, станет трястись над каким-то электроприбором. Наш, например, и стоит в коридоре, чтобы им могли пользоваться другие.
Свой успех Кукс перенес с достоинством человека, способного на большее. Он давно подозревал, что создан не для эстрадной сатиры. Купив несколько номеров вечерней газеты, где рассказ его был напечатан с рисунками, он, отодвинув в сторону сметы, уселся за стол, готовый к новым литературным подвигам.
Были новости и другие.
С некоторых пор Рита перестала ходить на танцы.
Что-то вообще изменилось в ее жизни. По утрам она столь же стремительно, как и прежде, покидала квартиру с толстой книгой в руках. Зато вечерний режим был резко нарушен.
Тоненькие каблучки уже не стучали в седьмом часу в коридоре. По вечерам Рита сидела дома, читала или смотрела телевизор. А порой — что-то мелко и длинно писала на листках почтовой бумаги. Мария Гавриловна ходила по квартире молчаливая и загадочная. Чувствовалось — надвигаются немаловажные события.
Однажды Рита принесла домой большой, пахнущий лаком чемодан с пластмассовыми уголками. Стало понятно: жить в квартире Рите осталось недолго.
Так оно и случилось. Вскоре ее тетка сообщила соседям, что Рита «записалась с военным». Это был тот самый моряк, который раза два появлялся в квартире и стеснительно здоровался с теми, кто ему встречался, а потом бесшумно исчезал в поздние часы.
Вечерней Рите пришел конец. Начес, напоминавший уланскую каску, обрел более сдержанные очертания. Движения сделались медлительней и уверенней.
И вот не стало знакомой нам Риты дневной. Ее молодой муж, военно-морской летчик, служил на Севере и теперь вызывал Риту к себе. Был куплен билет до Мурманска. Рита взяла расчет и стала готовиться к отъезду.
Узнав о том, что жить молодые будут в Заполярье, Ольга Эрастовна невольно поежилась:
— Главное, чтобы у вас была теплая квартира. Холода там фантастические.
— Ничего, другие живут, и мы привыкнем, — не задумываясь ответила Рита.
Ее поздравляли несколько дней.
Аня и Петр Васильевич подарили Рите складной электрический утюжок.
— На два напряжения, — пояснил Рябиков.
Мария Гавриловна вздохнула:
— Жизнь твоя теперь перекладная будет. Везде сгодится.
Августа Яковлевна, узнав об отъезде, обняла Риту.
— И очень хорошо, — произнесла она. — Молодые люди должны начинать с трудного. В мое время считалось бог знает каким подвигом уехать жить в Иркутск. Но были всегда передовые люди.
Наливайко посоветовал выписать «Ленинградскую правду».
— Будете себя чувствовать как дома.
Олег Оскарович пожал Рите руку. Сказал, что в Мурманске есть областная филармония и свои три газеты. Затем он удалился к себе в комнату и сделал какую-то запись в памятной книжке.
Больше всех печалилась Тоня. Сколько было весело проведенных вместе вечеров! Обыкновенно в эти часы в квартире все бывали заняты. Наливайки сидят в своих комнатах. Кукс стучит на машинке. Августа где-то ходит. А к Рите всегда можно пойти, поговорить с ней о том, что нового в школе. Да и Рите всегда было что порассказать Тоне.
— Вот я и уезжаю, — сказала Рита.
Тоня вздохнула.
— Я тебе напишу, — сказала Рита.
— Только печатными буквами. Хорошо?
— Ладно. Не скучай без меня.
— Я тебе тоже напишу. И вы тоже не скучайте с Юрой.
— Ты приедешь ко мне в гости? — спросила Рита.
Тоня задумалась:
— Когда вырасту большая.
— Можно и раньше. Я тебя буду ждать.
Это был их последний разговор в квартире. Потом Риту провожали. На вокзал ехали на такси. Аня вызвалась помочь Марии Гавриловне посадить Риту в вагон. Взяли с собой и Тоню. Ехали через площадь, мимо белой церкви. Потом по улице Маяковского.
Вокзал, с которого уезжала Рита, назывался Московским.
Тоня спросила:
— Почему он Московский? Ведь ты уезжаешь в Мурманск.
— В Мурманск поезда идут с Московского, — объяснила ей Рита.
Потом она поднялась по ступенькам в длиннющий зеленый вагон и смотрела на них через большое потное окно. Рита все время что-то говорила, но слышно ее не было. Тогда Рита пальцем нарисовала на стекле паровозик с дымом, и Тоня поняла — это значило: «Приезжай!»
Поезд тронулся с места ни с того ни с сего. Не было даже гудка. Рита поплыла в окне. Она замахала рукой, и Тоня вдруг почувствовала, что начинает плакать. Но она все-таки удержалась, только проглотила что-то соленое. Все трое пошли рядом с вагоном, но поезд побежал быстрее, и Риты почти не стало видно. Мария Гавриловна вытащила платок — глаза у нее были мокрые.
— Зачем вы плачете? — сказала ей Тоня. — Ей не будет скучно. Там ведь Юра.
Начиналась обманчивая ленинградская зима.
С утра квадрат двора белел выпавшим снегом. Днем столбик уличного градусника снова переваливал нолевую отметку. С крыш текло. Внизу густело бурое месиво. Погода упрямо не слушалась календаря.
В один из сырых, дышащих простудой дней Петр Васильевич впервые побывал на родительском собрании в школе. Случилось так, что собрание совпало со свободным днем в театре, и Аня отправила в школу мужа.
Ушел он туда чуть взволнованный, немного торжественный, а вернулся задумчивым и решительным.
— Тоня, — строго спросил Рябиков, когда все трое собрались за вечерним чаем, — почему ты мяукала на уроке?
Как всегда бывало в таких случаях, уши Тони вспыхнули, а голова опустилась вниз.
— Ну, объясни, зачем это ты?
— Это мальчишки, — выдавила из себя Тоня. — А мяукать они вовсе не умеют. Я им показала, как мяукают.
— На уроке?
— А они на уроке мяукали.
— Но ведь ты была еще дежурной!
Тоня заметила, что в ложке, которую она держала, кроме лампочки виден и кривой абажурчик.
— Тебя ведь за это оставили дежурить на другой день.
— Дежурной быть интересно. Я и повязку не отдавала.
— Кроме того, еще болтаешь на уроках.
— Это не я болтаю. Со мной все болтают.
— Ну, а ты не отвечай, — вставила Анна Андреевна.
— А не отвечать невежливо.
— Если ты станешь продолжать, тебя придется наказывать, — стараясь не выдать улыбки, сказал Рябиков.
Тоня очень быстро съела и выпила то, что требовалось, и встала из-за стола.
— Спокойной ночи, — ангельски кротко сказала она и, раздеваясь, с показной аккуратностью развесила на стуле свою одежду.
Вскоре молчаливо допивающие чай Рябиковы убедились, что Тоня спит.
— Их эта Анна Львовна сказала: «Девочка смышленая, живая. Даже чересчур, говорит, живая». А я думаю, Аня, ведь хорошо, если живая? Хуже, вдруг бы тихонькая… Как ты думаешь? — осторожно допытывался Петр Васильевич.
— И я так думаю, — согласилась Аня.
— «Соображает, говорит, ваша дочка хорошо».
Немного помолчав, Аня задумчиво сказала:
— Да, «ваша дочка»… А замечаешь, Петруша, меня мамой никак не назовет. Мамой Аней, и то как-то так — по научению.
— Ну, ну, погоди немного, — Петр Васильевич положил свою крепкую ладонь на Анину руку. — Еще сказала: «Бойкая она у вас. Общественница!»
И он улыбнулся, пытливо заглядывая в глаза жене.
Глава 20 БОЙКАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА
Анна Андреевна вернулась с дневного дежурства, и занялась домашними делами. Тоня гуляла во дворе.
Уже стало темнеть и зажгли свет, когда в комнату Рябиковых с лестницы раздался резкий и долгий звонок.
Аня вытерла руки и заспешила узнать, кто это так настойчиво нажимал кнопку. Отворив двери, она увидела незнакомую женщину. На ней было наскоро накинуто пальто. Из-под кое-как повязанной косынки выбивались волосы. Округлое, с мясистым подбородком, лицо женщины было разгорячено, глаза пылали ненавистью ко всякому, кто бы сейчас ни попался на ее пути. Рядом стояла бледная Тоня — женщина крепко держала ее за рукав. За ними громко всхлипывала и тянула покрасневшим носом худощавая беловолосая девчонка. По лестнице поднимался Толик Бобро. Он, видимо, поотстал от всех остальных.
— Это ваша такая? — излишне громко выкрикнула женщина, толкая Тоню навстречу Анне Андреевне.
— Да. Это наша дочь. Что случилось?
— До-очь! — передразнила растрепанная женщина. — Хулиганка она, а не дочь! Следили бы за вашей дочерью, если она такая у вас. Хуже уличной! Глядите! Ни за что-почто Леру мою избила… И что это за несчастье на нашу голову! Было у нас в доме все тихо, по-хорошему…
При этих словах беловолосая девчонка принялась всхлипывать и шмыгать носом еще громче.
— Вы входите, — Анна Андреевна посторонилась, чтобы пропустить женщину в квартиру. Но та, видно, не торопилась покидать площадку.
На шум приотворились двери напротив, и выглянула мать Толика. Увидев сына, она немедленно потребовала его домой и снова захлопнула двери.
— Некогда мне по чужим квартирам ходить! Своих у меня делов хватает! — продолжала кричать дурным голосом женщина, но все же протиснулась вместе с Тоней в коридор. За ними вошла и осталась стоять между двойных дверей ее Лера.
— Вон, глядите, нос до крови разбила и кашне новое ей порвала! — Женщина обернулась и показала надорванный край шарфика на шее дочери.
— Я ничего не рвала. Я только ей дала… — сказала Тоня.
В коридор уже вышла Мария Гавриловна. Высунув голову из дверей своей комнаты, за событиями наблюдал Кукс.
— Ты что это, Тоня? В чем дело? Скажи, что произошло? — растерянно спросила Анна Андреевна.
— Во, видали? «Я ей дала!..» — продолжала шуметь растрепанная. — Да я и предупреждать не стану. Еще раз будет распускать руки… Я за свое дитя такое дам! Полное право имею. Ни на что не погляжу.
— Объясни, в чем дело? За что ты била девочку? — не обращая внимания на крик женщины, старалась дознаться Анна Андреевна.
Тоня, не глядя ни на кого, молчала.
— Глядите, молчит, когда нашкодила, — женщина уже обращалась к Марии Гавриловне и Куксу. — Да надо не посмотреть, что она из особых, а прямо в милицию. Пусть штрафуют, раз теперь с родителями…
— Из каких особых? Что вы кричите? Никаких особых тут нет… — вдруг спокойно сказала Анна Андреевна.
Но скандалистка не обратила внимания на то, как это было произнесено. Она продолжала орать свое, приглашая других к сочувствию.
— Знаем каких!.. Наберут тут всяких приютских и не следят… Вот из таких и выходят…
— Тоня, — сказала Анна Андреевна. — Тоня, сейчас же иди в комнату. Ну, а вы… — продолжала она, когда убедилась, что Тоня закрыла за собой дверь. — А вы… Еще одно такое слово, и я вас выброшу из квартиры… Это моя дочь. Моя и ничья больше… И я вам не позволю!.. Придет отец, и мы во всем разберемся. А теперь уходите!.. Слышите, уходите немедленно!
И тут только крикливая женщина посмотрела на Аню. Посмотрела и невольно отошла к дверям, которые уже на всякий случай распахнула ее Лера. Вероятно, намерения Ани не оставляли сомнений, потому что женщина, внезапно умолкнув, сделала несколько шагов назад и очутилась на площадке, а Анна Андреевна захлопнула дверь.
С лестницы еще слышались угрозы, обещания вызвать милицию, но Аня уже не обращала на них внимания. Нервы ее не выдержали. Уткнув голову в руки, она тут же в коридоре оперлась о стенку и горько заплакала.
Олег Оскарович осторожно прикрыл двери и даже не стал запираться на ключ.
— Ну вот еще! Этого не хватало…
Мария Гавриловна обняла Аню и увела ее к себе. В квартире снова наступила тишина. В одиночестве затихла в комнате слышавшая все Тоня.
Когда домой вернулся Петр Васильевич, Тоне был устроен допрос.
— За что все-таки ты била ее? — спрашивал он дочку.
— За то, — следовал короткий ответ.
— Но все-таки за что же?
— За дело. Она знает.
— Она знает. Но мы тоже хотим знать, — терпеливо вмешалась Аня.
Тоня молчала.
Уравновешенный и спокойный Петр Васильевич начал терять терпение.
— Но, упрямая ты девчонка! — неожиданно вспылил он. — Не могли же вы драться просто так. Что случилось? Из-за чего?!
— Не скажу, — вдруг твердо произнесла Тоня.
— Не скажешь?
Тоня молча помотала головой.
Петр Васильевич тяжело вздохнул и заходил по комнате.
— Как же ты можешь не говорить отцу, когда он тебя спрашивает? — положив руку на плечо девочке, попробовала добиться от нее признания Аня.
Но ответа не последовало.
Походив по комнате, Рябиков остановился и, глядя на Тоню, строго сказал:
— Если ты не хочешь говорить, значит, ты виновата.
— Пусть, — кивнула Тоня, и губы ее сжались.
— Хорошо, — продолжал Петр Васильевич, стараясь казаться спокойным. — Я больше не хочу с тобой разговаривать.
Глава 21 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Список проступков Тони был велик.
Испачкала чужие сапожные щетки.
Увела со двора детей. Дети вымокли и могли получить воспаление легких.
Испортила чужой полотер.
Приносила домой щенка. Щенок оказался уличной собакой. Он подрался с Василисой и разбил любимую чашку Марии Гавриловны.
Посланная за батоном, пропадала целый час: смотрела, как «разрезали» асфальт. Ане пришлось бежать на улицу разыскивать ее.
Пускала мыльные пузыри из пластмассовой ванночки Кукса. Ванночка потерялась. По всему коридору шли мокрые следы.
Привела домой подруг. Съели не только купленные для нее яблоки, но и все котлеты, которые были приготовлены на два дня.
И еще многое. Но последнее — избиение девочки неизвестно за что — квалифицировалось уже как хулиганская выходка.
Аня попробовала было говорить с дочкой по-своему:
— Ты ведь у нас умница. Мне ты скажешь, что же у вас там случилось. Ведь у нее кровь из носа шла.
Но Тоня упорствовала, и Аня решила взять дочь суровостью. Отношения их с этой минуты не выходили за рамки бытовых забот. Аня говорила: «Садись кушать», «Иди вымой руки», «Убери со стола», «Ложись спать». Тоня все выполняла точно и молча.
В их комнате больше не слышалось смеха. Стало тоскливо.
В квартире все, кто как мог, старались помочь воспитанию своенравной девочки.
Мария Гавриловна наступала:
— Вон оно, смотри — мать от тебя плачет. Мыслимо ли, хуже мальчишки, в драку… А с тобой всё по-хорошему. Нас отец, бывало, розгами… Мы и знали, как старших почитать.
— Теперь детей не бьют, — сказала Тоня.
— А раз не слушаешь… Вот и растете хозяевами. Не стану с тобой телевизор смотреть…
Ольга Эрастовна сказала:
— Я думала, ты хорошая девочка. Хотела тебе сделать к Новому году подарок. А ты смотри какая оказалась. Мало что не слушаешь взрослых, так еще и дерешься.
— А мне подарка не надо, — сказала Тоня и ушла в комнату.
Даже Наливайко перестал с ней шутить и, встречаясь с Тоней, смотрел на нее печально и вздыхал.
И только Василиса по-прежнему, мурлыча, терлась о Тонины ноги. Но много ли наговоришь с Василисой!
Так и шли дни.
А Тоня молчала и считала себя правой. Правой, что бы там все взрослые, сколько их есть, ни думали. А говорить она никому не станет, что бы они с ней ни делали. Вот если была бы Рита!..
Глава 22 ТОНЯ ИСПРАВЛЯЕТСЯ
До зимних каникул оставалось недолго.
Понемногу забывалась история с учиненной во дворе дракой. Тоню туда гулять больше не пускали. Да она не особенно и стремилась. На улице было сыро и холодно. На душе Тони невесело.
Притихшая после всех прегрешений, она решила стать хорошей. Без напоминаний отправлялась спать и готовилась удивить всех отметками.
В квартиру № 77 пришла открытка. Ниже адреса значилось: «Для Тони».
На одной стороне открытки были бушующие зеленые волны. Над волнами на фоне бледного неба летали чайки. На другой — марка с кремлевской башенкой и Ритино письмо, написанное маленькими печатными буквами:
«Милая Тоня!
Я по тебе соскучилась. Это снято здешнее море. Оно холодное. Еще холодней нашего. Мы живем у самой бухты. Тут красиво. А чайки летают к нам на балкон. Корабли уходят в море и гудят нам: «До свиданья!» А с моря пахнет рыбой. Скоро начнутся северные сияния. Говорят, они очень красивые. Вот бы нам посмотреть с тобой вместе! Помнишь, ты рисовала? Когда-нибудь приедешь — увидишь все сама. Учись хорошо и слушай маму и папу. Всем передай привет.
Рита».Дальше был Ритин адрес, а еще ниже мелко напечатано: «Мурманск. Баренцево море».
Открытка Тоне понравилась. Особенно чайки и море. Она ее носила показывать в школу, а потом решила прикрепить над своей кроватью. Но если повесить так, чтобы смотреть картинку, — не видно Ритиного письма, а повесить наоборот — пропадают море и чайки. Тоня подумала и привязала открытку к спинке кровати над головой. Получилось так, что можно было смотреть на море, а потом повернуть и читать то, что написала Рита. Хотя письмо вместе с адресом Тоня запомнила наизусть.
И опять становилось жаль, что в квартире нет Риты и не с кем потихоньку посмеяться над Куксом или, сидя рядом, почитать книжки.
А тут еще неожиданно отправилась в Москву Августа Яковлевна. Вдруг она вспомнила, что давным-давно не бывала у своих столичных племянниц и не видела нового чудо-дворца, выстроенного в стенах Кремля.
Уехала Августа Яковлевна незаметно, как всегда уходила из дома. На дверях ее комнаты повис замок, который имел символическое значение, потому что любое из колец, на котором он держался, могло быть вынуто самым незатруднительным способом.
Пока в квартире была Августа Яковлевна, Тоня могла иногда пойти к ней, поразглядывать странные картины или потрогать зеленого старичка на козлиных ногах.
На улице слякоть. Во дворе делать нечего. Тоня вернется из школы, поест, поделает уроки, поговорит с Василисой, посмотрит на Ритину открытку, перевернет на другую сторону и опять посмотрит. Потом выйдет в коридор, походит, поглядит на соблазнительно стоящий в углу полотер, но и не подумает к нему прикасаться.
И вдруг нашлось хорошее занятие. После уроков ходили компанией по квартирам, звонили в звонки и требовали ненужную бумагу. В некоторых квартирах им кричали:
— Никакой бумаги у нас нет. Уже всю взяли.
И тут же захлопывали дверь.
В других вообще не отворяли — звони не звони. Зато бывало и так, что школьникам даже очень радовались. Один старичок в красных лыжных штанах сказал им:
— Немного подождите, старатели.
А потом вытащил столько связанных веревками газетных пачек, что они с трудом унесли.
Ребята постарше собирали металлический лом. Они ездили с тележкой со двора на двор и собирали все, что там валялось, — ржавые листы железа, помятый кусок водосточной трубы, кем-то выброшенную старую детскую коляску.
Тоня шла домой из школы, когда мальчишки с тележкой, на которой лежала исковерканная велосипедная рама, въехали к ним во двор и остановились, потому что провезти тележку через рытвины во дворе было трудно. Тут их и увидела дворничиха Люба.
— Давайте-ка отсюда, ничего у нас нет! — закричала она школьникам.
Но те стали просить:
— Мы найдем чего-нибудь, тетенька. Что так зазря валяется.
— Нету тут ничего, говорят… Еще утащите ленгазовое имущество. Потом отвечай за вас. Езжайте…
— Не утащим, — отвечали мальчишки. — Куда нам эти решетки! Вот если бы у вас медные штуки были!..
Тут Тоня вспомнила про старую кровать, на которую иногда натыкалась Августа Яковлевна и от которой она так хотела избавиться. Тоня решила, что настал момент ей помочь.
— У нас есть медная штука, — сказала она мальчикам. — Только очень тяжелая.
— Где, где? Покажи! — закричали они.
— На четвертом этаже. Целая кровать. Вам не унести.
— Ого! Еще как унесем… Мы вчера железную бочку свезли. Где она?
— В квартире.
— А нам не дадут.
— Дадут. Одна старушка ее выбросить хочет, а ей не поднять. Пошли за мной!
Тоня побежала по двору, перепрыгивая через наполовину засыпанные канавы. Мальчики оставили свою тележку и устремились за ней.
Был час, когда в квартире в одиночестве томилась Василиса. Заснув, она пропустила уход Олега Оскаровича и теперь вынуждена была ожидать первого, кто вернется домой, чтобы отправиться на дневную проверку подвалов. От нечего делать Василиса уже в который раз вынюхивала опустевшую мисочку из-под рыбы, хотя отлично знала, что давным-давно съела все, что там было. Вдруг в коридоре что-то негромко зашебаршило. Василиса подняла голову и кинулась в переднюю.
Как только в дверях показалась Тоня, Василиса приветствовала ее коротким «му-у-рк, мурк» и заспешила на лестницу. За дверьми она увидела еще несколько ног. Тоня была не одна. Впрочем, Василису мало занимали те, кто пришел с девочкой, она благоразумно подалась в сторону и в следующий миг уже бежала вниз по ступенькам, торопясь туда, где ее, наверное, уже заждались.
— Кошка выскочила! — крикнул кто-то из мальчиков.
— Пусть, — сказала Тоня. — Она погулять. Входите!
Мальчики все вместе протиснулись в квартиру и неловко замялись на резиновом коврике. Тоня зажгла свет.
— Вот, — сказала она. — Смотрите!
— Ух, какая здоровенная! — восхитился один из сборщиков, оглядывая прислоненную в углу кровать.
— Меди — законно! — сказал другой.
Тоня оглядела коридор. Тихо. Дома никого. На двери Августы Яковлевны сиротливо висел замок. Из Москвы она не вернулась. Тоня решила, что это даже хорошо. Вот приедет, обрадуется!
— Берите! — скомандовала она мальчикам.
Они какую-то минуту колебались. Потом один сказал:
— Взялись, парни!
— Беремся!
Кровать повалили набок. При этом старые ее пластины издали бронзовый вздох, а ножки проехали по паркету, оставляя двойные царапины. Оно оказалось увесистым, это железное чудовище, столько лет досаждавшее Августе Яковлевне, и мальчики с трудом оторвали его от пола.
Тоня распахнула двери на лестницу. Кровать, как могла, сопротивлялась. Она застряла в первых дверях, потом во вторых. Звенела, призывая кого-нибудь на помощь, скрежетала и вырывалась из рук мальчишек, пытаясь доказать, что с нею нелегко справиться.
На свете, наверное, не было и отцов этих розовощеких упрямцев, а она уже блестела начищенными медными шарами, украшая модным видом петербургскую квартиру. На ней спали и старели люди. Здесь в коридоре она выстояла блокаду и войну. Сколько лет потом дожидалась лучшей участи, и вот все было кончено…
В последний момент кровать еще уцепилась ножкой за коврик при входе, словно хотела, чтобы и он разделил с ней участь изгнанника. Но ковер оставили на своем месте, а она очутилась на лестнице.
Перегнувшись через перила, Тоня с площадки наблюдала, как мальчишки волокли тяжелую добычу.
Когда внизу хлопнули двери, она вернулась в квартиру. Тоня уже не видела, как кровать уложили на тележку и, придерживая, чтобы она не свалилась, повезли прочь со двора. Облезлая и зеленая, она при дневном свете в самом деле выглядела старым изношенным хламом и не привлекла ничьего внимания.
Вероятнее всего в квартире не скоро бы заметили внезапное исчезновение кровати, если бы не Тоня, которой не терпелось похвастаться.
Как только вернулась домой Мария Гавриловна, Тоня бодро сообщила ей:
— А мы чудище на лом сдали!
— Какое чудище?
Мария Гавриловна вынула ключ и стала отворять свою комнату.
— Августы Яковлевны кровать с шариками.
— Так она что же, вернулась уже?
— Как же она вернется? Ее на тележке увезли.
— Кого?! — Мария Гавриловна испуганно обернулась.
— Кровать железную.
— Фу ты! Да я тебя про Августу спрашиваю.
— А, она… Нет, еще не приехала.
— Кто же кровать-то увез?
— Мальчишки. Я им отдала.
Мария Гавриловна не сразу поверила тому, что говорила Тоня. Она зажгла свет и осмотрела опустевший угол:
— Это как же так? Неужели увезли? Кто же тебе велел?
— А никто. Она давно сказала, что это чудище ей надоело. Она хотела, чтобы кто-нибудь помог выбросить. А мы не выбросили, а сдали в утиль. А теперь его переплавят, и будет трактор.
— Господи! — Мария Гавриловна всплеснула руками. — Выходит, ты, Антонина, чужое имущество на свалку отправила?!
— Не на свалку, а в утиль! — поправила ее Тоня.
— И дома никого не было?
— Не было никого. Мы всё сами. Знаете, какая она тяжелая! Взрослым и то бы не снести. Одному мальчику чуть ногу не придавило.
Но Мария Гавриловна уже не слушала Тоню.
— Ой, девчонка, девчонка, что же ты наделала! — причитала она.
Это было только начало новых неприятностей. А потом пошло.
Вернулась с работы Аня.
— Как же ты это могла додуматься, Тоня?! — горько воскликнула она. — Что же теперь мы Августе Яковлевне скажем?
Хотя Тоня и почувствовала, что произошло неладное, она никак не могла понять, в чем теперь виновата: она только хотела помочь Августе Яковлевне.
Явился к обеду Петр Васильевич, узнал о происшедшем, даже не стал ничего говорить. Строго спросил:
— Ты не знаешь, в какой пункт они ее свезли?
Но так как Тоня об этом понятия не имела, он велел ей не уходить, а сам сразу же оделся и ушел из дому.
Вернулся он скоро. Сбросил пальто и сообщил:
— Кровать эту чертову куда-то дальше из пункта приема успели отправить. Теперь ищи-свищи.
Молча пообедав, Петр Васильевич отправился на работу.
А Тоня думала про себя, что, когда из Москвы вернется Августа Яковлевна и похвалит ее, — все станут у нее просить прощения, что зря ругали.
Глава 23 ДО СВИДАНЬЯ, МАМА С ПАПОЙ!
Была у Петра Васильевича тетка Прасковья Федоровна, по-семейному — просто тетя Панюша.
Панюша жила в поселке Тайцы, минутах в сорока с лишним езды по Балтийской дороге. Там у ее мужа, отличного плотника, когда-то был собственноручно выстроенный добротный дом. Дом сгорел во время войны. Муж Прасковьи Федоровны умер. Время раскидало детей. Панюша одна коротала свой век в Тайцах.
По-старушечьи нетребовательная, жила она в маленькой комнате с кухонькой и подобием веранды. Летом сдавала неказистое жилье дачникам, сама перебиралась в оклеенный изнутри обоями сарайчик, с окошечками величиной в тетрадку.
Раза два в год, по теткиным праздникам, Петр Васильевич и Аня наезжали к ней в гости. Привозили нехитрые подарки: ситцу на платье или какой-нибудь платочек. Иногда Панюша, захватив «своего» лучку или морковки, наведывалась в город, пила чай, рассказывала тайцевские новости. Потом, бестолково потолкавшись по универмагам, снова уезжала к себе.
На зимние каникулы было решено отправить Тоню к тете Панюше.
Девочке хорошо побыть две недели на воздухе — рассудили Аня с Петром Васильевичем. В свободные дни они станут посещать дочку, заодно выполняя свой родственный долг перед теткой.
Про себя каждый из них еще подумывал о том, что все-таки надо увезти Тоню на некоторое время и дать соседям привычно пожить в квартире. Тем более трудно надеяться на спокойствие в каникулы, когда Тоне придется подолгу оставаться одной.
В отсутствие дочки Петр Васильевич и Аня собирались подвести итоги прожитого втроем времени и выработать дальнейший план воспитательных мер.
Мысль повезти девочку за город нравилась обоим. Говорили об этом полушепотом, ночью, когда Тоня крепко спала.
И вдруг Аня тихо сказала:
— А ведь скучно без нее станет. Привыкла я. Бегает рядом, делает что-то свое.
Аня не видела, как счастливо улыбнулся ее словам муж. Кашлянув, Петр Васильевич произнес тоном умудренного в родительском деле человека:
— Ну, ну… Придется и расставаться. Не все вместе. А летом… Лагеря или что. Не станешь же ты держать ее при себе в городе. Вернется, я ее в цирк на елку поведу.
И Аня, вздохнув, умолкала.
Тоне так и объявили, что она поедет на каникулы в Тайцы к тете Панюше. Будет там дышать воздухом и ходить на лыжах.
Тоне не хотелось уезжать. Куда лучше оставаться в городе. Но возраженья были бы напрасны. Все равно ее никто не послушает. Взрослым ничего не докажешь.
С тетей Панюшей она была знакома. Эта толстая тетка в сером платке уже приезжала при Тоне в город. Ане нужно было куда-то выйти. Она оставила их вдвоем. Прасковья Федоровна пила чай и поглядывала на Тоню. Потом вздохнула и сказала:
— Сирота ты моя горемыкая.
Тоня не знала, что такое сирота, но поняла, что тетя Панюша ее жалеет, и ей это не понравилось. Ехать к тетке Панюше в Тайцы у Тони не было желанья.
Шли последние дни декабря. Зима не установилась. Словно желая скрасить унылые сумерки, по вечерам зажигались убранные к празднику витрины магазинов.
И вот настал последний день занятий. Темнело теперь рано, и Тоня вернулась из школы, когда за окнами уже сгущалась густая синева. В квартире она не застала никого. Гуляла где-то и Василиса.
Тоня неторопливо переоделась в домашнее платье, поела и задумалась. Завтра ее отвезут к тетке Панюше. Купили даже лыжи. Но какие тут лыжи, когда на улице мокро, как летом после дождя. И кино там, наверное, нет. И телевизора тоже.
И вдруг Тоне подумалось, что ее, может быть, только обманывают, что везут к Панюше на каникулы, а на самом деле возьмут и оставят там жить навсегда. Потому что в квартире ее никто не любит. И тетка Панюша сказала — горемыкая. И мать Лерки кричала: «Она из особых!» А папа и мама? Ругают ее из-за этого чудища Августы Яковлевны. А что, если они никакие ее не папа и не мама?
Тоня опустилась на оттоманку. Острые плечики ссутулились. Ей вдруг сделалось нестерпимо жаль себя. Вот если кто-нибудь сейчас рассказал бы всю правду… И еще научил, как не ехать к толстой тетушке в Тайцы. Вот если бы дома была Рита. Она понимала Тоню.
Рита!..
Рита звала ее к себе и обещала показать море, пароходы и чаек.
Конечно! Она сейчас же сразу поедет к Рите и все, все ей расскажет. Мурманск — это, наверно, не далеко… Сколько стоит билет? Детский недорого. У Тони есть рубль, его дал ей Петр Васильевич на что она захочет. Она еще не потратила ни копейки.
Тоня вскочила на ноги. Рубль в целости и сохранности лежал в коробочке из-под духов. Тоня вынула его оттуда и сжала в кулаке.
Сейчас же, скорей к Рите, пока еще никто не пришел, а то ее ни за что не пустят.
Тоня торопливо отвязала открытку с морем и чайками. Адрес написан. Она найдет.
Тут она увидела Люсю, которая сидела на окне и смотрела во двор, где ничего не было видно. Тоня подумала: не взять ли ее с собой? Но решила, что кукла может замерзнуть на севере, ведь у нее нет теплого пальто.
— Я еще приеду. Ты не скучай и будь хорошей, — сказала ей Тоня и поцеловала Люсю.
Еще немного, и Тоня застегивала последние пуговицы на своем пальтишке. Ботики были уже на ногах. Красная с белым помпончиком шапочка надета. Повязан и шарфик. Кажется, все!
Ритина открытка и рубль лежали в кармане. Ключей она не возьмет. Зачем они ей?
Тоня вышла в коридор. Никого! Осторожно отворила двери на лестницу и прислушалась. Кажется, никто не поднимался. Стараясь как можно меньше шуметь, осторожно захлопнула двери и побежала вниз.
Ей повезло. Во дворе не встретился никто из детей, и дворничихи тоже не было.
И вот Тоня на улице. Идет снег. Он похож на мелкие клочки папиросной бумаги. Освещенные фонарями, они кувыркаются в черной мгле неба. Одни, более счастливые, ложатся на шапки и плечи прохожих и еще белеют на них некоторое время. Другие падают на асфальт и сразу же превращаются в серое жидкое месиво.
Тоня знала, что в Мурманск уезжают с Московского вокзала: она провожала Риту. Такси тогда проехало по площади и свернуло на улицу Маяковского. Тоня знала и эту улицу. Один раз они с Петром Васильевичем гуляли по ней и дошли до самого Невского. А там близко и вокзал — напротив станции метро с круглой башенкой. Можно дойти и пешком. Совсем недалеко.
Только бы ее никто не увидел! Тоня пошла к Литейному и, выбрав минуту, быстро перебежала проспект. Вот она уже на другой стороне. Дальше площадь, а за ней улица с деревцами — это Маяковского.
Как ярко горят фонари! Если задрать голову и смотреть на фонарь — похоже на спустившуюся луну. А снежинки перед ними становятся черными и летают, как мушки.
Какая долгая улица! Тянется и тянется… Тоня даже устала, пока шла по ней. Но вот и яркие цветные огни. Много света. Невский. Она уже совсем близко от вокзала.
Народу на Невском полно. Все куда-то спешат. Все взрослые, а если и встречаются дети, они идут за руку или рядом с большими. Тоне тоже лучше не идти одной. Она выбрала высокого и толстого дядю в очках, с большим портфелем, и пошла рядом, делая вид, что они вместе. Толстяк не обратил на нее никакого внимания. Задумавшись, он быстро шагал в сторону вокзала. Тоне приходилось почти бежать.
Они уже подходили к станции метро, как вдруг Тоня увидела идущего навстречу Олега Оскаровича. Она сразу узнала его похожее на желудь лицо. Олег Оскарович, наверно, тоже увидел ее, потому что Тоня заметила, как он удивился, что рядом с ней не Петр Васильевич или Аня, а кто-то совсем незнакомый. Кукс даже приостановился и посмотрел им вслед, а Тоня, как ни в чем не бывало, пошла еще ближе к высокому дяде и даже подержалась за его портфель.
Пройдя несколько шагов, Кукс обернулся. Маленькая спутница толстяка с портфелем, не оглядываясь, продолжала идти рядом с ним. Тогда Олег Оскарович понял, что девочек, похожих на Тоню, в городе, наверно, так же много, как и шапочек с белым помпоном, и спокойно направился дальше.
Глава 24 ПРОПАВШЕЕ СОКРОВИЩЕ
После работы Аня не сразу пошла домой: надо было кое-что купить — до праздника оставалось несколько дней.
Дело близилось к вечеру, когда Аня поднималась по лестнице в свою квартиру. Хотя она знала, что дома для Тони все приготовлено и девочка должна быть сыта, ее не покидало какое-то беспокойное предчувствие.
Двери в комнату, как она и ожидала, оказались незапертыми. Тоня дома. Аня потянула дверь и удивилась: свет был потушен.
— Тоня! — неуверенно позвала она, повернув выключатель и оглядывая пустую комнату.
Аня поставила сумку на стул и выглянула в коридор.
— Тоня!.. Тоня, ты где?!
Из кухни с утюгом в руках показалась Мария Гавриловна.
— Нету ее, — сказала она. — И не было, как я пришла. Гуляет, видно.
Аня сняла пальто и задумалась. «Гуляет?! Нет, так поздно Тоня гулять не должна. К тому же весь день шел снег. На улице сыро». Во дворе Аня не встретила никого из детей.
Она еще раз осмотрела комнату. Тонино школьное платье аккуратно повешено на спинку стула. Ключи лежат на столе. Обед съеден. А пальто Тониного на месте нет. Но ей было строго запрещено куда-либо уходить. Почему же она все-таки не послушалась?
Чем больше над этим думала Аня, тем тревожней становилось у нее на душе.
На кухне Ольга Эрастовна сбивала белки в сверкающей прозрачной машинке. Мария Гавриловна доглаживала белье. Два стареньких чугунных утюга поочередно калились на синем огне конфорки. Стопка тщательно выглаженного белья пестрела на табуретке.
— Гляди, — показала взглядом Мария Гавриловна. — Откуда и берется?! Ведь одна живу.
Она вздохнула. Пока в квартире была Рита, Мария Гавриловна, бывало, нет-нет да и пожалуется, что с племянницей «одно беспокойство» и что «пора бы пожить и одной — годы-то не те». Но теперь, когда Риты не стало, Мария Гавриловна явно скучала и не знала, куда деть свои еще не до конца растраченные силы.
— Вы давно дома? — спросила Аня.
— Да уже часа два буду. Ты что, о Тоне? Ну, что там. К подружке, поди, побежала.
— Возможно, в квартире напротив? Она ведь, кажется, ходит к ним, — вставила Ольга Эрастовна.
— Я ей никуда не позволила уходить, — сказала Аня.
Ольга Эрастовна ничего не сказала, только выразительно взглянула на Аню.
Аня стала снова одеваться. Нужно было сходить в школу. Тоня могла быть только там.
На лестнице все же решилась и осторожно позвонила в квартиру напротив. Дверь отворил сам доцент.
— Извините, пожалуйста, — сказала Аня. — У вас нет нашей Тони?
Большой и рыхлый Бобро удивленно смотрел на нее через очки без оправы.
— Нет, не думаю… — проговорил он. — У нас будто никого…
Из-за спины отца показался Толик.
— А где ваша Тоня? — спросил он.
— Не знаю. Куда-то ушла. Уже давно, — Аня поблагодарила и еще раз извинилась. Бобро в свою очередь раскланялся и закрыл дверь.
Аня сошла вниз. Во дворе дворничиха Люба лениво сметала в сторону мокрое снежное месиво.
— Весь день валил. Только и перестал, — сказала она.
Аня спросила, не видела ли она Тоню. Та перестала мести.
— А что, пропала?
— Ушла куда-то без спросу.
— С ними все станется, — сказала Люба и снова равнодушно засвистела метлой.
Двери школы оказались плотно закрытыми. Светилось только окошко первого этажа с цветами на подоконнике и домашней занавеской. Нет, Тони тут, конечно, не могло быть.
Аня надеялась, что по возвращении она уж обязательно найдет дочку дома. Но лишь отворила двери, как в коридор вышла Мария Гавриловна. Из дверей кухни выглянула Ольга Эрастовна.
— Ну что, нашлась?
— Нет, — покачала головой Аня. — Не знаю, что и подумать.
— Да никуда не делось твое сокровище. Гуляет где-нибудь, и все, — неуверенно произнесла Мария Гавриловна.
Аня пошла к себе. Стала вынимать покупки из сумки. Но делала она это механически.
Напряженно прислушиваясь к тому, что происходит в квартире, она не услышала, а, скорее, почувствовала, что кто-то отворял своим ключом входную дверь. Аня торопливо вышла в коридор.
— Здра-авствуйте! Привет всем, кто дома! — чуть грассируя, весело произнесла Августа Яковлевна, внося потертый саквояж, к ручке которого был прикреплен голубой ярлычок аэрофлота.
Оказалось, что Августа вернулась домой из Москвы на самолете.
— Какая прелесть! — стала она во всеуслышание восхищаться еще в коридоре. — Подумать только, как я могла прожить столько лет и не летать! Сидишь в кресле, как в ландо… Да какое там ландо! В экипажах трясло. А тут — дома. Что за роскошь эти ТУ. Час — и ты в Ленинграде… Просили зачем-то привязаться. Раздавали какие-то пакеты… Мне совершенно ничего не понадобилось. Я читала «Огонек».
И вдруг Августа Яковлевна оборвала свой восторженный монолог.
— Что-нибудь случилось? — спросила она, заметив неладное в лице Ани.
— Августа Яковлевна, у нас куда-то пропала Тоня.
— То есть как это пропала? Что с ней? — Августа поставила саквояж на пол.
Аня сказала, что Тони уже давно нет дома и ничего о ней не известно.
Старуха облегченно вздохнула.
— Ну, зачем так волноваться? Найдется. Я уверена, напрасная паника… Жульетта непосредственный ребенок. Ну, увлеклась чем-нибудь… Чего только не видела я в жизни… Мой племянник на даче упал в колодец. Сейчас он доктор астрономических наук…
— Августа Яковлевна, — продолжала Аня. — Тоня тут у нас отличилась. Никого не было дома. Она привала мальчиков и отдала им вашу кровать. А те сдали ее на лом. Петр Васильевич потом поговорит с вами.
— О чем поговорит?! — удивленно и даже как-то строго спросила Августа. Она вытащила из сумки свои очки-лорнет и посмотрела в тот угол, где столько лет стояла старая кровать. — О чем он будет со мной говорить? Я очень благодарна Жульетте. Наконец-то!.. Столько лет я умоляла помочь мне убрать эту тяжесть, и никто… А добрый ребенок… Можно будет двигаться без риска посадить синяк.
Августа Яковлевна снова склонила голову над сумочкой и вытащила из нее ключ от своего символического запора.
Прошло еще немного времени, и раздался звонок.
— Тоня!.. Это она! Она ведь ушла без ключей, — Аня кинулась отворять дверь.
На площадке стояли Бобро с сыном. Доцент выглядел так строго, что не оставалось сомнений — он явился по серьезному делу. Он держал за руку Толика. Мальчик был взволнован. Глаза его смотрели широко и испуганно.
— Прошу прощения, — осторожно начал Бобро.
— Входите, пожалуйста, — отступила Аня.
Толик с отцом вошли в квартиру.
— Мы слышали, — продолжал уже в коридоре Бобро, — у вас потерялась дочка. Дворничиха полагает, так она сказала моей жене, что девочка убежала из дому.
Лицо Ани вспыхнуло. Она оглянулась, в коридор вышла Мария Гавриловна. Ольга Эрастовна застыла на пороге кухни.
Бобро испытывал заметное смущение.
— Мне сказали, — продолжал он, — девочка была наказана за драку во дворе.
— Была, — кивнула Аня.
— Так вот, мне бы хотелось вам кое-что сказать…
— Пожалуйста, идемте к нам.
Аня повела их в комнату. Выглянувшую в коридор Августу Яковлевну Аня тоже позвала с собой. Она ждала дурного, и ей не хотелось быть одной.
Толик с любопытством оглядывал тесное жилище Рябиковых. Доцент, видимо, спешил выложить то, что его волновало. Он не стал садиться, несмотря на Анино приглашение.
— По-моему, произошло недоразумение, и досадное, — продолжал он. — В некоторой степени здесь виноват и Толик, потому что молчал.
— Я дал Тоне честное… — насупился мальчик. — Она велела никому не говорить.
— Хорошо, что ты сказал хоть сейчас. Девочка была права, — доцент строго посмотрел на сына. — Ну, повтори, пожалуйста, что произошло во дворе.
— Лера не хотела играть в прятки, — тихо начал Толик. — А все хотели. Тогда Лера сказала Жульетте, что она детдомовская и только всех заводит. А Жульетта сказала, что это она раньше жила в детском доме, а теперь у нее есть папа и мама. Тогда Лера стала орать, что никаких папы и мамы у нее нет и что ее только обманывают, что она нашлась, а она подкинутая.
Толик умолк.
— А потом? — спросил Бобро.
— А потом Жульетта ее стукнула. Но только никакого шарфа она не рвала, только дала ей по носу. Шарф Лера разорвала сама. Нарочно. Все видели. А она кричала: «Ага, ага!.. Вот скажу маме!..»
— Какая злая девчонка! — произнесла Августа Яковлевна.
— По-моему, это меняет дело, — вопросительно посмотрел на Аню доцент.
— Спасибо, что сказали, — проговорила она и попыталась улыбнуться.
— Мама его не пускала прежде во двор, — кивнул на сына Бобро. — Но теперь она убедилась, что это было неверно. А с вашей Жульеттой они непобедимы, — доцент улыбнулся. — Пусть она к нам часто приходит. Толик ее любит, и они хорошо играют.
Первой Аниной мыслью после ухода Толика с отцом было позвонить мужу. Она скажет, что Тоня пропала. Может быть, он что-нибудь знает или догадается, куда она могла пойти.
И вдруг Ане пришла мысль, от которой вспыхнули щеки. А что, если Тоня отправилась в детский дом, к Нине Анисимовне?! Пошла сказать, как тоскливо ей живется в квартире среди взрослых, не понимающих ее людей. Сказать, что мать с отцом ее тоже не любят.
Аня приложила ладони к горящим щекам. Какой стыд! Нет. Случись такое, их бы немедленно известили. Но что же тогда с ней?! Одна тревожней другой вставали перед ней картины.
— Девочка найдется, — твердо произнесла Августа Яковлевна. — Нужно спокойно обдумать, куда она могла пойти. Я уверена, она где-нибудь недалеко.
Сидеть дома и сложа руки думать Аня не могла. И все же слова Августы Яковлевны чуть успокоили ее: а если и в самом деле Тоня заигралась и бегает где-то поблизости.
Нет, не нужно звонить в театр и тревожить мужа. Он все равно сейчас не сможет ничем помочь. В том, что Тони нет дома, виновата только она. Это она до сих пор не поняла открытой и легко ранимой души девочки. Только бы она отыскалась. Такого никогда не повторится.
Через несколько минут Аня снова шла через двор. Если она не найдет девочку в ближайших кварталах — остается одно: идти в милицию.
По улице, пряча мокрые лица в воротники пальто, торопливо шли люди. Они спешили домой, где их ждали дети. И вдруг Аня поняла, что никогда в жизни не обретет спокойствия, случись что-нибудь с маленькой озорной девчонкой, которая именно сейчас казалась ей особенно родной.
Глава 25 КТО ВИНОВАТ?
Лишь только захлопнулась дверь за Аней, в коридоре снова собрались все жильцы. Вышел с карандашом в руках и Евгений Павлович Наливайко.
Августа Яковлевна рассказала о том, что сообщили Ане Бобро с сыном.
— Какой характер, а! — вырвалось у Ольги Эрастовны. — И ничего не сказала…
— Гордая натура. — Это сказал Наливайко.
— А мы-то все на нее, малую! — всплеснула руками Мария Гавриловна. — Знают все эту Лерину мать. Еще в блокаду знаменитая. И дочь, поди, в нее.
Ольга Эрастовна запротестовала:
— Я, например, ничем не позволила себе обидеть ребенка. Ну, поговорила с ней…
— Чего там, — продолжала наступать Мария Гавриловна. — Все позволили. Полотер сломался — чужое взяла. Попало. Щенка покормить привела — ругают. Какая ей тут жизнь?
Ольга Эрастовна недоумевала:
— Так ведь вы же чашку свою жалели.
— Бог с ней, с чашкой. Беда какая!
— Как будто я беспокоилась о своем полотере?! Действительно!
У Евгения Павловича был несколько виноватый вид.
— Понятно, мы сгустили краски. Но эта история с кроватью… На нее следовало реагировать, хотя бы в воспитательных целях.
— Ах, прошу вас, оставьте, пожалуйста, кровать! — воскликнула Августа Яковлевна. — Она никому тут не нужна. Я бы только похвалила Жульетту.
Мария Гавриловна, видно, уже позабыла свой разговор с Тоней о розгах.
— Один ребенок в квартире был, — сказала она, — так и того довели… Пузыри пускала… Будто долго вытереть пол. А ей, может, радость.
— Боже мой! Да кто же к этому всерьез относился?
— Дело не в пузырях, — прервал жену Наливайко. — Ей нанесли оскорбление. Она, как умела, вступилась за свою честь и не захотела посвящать взрослых… А мы… — он замялся. — А мы не поняли, и вот…
— Такие чувства, — добавила Августа, — в человеке следует развивать, а не подавлять.
— Да кто же их подавлял?
Было похоже, что Ольга Эрастовна упреки принимала на свой счет.
В самый разгар возникшего стихийного объяснения в коридоре появился Кукс. Олег Оскарович вошел в квартиру, как всегда, с черного хода. На него не обратили внимания, но Кукс прислушался к разговору.
— Потерялась Тоня? — внятно спросил он. — Я ее видел!
— Когда?! — это вырвалось у всех сразу. Взоры обратились к Олегу Оскаровичу.
— Ну, так часа два назад… Нет, больше. Я вышел из гостиницы. Был у знакомого главного режиссера.
Как всегда уснащая речь ненужными подробностями, Кукс рассказал, как встретил на Невском Тоню, которая шла в сторону метро и вокзала с каким-то солидным человеком.
— И вы ее не остановили? — Августа Яковлевна посмотрела на Кукса через свой лорнет.
— Фантастически! Вы бы ее хоть окликнули, куда она? — Ольга Эрастовна так осуждающе глядела на сметчика-литератора, что тот даже растерялся.
— Видите ли… Во-первых, я торопился… А во-вторых, как предполагать… Такой солидный человек, с портфелем…
— Да мало ли подлецов всяких… Портфель, может, и нарочно. А то надо, и бороду приклеит. Заведет куда… Вон тут одну поймали…
— Навряд ли, чтобы по Невскому, — опроверг разошедшуюся Марию Гавриловну Наливайко.
— Возможно, кто-нибудь из школы, и она сейчас вернется, — высказала слабую надежду Августа. — Вы не ошиблись? Это точно она?
Олег Оскарович неуверенно пожал плечами:
— По-моему, это была Тоня.
— Нужно сообщить в милицию, чтобы дали сигнал по всем отделениям города, — у Наливайко был решительный вид. Он двинулся к телефону.
— Кроме милиции, — продолжал он, — необходимо навести справки в больницах… Обратиться в «скорую помощь».
— Фу ты! Типун на язык! — замахала рукой Мария Гавриловна.
— Я оптимистка. Все кончится хорошо, — было видно, что Августа Яковлевна успокаивала прежде всего себя.
И вдруг они услышали командный голос Кукса:
— Прежде всего — логика! Никакой преждевременной паники, — он уже было отомкнул дверь своей комнаты, но раздумал в нее входить. — Следует действовать организованно. Если, как вы говорите, она убежала из дому, ее следует искать в районе Московского вокзала. В этом возрасте начинается тяга к скитаниям… Девочка могла заблудиться. Вокзал я беру на себя.
С этим заявлением, поразившим всех, кто знал Олега Оскаровича, Кукс положил ключ в карман пальто и, не говоря больше ни слова, вышел через парадный ход.
Только он ушел, Евгений Павлович решительно уселся у телефона. Наливайко надеялся напасть на Тонины следы, не снимая домашних тапочек.
Мария Гавриловна оделась потеплее и сказала, что побродит и поищет Тоню поблизости.
— Кто знает, может, девчонка рядом где заплуталась.
Уставшая с непривычной дороги Августа ушла к себе. Еще в автобусе по пути из аэропорта она с удовольствием думала о том, как будет отдыхать с книгой в своей широкой постели. Но теперь решила не ложиться до тех пор, пока не узнает, что тревога была напрасной.
Ольга Эрастовна задержалась на кухне и всякий раз с облегчением вздыхала, когда ее муж, дозвонившись до очередного приемного покоя, узнавал, что в больницу никакой девочки с улицы не поступало.
Обычно по вечерам в квартире № 77 не обращали внимания на звонки в передней и на них не выходили. Каждый считал, что это его не касается. Если звонили долго и настойчиво, отворять двери шел тот, чьему терпению наступал предел. А сейчас на всякий сигнал следовала немедленная реакция. Близоруко щурясь, выходила Августа Яковлевна. Наливайко бросал свой пост у телефона и, опередив старуху, спешил отворить дверь. В коридор с надеждой выглядывала Ольга Эрастовна.
Звонили несколько раз. Кто-то запоздалый и несведущий, в красном шарфе, спрашивал Риту. Дворничиха приносила счета на оплату квартиры. Звонили, чтобы пустить Василису, которая в полном неведении квартирных событий задержалась на прогулке.
Тоня не появлялась.
Глава 26 ШЕЛ ПО УЛИЦЕ МАЛЮТКА
В детстве Олег Оскарович увлекался сочинениями Конан-Дойля. Он знал, что тайну преступления следует начинать раскрывать там, где были обнаружены последние его следы.
Кукс прибыл на то место Невского, где повстречал Тоню в обществе незнакомого человека с портфелем.
Разумеется, ничего наводящего на ее след он здесь не увидел и немедленно отправился на вокзал.
Олег Оскарович обошел огромный мраморный вестибюль, дважды побывал в зале ожидания, заглядывал на перрон и на всякий случай даже в ресторан. Все было напрасно.
Подумав, Кукс решил воспользоваться помощью вокзального начальства.
Пока он старательно и, как полагал, достаточно образно описывал Тонины приметы дежурному по вокзалу, а тот беспомощно пожимал плечами, в разговор вмешалась уборщица. Обернутой в тряпку щеткой она вытирала кафельный пол и вдруг, замерев, спросила Кукса:
— В красной шапочке, говоришь, с белой бомбой?
— Ну да, глаза такие проникновенные… Очень живой ребенок.
— Глаз не видела, а так схоже… Сидела с теткой толстой рядом. Та в платке…
— Может быть, с дядькой? С портфелем? — попробовал помочь ей встревоженный услышанным Кукс.
— Дядьки не было, а тетка верно, и девочка небольшая, курносенькая.
— Скорей всего она!
— Где вы видели? — спросил уборщицу дежурный по вокзалу и взялся за телефонную трубку.
— В зале ожиданья. Часа два уж. Да, может, и не та. Мало ли девчонок, — уборщица задумалась. — Тетку-то я потом еще заметила. Она к поезду бежала.
Олег Оскарович был готов снова кинуться в зал ожидания, хотя только что там побывал.
Дежурный по вокзалу позвонил в несколько вокзальных точек. Тони никто не видел. Справился в кассе. Узнавал, не покупала ли девочка в красной шапочке самостоятельно куда-либо билет. Но и в кассах Тони не примечали.
От дежурного Олег Оскарович ушел с мало обнадеживающими сведениями. И все же он считал, что напал на след девочки. По всему получалось, что уборщица видела именно Тоню. Теперь было необходимо логично рассудить, куда она могла направиться с вокзала.
Из автомата Кукс с трудом дозвонился до дома. Телефон все время был занят. От Наливайко Олег Оскарович узнал, что никаких сведений о Тоне до сих пор нет. Тогда он сообщил, что имеет основания предполагать, что их беспокойная соседка была на вокзале, и станет продолжать поиски.
Олег Оскарович подумал о том, что Тоня снова могла выйти на Невский. Витрины магазинов на проспекте были украшены к Новому году и светились весело и привлекательно. Вполне возможно, рассуждал про себя Кукс, девочка могла увлечься и не заметила времени.
Гипотеза Олега Оскаровича держалась на зыбкой почве. Очутись Тоня одна в этот час на Невском, она давно бы была препровождена домой. В сущности Олег Оскарович надеялся на счастливое «а вдруг!». Но глазным в его идее было не терять надежд и не уподобляться тому самому лежачему камню, о котором известно, что под него не течет и вода.
Вдохновленный этими оригинальными соображениями, Кукс вступил на шумный вечерний проспект и направился в сторону Адмиралтейства.
В то время, как Олег Оскарович продолжал свои поиски на улицах города, а кандидат Наливайко, с радостью не обнаружив ни в одной больнице Тони, требовал решительных действий от милиции; в то время, как Мария Гавриловна, нагулявшись и вдоволь наделившись квартирной бедой со встречными старухами, все еще бессмысленно бродила вокруг дома, а отчаявшаяся Аня уже сидела в дежурной комнате районного отделения и ждала, пока центральная служба милиции получит сведения со всего города, — в это время позабывшая о всех горестях Тоня весело хохотала в первом ряду кинотеатра «Родина», всей своей отзывчивой душой переживая приключения храброго корнета Азарова.
Фильм шел к концу. Тоня уже второй час находилась в отличном настроении. Но до того, как попасть в кино, ей пришлось пережить не очень-то спокойные минуты.
Она побывала на Московском вокзале. Побродила по залам с холодными мраморными стенами. Узнала, что поезд в Мурманск пойдет только завтра, и решила, что можно подождать. Во-первых, рассуждала Тоня, было уже темно, и, значит, завтра недалеко. А во-вторых, на вокзале отыскался зал ожидания. Тоня сама прочитала вывеску над дверью и вошла в зал. Там она уселась на скамейку рядом с толстой теткой и стала ждать. Положив ноги на перевязанные веревками чемоданы, тетка спала, и Тоня догадалась, что она тоже ждет завтрашнего поезда. Какая-то старушка подметала в зале пол и посматривала на Тоню. На всякий случай Тоня подвинулась ближе к спящей. Старушка провела щеткой под Тониными ногами и, ничего не спросив, пошла дальше.
Но ждать поезда, да еще до завтра, оказалось скучно. Тоня подумала о том, что дома ее, наверно, уже хватились. Ахает и удивляется, куда она делась, Мария Гавриловна. Василиса ходит по квартире, мяукает и зовет Тоню. Стало весело при мысли о том, что ее, наверное, ищут во дворе и на улице. И никому не догадаться, что она здесь и едет к Рите. Потом она подумала, что, когда вернется, ей попадет за то, что она поехала к Рите без спроса, да еще в нечищенных ботинках. Но Тоне так не хотелось к тете Панюше!
Она слезла со скамейки и вышла из зала. К поездам спешили люди с чемоданами. На Тоню никто не смотрел. Она была одна. И вдруг Тоня решила, что, если она сейчас пойдет к папе Петру Васильевичу и скажет, что не хочет к тете Панюше, он поймет ее. Да, вот сейчас она пойдет к нему в театр, заберется в будочку с цветными глазками и расскажет все, все… Где театр, Тоня знала. Нужно пойти по Невскому, потом по улице. Потом будет сад с Пушкиным. Там и театр. А к Рите?! К Рите она поедет в другой раз, с утра.
Через несколько минут она уже шагала в толпе прохожих по ярко освещенной людной стороне проспекта. Две женщины тащили елку, похожую на колючего разлапистого зверя. Тоня сейчас же пошла рядом и даже взялась за одну из веток, так что другим казалось, будто елку несут втроем.
Но не успела Тоня дойти до нужной ей улицы, как елка неожиданно повернула и поползла в подворотню. Тоня опять пошла одна. Но тут она увидела знакомую улицу и в конце ее сад. Тоня побежала по ней и оказалась на площади. Еще издали она увидела большие, до самого неба, буквы:
К
И
Н
О
Откуда они здесь взялись? Раньше она их тут не видела.
Тоня подошла ближе. За чистыми стеклами были выставлены картинки. Скакали на конях гусары в больших шапках, такие, каких лепил Толик. Танцевали девушки в длинных белых платьях. Тоня нащупала в кармане смятый рубль, на который собиралась ехать в Мурманск. Ей так захотелось в кино. В театр она еще успеет. Ведь спектакль идет целый вечер.
Тоня сбежала вниз к кассам. Там толпилась группа старших школьниц. А что, если для маленьких уже поздно? Тоня подошла к школьницам, протянула рубль:
— Девочки, возьмите мне билетик!
— А тебе что, не дают?
Тоня невразумительно пожала плечами.
— Мы скажем, что она с нами, — сказала высокая девочка во взрослой шляпе. — Ты близко живешь?
— Близко, — кивнула Тоня.
Вместе с большими школьницами она прошла через контроль. Уже были отворены двери в зал, и люди спешили через фойе. Школьницы пошли в девятый ряд, на который были куплены места. А Тоня побежала в первый. Она всегда любила сидеть в первом ряду. Тут не заслоняла ничья голова. Ряд оказался почти целиком свободен, и Тоня трижды меняла кресло, выбирая самое лучшее место.
И вот теперь Тоня, позабыв все, наслаждалась тем, что происходило перед ее глазами. Картина заканчивалась. Побитые французские солдаты убегали из России. Переодетая мальчиком смелая Шура прыгала с веток прямо в седло и стреляла по врагам. Кругом все палили. Было и смешно и не страшно. Потом французов победили. Гусары поехали верхом и запели. Дали свет в зале. Вместе со всеми Тоня вышла из кино, но не на улицу с садиком, а куда-то во двор, а потом на набережную.
Опять пошел мокрый снег, и на тротуарах было липко. Сколько же сейчас времени? Тоня даже побоялась спрашивать у взрослых. Может быть, уже ночь и дома ее ищут. Может быть, Аня уже плачет и думает, что она умерла. Скорей к папе, в театр! Теперь только он может за нее заступиться. Но где же площадь? Тоня незаметно пошла сзади девочек, с которыми проходила в кино. Они свернули за угол. И Тоня вслед за ними, к своей радости, очутилась на той же площади. Вдали, за густой сеткой деревьев, сиял огнями ярко освещенный вход. Конечно, это был театр! Тоня побежала вокруг площади. Она знала, что переходить прямо нельзя. Бежать было далеко. Но вот она оказалась перед огромными дверьми. Что-то незнакомое было в этих дверях, в которые, наверно, мог пройти поезд.
Возле дверей стоял высокий молодой человек без шапки. Он читал двухэтажную афишу:
Б
А
С
К
Е
Т
Б
О
Л
— Скажите, пожалуйста, это театр? — вежливо спросила Тоня.
— Нет, это Зимний стадион.
Откуда тут взялся стадион?
— Спасибо.
Тоня отошла в сторону. Непонятно, куда же делся театр. Он всегда был тут, на площади. Она увидела, что с другой стороны тоже был какой-то вход. Наверно, это и был театр. Просто она пошла не туда. Тоня побежала вокруг площади. Но и здесь ничего похожего на театр не оказалось.
Оттого, что набегалась, Тоне сделалось жарко. Она расстегнула две пуговицы пальто и задумалась. Куда же все-таки мог подеваться театр, где сейчас в своей будочке сидит Тонин папа и не знает, что она его ищет.
Захотелось немного отдохнуть. Тоня перешла дорогу и направилась в сад. Там она сядет на скамейку и подумает о том, куда, словно в сказке, мог пропасть театр.
Тоня вошла в садик. Мокрый каменистый песок заскрипел под ногами. В саду было пусто, только очень молоденький папа гулял со своим маленьким сыном.
Как раз когда Тоня входила, молоденький папа громко сказал:
— Ну, сынуля, все. Потопали, а то, наверное, мама нас потеряла.
Тоня забеспокоилась еще больше. Если теряются папы с детьми, так о ней, наверно, уже и думать перестали. Нужно все-таки куда-то идти. Она хорошо помнила: театр находился напротив садика, где стоял Пушкин. Сколько раз ходила мимо. Пушкин рукой показывал на театр. Но тут, к своему ужасу, Тоня увидела, что посреди садика не было никакого Пушкина, а на его месте темнел большой камень.
Тоню охватил страх. Исчез не только театр, но и такой красивый каменный Пушкин. Тоня бросилась вдогонку за молодым папой с мальчиком. Они еще шагали через площадь.
— Скажите, пожалуйста, — поравнявшись, торопливо спросила Тоня, — вы не знаете, куда делся Пушкин?
— Какой Пушкин? — молодой папа удивленно остановился.
— Вот такой, — Тоня подняла руку и изобразила, какой был Пушкин. — Он стоял там, в садике.
— Ах, такой! Памятник… Он никогда тут не стоял, девочка, — сказал молодой папа.
Глава 27 БЛИЗИТСЯ ЗАВЕРШЕНИЕ СОБЫТИЙ
Олег Оскарович прошелся по всему Невскому, раскланялся с двумя знакомыми, посмотрел витрину «ТАСС» за стеклом гастронома № 1, достиг Дворцовой площади, но Тони так и не встретил. Пошел снег. Кукс не сдавался. Дойдя до конца проспекта, Олег Оскарович снова позвонил домой и опять не узнал ничего нового.
Вероятно, единственное, на кого теперь следовало надеяться, была милиция. Она должна была разыскать Тоню, которую не могли найти столько взрослых людей.
Олег Оскарович печалился о том, что ему не удалось отыскать Тоню и показать квартире, на что он, Кукс, способен. Кроме того, он чувствовал себя виноватым в том, что так опрометчиво не остановил Тоню и не спросил, куда она идет. Вот если бы он ее нашел!
Склонный к самоанализу, Олег Оскарович задумался над тем, почему он принимает столь деятельное участие в судьбе приемной дочери Рябиковых. Но ответить на свой вопрос Кукс не мог. Странно, но сейчас совершенно забылись сердившие его выходки беспокойной соседки, а вот Тонин веселый смех и любопытные глаза, которыми она следила за его пальцами, когда он печатал на машинке, — помнились и не давали покоя не склонному к сентиментальности сметчику.
Подумав, Кукс решил, что именно он должен сейчас отправиться в театр к Рябикову, по-мужски сообщить все, что ему, Куксу, известно, и предложить свою помощь.
Созрев для такого решенья, Олег Оскарович свернул на площадь, прошел под известной кинозрителям всего мира аркой Главного штаба и, обгоняя праздные пары, форсированным шагом двинулся по проспекту в обратную сторону.
Когда это бывало нужно, Олег Оскарович умел быстро ходить. Не прошло и четверти часа, как он уже приближался к служебным дверям театра.
Взвизгнула пружина, и Кукс оказался в маленьком, тускло освещенном помещении перед окошечком, за которым скучала вахтерша. Рядом была дверь. Над ней скромная стеклянная табличка:
ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ПРОПУСК
Олег Оскарович просунул голову в окошечко, пробитое в такой толстой стене, что оно могло служить амбразурой для пушки.
— Не откажите в любезности. Как вызвать электрика Петра Васильевича Рябикова?
— Нельзя их вызвать сейчас. Спектакль. Вот кончится скоро, и придут.
Откуда-то сверху из чрева старого здания и в самом деле доносились напевные звуки оркестра.
— Виноват, а долго еще ждать?
— Теперь скоро. Миниатюры сегодня. Недолгая… — через амбразуру вахтерша не без интереса взглянула на Кукса. — Что это их все сегодня? Только что дочка спрашивала. Или ушла?
— Какая дочка?
Олег Оскарович невольно обернулся. У стены, против окошечка, стояла жесткая скамья-диван, а на ней, подперев щеку ладонью, прижатой к подлокотнику, спала девочка в красной вязаной шапочке с белым помпоном.
— Тоня…
Олег Оскарович произнес это так тихо, словно боялся, что звуки его голоса могут спугнуть девочку. Но Тоня даже не пошевелилась.
В первый момент Кукс растерялся. Нужно было немедленно принимать какие-то меры. Но главное… Главное — сообщить домой, что Тоня нашлась. Он опять протиснулся в амбразуру, за которой сидела невозмутимая вахтерша.
— Слушайте, нельзя ли от вас позвонить? Срочно.
— Во время спектакля с регулятором не соединяем.
— Да нет. С городом. Совершенно необходимо.
— С городом не соединяется.
— Тогда, пожалуйста! Будьте любезны, я вас очень прошу! Посмотрите, чтобы она никуда не делась. Вот здесь. Эта девочка, дочка…
Вахтерша удивленно взглянула на Олега Оскаровича. Потом поднялась и в свою очередь посмотрела на спящую девочку.
— Заснула, пригретая-то. А мне и ни к чему.
Кукс бросился на улицу. Забежал за угол. Дверца прозрачной, как стакан, будки автомата была гостеприимно раскрыта. Двухкопеечные монеты Олег Оскарович на всякий случай всегда носил с собой. Два раза он путал, набирая номер. Через стекло будки было видно — к театру съезжались такси с зелеными огоньками. Сейчас кончится спектакль. Наконец номер был набран правильно. Трубку в квартире сняли сразу.
— Евгений Павлович, — стараясь придать своему голосу обычное строгое выражение, произнес Кукс. — Тоню я нашел. Она сейчас у отца в театре.
— Это факт? Это точно? — спросил Наливайко.
— Это совершенно точно. Говорю я. Мы скоро будем!
Через десять минут Петр Васильевич Рябиков, наскоро задраив регулятор, спешил на вахтерский пост.
Спектакль сегодня был из тех, которые кончались рано. Петр Васильевич с удовольствием предвкушал, как придет домой, может быть, выкупается в ванной, почитает книгу — воспоминания прожившего много лет генерала. Эти книги Рябиков любил. Завтра предстояла поездка с Тоней к тетке.
Как только отзвучал последний оркестровый аккорд и золотистый занавес опустился к рампе, в регуляторской зазвонил телефон. Рябикова срочно требовали на вахту.
— Кто там? В чем дело? — спросил он.
— Не знаю. Домашние ваши, наверно. И дочка тут, — вахтерша положила трубку.
Дочка! Конечно, с Аней. Что это им вздумалось?
Зал еще гудел аплодисментами. Обгоняя покидавших оркестровую шахту музыкантов, Петр Васильевич торопливо шел лабиринтами театра. Нет, ничего не могло случиться. Просто, наверное, гуляли.
За дверьми вахтерского поста его встретил Кукс.
— Ничего не произошло, — начал он, увидев взволнованного Рябикова. — Она здесь и спит… Там нас ждет такси…
Глава 28 ПОРА И РАССТАВАТЬСЯ
В двенадцатом часу ночи в квартире № 77 обыкновенно наступал покой. Редко кто зашлепает на кухню или зажжет свет в ванной. Только задумчивое чиканье машинки Кукса нарушало тишину.
А сегодня в позднее время бодрствовала вся квартира. На прибранной кухне, этом отмирающем форуме, которых все меньше и меньше остается в городе, не утихала беседа. И только Тоня — причина взволновавших квартиру событий — спала в своей постели.
Час назад ее, спящую, доставили домой. Аня встретила их на улице. Несмотря на то что роль Кукса во всей этой истории не была такой уж значительной, ему казалось — не включись он вовремя, дело могло обернуться плохо.
Олег Оскарович с достоинством прошел мимо высыпавших в коридор соседей. Дома к нему вернулась привычная аскетичность.
Вскоре Петр Васильевич курил на кухне свою традиционную, последнюю за день, сигарету. Здесь же, против обычного, находился Наливайко. Он работал над лекцией и попросил жену сварить кофе, а затем явился и сам. Пришла и Мария Гавриловна. Хотя дела у нее не нашлось, старухе захотелось побыть с другими.
Из своей комнаты со смятой открыткой в руках вышла Аня.
— Смотрите, — растерянно улыбаясь и ища в соседях сочувствия, сказала она. — В кармане пальто нашла. Уж не к Рите ли она собиралась, на вокзале-то была?
— Бог ты мой, к Рите! Вот придумала, — ахнула Мария Гавриловна.
— К Рите! Любопытно… — задумчиво произнес Наливайко.
— С Ритой они были большими друзьями, — сказала Ольга Эрастовна.
Аня все еще смотрела на открытку, будто хотела там вычитать больше, чем написано. Потом она вздохнула и вернулась к себе.
— Вот ведь Рита… — продолжала думать вслух Мария Гавриловна. — Веселые они обе… Моя-то теперь там учиться пошла. Школу, пишет, кончить хочу. В вечернюю поступила… Вот, выходит, они и понимают друг друга — школьницы.
Все промолчали, и вдруг Петр Васильевич сказал:
— У нас сегодня постановили: мне квартиру в новом доме дают. К весне, может, и переедем.
Ольга Эрастовна слегка вздохнула.
— Отдельная квартира — это, конечно, хорошо. Но мы, знаете, не очень и стремимся. Привычка… Все-таки — район и люди…
Наливайко пришла удачная мысль для лекции, и он отправился ее записать.
Разошлись и остальные.
Успокоившись, улеглась в своей гигантской постели Августа Яковлевна. С утра ей предстояло немало дел. Она ведь так долго не была в Ленинграде.
Отодвинув надоевшие ему сметы, Кукс задумчиво сидел над машинкой. В голове его, кажется, зарождалось нечто куда более значительное, чем рассказ для вечерней газеты.
Вернувшись в комнату, Аня расправила открытку с чайками и повесила ее над головой дочки на прежнее место. Пусть все будет, как раньше.
Она еще почистила Тонино пальтишко, потом прибрала в комнате. Смертельно усталая, только теперь окончательно обретшая покой, уже раздеваясь, она сказала мужу:
— Знаешь, что она тут, как засыпала, бормотала? «Я, говорит, Жульетта Петровна…» Да. Не знаю и с чего.
— Так и сказала?
— Ясно так сказала, — Аня чуть помолчала и продолжала: — А может, не повезем ее к Панюше. У меня отгульные дни есть. Да и попрошусь, потом отдежурю. Как думаешь?
— И я так думаю, — кивнул Петр Васильевич.
Аня погасила свет.
Откуда-то с Литейного слышалось, как гудел компрессор. Там шли ночные работы. Вскрывали старый асфальт. Меняли рельсы.
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
1
Ну вот и все! Все, все. Теперь все, — повторяла она, беззвучно шевеля губами.
То, чего так страшилась последние месяцы, что неотвратимо надвигалось с каждым днем, от чего просыпалась по ночам и, лежа на боку, холодела: скоро, уже совсем скоро. Никуда от этого не уйти, никуда… Как она этого боялась. Готова была молиться: только бы подольше, еще недельку, хоть несколько дней!.. Бывало и наоборот, думала: скорей бы уж, скорее!.. Все равно это случится. Ничего теперь не сделаешь, ничего. Поздно. Сама виновата. Так тебе и надо!.. Никому не жалко, нисколько не жалко… Твердила себе, пугаясь этого неизбежного часа, плача и жалея свою загубленную молодость. Да и не молодость, молодости-то еще никакой не было. Едва из девчонок вышла…
Выслушивали ее доктора, прикладывали холодный стетоскоп ниже груди, щупали живот, говорили, что все протекает нормально. В кабинете молчаливо стояла мать. Замерев, следила за доктором, боялась упустить его слова. В руках всегда сжимала кошелек и аккуратно сложенный платочек. Почему-то запомнился этот сжатый в правой руке кошелечек. Доктор благодушно шутил: «Будет мальчик». Мать слушала без улыбки. Главное для нее, наверное, было то, что «все протекает нормально». Это для матери, а ей было все равно. Что бы там ни говорили врачи, как бы ни уговаривали не бояться, она боялась и знала, если выживет — никого ей не надо. Одна останется. Напрасно мать на что-то надеется, напрасно переживает, ничего ей не будет. Хоть из дому потом пусть выгоняет — на своем настоит. Мать все равно не дождется, потому что ей самой никто не нужен. Совершенно теперь никто…
Говорили ей, как услышишь, что под сердцем шевельнется, будто застучится, на волю попросится, так и обомлеешь, будешь ждать, только бы на свет появился…
Она все слушала женщин, молчала, а про себя думала: только бы отмучиться, а там… Нет, нет! Решено бесповоротно.
И ничего она не слышала, не шевелилось под сердцем, была только тяжесть и голова болела и кружилась.
Теперь все осталось позади: нестерпимые боли, какие-то лица в марлевых тюрбанах. Ее куда-то катили вдоль длинного коридора с желтыми, как луна, фонарями на потолке, слышались приглушенные разговоры. Кто-то сказал: «Какая молоденькая!..» Ничего больше не вспоминалось… Нет, все-таки что-то помнилось. Будто еще кто-то сказал: «Мальчик…» Или нет, ничего этого не было. Ей просто думается сейчас. Да какая разница? Что ей, она все равно не собирается…
Лежала на койке с пружинной сеткой. В палате было шесть таких коек, и не все заняты. Лежала, закрывшись с головой простыней, не желая никого видеть. Не зная, утро сейчас или день. Не все ли равно…
Теперь ничего не болело. В теле ощущалась слабость и еще необыкновенная легкость. Будто исхудала в одну ночь: и руки, и ноги — все сделалось легким. Она гладила свой внезапно провалившийся живот и удивлялась, куда он делся. Если бы могла, она бы сейчас же ушла из больницы, ушла не оглядываясь, не задумываясь о том, что оставляет здесь что-то родное, частицу себя. Главное то, что она была свободна, опять свободна… Никогда больше с ней такого не повторится. Конечно. Все! Все. Теперь — только одна.
Но уйти было нельзя. Надо было лежать. Лежать и приходить в себя еще несколько дней, и это было хуже всего.
Она сейчас ненавидела все вокруг. Эти крашенные масляной краской бледно-палевые стены, и этот потолок с такими же, как в коридоре, матовыми шарами-светильниками, и чисто протертое решетчатое окно, за которым виделось белесо-голубое небо.
Утром она отказалась кормить новорожденного. Когда их, сложенных в ряд, как белые полешки, привезли на никелированной каталке, когда разносили по койкам к матерям и те с робостью и страхом принимали младенцев в свои еще порой совсем неумелые руки и приближали беззубые беспомощные рты к набухшим соскам, мечтали только об одном: «Только бы взял грудь» — и счастливо улыбались, если новорожденный принимался чмокать, втягивая в себя материнское молоко. Вот тогда, на раздавшийся над ней голос сестры: «Мамочка, кормить!» — она, не снимая с головы простыни, сказала:
— Не буду.
Она знала, что сестра стоит над ней с протянутым на руках ребенком. Пусть стоит. Она не станет смотреть на младенца. Он был ей не нужен.
— Мамаша, кормить надо, — спокойно повторила сестра, наверно уже повидавшая здесь всякое.
Ответом было молчание.
— Ну, мамочка, хватит капризничать, — продолжала сестра, стараясь обернуть дело по-своему. — Есть же хочет. Вон какой парень. Три кило семьсот… Глянь-ка!
Но она не хотела смотреть на новорожденного. Он ей был безразличен, как и те другие, которых старательно кормили по соседству молодые матери.
— Сказала вам, не стану. Уносите.
Палата затихла. Лежа под простыней, она чувствовала, что на нее сейчас обратились взгляды всех. К койке — она это услышала — подошла другая сестра. Голос был усталый, немолодой.
— Что? — спросила она.
— Не кормит, — пояснила тихо другая, по всему видно, помоложе.
— Как это так? А ну, мама-ша-а! — настойчиво проговорила подошедшая и потянула простыню.
Изо всех сил она ухватилась за простыню.
— Отстаньте. Все равно не стану.
— Новое дело, а кто будет за тебя? — будто бы удивилась молодая сестра.
Не знаю. В палате тихо зашептались.
— Как это не знаешь, а помрет он?
— Не помрет. Кормите искусственно.
— Смотри, все изучила. Твой ребенок-то, не чужой.
— Все равно, — сдавленно послышалось из-под простыни. — Куда хотите девайте. Не буду кормить.
Женщины в палате зашептались громче. Шепот переходил в возмущение. Ну и пусть. Ей было совершенно все равно.
— Ну, бессовестная, — вздохнула пожилая сестра. — И откуда только они берутся.
— Довольно, мамаша, берите ребенка и кормите. Нечего!
Молодая решила подействовать строгостью. Но и из этого ничего не вышло. Она откинула простыню и зло бросила:
— Не приставайте, что пристали?! Не буду, не буду, не буду!.. И в руки брать не стану. Уносите. Кормите сами, у вас все есть.
Молоденькая мать снова плотно укрыла голову простыней, дав понять, что больше разговаривать не намерена.
— Пойти Вере Акимовне сказать? Вот еще несчастье, — с горечью проговорила сестра. Та, что была постарше.
— Ну, нет на тебя…
Это сказала другая. Сказала уже как-то устало и безнадежно и отошла от койки.
Вскоре каталка с накормленными и спящими новорожденными удалилась. Голодного унесли на руках. В палате сделалось так тихо, что было слышно, как за больничными окнами в садике бойко чирикают воробьи.
Еще недавно она ничем не отличалась от тех, кто вместе с ней поступил в больницу. Все они страшились родов, вспоминали близких и робко надеялись, что все кончится хорошо. Они были объединены, как объединяются люди в общей тревоге.
А теперь она была одна. Между ней и теми, кто лежал рядом в палате, образовалась пропасть. Ее не понимали. Ее не могли понять. Ее презирали.
Усталые молодые матери, впервые накормив новорожденных, каждый из которых, конечно же, был самым удивительным, должны были бы отдыхать, позабывшись в тихой полудреме. Но они не спали. Они смотрели в ее сторону.
Теперь они, эти счастливые, все были едины против нее. Для этого им не требовалось ни сговариваться, ни даже говорить друг с другом. Они все вместе — она одна. Разве могли они ее понять!
Но ей и не надо, чтобы они ее понимали. Разве они сумели бы!.. У них все было как надо, по-нормальному, по-человечески… У нее наоборот. И пусть кто хочет осуждает ее. Пожалуйста, сколько вздумается. Как хотите! Она все равно поступит так, как решила.
По палате распространился приторный запах очищенных апельсинов. Их ели чуть ли не на всех койках. Город в эти дни был завален апельсинами. Апельсины продавали в магазинах и фруктовых ларьках на улице. И, конечно, роженицам приносили самые лучшие.
Апельсиновый запах проник и к ней под простыню. Он был ей сейчас ненавистен, как и те, кто их ел, с удовольствием причмокивая. И у нее в тумбочке рядом с бутылкой кефира и сдобными булочками лежали красные корольки, которые она так любила. Мать это хорошо знала и тоже постаралась. Передачу принесли с утра, как и другим. Но она равнодушно взглянула на то, что ей принесла мать, и попросила убрать все в тумбочку. И теперь ей ничего не хотелось. Ничего не надо, ничего… Лишь бы ее не трогали. Оставили в покое.
Все-таки она решилась. Им не удалось заставить ее взять ребенка. Как они ни требовали, она устояла. И пусть те, кто рядом, считают ее последней… Не их это дело. Так она решила давно. Так только и могла сделать. Ну и ладно. Хотят — пусть презирают ее. Ей безразлично. Она будет жить для себя.
Закрыв глаза, видела взгляд матери. Последний ее взгляд, когда попрощались в приемном покое. Умоляющий взгляд ее глаз, полный напрасной надежды. Ее лицо, будто стянутое на скулах, сжатые без улыбки губы. Непривычные для нее слова:
— Иди, иди, доченька… Дай бог…
Она ничего не обещала матери, но и не говорила о своем бесповоротном решении. Было ни к чему. В последние дни владело ею безразличие. Не хотела видеть никого. Двигалась по квартире словно в каком-то забытьи. И даже присутствие матери, когда та приходила с работы, переносила с трудом. И мать, видимо, это понимала. Старалась держаться так, будто ее тут и не было. Говорила мало и тихим голосом. И телевизор включала так, что едва было слышно.
Она отлично понимала — мать боится начинать с ней разговор. Может быть, она и догадывалась о намерении дочери, но тем более не решалась обмолвиться и словом. Она же молчала, потому что знала — в том, на что решилась, никогда не получит поддержки матери.
Ей еще думалось, что, может быть, она умрет, и тогда все было бы таким простым. Ничем не надо терзать себя. Иногда приходила мысль, что умрет обязательно, и думать об этом было жалостно и сладко. А то совсем напротив, брал ужас. Неужели так может быть?.. Ведь она же такая молодая. Совсем почти ничего не видела, не жила, ничего не сделала… За что же, за что?
И вот все было позади. Она поступила, как задумала. Мать ничего — смирится. Что попишешь. Не выпроводит же ее, в самом деле, из дому. А здесь? А ну их всех! Не знает она никого и не хочет знать. Никогда больше ее и не увидят. Пусть радуются тому, что у самих все хорошо. Ее это не касается.
И больничные. Ну поругают ее, поругают. А что сделают?! Ничего не могут. Есть такой закон — ее право. Не первая она и не последняя. Сами вскормят и отдадут куда надо. Слышала она, узнавала, были такие случаи, и не один раз.
Ну, а она сама? Забудет. Уже, кажется, забыла. Не видала его, и как не было у нее, не было.
Вот и кончилось, что началось в прошлом году и казалось никогда не поправимым. Теперь и думать больше не надо. Ни о ком не надо. Снова сама для себя. Все! Все!
Под простыней становилось душно. Попробовала сдвинуть ее с лица и посмотреть, что делается рядом. Думала, что все на нее смотрят. Лежала на всякий случай с прищуренными глазами.
Но оказалось — на нее никто вовсе не смотрел. Женщины не то спали, не то дремали на своих койках.
С левой стороны тихо переговаривались две матери. Одна молодая, круглолицая и розовая. Такая, казалось, что не только что отмучилась, а словно вернулась с лыжной прогулки. На полных ее губах мелькала довольная улыбка; другая была много старше. Рядом с розовой казалась старухой, хотя и было ей, наверно, куда меньше сорока. Прибранные назад волосы открывали худощавое лицо, впалые щеки и лоб с наметившимися морщинами. А глаза у женщины были большие, серые и словно напуганные.
— Я Глебке своему и говорю, а что, если двойня? — торопливо шептала молодая. — Живот у меня во какой был, не видели? Ну чего будем делать? А он незадумчивый, Глебка-то. А что, говорит, выкормишь и двоих. Ты здоровая, вон какая. Хоть на выставку… — Она хихикнула и продолжала: — Ему-то конечно… Не понимает. А я все думала, ну в самом деле… Сестра одна, старушка, успокоила. Парень, сказала, у тебя, молодуха, будет. Здоровенный парень, геройский. Вот погляди, и надо же — по ней и вышло. Четыре кило сто! — Молодая мать помолчала, но, видно, не терпелось ей поделиться своими прошлыми опасениями. — А ну бы вдруг, — опять начала она. — Ну бы вдруг и двойняшки. Куда деться?.. Повезли бы домой двоих. Глебка бы ничего. Может, кто его знает, и рад бы был. Он все про меня беспокоился. Видели, чего наприсылал! А дома я на открытки детские глядела, чтобы красивый родился. А Глеб мне: «Чего глядишь, на меня похожий будет, и все тут». И скажите пожалуйста! Глянула я — голова с яблоко, а чисто Глебов портрет. Сейчас, может, тут за решеткой ходит, меня в окно поглядеть надеется. Нельзя вставать, а то бы я ему показалась. Все в порядке, и сын у нас во какой!..
О господи, господи!.. Она готова была зажать уши. До чего нестерпима была эта чужая радость, так неприкрыто высказанная. Сколько ей лет было, этой толстухе? Может, немногим больше, чем ей… Смотрите, не унимается. Да заткнись ты со своим Глебкой! Мне-то какое дело. Мне зачем слушать?
— А что же, бывает, — негромко отозвалась другая. — И три бывает, ничего, живут. Если молодая да здоровая, сил хватит. У меня-то третья. Первый парень. Шестнадцатый уже, а это опять девчонка… Муж-то ничего. «Пусть, говорит, и девчонка, мне — одно». А и спокойнее с девчонкой. Старшая станет помогать растить. Теперь что — квартира у нас. Первого-то я в общежитии выкармливала. В комнатке нас три матери. Так получилось… Муж у меня на другом этаже в мужском, а я тут мыкаюсь, кашку на общей плитке подогреваю… И болел, и все было… Сколько я наплакалась. А ничего — вырос парень. Ростом-то уже с отца. Вот как вместе придут, увидишь.
Нет, не выдержала она. Повернулась на другой бок, снова натянула простыню на голову.
Не слушать этого. Ничего не слышать!
Зажмурила глаза. Уснуть бы сейчас. Уснуть и снов никаких не видеть. Но не шел сон.
Когда это было? Кажется, уже давно.
Высокий и узкий цех № 4, куда ее определили сразу после училища. За окнами еще не задается весна, а солнце уже во всю шпарит в окна и заливает цех золотистым светом. Стрекочут машины. Много их. Длинный ряд женщин и девушек — склонились над столиками, шьют. Когда Валя отрывается от своей работы, видит перед собой тех, что сидят впереди. Видит вытянутые, как по нитке, ряды столов с машинами и сливающиеся в одну цветастую линию лоскуты материи, из которых шьются платья.
Стрекот машин соединяется в общий единый гул. Но все привыкли к нему, и шум машин не беспокоит, даже наоборот, когда приходит перерыв и машины одна за другой обрывают свой ход, наступившая тишина в цехе кажется странной. Словно чего-то не хватает. И вот удивительно — музыка по радио становится будто лишней и мешающей говорить, а в часы, пока работаешь, она, кажется, даже помогает.
Впереди Вали за машиной сидит Людка Разумная. Надо же, чтобы человеку досталась такая фамилия! Сколько еще в училище было на этот счет шуток. Вот уж не подходила к Людке ее фамилия. Была она простой и необидчивой. С подругами ладила. Старательная была девчонка. Но насчет ума, тут не отличалась. По общим предметам соображала слабо. Встанет к доске и молчит, молчит, только уши пламенеют, но по практике шла хорошо. Шить научилась раньше других, и Людку хвалили. Училище окончила подходяще. Вместе их с Валей определили в четвертый цех, где работа была тонкая, — шили легкие платья и халатики.
Людка старалась. Валя оторвется от машины и видит не по-девичьи широкую Людкину спину. Людка склонилась над шитьем. На ней блузка с короткими рукавчиками — в цехе тепло, а весной от солнца и жарко, — правой, чуть ли не до плеча обнаженной рукой Людка прижимает материал. Умело ведет его. Руки у нее могучие. Не швеей ей бы быть, а машину грузовую водить. Но нет, Людка Разумная любит свою работу. Очень ей хочется научиться шить красиво. Когда платье готово и получилось ничего, Людка поднимает его на плечиках выше себя и любуется, будто не верит, что сама сшила.
Бывает так, они сдают готовые платья вместе с Людкой. Приемщица придирчиво оглядывает швы и все остальное, и оба платья проверку проходят. Оба соответствуют и идут в готовую продукцию. Но мастер цеха Юлия Федоровна увидит, что они обе сдают платья, подойдет, оглядит работу и найдет местечки где-нибудь на стыке, возьмет и покажет Людке.
— Смотри, Разумная, как у Дорониной выходит. Ровненько, чисто что там, что тут, Молодец, Валя… Художественная работа.
Любит Юлия Федоровна это слово. Вале даже как-то стыдно бывает в такие минуты. Скажи, какое у нее художество! А Людка стоит, слушает, слова не скажет, только порозовеет вся. Косички у нее торчат в стороны. Она на работе волосы заплетает ленточками и становится похожа на школьницу. Бывают такие нескладные девчонки в последних классах. Вымахает ростом, да еще вширь раздается. Фигура как у женщины, а она девчонка, и платье на ней девчоночье. Посмотришь — смешно.
А она, Валя, ростом не больно вышла. Но это ей вообще не мешало. Мальчишки все равно приставали. Где могли с нею заговаривали — и в клубе, и на танцах, и на улице. Да только ей никто не нравился. Какой ни подойдет, она подумает: нет, не такого дожидалась. Совсем не такого.
Подруга по цеху Лера Тараканенко смеялась: «Все прекрасного принца ждешь? Напрасны ваши мечты. Нету теперь принцев. Не то что в карете за тобой… На такси и то норовят за наш счет проехаться. Я-то их знаю. Меня ни один, хоть каким он пуделем ни стригись, не объедет».
Но объезжать Леру и не требовалось. Она сама каждый месяц в кого-нибудь влюблялась. На улице встретится с кем-нибудь. Идет, только в глаза ему заглядывает. А тут смотришь, уже с другим, и такая же будто счастливая. Девчата про нее говорили: «Тараканенко не теряется», но Валя Леру не осуждала. Каждый живет по-своему. Она, Валя, так не может. Она, наверное, из другого материала.
Про Валю говорили, что у нее красивые глаза. Большие, черные, с синевой, и улыбка хорошая.
О своей жизни Валя знала, что отца она лишилась, когда еще носили ее в фабричные ясли. Но как и когда умер и где похоронен, о том разговор не заходил. Ну а Вале, что ей, раз отца никогда не видела. Бегала девчонкой в школу — мать для нее все старалась сделать, «чтобы не хуже, чем у других», и было не хуже. В школе Валя сидела прибранная и аккуратная и училась сносно. Только не было у нее никаких математических способностей. С шестого класса без слез задач не решала. И объяснить, помочь было некому. Потому что мать по математике и того, что Валя, не знала. Ходила она в классы продленного дня и кое-как за алгебру и прочее получала тройки.
Когда закончила восьмой и отчаялась, что дальше ей математики не осилить, мать согласилась отдать ее в фабричное училище. Вздохнув, сказала:
— Мотористкой хочешь быть? Ну что ж, дело хорошее, а руки у тебя ловкие.
Валя была рада. Фабрика манила чем-то неизвестным. Нравилось, что пройдет немного времени, и станет она называться работницей. Дальше кто там знает, что еще будет, а шить она любила с детства. С пяти лет обшивала своих кукол, и были они у нее наряднее всех подружкиных. Такие нарядные, что тех зависть брала. Бывало, споры о кукольных нарядах кончались и слезами, шумными ссорами.
Вот в те-то дни, когда надо было определяться в училище, Валя впервые увидела свое свидетельство о рождении. Мать пошла на кухню, а документы оставила в комнате на столе. Валя раскрыла свидетельство — против фамилии отца чернел прочерк. Валя все тогда поняла. Большая уже была. Закрыла обложку свидетельства и ничего матери не сказала.
Через несколько дней, когда Валя уже была принята в училище, дома произошел разговор.
— А где отец мой похоронен? — внезапно спросила Валя.
— Чего это ты? — Мать будто вздрогнула. — Да разве я тебе не говорила? На родине его, далеко, в сибирском городе.
— Где?
— Я уже название запамятовала. Маленький город в Курганской области. Оттуда он родом, — сбивчиво, не умея обманывать, говорила мать.
— Неправда, — сказала Валя, — не умер мой отец.
Мать замерла. Глаза сделались большими, напуганными. Губы дрогнули.
— С чего это ты?
— Прочерк у меня в свидетельстве. Вот с чего.
Валя видела, как заблестели глаза матери, но слез не было. Обе молчали, потом мать проговорила:
— Умер он для нас с тобой. Нет его.
И продолжала сидеть застывшая. Ждала, наверное, что Валя сейчас начнет ее расспрашивать о том, что столько лет так таила. Но Валя больше ни о чем ее не спрашивала. Ей было жаль мать. Может быть, впервые за все годы было жаль. Вспомнила она мужчин, которые редко приходили к ним в гости. Вспомнила и про то, как мать совсем было собралась замуж, а потом все расклеилось. Мать объясняла своей знакомой с фабрики, почему ничего не вышло с замужеством, коротко бросила: «Нельзя мне. Выпивает он. Вальку жалко». Думала тогда, наверно, что Валя не поймет, о чем шла речь, а она все поняла и про себя была рада, что дядька тот «выпивает» и, значит, жить у них не будет.
Все это она тогда вспомнила и поклялась себе, что ничего такого, что случилось с матерью, с нею никогда не будет.
Какая же цена ее клятве!
В тот зимний день в цеху так же было солнечно. Хорошо было сидеть за машиной. На улице морозно, а тут тепло. Женщины работали в легких платьях и блузках. На Вале было тогда красненькое полушерстяное платьице. Шила его сама. Платье было простенькое, но Вале шло, и она любила ходить в нем на работу.
Часа за полтора до обеденного перерыва у нее закапризничала машина. Начала давать перебои, рвала нитку. Машина была новая. Валя недавно с ней освоилась, только привыкла, и надо же! Пробовала наладить сама, ничего не получалось. Валя остановила машину и позвала Юлию Федоровну. Но и та помочь не сумела. Пожала плечами и сказала: «Не понимаю, в чем тут дело. Наших-то я все фокусы знаю, а это новая, импортная. Сейчас вызовем Владимира Кирилловича. Пусть разбирается». И пошла к телефону, чтобы вызвать механика.
Но оказалось, что Владимир Кириллович, за которым были закреплены машины четвертого цеха, был в командировке.
— Какой-то Вадим сейчас придет, — сказала Юлия Федоровна.
Незнакомый Вадим появился через несколько минут. Пришел, как всегда приходят механики, со спортивным чемоданчиком. Только у Вадима он был не такой, как у других механиков. Те таскали с собой добела протертые на углах фибровые чемоданишки, а у Вадима был чемоданчик аккуратный, новенький и чистый. Сам Вадим оказался высоким пареньком лет двадцати, может быть больше, с лицом будто застенчивым и простым. У него были русые волосы, гладкие, словно шапочкой надетые на голову и закрывавшие уши. Шею целиком скрывал высокий воротник свитера-водолазки.
— Где тут осечка? — спросил он, ставя чемоданчик на стол возле мастера.
Юлия Федоровна провела его к Валиному месту.
— Вот, чешская фокусничает.
— Нитку рвет, — пояснила Валя.
Механик попросил лоскуток и, усевшись на ее место, стал шить, выводя на лоскуте сложные зигзаги. Потом поднялся и, ни слова не говоря, пошел за своим чемоданчиком.
Усевшись снова, он раскрыл машину и углубился в ее смазанные стальные внутренности. Юлия Федоровна ушла к себе. Валя стояла рядом с механиком. Ей было интересно следить за его работой. Время от времени, не отрывая взгляда от обнаженных узлов, Вадим пускал машину в ход. Странно было видеть его тяжелый ботинок на толстенной подошве вместо тапочек на ноге швеи, нажимающей педаль.
Валя заметила, что лишь Вадим вошел в цех, Лера Тараканенко, оторвавшись от работы, глядела на механика. И теперь она нет-нет да и кидала взгляды в их сторону. И не только Лера. И другие девушки старались как бы ненароком его рассмотреть. Но он, кажется, ни на кого не обращал внимания. Был занят машиной.
И вдруг он оторвался от механизма, поднял лицо и, посмотрев на Валю, улыбнулся:
— Все понятно. Нашел, где загвоздочка.
У него были карие веселые и ласковые глаза, зубы ровные. Валя случайно взглянула в эти глаза и почувствовала что-то совсем до тех пор незнакомое. Ее будто обожгло. Испугалась, не заметили бы другие. Но никто ничего не заметил, а он наладил машину и, закрыв свой чемоданчик, ушел, сказав на прощанье, чтобы в случае чего его позвали снова. А Валя весь день не могла уже забыть этих глаз.
С того дня все и началось.
Он скорее всего и не запомнил ее. Были на фабрика девушки — загляденье…
Но вот удивительно. На другой день он явился без вызова и подошел прямо к Вале.
— Ну как, — спросил, — крутится нормально?
— Нормально, — ответила Валя, опустив голову над шитьем и отчаянно покраснев. — Теперь не рвет.
Но он почему-то не уходил. Продолжал стоять рядом и следить за ее руками. И, конечно, в их сторону стали оборачиваться, а Лера даже послала улыбочку. Подошла Юлия Федоровна. Вадим сказал:
— Пришел проверить. Я ж тут заменил кое-что. Интересуюсь, все ли в порядке.
— Спасибо, пока не жалуемся, — ответила Юлия Федоровна и посмотрела на Валю. — Так, что ли?
— Хорошо идет, ровно, — подтвердила та, по-прежнему не поднимая головы.
— Ну пока, — оказал Вадим и ушел.
Юлия Федоровна направилась на свое место в конторку. Она шла вдоль цеха, а от машины уже оторвалась Тараканенко. Посмотрела вслед механику и во всеуслышанье удивилась:
— Умереть, какие чудеса! То три дня не допросишься, чтобы гайку подтянули, а тут являются надо не надо…
И она многозначительно хихикнула.
Но на Лерину реплику никто не отозвался, и ей ничего не оставалось, как снова взяться за работу. И все же в конце перерыва, когда Валя пила газировку, Тараканенко, скорее всего нарочно, оказалась рядом и сказала Вале:
— А он ничего, этот волосатенький. Новенький, что ли? Упал, по-моему, на тебя. Гляжу, стоит, и глазки вниз. Ты там опять что-нибудь поломай, пусть явится.
— Еще что! Ну и вредная ты, Лерка, — вспыхнула Валя. — Я-то здесь при чем. Я что, звала его?
— А чего краснеешь-то, чего краснеешь? — беспечно засмеялась Тараканенко, явно привлекая внимание других. — Он и без поломки еще придет. Это точно, как метро ходит… Давай на спор! Все убито — любовь с первого взгляда.
Вале не хотелось продолжать глупый разговор. Она пошла и села за свою машину, хотя до начала работы оставалось еще несколько минут. Валя сидела, раскладывала скроенный материал и думала о том, до чего же прозорлива Лерка. Ведь надо же, все заметила. Только насчет любви с первого взгляда тут, конечно, лишнее. Понятно, что Вадим действительно приходил насчет машины. Был он на фабрике человек новый, и машина для него малоизвестная, вот и интересовался… Ну, а что касалось ее, — ну как Лерка догадалась?! Ей и в самом деле отчего-то хотелось, чтобы он снова пришел и опять бы возился с ее машиной, задумчиво разглядывая механизм. А она бы снова стояла рядом, следила за его руками.
Прошло три дня, машина работала безотказно, и Вадим больше не появлялся. Вале и видеть его за это время ни разу не пришлось. Тараканенко тоже помалкивала. Не любила она ошибаться в своих предположениях. Первые сутки Валей и в самом деле владело какое-то беспокойство. Покидала проходную в толпе работниц, и все ей казалось, вот сейчас он подойдет к ней… И по улице шла, думалось — идет рядом, догоняет ее. Даже оборачиваться не решалась. Утром тоже, когда приближалась к фабрике, не было покоя. А вдруг ждет?
Но получилось все совсем по-другому.
Увиделись они на четвертый день на ее улице. Вадим шел навстречу в коротком пальтишке и меховой шапке пирожком. На шее выбившийся наружу мохеровый шарф. Руки держал в карманах пальто. Ветрено было на улице и еще морозно.
Было это в субботу. В двенадцатом часу Валя шла в магазин, чтобы купить стиральный порошок. Мать затеяла стирку, а порошок был на исходе. И тут, откуда ни возьмись, навстречу он. Можно сказать, почти столкнулись — она и до угла не дошла. Столкнулись, и оба растерянно остановились, глядя друг на друга.
— Здравствуйте, — сказал он и посмотрел на Валю, как ей показалось, обрадованно и немного стеснительно.
— Здравствуйте, — ответила она, смутившись.
— Вы куда?
— Так, по делу.
— Далеко?
— Не очень. А вы что, живете на нашей улице?
Он засмеялся.
— Нет, я не здесь. Я случайно попал. Выходной сегодня.
— Я тоже выходная.
— Знаю.
— Откуда? Я не всегда в субботу.
Он пожал плечами.
— Про сегодня знаю.
Вале почему-то сделалось приятно оттого, что Вадим знал о том, что сегодня у нее выходной день. Похоже было, что и попал он сюда вовсе не случайно. Вадим, все так же радостно глядя на нее, сказал:
— Знаешь что, пошли в кино. На дневной.
— У меня дело, — неуверенно проговорила Валя.
— Успеешь потом.
— Вообще-то можно…
Валя подумала, что пока матери порошка хватит, а потом принесет. Как хорошо, что вышла на улицу в новом пальто и сапожках. Суббота. Мало ли кого могла встретить из знакомых. Вот и встретила. Будто догадалась. И удивилась сама себе, как это она сразу согласилась идти в кино. Спросила совсем глупо:
— А на что пойдем? Может, я видела картину?
Но нет, Валя хитрила. Ей было все равно сейчас, какую картину смотреть. Если бы шла и та, которую видела, она сделала бы вид, что будет смотреть впервые.
— В панорамном, — сказал он, — идет «Погоня». Американская. Поехали?
— Ладно, ты тоже не видел?
— Нет, говорят интересная.
Оба они не заметили, как совершенно свободно перешли на «ты». Да и о каких «вы» тут могла идти речь!
— На автобус! — Вадим и она двинулись в сторону остановки.
Пошли рядом. Странно, но Вале сейчас и в голову не приходило, что мать может ее хватиться.
В автобусе было свободно. Уселись и вдруг смолкли, будто не знали, о чем теперь говорить.
— Выходим, — скомандовал Вадим, когда автобус свернул вдоль Таврического сада.
Успели к самому началу сеанса.
Пока Валя ждала на обледеневшей площадке гранитной лестницы у входа в кино, Вадим сбегал вниз к кассам и вернулся довольный, помахивая зелененькими билетами.
— Порядок! Из брони, отличные!
Схватил Валю за руку и потащил бегом к дверям. Валя раздумывала, надо ли предложить ему деньги за билет или это обидит его. До сих пор она ходила в кино с подружками или с компанией фабричных. Тогда все было очень просто. Каждый платил за себя, а тут? Ничего не сообразив лучше, она на ходу спросила:
— Сколько стоит?
Вадим остановился, посмотрел на Валю. Пальцем сдвинул на затылок свою шапку и смешно замигал:
— Ты это с чего?
Валя улыбнулась. Неловкость исчезла.
И вот, сидя рядом, они уже смотрели картину. Вале понравился молодой шериф. В широкополой шляпе с ремешком под подбородком и увесистым пистолетом на боку. Город, где он жил, был наполнен злыми бессовестными людьми. Благородный шериф в одиночестве боролся с бандитами в роскошных костюмах. Его предали, а потом зверски били бывшие друзья. Пьяные мальчишки жгли машины. Город пылал огнем.
Как Вале хотелось, чтобы повезло хорошему парню, сбежавшему с каторги, как она переживала и за шерифа, как жалела их… Время от времени она хватала за рукав сидящего рядом Вадима и сжимала его руку. Ей становилось страшно.
— Они убьют его, да, убьют?
Всякий раз, когда Валя судорожно хватала за руку Вадима, он напрягался и сидел не шелохнувшись, словно готовился защитить Валю, если это потребуется.
Ночные ужасы кино окончились. Тихим утром израненный шериф вместе со своей красивой женой покидали проклятый ими город.
Дали свет. Люди молча пробирались меж рядов к выходу. О виденном не хотелось говорить.
Валя и Вадим вышли на улицу. Серое небо повисло над городом. Деревья были припущены чистым снегом. Снег словно выбелил улицу.
Не сговариваясь, они пошли пешком вдоль липовой посадки по улице Чайковского. На автобусной остановке толпился народ. Они не спешили на автобус. Заговорили о картине.
— Ужас, — сказала Валя.
— Ты про что?
— Про Америку эту. Надо же, а?!
— А-а, хватает там всякого… — кивнул Вадим.
Он вынул пачку сигарет. Щелкнул пальцами по донышку и, поймав зубами одну из них, закурил.
Шел и покуривал. Говорили мало. Они еще не привыкли друг к другу, и каждому хотелось скорее слушать, чем говорить.
Так дошли до Литейного и повернули влево. Вскоре Вадим приостановился.
— Кафе «Гном». Зайдем, а?
— Я ничего не хочу, — сказала Валя.
— Ну хоть мороженого.
— Мороженого можно.
Маленькое помещение после улицы показалось темным, свободных столиков не было, но в углу за одним сидели двое. Пошли туда и, спросив разрешения, заняли свободные стулья. Вадим отправился в буфет. Валя ждала. Вспомнила, ведь с утра ушла за стиральным порошком… Появился Вадим с двумя металлическими вазочками. В вазочках матово холодели сложенные горкой цветные шарики. Вадим поставил мороженое на стол, снова ушел и вернулся с наполненными фужерами. Валя взглянула. В фужерах пузырьками играло шампанское.
— Ну зачем это, Вадим?!
— Пустяки, понемножку. Запивать, — пояснил он, как ей показалось, чуть смутившись, и положил на стол перед Валей плиточку шоколада. Валя хотела запротестовать, но только слегка вздохнула. В конце концов, ей было приятно, что за нею ухаживают, и ухаживают по-хорошему, может быть так, как она о том давно мечтала.
Шампанское оказалось слишком холодным; отпив глоток, Валя поежилась. Вадим засмеялся:
— Закусывай мороженым.
— Обледенею, — улыбнулась Валя.
— Я мороженое могу есть когда угодно, — сказал Вадим. — Между прочим, в войну один иностранный корреспондент написал про наших: «Народ, который в тридцатиградусный холод ест на улице мороженое, непобедим!»
— Мороженое и я могу, — сказала Валя. — К этому, — показала глазами на шампанское, — не привыкла.
— А портвейн?
— Ну, когда чуточку.
— Учтем, — наклонил голову Вадим.
— Лучше не надо, — рассмеялась Валя.
Он спросил:
— Ты что по вечерам делаешь?
Валя задумалась. В самом деле, что она делает по вечерам? В общем, пожалуй, ничего. Не спеша ответила:
— Читаю, ну кое-что по дому. Телевизор, иногда в кино… Ну, в общем, как все. Все думаю, не пойти ли учиться в техникум… Пока не решила.
Вадим помолчал. Отодвинул опустевшую вазочку и улыбнулся:
— А я, знаешь, боялся сперва, не замужем ли ты. Теперь замуж рано выскакивают. Потом вижу, кольца на руке нет.
— Ну вот еще, замуж! Куда там… — оживилась Валя, — придумал тоже… Я и вообще-то… — Господи! Опять это «вообще». Вот привязалось словцо! Она умолкла, не договорив. Потом спросила:
— А ты не учишься?
Он помотал головой:
— Нет пока. Закончил курс науки. Я немного по спорту. Разряд имею.
— О! По какому виду?
— Бокс.
— Здорово!
Она поняла, что Вадим не случайно затеял этот разговор. Ему хотелось дать ей понять, что он не как все. Он и механик, и боксер-разрядник.
Валя спросила:
— Часто тренировки?
— Сейчас по три раза в неделю. Мы скоро на соревнования двинем в Ригу.
Вале вспомнилась американская картина. Подумалось: как хорошо, когда твой друг может постоять за тебя. А Вадим вдруг спросил:
— На районные соревнования позову, придешь?
Не задумываясь кивнула:
— Позовешь — приду.
— Ты пей шампанское, — сказал он.
Рассмеялась:
— А это не обязательно.
Покончили с мороженым. Валя, придерживая фужер за тоненькую ножку, чуть водила им по стеклу столика. Неожиданно она сказала:
— Я закройщицей хотела бы стать. У меня, все говорят, линия есть.
Зачем это она сказала? Похвастаться, что ли, думала. Не к чему было говорить.
Но он, кажется, и не обратил внимания на ее слова.
Вадим проводил ее до самого дома. Ни о чем они не уславливались. Он сказал, что завтра у него тренировка. Бросили друг другу на прощание «увидимся» и разошлись.
Переждав на лестнице несколько минут, Валя бегом бросилась в хозяйственный магазин и вскоре уже, запыхавшись, предстала перед матерью с сеткой, наполненной пачками порошка.
— Ты где же это была? Я уж не знаю что и думать!
Валя быстро стянула пальто, повесила его на плечики, сняла шапку и, отряхнув ее, повернулась к матери:
— Была, мама. Ну, так получилось… Бывает же. Не сердись, пожалуйста. Я тебе помогу постирать… Мне даже хочется…
Помнилось, как пришла в понедельник на фабрику. Еще приближалась к проходной, тревожилась — а ну он ждет у входа или во дворе, где расходятся корпуса. По дороге задумывала, какие они скажут друг другу первые слова. Или прищуривала глаза и видела его сидящим рядом за столиком со сдвинутой на затылок шапкой и прядкой волос, спадающих на лоб. А то вдруг ей казалось, что ничего этого не было — субботнего утра, темного зала кино. Не было и его. Не было потом и улицы с заснеженными липами и пузырьков в ледяном шампанском — все это ей просто померещилось.
Когда подходила к фабрике, казалось, что все знают, как она, забыв обо всем, побежала за Вадимом, стоило ему только ее позвать. Знают и посмеиваются. Больше всего боялась той минуты, когда встретится с ним и все, кто будет рядом, увидят, что с нею делается.
С этими мыслями и дошла до своего цеха и удивилась, что никто и ни о чем ее не спросил и любопытных взглядов не было. День начался, как обычный рабочий день. Юлия Федоровна назначала операции. Дружно стучали машины, ползли из-под иглы клинья маркизета, звучало радио…
Для всех, но не для нее.
За окном синело, и валил мокрый снег. Шили при электрическом свете, как и в начале зимы, а для нее словно пришла весна. Сегодня любопытная Лера к ней не проявляла внимания. Не до Вали ей сейчас. По приметной бледности лица можно было догадаться, что выходные дни Тараканенко не проскучала дома. Если бы Лера пригляделась к Вале Дорониной, она бы с удивлением заметила, что пришла та на работу в своих чуть ли не лучших туфлях и что волосы Вали были прибраны с особой тщательностью, а глаза смотрели живо и весело.
Все-таки не прошло незаметным Валино настроение. Когда она сдавала работу, Юлия Федоровна спросила:
— Ты что это сегодня такая?
Валя покраснела, но сделала вид, что не поняла вопроса.
— Какая?
— Как именинница выглядишь.
— А-а, в гости иду к подружке. День рождения, — по-прежнему краснея, солгала Валя.
В перерыве Валя пошла в столовую. Среди ребят Вадима видно не было. Напрасно она задержалась и после конца работы, сделав вид, что хочет закончить операцию. Он и не заглянул в цех.
В одиночестве шла домой. Началась оттепель, и под ногами было мокро. Не жалея дорогих туфель, она ступала по раскисшему снегу. Она прикидывала, чем сейчас займется дома и как проведет вечер. О Вадиме старалась теперь не думать. И вдруг он вырос перед ней, кажется на том же месте, что и в субботу.
— Здравствуй!
От неожиданности Валя вздрогнула. Стоял улыбающийся, руки в карманах пальто.
— Ты как здесь, откуда?
— Обогнал тебя и жду.
— Как же успел?
— Уметь надо.
Довольно улыбнулся.
— Я тебя видел сегодня. Два раза. Утром и потом…
— Почему же не подошел?
— Да так. Не хочу, чтобы на фабрике видели. У нас механики — горлопаны, и потом девчонки… Тебе тоже зачем… Пошли опять в кино. Я билеты еще вчера взял. «Великан» на Петроградской. Новая комедия идет. Посмеемся. Начало в двадцать. Дуй домой, поешь, — он посмотрел на часы. — Я через час подгребу сюда же.
— Спасибо. Я занята сегодня. Я не могу, — сказала Валя.
— Занята? — кажется, он удивился. — Чем?
— Есть дело.
Вот какой. Она должна по первому его зову бежать куда ему вздумается… А сам не подошел на фабрике, боялся, увидят ребята. Ну и что? Почему? Выходит, можно смеяться над тем, что он дружит с такой девчонкой. И билет опять взял в кино куда-то далеко, не хочет, чтобы их замечали вместе. Еще полчаса тому назад она была бы счастлива, если бы Вадим опять позвал ее, но теперь нет, как бы ей того ни хотелось…
— И нельзя?.. — продолжал он.
— Не могу.
Взглянула на Вадима и вдруг увидела, что он совершенно скис. Растерянно топтался на месте. Для чего-то вынул из пальто два соединенных билетика и печально смотрел на них. Вале даже сделалось жаль его. Он славный и, наверное, совсем бесхитростный, а может, к тому же еще и стеснительный, потому и боялся, чтобы их увидели. Но отступать было поздно. Нельзя было отступать.
— Пойди с кем-нибудь, — посоветовала Валя.
Он взглянул ей в глаза так, словно хотел сказать: «С кем я еще могу пойти?» Но ничего не сказал и убрал билеты.
О чем еще было говорить? Оба помолчали.
— Ну, пока тогда. Я пойду, — сказал он.
— До свиданья. Так и разошлись.
Весь вечер у Вали было плохое настроение. Мать, заметив это, не трогала ее. Пробовала читать — не шло. Смотрела старую картину по телевизору и ловила себя на том, что совсем не вникает в то, что происходит на экране.
Спать легли рано. Пока не уснула, виделся ей Вадим, как он стоял смущенный с билетиками в руках. Сперва ей сделалось даже жаль Вадима, не обидела ли она его? Но потом гораздо больше пожалела себя. Что-то не выходит у нее в жизни, не получается. Вроде девчонка как девчонка, а вот другие носятся, веселятся, любовь крутят, а она что?! Неужели же у них тут и конец?! Ведь сама она… Но как же быть иначе, как?!
Нет, концом это не было.
Несколько дней не виделись.
Вадим не подстерегал ее больше на улице. Не встречала она его ни на фабричном дворе, ни в людных коридорах в часы перед началом работы или к вечеру.
На третий день он окликнул ее неподалеку от фабрики. Она шла домой.
— Валя!
Не останавливаясь, повернула голову. Старалась держаться как можно спокойнее.
В руках его был туго набитый небольшой портфель. Вадим пошел рядом, спросил:
— Что завтра вечером делаешь?
— Не знаю.
Не могла она ему опять сказать, что занята, что у нее дело. Ведь обрадовалась так, что только и думала: лишь бы он не заметил ее волнения. Нет, он не забыл о ней.
— Завтра у нас районные. Помнишь, я тебе говорил? Придешь?
— Куда?
— Я тебе напишу адрес. На Левашовском. Спортзал при стадионе. Будешь?
— А билеты? — спросила она.
— Пропустят так. Скажешь — на соревнование.
Она замедлила ход. Вдруг рассмеялась.
— Я ведь и фамилию твою не знаю.
— Верно, — согласился он. — Как-то так вышло. Камышин моя фамилия. Вадим Камышин. А ты Доронина, да?
— Запомнил?
— Легко. Артистка такая есть.
— Меня и в цехе девчата артисткой зовут, — сказала Валя. — Просто из-за фамилии…
— Ты на нее похожа.
— Ну да, выдумал. Она красивая.
Прошли еще немного, он сказал:
— Я запишу тебе адрес… Понимаешь, на тренировку опаздываю.
Остановились возле уже освещенной витрины «Гастронома». Вадим поднял и расстегнул портфель, там лежал синий тренировочный костюм. Вадим порылся в портфеле и отыскал записную книжку. Вытащил из кармана шариковый карандашик. Написал адрес. Вырвал листок и вручил Вале.
— Лучше всего третий трамвай до Чкаловского.
— Найду, — сказала Валя.
Вадим еще что-то мялся, не двигаясь с места. Застегнув портфель, сказал:
— А в «Великан» я тогда не ходил. Билеты отдал.
Валя пожала плечами. Взглянула на Вадима. Глаза их встретились.
— Ты одна придешь? — спросил он.
— Одна, — твердо сказала Валя и заметила… Нет, ей это не показалось, он словно просветлел.
Они разошлись. Валя заторопилась домой. Спешили по тротуарам прохожие, случалось, ее толкали, но Валя не сердилась. Все люди ей казались в тот час хорошими и добрыми. Манила теплом маленькая квартира, где ее ждала мать с ужином и вечерним уютом.
Уже поднимаясь по лестнице, заметила, что до сих пор сжимает в руке записку Вадима. Она развернула ее и при свете лампы над площадкой второго этажа перечитала адрес и время, к которому надо было успеть в спортзал. Потом раскрыла сумочку и положила записку в боковой карманчик.
На следующий день в дымной сини зимнего вечера, сойдя с трамвая на незнакомом ей углу, Валя шла по пустынному Левашовскому мимо длиннющего заводского корпуса. Беспокойно поглядывая по сторонам, думала — туда ли идет, не опоздать бы!
До сих пор она видела бокс только в кино или по телевизору. Не понимала, что в нем за радость. Только лупят друг друга. Но то, что Вадим был боксером, Вале нравилось. Не такой, как все, парень. Вспомнила, как сама в школе занималась художественной гимнастикой. Потом бросила. Зря, пожалуй, бросила.
Она ожидала, что попадет в закрытый стадион, где высоко вверх со всех сторон будут громоздиться скамьи, переполненные народом, но все оказалось куда более простым. На полу большого спортивного зала был уложен одноцветный ковер, по краям его стойки с натянутыми канатами в три ряда. По углам, по диагонали одна против другой, две табуретки, и больше ничего.
С двух сторон стояло по нескольку скамеек. На них уже сидели зрители. Пока их было немного, скамейки пустовали. Валя отыскала себе местечко в третьем ряду и, усевшись, стала ждать. Понемногу народ прибывал. Скамьи постепенно заполнялись.
Зажгли полный свет, и соревнование началось. Из глубины зала вышли две боксерские команды. В ближайшей к Вале шел Вадим в таком же, как и у других, синем тренировочном костюме. Он шел вслед за пареньком ниже его ростом с эмблемой на груди. Вадим шагал под запущенный по радио марш, наклонив голову вниз, как бы глядя на пятки идущего впереди. Он не смотрел по сторонам в публику и вовсе не искал глазами Валю.
Объявили товарищеское командное соревнование. Шеренги боксеров двинулись навстречу друг другу и стали пожимать руки. Потом также под музыку, не очень старательно чеканя шаг, ушли.
В первой паре бились довольно-таки щуплые парнишки. Увидела бы Валя любого из них на пляже, не подумала бы, что это боксеры. Ребята мелко подпрыгивали и редко ударяли друг друга. За ними неустанно следил высокий седоватый судья в белом. Иногда боксеры сцеплялись и повисали один на другом, и тогда судья разнимал их. В зале смеялись. Соперники расходились и снова пританцовывали, ища момент для удара. Были они похожи на молодых петушков и тем веселили Валю. В третьем раунде одному из них все-таки удалось взять верх. Довольно ловко и неожиданно он нанес партнеру удар в подбородок. Тот покачнулся, но удержался на ногах. Не успел он ответить, как первый ударил еще и еще. Парень пытался закрываться, уходить от наступавшего, но было уже поздно. Тот прижал его к канату. Прозвучал гонг, бой был окончен.
Когда на ринг вышла вторая пара, Валя сразу увидела, что бокс совсем не смешное зрелище. Двое противников — ребята покрепче и потяжелей предыдущих — с первой минуты дрались так, что в публике уже не было слышно смешков. Зал затих. Незаметно бой увлек и Валю. Она стала болеть за белесоватого, некрасивого, но отчаянного паренька. Он не очень-то удачно защищался, но все же умудрялся наносить удары; судье хватало работы с боксерами, потому что оба, как поняла Валя, часто нарушали правила. Вдруг Валя увидела, как из угла рта белесого потекла струйка крови. Парень не обращал на это внимания и продолжал драться. Решительно наступал на противника. Судья остановил бой. Он был прекращен за преимуществом того, кто дрался с беленьким. Судья поднял вверх его руку. Послышались слабые аплодисменты. Парню, за которого болела Валя, уже вытерли кровь. Ребята пожали друг другу руки в огромных, как мячи, перчатках и покинули ринг.
И вот Валя почувствовала, как вспыхнули ее щеки.
В третьей весовой паре объявили Вадима и какого-то Бабасюка. Еще секунда, боксеры появились за канатами.
Ростом Бабасюк оказался выше Вадима. Это был крепко сложенный скуластый парень с темными курчавыми волосами и толстыми, как у негра, губами. Из соседнего помещения он вышел в коротеньком халате, который тут же сбросил и кому-то передал. Когда были названы фамилии его и Вадима, по скамье прошел говорок. Но уловить, что говорили, Вале не удалось. Она оглянулась и увидела, что зал теперь был переполнен. На скамьях не оставалось ни одного места. Многие стояли.
Несмотря на то что кончался февраль, тело Бабасюка было загорелым, но вернее он был такой смуглокожий.
Рядом с ним бледнотелый Вадим в красных трусах, еще больше оттеняющих белизну кожи, выглядел совсем не эффектно. К тому же Валя заметила, он немного сутулился. Может быть, происходило это от стеснения перед публикой. Вадим был, конечно, не пара любому из тех, что открывали соревнование, и мускулатура его не выглядела такой заметной, как у противника. Но все же было понятно — на ринге крепкий парень. Пока судья проверял перчатки на их руках, пока шла подготовка к бою, Валя изо всех сил старалась, чтобы Вадим узнал ее. Она даже чуть приподнялась с места. Но он ее или не видел, или не хотел замечать. Он не глядел в публику и, казалось, вообще никуда не глядел. Сейчас он был не очень похож на того Вадима, которого она хоть и немного, но уже знала. Он был каким-то другим, неулыбчивым, замкнутым, очень от нее далеким.
Начался бой. Валя со страхом увидела, что Бабасюк стал сразу решительно наступать на Вадима, прижимая то к одному, то к другому краю каната. В последний момент Вадиму все же удавалось уходить от удара. А удар у Бабасюка, наверное, был сильным. Вадим только защищался, ловко прыгал и прикрывал перчатками лицо, грудь и плечи. Но вот Бабасюку удалось ударить Вадима, правда удар получился какой-то скользящий. Бабасюк тут же едва не получил удар в ответ, но успел подставить перчатку.
Теперь они уже оба вкруговую танцевали на ринге. Бабасюк упорно искал возможности ловчей ударить Вадима, но всякий раз попадал в его перчатки. Вадиму приходилось трудно. Валя уже ни минуты не сомневалась, что победит Бабасюк, оглядывалась по сторонам и понимала — так считают и все заполнившие зал. Ей только хотелось, чтобы Вадим как можно дольше продержался на ринге. Вспомнилось, как текла кровь по щеке у белобрысого паренька. Что, если с Вадимом… Зачем ему этот бокс! К счастью, раздался удар гонга. Первый раунд был закончен.
Секунданты поставили табуретки. Несколько минут боксеры сидели друг против друга по углам ринга, безвольно опустив усталые руки на канат. Их обмахивали полотенцами. Тренер Вадима что-то нашептывал ему на ухо. Это был полуседой коренастый человек в черном свитере с воротником под самый подбородок. Наставляя Вадима, он так жестикулировал, будто сам дрался на ринге. Отдых был коротким. Противники снова кинулись в бой. Теперь удары шли чаще. Если Вадиму удавалось пробиться сквозь защиту, почти немедленно следовал ответный выпад. Бабасюк действовал решительно. Несколько раз ему удавалось ударить Вадима. Был момент, когда казалось, тот не устоит на ногах. Валя боялась, сейчас Вадим упадет и судья, стоя над ним, станет отсчитывать секунды.
Бабасюк меж тем все больше входил в раж. Было слышно, как он громко сопит. Казалось, сил в запасе у него еще сколько угодно, уже не верилось в то, что Вадим продержится до конца. В зале не было ни одного равнодушного. Зал гудел. Кто-то громко подбадривал Вадима, какие-то две девчонки с длинными волосами напротив Вали вскакивали с места, хлопали в ладоши и кричали всякий раз, когда Бабасюку удавалось потеснить Вадима. Их тут же, положив руки на плечи, усаживали сидевшие сзади. Казалось, зрители стремились переорать друг друга.
И опять наступил перерыв, и снова боксеры, тяжело дыша, опускались на табуретки. И опять тренеры вытирали их полотенцем, охлаждали обмахиванием и что-то нашептывали.
Неподалеку от себя Валя видела заблестевшую от пота спину Бабасюка. Было заметно, как вздымались его ребра. Значит, и ему не так-то просто давался бой. И тут же она увидела, что Вадим заметил ее, узнал и теперь смотрел в ее сторону. Нет, не только в ее сторону, именно на нее. Что-то похожее на улыбку дрогнуло на его губах. Глядя из своего угла, он словно спрашивал: «Ну как, ничего держусь?..» Как ей хотелось крикнуть ему: «Да, да, это я, Вадим!» И будто какая-то не виданная никому связь возникла между ними в этом переполненном зале.
В третьем раунде боксеры усилили нажим друг на друга. Теперь они часто схватывались вплотную, как борцы, избегая далеких ударов, но судья немедленно разнимал их и заставлял драться снова. Чувствовалось — оба изрядно устали, и Бабасюк уже не казался таким бодрым, как вначале. А Вадим, он все-таки еще бился. Он выдерживал удары и умудрялся отвечать на них. Время шло уже к концу, когда Бабасюк вдруг сделал удачный рывок. Вадим не успел защититься, и на него обрушились удары в грудь, по ребрам, в голову. Он качнулся и, казалось, сейчас упадет на канат. Валя едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Зал гудел, и нельзя было понять, то ли это одобрение действий Бабасюка, то ли жалость к Вадиму. Валя не могла смотреть на ринг и зажмурилась. Она не знала, сколько так сидела, — секунду, две, десять, но вдруг услышала, как будто взорвался зал. Кто-то топал ногами, десятки людей что-то кричали… Все кончено, решила она. Но, только открыв глаза, поняла, почему так шумели на скамьях. Неизвестно когда Вадим перешел в наступление и теперь уже лупил, да, именно лупил здоровенного Бабасюка, вдруг отчего-то ставшего будто беспомощным, потерявшим волю защищаться. Тогда Бабасюк кинулся и повис на плечах Вадима, пока их снова не разнял судья. Бабасюк еще раз пытался броситься на Вадима, но было уже поздно, прозвучал гонг. Взбудоражившая зал схватка закончилась. Опустив руки и тяжело дыша, боксеры ждали решения.
Судьи совещались невыносимо долго. На скамьях с нетерпением переговаривались болельщики. Наконец послышалось громкое: «Победил Вадим Камышин!» — и судья на ринге поднял вверх правую руку Вадима. Счастливый, немного растерянный, он сжимал руку Бабасюка (перчатки им уже сняли). Недавние противники перешагнули через канат и покинули ринг. Зал гремел аплодисментами. Что-то кричали молодые ребята — товарищи Вадима по спортклубу. «Неверно, неверно!» — возмущенно пищали длинноволосые девчонки напротив Вали. «Орите, орите сколько угодно, — думала она. — Все равно мы победили!»
После боя Вадима с Бабасюком народу в зале поуменьшилось. Теперь на ринге дрались боксеры тяжелого веса.
Во время следующего перерыва из дальних дверей появился Вадим, уже одетый в свой светлый пиджачок и голубую рубашку без галстука. Он пробился сквозь ряды скамеек и, добравшись до Вали, сел рядом. Соседи с готовностью потеснились, уступая место победителю. На него смотрели и с другой стороны, и оборачивались те, что сидели на скамьях впереди. Ей стало весело. Она гордилась тем, что Вадим был около нее, что на него заглядывались.
Он сказал:
— Спасибо, что пришла. Я ждал тебя.
— Как обещала, — ответила Валя. — Ты не сразу меня увидел?
— Как только вышел, но не хотел на тебя смотреть.
— Почему?
— Так. Лучше не надо.
— А потом?
— Потом посмотрел.
— Не помешало?
— Не знаю.
— Ты молодец, Вадик! Ты такой молодец… Знаешь, я так боялась за тебя…
— Ну, чего тут… Товарищеские же…
Но она видела — видела — ему было приятно. Она в первый раз назвала его Вадиком и заметила, как щеки его покрылись румянцем.
Сидя рядом с Валей, Вадим потихоньку объяснял ей, что делалось на ринге, и она, кажется, уже начала чуть разбираться в боксе. Во всяком случае, поняла, почему боксеры все время «танцуют» и почему держат руки согнутыми, а перчатки на высоте подбородка. Было хорошо сидеть с Вадимом и чувствовать себя не просто зрительницей, а чем-то причастной к происходящему.
Она даже пожалела, когда в последний раз пробил гонг и соревнования окончились. Как свою победу ощутила радость, когда объявили, что командное первенство одержал спортклуб Вадима. Рассмеялась и шутя сказала Вадиму:
— Ура! Мы победили!
Она ждала его у освещенного фонарями входа на Левашовский.
Пошел снег. Невесомые и легкие снежинки, словно мошки, роились в голубом свете фонарей.
Снег падал на Валину шапочку и плечи. Она поднимала голову, смотрела вверх, откуда летели и летели снежинки. Они ложились на ее щеки и лоб и сразу же таяли, приятно холодя разгоряченное лицо.
Выходили ребята с чемоданчиками. Иных провожали девушки, другие вываливались мужской компанией. Заметив Валю, отпускали шуточки или во всеуслышание звали с собой. Вышел и Бабасюк. Валя сразу узнала его. Был он одет в короткое пальто и меховую кепку. С ним шли те самые девчонки, которые вскакивали с мест. Одна из них держалась ближе к боксеру, другая, взяв ее под руку, заглядывала в лицо что-то им доказывавшего Бабасюка.
Наконец со знакомым ей портфелем появился Вадим.
— Акопян, тренер, задержал, — оправдывался он. — Никак нельзя было уйти…
— Да ладно, — сказала Валя, — ничего, недолго.
Она была счастлива, что он вышел и был один, не с ребятами, сейчас пойдет с ней и, наверно, проводит до самого дома.
Вадим подхватил Валю под руку, и они пошли в сторону трамвая. С Левашовского свернули на светлую улицу Ленина. Город затихал. Снег густо ложился на тротуары. Идти было мягко. Под ногами слегка поскрипывало.
— Пойдем до Большого, — сказал Вадим, когда они переходили трамвайную линию. — Там на что-нибудь сядем.
Валя согласилась. Как было хорошо вдвоем! Она ощущала тепло руки Вадима. Какая твердая у него рука!
На углу узенькой, незнакомой ей улицы, сквозь летящий снег, неоном светилась надпись.
— «Сне-жин-ка!..» — прочла Валя. — Смотри, так кафе называется… И снег идет.
— Зайдем, — предложил Вадим. — Кажется, еще можно.
Толкнули дверь. Запахло кофе…
На них никто не обратил внимания. Сидящие за одним из столиков трое мужчин тянули из стаканов светлое вино и были заняты разговором. Буфетчица углубилась в подсчеты и щелкала костяшками счетов.
— Кофе, — сказала Валя, усаживаясь.
— А может, немножко вина, а?
— Ну, мне совсем капельку.
— Какого?
— Все равно. Лучше сухого.
— Есть!
Он улыбнулся и вразвалочку пошел к стойке. Там что-то шипело и хлюпало. Вадим сперва принес вино в стаканах, потом чашечки с кофе и четыре пирожка.
Есть хотелось, и пирожки были кстати.
Сперва решили выпить вина.
— Много, — сказала Валя, подняв стакан. — Ну, ладно, за твою победу!
Как-то неуверенно Вадим кивнул и разом выпил все свое вино. Поставив стакан, сказал:
— Случайно, наверно, получилось, сам не знаю как. Бабасюк ведь сильнее меня считается и опытнее. Я с другим должен был драться. С тем бы полегче, но они выставили Бабасюка. У того вроде травма. Бабасюк в их команде лучший в нашем весе. Ну, что делать… Акопян говорит: «Изматывай и уходи сколько сможешь». Решил, продержусь сколько смогу, а там уж и сам попробую.
— Так это ты нарочно все прыгал, прыгал сперва?
Он засмеялся.
— Конечно. В боксе главное — маневр. Зря размахивать руками только силы терять. Он бы побил меня, да уж очень хотел поэффектней пройти, я это понял и закрывался. Удар у него, между прочим, будь здоров… А все-таки он попался, не ожидал. Слышала, как вся его капелла орала. Я знал, если два раунда продержусь, на последнем он будет уже не тот. Мои будут три минуты.
— Какие три минуты?
— Последние. Раунд — три минуты.
Валя удивилась. Неужели бой продолжался только по три минуты?
— Три по три — всего девять, — весело продолжал Вадим, наслаждаясь ее неосведомленностью. — И перерыв по одной минуте, пока в чувство приходим и лекции слушаем. Одиннадцать минут — вся игра.
— Девять минут! С ума сойти! Да ведь на вас смотреть было страшно.
— Так это же все равно, что бегом до Пушкина.
— И ты еще ничего.
— Тренировка. А вообще-то и самому три минуты иногда за час кажутся. Я ведь не думал, что победим. Рад был, хоть устоял. Судьи дали по очкам за тактику боя… Разговоров там было, в раздевалке! Ничего, Акопян не ворчал. Он и сам-то, думаю, не ожидал.
— Все-таки ты молодец, — повторила Валя.
— Мне рефери по очкам насчитали.
Она видела, он был рад, что она хвалит его. Глупый, неужели не понимал: если бы и проиграл, для нее все равно был бы таким же милым, а она, может быть, даже тогда была бы ему нужнее, чем сейчас.
Они не заметили, что остались в «Снежинке» одни.
— Молодые люди, закрываем! — певуче сказала буфетчица.
Поднялись… Вадим взял стоящий на стуле портфель.
— Спасибо, — сказала Валя. — До свиданья.
— Всего хорошего, — ответила буфетчица, отворяя им двери.
К Валиному дому подошли, когда на улицах стало уже совсем пустынно.
Сейчас они расстанутся. Вот уже и ворота ее дома. Как жаль! Лучше, если бы он был далеко. Они шли и держались за руки. Он сжимал ее пальцы. Было поздно, но они не смотрели на часы. Сколько прошло времени?.. Да не все ли равно! Им не хотелось расставаться.
Они остановились возле ее дома.
— Которые твои окна? — спросил Вадим.
— Вот те. Два на третьем этаже. Раз, два… Пятое и шестое. Видишь?
— Спят ваши?
— Нет. Мамы нет дома.
— В ночную работает?
— Нет. Уехала к тете на выходной.
Зачем она это сказала?.. Зачем? Вадим понял все по-своему.
— Я пойду, пора, — осторожно высвободила руку.
Но он снова завладел ее пальцами.
— Подожди. Ну, малость…
Он смотрел на нее и чего-то ждал. Вдруг спросил:
— Можно, я у тебя немного посижу, согреюсь?
Валя помотала головой.
— Боишься?
— Нет. Нельзя.
— Не веришь. Ясно.
Помолчали. У нее начали деревенеть коленки. Осторожно он снова начал:
— Я бы погрелся и сразу ушел.
Она подняла на него взгляд. Он был похож на мальчишку, которому отказывали в самом желанном. Глаза Вадима не таили хитрости. Валя рассмеялась:
— Как не понимаешь!..
— Ладно. Пока…
Он даже не пытался поцеловать ее. Отнял руку.
— Ты иди. Я подожду, пока закроешь двери.
— Зачем? Я не боюсь.
Он смотрел на нее так, словно не понимал, о чем она говорит.
Вошли в парадную. Валя спиной двинулась к лестнице. Нащупала первую ступеньку. Вадим остался внизу. Она еще раз кивнула ему и, повернувшись, побежала на третий этаж. Взлетев на свою площадку, посмотрела вниз. Его не было видно. Отворив дверь и придерживая ее, негромко крикнула:
— Вадим, порядок!
— Ага! — гулко прозвучало снизу.
Потом проскрежетала пружина, и двери на улицу захлопнулись. Она вошла в квартиру.
Нашла выключатель и первое, что сделала, — взглянула на себя в зеркало и вслух сказала: «Ничего».
Сняла пальто. Повесила на плечики и вошла в комнату. Светлели прямоугольники окон. Резкие тени ломались на сгибе меж стеной и потолком. Занавеска не была задернута. Валя подошла, чтобы прикрыть ее. Невольно она заглянула через окно вниз. На противоположной стороне, освещенной фонарем, одиноко стоял Вадим. Он смотрел на ее окна. Валя хотела включить электричество и дать ему знак, чтобы немедленно уходил. Но не стала этого делать, а, не зажигая огня, пошла на кухню. Решила поставить чайник на огонь. Удивительно, но спать совсем не хотелось. Едва успела наполнить чайник, снова потянуло к окну, в комнату. Пошла туда и увидела — Вадим все стоял на улице, на том же месте.
Что это он? В эту минуту Вадим снова посмотрел на ее окно, поправил воротник, сунул руки в карманы. Кажется, собрался уходить. Но куда же в такой час? Не раздумывая, она кинулась в переднюю, выскочила на площадку и бегом вниз по лестнице.
— Вадим!
Он даже не вздрогнул, смотрел на нее, будто знал, что его позовут. Сорвался со своего места и, улыбаясь, пошел напрямик, пересекая пустынную улицу.
— Сумасшедший, что ты делаешь! — теперь она почему-то зашептала. — Идем. Там двери отворены.
Наверное, все так и должно было быть. Ей все равно бы от этого никуда не уйти.
Суждено ей это было, суждено. Так, кажется, говорили прежде, а какая разница!
Он сидел напротив нее за столом в их чистой кухоньке.
— У нас есть «старка», хочешь? Осталась с Нового года.
— Конечно, с тобой.
Принесла из комнаты разлинованный золотыми полосками графинчик и такие же две стопочки.
Валя сделала бутерброды с колбасой. Налила Вадиму чаю. Вадим попробовал «старки» и сразу же запил чаем.
— Здорово! Грог.
— Ешь. — Валя пододвинула тарелку с бутербродами.
Но его не надо было просить. Он ел с удовольствием. Еще бы, потерял столько сил.
— А боксеры пьют? — спросила Валя.
— В общем-то, не рекомендуется. Но сегодня можно. И потом, какой я боксер… Так, от нечего делать. Я больше техникой болею. Мечтаю куда-нибудь на Каму или еще подальше.
— Все-таки хорошо быть сильным. Всегда за себя постоять можно. Никто тебе не страшен.
— Возможно, но чтобы уж никто…
— Вот если бы к нам кто-нибудь пристал на улице…
— Смотря по обстоятельствам. Я драться не люблю. Никогда не дрался.
— Ха! Смешно. Ну а если бы напали хулиганы?
— Ну, если бы напали, тогда…
Как ей нравилось, что он такой. С Вадимом было ничего, ничего не страшно.
Потом они сидели рядом на диване в комнате. Зажжен был только ночник под зеленым колпачком. Вадим ждал часа, когда начнут ходить трамваи.
Молчали. Им было хорошо и молчать. Валина голова сама по себе склонилась на плечо Вадима, Ей казалось — они были знакомы так давно.
В коридоре горел забытый свет, Валя поднялась, сказала:
— Я сейчас… Загашу, что зря…
Вернулась. Вадим протянул руку, взял Валины пальцы, потянул ее к себе и обнял за талию. На его лицо падал свет. Она видела широко открытые глаза, ласковые и нежные… Такие, что лучше бы в них не смотреть. Откинула ему волосы со лба и увидела на виске ссадину.
— Что это?!
— Пустяки. Бабасюк отшлифовал. Прическа помогла. Если бы рефери заметил, мог бы и остановить бой.
— Больно? Надо смазать.
— Ерунда. Заживет.
— Бедный…
Она наклонилась к нему и прижалась губами к больному месту. Он приподнял голову. Валины губы сами встретились с губами Вадима.
Кажется, они совсем не спали. Слышалось, по проспекту, вдали, пошли первые трамваи.
Наконец Вадим задремал, и она ускользнула с дивана. Когда вернулась, он сидел в майке и брюках, встретил ее стеснительной улыбкой.
— Надо идти, — сказал Вадим. — Мама, наверно, с ума сходит, куда я пропал…
И тогда она впервые подумала о том, что ничего, совершенно ничего не знает о нем. Ей и не приходило в голову, что у него есть семья — мать и, наверно, отец. Еще четверть часа назад Вадим принадлежал лишь ей, ей одной на всем свете.
Надевая на руку часы, он взглянул на них.
— Может быть, еще успею домой…
Ей казалось, он уже не думал о ней. Его занимало другое, но когда расставались, снова с силой потянул ее к себе, выронив портфель, стиснул в объятиях и стал гладить по волосам, лицу, шее, покрывая их поцелуями.
Вадим ушел, осторожно отворив двери на лестницу и стараясь не шуметь. Нужно было спешить и Вале. Проходя мимо зеркала, она взглянула на себя и именно в ту минуту впервые поняла, что уже никогда не вернется к ней то, что ушло навсегда. Поняла и нисколько о том не пожалела.
Девчата с работы будто бы ничего в ней не заметили необычного. Приближался конец месяца. Шла горячка. Трудились, не отрываясь от машин. Было не до нее. И она, словно не зная усталости, работала старательно и споро, не поднимая головы от шитья, сама удивляясь тому, как умудрилась ничего не запороть, потому что вместо раскроенной шотландки видела перед собой Вадима, его спутанные волосы на лбу и кроткую сонную улыбку, когда он устало задремал рядом с ней.
С той ночи и началось ее счастье.
2
Тихо было в палате. Женщины отдыхали на своих койках. Кое-кто спал или дремал, думая о своем. Валя лежала лицом к стене. Услышала, как в другом конце комнаты отворилась дверь и раздался приглушенный голос пожилой сестры:
— Вот та, Вера Акимовна, в углу. Совсем молоденькая. Ну скажи пожалуйста…
— Хорошо, хорошо, — прерывая старуху, зазвучал другой голос мягко и так тихо, что Валя едва услышала. — Приду минут через десять. Вы не трогайте ее…
— Да мне как скажете. Есть же такие… — уже не таясь, продолжала сестра. Снова чуть проскрипела и затворилась дверь. Голоса смолкли.
А Валя заметалась по койке. Путалась простыня в ногах. Неудобной, твердой и теплой казалась подушка.
Значит, не все, не все еще! Сейчас начнут ее терзать снова. Что им надо от нее?.. Зачем им это? Смешно — ее надеются уговорить?.. Ведь просила, умоляла избавить ее от родов. Не помогли, ну и пусть теперь сами отвечают.
Прошли дни ее безоблачного счастья, про такое только в книгах читалось. Это когда любовь под голубым небом. Когда не ждешь ни грома, ни молнии, а кругом будто все тебе улыбается.
Были у нее такие дни.
До чего же им было хорошо вдвоем! И когда рядом сидели в кино, и когда в обнимочку бродили по улицам или сидели за столиком в кафе-мороженое. Но еще было лучше оставаться только вдвоем. Тогда не надо было никого стесняться, ни оглядываться. Все становилось дозволенным, все…
Мать часто работала в вечернюю смену, и Вадим приходил к Вале. Он никогда не опаздывал, и все-таки у нее тревожно начинало стучать сердце. Придет ли? Не случилось ли что? Но вот раздавался звонок с лестницы. Короткий знакомый звонок, и Валя чуть ли не бегом кидалась отворять двери.
Встречались они на фабрике, кидали друг на друга затаенные, полные восторга взгляды и расходились, не заговорив. Так хотел Вадим. Он хотел, чтобы никто не знал об их отношениях. Смешной, долго ли можно было прятаться?.. И так уже многие замечали. Но с намеками никто не приставал. Даже завистливая Лерка Тараканенко помалкивала. Валя понимала — Вадим правился Лере. Давно она поглядывала своими подсиненными глазами на Вадима, да напрасно. Вот и делала вид, будто ничего про их любовь с Вадимом не знает и знать не хочет. Но однажды все-таки не хватило у нее выдержки. Было это в буфете. Вадим прошел мимо, едва, как это между ними и водилось, кивнул Вале, а она… ничего не могла с собой поделать, вспыхнули у нее щеки. Лерка — та все заметит, спросила так, чтобы все слышали:
— У вас с ним что, того?..
И нарисовала наманикюренным пальчиком в воздухе крестик, что должно было значить: «все?!»
Валя будто не поняла Тараканенко.
— Ты о чем?
Но та только хихикнула, скривив губы.
— Не прикидывайся, не слепые. Все знаем про вас, товарищ Доронина, хоть вы и скрытная.
— Дура ты, Тараканенко, — не найдя, как ответить лучше, сказала Валя и встала. — Тебе-то что?
Она хотела еще прибавить: «Завидно стало, да?», но удержалась. Сидевшие за столиком девчата затихли. В разговор не вступили, но, видно было, таили улыбочки. Значит, догадывались. Ну и пусть, решила Валя. Ей было все равно, пускай хоть все на свете знают.
Вернулся из командировки Владимир Кириллович, и в цех, если вызывали механика, Вадим больше не приходил.
Дома у него Валя не бывала ни разу. Он ее к себе и не звал. Иногда охватывала тревога: а что, если там, в его семье, и таилось для нее недоброе? Почему ему не хотелось, чтобы она у него побывала?.. А потом гнала от себя эти мысли. Зачем ей к нему? С какой стати она там? У Вадима есть младшая сестренка. Жива у них и бабушка. Отец Вадима — водитель такси, мать — жактовский техник-смотритель. Все это он ей рассказал сам. Больше про Вадимову семью не знала ничего.
Долго ли могло продолжаться это их розовое счастье?
Откуда она знала? Ведь не с кем даже было поделиться своей тайной радостью.
Не было у Вали закадычной подруги — такой, от которой нет секретов. Может, это было и к лучшему. Мать она любила. Одна она у матери — Валентина. Но и матери не могла открыть того, что было на душе, не могла поделиться ни счастьем, ни минутой сомнения. Как же про то расскажешь матери?.. А мать, она, возможно, о чем-то и догадывалась. Валю она ни о чем не расспрашивала, хотя порой смотрела на нее так, словно хотела сказать: «Что у тебя, дочка? Открылась бы мне, все ли у тебя хорошо?»
Но Валя молчала и радовалась тому, что мать не досаждала вопросами.
И все-таки. Как-то раз мать, уходя в вечернюю смену, заметила, как Валя поправляла волосы перед зеркалом. Видно, женское чутье что-то ей подсказало. С заметной тревогой посмотрела на дочь.
— Ты гляди, Валентина, берегись. Жизнь-то одна.
Будто не поняв, про что речь, Валя спросила:
— Ты о чем, мама?
И та ответила:
— Да так. Взрослая ты уже. Думай сама.
Никогда ей не забудутся часы, когда помрачнело для нее все вокруг, что до тех пор только светилось.
Еще за день будто ничего не угрожало. Были с Вадимом на танцах. На танцы они ходили редко. Ему все некогда, тренировки. А уж если ходили, то куда-нибудь далеко. В тот вечер занесло их на Васильевский остров, в Мраморный зал Дворца. Танцевать Валя любила, а получалось как-то не в охотку. К удивлению Вадима, не было еще и десяти — попросилась домой…
До чего же хорошо было на улице! Весна… Широкий, как река, Большой проспект по краям в нескончаемых аллеях старых лип. Свернули по пустынной улице к Неве и вышли на набережную. Вплотную к парапету, устало посапывая, теснились белые пароходики. Солнце уже зашло. Вдали на горизонте тлело подожженное закатом небо.
Нет, не забыть ей того заката. Это догорало ее недолгое счастье.
С утра почувствовала себя плохо.
Мутило, будто съела накануне вечером что-то испорченное. Тяжелой сделалась голова. Встав, ощутила непривычную слабость в ногах. Потом все прошло и позабылось, а через два дня снова…
Вот тогда и охватил ее страх. Ведь сколько времени ничего не случалось. Привыкла и спокойненько думала — так и пойдет дальше. Но опять будто все наладилось. Стала надеяться, что причины тут другие. Переутомилась за последние дни, ела плохо. Не было аппетита. А тут вдруг и аппетит появился. Все будто вошло в норму, и она ждала счастливого исхода. Ни слова не сказала тогда Вадиму. Зачем поднимать панику, пугать его.
Потихоньку от матери сходила в консультацию. Больше сомнений не было. Определили беременность на втором месяце. Вернулась домой, легла на диван лицом в подушку. Что же будет?.. Не плакала. Глаза оставались сухими. Только думы, думы, одна ужасней другой.
Главное, решила, нужно, чтобы ни о чем не догадалась мать, и Вадим пусть ничего не знает. Еще девчата, подруги по цеху. Ох, если они проведают!.. Ну, да откуда им было догадаться?.. Вадиму не сказала ничего, а он ходил, смеялся, смотрел на нее восхищенно. Раз как-то весело заметил:
— Ох, Валькин, — так он ее забавно называл: «Валькин», — выглядеть ты стала!.. Хоть по улицам с тобой не ходи, — мужики засматриваются.
Не выдержала тогда, обхватила его голову, изо всех сил прижала к груди, чтобы не увидел выступивших у нее слез. Вадим высвободился, взял за руки и, отстранившись, удивленно спросил:
— Ты что это?
— Ничего, — сказала. — Люблю!.. — и снова притянула к себе.
С тех пор он посматривал на нее со скрытой тревогой. Может быть, о чем-то догадывался, а возможно, она его удивляла той горячей лаской, что внезапно обрушила на него.
А на фабрике ничего. Работала не хуже прежнего. Юлия Федоровна, как и раньше, ставила ее в пример, обещала, что вот-вот повысит разряд. До разряда ли ей было! Выплакаться бы перед кем-нибудь вволю, спросить, что же делать.
И вдруг поняла: только он, один-единственный, может ее понять и утешить.
Не могла больше скрывать от него, самого родного на свете. Решилась.
Такой был тихий, задумчивый вечер. Окно на улицу раскрыто настежь. Откуда-то слышалась музыка. Хорошая музыка, немного грустная.
Он пришел без плаща и без кепки. Ходил по комнате. Что-то ему не сиделось на месте. Предложила чаю. Махнул рукой.
— Что ты, какой тут чай! Пиво надо сегодня пить. Хочешь, пойдем? Может, в бар попадем, посидим.
— Не хочу пива, — сказала она. — И вообще ничего не хочу.
— Ты чего это, Валь?
Уловила в голосе его настороженность. Может быть, уже и стал догадываться, а не расспрашивал, потому что сам боялся узнать. Наверное так, решил — раз она ничего не говорит, и допытываться не надо. Минуту еще постоял, потом сел рядом на диван, взял ее руку.
— Ну, что ты?..
Сидели какое-то время молча. Вадим напряженно ждал. Валя наклонила голову. Не отпуская его руки, полушепотом проговорила:
— Все, Вадим. Случилось со мной… Попалась я…
Почувствовала, как дрогнула его рука и замерла. Тихо, словно не понимал, о чем шла речь, спросил:
— Как попалась?.. Про что ты?
— Про то. Сам знаешь.
Молчал, не отбирая руки. Валя уже не сжимала его ладони. Как-то неожиданно для себя просто сказала:
— Ну, а как же иначе? На что было надеяться?
— Да ведь не говорила ты. Ничего не было.
— Не было. Теперь есть.
— Точно знаешь?
Кивнула головой.
— Врачи определили, — сказала она.
— Твоя мама знает?
Подняла на него взгляд и увидела. Пропал румянец на щеках, и той милой улыбки не было. Валя дважды решительно мотнула головой:
— Нет. И не узнает.
Он, хоть и не хотел того показать, обрадовался. Ему просто, лишь бы никто не узнал. И все-таки спросила:
— Что будем делать, Вадим?
Пожал плечами, не сразу ответил:
— Как что? Сама знаешь.
— Знаю, — не поднимая головы, ответила Валя и добавила: — Боюсь.
— Ну, чего бояться. Теперь все законно, и медицина как положено.
Удивило, как он спокоен. Но нет, он не был спокоен. Словно потерявшись, продолжал:
— Ты не думай, Валюшка, я… Молодые же мы еще очень. Рано.
А в нее будто вдруг вселился дух противоречия. Захотелось досадить ему. Взяла и сказала:
— Бывают и моложе.
Вадим опустил голову. Молчал. Потом тихо проговорил:
— Мои против будут. Стеной встанут. Я уж это знаю.
— Твои? Кто — твои?
Вздохнул:
— Родители, понятно.
Видела она, как ему нелегко было о том говорить, отлично видела, но обида на Вадима брала свое.
— Мама с папой? — натянуто рассмеялась Валя. — А что нам до них? Мы сами взрослые.
— Конечно, — кивнул он. — А где жить будем? У вас одна комната.
— А как другие живут?
— Не знаю. Разве я думал. Мне еще учиться…
— А мне?
Он растерянно молчал. Она не унималась:
— А мне ничего не надо, да?
Он продолжал молчать. Сидел, опустив голову, и тогда она с вызовом бросила:
— А если я ничего не стану делать? Будь как будет.
Негромко выдавил из себя:
— Твое дело. Что я могу…
Вот теперь, кажется, она готова была разрыдаться, но сдержалась и только воскликнула:
— Значит, все я одна? Я, только я?.. И думать должна была раньше я, и мучиться теперь одной, и жизнь свою погубить, так, да?!
— Ну почему, почему ты так?..
Он сидел ссутулившийся, такой растерянный и жалкий, что Вале внезапно захотелось его утешить. Она вдруг почувствовала себя гораздо старше его, серьезнее и рассудительнее.
Рассмеялась и сказала уже совсем иным тоном:
— Глупенький ты. Да нарочно я все это тебе. Так, нашло на меня… Давно все решила. Не беспокойся, и мама ничего не узнает… Может, и вообще никто. Просил бы ты меня, так и то бы не стала.
Окончательно сбитый с толку, Вадим теперь не знал, что сказать.
— Валя, Валюша, да ведь я за тебя!.. Я на все готов…
— Будто, — улыбаясь и снова бесконечно веря ему, мягко проговорила Валя.
Нет, он не собирался бросать ее. Он ее все же любил. Надо было только избавиться от того, лишнего, кто хотел появиться на свет столь непрошенно, и все пойдет у них по-старому, светло и радостно.
Только бы любил ее, как раньше.
Повернулась в сторону палаты и посмотрела, что делается.
Все по-прежнему, только розовая толстуха… Надо же, все-таки не удержалась. Вскочила с койки и уже у окна делает знаки через стекло. Смотри пожалуйста!.. Показывает, какой у нее большой получился сын. И щеки надувает. Изображает, какой он толстый и здоровый. Тычет пальцем в стекло, на кого-то показывает. Это, наверно, значит: «Весь в тебя…» Там, понятно, ее муж. Стоит, наверно, у решетки сада, счастлив до безумия. Сгорает от нетерпения — поскорей бы забрать свою толстуху с ребенком домой.
«Ну что за бессовестная! Хоть бы постеснялась других. Все люди как люди — лежат на своих коечках, хоть и знают — ждут их дома не меньше. Ждут, готовятся. Скорей бы! — думают. Сюда привезли одну, а ждут вдвоем!»
Да, ждут всех.
А ее?.. Ее никто не ждет. Нет, мать ждет. Тоже двоих ждет и надеется. Только напрасно ждет. Дождется одной Валентины. И девчонки из цеха не дождутся. Ничего им не видать. Не придется ее жалеть. И злорадствовать таким, вроде Леры Тараканенко, не придется. «Что, дескать, кончились твои любовные радости?!» На фабрику Валя решила больше не возвращаться, а в свой цех и подавно. В декрет ушла потихоньку. У нее и заметно еще ничего не было. Знали, конечно, догадывались, но никто к ней не приставал. Ушла так, будто уходила в обыкновенный отпуск. Не вышла как-то раз в утро на работу, и все. Может, теперь уже и сидит за ее машиной новенькая. Пусть сидит.
После того дня, когда все открыла Вадиму, встречались по-привычному. Был он внимательным, может даже более чутким, чем прежде. Так же ходили в кино или просто гулять. И к ней он заходил, только теперь пореже и словно с оглядкой. Можно было подумать — чего-то опасается. Чего?!
Решилась она тогда и пошла в поликлинику. Шла туда, чувствовала дрожь в коленках. Все оглядывалась. Казалось, кто-то за ней следит. Не давала покоя тревога — а ну не разрешат аборта, скажут «нельзя!», что тогда?.. Голову кружило от такой мысли.
А вышло неожиданно легко. Убеждали бы ее раньше, так не поверила бы. Осматривала ее врач, маленькая седая женщина в очках с толстыми стеклами. Ничего не сказала лишнего и вопросов ненужных не задала, только и спросила:
— Замужем?
Валя помотала головой.
— Нет.
Ожидала — сейчас начнется. Но ничего не началось. Старенькая докторша на нее, кажется, больше и не взглянула. Бросила: «Одевайтесь!», потом присела на крашенный белой эмалью стул и принялась что-то записывать в незаполненной Валиной «истории болезни».
И часу не прошло — выписали ей в поликлинике направление. Сказали, куда нужно обращаться, и отпустили. До чего же получилось нежданно просто. Самой не верилось. Выскочила на улицу, словно вырвалась на свет из темницы. Шла домой — радовало все вокруг. Шумели на ветру побелевшие от городской пыли тополя, безбоязно расхаживали под ногами сытые голуби.
Вадиму полученное направление показала в тот же вечер. Он взял в руки. Перечитывая, как ей виделось, будто даже просветлел. Возвращая бумажку, стеснительно проговорил:
— Молодец ты, конечно, что решила… Ну как нам иначе быть? Только потом не скажешь, что это я тебя заставил?
— Не скажу, — твердо отвечала Валя. — Не бойся.
Он пожал плечами:
— Да разве я боюсь?.. Не в том…
Больше и разговоров не было. Оба старались обходить беспокойную тему. Оба надеялись — минуют горькие дни, и вновь ничего не станет мешать их прежним отношениям. Будут в другой раз умнее, вот и все. Нет, не остыла Валина любовь к Вадиму. Может быть, сделалась еще горячее. И он ее — видела — любил не меньше прежнего. Не холоднее — жарче сделались их ласки. Может, потому, что чувствовало Валино сердце — скоро их любви конец.
Подходило время ложиться в больницу. На фабрике Валя хитрила. Решила написать заявление и попросить трехдневный отпуск за свой счет. Сочинить, что ей необходимо съездить навестить больную тетку. Она не сомневалась — отпустят. Хуже дело было с матерью. Никак Валя не могла сообразить, что придумать, как объяснить, зачем ей и куда надо… Прикидывала: а что, если не спешить, объявить вдруг! Или даже оставить записку: так, мол, и так-то… Может быть, так лучше всего?
Все было, в общем, обдумано, кроме одного. Боялась. Ой как она боялась!.. Слышала Валя — операция не опасная. Тысячи делают, и ничего. А ее страшило. Снились сны один хуже другого: просыпалась в жарком ознобе и с трудом успокаивалась лишь к утру. Все бредилось — обязательно умрет она. Умрет от ножа. И нож этот видела во сне. Острый, блестящий. Просыпалась и долго не могла заснуть.
Раз ночью мать услышала, как она металась в постели. Встала, подошла и присела на краю дивана.
— Ты чего это, Валюшка?
— Да нет, мама, так. Не спится, душно…
А душно не было. Окно на улицу на ночь оставалось раскрытым настежь. Но мать как будто поверила и скоро снова устало заснула.
Нет, нет, не хотелось ей с тем спешить и не спешила. Было еще время. Ненадолго отодвигался тот час, а все же и неделя, и каждый прожитый день теперь казались такими удивительно хорошими.
Встречалась она с Вадимом. Гладила его и ласкала. Был он тихоньким и смотрел на нее выжидательно. Ничего ей не говорил и не подталкивал, и не отговаривал. А раз как-то ей показалось… будто он хотел остановить ее. Смутно мелькнула у нее такая надежда, но и пропала. Ну да и верно. С чего бы?! Продумали же они. Как же иначе. Теперь дело оставалось только за ней. Он-то что тут?!
Как-то после работы ее вызвали в комсомольский комитет. Передали девчата из цеха. Сказали, что Маргарита просила ее зайти сразу после работы по серьезному делу. Неладное что-то было в том. Их цеховой комсорг была в отпуске, и к чему она понадобилась Маргарите, Вале до конца дня так и не удалось узнать.
Членские взносы у нее были уплачены аккуратно. Может быть, какое-нибудь поручение? Вот уж нашли время! Теряясь в догадках, она пошла в комитет с чистым сердцем. И любопытство было, и тревога — что им от нее надо?
Как вошла в тесную комнатку их комитета, сердце сразу оборвалось.
За письменным столом сидела их комсомольский секретарь Маргарита Горошко. Сидела, сжав губы, такая строгая, какой Валя видывала ее редко. Чем-то она напоминала Валину школьную учительницу, которую в классе называли «Принципиально». В справедливости Маргариты никто никогда не сомневался. Потому и избирали ее секретарем уже не один год. А вот душевности у Маргариты Горошко не хватало. Не шли к ней, чтобы делиться хорошим или рассказать о своей беде. Все знали — Маргарита выслушает внимательно, даже в чем-то поможет, и будет это толково и рассудительно, но вместе погоревать или порадоваться — за этим девчата к Маргарите не ходили. Может быть, так и должно было быть. Как-никак комсомольский секретарь она одна, а на фабрике сколько девчат, и у каждой свое. Маргариту Горошко уважали и чуть даже побаивались. Видела она порой то, что не каждому было видно.
Сидела Маргарита за своим столом в белой, свежей блузке. Она всегда одевалась красиво и просто. Короткие волосы зачесаны по-модному. При встрече Маргарита улыбалась и была приветлива, но выходило это у нее как-то деланно. А сегодня и вообще не было на ее лице улыбки. Глаза вниз, на стол. В комнате были еще две девушки и парень — члены комитета, и у них лица подчеркнуто серьезные.
— Садись, Валя, — сказала Горошко, привстав и пожав ей руку. — Ну, как ты живешь?
Поздоровались с Валей и другие, пододвинули ей стул, чтобы села поближе к секретарскому столу. Потом наступила странная тишина. Все молчали, будто не решаясь начать разговор. Маргарита перекладывала лежащие на столе брошюрки и все ровняла их одну к Другой.
— Как живу? Обыкновенно, — пожала плечами Валя. — С чего это про мою жизнь?
Услышала, как одна из девушек, членов комитета, глубоко вздохнула.
Маргарита наконец оставила в покое книжечки.
— Вот что, Валентина, — начала она, по-прежнему глядя в стол. — Может быть, конечно, это и не до конца наше дело, но не можем мы так проходить безучастно… Ты у нас хорошая девушка, передовая… — она остановилась, подыскивая слова, и продолжала: — Не в том, разумеется, дело. Мы хотели просто так, по-товарищески, чутко… В общем, по-комсомольски. Тебе-то к нам ни с чем не хотелось прийти?.. Может быть, нелегко бывает решиться?..
Валя замерла, насторожилась.
— А с чем я должна была приходить? — как бы вовсе не понимая, чего от нее хотят, переспросила она.
И опять наступила заминка. Слышно было, как за стенами гудела машинами фабрика.
Тут вдруг и сорвалась Томка Никитина — недавний член комитета, девчонка, знавшая Валю со времен ФЗО.
— Ну что ты скрытничаешь, Доронина, что прикидываешься? Ведь бросил же тебя Камышин, так?.. Чистеньким таким, ни при чем ходит. И близко его с тобой нет. Знаем — будет у тебя ребенок… Как тебе одной?..
Кровь прилила Вале в виски. Она закрыла лицо ладонями и опустила голову. Чувствовала, как пламенеют щеки. Услышала — сидящий в комнате парень угрюмо проговорил:
— Известно, по закону тут особенно-то нельзя… Мы не про то… Но свой же он, наш…
— Это что же за моральный облик у парня? — возмутилась другая девчонка.
— Любовь же у вас, говорят, была, куда все делось? — опять заговорила Никитина.
— Да не про то вы все, не про то, — прервала их Маргарита. — Ты спокойно, Валентина… Никто тут, конечно, не способен административно… но ты должна знать — ты не одинока, Валя Доронина..
— Бросать так человека… Разве это по-человечески?! Современный парень, разрядник… — не унималась Томка.
— Может, мы побеседуем с ним?.. Может быть, он объяснит нам свой поступок… Как ты, не против?.. Без тебя, конечно. Возможно, недоразумение у вас… Может быть, и прояснится что?
Валя видела, как к ней осторожно обращалась Маргарита. Значит, они еще не вызывали Вадима, не говорили с ним. Кто-то очень жалостливый сбегал в комитет, и пошло: надо помочь Дорониной, проявить чуткость, окружить теплом, может быть и принять меры по комсомольской линии… Вот оно, выходит, что.
Она оторвала руки от лица. Было такое чувство, словно внезапно сделалось холодно. На лбу выступила испарина. Валя оглядела всех, кто был в комнате.
— Вы что?.. Кто кого бросил?! Просила я вмешиваться? Какое кому дело?! Не знаю никакого Камышина и знать не хочу. Ни при чем он тут. Слышите, ни при чем, и не вздумайте… Зря страдаете. Ложная ваша тревога, ложная!..
Выпалила все это и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Кинулась по лестнице вниз, не видя никого, бежала к проходной.
Никогда ей не забыть лица матери в тот вечер. Домой Валя вернулась поздно. Надеялась, что мать уже спит, но оказалось — ждала ее.
Лишь вошла в комнату, поняла — матери все известно. Днем она случайно наткнулась на Валино направление в больницу. Валя положила его в старый комод в коридорчике, в комод никто из них не заглядывал. А тут матери вдруг что-то в нем понадобилось.
Теперь злополучный листок лежал на столе развернутым. Мать выжидающе смотрела на нее. Будто еще не верила написанному, надеялась, что здесь какая-то ошибка.
Тихо спросила:
— Что же, Валентина, матери ничего не сказала? Враг я тебе?.. Думаешь, я не догадывалась? Давно мое сердце чуяло неладное.
Самым тяжким было то, что мать говорила спокойно. Лучше бы она кричала, проклинала ее. Такое снести было легче. Пошумит и утихнет. Случалось, потом вздыхала: «Рассерчала я вчера. Ты уж, Валентина, старайся, не доводи мать». И все налаживалось. Но когда мать говорила так, тихо, без возмущения, Вале становилось не по себе. Значит, переболело у матери внутри, и не могла она ни кричать, ни ругаться.
Хотелось сказать: «Мое это дело, только мое, и беда моя». Но ничего она не сказала, молчала, глядя в пол. А мать неожиданно поднялась, шагнула к Вале и, заглянув ей в глаза, горячо заговорила:
— Доченька, родная. Да неужели ты верно решилась на это?
Спросила еле слышно и коснулась рукой лежащей на столе бумажки.
— Ведь девочка ты еще совсем… Думают ли они, врачи-то, что дальше с тобой будет?.. Я не допытываюсь, ни про что тебя не спрашиваю, — торопливо говорила мать. — И кто он, знать не хочу.
Вале сделалось жарко. Не помнила, как сказала:
— Ни при чем он тут. Сама я решила…
— Валя, Валюшка, — продолжала мать. — Дочка моя, молить тебя буду… Богом прошу: не делай с собой этого, не калечься смолоду.
Валя схватилась руками за голову. Не в силах была слышать слова матери. А мать все говорила:
— Доченька, кровинка моя!.. Хочешь, я на колени перед тобой стану, просить буду. Не губи себя. Страх меня берет — а ну, не кончится добром.
Мать и в самом деле будто была готова пасть на колени. Сжала Валину руку в запястье, умоляюще говорила и говорила:
— Да ты не бойся, Валюшечка!.. Вырастим, выкормим. Все я сделаю для тебя. Не пожалею никаких сил. В надомницы уйду, нянчить стану… Не бойся. Ничего не бойся…
— Что ты, мама? — Валя отвернулась к стене. — Одной, значит, как ты, всю жизнь прожить?
— Да не погубишь ты свою жизнь, Валечка. Верь мне, родная. Не кончится жизнь у тебя. Все возьму на себя. Пусть он и бросил тебя — проживем, и еще как!
— Не бросил он меня, никто не бросил! — с отчаянием закричала Валя. — С чего ты…
Силы внезапно оставили ее. Она опустилась на диван. Худенькие плечи затряслись. Прерывая слезы, продолжала:
— Сама я, сама… Никому нет никакого дела, и ты меня не мучь. Не могу по-другому.
Мать села рядом. Сперва молчала, потом, как в детстве, стала осторожно гладить ее по волосам.
— Да ничего, дочка… Не изводись понапрасну. Как решишь, так и будет… Верно, взрослая ты, большая. Есть еще время, и обдумаем вместе. Не сужу я тебя, Валентина, что делать. Сама проглядела. Только как бы лучше. Одна ты у меня, никого больше.
И от этого материнского участия, от ее ласковых слов потеплело на душе у Вали. И снова, как бывало давно, почувствовала она себя маленькой девочкой. Не отрывая рук от лица, опустила голову, уткнулась в колени матери, сквозь высыхающие слезы повторяла:
— Мама, мама!.. Мама…
Но как ни умоляла мать, Валя не изменила своего решения.
Третий месяц уже шел. Давно отцвели тополя. Начали желтеть листья березки в скверике на углу. Лето стояло сухое, изнурительно знойное. Дожди выпадали редко. Вернулась Валя из отпуска. Никуда она не ездила. С утра отправлялась на Острова, забиралась поглубже и сидела на скамейке с книгой в тени старых деревьев.
Подходили к концу сроки, обозначенные в направлении. Слышала Валя от других — торопиться не следует, легче будет. Так поясняли женщины.
А времени оставалось все меньше и меньше. С каждым днем приближался неотвратимый час.
И тут случилось непредвиденное. Она простудилась. Простудилась среди лета и заболела. Свалил ее грипп. Какой-то особенный грипп, с трудным названием. Слегла в постель с высокой температурой. Мать в ту неделю не ходила на работу. Сама осунулась, сделалась не похожей на себя. Врачи боялись, как бы не было осложнений на сердце, не позволяли Вале вставать и ходить.
Одна она знала причину своего тяжелого состояния. Кончился срок ее направления.
Опоздала она все же лишь на пять дней. Ей еще не разрешали и выходить на улицу, но как только осталась одна, собрала что было необходимо, забрала документы и пошла в больницу. Дома оставила записку. В конце приписала: «…Прости, мамочка. Иначе поступить не могла». Знала, что огорчит мать, но ей был нужен только Вадим. Раз дала ему слово — надо держать.
Сейчас она с закрытыми глазами вспоминала, как спешила в больницу с чемоданчиком по скользким от опавшей мокрой листвы тротуарам. Тревожно билось сердце, надеялась: покажу больничный листок, уговорю. Ну что такое пять дней!
Толстуха наконец-то оторвалась от окна. Довольная, вся так и сияет. Наступило время обеда. Молоденькая сестра принесла еду и Вале. Без лишнего сказала:
— Сядь, поешь хоть немного. Сил-то сколько потеряла.
Валя послушно взяла тарелку с супом. Есть сперва не хотелось. Но аппетит откуда-то взялся. Тарелку с жиденьким супом прикончила, быстро принялась за котлету с макаронами. Котлета была невкусная. Совсем не такая, какие дома готовила мать. Поев, Валя поправила подушку и опять легла. Прикрыла глаза, думала об одном: только бы скорее вырваться отсюда.
Страшила мысль о первой встрече с матерью, когда она придет домой одна. Потом решила: ничего, мать смирится. Вспомнила, как мать старательно шила для маленького «приданое». Подрубала розовую фланель на пеленки, кроила распашонки и подгузнички… Не хотелось Вале на то смотреть, а сказать матери ничего не могла.
Долго она не могла решиться объявить Вадиму, что ей придется рожать, что делать аборт поздно, врачи не разрешают.
Но вот уже не могла дольше молчать, раз он сам не догадывался.
В тот вечер он пришел в девятом часу. Где-то задержался.
— Хорошо, что все-таки пришел, — сказала Валя. — Думала, и не придешь сегодня.
— Обещал же, — пожал он плечами.
И вот случилось то, чего Валя давно ждала. Знала, что это непременно когда-нибудь будет. Ждала и страшилась этого часа.
Вадим набрал в грудь воздуху, выдохнул и сказал:
— Знаешь, Валь? Уезжаю я на стройку. Договорился уже обо всем и заявление подал. Отпускают. Скучно мне тут, а там машины мирового класса.
Сказал и спрятал взгляд, ожидая, что будет. Хорошо, что спрятал. Не видел, как задрожали ее губы. Вот, значит, что. Собиралась она ему сообщить новость, а вышло наоборот.
— Куда? — еле слышно спросила она.
— Набережные Челны. Слышала про такие?.. На стройку автомобильного гиганта… Ты только не думай, Валь. Оглянусь я там и тебя вытащу. Для тебя дела тоже хватит. Там кругом молодежь.
Вот, значит, он какой! Хороший, внимательный ее Вадимчик. Не собирается ее бросать, хотел к себе выписать. И вдруг Валю взорвали эти давно, видно, продуманные им слова. На какой-то миг она почувствовала себя здоровой и свободной. Она тряхнула головой, усмехнулась.
— Вывезешь, не оставишь одну? И на том спасибо. А спросил ты меня: хочу я бросать свою работу, фабрику, маму? Кто я тебе, чтобы за тобой ехать, ну, кто, скажи?
Подхватило ее и понесло. Вылилась наружу вся горечь. Вадим сидел ошеломленный. Ничего он не понимал. Раньше только одно и слышал от нее: люблю, люблю…
— Валь, да ты что?! Я ведь… Ну, если решим, понятно. Мы же с тобой говорили, помнишь?
Ничего она в ту минуту не помнила, но так же внезапно, как вспыхнула, и остыла. Опустилась на диван. Больше на Вадима не глядела. Он почувствовал, что с ней происходит неладное. Подошел, коснулся рукой ее волос и прижал Валину голову к себе. Никогда он так не делал… Валя схватила его за руку. Не было у нее больше злости. Вмиг куда-то улетучилась гордость. Он, только он один мог сейчас защитить ее от всех бед, успокоить и утешить.
— Вадик, Вадим, — подавив слезы, проговорила она. — Ничего ты не знаешь. Самая я разнесчастная на свете… Сдуру, со злобы это я на тебя… На себя кричать надо.
Не отпуская его руки, торопясь, будто боясь, что он уйдет не дослушав, рассказала, как ходила в поликлинику, уговаривала врачей, билась в бессилии.
Потом оставила его руку и спросила!
— Что же делать, Вадим? Что теперь делать?
Он как-то весь съежился, отчужденно проронил:
— А я откуда знаю, что теперь делать… Сама же ты говорила: успеется, не беспокойся.
— Да я же болела, а теперь прошли все сроки.
Он стоял, повернувшись к ней спиной. Засунул руки в карманы брюк и смотрел в окно. Помолчав, глухо сказал:
— Что я могу?..
В этих его словах послышалось ей то, что теперь твердила она про себя, о чем и раньше думала. Одной ей за все отвечать, одной.
Как-то неуверенно Вадим все-таки спросил:
— Может быть, мне не ехать?
И, повернувшись к ней, посмотрел так, словно говорил: «Хочешь, останусь, но чем я могу тебе помочь, ну чем?»
— Твое дело, — ответила Валя. — Собрался — поезжай.
Он сел рядом с ней на диван. Теперь молчали оба. Нет, не мог он ее ничем утешить. Знала это она не хуже его.
Спросила:
— Когда едешь?
Не поднимая головы, он пробормотал:
— Послезавтра. Билеты уже есть. Не один я, с парнями.
Валя встала. Ноги были словно ватными, она еле держалась.
— Счастливо, — проговорила она.
Не зная, как это принимать, Вадим сказал:
— Я тебе напишу. Сразу напишу.
— Иди, — сказала она. — Мама скоро вернется.
Вадим тоже поднялся с дивана. Она не смотрела в его сторону и опять услышала:
— Ва-аль, ты не думай…
Резко обернулась и почти крикнула:
— Что мне не думать, ну что, что?!
Он не знал, что отвечать, а она с внезапно явившимся спокойствием отрезала:
— Уходи, Вадим.
Ссутулясь, он пошел к двери.
Первым порывом Вали было бежать за ним, догнать на лестнице, схватить за руку: «Постой, не уходи!.. Как же я одна-то? Как мне жить теперь?» Но она не побежала, сдержалась и решила — будь что будет, а из сердца вычеркну.
3
Проснулась Валя от знакомого возгласа:
— Мамочки, приготовиться!.. Везем, везем!.. Кормить!.. Всем кормить!
Подумалось: неужели и к ней пристанут опять?.. Неужели не отстали, не поняли?!
Валя снова завернулась с головой в простыню и замерла без движения.
Скоро услышала, вернее почувствовала — кто-то подошел к ее койке. Она лежала не шелохнувшись, отвернувшись к стене. Тот, кто подошел, осторожно положил руку на ее плечо, прикрытое простыней. Валя стиснула зубы.
— Ну, ну, успокойся, — произнес мягкий женский голос.
Нет, это не был голос ни молодой, ни той шумной сестры. Послышалось — к койке подвинули табуретку. Потом рука осторожно и настойчиво старалась поднять простыню с Валиной головы, но Валя вцепилась в нее изо всех сил.
— Ну что ты, ну что?.. Душно же. Дышать тебе нечем. Не бойся. Давай поговорим.
Скорее из любопытства, Валя открыла лицо. Против нее на табуретке сидела женщина с худощавым лицом.
— Знаю, все знаю, — немного певуче и так тихо, что слышала только одна Валя, сказала, женщина в белой шапочке.
Это была доктор, та самая, голос которой Валя слышала утром, когда в палате говорили о ней.
— Что вам надо? — процедила Валя сквозь зубы. — Я ведь, кажется, уже все сказала. Не старайтесь, не уговорите.
— А я пришла не уговаривать, — не обратив внимания на ее грубость, продолжала докторша. — Тебя как, Валентиной зовут?
— Зачем вам?
— Как же говорить без имени, Валя! Меня, например, зовут Вера Акимовна.
Валя упорно молчала.
— Знаю, что ты одинока, — снова заговорила Вера Акимовна. — У тебя мама есть. Она ждет тебя дома. Не одну ждет — с внуком. Сказали ей, что родила ты легко. Ребеночек хороший, и ты здорова.
— Напрасно ждет, — отрезала Валя.
— Понимаю, но бывает, что и никто не ждет, а они не отказываются.
Что ей до других?! Валя старалась не глядеть на докторшу. И опять упрямо:
— Зря вы, зря слова тратите.
— А маму свою тебе не жалко?
— Мать тут ни при чем. Не возьму!.. Сказала ведь… Что еще от меня надо?..
— А ты не злись, Валентина. Не возьмешь ребенка — твое дело. Оформим юридически, и уйдешь домой, А сейчас не злись. Ты еще слабая, и нервничать тебе, вредно. Молоко горьким сделается.
— Незачем мне оно.
— Тебе не нужно — нам необходимо.
— Как это вам?
— Научим цедить, и твоему же ребенку пойдет.
— Не надо мне его.
— Значит, окончательно решила?
— Окончательно, — сказала Валя.
— Хорошо. — Докторша поднялась с табуретки. — Больше об этом говорить не будем. Теперь у меня к тебе вопрос: хочешь, чтобы ребенок твой выжил?
Валя молчала, ждала.
— Я тебя спрашиваю, Валя, хочешь, чтобы твой ребенок… Ну пусть не твой — наш, — хочешь, чтобы он выжил? Согласна ты нам помочь?
— Что вы еще от меня хотите, что вы мучаете меня?
— Ты должна его покормить. Один раз. Всего один раз, и все. Сейчас же, немедленно.
— Не стану!..
— Он в тяжелом положении, Валентина. Он может умереть. А если и выживет — будет хиленьким.
— Неправда!
Валя почти крикнула. Конечно же, ее обманывали. Хотели заставить. Но перед собой она увидела глаза пожилой женщины. Глаза, которые не могли лгать.
А докторша сдержанно продолжала:
— Он даже наверно выживет. Мы постараемся. Нам это в десятки раз труднее, чем тебе, но мы сделаем что можем, и ты его никогда не увидишь. Но разве тебе не хочется, чтобы он вырос здоровым?
Валя резко повернулась, уткнула лицо в подушку. Вера Акимовна все еще стояла возле ее койки. И тогда Валя опять метнулась в постели, скинула простыню и с решительным отчаяньем проговорила:
— Давайте, раз вам это так надо.
Новорожденного принесли удивительно быстро. Он не кричал, наверное еще спал. Сестра приблизила его к Валиной груди. Вера Акимовна опять оказалась рядом. Валя зажмурила глаза. Тяжеленькое, перепеленатое существо дали ей в руки. Валя его не видела, не хотела видеть. Лишь слегка приоткрыла щели глаз. Сквозь опущенные ресницы расплывалось красненькое пятнышко. Мягкими губами новорожденный ухватился за ее сосок и неожиданно засосал так жадно, будто делал это уже не впервые. Валя слышала его почмокивание и чувствовала какое-то необъяснимое облегчение и вдруг пришедший покой.
Через несколько минут сестра сказала:
— Теперь другую грудь, мамаша.
Ребенка переложили, и он, как ни в чем не бывало, принялся высасывать молоко из другой груди. Каким же он оказался ненасытным. Но другую грудь он сосал недолго и скоро оставил сосок, откинув головку.
И тут Валю внезапно охватила тревога. А вдруг ее обманули и сунули ей чужого ребенка? Может быть, такого, чья мать сейчас не могла кормить. Эта нелепая мысль заставила ее открыть глаза в тот самый момент, когда она уже должна была передать новорожденного в руки сестры.
Тому, что произошло дальше, стала свидетелем вся палата — освободившиеся от своих младенцев матери, сестры и доктор Вера Акимовна.
— Вадим!.. Вадим!.. — не помня себя, закричала Валя.
До чего же был похож на него этот крохотный человечек, с обмотанной, как у матрешки, головой. Никогда бы она не поверила, что бывает этакое сходство с отцом у новорожденного. У него был нос Вадима, рот и даже лобик.
Сестра еще не успела принять у Вали ребенка, а Валя теперь прижимала его к себе и, совсем не обращая внимания ни на кого, жарко шептала:
— Мой, мой!.. Родной, милый!.. Никому не отдам ни за что. Мой, только мой!
И вот она опять дома.
Теперь они здесь втроем. Втроем, вопреки всему тому, что решила про себя Валя. Они живут втроем: Валентина, ее мама и малышок. Малышок — так она назвала его про себя, когда еще кормила на больничной койке, — и так же стали называть с того дня, когда мать привезла их домой. И такой была мать в тот день серьезной, сосредоточенной и счастливой. Приняла из рук сестры завернутого в одеяло Малышка и осторожно понесла на руках впереди Вали. Пакет с ним был таким большим, что казалось, ребенка там не сразу и найдешь. Уложенный в конверт, он спал в своей пуховой постели и первый раз дышал воздухом улицы.
Пока ехали домой в такси, пока поднимались по лестнице, Вале все думалось, как же она будет жить дальше. Как потекут теперь ее уже материнские дни?
В комнате увидела — диван потеснился и у стены стояла аккуратно застеленная, видно у кого-то перекупленная, но еще хорошая кроватка с ножками на колесиках. На кухне на табуретке невероятного размера эмалированный таз — купать маленького. Мать обо всем позаботилась. Сколько ей это стоило хлопот! Если бы мать знала обо всем, что происходило в палате!
Валя взглянула на кроватку. Пакет с маленьким уже лежал в кроватке, где ему было суждено расти. И внезапно ей сделалось страшно. Не будь его в кроватке!.. Если бы он остался там!.. Если бы сына нельзя было вернуть?!
Шли дни. Малышок беспрестанно требовал к себе внимания.
Про фабрику, про девчат Валя сейчас не вспоминала. Работать там больше не собиралась. Пусть ее там забудут, и она забудет про всех.
Но фабрика напомнила о себе сама.
Первой к ним в гости пришла Юлия Федоровна. Она без лишних разговоров поздравила Валю и вручила ей две пары веселеньких, в мелких цветочках, ползунков.
На другой день к вечеру в квартиру позвонили. Малышок спал. Мать хлопотала на кухне. Валя пошла отворять двери и, раскрыв их, ахнула. На площадке стояли Маргарита Горошко и Томка Никитина, а перед ними новенькая детская белая коляска с верхом. Маргарита еще держала в руках что-то завернутое в бумагу, похожее на коробку конфет. У обеих был смущенный и немного растерянный вид.
— Можно к тебе? — спросила Тома.
— Входите, чего же…
Они вкатили коляску и вошли сами. Сразу же Маргарита чуть торжественно произнесла:
— Это тебе фабком и от девчат-комсомолок.
— И это тоже тебе. — Маргарита торопливо развернула свою ношу. — Книга «Детское питание». Нужная вещь. У меня сестра по такой книге кормила.
— Тут все по науке, — вставила Томка.
Вошла мать, поздоровалась с девушками, пригласила в комнату. Вкатили туда и коляску. Валиной матери коляска понравилась.
Потом девушкам показали спящего Малышка.
— Хорошенький, — сказала Маргарита.
Томка замахала руками:
— Чур-чур!.. Надо говорить — уродец… Моя бабушка всегда так говорила. Чтобы не сглазить. Тогда и вырастет красивенький.
Но это было еще не все.
Дня через два утром, когда матери дома не было, явилась Лера Тараканенко. Вот уж кого Валя не ожидала сейчас видеть, так это Леру. Отворив дверь, Валя не знала, что ей и делать. Лера тоже какие-то секунды молчала, потом, поборов нерешительность, сказала:
— Здравствуй. Я на минутку. Пустишь?
На ней была модная шляпка с полями, из-под которой на плечи падали длинные прямые волосы. В руках Лера держала большой бесформенный пакет.
— Заходи, пожалуйста.
Лера вошла и остановилась в коридорчике, не смея пойти дальше.
— Я вот тебе тут… Не тебе — маленькому…
Она хотела было развернуть пакет, но Валя сказала!
— Не спеши. Раздевайся.
— Можно?
— Да что ты, в самом деле, — не выдержала Валя.
Лера вздохнула свободней и развернула пакет. В нем оказался желтый плюшевый мишка.
— Твоему, — сказала Лера.
— Господи! — воскликнула Валя. — Куда же ему! Он еще и побрякушек не понимает, сам меньше этого…
— Ничего, — заспешила Лера. — Мишка подождет, а твой вырастет. Я думала-думала, что принести?
— Спасибо. Ничего бы не надо.
— Ну да! Скажешь.
Пошли в комнату. Лера с любопытством поглядывала в сторону прикрытой марлей кроватки. Тихо спросила:
— Спит?
— Спит.
— Можно посмотреть?
Подошли к кроватке. Лера шла тихо, на цыпочках и говорила шепотом. Валя сдвинула марлевую накидку, Малышок спал, смешно поджав губы.
Лера с какой-то робостью и нескрываемым любопытством разглядывала Валиного сына, а та исподволь наблюдала за ней. Узнает ли? Увидит ли Лера, что похож на Вадима? Если и увидит — не скажет. Лера тихо спросила:
— Как зовут?
— Малышок пока, — рассмеялась Валя.
— А вообще-то?..
— Не знаю. Еще не придумала.
Валя снова прикрыла кроватку спящего, и они обе отошли.
— Молодец ты, Валька, — решительно выпалила Лера. — Знаешь, ты, может, и не поверишь, но я бы так же поступила.
Валя не отвечала. Даже самой близкой подруге теперь не сказала бы, что происходило с ней в больнице. Помолчав, спросила:
— А ты-то как живешь?
Та непонятно улыбнулась, пожала плечами.
— Какая у меня жизнь, Валя… Сама знаешь, — вздохнув, добавила: — Я решила — никого мне не надо. Ну их всех, дармолюбов. К тебе шла — хотела захватить бутылочку портвейна, да ведь тебе нельзя сейчас.
— Нельзя.
Валя улыбнулась. С чего это Лера Тараканенко заговорила с ней так открыто? Раньше все скрытничала. Но ведь то было раньше. Теперь уже казалось — давно.
О том, как Валя решила назвать сына, мать ее не спрашивала. Валя даже удивлялась тому, но сама разговора не заводила. И все-таки пришел день. Прошли все сроки. Нужно было идти в загс, регистрировать новорожденного. Тогда мать и спросила:
— Как же назовем-то, решила ты?
Валя взглянула на мать. Конечно, про себя та уже перебрала десятки имен, но Вале ничего не говорила, все ждала и догадывалась, что Валя уже придумала для сына имя. И Валя сказала:
— Вадимом будут звать. Вот так.
Пришла осень. Ветреная и студеная. В садике неподалеку от дома Валя находила заветрие, ставила коляску против себя, усаживалась на скамейку и читала. Как-то она подумала, что если бы не Вадимушка, она бы, наверно, не прочитала столько интересных книг.
На работу она не спешила. Валина мать не соглашалась отдавать Малышка в ясли и требовала, чтобы Валя побыла с ним подольше.
О Вадиме старшем Валя вспоминала редко. Он не подавал о себе вестей. Иногда ей припоминалось его лицо, глаза и такая не похожая ни на чью улыбка, но и вспомнить их она не могла. Вадимовы черты вытеснились из памяти Вадимчиком маленьким. Он уже умел улыбаться.
Был холодный день. Валя забрела в глубину скверика к глухой стене дома, где кончалась дорожка. Коляску поставила так, чтобы на нее падали лучи солнца и согревали спящего Малышка. Подняв воротник пальто, уткнулась в книгу. Народу в этот час в садике было совсем мало. Погруженная в чтение, она не сразу почувствовала, что кто-то подошел к ней и смотрит на нее.
Подняв голову, вздрогнула. На дорожке стоял Вадим. Он был в той же знакомой куртке и, как всегда, без кепки. Руки держал за спиной.
Их взгляды встретились. Вадим смотрел на нее опасливо, не решаясь подойти, ждал. Наконец сказал:
— Здравствуй, Валя.
— Здравствуй, Вадим.
Он подошел ближе. Она захлопнула книгу и положила рядом с собой. И тогда она протянула ему руку. Пожатие было обыкновенным, ничего не значащим.
— Ты что, в отпуск? — спросила Валя.
Спросила так, будто они были лишь знакомыми и теперь случайно встретились.
— В командировку, на три дня, — ответил Вадим.
Кивнула: понятно.
— Твой? — Вадим мотнул головой в сторону коляски.
— Мой, а чей же? — пожала плечами Валя.
— Можно посмотреть?
— Посмотри…
Так бы она ответила и любому другому, кто бы захотел взглянуть на ее сына. Приподнялась со скамьи, заглянула в коляску, убедившись, что ребенок спит, снова села. Пусть смотрит один.
Вадим вплотную подошел к коляске. Ни он, ни Валя не произносили ни слова. Она опять взялась за книгу, будто собралась читать.
Молчали долго, потом он спросил:
— Как зовут?
Он выжидающе глядел на Валю, а она, как ей казалось, спокойно выдержала его взгляд. Могла ответить: «А не все ли тебе равно?», но неожиданно сказала:
— Вадимом.
Он, наверно, подумал, что Валя смеется над ним. Весь как-то напрягся. Не выдержав, переспросил:
— Правда?
Она пожала плечами: «Не хочешь — не верь».
А Вадим все стоял и смотрел на ребенка. Валя зачем-то встала и поправила одеяльце.
Вадим нерешительно сел рядом, потом спросил:
— Чего же ты не написала? Адрес у тебя был.
Она не ответила. Снова пожала плечами. В свою очередь спросила, и опять будто как у постороннего:
— Как там живешь?
— В общем нормально. Работаю на промышленных холодильных установках. Заново все пришлось постигать.
— А бокс как?
— В общежитии у нас ребята занимаются. Ну, и я так, иногда, балуюсь… К весне обещают комнату. Семейным квартиры дают…
Молчали.
— Я был на фабрике, мне сказали, что ты дома, — после долгой паузы проговорил Вадим.
Он взял книгу с ее колен, спросил!
— Интересная?
Она опять не ответила. Сидела не шелохнувшись, смотрела на рыжие листики на дорожке.
И вдруг она испугалась. Что, если Вадим сейчас уйдет и ничего не скажет. Она пыталась уверить себя, что он ей безразличен… Но почему же тогда вся дрожит оттого, что он сидит рядом, почему боится, что он уйдет?
Превозмогла себя, встала и сказала:
— Нам пора.
Забрала книгу из его рук и положила в коляску.
Вадим тоже поднялся.
— Можно, я провожу вас?
— Ни к чему. Мы спешим.
И, кивнув ему, тронула коляску с места. Чуть сипели колеса, оставляя на дорожке узкий двойной след. Она катила коляску и думала о том, что, если Вадим пойдет рядом, она не будет знать, что делать. Уже у самого выхода на улицу Валя обернулась. Вадим все еще стоял на прежнем месте и глядел им вслед.
ПАМЯТЬ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ТУРОК
Пусть извинит меня нынешний читатель, но я не люблю фантастики, не увлекаюсь сочинениями о полетах на комфортабельных, как отели люкс, космических гигантах к планетам, таящимся в такой невообразимой дали, что путь к ним исчисляется недоступными моему воображению миллионами световых лет. Не занимают меня и рассказы об инопланетянах, внимательных, будто агенты Госстраха, или, наоборот, безучастных чудовищах в светящихся скафандрах. Вдуматься — так, по-моему, и хорошо настроенный телевизор сам черт знает какая фантастика! Именно при его помощи я узнаю о разном земном, в котором еще так много неизведанного. Думаю, не преувеличу, если скажу, что вообще-то жизни не хватает, чтобы увидеть своими глазами хотя бы часть того, на что хотелось бы посмотреть.
И хотя я, казалось бы, уже немало повидал на свете всякого, не перестаю удивляться иному любопытному в дальних ли, близких ли странствиях. Случается, столкнешься с таким, что не придумать и смелому фантасту. Пройдет время — и сам не знаешь, верить, не верить тому.
Об одном таком событии, о встрече, может быть и не столь значительной, но удивительной вне сомнений, и пойдет рассказ.
Было это несколько лет назад в Турции.
Недолго я пробыл в этой стране, а уж нагляделся достаточно.
Ну не поразительно ли, например, что в больших турецких городах, где световая реклама американских секс-фильмов затмевает сияние звезд в небе, женщинам, даже немолодым, с заходом солнца на улицах появляться не принято.
А взаимоотношения со всемогущим аллахом?
Он по-прежнему на устах у всякого турка. Правда, молитвы в исполнении лучших муэдзинов теперь слышатся из мощных динамиков, установленных в выси на бесчисленных минаретах. Мечеть, как и всегда, сурова к дочерям Магомета, но только не к иностранным туристкам. За звонкую лиру вступают они на ковры святилищ даже в мини-юбках. Еще лира — и моднице-чужестранке выдается халат, который прикроет бесстыдную наготу ее ног от гневных глаз пророка.
Да, было чему подивиться. Но сейчас не о том.
Еще пролетая над рыжими, лишенными растительности турецкими горами и приближаясь к Анкаре, я думал об известных мне по книгам, теперь уже таких давних днях истории, когда, сброшенные Красной Армией в море, остатки врангелевских войск плыли к берегам Турции, ища спасения на ее неуютной земле. Тысячи обманутых белыми русских солдат потом годы и годы прозябали вдали от Родины, на пустынном Галлиполийском полуострове в знойных Дарданеллах. Позже разбрелись, брошенные Черным бароном, кто куда мог. Многие вернулись домой. Иные, страшась возмездия, обрели пристанище в славянских странах. Офицерство погрязло в тине парижской эмиграции. Совсем немногие остались навсегда в Турции. Потому-то, по прошествии более полувека, я не надеялся встретить хотя бы одного из тех «осколков разбитого вдребезги».
И вот, представьте (разве это не фантастика?), вопреки ожиданиям, попался нам на пути осколок, да еще из какого редкостного сервиза!
Произошло это в нынешней турецкой столице, в центре которой среди домов умеренной высоты поднимается небоскреб американского банка, а выше него, на господствующем над городом холме, в синеве неба белеет мраморный мавзолей Ататюрка — упразднителя султаната, основателя и первого президента Турецкой республики. Памятники Мустафе Кемалю, прозванному Ататюрком (отцом турков), вождю турецкой буржуазной революции, встречаются там повсюду. Но больше по всей стране никому из знаменитых турок памятников не видно.
Миновав по дороге из аэропорта пригороды Анкары, поехали мы вдоль узких разогретых на солнце улиц. Там и здесь с видимой поспешностью сносились старые двухэтажные строения, чтобы освободить дорогостоящее пространство для новых пяти-шестиэтажных железобетонных этажерок со стеклами меж жесткого каркаса. Но вот, покрутив по асфальту, автобус наконец замер у небольшого отеля, к моей радости, не стандартно-европейского, каких полно и в Анкаре, а в восточно-мавританском стиле.
Не успел выбежавший навстречу машине парнишка в зеленой курточке освободить багажник от чемоданов, как возле автобуса появился худощавый, на вид еще крепкий старик в довольно-таки модном клетчатом пиджаке, который несколько свободно сидел на его костлявой, но не согбенной фигура. Лицо старика темнело вечным загаром, который оттеняла будто подвешенная к ушам белая, жесткая, как платяная щетка, подстриженная борода. Колючие седые усики щетинились из-под продолговатого носа с горбинкой.
— Здравствуйте. Я вас уже третий день жду, — громко и хрипловато произнес он. — Ахмет из гостиницы сказал, что приедет русская делегация. С утра хожу. Боюсь пропустить. Здравствуйте, русские люди.
Он опустил руки по швам, вытянулся и представился:
— Гаджиев Михаил Муратович!
Произнес это с какой-то, по-видимому, на всю жизнь въевшейся интонацией старого служаки. Его быстрые зрачки с любопытством и, казалось, некоторой опаской перебегали с одного из нас на другого. Из-под низко надетой на лоб плоской кепки виднелись паучки морщинок, собравшихся возле уголков глаз. Тонкий сомкнутый рот, коричневая кожа щек придавали ему какое-то неуловимое сходство со старенькой, наряженной в пиджак обезьянкой.
Не затрудняя нас необходимостью расспрашивать, кто он такой и откуда тут взялся, старик поспешил сообщить, что он выходец из России, с кавказской земли.
— Черкес я, инородец, — он употребил давно забытое у нас слово.
Мой добрый спутник, с кем мы в путешествии по Турции не раз жили вместе в номере, человек любознательный и отзывчивый, забыв о своем багаже и гостинице, немедленно заинтересовался неожиданным знакомством, а старику, видно, только того и нужно было. Я оставил их вдвоем, пообещав спутнику позаботиться о его вещах.
Когда минут через пятнадцать я спустился в холл, Николай Николаевич с Гаджиевым сидели на низенькой ковровой тахте перед бездействующим сосудом кальяна и вели оживленную беседу.
Под одобрительные кивки моего друга старик поспешил повторить, что впервые попал сюда в двадцатом году, когда приплыл с войсками из Крыма, но навсегда обосновался в Турции не сразу. Перед тем поскитался по Европе.
Торопливо, может быть опасаясь, что мы его недослушаем, стал рассказывать, как затем несколько лет прослужил в армии Кутепова, который принял командование от удравшего в Париж барона. Изводясь в тоске на голой Галлиполийской земле, белые полки все еще ждали обещанного нового похода на Советскую Россию. Но Гаджиев, как утверждал он теперь, в новую интервенцию не верил и всякими правдами и неправдами оставлял полуостров, чтобы, добравшись до Стамбула, который и сейчас упорно называл Константинополем, там, чем мог, развлечься.
Не так-то легко было во все это поверить.
Более полувека прошло с тех пор, как на турецкий берег вступили уцелевшие врангелевские части. Пролетели огромные, насыщенные невероятными событиями десятилетия — время становления и мужания нашего государства. Отгремела победная война с фашизмом, ушли в прошлое суровые годы возрождения на выжженной огнем земле. Была прожита полная драматизма эпоха не знающих примера в истории преобразований нашей огромной страны. И вот перед нами, не в кино, не на экране телевизора, сидел не свидетель далекого прошлого — уцелевший враг, один из тех, кто старался растоптать и уничтожить юную Республику Советов.
— Ведь я уж не такой молодой был, — сузив глаза, прохрипел наш новый знакомый, словно предупреждая мысль о том, что белогвардейцем он стал по юношескому недомыслию. — Девяносто скоро мне. Не верите?!
Зрачки его живо сверкнули. Боясь, что мы усомнимся в этакой маловероятной цифре, старик быстро засунул руку за борт пиджака и вытащил увесистый турецкий паспорт. Раскрыв его твердую обложку, сухим пальцем ткнул в графу, где значился столь далекий год его рождения, и настоял, чтобы мы в том убедились.
— Где же родились? — спросил Николай Николаевич.
Старый черкес пожал плечами. Убирая паспорт, глухо сказал:
— Какая разница? — и, назвав не запомнившийся мне аул, продолжал: — Турок я теперь. Тут все турками становятся, когда получают гражданство. — Чуть помолчал и добавил: — На Кавказе, в горах, родился. И вырос там. Теперь уж и не верю, что так было.
Но оказалось, это еще не все. Главное нас ждало впереди.
— Я ведь сотник. В казацких частях воевал, — продолжал старик. — Полный георгиевский кавалер за войну с немцами. Последний крест Николай Николаевич, великий князь, приколол. Не вру. Потом меня в Царское Село взяли. Черкесская сотня в охране царя была. Я командовал. В Александровском дворце жили. Хорошо жили.
Становилось любопытно.
— Ну, а дальше? — поинтересовались мы.
— Дальше?.. После февраля в Сибирь, провожать царя, нас не пустили. Керенский сотню забрал в Петроград — себя охранять. Опять во дворце жили. В Зимнем. В саду гуляли. Фонтан большой, мраморный. Забор высокий, чугунный, с орлами. Ворота на площадь. Сверху тоже орлы. Правильно я говорю?
— Орлов теперь нет, — сказал я. — И забора, и ворот нет. Ничего этого нет.
— А дворец?
— Дворец стоит. Такой же, как раньше, только красивей. Выкрашен иначе.
— Тогда весь красный был.
— Теперь зеленый, с белыми колоннами. Музей в нем, Эрмитаж.
— Знаю, — кивнул старик. — Другие тут ваши русские были, рассказывали. Я всех русских встречаю, когда приезжают. Про Петроград расспрашиваю.
Видно, он не очень-то верил в то, что Зимний дворец цел и все еще стоит на месте, и он вновь выпытывал, правду ли ему говорили раньше. Но вообще-то бывшего царского охранника прямо-таки распирало желание рассказывать о своем неприглядном прошлом. Все еще не отпуская нас, старик продолжал:
— Когда переворот был, я против вас Зимний защищал. Сотня моя ни одного выстрела не сделала. Как юнкера сдались, мы тоже ушли. — Он вздохнул. — Если бы за царя, может быть, и стали бы драться, а за Керенского — нет. Нам все равно было, раз царя нет… Кто? Какой Керенский? Не знаем такого.
— Керенский и сам раньше вашего удрал, — сказал Николай Николаевич.
— Позже мы про то узнали. Видели бы, что бежит, своих бросает, сами бы пристрелили.
В глазах старого рубаки сверкнул злой огонек. Он добавил:
— Я когда в Париже был, Керенский от русских прятался. Боялся за свою шкуру. Потом в Америку бежал, шакал.
Наступила неловкая пауза. Нам показалось, что разговор с защитником самодержца и временщиков был исчерпан. Как раз ко времени. Нас позвали к раннему обеду, и мы распрощались с Гаджиевым.
Думалось, на этом удивительная встреча с человеком с того света закончилась.
Но мы ошиблись.
На следующее утро он, узнав, где мы с Николаем Николаевичем живем, постучался в двери номера и явился, по-видимому, на правах старого знакомого. В руках старика был какой-то внушительный, завернутый в бумагу большой плоский предмет.
— Можно входить? Позволяете? — спросил он.
И вошел, осторожно прикрыв за собой двери. Был одет в тот же пиджак, гладко побрит и вообще, несмотря на фантастический возраст, казался даже подтянутым.
Предмет, который принес незваный гость, оказался альбомом большого формата в потертом переплете. Громадный, будто чемодан, он к тому же, чтобы не раскрываться, был перетянут ремнем. Бывший казачий сотник опустил альбом на стол и, положив на него коричневую руку с золотым кольцом на пальце, сказал:
— Тут вся моя жизнь.
Но жизнь давнего горца почему-то начиналась с наклеенного на первую страницу портрета Ататюрка. Портреты первого президента республики висели по всей Турции. В больших магазинах и маленьких темных лавочках, в фойе кинотеатров и на стенах кофеен, в кондитерских с восточными сластями и в сапожных мастерских. В республике сменилось немало президентов, но изображения всюду были только первого. Его портрет помещался и на плакатах самых различных партий. В Турции шла шумная перевыборная кампания — и фотография Ататюрка соседствовала то с белой изящной лошадкой, то с пятью направляемыми в разные стороны стрелами, то с курчавым барашком, тоже беленьким на красном фоне, — эмблемами партий, борющихся за места в Великом национальном собрании.
Альбом Гаджиева открывался портретом Мустафы Кемаля — вероятно, на тот случай, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: теперь Гаджиев — турок. Дальше шли наклеенные на старинные паспарту, покрывшиеся желтизной времени фотографии. На одних картонках в аппарат смотрел жгучими глазами худенький юноша в круглой барашковой шапке. На других — групповых — снимках чинно сидели неулыбчивые женщины в черном и стояли за ними усатые мужчины в рубашках с застегнутыми до подбородка воротами, подпоясанные кавказскими ремешками с серебряным набором. На паспарту одной из карточек тучнела витиевато написанная фамилия фотографа и значилось: «г. Владикавказъ». Еще там была фотография: два молодых человека в папахах, откинув полы плечистых бурок, устрашающе сжимали ручки висящих на поясах кинжалов. Потом на отдельном листе сам Гаджиев.
Тут его уже можно было признать. Он в черной черкеске, с крестами на груди, с застывшим свирепым взором.
Медленно перелистывая ставшие на углах янтарными альбомные страницы, старик пояснял:
— Мать моя и сестра… Старший брат Муса… Это вот я. Первый раз тогда в город приехал. Тут с кунаком снялись… Это уж в Петрограде. На Невском проспекте фотография на крыше была. С южного фронта я тогда приехал.
Но главный козырь следовал дальше.
Перевернув еще пару страниц, старик даже несколько отстранился от стола, давая нам возможность получше рассмотреть то, что было в альбоме, и ожидая, какое это на нас произведет впечатление.
Во всю ширину листа была аккуратно наклеена продолговатая журнальная вырезка. Хорошо сохранившийся оттиск на гладкой бумаге изображал Николая II, снявшегося летним днем в Царском Селе с личной охраной на фоне колоннады Александровского дворца. Между царем и дядькой-матросом нетвердо стоял на ногах наследник, одетый в матросочку и поддерживаемый (это было заметно и на снимке) дядькой. Справа и слева от них, выстроившись в ряд и замерев, смотрели в аппарат охранники в черкесках и кавказских шапках, всем своим видом давая понять, что готовы умереть за государя-императора. Слева от царя находился наш утренний гость.
— Когда снимались, — сказал старик, — его величество сам мне велел: становись сюда, сотник Гаджиев.
— А где же сама фотография, оригинал? — спросил я.
Он горестно вздохнул.
— Продал я. В Париже продал. В двадцать третьем году, когда бедствовал. Русский редактор купил. У меня вот только это и осталось.
Меж тем возникла доля сомнения. Давно было известно, многие из бежавших на Запад эмигрантов старались превзойти один другого, доказывая свою близость к царскому двору. К таким за границей на некоторое время возник интерес. Им становилось легче прожить. Возможно, и сотник Гаджиев лишь выдавал себя за приближенного к царской особе. Но нет, пожалуй, все было правдой. Ведь альбом, принесенный в наш номер, был семейным.
Мы перелистывали страницы. Хроника жизни казачьего офицера неожиданно обрывалась на той печатной фотографии и возобновлялась лишь в период пребывания его в Париже. В двадцатых годах бывший сотник выступал на арене цирка.
— Я ведь джигит еще какой был, — похвастался он. — Красную черкеску надевал. Кинжал в серебре. Публика платки кидала. Я все с ходу зубами поднимал, и шапка не падала. Весь Париж мне в ладоши хлопал. Было…
Имелась в альбоме фотография: Гаджиев стоял рядом с поджарым конем. Конь в казацком седле. За ними полукруглые ряды цирковых кресел. Рядом на странице оказалась наклеенной полинялая крышка от папирос «Казбек». Знакомый силуэт мчащегося во весь опор всадника на фоне гор со снежными вершинами.
— Откуда это у вас?
— Один русский дал. Ваш. Я же тогда на афише писался Мурат Казбек. Так, для французской публики. Они ведь считали: Кавказ — значит, дикий. Им нравилось. Ну, он мне и отдал коробку, а я уж сюда, на память о доме.
Мы с Николаем Николаевичем промолчали.
Далек был дом Гаджиева от номера турецкой гостиницы.
Перевернули страницу. На следующей был помещен снимок: у разрисованного узорами щита стояла молодая женщина в цирковом костюме с распавшимися по оголенным плечам длинными волосами. Над ее головой, вкривь и вкось впившиеся в щит, блестели кинжальные ножи.
— Моя жена это. Русская. Из Одессы. С матерью в Париж приехала. Тут еще девица, — хрипел старик. — Я потом на ней женился. Моложе меня на тридцать с лишним. Ничего, давно живем.
Метание ножей в мишень, перед которой стоит живой человек, — давно запрещенный в нашем цирке один из «смертных» номеров. Мастерство бросающего ножи тут состоит в том, чтобы всадить их в щит как можно ближе к голове живой мишени. Тут всегда риск и бесстрашие партнерши, но главное — игра на нервах публики.
— Я не сразу в цирк пошел, когда погоны снял, — продолжал рассказывать Гаджиев. — Сперва в Константинополе, в порту, с одним компаньоном тараканьи бега открыли. Прогорели с этими тараканами. Ничего не вышло. Балаган с молотка пошел.
Мы засмеялись. Припомнились забавные стамбульские сцены, описанные Алексеем Толстым в его знаменитом «Ибикусе». Объяснили причину смеха старику. Тот убежденно сказал:
— Это он про меня писал.
Но тараканьи бега и цирк Гаджиева меня интересовали мало. Сколько я живу сознательно, столько увлекаюсь временем революции. Стоит мне попасть на Дворцовую площадь или оказаться в залах Эрмитажа, окна которых смотрят на Александрийский столп, всегда пытаюсь увидеть и понять движение судеб и мысли тех, кто был здесь в историческую октябрьскую ночь по обе стороны баррикады из сложенных на площади поленьев для отопления дворца.
Всякий живой свидетель тех потрясших мир дней в Петрограде всегда вызывал во мне необоримое любопытство.
Я спросил бывшего сотника, что он делал после того, как был взят Зимний, какая одиссея привела его в Галлиполи.
— Дворец взяли, — прохрипел он. — Нас повели по Миллионной улице. Там выстроили. Каждого десятого матросы расстреляли. Я был тогда на фланге. Остался жив.
Это была застарелая белогвардейская басня о зверствах большевиков. Давняя глупая брехня.
— На Миллионной никого не расстреливали, — сказал я. — Министров увели в Петропавловскую крепость. Юнкеров отпустили. Женский батальон сам разбрелся. Вас тоже должны были отпустить.
Гаджиев быстро взглянул на меня, словно удивился тому, откуда я мог знать, что происходило так давно возле Зимнего дворца. Поняв, что уличен в неправде, торопливо заговорил:
— Сперва стреляли. Потом приехал какой-то на автомобиле, не велел стрелять. Нас в Павловские казармы повели. Знаешь, на площади?
— Знаю. Марсово поле. Ну, а дальше?
— Дальше?
Он чуть подумал.
— Дальше нас, инородцев, отпустили по домам. Даже кинжалов не отобрали. Только огнестрельное.
Помолчал, потом продолжал:
— Я домой не поехал. На юге вступил к генералу Каледину в части.
— Обманули, значит? — бросил Николай Николаевич.
— Обманул, — кивнул старик. — Против вас пошел воевать. Под Царицыном мы вашего Буденного разбили.
Мы молчали. Ждали дальнейшего и дождались.
— Потом он нас разбил. — Гаджиев захлопнул альбом, с какой-то даже лихостью продолжал: — Ох и удирали мы! Пригодилось, что я джигит. Как увидел, что все, — удрал, перекрестился. Фляга у меня со спиртом была. Я ее всю до дна выпил. С тех пор стал пить. Раньше в рот не брал, а тут всегда пьяный. Ох и дрался пьяный… Отчаянно! — Снова помолчал. — Потом пять лет в Галлиполи. Там было не пить — с ума сойти… Я и Деникина… Всех знал.
— А Шкуро?
— Как же не знал. Я с ним водки столько выпил.
— Какой он был? — поинтересовался дотошный Николай Николаевич.
— Какой?! Генерал?! — Он приглушенно рассмеялся. — Какой был? Такой же бандит, как и я.
Признаться, нас поразило этакое признание. Впрочем, решил я про себя, откровение было деланным, несколько актерским и, наверное, провозглашалось не впервые. А Гаджиев теперь уже разговорился.
— Мы ведь тогда почти до Москвы дошли. Колокольный звон слышали.
Это тоже было из области сказочных представлений. Я поспешил урезонить старика.
— Не могли слышать колоколов. Дошли вы только до Тулы. Оттуда московского звона не слыхать.
Гаджиев снова взглянул на меня из-под сдвинувшихся у переносицы седых бровей, подумав, согласился:
— Может, это в Туле звонили.
— И в Туле не могли звонить. Тула была большевистской. На ней ваш поход и окончился.
Старик решил уклониться в сторону.
— Мы бы дошли до Москвы, — сказал он. — Нас англичане с французами подвели. Не доставили зимнего обмундирования.
Но мне не хотелось оставлять его в этом, пусть и зыбком, убеждении.
— Возможно. Ну, а как же Красная Армия, голодная, полубосая, вас погнала? У нее за спиной никаких англичан не было.
Гаджиев как-то сник. От бравады не осталось и помина.
— Не знаю как, — пожал он плечами. — После Галлиполи мои товарищи кто куда. Я себе сказал: не буду больше воевать. Понял — против России нельзя воевать.
— Поздно понял.
Он молча кивнул.
Вежливый Николай Николаевич спросил:
— Говорите — пили. Как же ножи кидали, не боялись? Да еще в свою невесту?
— Тогда я не пил, — помотал головой старик. — Я в Париже деньги зарабатывал. Французы платили мне. Придирались. Русский, беспаспортный да еще кавказец — не человек для них. А насчет того, как ножи кидал?.. Ты не смотри, что мне скоро девяносто. Давай острый нож, клади в угол папиросу на пол, вдоль рассеку.
Он вытянул вперед смуглую, сухую, но еще, по-видимому, и в самом деле достаточно крепкую руку. Растопырив пальцы, пошевелил ими и затем сжал в плотный кулак, и я воочию увидел, как когда-то его рука сжимала эфес казацкой сабли. Я смотрел на руку Гаджиева и с трудом верил в то, что нахожусь в Турции, в номере анкарского отеля, и мирно разговариваю с человеком, встречи с которым не мог бы представить себе, даже напрягая воображение. Ведь мы говорили с белогвардейским головорезом, каких я видел еще в немых кинофильмах и с детства привык ненавидеть.
И вот… Должен признаться, ловил себя на том, что не чувствовал сейчас ненависти к этому слуге монарха, а потом — врагу взявшего власть народа. Давность событий, уже покрытых флером легенды, и возраст Гаджиева (все-таки девяносто!) лишали горячих эмоций.
Ножа у нас не было, да и папиросы тоже. Оба мы тут сошлись некурящие. Гаджиев разжал руку, на миг будто ушел в себя.
— Я же горец, — проговорил он. — Стрелял — беркуту в глаз на лету попадал. Не верите?..
Глаза забегали с одного из нас на другого. Он будто боялся, что мы ему не поверим. Потупясь, сказал:
— Когда эта война шла, я думал, ведь ненавижу вас, а сам только и надеялся, чтобы не поддались немцам! Молодцы, что не поддались.
Потом вдруг спросил:
— Если бы я в Россию приехал, расстреляли бы?
— За то, что воевал, нет, а так за что?
Не отрывая взгляда от стола, кивнул:
— Может, и было за что.
Стягивая ремнем тяжелый свой альбом, как бы размышляя вслух, продолжал:
— Да куда мне, зачем? Никого моих нет… Только вот бы поглядеть, как там сейчас.
— На Кавказе люди долго живут, — заметил Николай Николаевич.
Старик продолжал возиться с альбомом.
— Нет. Все равно никто в России Мишку Гаджиева не помнит. Турок я теперь. Все мои турки. Внуки и слова по-русски не знают, хоть и жена русская.
И вдруг, словно о чем-то вспомнив, сказал:
— Турция хорошая. Это ее Англия против России науськивала.
Но это было уже из области политики, и вообще настала пора кончать затянувшийся разговор. Нас ждали внизу. Поднявшись и взяв свой альбом со стола, старик просительно проговорил:
— Дайте на память что-нибудь русское.
У меня был юбилейный рубль, отчеканенный в память победы над гитлеровцами. Я протянул его Гаджиеву, пояснив, что в образе солдата с ребенком на руках изображен берлинский монумент. Глаза старика заблестели. Он ловко вертел монету, рассматривая ее с обеих сторон и с ребра, потом сдавленно, кажется, и в самом деле растроганно, выговорил:
— Русский рубль… Серебряный. Ой, спасибо!.. Такой подарок!.. Ой, моя голова! Спасибо, люди!.. Никому не отдам. В гроб велю с собой положить.
Глаза его сделались влажными. Старый бесстрашный черкес, зажившийся на чужбине осколок далекого прошлого, лил слезу, радуясь монете с навсегда потерянной для него русской земли. Вряд ли это были слезы раскаяния, скорее слезы ничем не восполнимой утраты.
Сжимая юбилейный рубль в кулаке, держа под мышкой тяжелый альбом, он спустился впереди нас по лестнице и, не задерживаясь, вышел на улицу.
Больше мы Гаджиева не видели.
Вот и весь невыдуманный рассказ. Мыслимая ли встреча? Посудите сами, разве не фантастика?
ВЕНГРИЯ ДВАЖДЫ В ЖИЗНИ
Поезд «Москва — Будапешт», изрядно поюлив в ущельях кудрявых гор Закарпатья, миновав Ужгород и пограничную станцию Чоп, к вечеру вторых суток добрался до Дебрецена.
Сегодняшний Дебрецен чист, уютен, в двух шагах от центра чуть сонливо зелен.
Стоял август — пора некоторого затишья после вступительных экзаменов и начала занятий. И все же цветочно-линейный партер перед университетом кишел молодежью.
Эти шумные, уверенные в себе ребята — еще бы, ведь они уже зачислены в студенты! — родились лет через десять после того, как на венгерской земле смолкли пушечные залпы. Да, ничто здесь, в Дебрецене, не напоминало а войне. Ни ярко одетые девушки, ни раскрашенные скамейки меж усаженных розами газонов, ни накрахмаленные цветные скатерти на столиках под бордовыми тентами кафе.
Да была ли уж здесь война? Горели ли пакгаузы и взлетали в воздух скрюченные рельсы? Прятались ли по подвалам и бункерам насмерть перепуганные женщины? Шло ли здесь одно из самых последних и жестоких сопротивлений силе, которой уже ничто не могло противостоять?
Трудным было начало той военной зимы. Трагическим для гражданского населения втянутой в фашистский омут маленькой страны, на редкость тяжелым для бойцов, пришедших сюда от стен Курска и Сталинграда, тех бывалых, обстрелянных солдат, которым уже виделось победное утро. Горечь утраты товарища была еще печальнее, чем в то время, когда решался вопрос, быть или не быть Советской родине.
Сражение за освобождение Венгрии стало затяжным. Тот, кому пришлось воевать здесь на рубеже последних двух военных лет, никогда не забудет сырых и холодных месяцев долгого топтания у стен упрямо оборонявшегося Будапешта, в подвалах которого страдали сотни тысяч несчастных горожан, самым бесчеловечным образом обреченных немецким командованием на голодную гибель.
Жителям венгерской равнины, можно сказать, повезло. Тишина на востоке Венгрии наступила быстро. Страхи ушли. На освобожденной земле понемногу налаживалась жизнь. Но Будапешт и тех, кто остался в нем, ждали нестерпимые муки.
Странно, но теперь, в звенящем летними днями Дебрецене, мне казалось, что я один помню то далекое время. Да и неудивительно. Ведь даже людям с серебром в волосах, кого я встречал на дебреценских улицах, в зиму сорок четвертого — сорок пятого едва ли было пятнадцать.
Ну и очень хорошо. Хорошо, что на земле мир и гудящие в синем безоблачном небе самолеты никому не несут на своих крыльях смерть, а стены стройных новых домов стоят прочно, не собираясь обрушиваться. Хорошо, что зеленеет трава и цветут цветы на местах давно засыпанных воронок. Отлично! Может быть, и не нужно стариковских воспоминаний, хотя бы и овеянных героикой? Забыть, все забыть!
Но нет. Чтобы не вспыхнул вновь огонь, уничтожающий на своем пути все живое, не разгорелся, не распространился снова, нельзя забывать свирепость языков пламени, которое было потушено ценой невосполнимых жертв.
Нет, невозможно забыть о тяжелом и одновременно великом прошлом. Упрямая память не дает предать тех, чьему мужеству обязана преображенная земля тишиной ночей и мирными утренними рассветами.
Из Дебрецена великолепный экспресс — состав из полных света вагонов — стремительно несется к Будапешту. Испытываю не видимое ни едущей со мной дочерью, ни соседями по купе волнение. Предстоит встреча с далекой военной молодостью. Будапешт, разумеется, не узнает меня. А что помню о нем я?
Покидаем вагон и идем с Ириной чего-нибудь попить. Просторный бар-буфет на колесах торгует венгерскими сосисками, пивом множества марок, соками. Вдоль стен вагона — удобная стойка. Хочешь — оставайся на ногах, хочешь — устраивайся на высоком стуле. Берет досада, что до такого еще не додумались наши железнодорожные нарпитовцы.
Я сижу против широкого зеркального окна. За стеклом веером проплывают ухоженные поля. Вдали цветными жучками, поблескивая на солнце, бегут машины по невидимому отсюда полотну шоссе. Нашелся собеседник — крепко сколоченный пожилой мужчина с дотемна загорелым лицом, на котором белой щеточкой топорщатся аккуратно подстриженные усы. Он вполне сносно говорит по-русски и рад случайному знакомству. Выясняется, что воевал в тех же местах, где я. Понятно, мы находились по разные стороны, и он торопится сообщить, что был шофером. Украинец, от рождения живущий в Венгрии. Военного прошлого мы не уточняем. Обстановка не располагает припоминать подробности. Ему этого, видно, не хочется. Я не считаю нужным. Говорим о детях. У собеседника два сына. Один пошел по пути отца — автомеханик в Дебрецене, другой офицер — служит в Будапеште. В гости к нему — младшему — сейчас он и спешит. Мы говорим о жизни сегодня. Ему, как видно, нет оснований ее хулить. Пьем отличное пиво. Мягко посипывает воздух, когда с маленьких темных бутылочек слетают пробки. Поезд без остановки проходит небольшую станцию с трудным венгерским названием. Дорога мне незнакома. Во многих краях страны пришлось побывать более четверти века назад, но здесь не был. Да если и был бы — вряд ли бы признал, что сейчас увидел. Минуем большой завод. Высокий бетонный забор с кричащими трафаретами рекламных надписей. Светлые стены корпусов и какие-то башни с лабиринтом сверкающих на солнце серебристых труб. Августовское синее небо густеет, и огромные решетчатые стекла цехов готовятся вспыхнуть, отражая закат. Как не похожа эта предвечерняя картина на знакомую мне — ту, когда покрытые сажей пожаров корпуса заводов с развороченными фугасками крышами и стенами, избитыми снарядами, мертво глядели на нас с окраин венгерских заводов.
Я смотрю в окно. Вслед за заводом разворачивается ландшафт небольшого городка. Киоски, полные мелочей, машины, парочки на улицах, афиши боевиков, кирпичная стена с рекламой кока-колы, а я вижу безлюдные улицы, обуглившиеся стволы деревьев, помятые и побитые корпуса пятнистых машин, сброшенные взрывной волной вывески, поваленные столбы, настежь растворенные окна пустых домов с сорванными ставнями. Я вижу бледных, испуганно глядящих детей, которым некуда было уйти, и исхудалых, готовых ко всему пленных солдат-мадьяр в шинелях, сделавшихся из желто-зеленых грязно-бурыми.
Воспоминания давно пережитого не оставляют меня и здесь, в сияющем пластиком и никелем, мерно покачивающемся вагоне-баре, в поезде, стремительно несущемся в прекрасный Будапешт, а тогда еще вражескую венгерскую столицу, в которую нам пришлось входить не с парадного подъезда.
Позади было многое. Черные руины Сталинграда, среди которых и старожил с трудом отыскал бы место, где был его дом. Весенний и солнечный, вдруг ставший далеким тылом Крым с еще не сорванными плакатами «Засевайте землю, а немецко-румынское оружие защитит вашу работу!». Позади были круглые разбитые стены Севастопольской панорамы, пустой, как гигантская каменная кастрюля без крышки, и памятник Тотлебену, без головы, с насквозь пробитым осколками мундиром. Позади был Днепр со взорванными фермами моста и беспомощно торчащими из воды высокими, как башни, быками. Позади оставались поверженные Яссы, и развалины того, что когда-то звалось городом Плоешти, и тучные бескрайние виноградники Румынии, которые мы проскочили вслед за танками и усаженной на машины пехотой. Позади был и поразивший нас, несмотря на войну полный товаров, совсем не военный Бухарест, города Клуж, Орад, Тимишоара, которым сказочно повезло. В них не было войны — не свистели бомбы, не разрывались мины и, кажется, даже на день не закрывались киношки, ресторанчики, бары и прочие увеселительные заведения.
Позади была и темноглазая девчонка на крылечке неказистого дома одной из румынских деревень. Устроившись на лесенке со стопкой учебников, она деловито, с каким-то упоением вырывала из каждой книжки изображение диктатора Антонеску.
Впереди еще была война. Ради мира и свободы других народов бились и умирали на незнакомой им, теперь уже венгерской земле сибирские и уральские, вятские и рязанские, харьковские и полтавские колхозники и рабочие, ставшие солдатами.
Когда-нибудь я еще постараюсь написать про то, как удивительной осенью сорок четвертого года проходили наши батальоны румынскую землю. Тогда казалось, что военным ненастьям пришел конец. Дальше так и откроется нам дорога на запад. Немцы еще будут огрызаться, но это там, севернее, на территории во всем виноватой Германии, а мы — южные фронты — так и покатим навстречу радующимся освобождению от фашистов странам, пока не встретимся с не спешащими сюда союзниками или славными партизанами Югославии.
Радужным надеждам не пришлось сбыться. В Венгрии советские войска столкнулись с отчаянным и злобным сопротивлением. Кое-как примирившись с потерей Болгарии и Румынии, гитлеровцы решили во что бы то ни стало подольше удержаться на венгерской земле. Печальный опыт катастрофы под Яссами был учтен в оккупированной Венгрии. Теперь впереди, перед собой, немецкое командование выставило мадьярское войско. Ни в одной из освобожденных нашей армией стран не было таких тяжелых и долгих боев, как в Венгрии.
Бессмысленный и безнадежный для врага бой на территории Венгрии длился всю зиму.
Говорят, что солдат не может судить о том, что делается на фронте. Он смотрит из окопа своего взвода. Со мной было иначе. Положение командира небольшой инженерной части фронтового подчинения, которую всякий день могли придать любому из армейских соединений, позволяло мне увидеть на венгерской земле многое.
В моем командирском планшете, кожа которого за три десятилетия высохла и потрескалась, сохранилась карта будапештского участка фронта. Это так называемая военная десятикилометровка. Давно протершаяся на сгибах, она сослужила мне добрую службу, когда на трофейном «опель-кадете» мы с шофером, ефрейтором Амзараковым — низкорослым симпатичным хакасом, — мотались по венгерским дорогам, отыскивая населенные пункты, названия которых не только невозможно выговорить, но и прочитать трудно. Благо карта была наша, русская. Прежде и на Дону приходилось пользоваться трофейными немецкими, наглядно убеждаясь в том, как давно и тщательно готовились гитлеровцы к нападению на СССР.
План Будапешта в центре карты со всеми его пригородами легко закрывается ладонью. Венгрия невелика, и на одном топографическом листе умещается и почти весь текущий через нее Дунай, и находящийся на севере страны Эстергом, и западный Секешфехервар, и голубая гладь озера Балатон. Старая карта испещрена красными птичками — отметками населенных пунктов, по мере того как они занимались Красной Армией. Гуще всего выцветшие карандашные уголки теснятся в юго-западных предместьях столицы. Здесь бои были в особенности упорными. Битва шла за каждый квартал.
Широкая стремительная стрелка исходит от Дуная южнее Будапешта и, охватывая его с востока, острием своим упирается в Дунай наверху карты, где река резко сворачивает на запад. Здесь встретились войска, окружавшие будапештскую группировку с юга и северо-запада. В кольцо попал и старинный Эстергом, город, славящийся гигантским собором — многовековой резиденцией венгерских кардиналов. Собор в общих чертах похож на наш Исаакий, только внутренние его помещения еще вместительнее. Эстергомский собор остался невредим. Советские войска обошли город. Артиллерия пощадила национальную святыню страны.
После соединения войск и завершения окружения исход боев за Будапешт был предрешен, но Гитлер, еще надеявшийся на какое-то не ведомое никому чудо, приказывал осажденным частям сражаться «до последнего солдата». Меньше всего хотелось умирать за Гитлера солдатам-мадьярам, но что остается делать, когда дула офицерских парабеллумов направлены в спину. Венгерские солдаты погибали за то, чтобы дать немцам хоть какую-то передышку. Диктатора Хорти сменил у власти отъявленный фашист Салаши. Новый «спаситель» Венгрии заявил, что всякий, кто бросит оружие, будет уничтожен «патриотами». Обреченные на истребление, поредевшие венгерские батальоны продолжали цепляться за последние рубежи. За Эстергомом, на придунайских высотах, наши артиллеристы и авиация отражали безнадежные атаки немцев, пытавшихся извне пробить брешь в кольце окружения.
Голубонебым августовским днем с высокого венгерского берега смотрю вдаль через полноводный Дунай, По воде бегут ослепительно белые пароходики, тянутся длинные, как сигары, тяжело груженные самоходные баржи. Издали не разобрать, под чьим они флагом. За зелеными пологими берегами дрожащая в летнем мареве беспредельная синь переходит в густую лиловую бесконечность.
Осаждаемый туристами собор, возле которого теснится с десяток зеркально сияющих «икарусов», за моей спиной. В голубом небе ни облачка. В куполе собора растопилось солнце. Здесь, на площадке перед Дунаем, слышится русская и немецкая речь. Сошлись группы — одна наша, другая из ГДР. Обычная здесь мирная картина.
Гид венгерского туристического бюро — расторопный молодой человек с черными усиками, для мадьяра более чем сносно говорящий по-русски, показывает окружившим его советским туристам на противоположный берег реки. Чуть правее многотрубно дымит какой-то завод. У мола возле него принимают продукцию сухогрузы.
— Там уже Чехословакия, — говорит гид.
Загорелый беловолосый парень в рубашке навыпуск, беспрерывно во все стороны щелкавший «ФЭДом», на миг оторвался от видоискателя и, повернув лицо к гиду, спросил:
— Нет, это вы серьезно?
Ему, приехавшему из Орла или Тюмени — города, от которого государственные границы за тридевять земель, — удивительно видеть, что Венгрия кончается вот тут, под ногами, всего в какой-нибудь полусотне километров от столицы, что внизу, за Дунаем, уже другая страна.
В тот далекий памятный мне год четверть века назад мы не очень-то разбирались в границах. Да они, помнится, и были иными. Там, куда смотрит парень, уже направивший свой объектив за Дунай, тогда взламывалась чуть ли не последняя на нашем пути оборонная линия немцев. Гремели, кажется, ни на час не затихавшие пушки. Отгромыхав, куда-то во тьму уходили танки с чумазыми ребятами в черных, металлически лоснящихся комбинезонах. В непроглядное небо, освещая малознакомую картину, взмывали ракеты.
Помню, в такую ночь в штаб части, которой я был временно придан с ротой саперов, привели молоденького, почти мальчика, венгерского солдата. Щурясь от яркого света, он жался к стене, боязливо поглядывая по сторонам.
— Сам сдался, сам пришел, — весело объявил приведший его молоденький парень-сержант с автоматом на груди, сказав это таким тоном, будто привел знакомиться с нами товарища.
Трудно было с мадьярским языком. Переводчиков не хватало. Объяснялись кое-как, при помощи немецкого, который тогда в Венгрии знали хорошо.
Допрос пленного был недолгим. И без его объяснения было ясно, что мобилизован он неделю тому назад. Тоненькая мальчишеская шея торчала из ворота шинели. На лоб сползала венгерская солдатская шапочка из сукна. Солдат-мальчик сообщил все, что он знал, а знал он куда меньше нашего. Пора было его и уводить, но тут на глазах юноши появились слезы. Он вытирал их широким грязным рукавом.
— О чем это он? — недовольно спросил допрашивавший пленного подполковник. — Ничего с ним не будет.
Переводчику с трудом удалось выведать причину подавленности пленного.
— Он плачет, — пожал плечами лейтенант — в прошлом аспирант-историк, — потому что сдался. Он говорит, что ему стыдно. Его товарищи по гимназии воюют, а он не мог, испугался и сдался.
Странно, но тогда, в переполненной военными тесной комнате, никто не засмеялся над нелепым признанием. Смятение юноши, начиненного понятиями о «чести» воина трижды поруганной родины, не было смешным.
— Он еще говорит, — добавил переводчик, — что в Будапеште у него мама и маленькая сестренка и что они голодают в бункере.
— Скажи ему про Ленинград, — крикнул зло кто-то из угла комнаты, но подполковник прекратил объяснения.
— Пускай не страдает. Ничего! — сухо бросил он. — Маму он еще, надо надеяться, увидит, а если его товарищи тоже не будут дураками — и они вернутся домой.
Теперь, в мирный час свободной и суверенной Венгрии, я стоял у металлических перил площадки и думал о том, где же сейчас тот благополучно кончивший свою недолгую войну тотальный солдат. Ему, должно быть, едва за сорок. Помнит ли он сырую ветреную ночь вблизи Дуная и понимает ли, что, бросив тогда немецкий карабин, сделал лучшее, что мог сделать для своей родины?
Растерзанная боевыми действиями последней военной зимы Венгрия делилась на части. На востоке страны уже наступил мир. «Венгерских порядков не ломать и своих не вводить», — гласил приказ советского Верховного командования. Там уже властвовало народное управление. Безземельные крестьяне — недавние нищие батраки — впервые готовились засевать свою землю. Юго-запад еще держали оккупанты, собирая там силы для безумной контратаки.
На низком берегу Дуная, в местечке Каталин, вблизи Эстергома, мы встречали Новый год — последний военный год. Впереди была с нетерпением ожидавшая нас восставшая Словакия. Идти бы и идти без устали вперед, но за нашей спиной еще дышала плененная венгерская столица. В окопах и в укрытиях у ее стен пришлось встречать Новый год сотням стрелковых рот и артиллерийских батарей.
Нет, армия не стояла на месте, ожидая, пока сама по себе падет одна из самых последних немецких крепостей. Один за другим брались с боя маленькие города и местечки. Давно уже сделался надежным тылом Цеглед, чистенький тихий городок с могучим монументом — памятником Кошуту Лайошу, герою венгерской революции прошлого века, бесстрашному гордому борцу за независимость родины. Бородатый и плечистый, с крутой грудью, бронзовый Кошут в высоких сапогах как бы шел к Будапешту, уверенный в том, что дойдет до него — свободного, никому не подвластного.
В январе были заняты славный рабочими традициями Чепель и юго-западные пригороды столицы — Кишпешт, Кобанья, Ракошсентемихаль, трудовой Уйпешт. Бои завязались в промышленных предместьях столицы.
А в селах и местечках на равнине, там, откуда враг был прогнан, очень быстро прошел внушавшийся гитлеровской пропагандой страх населения перед солдатами Красной Армии. Ладно сбитые парни с медалями и нашивками ранений над карманами гимнастерок сидели на кухнях венгерских крестьянских домиков — этих единственно отапливаемых зимой помещениях, ели зеленую маринованную паприку, запивали ее мутным деревенским вином, в свою очередь угощая хозяев свиной тушенкой или баночной колбасой.
С хохотом, удивляясь местным обычаям, ложились спать на перины в холодных комнатах, накрывались сверху такими же пухлыми перинами, оставляя головы в прохладе.
Мы уже не были ни загадочными, ни страшными, да и мадьяр понемногу узнавали. В населенных пунктах отыскались портные и сапожники — преотличные, между прочим, мастера. У офицеров нашлись отрезы, а в мастерских — кожа. Местные ремесленники оказались заваленными заказами. Портные скоро освоились с покроем кителей, принялись за дело и сапожники. Правда, готовые кители все же чем-то смахивали на мадьярские мундиры, а сапоги шились по привычному здесь образцу, с низким подъемом, и надевать их и снимать было сущей мукой.
Работали охотно и ошеломляюще быстро. Просьба была одна — расплачиваться продуктами: крестьяне ничего не продавали. Те, кто не имел своего хозяйства, бедствовали.
Понятно, что блага ближнего тыла доставались в основном подразделениям второго эшелона, тем, кто с техбазами и авторотами располагались на достаточном расстоянии от переднего края. Тем, кто вел бой в пригородных кварталах венгерской столицы, было еще не до портных.
Год на войне, а значит и день, считается за три. Норма эта принята при исчислении стажа офицерам-фронтовикам. Но нет, не совсем так. Бывает, что день на войне равен прожитому году. Недаром же фронтовикам десятилетиями видятся военные сны. Причем памятны не только часы боев — время наивысшего напряжения, но и многие житейские эпизоды военных лет.
Навсегда запомнились мне венгерские домики с плитами в первой комнате, полугородская обстановка, крашеные, с трафаретами, стены и обязательные фотографии в рамках.
Нами долго пугали население. «Красные солдаты несут вам грабеж, насилие, смерть! — во все горло вещала салашистская пропаганда. — Бейтесь, скрывайтесь, бегите!» Но мадьяру-крестьянину некуда было бежать со своей земли, даже если он порой и был обманут гитлеровской брехней. Ему говорили: «Сопротивляйтесь! Доставайте оружие, стреляйте из дверей и окон!» Но нет, население Венгрии в нас не стреляло. Я не запомнил ни одного такого случая. Да, пропаганда сделала свое. Давным-давно осмеянный «бородатый большевик» с ножом в зубах и в мохнатой шапке кое-кому снова показался реальным. Мы входили в поспешно брошенные дома. Большей частью, конечно, это были дома зажиточные.
Помню оставленный впопыхах особняк средней руки в зеленом пригороде Сегеда вблизи Тиссы — дом, в котором нам пришлось временно располагаться. Не нужно было обладать большой проницательностью, чтобы догадаться, что здание принадлежало какому-то венгерскому музыканту. В просторной комнате второго этажа с эркером стоял концертный рояль. На стенах висели фотографии сухощавого седого человека то за дирижерским пультом, то пожимающего руки людям во фраках, то сидящего над нотами с карандашом в руке. Впрочем, музыканта среди нас не было, и брошенные бежавшими хозяевами ноты интересовали нас мало. По всему было видно — хозяева уходили поспешно. На плите оставался кофейник с недопитым кофе и сухарики в плетенке. Полки кладовочки при кухне были заставлены баночками с маринадами. Показалось не только смешным, но даже несколько обидным то, что музыкант — по всему, человек образованный — так позорно бежал, поверив в «варварство» русских.
И вот, кажется, на третий день нашего здесь пребывания он вернулся. Меня вызвали на улицу. Перед крыльцом стоял высокий костлявый пожилой мужчина с длинными полуседыми волосами. За спиной его неуклюже висел рюкзак с какой-то поклажей. Тонкие ноги-палки, вынырнув из брюк «гольф», уходили в широкие походные ботинки. Он был похож на альпиниста-любителя с солидным спортивным стажем. Рядом с ним стояла женщина в очках, опустившая на землю чемодан, и девочка лет пятнадцати с большой сумкой. Обе были тоже в брюках, что для нас тогда было непривычно.
Сомнений не было: передо мной хозяева дома. Объяснялись недолго. На кое-как понятном нам немецком языке музыкант, назвавшийся профессором, объяснил, что просит разрешения занять хотя бы одну комнату в доме, который он с семьей оставил, боясь бомбежки.
Они поселились на втором этаже. Уже на следующий день мы услышали сверху звуки рояля, а в саду слышался смех Милошки — дочки профессора, которую учил русскому наш повар Ушаков.
Хозяин дома оказался известным венгерским пианистом и композитором. Помню наш с ним разговор. Мелькали имена Глазунова, Прокофьева, Шостаковича… При упоминании каждого из них музыкант возводил глаза к потолку и, словно в молитве, поднимал вверх руки. Стараясь быть взаимно любезным, я высказывал свои небольшие познания в области венгерской культуры и называл Листа, Кальмана, венгерские танцы Брамса. Успокоившийся и уже поверивший, что с его семьей ничего не случится, профессор даже сыграл что-то из Прокофьева, стараясь дать нам понять, как любит и ценит русскую музыку.
Четыре пятых Венгрии тогда еще были заняты немецкими войсками, и мадьяры сражались с ними заодно. Мы еще были враждующими армиями, но здесь, на клочке освобожденной венгерской земли, уже рождались иные отношения, и композитор начинал верить — дружба меж далекими друг от друга народами возможна.
Как-то с неизменным моим Амзараковым возвращались мы на нашем «опеле» из штаба фронта, от которого теперь, находясь впереди левого фланга, располагались километрах в двухстах. По дороге, чтобы попросить вскипятить воды для чая и поесть, завернули мы в один из крайних домов лежащего на пути небольшого поселка. Хозяйкой дома оказалась полноватая женщина. И вот, пока я ждал чаю, пока Амзараков распаковывал съестное, я, разглядывая висящие на стене карточки, среди привычных уже усачей в венгерской форме увидел фотографию, странно показавшуюся чем-то знакомой.
На карточке, наклеенной на серое паспарту, была снята семья. Мужчина лет около пятидесяти — седоватый, плечистый, с усиками, — двое детей — мальчик и девочка — и женщина с прямым пробором в волосах и приметно русским лицом. И костюм мужчины, и одежда детей и матери не оставляли у меня сомнения в том, что снимок сделан в Советском Союзе и что на карточке советская семья.
Принесшая чайник хозяйка заметила мое любопытство. Она сняла фотографию со стены и, смахнув пыль, вручила мне, чтобы я мог разглядеть снимок поближе.
Как умела, она объяснила, что это ее брат. Что он был пленным в ту войну, затем сражался на стороне красных и остался в России. Что в Москве он какой-то начальник, а тут снят со своей семьей.
Слово «Москва» она произнесла с нескрываемой гордостью, сверкнув на меня живыми быстрыми глазами. Стало ясным, что это для нее не просто название города, не географическое понятие, нет, что-то большое, значительное. Она не сказала, что ее брат коммунист, но это было очевидно. Темное пятно от фотографии на стене говорило о том, что карточка здесь висит не один и не два года. Висела и в те времена, когда не только получать из Москвы письма, но и иметь там родственника было рискованным.
Я смотрел на московскую семейную фотографию, и теперь уже не имена мировых гениев, роднящих нас с Венгрией, приходили на ум. Нет, совсем иные, еще более близкие имена: Бела Кун, Матэ Залка — прославленный испанский генерал Лукач. С юности знакомые имена писателей: Бела Иллеш и Антал Гидаш. Оказалось, вовсе не так уж далека была от нас Венгрия. Ведь и над ней, пусть и недолгий срок, в 1919 году развевался алый флаг Советской республики.
Десять дней мы с дочерью провели на озере Балатон. «Венгерское море» пользуется большой популярностью. Берега курортного города Шиофока были буквально усеяны прибывшими сюда из всех стран Европы иностранцами. Теплое, как вода в ванной, в которую без меры влили зеленого экстракта, озеро кипело купающимися. Загорелые тела, не оставляя, кажется, и квадратного метра пространства, покрыли пляж, на котором в двадцати шагах от берега выстроились шестнадцатиэтажные стеклобетонные ярусы отелей. Переполненные гостиницы, забитые сотнями автомашин площадки, такое количество баров, кафе, ресторанов, что все их занять, казалось, не представлялось возможным. Больше всего тут было длинногривой рослой молодежи в клешах и шортах всех цветов радуги. Только пляжными костюмами девушки отличались от парней. Последние носили символические плавки, девушки — не менее условные купальники.
Нынешняя молодежь на Западе отдыхает по-своему. Всю ночь не смолкал на улицах курорта рев проносящихся мимо нашего отеля легковых машин. В летних ресторанах и барах радиофицированные квартеты и трио создавали такой шум, на какой вряд ли способен и сошедший с ума духовой оркестр. С наступлением темноты от пристани отвалил теплоход-дансинг. На всех его палубах также гремел неоджаз, звуки которого разносились по всему озеру. Без устали танцевали танго, шейки и еще что-то очень модное.
Таким увидел я нынешний Балатон. Мне не пришлось находиться в этих местах в дни боев за Венгрию. Отсюда немцы, собрав внушительный кулак танковой армии, наносили контрудар по войскам 3-го Украинского фронта. Им тогда удалось потеснить наши части и на какой-то момент снова выйти к Дунаю ниже Будапешта. План фашистского командования состоял в том, чтобы отвлечь силы от венгерской столицы и дать уйти оттуда осажденным частям. Помню, в сводках мелькали отмеченные кружками на моей карте переходящие из рук в руки города: Дунафельдвар, Харцегфальвар, Аба и теперь знакомый мне, такой сейчас развеселый Шиофок. Вблизи его шли решающие судьбу Венгрии танковые бои, о которых сейчас ничто не напоминало ни в городе, ни в его красочных окрестностях.
Мы, фронтовые саперы, оказались тогда на время несколько западнее вышедших к Дунаю немецких войск. Мы находились выше и наводили через незастывшую реку ложный мост. Он должен был обмануть авиацию врага, становясь мишенью. Но наш мост остался невредим. Бомбы, сброшенные с порядочной высоты, и прилетевшие издали снаряды поднимали в Дунае смерчи воды справа и слева от моста на декоративных понтонах, с декоративными танками. Наши артиллерия и «катюши» били через мост на запад и юг. Усталость непрерывно находящихся в бою артиллеристов была нечеловеческой. Помню, мой сосед по расположению, командир батареи, уснул в оставленном хозяевами прибрежном доме. Проснулся он от пронизывающего сквозняка. Слева над спящим в глинобитной стене зияла огромная дыра. В другую дыру, не меньшего размера, над спинкой кровати, гляделось рассветное небо. Попавший в угол дома и пробивший две его стены снаряд разорвался в саду. Ни взрыв, ни то, что посыпалось на счастливчика капитана, не разбудило его. Так спали мы тогда. Теперь музыка бара напротив отеля «Нопфень», где я жил, не давала заснуть до утра.
Вскоре после ликвидации дунайского прорыва был взят Пешт — восточная и основная часть венгерской столицы. В центральные кварталы его автоматчики проникали и через подземные бункера — городские катакомбы. В них, спасаясь от неминуемой гибели, уже несколько недель пряталось голодное население столицы. Потерявшие облик горожан люди с ужасом в глазах встречали пробившихся в подземелья советских саперов и автоматчиков. Страх отступал, как только обитатели бункеров убеждались, что бойцы не воюют с гражданским населением. Пехотинцы рвались вперед, к Дунаю. И тогда в катакомбах стали появляться венгерские солдаты. Иные из них уже были переодеты в штатское. Другие, еще носившие почерневшие обтрепанные шинели, по всей форме вытягивались перед нашими автоматчиками и предъявляли свои солдатские книжки. Находились и такие, что делались проводниками, предупреждая об опасности. Становилось ясным, что мадьяры теперь воюют только из-под палки и при первой возможности ищут способа сдаться. Иным из них такая попытка стоила жизни. Эсэсовцы, собранные в Будапешт, безжалостно расстреливали всех, кого подозревали в желании капитулировать. Белый платок в кармане венгерского солдата был достаточным поводом для расправы.
И все-таки после уличных боев, в которых трудно было распознать — в тылу ли ты или на переднем крае, немцы, оставили Пешт, бежав на высокогорную сторону Дуная, в древнюю Буду. Красавцы мосты, слава Будапешта, были взорваны. Фронт в городе установился по Дунаю.
На левом берегу, в кварталах Пешта, остановились части 2-го Украинского фронта. На правом, в Буде, в ее аристократических особняках и толстостенных готических замках, засели стиснутые со всех сторон немецкие и те мадьярские части, которые фашистам удалось вывести с собой. Новоиспеченный диктатор Салаши и его министры бежали за австрийскую границу и оттуда продолжали взывать к патриотическим чувствам брошенных на истребление «братьев мадьяр».
В Будапешт, под влиянием пропаганды, утверждавшей, что «русские не щадят никого», сбежались тысячи жителей из маленьких городов. Они попали в страшную ловушку. Около миллиона беззащитных женщин, детей и стариков прятались в подвалах и бункерах города. Правители фашистской Венгрии обрекли их на голодную смерть. Не имеющие ни домашнего крова, ни пищи люди жили в импровизированных укрытиях, стащив туда кровати и стулья из брошенных квартир. На керосинках и самодельных очагах готовили жалкое подобие еды. В узких переулках Пешта беспрерывно рвались снаряды. Никто не смел высунуть голову.
Восточная часть города Пешт была окончательно очищена от врага во второй половине января.
Еще в румынском городе Яссы, во время боев (коммерсанты в Румынии торговали и под свист снарядов), я обзавелся тетрадью, в которую решил по возможности записывать то, что увижу. Тетрадь, побывавшая со мной и в югославский Суботице, и в чешском Брно, как это ни удивительно, сохранилась у меня до сих пор. Так вот там, в начале ее, есть торопливая запись, сделанная в дни освобождения Пешта. Пусть простит меня читатель за стиль.
«Будапешт, город, переживший тяжелое бремя страданий.
Многоэтажные, избитые осколками здания в большинстве своем целы, лишь выбиты окна, да кое-где бреши от снарядов. Красавец цепной мост взорван немцами посередине. Беспомощно и печально опустил он свои стальные руки-цепи в ледяную воду Дуная. На Дунае идет перестрелка. По эту сторону — наш передний край. На той стороне — немцы. Здесь, в занятой нами главной части города, уже идет никогда не утихающая жизнь. Бледные, добротно одетые мужчины в шляпах куда-то спешат по улицам. Худенькие большеглазые венгерские мальчишки играют в брошенных подбитых машинах. На лицах встречающихся девушек — боязливые улыбки. На площади, где лежат раздувшиеся трупы артиллерийских лошадей, изможденные женщины пытаются кухонными ножами вырезать из конских туш еще, может быть, не протухшее мясо.
Кое-кто боязливо и жалко просит хлеба у каждого проходящего мимо советского офицера.
В двух-трех кварталах от передовой, в узких улицах, люди в черных длиннополых шинелях и шапках-кастрюльках чинят разбитую снарядом стрелку на рельсах трамвайной линии. Мадьяры — трудолюбивая нация. Эти люди не могут сидеть без работы.
В разбитом Будапеште уже кое-где горит электричество. Восстанавливается водопровод.
Будапешт. Январь 1945».Отлично помню этот зимний, уже теплый день конца января. Мы ехали в Будапешт с севера, из Каталины. Миновали расположенный у подножия горы городок Забеген… Впереди темнел Уйпешт — рабочий район города. Навстречу нам по краю шоссе и обочинам двигалось нечто похожее на демонстрацию без лозунгов и знамен. Люди из освобожденного Будапешта возвращались по домам. Толпа была черной. Во всяком случае, такой она запечатлелась в моей памяти. Женщины катили коляски с маленькими детьми. Тех, кто мог как-то идти сам, вели за руки. Некоторых несли на руках. Мужчины — их было немного — везли какие-то самодельные тележки на колесах от детских велосипедов с погруженным жалким домашним скарбом. Печальная колонна растянулась на километры. Люди шли в деревни, может быть, в города, откуда два месяца назад бежали в столицу, ища там спасения. Иные двигались еще сносно. Были и такие, кого придерживали под руки.
И тут я подумал о родном Ленинграде. Не так уж давно мы, оторванные войной от блокадного города, узнали в подробностях о том, что пережили ленинградцы. Здесь люди сами еще уходили из города, отделавшись голодом и страхом в его подземельях. Сколько же никуда не ушло и уже никогда не сможет уйти из Ленинграда?!
В Ленинграде в начале 1942 года умерла моя мать. В частях морской пехоты у его стен погиб старший брат — инженер с завода «Красная вагранка». Я уже знал, что недосчитаюсь многих оставшихся в городе товарищей. Мы расставались, уверенные в победе, и не обманулись, хотя не представляли себе масштаба горя, какое принесет война.
И все же человеку, видевшему пепел городов на родной земле и смерть боевых товарищей, тем не менее чуждо низменное чувство мести. Так мы были воспитаны нашей советской школой и ленинской Красной Армией, в рядах которой я воевал уже четвертый год. Мне было жаль и только жаль идущих навстречу нашей медленно пробиравшейся машине людей. Они шли, стараясь не смотреть в нашу сторону, хотя уже было ясно — нас не страшились.
Навсегда запомнил я Будапешт тех дней. Непривычные дома его центральных керулетов (районов). Здания с дворами-колодцами, но, в отличие от ленинградских, без арки на улицу. Со всех четырех сторон, по всем этажам опоясанные сплошными балконами. Не знаю, что делалось на асфальтовом дне дворов прежде, но теперь там кучками собирались обитатели дома и варили себе пищу. Делали они это, как кочевники, на кострах, только вместо чанов над огнем висели эмалированные кастрюльки. В Будапеште не было ни газа, ни света.
Мы ночевали в предместье Уйпешт. В маленькой тесной квартире собралось несколько человек. Все они — женщины, пожилой мужчина и старик — были рабочими близлежащих заводов. У нас нашлось чем угостить, да и выпить нашлось. Мы охотно поделились тем, что было, с хозяевами квартиры и гостями-соседями. Уже не помню, каким способом, но получился оживленный разговор, хотя переводчика среди нас не было.
Примерно в середине вечера зашумели и о чем-то горячо заговорили женщины. Возник не спор, скорее темпераментный обмен мнениями. Без особого труда можно было понять: речь шла о том, что русские — славные и добрые ребята и что тому доказательство — вот этот вечер и дружеская беседа с теми, кого еще недавно изображали душегубами. Сидящий у стола старик, почти ничего не выпивший, время от времени поднимал свой сухой жилистый кулак и, грозясь им куда-то в пространство, хрипло восклицал:
— У-у, Гитлер, Хорти Миклош!
И женщины согласно кивали головами и вздыхали.
Меж тем в эту ночь над Уйпештом нависла серьезная опасность уже не военного порядка, но порожденная войной.
По Дунаю с его верховьев шел лед. Весна в том году была необычайно ранней, и реки вскрылись преждевременно. Дойдя до Уйпешта, он не мог пройти дальше. Мешали рухнувшие в воду фермы взорванного немцами железнодорожного моста. Первого из шести тогдашних будапештских мостов. Застряв в переплетах ферм, ледяные глыбы, наплывая, лезли одна на другую и создали непробиваемую для воды плотину. Дунай выше Уйпешта начал подниматься. Вскоре вода вышла из берегов и начала затоплять улицы предместья.
Нас разбудили ночью. Тот самый старик, что посылал проклятья Гитлеру и Хорти, дал понять, что в городе творится неладное. Уйпешт уже не спал. Торопливо надев шинели, мы пошли к Дунаю. Но оказалось, что туда уже прибыли армейские саперы. В темноте, чтобы не привлечь внимания немцев с той стороны реки, на лед доставили изрядное количество тола и заложили запалы. Взрывчатка сделала свое дело. Тишину ночи сотрясали взрывы. В черное небо вместе с огнем взлетели глыбы льда. Похоже было, будто произошло извержение подводного вулкана. Белая дамба рухнула. Вода вместе с обломками льда хлынула по течению и стала отступать с уйпештских улиц. Еще не освобожденная до конца столица и ее предместья Ракошпалота, Палотауфалу, да и совсем недалекий отсюда знаменитый остров Маргит были спасены от наводнения советскими саперами.
Немцы сидели на высоком берегу в Буде. Туда вода вряд ли добралась бы. Ну, а если бы залило Пешт, прекрасное здание парламента, стоящее на самом берегу в центре набережной? Если бы залило сотни прибрежных домов с хлебнувшими горя жителями? Да разве они, те, что вели огонь по венгерской столице с высот левобережья, пожалели бы кого-нибудь?!
Теперь я ходил по улицам Будапешта, пытаясь угадать приметы прошлого. Их не было. Останавливаясь вблизи Дуная, припоминал. Вот по какой-то из перпендикулярно расположенных к реке улочек, из которых видна гористая часть города за Дунаем, мы со старшим лейтенантом Бучиным переходили дорогу. Пули одна за другой просвистели где-то совсем близко около наших фуражек. Когда мы, бросившись к стене, укрылись за выступ дома, из подъезда здания напротив нам крикнул автоматчик:
— Вы что?! — В сердцах он добавил пару крепких словечек. — Война же!.. У них там, на горе, снайперы. Только и ждут таких, как вы.
К счастью для нас с Бучиным, сидящий на берегу в Буде снайпер, видно, оказался не очень-то высокой квалификации.
Сейчас мирный Будапешт был прекрасен. Оживленные, заполненные ярко одетой толпой тротуары. Зелень бульваров и зеркальная синь прудов. Вереницы, нет, ленты плывущих вдоль улиц машин, блистающих лаком всех цветов радуги и раскидывающих во все стороны зайчиков, отраженных никелем радиаторов и бамперов. Тысячи продольных и поперечных стеклянных транспарантов, приглашающих, зовущих, требующих что-то посетить. Город был одновременно суетлив и праздничен.
Но великолепней всего — Дунай. Необыкновенно красив Будапешт по берегам, откуда бы на них ни смотреть. Давно вновь отстроена и горда своими архитектурными, шедеврами Буда. По-прежнему прекрасно торжество готики — величественное здание парламента, а неподалеку ультрасовременный, отлично вписавшийся в череду прибрежных построек новый отель — песня из стекла и бетона. Сам Дунай широк и полноводен. Смотреть на него сверху, с высоты горы Геллерт в Буде, — истинное наслаждение. Гордая река течет здесь на юг, перерезая пополам Венгрию до югославской границы. В ясный солнечный день Дунай и его берега с птичьего полета видны на долгие километры. Плывут пароходы, оставляя за собой белый бурлящий шлейф, тянутся вдоль берегов ГЭС и фабрики, и сливаются с небом далекие просторы земли. На противоположной стороне — шумный, кипучий, деловой Пешт. Счастливая, ласкающая глаз панорама. Сами по себе уходят мысли о прошлом. Мир удивителен и в самом деле, может быть, уже непобедим.
И снова здесь говорливые туристы и восторги, восторги! Восхищение открывшейся красотой на множестве языков.
Милая худенькая девушка Лена — наш будапештский гид и переводчик — объясняет мне, что высящийся на горе монумент со статуей Свободы, поднявшей над головой пальмовую ветвь, работы скульптора Кишфалуди-Штробля, поставлен тут в честь советских войск — освободителей Венгрии от фашизма.
Невдалеке отсюда, внизу, — новый мост, которого не было в те военные времена, и вообще здесь многое иначе. О войне, самой последней, Лена, конечно же, знает только из учебников истории. Она моложе и этого памятника, и, кажется, даже этого нового моста. Ну и прекрасно!
В Будапешт более четверти века назад я еще попал под самый конец войны, в апреле. Стояла цветущая весна. Здесь уже все зазеленело. По городу со скрипом и тарахтеньем ходили старые трамваи. Работали кино и театры. На улице Ракоци были открыты магазины. Появились откуда-то и товары. Они выставлялись в витринах, в которых не было стекол. Вечером Будапешт затихал рано, но днем он жил и находился весь в движении. Улицы были расчищены. Дома кое-как приведены в порядок. Мрачные дни зимы отошли в воспоминания. Горожане отличались находчивостью и сдержанным вниманием. Чувствовалось — Венгрия найдет свое место в будущем мире, завоеванном такой дорогой ценой.
После отдыха в шумном и жарком Шиофоке и малоспасительного купания в Балатоне мы снова в венгерской столице, только теперь живем не в отеле «Волга», вблизи центра, в северо-восточной части города, а на его левобережной стороне, в новом, комфортабельном отеле «Вена».
Отель стоит чуть ниже оживленного шоссе, на развилке двух дальних автотрасс. До блеска накатанные сизые ленты дороги ведут отсюда за границу — в Австрию и Югославию.
На кинжальном острие газона, там, где сходятся две дороги, устремляясь затем к центру Будапешта, высится монумент советского воина с небольшим флагом в руках. Кто это? Вряд ли памятник какому-то фронтовому регулировщику. Возможно — танкист? Танкам, когда они идут колонной, путь указывают флажками специально для того выставляемые «маяки».
Машины на Будапешт и из него проносятся здесь, не снижая хода, со скоростью 80—100 километров в час. Подойти к монументу не так-то просто. Но я все-таки улучил момент и через некоторое время был возле памятника.
На постаменте, служащем опорой поднявшему флаг офицеру, прочитал имя капитана Остапенко.
Так вот это кто! Тот самый капитан Остапенко, который в декабре 1944 года, так же как другой капитан — парламентер советских войск Миклош Штейнмец, вышел с белым флагом навстречу врагу, неся гуманный ультиматум своего командования с предложением прекратить бессмысленное и безнадежное сопротивление и тем сохранить жизнь тысячам солдат окруженных частей и положить конец страданиям гражданского населения Будапешта.
Мне хорошо помнится этот день самого конца декабря. Фронт облетела обжигающая весть. Ультиматум остался без ответа. Оба парламентера убиты. Штейнмеца подпустили близко и расстреляли. Остапенко дошел до вражеского расположения. Капитулировать фашисты отказались, и, когда капитан направился назад, раздался выстрел в спину.
Убийство парламентеров считалось преступлением в истории всех войн. Советским фронтам не оставалось ничего другого, как начать решительный штурм. Немецко-фашистское командование взяло на себя ответственность за ненужные жертвы и разрушения венгерской столицы.
Два капитана — русский и мадьяр — несли мир войскам и избавление от гибели женщинам и детям. Пользующиеся незыблемым правом неприкосновенности, они были подло уничтожены.
Теперь на перекрестке до зеркальности накатанного шоссе, отражаясь в нем, стоит бронзовый капитан Остапенко. Лицом он обращен к Будапешту, за освобождение которого боролся и у стен которого погиб с флагом мира в руках.
Из Будапешта мы уезжали, когда на город уже спустилась густая синь летнего вечера. Состав «Будапешт — Москва» стоял под сводами вокзала. Нам повезло особо. В поезде был вагон до нашего города. На нем белела эмалевая табличка «Будапешт — Ленинград».
Так просто. Садишься в поезд в центре Будапешта, вблизи протекающего через половину Европы Дуная, и на третий день ты дома, на Неве. Погружаешься в тот же вагон в Ленинграде, двое суток, и вот она — столица социалистической Венгрии.
Ничего удивительного и необыкновенного. Студенты-мадьяры учатся в Ленинграде. Я на слух узнаю их речь в театрах и музеях, в магазинах и автобусах. На улицах Будапешта нет-нет да и услышишь — говорят по-русски. Здесь очень любят Райкина, ансамбль Моисеева, театр Образцова и в особенности же советский цирк, который тут, как и повсюду за границей, называют Московским цирком.
Под землей Будапешта стремительно носятся сверкающие вагоны метро. Оно сооружено здесь с помощью советских специалистов. В аптеках наших городов продаются медикаменты, на аккуратной упаковке которых значится: «Будапешт, Венгрия». И то и другое отдано на службу людям. Их здоровью и счастью.
Дружба. Надолго, навсегда! Дорогой ценой, беззаветным героизмом наших солдат была добыта она той далекой зимой, что не давала покоя моей памяти знойным летом, два года назад проведенным на венгерской земле, теперь такой цветущей и благополучной.
Впрочем, так, наверное, и должно быть. Молодежь пусть постигает по книгам уже историческое время. Мы же, для кого военное прошлое и память о товарищах никогда не покроются туманом истории, мы, те, кому посчастливилось… да, да, именно посчастливилось своими глазами увидеть победу правды и справедливости, никогда не забудем того, как трудно она добывалась.
Я был в Венгрии дважды в своей жизни. Не знаю, случится ли быть еще, но мне кажется — я оставил там частицу себя.
БРАТИСЛАВА — ПАМЯТЬ МОЯ Встречи и размышления на берегах Дуная
В эту ночь мне спалось плохо. Вернее сказать, почти не спалось совсем.
Еще бы! Я ехал в Братиславу.
Приближалось утро 9 Мая. Незабываемый день для миллионов и миллионов людей мира. Ну, а для меня, кроме памятного значения великого дня истории, он еще связан с Братиславой.
Три десятилетия назад (теперь уже и более) я был участником боев за освобождение Чехословакии, страны, где прозвучали последние боевые залпы войны. В апреле сорок пятого, в составе инженерных частей 2-го Украинского фронта, входил я в Братиславу с передовыми войсками, которые стремительным рывком взяли словацкую столицу, заставив гитлеровцев бежать из нее так быстро, что при отступлении взорвать они сумели лишь мост через Дунай.
Так случилось, что свой фронтовой путь я окончил в Братиславе. В этом городе, вблизи австрийской и венгерской границ, в ночь на 9 мая я узнал об окончании войны и победе над фашизмом.
Поезд стремительно идет на юго-запад. Мои товарищи (небольшая группа писателей из Москвы и Ленинграда) едут сюда впервые. Они, крепко спят после проводов в гостеприимной Праге. Но мне не до сна.
Тогда, в памятном апреле сорок пятого, мы вошли в Братиславу с северо-запада. Столица Словакии встретила нас настороженно. Безлюдные узкие улицы старого города отпугивали тишиной затворенных ставнями окон. С горы над Дунаем громадой почерневших полуразвалившихся стен и башен мрачно гляделась в воду древняя крепость — замок.
Но так было совсем недолго. Может быть, один-два дня. А затем и сюда пришла радостная и ослепительная победная весна. Зацвели каштаны на улицах. Маленькие братиславские трамваи, поблескивая на солнце чистыми стеклами, забегали вдоль улиц, так деловито и весело позванивая, что, казалось, на свете и не было войны.
А война еще продолжалась. Советские войска пробивались на запад, преодолевая горы и приближаясь к Праге. Немцы еще хозяйничали в Вене — столице первой страны, захваченной Гитлером без выстрела. Бесцеремонно присоединенная к рейху, она обозначалась как Остмарк.
К Остмарку, по «новому порядку», фашистской Германии отошла и правобережная зеленая часть Братиславы — прекрасный, издавна излюбленный горожанами парк, называемый Петржалкой.
В обложенной со всех сторон гитлеровцами стране, объявленной на земле Чехии и Моравии протекторатом, Словакии была пожалована «независимость». Лишенная боеспособной армии и промышленности, со столицей, вплотную упиравшейся в границы рейха, Словакия была не чем иным, как сельскохозяйственной колонией Германии. Кучка продажных политических интриганов «правила» этим государством, о «независимости» которого красноречиво говорило то, что его главная площадь, где с четырнадцатого века высилась Старая ратуша, получила наименование площади Адольфа Гитлера.
В апреле 1945 года Братислава была уже свободна. С гитлеровцами бежали и ее жалкие министры. Со стен домов срывались таблички с недолго провисевшими в городе новыми названиями улиц. Словацкий народ, давно начавший в горах партизанскую войну, снова становился хозяином своей древней столицы.
Двигающиеся по правую сторону Дуная войска Красной Армии освободили и Петржалку. Петржалка, как и прежде, опять сделалась южной частью Братиславы. Но с левого берега на нее можно было только глядеть. Конечно, Дунай можно переплыть на пароходике или лодке. Однако уходя, немцы постарались увести с собой все суда. А лодка? Легко ли пересечь на лодке быстрый Дунай?! Тут требуется немало умения да и смелости.
Взорванный гитлеровцами, единственный здесь мост печально чернел исковерканными фермами в восточном краю, города. И можно было понять собиравшихся на набережной жителей Братиславы, которые с надеждой и нетерпением наблюдали за работой фронтовых саперов, начавших немедленно после освобождения города наводить мост. Горожане, чем только могли, стремились помочь саперам.
А потом по опробованному тяжелым транспортом мосту, сперва робко, а затем смелей и смелей, на противоположный берег Дуная пошли и пошли жители города, много лет лишь видевшие кудрявый бор по ту сторону реки. Сколько благодарных слов слышали тогда мы — офицеры и солдаты расквартированных здесь инженерных частей.
Прекрасный тенистый парк правобережья всегда был неотъемлемой частью Братиславы — местом отдыха жителей старого города. И в то же время многострадальной его землей. Во времена Австро-Венгерской империи принадлежала она венгерской стороне, впрочем, как и сама дышащая древней славянской культурой Братислава. По Версальскому договору правый берег стал территорией Чехословакии. Горожане вновь получили право на владение зеленой частью Братиславы, неотъемлемой от своей скромной столицы. Гитлер лишил город его парковой заречной части. Братиславцы утратили возможность дышать воздухом рощи и, отдыхая здесь по вечерам, любоваться панорамой древнего города.
Нетрудно было понять благодарность горожан словацкой столицы саперам в те весенние апрельские дни.
Фронт удалялся от Братиславы на запад, но нам, инженерным войскам, еще хватало дела.
А севернее, в Германии, уже был взят Берлин. Мощным артиллерийским салютом отозвалось это событие в нашем штабном «Телефункене». Советские солдаты в Берлине!.. Сбылось.
Поезд мчится меж гор. Скоро, скоро Братислава. Воспоминания о днях, проведенных в ней, волнами наплывают на меня.
После Первого мая, после приказа по войскам о взятии столицы фашистского рейха мы ждали вести об окончании войны. Ждали с нетерпением, на какое были только способны солдаты и командиры, проведшие на фронте по четыре года, пришедшие сюда, в незнакомую славянскую страну, от стен Сталинграда. Наступление наших войск было столь стремительным, что о городах и местечках, взятых нашим же фронтом, мы узнавали из приказов, переданных по радио Москвой. И от орудийных залпов родины сотрясался трофейный приемник.
Седьмого мая вечером — это я хорошо помню — возвращались мы в Братиславу противоположным берегом Дуная. Ездили в часть, расположенную по ту его сторону. Наша маленькая машина уже шла по городу, когда я заметил, что на улицах творится что-то необычное. Люди толпами стояли на перекрестках, размахивали руками, что-то кричали, обнимали друг друга, пели. Звонили колокола. На площади в центре Братиславы мы увидели людей, качавших советского офицера. Над толпой взлетал в воздух молоденький лейтенант. Свернули на улицу, где располагалась наша часть. Навстречу солдаты. Остановили машину.
— Товарищ капитан, товарищ капитан! Война кончилась. Слышали?
Я выскочил из машины.
— Откуда знаете?.. Кто объявил?
— Да как же!.. Вон колокола бьют, все цивильные навеселе.
Несколько словаков подошли к нам? Вид у них был радостный и возбужденный до крайности. Один держал бутылку вина.
— Нех жие Советский зваз!.. Войне конец!
— То правда, правда, пан капитан, вот.
Мне протянули побывавший уже в руках экстренный выпуск местной газеты.
Несмотря на слабые познания в словацком, я сумел разобрать информацию, набранную крупным шрифтом. Там было сказано, что под Гамбургом гитлеровский фельдмаршал Иодль подписал акт о капитуляции немецкой армии и что при этом присутствовал наш представитель — советский генерал такой-то.
Информация была плохо понятной. Уж очень странно. Почему под Гамбургом… Да и фамилия нашего генерала была незнакомой. Я вернул газету притихшим словакам. Солдатам сказал:
— Это неофициальное сообщение, товарищи, подождем радио.
Возле дома, где находился штаб, встретил меня мой тогдашний сосед пан Новак, к которому меньше всего подходило слово «пан». Невысокий ухоженный старичок, пенсионер-столяр, ничего не скопивший за всю свою трудовую жизнь, обычно он, деликатно постучавшись, приходил ко мне по вечерам, пил пиво, жаловался на ревматизм и ругательски поносил Гитлера.
— Ах, собака, ах, собака! — расстраивался пан Новак и стучал по столу жилистым кулаком.
Потом за ним приходила жена, строгая, еще нестарая женщина, и, извинившись за мужа, уводила домой разошедшегося столяра. На прощание пан Новак снимал и надевал поношенную шляпу, кланялся и благодарил:
— Вельми, вельми дякую…
В тот день он, едва ли не танцуя на своих ревматических ногах, встретил меня у нашего дома.
— Ура, пан капитан, конец войны!
Пришлось разочаровать и соседа. Пан Новак все понял, сперва было даже немного расстроился, но потом заявил:
— Правильно. Нужно верить Москве. Я верю только Москве!
А Москва о конце войны ничего не говорила. В одиннадцать тридцать по московскому времени, как всегда, передавали известия. Сначала сводка, потом сообщения по Советскому Союзу. Мы молча разошлись из штаба по своим квартирам. Никаких сообщений об окончании войны и капитуляции немцев.
Не было сообщений о том и на следующий день — восьмого. Война в Чехословакии продолжалась. Меня вызвали для получения нового приказа в штаб бригады, располагавшийся севернее Братиславы. В окнах домиков, где разместились отделы, были выставлены приемники.
— С утра ждем сообщений из Москвы. Ничего нет, — говорили штабные.
Домой в Братиславу я вернулся поздно. И опять около полуночи, собравшись у приемника, мы напряженно вслушивались в голос Москвы, ожидая счастливой вести. И снова ее не услышали. Хорошо знакомый голос диктора называл немецкие города и чешские местечки. Перечислял трофеи наших войск и номера разбитых немецких полков — война еще шла рядом с Братиславой.
И наши саперы дрались, сопровождая пехоту, и каждый день, вместе со сведениями о продвижении вперед, в штаб доставлялась сводка о потерях, об убитых и раненых.
Ночью меня разбудил настойчивый звонок. Привычный к неожиданным подъемам, я набросил китель и пошел отворять дверь. За ней стоял наш помпотех старший лейтенант Бучин, из-за его широкой спины выглядывали двое штабных писарей. Круглое лицо техника, возбужденное и раскрасневшееся, сияло счастьем. Большой, нескладный, он ввалился в переднюю с бутылками шампанского, которые, как дрова, держал в охапке.
— Капитан, капитан, — гремел Бучин. — Кончилась война, все!.. Сейчас Сталин по радио… Завтра праздник, то есть уже сегодня… Ура!
Грохнув бутылки на стол, он обнял меня своими могучими руками.
— Отметим, командир!.. Выпьем. Ведь такое дело… Победа!..
Писари уже откупоривали бутылки. Летела на пол серебряная фольга. Небольшая буржуазная квартира, хозяева которой выехали из города, опасаясь бомбежки, огласилась коротким залпом пробок открываемого шампанского. Оно успело согреться и потому пенилось, как пиво.
— Кончилась война, все-таки кончилась… — проговорил Бучин.
Глаза техника, считавшегося у нас человеком сдержанным, блестели. Внезапно он умолк. Наверно, думал о далеком Ярославле, где до войны работал на автозаводе, и об оставленном там шестилетием сыне.
— Кончилась! — еще раз повторил техник, и я увидел, как по его лицу со шрамом под глазом быстро пробежали две слезы.
Мы подняли бокалы. За что пить?.. Прежде, если случалось, пили за победу… за окончание войны… за то, чтобы остаться в строю до конца ее… А теперь за что?.. Да, свершилось. То, что где-нибудь в далеком Калаче или Новочеркасске два с лишним года назад было заманчивой мечтой, почти шуткой: «Встретимся в Берлине…», «В шесть часов вечера после войны…», «После войны разберемся…» — сделалось явью.
Кажется, мы еще тогда не поднимали стаканов за мир, хоть он и пришел в ту ночь. Нам было слишком трудно его ощутить. Сколько помню, мы со звоном сдвинули стопки и молча их осушили.
А потом пришло утро победы. Первый ее день. Ко-мне явился сияющий пан Новак. Он принес на тарелке испеченный его женой круглый торт. Пан Новак снял салфетку. На торте какой-то помадкой была сделана надпись: «Виктория». Трудно было понять, из каких запасов умудрилась приготовить этот торт жена столяра.
В квартиру, в наше расположение, в штаб шли и шли люди. Соседи по дому, по улице приходили улыбающиеся, по-праздничному одетые. Из штаба фронта приехали в гости подтянутые, жаждущие повеселиться майоры. Явился и Бучин в сапогах, начищенных до зеркального блеска.
Окна были раскрыты настежь. За ними благоухала братиславская весна 1945 года. Запах цветущих каштанов с тех пор я воспринимаю как дыхание наступившего на земле мира. Кажется, в то утро не было окна в широком обсаженном деревьями дворе, откуда бы не лилась музыка. Далекая и близкая Москва беспрерывно передавала песни и боевые марши. Хотя мы уже не раз слышали победный приказ Верховного Главнокомандующего, но все это было словно удивительным сном, и хотелось слушать еще и еще. По-особенному торжественно звучал в тот день голос диктора Юрия Левитана, кому за военные эти годы приходилось передавать и горькие вести о потерях родных городов, и всколыхнувшие всю страну сообщения о начавшемся наступлении, и сводки о разгроме врага, и вот теперь, в великий день, известие об окончательной победе над врагом.
Около двенадцати часов дня кто-то стал крутить ручки приемника, хотелось знать, что передают другие станции. И вдруг смолк вихрь веселых мотивов, в приемнике послышался взволнованный мужской голос:
«…Говорит Прага!.. Говорит Прага!..»
Диктор вел передачу на русском языке, но делал неправильные ударения во многих словах. «Русские летчики!.. Русские летчики! — слышалось из приемника. — Немцы в течение часа бомбардировали жилые районы Праги, убивая детей и женщин… Эти налеты повторяются! Русские летчики, пошлите ваши самолеты на Прагу. Отгоните немцев. Помогите нам… На улицах Праги идет бой!.. Командир города Праги!»
Этот страстный призыв, произнесенный три раза, словно пригасил солнечные блики на стенах квартиры. Радость была омрачена. Прага еще сражалась. На ее улицах лилась кровь. Обезумевшие гитлеровцы мстили чехам.
Тем временем Братислава ликовала. С Бучиным и офицерами нашей части мы весь день бродили по бурлящему радостью городу. Чуть ли не на каждом шагу нас пытались качать. В части был фотограф, он снимал взбудораженный город и нас на его улицах и аллеях парка. Мне повезло. В моих архивах сохранилась фотолетопись последнего года войны на юге нашего фронта: Румыния, Венгрия, Чехословакия… И вот День Победы.
Солнце, заходя за Дунаем, красным отблеском горело на золотых шпилях башен старого города. Окна в узких улицах были по-прежнему отворены, и чуть ли не за каждым из них пели.
— Немцы в Праге капитулировали! Прага свободна! — сообщил встретивший нас на улице пан Новак. — Москва, Москва сказала! — счастливо выкрикивал он.
Таким был день 9 Мая — последний день войны, которая для меня началась еще в Ленинграде, а кончилась здесь, в далекой от родины Братиславе.
Теперь, через тридцать один год, именно 9 мая, я должен был встретиться с городом, который не мог позабыть. В моем чемодане лежали фотографии праздничной Братиславы тех дней. Но три десятилетия! Половина человеческой жизни. Я уже, разумеется, не тот. А Братислава?
На пустынном в этот ранний утренний час перроне братиславского вокзала нас — небольшую группу литераторов, посланцев Союза писателей СССР, — встречают представители Союза писателей Словакии. Главенствует среди встречающих переводчик, доктор Жабкай.
Располагающей внешности, весьма обаятельный человек, элегантно одетый, в меру полный, но при этом легко двигающийся и обладающий привычкой к сдержанным, красивым жестам, Владимир Эдуардович, как он по-русски нам представился, свободно говорит на нескольких языках и в том числе отлично на нашем.
Мы вступаем на перрон, и Жабкай уже знакомит нас с молодым улыбчивым человеком самого что ни на есть славянского типа — братиславским поэтом поколения тридцатилетних Михаилом Худой, которого доктор Жабкай по праву старшего по-приятельски называет «Мишко», что здесь звучит с ласковой простотой, чем-то средним между нашими «Мишей» и «Мишенькой».
Мои спутники уже ведут оживленную беседу со встретившими нас писателями. Я молча озираюсь по сторонам. Волнующее беспокойное чувство охватывает меня. Может быть, это в какой-то мере сродни тому, что переживает человек, когда он возвращается в родные места, с которыми расставался на десятки лет.
Мы ехали по безлюдным в ранний час улицам столицы Словакии. Я смотрел по сторонам, стараясь увидеть издавна знакомые места. Город был нарядно убран. Обилие витрин ширило гладь намытых тротуаров и мостовых, отражая их в зеркале больших стекол. Флаги, флаги… Повсюду флаги… Трехцветные чехословацкие и наши — красные с золотыми серпом и молотом, они, как легкие изваяния, застыли в утреннем безветрии. Дружно спаренные, ниспадали длинными полотнищами от верхних этажей зданий до их основания. Улицы выглядели по-особому торжественными и нарядными.
Не так-то легко было в украшенных площадях узнать ту Братиславу, что помнилась мне, — город, еще целиком живущий тревогами войны.
В первые минуты нынешнего пребывания здесь я не узнавал, казалось, таких знакомых мне мест. Но ждал с ними встречи и был вознагражден за терпение.
Вот мы и на Дунае. Сколько неприятностей, сколько беспокойства доставили быстротекущие воды Дуная саперам, наводившим здесь мост в апреле 1945 года!
Наплавного моста военного времени давным-давно нет. Слева, ниже по Дунаю, небо заштриховано фермами высокого железнодорожного моста, также восстановленного инженерными частями Советской Армии. Эта работа была произведена значительно позже того, как фронтовые саперные батальоны покинули ставшую мирной словацкую столицу. Обстрелянные части 2-го Украинского фронта ждала Маньчжурия, где они и завершили свой долгий боевой путь.
Доктор Жабкай помещает нас в комфортабельный отель «Девин». Он расположен на набережной, в центральной ее части. Перед зданием гостиницы вытянулась терраса открытого кафе. Нарядные цветные зонты кидают тень на низкие белые столики и изящные и очень удобные плетеные кресла, сделанные в старинном «венском стиле». Звучали бы здесь вальсы Иоганна Штрауса-младшего, и картина далеких лет сделалась бы полной.
Несмотря на ранний час, кафе уже действует и какой-то утренний посетитель сидит за чашечкой кофе, просматривая лежащую перед ним пачку газет.
Мне достается номер с отличным обзором. Внизу — небольшая площадь. Здесь стоянка легковых автомашин. Утреннее, еще не жаркое солнце сияет в полированных крышах лимузинов всех цветов радуги. Площадь пока тиха. Праздничная Братислава лишь просыпается. Изредка пара молодых людей куда-то прошагает через площадь да, взревев прогревающимся мотором, от стоянки откатит «Татра» или «Москвич», кажущийся здесь старым добрым знакомым.
Надо бы распаковать чемодан и располагаться в номере, но мне не до того. Завороженный, я стою у широкого окна. Прямо передо мной в выси зеленого холма, освещенного ранними розовыми лучами, красуется громада крепости. Но, позвольте, где же черные от застарелой копоти замковые стены с окнами-дырами? На холме — словно выстроенное вновь грандиозное здание. Ожили и красуются четыре башни по его углам — три поменьше и одна крупная, краснеют черепичным конусом острые крыши, упираясь в утреннее бледное небо. Старая крепость не потеряла своего величественного вида, но и не пугает нынче мраком прошлого.
С первых минут становится ясно — здесь ценят, любят и сохраняют старину.
Но разве только старину?
Поворачиваю голову к Дунаю и уже не могу оторвать от него взгляда. Через стремительно несущую свои воды реку, со стороны Петржалки, перекинут высотный мост — одно из удивительных творений нашего времени.
Мост, продленный по обоим его берегам метров на сто с лишним, построен без единой опоры. Впрочем, опора, конечно, есть. Ею служит гигантская арка в виде сужающейся кверху буквы «Л». Она упирается в землю у дальнего от меня правого края моста. Арка круто запрокинута назад и на протянутых с верхней ее части в сторону города стальных тросах держит весь гигантский пролет. Это железобетонное сооружение чем-то напоминает человека, сдерживающего могучими руками строптивых коней. Разумеется, сравнение требует некоторой фантазии. И все-таки оно напрашивается, хотя проектировщики о том вряд ли думали. Сверху, в суженной части, арка увенчана конусообразным стеклянным барабаном. Позже я поднимусь туда, чтобы посмотреть на Братиславу с высоты птичьего полета, чего мне не удавалось сделать прежде.
Отсюда хорошо видна и австрийская граница. Слева за рощей Петржалки и новым южным районом начинается Венгрия. Справа — зеленеющая даль австрийских полей. Как радует сегодня мирная картина! Границы нейтральной Австрии и социалистического государства мадьяров спокойно соседствуют в этом, столько раз вспыхивающем войнами, многострадальном крае.
По другую сторону реки — Братислава. Вблизи Дуная — череда черепичных крыш, башенных шпилей и старинных колоколен, меж которых, как претенденты на новые права, возвышаются сияющие стеклом и цветной облицовкой стройные брусья ультрасовременных зданий. И все же, несмотря на плотную застройку, Братислава — город зеленый. За ее окраинами, за господствующим холмом, увенчанным памятником советским воинам-освободителям, начинаются горы Словакии. Сперва тянутся четкой извилистой линией, потом причудливо голубеют вершинами двух видимых перевалов и, наконец, теряются в туманной дымке необозримых далей.
С городской стороны новый мост, прежде чем влить поток несущихся по нему машин в улицы Братиславы, повисает над ее прибрежными кварталами. Здесь пришлось снести немало ветхих построек, иные из которых веками теснились у подножия крепостного холма. Сноску зданий осуществляли с предельной осторожностью, сохраняй все ценное, что было возможно сохранить.
Чтобы, минуя остающиеся справа за съездом с моста старые кварталы, спуститься на машине к набережной, нужно попетлять по асфальту, как по горной дороге. Путь в город с моста и подъем на него построен по принятой ныне системе развязок на автомагистралях, так, чтобы поток транспорта нигде не скрещивался. Далекое прошлое и недавно еще казавшаяся фантастической современность здесь уживаются рядом.
Но все это я увижу позже, когда изрядно поброжу по путаным улочкам старого города, по памятным местам и погляжу на то новое, что веками не снилось старушке Братиславе, той, какой я ее давно узнал. А пока из окна гостиницы я гляжу на легкий росчерк моста, повисшего над дунайскими водами. В обе стороны его на большой скорости летят машины, кажущиеся стремительно пробегающими веселыми цветными жучками.
Наверное, не прошло и часа, как мы вступили на землю словацкой столицы, а уже гуляем по городу.
На площадях, в скверах, на бульварах и набережной, прямо на улицах гремят оркестры. Самые разные. То это хорошо сыгравшиеся профессиональные оркестры пожарных и еще каких-то мужчин в мундирах и шапках-кастрюльках, вероятно полицейских. То усиленно дуют в трубы совсем молодые парни в форме, похожей на гимназическую. Пожалуй, ребята — музыканты из ремесленного училища. А то так просто чистейшая и не особенно-то организованная самодеятельность с самым невероятным набором инструментов. В таких небольших оркестриках, состоящих в основном из мужчин пожилых, скорее всего пенсионеров, аккордеон отлично сочетается со скрипкой, а то и с гитарой. Повсюду зазывно поют флейты, ухают барабаны и звенят металлические тарелки.
Все эти совершенно разные оркестры, от великолепного военного до очень скромного домашнего, объединяет одна, сразу бросившаяся в глаза черта — желание их участников играть. Играть весело и празднично, радуясь чудесному майскому дню и солнцу, которое, ослепляя прохожих, отражается в раструбах старательно начищенной меди и серебра: басов, валторн, труб. Преотличное счастливое настроение играющих передается каждому, кто идет мимо или стоит, слушая их. И хочется улыбаться встречным и радоваться тому, что здесь так охотно и по-своему отмечается этот великий праздник свободных народов.
Сопровождаемые доктором Жабкаем и Михаилом Худой, идем вдоль каменного парапета набережной. Я вглядываюсь в очертания противоположного берега. Без чьей-либо помощи хочу определить место, откуда тянулся тот памятный мне понтонный мост. Но вот кончается гранит набережной. Дальше — чугунная решетка. Ба, она все та же, пережившая десятилетия! Я узнаю своеобразный рисунок ее литья. Вот здесь или, возможно, несколько подальше в мае 1945 года мы снялись на фоне Дуная. Фотография сохранилась. Мы стоим спиной к реке, опершись локтями на верхнюю перекладину решетки. Как всегда очень серьезный шофер Ваня Амзараков, санинструктор Валя Калюжная. Она в платье, хотя в военных сапогах. Как она ждала дня, когда можно будет надеть гражданское платье! (Трудно ли понять?) Ведь ей было всего девятнадцать лет. И вот час пришел. В мае мы разрешили своим девушкам вне службы ходить в штатском. Бог знает когда они успели понашить платьев! И хотя военная форма в те дни давала немало преимуществ, в штатское девушки одевались с превеликим удовольствием и почему-то очень радовались, когда к ним, приняв за своих, обращались по-словацки.
На старом фото — мы все трое с букетиками ландышей в руках. Мы с Амзараковым держим их не очень-то ловко. Уж не помню, откуда взялись цветы. Скорее всего, нам их тут же преподнесли жители Братиславы, которые в те дни дарили цветы советским воинам. Третьим с края на фотографии стою я, еще худощавый и совсем молодой. И еще одно фото, снятое тут же. Наша тройка и два солдата Чехословацкого корпуса. Молодые ребята, в пилотках и форменных мундирах, очень серьезно смотрят в аппарат. Поразительная вещь — и это все помню, как будто было совсем недавно!
Да, мост был здесь, рядом, хотя и не попал на снимок.
И все же я определил место его нахождения. Доктор Жабкай показывает мне на противоположный берег. Там, в память о первом мосте, соединившем отторгнутую землю Чехословакии с Братиславой, установлен камень. Его видно и отсюда, с набережной. Я не ошибся. Мост был наведен здесь.
Никогда я прежде не думал, что этот мост так запомнится старожилам. На меня, труд которого в постройке переправы был лишь частицей общего дела — ведь мы только помогали понтонерам, — теперь смотрели как на избавителя от всех бед в лихую годину. Стоило только моим товарищам заикнуться о том, что я входил в Братиславу с передовыми войсками и в составе своей части осуществлял тут саперные работы по постройке моста, как атмосфера вокруг начинала напоминать далекие победные дни. Наши нынешние друзья — словаки, кажется всех возрастов, — необыкновенно оживлялись. Начинались дружеские возгласы. Откуда-то появлялось чудесное словацкое вино. Поднимались наполненные стаканы.
Во многом тому способствовали мои спутники. Лишь только мы оказывались то ли на официальной встрече, то ли в товарищеской компании, один из них непременно брал слово и рассказывал присутствующим, что я участвовал в освобождении Братиславы и строил здесь первый мост.
— Мост?!
— Тот мост?!
Сразу же раздавались удивленные и восхищенные возгласы и начиналось…
Испытывая от всего этого немалое неудобство, я в конце концов взмолился:
— Прошу вас, прекратите! Я не освободитель Братиславы. Я был офицером, каких сюда в апреле вошло немало. Честное слово, товарищи, мне совестно все это слышать… Ведь этак, чего доброго, я могу вообразить себя Суворовым или Малиновским. Смеетесь вы, что ли?..
Пыл моих коллег несколько поутих, но в нашей группе за мной прочно установилось шутливое «Освободитель Братиславы».
Мы покидаем набережную и расстаемся с доктором Жабкаем, поручающим нас на время симпатичному Мишко. С ним мы еще долго гуляем по праздничным улицам Братиславы, заглядываем в узкие, как коридор, и кривые, как речки, переулки старого города. Все здесь любовно сохраняется и ошеломляет цифрами долголетия построек. Века и века… Все бережно хранится. И вывески магазинов, и сами магазины и магазинчики соответствуют общей картине незапамятной старины. Ничего чужеродного, режущего глаз. Тут не ездят на автомобилях или мотоциклах — только пешком. И начинает казаться, что и люди в старых переулках ходят не так, как ходят по главным широким улицам города, а как-то осторожно, неторопливо, с уважением к старине, которая хранит бездну великих и малых тайн прошлого.
Старая Братислава трогательно охраняется ее нынешними хозяевами. Глядя на ажур высеченных из камня порталов, на окошечки в выемах, будто амбразурах средневековых стен, на затейливые чугунные фонари, невольно думаю о том, что древнему городу повезло уцелеть в жестокой и разрушительной бойне, развязанной фашизмом. Стены вековых построек не рушились от взрывавшихся авиабомб, не пробивались артиллерийскими снарядами. Задачей освобожденной страны было старательно хранить реликвии исторического прошлого. К чести братиславцев, они в том немало преуспели.
Нынче поражает крепость, памятная мне обгорелыми руинами. Грандиозный замок отстроен заново. В стенах его музей и республиканские учреждения. Чехословакия — федерация двух равных республик. Декларация о единстве и равноправии выбита на камне, установленном у крепостных стен. Замок за свою долгую историю не однажды перестраивался. Сейчас воссоздали его в стиле раннего барокко, каким он был до уничтожительного пожара. Но реставраторы не пренебрегли и более ранним обликом крепости. Где только была возможность, они «открыли» детали и готического периода постройки.
От крепости вниз к городу и новому мосту серпантином вьется дорога, существовавшая еще в средние века. Она проходит мимо удивительного, словно сошедшего со страниц андерсеновских сказок, домика, носящего название «Дом доброго пастора». Выстроенный здесь в незапамятные времена, он по-прежнему смотрит на Дунай своим узким фасадом, начиная собой две улицы и походя на нарядный томик чуть раскрытой книги, поставленной корешком к реке. В корешке томика и вырезаны его старинной формы решетчатые окна.
В «Доме доброго пастора» открыт музей часов. И не просто часов и всяких диковинных старинных механизмов, а часов, непременно связанных с историей Братиславы.
Пожалуй, трудно было бы придумать помещение, где бы старинные часы чувствовали себя так по-домашнему, как в белых комнатках с решетчатыми окошками на Дунай. Легкие лестницы соединяют три этажа, в которых звучит мелодичный часовой перезвон. Так и кажется — сейчас по ступенькам прошелестят шелковые юбки хозяйки или протопают тяжелые, украшенные пряжками туфли хозяина дома. Но самое примечательное в этом почти игрушечном музее — его хранительница. Хранительница старинных часов будто бы сама вышла из сказки великого датчанина. Это девушка с синими, лучащимися добротой глазами и такой славной улыбкой, что, слушая ее неторопливый рассказ о каждом из экспонатов музея, которые она любит, как детей, вы невольно отводите взгляд от диковинных ходиков или циферблата, вделанных в картину с изображением башни часов с курантами, и любуетесь милой хранительницей. Ее и зовут по-сказочному — Сюзанна.
О детях я вспомнил не случайно. В Братиславе нам рассказали, что Сюзанна — кумир живущих вблизи мальчишек и девчонок. Когда посетителей в музее нет, дети собираются вокруг хранительницы и слушают сказки, которые та им рассказывает. Нетрудно понять, какой след в душе будущих граждан народной Чехословакии оставляют минуты, проведенные у «Доброго пастора».
Дети — любовь и забота молодого социалистического государства. В стране несколько издательств, выпускающих книги для детей. В Праге это мощное издательство «Альбатрос», поразившее меня разнообразием, количеством, тиражами и в особенности полиграфическим блеском, с каким печатаются яркие, привлекательные книжки для маленьких. Не отстает от чехов и словацкая «Млада лета» — издательство, к слову сказать, выпускающее немало книг советских авторов, всегда старательно переведенных и богато иллюстрированных. Притом следует отметить, что детская книга для страны — дело еще новое. В буржуазной Чехословакии никто всерьез не занимался выпуском литературы для детей.
Трогательное внимание к подрастающему поколению ощущаешь, видишь на каждом шагу.
На бульваре, примыкающем к набережной Дуная, неподалеку от гостиницы, взгляд мой привлекли резвящиеся там малыши. Все они, как один, были одеты в красные, очень аккуратно сшитые комбинезончики и потому особенно приметны. Я остановился за узорчатым чугуном барьера, отделявшего бульвар от прежней части улицы, и так долго и пристально смотрел на бегающую детвору, что их молодая воспитательница заметила это. Она подошла ко мне и спросила, что меня так заинтересовало. Как сумел, я постарался объяснить, что мне решительно ничего не нужно и что попросту ее малыши мне очень понравились. Девушка благодарно улыбнулась и произнесла: «Дякуем».
Мы расстались, а я подумал о том, что эти милые маленькие братиславцы — уже внуки тех молодых людей, что встречали нас по словацким дорогам по пути сюда, на Дунай, группами выходили из горных лесов, где сражались в партизанских отрядах, тех кто здесь, в городе, первыми выходили нам навстречу и требовали оружия, чтобы преследовать недобитых гитлеровцев. Это были внуки солдат Чехословацкого корпуса, освобождавших страну бок о бок с советскими воинами, и внуки тех мобилизованных Гитлером солдат-словаков, что батальонами и полками — я помню, это началось еще перед битвой за Крым — переходили на нашу сторону.
Как же будет хорошо, если малыши в красных комбинезончиках, когда они вырастут и возмужают, смело смогут вглядываться в дурманящую глубину небесной сини, зная, что оттуда не услышится злобный вой бомбардировщиков, а от их фюзеляжей не оторвутся черными каплями и не завоют в воздухе тротиловые бомбы, несущие на землю смерть!
В первый день прогулки по городу Мишко Худа завел нас в прохладный погребок на одной из тихих улиц. Сидя за длинным деревянным столом, мы пили легкое вино, к которому тут не полагается никакой закуски. Прозрачное, как шампанское, оно не пьянит, но лишь чуть кружит голову.
В винарне, как здесь называются подобные погребки, по-домашнему уютно. Сегодня праздник, и сюда понемногу собирались завсегдатаи. Приходили пожилые принаряженные мужчины. Приходили по одному, но, повесив на тут же стоящую вешалку свои шляпы, усаживались за общий стол. Каждый вновь прибывший получал стакан, наполняемый ему из графина, который называется здесь жбан. Люди эти все знакомы меж собой. Видать, — соседи. За столом шел оживленный, но не шумный разговор.
По отдельным словам, которые доносились до нас, становилось понятно — речь касалась сегодняшнего дня, Дня Победы, и каждый из сидящих за столом вспоминал свое. Я смотрел на этих погрузневших, но еще крепких людей и понимал, что эти старики, теперь так спокойно и даже степенно беседующие, и были теми молодыми мужчинами, с кем три десятка лет назад сталкивала меня здесь военная судьба. Подумалось об этом с некоторой грустью — ведь им тоже, было бы трудно узнать во мне молодого капитана-сапера, кого, может быть, они поздравляли с победой в такой же теплый весенний день тридцать один год назад.
Но что делать? Ни мне, ни им не зачеркнуть трех десятилетий…
Жизнь в городе начинается рано. В восемь и в девять часов (реже в десять) открываются промтоварные магазины. И торгуют так же, как и все продуктовые, до семи часов и позже, без всяких перерывов.
Часам к восьми в городе все стихает. Нужно сказать, что спать в Братиславе ложатся рано, но и встают, что называется, ни свет ни заря. В седьмом часу идут на работу опрятно одетые мужчины и элегантные женщины. Широко шагают молодые люди в куртках и клешах. Парни покончили с длинными волосами. В моду вошли красивые, идущие юным лицам прически. Локоны до плеч вернулись к женщинам. Теперь даже издали легко отличить девушку от парня. Однако от брюк женщины не отказались. В брюках, особенно в джинсах, ходит и вся женская половина обеих чехословацких столиц.
Через день-другой, уже освоившись в городе, мы, в свободные от деловых встреч и приемов часы, ходили по улицам Братиславы, очень скоро почувствовав себя словно дома.
Внезапно пришла не ожидаемая столь рано жара. Лиловый столбик спирта на уличных термометрах поднялся до отметки тридцать градусов. Стены домов были раскалены. Спасаться от зноя удавалось лишь в прохладных подвальчиках, которых здесь превеликое множество, и находятся они глубоко под землей.
Эти нехитрые заведения, порой носящие самые неожиданные названия — то романтическое «У рыцаря», а то и просто «Под башней», — отрада в летнее время. Двери их всегда гостеприимно раскрыты. Их очень много, различных винарен, пивных и дешевых ресторанчиков. Внешне они более чем скромны. Помещением чаще всего служат каменные подвалы с кирпичными сводами. Мебель самая простая: деревянные тяжелые столы и такие же скамьи или стулья. Здесь не тратят денег на художественную отделку. Встретиться с другом или посидеть в товарищеской компании гораздо лучше в простой обстановке. Вечером почти в каждой винарне играет небольшой оркестр — трио или даже дуэт из скрипки к аккордеона. В иных из этих подвальчиков вечером за вход берется совсем небольшая плата. Она-то, вероятно, и гарантирует заработок музыкантов. Но как же тут бывает весело, приветливо и, главное, гостеприимно!
Стоило нам спуститься в любую винарню, как нас немедленно приглашали к столу незнакомые люди. Русских, по непонятным нам признакам, в нас признавали сразу же. И вернее, не русских, а советских — людей из «Союза». Ныне по всей Восточной Европе, да и не только по Восточной, утвердилось понятие «Союз». Оно сменило прежнее — «Россия». Теперь повсюду — в Варшаве, в Будапеште, в Праге — слышишь: «Вы давно из Союза?», «Летом поеду в Союз», «Я уже дважды бывала в Союзе»… Так вот, нас, союзных, немедленно усаживали за стол и угощали лучшими словацкими винами, с трудом принимая ответное угощение. А потом обязательно начиналось пение. Словаки — нация южная, певческая. По вечерам в винарнях поют много и хорошо. И каждый, кого мы тут встречали, знал десятки советских песен. Что уж говорить о музыкантах! Их репертуар не имеет границ. Незнаком ему какой-то новый мотив — чуть напоешь, и он мгновенно схватит и заиграет так, будто исполнял эту музыку всю жизнь. Поют здесь обычно мелодичные словацкие песни; приходили мы — начинали петь песни советские. Ударял по струнам одетый в расшитую узорами безрукавку улыбающийся черноволосый исполнитель — и «Подмосковные вечера» или «Лучше нету того цвету…» и немедленно подхватывали все, кто сидел за столами.
Но дело, в конце концов, было не в пении. Главное заключалось в очень быстро налаживающихся добрых контактах.
Несколькими днями раньше, в Праге, нас принимали так же гостеприимно. Были встречи в издательствах, где шел увлекательный дружеский разговор. Вторично я был в столице Чехословакии (впервые — сразу после войны, все в том же мае 1945 года) и поразился, какой активной созидательной энергией живет сейчас ее население. Старая Прага строится. На ее улицах поднимаются современные здания. Возводятся они с толком, не нарушая гармонии вековой пражской архитектуры. Перекопана Вацлавская площадь. Здесь идут крупные подземные работы. Для того чтобы попасть в отель, где нас поместили, приходилось обходить длинный забор. За ним день и ночь, сотрясая воздух, работали компрессоры, гремели экскаваторы и стонали подъемные краны. На улицах, площадях столицы множество народа. Горожане, в особенности женщины, нарядно одеты. В магазинах, полных всякого товара, идет оживленная торговля. Очень много тут книжных лавок. Не залеживаются и новинки советской литературы. Наши намерения приобрести в Праге те советские издания прозы и поэзии, которые не удалось достать дома, увенчались незначительными успехами.
Нужно сказать, что в Прагу я приехал, что называется, не с пустыми руками. Прошлым летом здесь происходил международный фестиваль телевизионных фильмов, и картина по моей повести и моему сценарию «Странные взрослые» получила высшую премию — «Гран-при». Кстати, и повесть в Чехословакии выходила двумя изданиями.
Телефильм, который тут видели не однажды, понравился пражанам. Даже появились платья для девочек: «Тоня-Жульетта», названные по имени маленькой героини фильма. Этим летом, перед очередным телевизионным фестивалем, «Странные взрослые» опять должны были быть показаны по чешскому телевидению. Часа два я, сбиваясь и принуждая начинать запись снова, потел перед телекамерой, когда отвечал на вопросы очаровательной дикторши, задававшей мне их по-чешски, и был несказанно счастлив, когда режиссер наконец сказал» «Добро!»
В Братиславе переводчик нам не понадобился. Наверное, достаточно хорошо зная это из опыта, руководство словацких писателей никакого постоянного переводчика к нам не прикрепляло. Полагали, что нас везде поймут и так и мы поймем всех, кого нам нужно.
Словацкие товарищи не ошиблись. Объясняться в Братиславе не стоило большого труда. Теперь я вспоминал, что после соседней Венгрии с ее особенно трудным языком, где за два месяца войны мы едва освоили несколько бытовых фраз, перевалив чехословацкую границу, мы преотлично объяснялись с населением, хотя в те времена редко кто из словаков знал русский язык.
Теперь русский здесь понимали и люди взрослые, и молодежь. Куда бы мы ни заходили, кого бы ни спросили на улице, когда требовалось что-либо узнать, — нам всегда отвечали по-русски. Правда, порой с трудом отыскивая нужные слова, но неизменно старательно и с готовностью помочь.
Как-то раз гуляли мы с одним из-моих спутников по уже затихшей, а кое-где и отходящей ко сну Братиславе, на одной из улиц в центре столицы набрели на весьма демократический ресторан «У францисканцев». Не следует думать, что здесь находится трапезная какого-то монашеского ордена. Нет, просто напротив высится старинный собор святого Франциска. Отсюда и название.
В квадратном дворе старого дома были расставлены столики под цветными зонтами. Это была часть ресторана. Есть «У францисканцев» и закрытые помещения, и свой подвал.
После жаркого дня нам хотелось побыть на воздухе, но свободных мест не было видно. И тут я издали заметил стол, за которым сидели седоголовые люди.
— Пойдем к старикам, — предложил я товарищу. — Там только трое. Думаю — приютят.
И мы не ошиблись. Нам любезно предложили сесть рядом. Сидящие за столом оказались старыми братиславцами. Двое из них — люди за пятьдесят. Третий — еще молодой человек, оказавшийся здешним журналистом, которого звали совсем по-русски — Степаном. Нас приняли с уже знакомым словацким радушием. Не прошло и четверти часа, как полилась оживленная беседа. Все трое были рады поговорить с советскими писателями. Степан знал наши переведенные книги, и все трое, как выяснилось, видели мой фильм. Но не о фильме и книгах шла речь, хотя, как нам объяснили, ресторан «У францисканцев» — излюбленное место встреч художественной интеллигенции. Чопорности тут нет и следа. Под сухое вино идут пространные разговоры.
Разговорилась и наша случайная компания. Один из «стариков» оказался бывшим партизаном. Пошли воспоминания о том, как в горах ждали прихода Красной Армии. Как началось освобождение к тому времени уже оккупированной немцами Словакии. Припомнил я, как встречали мае в маленьких городах и чехословацкие врачи наотрез отказывались брать деньги с русских, когда те обращались к ним за помощью, например подлечить зубы. Не обошлось, разумеется, и без нашего дунайского моста. Вспоминались давние дела, когда мы были молоды и вот, может быть, встречались на этих улицах. Шел разговор и о делах более близких. Серьезный и вдумчивый разговор. Получилась беседа добрых, давно не видавшихся товарищей, кому было что сказать друг другу. А потом Степан пел. Пел лихо, сперва что-то неаполитанское, а затем и «Из-за острова на стрежень…». И хотя во дворике францисканцев, как уверял один из старших товарищей, петь не принято, замечания нашему певцу никто не сделал. Пел он и в самом деле хорошо и, по-видимому, пением своим никому не досаждал.
Новые друзья, оказавшиеся людьми, нагруженными тяжелыми портфелями, так как у францисканцев задержались после работы, провожали нас до отеля, и я навсегда запомнил этот прекрасный майский вечер, так непринужденно и по-приятельски проведенный в памятной мне другими вечерами Братиславе.
Не так-то много знакомых мест удалось мне отыскать по старым фотографиям. Иные дома уже были снесены, и на их месте выросли новые, современные.
Братислава строится. Строится и в самом центре. Исчезают маленькие дома с остроконечными черепичными крышами, и на их месте поднимаются линейно-стройные современные здания из стекла и бетона. Не просто, не без трудностей идет процесс омоложения города, история которого насчитывает почти тысячелетие.
Там, где высится нынче отель «Девин», прежде стояли ничем не запомнившиеся мне здания. Снести их потребовалось для того, чтобы придать набережной еще более парадный вид. Набережная Дуная — фасад Братиславы. По протянувшейся на пол-Европы реке в долгую южную навигацию ходят турецкие теплоходы. Города пяти стран глядятся в воды Дуная. Каждая по-своему, красуются на его берегах три столицы. Вена величественна. Будапешт неповторим размахом набережных и великолепием множества мостов. Братислава невелика, но по-старинному красива и уютна. Крепость на высоком холме придает ей своеобразность и делает несхожей ни с одним городом на Дунае. В своеобразии древней Братиславы — и ее неповторимые достоинства и свои недостатки. Ревнители старины бдительно следят за тем, чтобы ажурный силуэт города не был нарушен. В самом деле, кто не знает, как трудно в архитектуру прошлого вписываются современные здания. Сколько протестов слышится повсюду, когда в традиционный облик переживших века городов внедряется дерзкое новшество зодчих! Всем памятны споры за сохранение на берегу Москвы-реки старинного Зарядья, хотя оно и сотни раз перестраивалось и навсегда потеряло свой давний облик. Старожилы Ленинграда возмущались намерением возвести на Пироговской набережной здание многоэтажного отеля. Оно, полагали, исказит панораму Невы, открывающуюся с противоположного берега. Потеряется и «Аврора», замершая здесь на вечной стоянке.
Но прошло время, и Москву сейчас немыслимо представить без грандиозного стеклянного куба «России», кстати, послужившего прекрасным фоном для нескольких любовно восстановленных церквушек древней Московии. Ленинградцы уже примирительно смотрят с Кировского моста на высотную гостиницу, которая совсем не испортила панорамы набережной и вовсе не помешала видеть силуэт легендарного крейсера. Впрочем, ведь и в начале века в Петербурге был создан целый комитет, борющийся против постройки на Петроградской стороне мечети в мавританском стиле. И что же?! Попробуйте теперь представить себе правый берег Невы без голубого купола и двух стройных минаретов!..
Все это приходило в голову, когда мне рассказывали, какие ожесточенные баталии пришлось выдержать созидателям братиславского моста против поборников незыблемости старины, которые утверждали, что и холм над столицей с венчающим его замком, и не особенно-то широкий тут Дунай покажутся немощными в соседстве с громадой моста-автотрассы. Опасения были напрасными. Я по многу раз смотрел на новую братиславскую достопримечательность. Мост не мешает любоваться свободным течением великой реки. И гордый холм, на котором стоит крепость, по-прежнему приковывает к себе взоры. Наоборот, устремленная в будущее современность как бы взяла под свое защитное крыло бесценность хрупкой старины.
Сейчас на набережной, невдалеке от моста, идет реконструкция картинной галереи. Старинный ее двор построен в виде сомкнутой с трех сторон колоннады со связывающими ее арками. Старая постройка реставрируется в ее первозданном виде, но фасад, выходящий на набережную, перестраивается самым современным образом. Это вытянутые, ровные, наклоненные к реке мощные фризы ярко-красной отделки. Мне думается, фасад замыслен зодчими как своеобразная рамка, в которой будет эффектно выглядеть жемчужина древней архитектуры. И вот и здесь я слышал вздохи и возгласы возмущения: «Что они делают с нашей галереей!», «С ума сошли!.. Ведь это же погубит прекрасную постройку прошлого…», «Не могу смотреть…» и прочее.
Слов нет, труднейшее дело — вторжение нового в привычную картину старых городов; к тому же порой приходится жертвовать тем, что, думалось, останется вечным. Свершались тут и ошибки, увы, уже непоправимые. Было и немало удач.
Разумеется, когда дело касается ценностей ушедшей культуры, нужна предельная осторожность. Однако каждая эпоха знаменуется творчеством новаторов своего времени. Робкий художник памяти о себе не оставляет.
Однако свой окончательный приговор выносит время. А пока что взметнувшийся над Дунаем новый мост сделался свидетельством силы и возможностей социалистической страны.
В один из дней пребывания уже в ставшей близкой и моим спутникам Братиславе мы поднялись на высокий холм за городом, в северо-западной его дальней части. Здесь на главенствующей высоте расположен «Славин» — большой памятник советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение словацкой столицы.
Не стану описывать всего мемориала. Величественное сооружение из камня и бронзы вызывает чувство признательности к его создателям. Запоминаются динамичные бронзовые группы солдат и уходящая вверх стела с фигурой советского солдата, высоко поднявшего развевающееся знамя. Внушителен торжественный мраморный павильон, где невольно замолкает каждый, кто сюда пришел.
На гранитных ступенях, ведущих к мемориалу, мне вспомнился маленький словацкий город Левица. Это было на следующий день после штурма немецких укреплений на реке Грон. В прорыв, обеспеченный саперами, вслед за пехотой, вскрывшей линию укрепления, пошла конница генерала Плиева. Кажется, это был последний рейд теперь уже не существующего рода войск в нашей армии. Но впереди были горы Словакии. Конники с их легкой артиллерией могли пройти по горным дорогам, где не проехать мощным машинам с тяжелыми пушками. Разбитые остатки гитлеровцев бежали на запад, стремясь оторваться от конницы. К концу дня уже не было слышно пулеметных очередей и орудийных выстрелов, но прорыв на Гроне стоил жертв.
На квадратной, похожей на большой зал городской площади Левицы хоронили лейтенанта, погибшего в час штурма. Мне припомнилось, как опускали в землю наскоро сколоченный гроб. Сереброголовый, видевший виды старшина, сминая в руках выгоревшую фуражку, утирал рукавом слезы и лишь повторял: «Ах, лейтенант, лейтенант!..» Как горько было смотреть! Ведь победа была такой недалекой. Наши войска приближались к Берлину. Еще какой-нибудь месяц — конец войне. И вот тут, на пороге победы…
Я снова вспомнил Братиславу в апреле 1945 года. В ее небольших городских скверах высились деревянные пирамидки с вырезанными из фанеры красными звездами. Такие же, как и тысячи других на обочинах дорог по пути сюда, от Сталинграда на юго-запад Европы. У самодельных памятников погибшим мы видели горожан, которые, стоя у пирамид, что-то старательно списывали в блокноты. А через несколько дней привезли мрамор, и вместо временных деревянных пирамидок в скверах поднялись полированные обелиски с точно перенесенными на них именами погибших.
Надеясь когда-нибудь побывать в Братиславе, я тогда думал, что пойду поклониться могилам, которые я видел совсем свежими. Теперь с трудом находил те знакомые скверы и не узнавал их. Зеленела трава, и на клумбах расцветали весенние цветы. По дорожкам, резвясь, бегала детвора — люди рождения семидесятых годов. Никаких обелисков не было.
Встревоженный, я спросил доктора Жабкая, не спутал ли я скверы. Нет. Память с героях-освободителях не покрылась забвением. Останки их перенесли в братское кладбище Славин, сооруженное на господствующей высоте над Братиславой.
— Знаете, — сказал Владимир Эдуардович. — Многие матери, дети и жены приезжали к нам в Братиславу, чтобы побывать на могилах родных.
И вот я на ступенях военного кладбища моих товарищей по 2-му Украинскому фронту… Кто знает, со сколькими из них сталкивала меня судьба на дорогах войны! С кем входил в полуразрушенные Яссы, с кем форсировал Тиссу и стремительно двигался по Венгерской равнине, чтобы потом два месяца биться за Будапешт! Может быть, это те ребята-танкисты, с которыми я ночевал под Эстергомом перед рывком нашего фронта, завершившимся освобождением первых километров чехословацкой земли. А возможно, здесь те, кто в конном строю проходил в Левице. Ведь они тоже вступали в Братиславу. Наверное, есть и те, с кем приходилось трястись на попутных полуторках или недолго жить рядом в прибрежных городках на Дунае? Ведь здесь захоронено более шести тысяч воинов, погибших при освобождении Братиславы и Западной Словакии. Дорого стоила победа! Кругом благословенная тишина. Широкую площадку братской могилы окаймляет густая чистая зелень и яркие цветы. Ажурная тень листвы лежит на гранитных плитах и дорожках. Памятник возвышается над всем городом. Внизу отблеском клонящегося к закату солнца алеют скаты черепичных крыш. Множество шпилей тянется к небу, соревнуясь в высоте со стеклянными брусьями новых зданий.
Я отстал от товарищей, уединившись, думаю о тех, кто вечным сном спит под тяжелыми плитами. Здесь немало безымянных солдат, тех, кого смерть подстерегла в часы последних атак. Обхожу квадраты гранитных аллей. Вдоль тянется череда красных мраморных плиток. Тут похоронены те, чьи имена были известны. Золотыми буквами на каждой плите начертаны фамилии, имена и годы рождения погибших. Год смерти один — 1945. Здесь рядовые, сержанты, офицеры… Здесь русские, украинцы, армяне, казахи, дети других народов нашей Советской страны.
Я смотрел на установленные при входе в церемониальный зал скульптурные группы «После боя» и «Над могилой соратников», на сорокаметровый пьедестал с венчающим стелу солдатом с высоко поднятым развевающимся знаменем, и мне припомнились известные стихи поэта о воинах, что застыли с автоматами над братскими могилами на просторах России:
Трудно в этом воине признать Сверстника-мальчишку. Только мать Все еще роняет в тишину: «Мальчиком ушел он на войну…»Вот плита. Имя, звание: «Солдат Мария». А невдалеке от нее — «Санинструктор Валида».
Обе 1926 года. Им было по девятнадцать лет. На фронт эти девчата скорее всего ушли со школьной скамьи. И эти славные фронтовые девушки, наверное, уже видели себя в красивых, платьях, надеясь надеть их после победы. Ведь до последнего выстрела оставалось так недолго. В далекие города России и Азербайджана еще шли письма со штампом полевой почты: «Мама, войне уже вот-вот конец. Я жива и невредима…», а их остывающие тела накрывали плащ-палатками.
Со времени боев на Дону мне приходилось терять немало товарищей. Но погибать перед самой победой, за несколько дней до нее!.. Умирать перед тем, как должна наступить тишина над израненной, почерневшей от огня землей… До чего же нестерпимы эти жертвы ненасытной войны! Здесь лежали те, кто не дождался победы всего каких-нибудь пятнадцати — десяти дней из четырех лет жестоких сражений. У некоторых плит я увидел еще не успевшие завянуть цветы. Под плитами покоились ушедшие на войну мальчики. Я читал на плитах даты их рождения. Эти парни были на пять-семь, а то и десяток лет моложе меня.
За несколько дней до того, как мы пришли сюда, на самую высокую точку над городом, 9 мая мы сидели в номере на третьем этаже отеля «Девин». Был удивительно теплый, тихий и звездный вечер. Движение машин по набережной Дуная, куда выходило широко распахнутое окно номера, в эти часы было закрыто. У гранитного парапета реки собрались празднично одетые братиславцы. Их было множество. В большинстве своем — молодые люди. Гулявшие были веселы и шумливы. Они заполняли набережную на всем видимом из окна ее протяжении.
К нам, гостям Братиславы, пришли редакторы и переводчики из «Млада лета» и из издательства «Обзор». Разговор касался сегодняшних дел. Говорили о писательских делах, о новых книгах, о том, что из напечатанного у нас за последнее время может заинтересовать словацкие издательства. Я сидел спиной к окну, когда звук словно взорвавшегося на улице снаряда заставил меня вздрогнуть. Лишь секунду спустя догадался, что это первый залп салюта в ознаменование Дня Победы. Все, кто был в комнате, поднялись и подошли к окну. Гремел многократный салют. Необычно для нас, ленинградцев, он гремел в густой тьме вечера. Лишь где-то вдали, слева, за рощей Петржалки, сполохом освещалось небо, а затем доносился звук выстрелов. Невидимые орудия били долго и, как-то казалось, не очень празднично. Мне уже наскучило считать количество залпов. Но вот и прогремел последний из них. И тут, через несколько секунд, начался фейерверк, но какой!.. Взрываясь в поднебесье черного купола, на город обрушивались тысячи цветных звезд. Все новые и новые, один ослепительнее и пышнее другого, возникали вверху огненные букеты и медленно опускались к реке, удваивающей цветистый карнавал неба. Тысячи находящихся на набережной горожан громко аплодировали и кричали всякий раз, когда в небе рассыпался очередной звездный букет. Но вот стали затухать последние летящие к реке звездочки, и в ту же минуту от перил нового моста-гиганта в Дунай многометровой шириной обрушился огненный каскад. Будто раскаленная лава, лилась ярко-красная лента, и откуда-то из черноты неба на набережную начали опускаться маленькие прозрачные парашютики. Не только мальчишки, но и взрослые бежали за ними. Под нашим окном на набережной шла живая веселая игра.
Да, это был счастливый праздник, такой же торжественный, как у нас, на берегу еще холодной Невы. Здесь так же, как и у меня дома, ликовали тысячи и тысячи счастливых людей. Только у нас залпы орудий совпадают с взметающимся в небо фейерверком, и потому кажется, что орудия стреляют мирными, цветными огнями.
Позже, в уже утихшей Братиславе, я из окна своего номера увидел в небе лучи прожекторов, всю ночь освещавших в эти дни памятник Славин — братскую могилу освободителей Братиславы, и долго не мог оторвать взгляд от этого, словно парящего над городом, светового облака.
Братислава — Ленинград
1976
ИЗДАЛЕКА
Памяти отца — Мирона Яковлевича
Мы покидали Вятку.
Поздней осенью теперь уже столь далекого года с мамой, нянькой Агафоновной и тремя братьями я ждал поезда со стороны Перми.
Поезда проходили Вятку-1 ночью, почти всегда опаздывали, и ждать их надо было подолгу.
Обложенные тюками, портпледами и громоздкими корзинами с замками на железных петлях, мы сидели на твердых, с высоченными спинками деревянных скамьях и ждали, когда пробьет станционный колокол, извещающий о том, что поезд прибыл.
Вокзал освещался тускло, хотя на стенах и горели лампионы, уже давно переоборудованные в электрические. За окнами городской стороны, в свете немногих фонарей, виднелась привокзальная площадь. На козлах-пролеток сутулились извозчики, ожидающие ночных пассажиров.
Город на горе, вдали от станции, обнаруживал себя слабыми огнями улиц да желтыми точками еще не погашенных окон, будто повисших во тьме ночи между землей и небом.
После долгого ожидания наконец сели в вагон. Трижды ударил колокол, и желтые окна вокзала, дернувшись, поплыли в туманном стекле темного жесткого купе. Вместе с боковыми местами оно было целиком занято нашей семьей.
— Поехали, — сказала Агафоновна. Вздохнула и перекрестилась. Так же, как и я, она никогда до сих пор дальше Вятки не ездила.
Я лежал на верхней полке вагона — уже спящего, храпящего на все лады, скрипящего, покачивающегося и монотонно выстукивающего на стыках рельсов свою бесконечную колесную песню.
Не спалось. Протерев ладонью немытое, запотевшее стекло, я смотрел на убегавшие огоньки города, в котором, как думалось мне, знал все.
Вятка навсегда уходила в прошлое. Грусти не было. Что такое город детства, я не знал. Я и понятия не имел о том, как будет мне потом дорог город, где я впервые увидел синий простор бесконечно разлившейся весной реки, где услышал первый гудок парохода и где однажды ощутил аромат расцветшего в палисаднике куста сирени. Не знал, что годы и десятилетия будет помниться морозная зима, растаявший снег в валенках и первый класс в школе, где еще стояли, наверное с полвека не сдвигаемые с места, кафедры прежней гимназии, а на стене висел перевитый красными и черными лентами небольшой печатный портрет Ленина.
Поезд подошел к Котельничу, и вскоре перед моими глазами поплыла величественная белая лестница. Широко раскинувшись, она поднималась к окнам вокзала. Яркий свет падал на ступени, которые мраморно розовели отраженными огнями.
Это было последним удивительным видением вятской земли. Вскоре за окном уже не стало ничего, кроме мути непроглядной осенней ночи. Мной завладели неясные, влекущие мечты о будущем. Мы ехали в загадочный для меня далекий город на другой, незнакомой реке. Там ждал нас отец, уже снявший квартиру в пригороде.
Прошло немало лет. Задумчивый в своей увядающей красе Павловск, хмурый и прекрасный Ленинград, четыре года войны, памяти о которых хватило на всю жизнь. Потом снова Ленинград, сперва израненный и угрюмый, а затем — словно умытый, зазеленевший листвой на улицах, где прежде ее не было, и помолодевший. Только через тридцать лет после той мглистой ночи за окнами вагона я снова ехал в Киров, как уже давно называлась привычная для меня старая Вятка.
Скорый поезд, мерно постукивая, шел в сторону детства. С каким нетерпением я ждал встречи с белой лестницей! Ну вот наконец и Котельнич! Но что это?.. Мраморная красавица оказалась деревянной лестницей в два марша, ступеней в двадцать. Вовсе не такая широкая, как запомнилась, была она серой от времени, с перилами — крест-накрест сбитыми перекладинами. Выглядела совсем обыденно, да ни на что иное и не претендовала кроме того, что служила подъемом к скромному, возвышавшемуся над платформой вокзалу.
Трудно развеивалось сказочное видение прошлого. Но опять пролетели годы, и опять я вспоминаю ту поразительную лестницу и снова хочу верить — она была.
Вятка долго не расставалась со мной, еще несколько лет говорившим быстро, с особым вятским мягким оканьем, с непременными многократными повторами: «Я-то, ты-то, они-то…» Меня и в школе долго называли Вяткой: Не по-ленинградски мы с младшим братом Димой носили шубки на черном бараньем меху. По-вятски у нас дома готовили пельмени и ели блины с мороженым молоком. Запах кожи и дегтя до сих пор будит во мне воспоминания о шорных лавках и торговых рядах с настежь, как ворота, растворенными железными дверьми. Там в начале каждого лета нам всем покупали пахучие сандалии. И, хотя нас было четверо, от одного к другому сандалии не переходили. К осени протирались их подошвы до дыр.
Всю мою жизнь мне сопутствуют чудом уцелевшие в блокаду картины вятского художника Демидова, чье имя с каждым годом все больше и больше обретает законное признание.
Далекая полузабытая Вятка напомнила о себе на третий год войны, когда уже позади оставались дымные дни Сталинграда, бои на берегах реки Миус и город Новочеркасск, где в городском саду схоронили мы нашего горячего комбрига полковника Аксючица.
Не помню, в каком украинском селе вечером сидел я в помещении класса, в котором почему-то осталась всего одна парта. Не очень удобно за ней устроившись, составлял при свете керосиновой лампы списки солдат из прибывшей маршевой роты, годных для службы в саперах.
Большая прокуренная комната гудела голосами парней и дядек в еще не обношенных, топорщащихся шинелях, со свеже-зелеными, непотертыми вещмешками за плечами. Пахло смесью едкого дыма махорки, обильно смазанных кирзовых сапог и соленого солдатского пота прошедшей не один километр роты.
Я уже заканчивал список. Узнавшие, что их «пишут в саперы», отходили довольные. Как-никак сапер есть сапер, не пехота!
И вот в эти минуты проскрипела и хлопнула дверь из коридора. Невидимый в дыму, тот, кто вошел, прокричал:
— Вятские-то есть?!
В услышанном не было ничего удивительного. На войне, где только собирались не перезнакомившиеся между собой солдаты, повсюду искали они земляков. Встреча на фронте со «своим», рязанским или омским — пусть и жили они до тех пор лет по тридцать, не подозревая о существовании друг друга, — рождала успокоительное сознание того, что ты здесь не одинок. Рядом «наши», «свои» — будто родные и близкие.
На возглас, послышавшийся от двери, никто не отозвался. Тогда тот же голос уже со слабой надеждой переспросил:
— Вятских-то что, кировских, или нету?
Меня словно толкнуло. Ведь все-таки я был хоть и давним, но земляком вопрошавшего. Я крикнул:
— Есть!
Толпившиеся у двери вновь прибывшие расступились, и вперед вышел солдат небольшого роста с красным, обветренным лицом. Совсем молодой, скуластенький, с широким, но небольшим носом. Щурясь на свет лампы маленькими, поблескивающими глазами, он еще раз окинул классную комнату, хотел увидеть, кто же откликнулся.
— Который тут наш, вятский?
— Я!
Глаза солдатика расширились. Он посмотрел на меня удивленно и немного недоверчиво. Видно, не ожидал, что земляк, с которым он надеялся по-свойски поговорить, окажется командиром.
— Вы, товарищ старший лейтенант? — неуверенно переспросил солдат, часто мигая.
Я подозвал его к парте, в свою очередь спросил:
— Из вятских, значит?
— Точно, из кировских. Халтуринские мы, — он назвал деревню, из которой был призван, и добавил: — Не слыхали?
— Нет, не слышал.
— Понятно, а вы откуда, товарищ старшой?
— Из самой Вятки. Из Кирова, конечно, по-нынешнему. Но не теперь, давно, — проговорил я, несколько смутившись своего, в общем-то, самозванства.
— Из городских, значит. Ну, ясно.
Он явно был разочарован. Хотелось, наверное, обменяться деревенскими новостями, а тут не свой брат колхозник, а человек из города, да еще офицер. Чтобы у него не закрались сомнения в том, что я вообще не кировский, не вятский, я продолжал:
— На Профсоюзной мы жили. У верхнего рынка. Бывал в Кирове, знаешь?
— Как не знать! С дедом репой там торговали. Только того рынка теперь нет. Дома там стоят.
— Может быть. Я давно не был. Еще на Карла Маркса жили. Где деревянный театр.
— Ноне театр каменный. Здоровенный, — поправил он меня. — Бываем в центре. Приходится. А репы сейчас мало садим. Спрос на нее малый. Хлеб, хлеб все боле.
Я знал вятский ржаной хлеб, но теперь, оказалось, растили и пшеницу. Разговор у нас не получался. Я спросил у солдата, как живут в его крае, и он отвечал, что жили сносно, да вот… война. Мужиков в деревне не осталось. Понаехали эвакуированные — понятно, сплошь женщины. Был он солдат обстрелянный. Возвращался на фронт после ранения из тылового госпиталя. Сумел побывать и дома. («Да зря… Только лишние слезы».) Хотел найти свою часть, но найти не удалось. Я спросил, не хочет ли в саперы. Солдат, не раздумывая, отказался.
— Специальность у меня — пулеметчик. В пулеметную роту пойду.
Сказал это с какой-то гордостью. С будто бы некоторым превосходством. Так говорят про себя мастера, любящие свое дело. Был он неказист, но я догадывался — передо мной малый умелый. В саперах такие — клад. Его военная специальность была из самых опасных. Ну а сапер? Тут как повезет. Но вятский мой земляк об опасности сейчас не думал. Его учили на пулеметчика. Пулеметчиком он уже воевал и, не было сомнений, успел хватить лиха. И вот снова шел в пулеметчики, не ища на войне чего-то внушающего надежду, что останешься жив и здоров.
И тут я вспомнил удивительных умельцев, вятских крестьян-кустарей, которых так ценил мой отец. Вспомнил этих быстро говорящих мужичков, с хитринкой в глазах, творящих просто чудеса из березы и капа.
Земля, на которой они жили, считалась малоурожайной, и семью тут кормили скорей кустарным промыслом. Но они были хлебопашцами, эти удивительные подельцы чудо-шкатулочек, и крестьянский труд считали своим кровным делом. И пусть своего хлеба им хватало едва до весны — кормилицей своей они называли землю и от нее не отрывались. Растить хлеб, сколько бы его там ни доставалось, было их давним призванием, от которого они не отступали, как бы ни были искусны в кустарщине.
Истинным вятичем был и этот халтуринский пулеметчик. Тосковал он по земле, а на войне делал то, чему тут его научили.
Я угостил солдата папиросой. Нас — офицеров — ими уже снабжал военторг. Пулеметчик взял папиросу с приметной осторожностью. Подхватил ее из пачки короткими, как бы вырубленными из сучков пальцами, но такими, видно, ловкими, что они могли делать и самую тонкую работу.
На прощание он сказал:
— Утробины наша фамилия.
Мы расстались. Деревни я его не запомнил. Не знаю, довоевался ли, остался ли жив этот халтуринский солдат. Ведь шел еще только третий год войны. С тех пор с «нашими», вятскими, встречаться на фронте больше не привелось.
Живой памятью о вятской земле сорок с лишним лет оставалась в нашей семье бывшая моя с младшим братом нянька, позже ставшая нам всем близким человеком. Неграмотная крестьянка из деревни Педуново Яранского уезда, удивительно смекалистая нянька приняла меня на руки в восемь месяцев. Шли годы, мы оказались в Ленинграде. Нянька Агафоновна сделалась членом семьи, не расставаясь с нами до последних дней своей жизни.
Поступив к нам до февральской революции, по рекомендации каких-то поляков Виржинских, она была стойка в своих привычках. Еще в Вятке, а потом в Павловске и Ленинграде мама упорно боролась за то, чтобы Агафоновна не называла ее «барыней». Давалось это няньке трудно. Ведь «у людей» она начала жить давно, отданная в услужение почти ребенком. Сперва жила в чиновничьей семье в Котельниче, а потом уж в горничных в губернском городе.
— Да я все хотела в няньки попасть. Нянькой-то я сызмальства была, — говорила она. — Вот и нанялась тебя нянчить.
Не всегда все шло гладко у них с мамой. Выходили какие-то неизвестные, чисто женские ссоры. В такие минуты — бывало это уже в тридцатых годах — нянька грозилась, что уйдет на какое-то «производство», а мама плакала. Но никто никуда не уходил, и незначительные эти конфликты, к общей радости, всегда разрешались миром.
В бесхитростной нянькиной натуре навсегда сохранилось много детскости, потому с детьми любого возраста очень быстро находила она общий язык. Вырастив меня и младшего брата, на старости лет с удовольствием нянчилась с моими маленькими дочками. Играла с ними и приучила любить животных. Когда у нас завелся неизвестно какой породы, смахивающий на английского терьера лохматый пес Бум, Агафоновна на потеху детям ходила с ним под руку. Для Бума, охотно встававшего на задние лапы, такая прогулка по квартире не представляла труда. Пес забавно вышагивал рядом с невысокой нянькой и поглядывал ей в лицо, уверенный в вознаграждении за свое партнерство.
А ее деревенское детство было тяжелым, если не трагическим. Разумеется, мальчиком я того не знал. Летом, когда жили в деревне, нянька ходила с нами за земляникой и черникой. В лесу она распевала песни. Споет какую-нибудь и скажет:
— А вот у нас еще как пели.
И снова запоет.
Не голосистая была, а слухом обладала. Рассказывала нам и сказки с припевками. Думалось, свое детство она вспоминает как пору радостную и привольно-беззаботную.
Зря так думалось.
Уже после войны я записал ее рассказ, который произвел на меня глубокое впечатление.
Вот он, этот рассказ.
«Отец мой — курица был. Мою мать невестка отравила. А он хоть бы что… Ему говорят: «Агафон Сергеевич, как же такое злодейство оставлять?» А он: «А померла, так теперь-то что будешь делать?»
Делились они, братья. Отец мой и другой брат. Ну, а в деревне, сам знаешь… Ну, ссорились, собачились, собачились, вот невестка — братова жена — забежала в избу стол готовить, кусок хлеба чем-то посыпала. Мать с жатвы пришла… Есть-то знаешь как хочется… Схватила хлеб и съела тот кусок. Как съела — у ней язык отнялся. Побежала к отцу в поле и на хлеб показывает — она его с собой взяла. Показывает, а сказать ничего не может. Оттуда ее уже принесли. Ну и померла.
Три года мне было. Мать свою я так уж любила. Бывало, она на жатву идет, я за ней полдороги бегу: «Мамка, возьми меня с собой». Она обернется: «Ты куда, Феколка?» — прогонит, а я опять за ней. Померла мать. Я на печке все сидела. Брат мой, Федор, тянет с печи меня: «Иди, Феколка, поцелуй мать». А я не иду, дальше к стене на печке, дичусь. Ну, а как мать понесли — я к дверям да в рев: «Мамка, я с тобой поеду!..» Тетка Дарья — нищуха у нас пущена была — схватила она меня и к печке: «Гляди, гляди на огонь!» Это чтобы я покойников не боялась. Я руками вцепилась, думаю: «Мать померла, и меня сжечь хотят».
Эта тетка Дарья меня все из сумки своей разными ватрушками кормила. Я с нищенских-то хлебов такая толстая, красная была.
Мать померла — отцу быстро невесту сыскали. Девятнадцати лет. Здоровая девка, красивая, с брюхом. На третий день — еще на свадьбе гуляли — она родила. Парень большущий был. Меня нянькой поставили, а какая с меня, трех лет, нянька? Мне играть хочется. Я веревку к люльке привязала да в окно. У окна с подругами и играем. То одна потянет, то другая. Утром сплю, мачеха меня пнет ногой: «Вставай, качай дите!» А час ранний. Тогда по росе, а то еще затемно в поле спешили.
Ну, я вскочу, ничего не понимаю. Почесываюсь. А мачеха уйдет, опять засну. Ребенок проснется, орет: широкоротый был. Так кричит, в третьем дому слышно, а я сплю. Соседи придут, разбудят.
Я всегда маленькая была, а он здоровый, в мать. Ему два года было, а мне пять. Я его тащу, а у него ноги по земле волочатся. Бабы кричат: «Феколка, брось его таскать, силенки надорвешь». А как бросишь?
Вырос. Семь лет ему было. Выше меня стал. Новые рубахи на нас надели. Упал он и всю рубаху разорвал. Ну, мать его давай бить. Била, била, у него кровь изо рту, да кусками. Она его стала мыть. Там ледяное крыльцо, склизкое. Он упал. Ему еще хуже. А она его промеж лопаток: «Отобью, говорит, нутро, скорей помрешь». Он уже и синим стал. Она его на сундук положила. «Ложись, сказала, под образа, помирай». Ну и помер».
Была, понятно, бита и маленькая Феколка, но она выжила и девчонкой ушла жить в город.
Во второй половине двадцатых годов, когда в стране полностью развернулся ликбез, Агафоновна пошла учиться на курсы ликвидации безграмотности. Поощряемая мамой, она с тетрадкой и букварем ходила по вечерам в какой-то жактовский клуб на углу улиц Жуковской и Восстания. Это было неподалеку от нашего дома. Я бегал на этот угол. В большое витринное окно закрывшегося частного магазина, где помещался пункт ликбеза, тайком наблюдал за ней, сидящей среди таких же, как мне тогда казалось, старух. Как первоклассники, они старательно списывали с доски буквы. Учили их девочки из четвертого класса нашей школы, которая помещалась за чугунной решеткой наискосок, на той же улице Восстания.
Узнав, что Трусова (это была фамилия Агафоновны) живет в нашей семье, девочки, почему-то под секретом, сообщили мне, что «она способная», и я погордился за свою няньку.
Она и в самом деле быстро научилась читать, сперва по складам, а потом почти бегло. И по вечерам, надев очки, сидела над книжками.
Выйдя из бедняцкой семьи, она вовсе не была набожной, хотя эмалированная иконка с ликом Николы Чудотворца, привязанная ленточкой, висела в изголовье над ее кроватью. В Вятке любила распевать молитвы, но как-то не по-церковному, слишком весело и бойко. Маленького водила меня по церквам, потому что там «красиво». А в церкви и в самом деле все бывало красиво и таинственно. Над головой плыли чистые женские голоса, огни свечей отражались в золоте и темных стеклах икон. К тому же там всегда дурманяще-сладко пахло. Мне церковь нравилась. Она была моим первым в жизни театром.
Много позже в Ленинграде, забывая о каких-либо молитвах на несколько месяцев, нянька вдруг спохватывалась, вынимала из сундука черную кружевную косынку и отправлялась к обедне или всенощной. Из церкви возвращалась оживленной, рассказывала, как шла служба, и опять-таки без всякого религиозного благоговения, а так, будто сходила в кино, до которого была большая охотница.
В последние годы жизни, когда далеко ходить сделалось нелегко, она, не задумываясь, отправлялась помолиться в католический костел по соседству с нашим домом, на Ковенском переулке. Если же над ней добродушно посмеивались и говорили, что она поступает против своего вероисповедания, Агафоновна спокойно отвечала:
— Ну и чего такого?! Бог-то один. Надо, так услышит.
Впрочем, думаю, ответ этот был не лишен юмора, которым нянька обладала в достаточной мере.
Вместе с отцом и нашей мамой Фекла Агафоновна пережила в опустевшей ледяной квартире блокадные дни. Потом, в начале сорок второго года, она похоронила скончавшуюся от голода и тоски по нам четверым маму. Отец тогда не ходил, а нянька двигалась. Затем оба они, под нажимом домкома, были эвакуированы. Агафоновна уехала в родимое Педуново в Кировской области, деревню, оставленную ею лет тридцать с лишком назад.
Наверное, года за полтора до конца войны по полевой почте я получил от нее письмо, написанное племянницей под диктовку. Старая нянька просила меня беречь себя, надеялась на встречу и сообщала, что все думает о нас с Димкой. Ведь из четырех братьев мы с ним были ее любимчиками.
К концу войны выздоровевший и поскитавшийся по тылам отец вернулся в свою занятую чужими людьми квартиру. Он отвоевал себе комнату и достал пропуск в Ленинград Агафоновне.
Они снова зажили вместе, ожидая тех из нас, кому повезет.
Мне повезло. Я вернулся.
За дверью, которая отворялась для меня чуть ли не полтора десятка лет, услышал звук поднятого крюка. На пороге стояла нянька, как показалось мне, ничуть не изменившаяся. Она отворила двери, которые закрыла за мной в июле сорок первого, когда я, отпущенный из военного училища, забегал домой попрощаться с родными. Фекла Агафоновна первой встретила меня после четырех лет разлуки.
В обшарпанной передней горела тусклая лампочка, но и в слабом свете я увидел, как заблестели глаза няньки и на щеках ее скуластенького лица показались слезы радости.
Наверное, еще не веря в то, что перед ней я — живой, целехонький, она не сразу стала меня обнимать, а тут же закричала, чтобы услышал отец:
— Кадик-то!.. Кадик наш приехал!
Так старое, казалось позабытое, вятское детство вернулось в мою жизнь.
Странное это, непоборимое явление. Чем дальше отдаляется человек от детских лет, какими бы они у него ни были, тем явственней они перед ним предстают, становятся милее и памятнее своей грустью.
Шло время, и, по мере того как уходили в прошлое мои ранние годы, все чаще припоминал я надолго позабытое.
Являлись мне яркие картины провинциального детства. Как-то по-особенному стали близки старшие товарищи по первой моей профессии, замечательные художники Юрий Васнецов и Евгений Чарушин — оба выходцы из Вятки, хранившие сыновнюю преданность ее земле. Давно ставшие ленинградцами, они, встречаясь с «земляком», непременно припоминали что-либо из далекой их вятской жизни, где у них прошло не только детство, но и добрая пора юности. Близок им был и нынешний город, названный славным именем Кирова.
Я ехать в Киров боялся. Меня страшило, что образ нового Кирова закроет от меня тихую и немного сонную Вятку, ее знакомые окраины.
Я знал, что именно война сделала город иным. Слышал о том и читал. Я чуждался встречи с промышленным Кировом. Что могло сохраниться в нем от Вятки моих ребячьих лет?!
Намереваясь написать повесть о давних мальчишеских годах, я пугался того, что мне этого уже никогда не удастся сделать после того, как я увижу нынешний Киров.
Время шло, повесть не писалась. И тогда, ободряемый друзьями-художниками, убеждавшими меня, что опасения мои напрасны, я решился отправиться на землю, «с которой рос».
Поезд из Ленинграда проходил Вятку-1 в седьмом часу утра. Станция в тот год еще носила прежнее название и этим как-то подготовила мое свидание с прошлым.
На платформе, несмотря на ранний час, меня встретил Василий Георгиевич Пленков.
Это было первым проявлением известного вятского гостеприимства. С Василием Георгиевичем до тех пор я был знаком лишь по переписке. Человек, влюбленный в родной край, казалось бы далекий от литературных дел землемер, он уже долгие годы по велению сердца занимался поисками материалов о людях, чей труд и чья жизнь оставили добрый след на вятской земле.
Это он, Пленков, отыскал точные свидетельства того, что в Вятской мужской гимназии учился Константин Эдуардович Циолковский. Не без настояния Пленкова городская набережная над Вяткой-рекой была названа именем Александра Грина, чье детство проходило неподалеку отсюда.
Знал он и о деятельности в Вятке моего отца и спрашивал меня в письмах, что я о нем помню.
Он зачислил в вятичи и меня, и вот теперь первый встречал меня, не поленившись в свои почти семьдесят лет подняться с зарей и приехать на вокзал. Больше того, добыл для встречи машину, что сделать было не, так-то просто.
Вокзал еще оставался таким, каким я его помнил. Правда, уже не звонил медный колокол, призывая пассажиров к посадке и давая поездам отправление. Электровозы с ромбами дуг, скользящих по проводам, отходили почти беззвучно после объявления по радио. А станция сделалась, наоборот, куда более шумной, многолюдной, загруженной множеством пассажирских и товарных составов. По-прежнему здесь останавливались все поезда Транссибирской дороги. Правда, экспрессы, спешащие в Сибирь и на Дальний Восток, теперь задерживались на Вятке-1 едва на несколько минут.
Город начинал подступать к вокзалу.
На пустынной в этот час площади не виделось ни извозчиков, ни подвод. Здесь сейчас было кольцо троллейбуса.
До центра, где находилась гостиница, надо было ехать почти через весь город. Присланный за мной «москвич» свернул с площади и побежал, поднимаясь вверх.
Улица тянулась длинной асфальтовой лентой, сменившей старый трясучий булыжник.
Навстречу нам попался стремительно пронесшийся автобус. Плотно заполненный пассажирами, он вез раннюю смену рабочих на завод в пригород.
Но вот мы уже и на улице Карла Маркса. Она то идет вверх, то седловиной опускается, чтобы сразу вновь подняться. Слева и справа остаются вятские домики, поблекшие и потемневшие. Здания с каменными — теперь уже вровень с землей — цокольными этажами, со ставшей ветхой узорной резьбой под карнизами. Попадаются и крепкие еще кирпичные купеческие особняки, и скромные покосившиеся домики в три окна. Они непременно отделены друг от друга старыми заборами, с воротами, когда-то столь внушительными и надежными. За ними высокие, с зеленой стеной листьев деревья. Милая постаревшая Вятка!
Скоро и центр.
Проезжаем внушительные каменные дома, некогда «казенные» губернские здания: больницы, училища, строения с лавками внизу, с еще сохранившимися железными ставнями.
Мне любопытно, будто я здесь в первый раз. Пытаюсь что-то припомнить, узнать. Поворачиваю голову то влево, то вправо. Василий Георгиевич молчит, догадываясь об охвативших меня чувствах.
Началось и знакомое. Переехали овраг. На дне его текла речка с далеким от поэтичности названием Засора. Прежде тут был мост, теперь — дамба. Слева по оврагу, такой памятный с детства, казавшийся необъятным Ботанический сад. В его нижней части был чудесный фонтан «Черное море», в котором на месте Крымского полуострова сидел белый мраморный лебедь. С нянькой Агафоновной мы ходили сюда в сад гулять и сидели в тенистой беседке под тентом у самого «Черного моря». Прогулка бывала не близкой и не столь уж частой.
Но как же не близкой! С годами сужаются просторы детства.
Две-три минуты пути на машине — и вот оно, я его вижу, красно-кирпичное здание со стрельчатыми окнами. Бывшая фабрика учебных пособий. Мне кажется, здесь я помню каждый кирпич. Вот этот дом, он уже рядом. Вовсе не такой большой, как казался раньше, но все-таки значительный. Как-никак и ныне завод! Машина равнодушно бежит мимо, а я готов выскочить на ходу. Здесь, на углу улиц Маркса и Герцена, прошли светлые годы моего раннего детства.
В одном из внутренних крыльев фабричного здания наша семья занимала квартиру. Мы поселились в ней в 1920 году.
До тех пор жили неподалеку отсюда, в нижнем этаже кирпичного двухэтажного дома на Спасской, теперь улице Дрелевского.
В семье у нас существовал рассказ о «конном матросе». Символический для дней революции, матрос в Вятке разъезжал на коне в седле, которое так не подходило к его клешам. Но матрос-комиссар скакал по крутым улицам вовсе не из желания казаться лихим кавалеристом. Ездить верхом в те дни было для него единственным удобным способом быстрого передвижения по городу.
Тем необычным всадником был посланец петроградских большевиков балтиец Дрелевский, направленный в Вятку с отрядом моряков.
Я матроса на лошади, скорее всего, не видел. Видел бы — непременно запомнил, потому что помню куда менее значительное. В том, что я его не видел, нет ничего удивительного. На улицах Вятки в то тревожное время слышались выстрелы. Меня от них, как могли, оберегали за забором двора, в глубине которого стоял наш дом с кирпичными стенами.
Кто этот матрос на коне, не очень хорошо знали и мои родители, поскольку им с ним дела иметь не привелось.
В день запоздалого приезда в Киров достоверное о нем я впервые узнал от Василия Георгиевича Пленкова, которому еще по дороге с вокзала рассказал о домашней легенде про «конного матроса».
Именно Спасскую улицу назвали именем Дрелевского, но назвали уже после того, как мы навсегда покинули Вятку. Полузабытая яркая фигура большевика-балтийца обрела реальные черты стараниями людей, занявшихся историей революционной борьбы в крае. Сведений о нем было так немного, что не сразу смогли установить и то, как правильно писалась фамилия петроградца — Дрылевский или Дрелевский.
Теперь хорошо известно. Большевистский комиссар — балтийский матрос Дрелевский — погиб на юге вятской земли в борьбе с контрреволюционными бандами в 1918 году.
Да, я мог видеть Дрелевского, но не видел его. Зато на той же Спасской мне запомнилось навсегда другое.
Однажды мы, мальчишки, выбежав за ворота, наблюдали: по середине улицы, со стороны центра, шел человек со склоненной головой, сцепив за спиной руки, За ним на небольшом расстоянии шагал другой, в кепке и кожаной тужурке. Он держал на весу маузер, дуло которого было направлено в спину конвоируемого. С дороги они резко свернули влево и прошли в двери белого двухэтажного дома. Этот, ставший ниже, меньше того, каким он мне тогда казался, дом был прежним. Я узнал его, поглядев в сторону улицы Дрелевского. Что находилось в нем в те далекие годы, для меня так и осталось неизвестным. Но я и тогда знал, там была не ЧК. Она заняла похожий на замок особняк пароходчика Булычева в верхней точке широкой Николаевской улицы — главной улице Вятки, уже тогда переименованной в улицу Ленина.
Как-то мы с мамой шли по этой самой людной улице. Булычевский особняк поразил меня устремленными в небо красными башнями с окнами, похожими на острия кинжалов. Я спросил маму, что это за дворец. Мама ответила: «Это не дворец, тут Чека». Не помню, расспрашивал ли я, что это за Чека поселилось в высоком здании и как мне это объяснили, но слово «Чека» в нашем доме произносилось без страха. Хотя запомнилось, как кто-то из гостей напуганно рассказывал: «Слышали, его взяли в Чека…»
Но интересовало «спасских мальчишек» другое.
На углу нашей улицы и Карла Маркса находилась теперь уже не существующая городская электростанция. Полуподвальные окна станции летом отворялись настежь. С улицы они были надежно защищены узорчатыми чугунными решетками. Мы припадали к решеткам и зачарованно смотрели на крутящийся за окнами маховик. Машина казалась нам гигантской. Колесо наполовину уходило в щель, сделанную в выложенном светлыми плитами полу. Из подвала тянуло жаром. Там горел яркий электрический свет. Что-то чавкало и сопело.
Дом на бывшей Спасской улице я отыскал сразу же, в день приезда. Теперь со стороны улицы Дрелевского он был закрыт высоким многоквартирным зданием. Но красно-кирпичный двухэтажный дом оставался нисколько не измененным. В Кирове не было бомбежки, и звон разбитого стекла слышался лишь в ветреные дни. Кто знает, может быть, и стекла в окнах остались теми, которыми я любовался в морозные дни, когда покрывались они узором сказочного белого леса. Я дышал на густые его ветви и, протерев глазок, смотрел на заснеженный двор, когда в лютый холод меня не пускали на улицу. Мне бывало завидно. Мой приятель из флигеля Колька Захваткин носился по двору, какой бы ни стоял мороз. По-собачьи болтались уши его не завязанной меховой шапки.
В верхнем этаже флигеля, в небольшой квартирке, жил со своей женой папин давнишний знакомый Иван Михайлович — мой крестный отец, как о том было написано в метрике, выданной Иркутской лютеранской церковью.
Иван Михайлович — замечательный тульский механик, умелец-самоучка — приехал в Вятку вслед за нами. В Иркутске он служил под началом отца в обсерватории и вот потянулся за ним в Вятку, чтобы работать вместе. Это был располагающий к себе человек с моржовыми усами, пахнувшими крепким табаком. Над низкой оттоманкой во второй комнате их квартиры висел ковер с изображением псовой охоты. Иван Михайлович был заядлый охотник. Поверх ковра висели притягивающие мой взгляд два ружья с дулами вороненой стали: двустволка и совсем удивительное, в три ствола. Ходить на охоту в Вятке было недалеко. Леса — бесконечные, населенные разным зверьем — находились едва ли в трех-четырех верстах от города.
Когда я поднимался по узенькой лестнице к Ивану Михайловичу, на площадке меня всегда, приветливо виляя похожим на гриву хвостом, встречал медно-красный сеттер Ада. Я любил гладить ее теплую волосатую спину и повторял перенятую у отца песенку:
Папиросы «Ада», «Ада»! Покурить их надо, надо…С тех пор имя «Ада» у меня всегда объединяется с запахом табака в усах Ивана Михайловича и с рыжим добрым сеттером.
Пока жили мы на Спасской, в большом доме на улице Маркса шел ремонт.
Здание это со стрельчатыми окнами возводилось земской управой для фабрики учебных пособий, но пришла война, и строительство замедлилось. В 1916 году директором фабрики был назначен отец, но его мечтам о новом, удобном для производства пособий помещении удалось сбыться не сразу.
Еще только завершилось строительство фабрики, еще далеко было до отделки помещений, как новое здание (было это в 1919 году) занял армейский эвакопункт. Хозяином его стало командование 3-й армии.
Эвакопункт пробыл здесь не дольше трех месяцев, оставив здание в антисанитарном состоянии.
С большим трудом отцу удалось снова наладить работы по строительству и ремонту. Но тут пришел час, над городом нависла угроза быть занятым белыми. Взяв Пермь, адмирал Колчак наступал дальше на запад.
Шли тревожные дни. Положение в городе было напряженным. По-разному собирались в Вятке встретить омского правителя. Кто готовился уйти в подполье, чтобы продолжать борьбу, кто ждал белых со страхом, кто — с тайной надеждой на месть и восстановление былых порядков.
Сражаясь с войсками Колчака, город обороняла 3-я армия. Полчища сибирского диктатора уже приближались к подступам Вятки. Меж тем множество горожан не пряталось по домам. На просторной ярмарочной площади у громады собора, выстроенного сосланным при Николае I в Вятку даровитым архитектором Витбергом, поднялся аэростат. К баллону — «колбасе» — была приделана корзина, придерживаемая с земли канатом. Из корзины, как воздухоплаватель в XIX веке, человек смотрел в бинокль на вятские дали, стараясь увидеть, как обстоят дела на фронте: далеко ли красные и где находятся колчаковские части. Внизу сообщений из гондолы ждала задравшая головы вверх огромная, сбежавшаяся на площадь толпа зевак.
Моя молодая, бесстрашная нянька не отставала от событий.
Отправившись со мной гулять, она, скорее всего без ведома мамы, потащила меня на площадь. Нянька поднимала меня ввысь на своих крепких руках и требовала: «Гляди, гляди…» — будто я мог что-то увидеть кроме висящего в небе аэростата.
Колчак до Вятки не дошел.
Грозившийся взять ее адмирал был наголову разбит Красной Армией на далеких подступах к городу. От вятской земли верховный правитель уже только отступал до полного своего разгрома, о чем пелось тогда в популярной песенке: «Как иркутское Чека расстреляло Колчака».
Город Вятка вообще был счастливо избавлен от больших военных потрясений. После утверждения Советской власти он по-прежнему оставался сперва далеким тылом боев на западе, а потом последним большим городом на восточном краю земли свободного острова молодой Российской республики.
Мне не минуло и пяти лет, когда окончилась гражданская война. Через Вятку проходили войска, возвращавшиеся с Восточного фронта. Ярко запечатлелась в памяти одна из картин того, уже счастливого для России, времени.
К вечеру, перед заходом солнца, нянька брала меня с собой посидеть за воротами, хотя кому-кому, а уж мне-то на скамейке вовсе не сиделось. Но в тот час, когда тут, поднимая едкую пыль с булыжника, длинной колонной проходила красная пехота, я, наверно, притих, оттого и так хорошо помню увиденное.
Мимо нашего дома шли усталые красноармейцы, с темными пятнами от пота на ставших почти белыми застиранных, кургузых гимнастерках. На плечах их хомутами висели тяжелые скатки шинелей. Поскрипывали привязанные к скаткам жестяные котелки. Обмотки на ногах красноармейцев и тяжелые их ботинки были бурыми от пыли, улегшейся на них плотным слоем.
Впереди пеших рот на низкорослых лошадках ехали их командиры. За ротами громыхали походные кухни с сидящим на козлах — зеленом ящике — красноармейцем-кашеваром.
Колонна растянулась по всей улице Карла Маркса. Колеблющийся строй двигался сверху, от деревянного театра, мимо электростанции и фабричного здания, в сторону железной дороги. Голова колонны уже терялась далеко впереди, а конца еще не было видно.
Но вот настал и конец строя.
Последним мимо нас прошагал молоденький красноармеец такого маленького роста, что казался мальчишкой в буденовке. Металлическим затыльником ложа винтовки он едва не задевал камней мостовой. В своей шеренге он был единственным, одновременно и правофланговым, и замыкающим строй. За ним уже двигался обоз и ехали санитарные двуколки — фургоны с красными крестами на выгоревшем на солнце, обмытом дождями брезенте.
Устало шагавшая пехота пела. Головные в, ротах начинали песню, идущие вслед подхватывали, шагавшие сзади допевали.
Пел и тот, единственный в последней шеренге, красноармеец.
Он шагал, всем своим видом стараясь показать, что вовсе не мал и не слаб. Что может пройти еще сколько угодно. Поглядывая в нашу сторону и, озорно подмигивая женщинам, сидевшим на скамейке, в то же время продолжал бодро тянуть:
Смело-о-о мы в бой пойдем За вла-асть Советов И ка-а-ак один умрем За де-ело это!Пел он так весело, что, было видно, радовался тому, что кончилась война и он жив и идет домой.
Этими прошагавшими по улице красноармейскими ротами утвердился в моей детской памяти конец гражданской войны.
Я стою на улице Карла Маркса, чуть выше окон бывшей электростанции. Здесь была верхняя граница моего детства. Нижняя по той же улице условно обозначалась бывшим губернаторским домом, сразу за углом Герценовской. Это было огромное пространство для беготни, как теперь выясняется, по совсем небольшому городскому участку. Но самым любимым на нем была наша фабрика, которая находилась посередине. Я гляжу на фабричный дом издали. Мимо, по ныне бойкой улице, потоком идет транспорт. Едут троллейбусы, автобусы, грузовые машины. Но я не слышу их шума. Я все равно ощущаю гул станков и лязганье металла, доносившихся до моих ушей летом, когда окна мастерских фабрики отворялись настежь и шум его цехов рвался в тогда еще тихий квартал. Этот гул, скрежет и лязганье навсегда запечатлелись в моей памяти, словно записанные на магнитофонную ленту.
По улице Маркса спускаюсь на другую черту границы, куда мне разрешалось удаляться без особого спроса. Чуть выше на пригорке знаменитая «Герценовка». Библиотеку здесь основал еще сам Александр Иванович, некогда молодым человеком сосланный в Вятку. Теперь, на улице, носящей его имя, здание библиотеки раза в три больше, чем то, которое я знал, но мне и тогда белый двухэтажный дом казался внушительным. Над входом балкон. Он на прежнем месте, где был всегда.
Помню теплый весенний день.
На балконе библиотеки девушки в белых блузках. Держа в руках переплетенные крепкие томики, они ударами о балконные перила выколачивали из книг давнишнюю пыль. Мирная пальба слышалась окрест, долетала и до нашей квартиры. В окна ее были видны библиотека, балкон и девушки, выбивавшие тогда пыль из книг, наверное собранных самим Александром Ивановичем.
Все так же круто поднимается вверх улица Герцена, но глубоко под покрывшим ее асфальтом покоятся сточные канавы. По весне сверху с горы по ним бурно бежали ручьи талого снега. Мы опускали в канаву выструганные из досочек кораблики. Вода их мгновенно подхватывала и стремительно уносила вниз по улице. Кидаясь во весь дух вслед корабликам, мы едва успевали за своим самодельным флотом.
Фабричное здание теперь разрослось, соединившись с соседними каменными домами. Двери со стрельчатым порталом, через которые я бегал тысячи раз, плотно закрыты. Нынче вход на фабрику за углом, с улицы Герцена. Но пусть затворены старые парадные двери, я сквозь них вижу марши лестницы на второй этаж и коридоры, ведущие в цехи и контору.
Были дни, я бегал в это здание, когда его уже покинули военные, но до начала работы фабрики еще оставалось время. Тогда в гулких пустых помещениях стучали молотки и визжали рубанки. Здесь громко переговаривались плотники, а на крыше, где орудовали кровельщики, гремело железо. Во двор выносили и со страшным скрежетом сбрасывали в кучу лома длиннющие корыта помятых умывальников из позеленевшей меди. Мало-помалу дом обретал обновленный, чистый вид.
Настал день, и мы перебрались в квартиру при фабрике. Мы — мальчики, все четверо, вместе с нянькой — поместились в большой комнате с выбеленными стенами. Занавесей на окнах не нашлось, и всю нашу жизнь можно было наблюдать с улицы. Но наблюдать ее было некому — дома напротив были малы и, кроме белого потолка нашей комнаты, увидеть из них ничего бы не удалось.
Вчетвером мы находились недолго. Вскоре комнату разделили перегородкой, через которую слышался даже скрип пера, когда кто-то из старших братьев готовил уроки. Мы, младшие, с Агафоновной жили в узком, как поставленный на ребро огромный спичечный коробок, помещении.
А производство учебных пособий в новом здании уже началось. Против окон с другой стороны квартиры, на втором этаже, завертелись токарные станки. И сейчас в ушах моих стоит дружное шлепанье трансмиссионных ремней. Я слышу их шум и чувствую, как вибрирует пол от их работы. Я ощущаю теплый запах металлической стружки: змеино извиваясь, она сползает на пол и укладывается там радужной кудрявой горкой.
За стеклами решетчатой стенки, на краю цеха, находится Иван Михайлович. Конторку его я обхожу стороной. Он может отправить меня домой, хотя человек он очень добрый. А рабочим?! Им, кажется, даже нравится, когда я стою рядом и смотрю, как из грубой черной болванки вырисовывается сияющая замысловатая деталь какого-то прибора. Так на втором этаже. А снизу в том же крыле истерический вой пилы, нарезающей из досок бруски и плоские деревянные пластины. Пол тут белый от толстого слоя опилок, и ходить по нему мягко, как по песку.
Появляться в токарном и здесь, в деревообделочном, мне запрещено. А ну я из любопытства суну куда-нибудь руку? Мысль эта приводила маму в дрожь. Какая может случиться беда! Но я, улучив момент, когда нянька занималась маленьким Димкой, а мама думала, что я гуляю во дворе, забегал в мастерские.
Интерес к машинам и к тому, что на них делается, у меня был столь велик, что думалось — профессия инженера мне предопределена.
В деле расширения производства учебных пособий, которые все больше поступали из Вятки в школы страны, была немалая заслуга отца.
Физик-теоретик по образованию, он, в силу своей энергичной натуры, не любил кабинетной работы, хотя и в молодые годы уже имел серьезные печатные труды. Тяга к созидательной деятельности привела его в Вятку, где все было нужно начинать чуть ли не с самого начала. В двадцатом году он бился за новое здание, по праву должное принадлежать фабрике.
Неожиданные препятствия выявились в том, что начальство армейского тыла вознамерилось снова занять помещение, как только ремонт здания подошел к концу.
Но не так был прост мой отец, чтобы отступать от своих намерений, тем более в год, когда над молодой Советской землей забрезжил долгожданный мир. Узнав о планах армейских интендантов, он принял свои контрмеры.
На производство учебных пособий работало множество вятских крестьян-кустарей. К ним-то, через своих помощников, и обратился в решающий час мой отец.
В нужный день в город — происходило это ранней зимой — съехалось великое множество крестьянских подвод. Невысокие мохнатые лошаденки «вятки» были впряжены в широкие розвальни. На розвальни и грузились детали различных станков из разбросанных в дальних краях города мастерских, принадлежащих предприятию, которым руководил отец.
Весь день до ночи возили крестьяне на своих санях непривычную для них поклажу. Рабочие спешно устанавливали станки по своим местам в новых помещениях. Привинчивали их к полу, налаживали приводы. Всю ночь в кирпичном здании на улице Карла Маркса горел свет в больших островерхих окнах.
Я отчетливо помню тот зимний день. Я видел движение, как мне тогда казалось, несметного количества саней, слышал многоголосное «взяли!», «на попа!», «еще, еще малость!..» — дружные возгласы снимавших с розвальней и ставящих на доски тяжелые предметы, катящих их и несущих к широко распахнутым дверям. Отец стоял посреди двора и, возбужденный, волнующийся, громко отдавал команду. В серой папахе, в бекеше, с расстегнутым воротом, в эти минуты он был похож на полководца, хоть войском его были вятские мужики с их небольшими лошаденками да рабочий люд мастерских.
Но немногочисленное это войско действовало успешно. К утру были заняты все цеха. Расставлены верстаки в столярной, тяжелые прессы и бумагорезательные машины в переплетной. Стеклянные колбы с различными химикатами в цехе травления металлов. Даже конторщики, придя на работу по новому адресу, с утра уселись за свои шведские бюро.
Армейским тыловикам пришлось капитулировать. Взятое с боя дело службы миру победило.
Те, кому сейчас за пятьдесят и за сорок, не могут не помнить, что на доброй половине школьных пособий, по которым они учились, стояла марка: «г. Вятка». А мне долгие годы встреча с глобусом на подставке, вокруг которого бегала луна, приводимая в движение поворотом ручки, казалась свиданием с вятским детством.
Если наша квартира была при фабрике, то я, по-моему, жил в самой фабрике. Здание ее было наполнено запахами, которые, если я закрываю глаза, слышу до сих пор. Вот смолистый дух обработанной токарем березовой чурки. Вот крепкий запах столярного клея и кислый, кисельный запах клейстера. В нижнем этаже работают женщины. Тут цех папье-маше. В каменные формы они накладывают сырые листочки бумаги. Потом выклеенное высыхает, и получаются половинки коровок, лошадей и оленей. Половинки склеивают, и одинаково белые, слепые звери выстраиваются на полках. Затем они пойдут в комнату, где их станут раскрашивать. Оттуда лошадки появятся черными и блестящими, коровки — пятнистыми. Подсыхая, они будут аппетитно пахнуть краской. Но еще вкуснее запах лака, которым их покроют напоследок.
Я часто бегаю в цех папье-маше, где добрые женщины снабжают меня листами мундштучной бумаги.
Я беру этот грубоватый, кремового тона лист, немногим меньше моего роста, и возвращаюсь наверх, в квартиру. Там укладываюсь на пол и начинаю рисовать. Я рисую все: наш фабричный дом, проезжающего по улице конника в буденовке, демонстрацию в день Парижской коммуны и… лошадок, лошадок, лошадок.
Рисунки огромные. Все в полный лист, но и его пространства мне не хватает. Не хватает и красок. Мне мало их цвета, а смешивать краски я еще не научился. Лошади у меня выходили красными, синими, зелеными.
Конюшни, каретник, где стояли пролетки, тарантасы, шарабан, двуколка и поставленные на голую землю санки находились тут же, во дворе при фабрике. Из узких, продолговатых окон в бревенчатых стенах слышалось похрупывание коней, жующих овес.
За конюхами и кучерами я проникал в конюшни и мог часами смотреть, как скребками чистили переминавшихся с ноги на ногу лошадей.
Отец поощрял мою любовь к лошадям. Мне было куплено мягкое казацкое седло — кожаная подушка, перетянутая посередине широким ремнем. Стремена в седле подтянули выше всяких мер, так, чтобы я мог их касаться хотя бы носками ботинок.
На довольно спокойном мерине я легкой рысцой объезжал фабричный двор. Понятно, что за зависть рождало это у соседских мальчишек! Раз я свалился с седла, но все обошлось, и я снова катался верхом.
С благодарностью к вятским конюхам я припомнил эти свои ранние навыки верховой езды, когда со своей ротой очутился на левом фланге Сталинградской битвы, в калмыцких песках. Именно там мне пришлось стать чуть ли не настоящим кавалеристом. Верховой конь был тут единственным надежным средством связи со штабами батальона и бригады.
Взобравшись в седло, на этот раз уже твердое, английское, я уже через два-три дня, на удивление моих взводных и солдат, мог и ездить рысью, и стоять на стременах, когда конь шел галопом.
Пути моих верховых рейдов были не близки. Штабы находились на изрядном расстоянии от подразделений.
Сокращая путь, я часто скакал напрямик через натвердо загустевшие соленые озера. Однажды это едва не стоило жизни и мне, и коню. В центре озера мы провалились в трясину, которая стала нас засасывать. Соскользнув с седла, я пополз по пружинистой солевой массе. Она меня выдержала. Повода я не отпускал, и мой дрожащий от страха рыжий Васька тоже выбрался на затвердевший грунт. Я снова сел на коня. Как радостно бежал он вперед! В Вятке меня учили: лошадь никогда не бросит тебя, и ты ее не бросай. Урок не прошел даром.
Отец и сам чуть ли не по-детски увлекался лошадьми.
Он вообще был натурой увлекающейся. В некоторых своих увлечениях доходил до крайностей, граничащих с чудачеством, но всегда доводил то, чем увлекался, до профессиональных высот, а затем вдруг остывал и никогда уже к тому, что так любил, не возвращался.
Долгие годы в шкафах наших квартир валялись разные фотоаппараты. Были среди них деревянные, и довольно внушительного размера, и маленькие пленочные «кодаки». Были аппараты с выдвигающейся вслед за объективом красной блестящей гармошечкой и с двумя объективами для съемки стереоскопических изображений. Теснились по кладовкам и штативы, лежало множество каких-то плоских белых и черных ванночек — всего того, что говорило о рьяном увлечении фотографией.
Фотографированием он занимался еще в Иркутске и достиг в том немалого. Уже делал и цветные снимки, правда, тогда еще только на стекле. Но георгины и астры смотрелись на свет в своих подлинных красках.
Увлекался и самими цветами. Выращивал курчавые и кремовые чудо-хризантемы и даже участвовал в выставках, получая любительские дипломы. И так же потом охладел к разведению цветов, как к фотографии. Редкие японские секаторы (особенные щипцы для срезки цветов) потом употреблялись нами, мальчишками, для колки орехов, а то и для забивания гвоздей.
В Вятке, после переезда в фабричный дом, он увлекся лошадьми. Хотел, чтобы самые лучшие в городе были на фабрике.
Он всегда любил эффектное, добротное и броское.
Теперь он захотел, чтобы у директора фабрики учебных пособий — крупнейшего тогда в городе предприятия — был, как тогда еще говорили, красивый выезд.
И выезд был.
Где-то был приобретен молодой конь-трехлетка. Полукровка, но по виду и темпераменту — чистейший рысак. Светло-серый, с голубизной, в белых яблоках — Красавец жеребец, которому отец придумал кличку Азарт. Для езды на Азарте требовался умелый кучер. Нашли и кучера. Им был краснобородый татарин Незамутин.
Для рысака понадобилась соответствующая его натуре коляска. Отыскали коляску. Это был отлично сохранившийся экипаж типа пролетки, но большой и щегольской. На широком кучерском месте могли помещаться двое. Просторное сиденье для пассажиров было обито гладкой лоснящейся кожей и напоминало сиденье кабинетного дивана. Дорогая пролетка прежде принадлежала какому-то графу. Графский герб с золотой короной и еще какими-то знаками красовался на борту экипажа. С большим трудом и ухищрениями его удалось замазать.
Но на таком экипаже немыслим был кучер в прозаической одежде вятских извозчиков или кучеров казенных выездов.
Молодость отец провел в царской столице. Был студентом Петербургского университета. Конечно, он вряд ли ездил в богатых колясках. Даже на обыкновенных извозчиках, думаю, не очень-то. Больше на трамвае, да успел еще и на конке. Но всяческих лихачей на улицах Петербурга повидал немало. Он вспомнил, как выглядели эти важные кучера и чем были убраны их рослые кони.
Вятские шорники изготовили для Азарта сбрую с медным набором и кожаными кисточками. Сам Незамутин был облачен в темно-синий казакин. На голову ему был надет черный, суженный книзу цилиндр с медной пряжкой. Азарта накрывали белой попоной, похожей на рыбацкие сети, только с бахромой по краям. В этом единственном на всю Вятку выезде отец навещал губернские советские учреждения.
Далеко ездить приходилось редко. Азарт, бывало, сотней своих широких шагов домчит экипаж до края города. Мама посмеивалась над очередным отцовским увлечением и называла Азарта «нашим Холстомером».
Но мне было не до смеха. Я глаз не мог оторвать от рысака, которого успел нарисовать уже десятки раз. Стоило Незамутину подать коляску к конторским дверям, как я был уже тут как тут и, замерев, смотрел на коня и всю его упряжь.
Ожидая выхода отца, Незамутин браво сидел на широких козлах. Его огненная борода торчала вперед. На меня Незамутин не обращал ни малейшего внимания, Но я терпеливо ждал. Вот сейчас выйдет отец, я попрошу взять меня с собой. Попрошусь так старательно и жалостливо, что он махнет рукой и кивнет в знак согласия.
Улыбка еще не сходила с лица папы, а я, кинувшись в пролетку, уже забивался в угол мягкого сиденья, чтобы рядом с ним лететь по булыжной мостовой.
Но Незамутин пробыл в кучерах недолго. Вместе со своей татарской семьей он уехал на Волгу, на родину. Азарту нашли другого кучера — выходца из донских казаков, доброго усача Владимира. Для коня началась новая и мало похожая на прежнюю жизнь. Владимир стал для Азарта другом. По двору недавно столь норовистый жеребец прогуливался без поводка, идя за кучером, как преданный пес. Раньше, когда Азарта впрягали в оглобли, вместе с Незамутином в том участвовали еще два конюха. Владимир преспокойнейшим образом справлялся один. Теперь уже рысак и его кучер никого не приводили в трепет.
С Владимиром дружил и я. При Незамутине о таком не могло и мечтаться. Я порой ездил на козлах рядом с кучером. И — подумать только! — иногда он давал мне подержать вожжи Азарта.
Да, мне повезло, но отец считал, что Владимир испортил Азарта. С добряком кучером он-де утратил свой рысистый кураж. И вида у выезда прежнего не стало. Владимир сидел на козлах в чесучовой куртке и брезентовых сапогах. На голове белая фуражка. Так было летом. Но нечего было надеяться, что он зимой наденет кучерской цилиндр. Впрочем, и отец, к тому времени занятый по горло производственными делами, утратил интерес к лошадям и коляскам.
Дальнейшая судьба Азарта была грустна. В Вятку начали поступать машины, да и никто, кроме моего отца, потом не решался ездить в графском экипаже. С годами Азарт превратился в обычную разъезжую лошадь. Рысака, которого некогда кормили специальным сортом овса, теперь можно было видеть за городом на выгоне, пасущегося по соседству с обыкновенными рабочими конягами.
В годы, о которых идет речь, дела на фабрике шли успешно. Молодая Советская республика по призыву Ленина училась от мала до велика. Нужда в школьных пособиях была огромна. Производство их в Вятке расширялось. Отцу доверили его полностью. Он был единоначальником. «Красного директора» из выдвиженцев — рабочих, которых тогда ставили на каждое крупное предприятие, — на нашей фабрике не было.
Отец часто ездил в Москву. В Наркомате просвещения отца знали.
Время в красной столице было трудное. С продуктами приходилось тяжело. А в Вятке голода не было никогда. Правда, то, что существует белый хлеб, я узнал лишь лет в семь. До того, довольствуясь вятским ржаным, и не подозревал, что на свете есть булка.
Снаряжая отца в Москву, ему собирали большую плетеную корзину с продуктами. Укладывались завернутые в промасленную бумагу куры, крутые яйца, сваренная в соленой воде говядина и прочие продукты, годные для долгого хранения.
Возвращался он похудевший, деятельный, полный столичных впечатлений. Я просыпался от звуков его громкого голоса. Он рассказывал маме об успешных делах, о том, что успел побывать и в театрах. Слышались, сразу запомнившиеся слова: «имажинисты», «Вахтангов», «Турандот», «Мейерхольд»… Последнее имя меня почему-то особенно занимало. Мейерхольд!.. Мне тут представлялось что-то взъерошенное, морозно-холодящее.
Известно, какой бурной жизнью, борьбой течений, спорами, ниспроверганием привычного и утверждением всяческого новаторства жила в те годы творческая интеллигенция столицы. За московскими и петроградскими спорщиками тянулись и кое-где в провинции.
До Вятки новые течения доходили в малой степени, но увлечение искусством было немалым.
Фабрика учебных пособий тут была впереди.
В центре нового здания, на втором этаже, помещался клуб с маленькой, одетой в сукно, сценой. Дверь со сцены вела в контору, в которой во время представлений устраивалась артистическая.
На этой сцене выступали звезды местного театра. В голодные годы в Вятку съехались значительные артистические силы. Драматические актеры, певцы, музыканты. Помню, какая-то балерина изображала на клубной сцене умирающего лебедя. Пели отличный баритон Еремин и лирическое сопрано Роза Изгур. Будущий профессор Ленинградской консерватории пианист Мервольф давал концерты..
Но «представляли» и свои. Играли спектакли служащие фабрики. Был и свой премьер — счетовод. В «Без вины виноватых» он играл Незнамова. В самом конце спектакля распахивал белую косоворотку и обнажал грудь с медальоном. Агафоновна, которая, сидя в первом ряду, держала меня на руках, в этом месте обливалась слезами. Много лет позже, увидев пьесу Островского в кино, она заявила:
— Нет. В Вятке лучше представляли, чувствительней.
Когда по республике прокатилась триумфальная слава «Потопа» в Первой студии МХАТа, «Потоп» Бергера ставили повсюду. Ставили и у нас на фабрике. Из этого спектакля не запомнилось ничего, кроме того, как во входных дверях в бар сталкивались два его завсегдатая.
После представления «Потопа» мы с моим тогдашним приятелем — сыном истопника Подвальским Петькой — решили повторить «Потоп» своими силами.
Сцену и декорации соорудили из каких-то оставшихся непокрашенными оконных рам. Театр у нас был летний, открытый, на краю фабричного двора. «Швиштакль» — так Колька произносил это новое для него слово — мы намеревались сыграть вдвоем. Других исполнителей, видевших «Потоп», не нашлось. Мы уже начали репетировать момент встречи двух любителей выпить. Эту яркую сцену мы изображали примерно так:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Проходите.
— Нет, вы проходите.
— Ну ладно, я пройду.
— Нет, ладно, лучше я пройду.
Тут мы начинали толкать друг друга выпяченными животами и, не выдержав, принимались хохотать. Разыгранная сцена приводила в восторг нас самих.
Но дальше этого столкновения дело на репетиции не пошло.
Наше внимание отвлекло какое-то заунывное пение за забором. Там находилось кирпичное здание еще действующего госпиталя. В щели в заборе можно было увидеть все, что делалось в соседнем дворе. Там шло отпевание покойника. Он лежал в гробу с белым лицом и зажмуренными глазами. Рядом стоял седобородый поп в искрящейся на солнце парчовой ризе. В одной руке он держал крест, другою размахивал кадилом. Поп что-то негромко бормотал, кончая каждую фразу пением. При этом он то и дело смотрел в небо, будто оттуда ему подсказывали, что надо петь. Жалостливыми голосами ему вторили женщины — все в черном и в черных платках, повязанных до самых глаз и щек. Другие, не-такие похожие друг на друга, плакали у изголовья покойника.
Потом гроб подняли, и несколько мужчин понесли его на полотенцах, перекинутых через плечи. Священник, помахивая кадилом, пошел вслед. Из-под длиннополой рясы попа было видно — на ногах его надеты обыкновенные русские сапоги.
В отдалении от нас заиграл духовой оркестр, и мы бросились на улицу.
Это были первые похороны, которые мне пришлось видеть в своей жизни. Мне они понравились.
Наш «швиштакль» так и не состоялся. Мы забыли о нем в тот же день и были рады тому, что кто-то без нашего участия разобрал декорации во дворе.
Каким все стало близким!
Художественный музей, обещанного посещения которого я всегда дожидался неделями, а потом с мамой и отцом, принаряженный, казалось, долго шел к нему по нашей улице, теперь очутился совсем рядом, в самой близости к бывшей Спасской. От фабричного дома он чуть подальше кинотеатра «Колизей», тогда самого вместительного в Вятке, хотя и деревянного. Не сменив названия, уцелевший десятилетия, он действует и ныне. Идут тут широкоэкранные звуковые боевики, а я помню чудо-фильм «Снегурочка». На экране падал снег и ехала Снегурочка с бородатым Дедом Морозом в санях. Звенели бубенцы на дуге коренной. Это не то за экраном, не то сопровождавший фильм пианист названивал бубенчиками. Но и сейчас мне кажется, в «Колизее» скакала настоящая тройка, а картина была звуковая. Недаром же нянька Агафоновна тогда была зачарована «Снегурочкой» не меньше меня.
Пройти еще совсем немного, и вот он, Художественный музей, замечательная вятская скромная и прекрасная картинная галерея.
Старинный бело-желтый, с портиком — ампирной колоннадой, он ничуть не похож ни на один из окружающих его домов и кажется сбежавшим сюда дворянским особняком старой Москвы.
Поразительно, как хорошо я помню его увешанные картинами залы! Почти точно могу на память показать, какая где висела запомнившаяся мне картина. Много ли я бывал в нем? Наверное, всего-то несколько раз, но сейчас мне кажется, я ходил в музей чуть ли не каждый день.
Что говорить о том, как я спешил к нему на свидание после долгой разлуки. Чтобы войти в его двери, теперь не надо подниматься по ступенькам, наоборот, требуется чуть сойти вниз. Колеса пробегающих мимо троллейбусов находятся почти на уровне подоконников окон первого этажа.
Толкаю дверь, вхожу в вестибюль и облегченно вздыхаю. Он тот же, кажется, нимало не изменившийся. Круто, под углом поднимается лестница с тяжелыми балясинами. Настежь отворены двери в нижний этаж. Там в бронзовых рамах, темнея, поблескивают полотна старых мастеров.
Пожилая служительница у входа в зал терпеливо и настороженно наблюдает за мной. Я произвожу странное впечатление. Стою и сам себе глупо улыбаюсь. Как передать ей охватившие меня чувства?
Наполненный картинами дом со стенами метровой толщины определил мою жизнь. Может быть, не будь поблизости от фабричного здания этой сокровищницы искусства, я бы не стал ни художником, ни литератором. Но то, что я увидел здесь впервые в семь лет, навсегда обручило меня с карандашами, бумагой, красками…
Здесь после гула токарного цеха и визга лесопильных машин, я оказывался в царстве чего-то непостижимо прекрасного.
Была здесь картина, возле которой я всегда задерживался.
На полотне старинный художник в синем бархатном кафтане. В руках у него большая палитра и пучок длинных кистей. Поразительным было его лицо — очень простое, русское, со вздернутым носом и совсем светлыми глазами, глядящими пытливо и несколько удивленно. Этот автопортрет мне не забывался никогда.
Иду по залам первого этажа. Потолки здесь низкие, и картины висят на уровне глаз. Сворачиваю за угол влево. Вот здесь он некогда висел и… чудо! Портрет на том же месте, где был десятки лет назад. Теперь-то я уже знаю — это вятский живописец, полусамоучка, с распространенной в крае фамилией Чарушин. Получив звание внеклассного художника, он прожил всю жизнь в Вятке. Сорок лет писал другой свой автопортрет, совершенно не считаясь с тем, что «модель» старела от года к году. Чудаковатый художник твердил: «Вот окончу и пошлю в Петербург на соискание звания академика». Академиком живописи Чарушин не стал. Второй, до болезненности вымученный его автопортрет теперь висит тут же, но он только свидетель наивных надежд провинциального мечтателя. Но какой же это был в молодости яркий талант! Ранний его автопортрет — неоспоримый шедевр. Он и сейчас свеж, как прежде. Молодой Чарушин знакомо смотрел на меня любопытно и даже весело.
Я прошел другие залы, вернее, по размеру всего-навсего комнаты, и поднялся на второй этаж. Тесно завешаны стены музея полотнами русских художников разных поколений. Здесь не один десяток таких, что стали бы гордостью любого прославленного хранилища живописи. «Маленький Русский музей!» — сказал мне о нем один старый вятич. Это не преувеличение. С его утверждением согласится всякий, кому доведется побывать в стенах галереи на улице Маркса.
Для меня же эти залы полны особого, только мне известного смысла.
Был у моего отца и период интереса к живописи.
В двадцатые годы хранителем музея стал скромный, но очень серьезный художник Николай Николаевич Хохряков. Его небольшое живописное полотно и теперь висит у моего рабочего стола. Это внутреннее помещение вятского домика с садом, где жил Хохряков. Комната со старинным ковровым диваном красного дерева, с большим комодом и, разросшимся зеленым «цветом» у окна. Раскрытые двери ведут в другую комнату. Вся картина наполнена милым уютом русской провинции.
Домик Хохрякова с тенистым садом, где росли большие, с почерневшими от старости стволами березы, стоял в невероятном Кривом переулке, который, изогнувшись, сбегал в овраг от одной из прямых, будто разлинованных вятских улиц.
В те годы отец поддерживал художников и по возможности приобретал у них картины. Не очень-то разбирался он в живописи, и все же чутье у него было. Наглядно это сказалось в отношении к творчеству вятича Михаила Афанасьевича Демидова, которому он и заказал свой портрет.
На довольно крупном полотне отец изображен сидящим на диване. Перед диваном круглый стол красного дерева. На столе плоские книги большого формата. На одной из них подпись художника: «М. А. Демидов, 1922». Такого стола в кабинете отца не было. Кажется, тогда я впервые понял, что художник совсем не обязательно должен рисовать только то, что видит на самом деле.
Мне было позволено молча смотреть, как писался портрет. Демидов работал, не разговаривая с отцом и лишь поглядывая то на полотно, то на отца. Мне художник показался угрюмым человеком.
Когда портрет был почти завершен, Демидов остался недоволен фоном. Он унес полотно домой, захватив лоскут, оставшийся от обивки дивана. Узор материала казался художнику назойливым. На законченном портрете обивка дивана сделалась однотонной..
Был такой далекий весенний день. В музее открылась выставка Демидова. Картины были развешаны в главном зале во втором этаже. Одна из них мне в особенности нравилась. В свете солнечного дня, спиной к зрителю, у зеркала сидела женщина в кофточке в горошек. Лицо ее виделось отраженным в зеркале. Ветер отогнул угол занавески на окне, и луч солнца, проникший в комнату, играл в стекле флаконов на туалете.
Через много лет увидев это полотно в запасниках Кировского музея, я был рад, что ранние впечатления не обманули меня. Картина «У зеркала» оказалась отличным произведением.
Но тогда…
На стенах в зале много полотен, и почти на всех — солнечный свет. В зале шумно переговариваются. Я слышу голос отца. Он говорит громко. Рассуждает о том, что на смену сумрачному периоду в творчестве Демидова пришло время светлой, мажорной живописи.
Теперь уже не требуется доказательств: Демидов — большой мастер живописи, увы, не успевший сказать и половины того, что мог.
В молодости, учась и проведя несколько лет в Москве, он был близок творчеству блистательных мастеров-живописцев, почти сверстников Демидова, основавших группу «Бубновый валет» или разделяющих ее взгляды на искусство.
Империалистическая война оторвала Демидова от Москвы, а затем вернула в родную Вятку. Вятке он остался верен до конца жизни, несмотря на то, что творчество его могло далеко выйти за пределы областного масштаба. Он мог бы снова уехать в Москву и, нет сомнений, обрел бы заслуженную известность, но он остался в Вятке, посвятив себя ученикам, и умер сорока четырех лет.
Совсем немного учился у Демидова и я.
Мама, видя мое пристрастие к рисованию, обратилась к Михаилу Афанасьевичу. И вот я иду к нему на первый урок. Жил он на улице Свободы, в деревянном двухэтажном доме с двумя парадными — наверх и в первый этаж. Дом находился против сада «Аполло», как его продолжали упорно называть вятичи, хотя он давно носил имя «Сад трудящихся». На открытой сцене тут я как-то видел выступление синеблузников. Они выходили, бодро шагая один за другим, и пели:
Мы синеблузники, мы профсоюзники, Мы не баяны — соловьи…Я шел к Демидову и вспоминал, как забавно синеблузники играли буржуев в цилиндрах, с толстым пузом, в белых жилетах, на которых значились единицы и множество ноликов. Они же били буржуев по цилиндрам картонными молотами. Те падали, дрыгали ножками и просили пощады.
Я поднялся на второй этаж и вошел в комнату Михаила Афанасьевича. Он был занят тем, что вместе со своим племянником, немногим старше меня, пускал по полу механического заводного человечка. Человечек со ступнями, которые напоминали маленькие утюжки, ходил по комнате, скрипя пружинами.
Не знаю, кто больше радовался этой забаве, племянник художника или сам Михаил Афанасьевич.
Я увидел Демидова совсем не угрюмым, каким он казался мне раньше.
Михаил Афанасьевич отослал племянника вместе с механической игрушкой и усадил меня за стол. Он поставил передо мной небольшую керамическую вазочку с выпуклым цветным узором на ней, Я раскрыл большую самодельную тетрадь и принялся за работу, Демидов поставил и банку с водой и велел, чтобы потом я раскрасил рисунок. Сам он ушел в другую комнату. Когда он вернулся, рисунок был готов. На листе из мундштучной бумаги красовалась однобокая, лишенная симметрии ваза. Михаил Афанасьевич взял у меня карандаш и объяснил, как строится «центр» модели. Во второй раз я нарисовал вазочку значительно грамотней.
Бывает в жизни такое, что можно приписать лишь счастливым обстоятельствам. Старая вятская тетрадь с рисунками, сделанными у Демидова, — тетрадь полувековой давности, — сохранилась. Наша ленинградская квартира за годы блокады опустела. Пропала замечательная отцовская библиотека. Безвозвратно ушли ценные вещи и попросту семейные реликвии, а вот эта тетрадь из мундштучной бумаги уцелела.
И сохранились картины Демидова.
В самые голодные дни отец не жалел ничего, чтобы спасти мать и Агафоновну. Все дорогостоящее было обменено на хлеб и иные продукты. Находились люди, неизвестно как ими обладавшие. Но полотна Демидова он не менял ни на что. Впрочем, те, кто предлагал за кольцо с драгоценными камнями килограмм пшенной крупы, вряд ли так же высоко оценили бы картины художника-новатора двадцатых годов.
Счастливая встреча со знакомыми с детства полотнами ждала меня по возвращении с войны. С тех пор прошло более тридцати лет, а демидовские «Натюрморт со стеклянной банкой» и «Балет», вероятно тот, на каком молодому художнику довелось побывать еще в Москве. Танцоров мы видим из боковой ложи над оркестром, где, скорее всего, и устраивался Демидов с альбомом на спектаклях Большого театра. Эти талантливые полотна всегда напоминают мне деревянный двухэтажный дом на улице Свободы и комнату-мастерскую художника, за столом у которого я рисовал свой первый в жизни натюрморт.
В тот свой приезд в Киров — город, где я многое узнаю и многое припоминаю, — я жил в прежде не существовавшей Центральной гостинице. Внушительное пятиэтажное здание стоит на высокой точке улицы Ленина. Из окон номеров верхних этажей можно видеть чуть ли не всю панораму бывшей Вятки.
Гостиницу в тридцатых годах выстроили по проекту архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина — отца известного графика и писателя. Иван Аполлонович долгие годы исполнял должность главного архитектора города. По его проектам было возведено немало зданий. Даровитый вятский архитектор, он ценил старину родных улиц и, как мог, оберегал их от людей, равнодушных к прошлому. Но гостиница построена им с прицелом на новый Киров. К широкому входу в здание ведет многоступенчатое полукружие лестницы, выходящей на две улицы. Здесь перекресток Ленинской с улицей Коммуны. Я стою на верхней площадке у входа в здание и всматриваюсь в даль этой, мне так хорошо знакомой улицы.
От названий улиц Вятки веет романтикой первых лет революции. Это был чуть ли не первый город в России, где сразу после утверждения Советской власти улицы были переименованы и названы крылато, созвучно наступившей эпохе: Свободы, Большевиков, Коммуны, Профсоюзов, Розы Люксембург… Чуть позже одна из улиц стала называться улицей МОПРа. Теперь уже не так-то много тех, кто знает, что МОПР — это Международная организация помощи революционерам. Мало кто помнит и значок — через тюремную решетку протянулась рука с красным платком, взывающая к пролетарской солидарности. Молодые кировчане — в том мне пришлось убедиться — думают, что МОПР — это фамилия какого-то политического деятеля. Пусть думают. Для меня название улиц города — ветер незабываемых лет, романтика первых звонких шагов новой жизни.
Я иду по нынешней, мало изменившейся с прошлых лет улице Коммуны, перехожу улицы Свободы и Володарского. Я смотрю на правую сторону улицы, вижу близко от угла небольшой сквер. Его здесь не было. Тут стояло деревянное сооружение — обшитый вагонкой длинный дом без окон — кинотеатр «Прогресс». В «Прогресс» я уже мог ходить без сопровождения взрослых, в компании сверстников. Фильмы, которые мы там видели, всегда будут мне казаться лучшим из всего, что за жизнь привелось пересмотреть в кино. Там я познакомился с двумя навсегда полюбившимися мне артистами — добрыми чудаками Чарли Чаплином и Игорем Ильинским. Подражая то тому, то другому, мы, «володарские мальчишки», дурачась, ходили то «Чарликом» — ноги врозь, то косолапя, ступнями внутрь, — «Игорем», как смешно ступал в «Закройщике из Торжка» Ильинский. Всем нам ужасно нравился маленький черноглазый герой — мальчик киноартист Джекки Кутан. Все мы подражали ловкому Дугу из «Знака Зеро», девчонки восхищались белокурой Мери Пикфорд, мальчишки шалели от трюков Гарри Пиля и прерывали аплодисментами героические действия бесстрашных «Красных дьяволят». С тех пор, лишь только зайдет речь о героях картин двадцатых годов, я не могу не вспоминать Вятку, жесткие скамейки кинотеатра «Прогресс», треск аппарата за спиной, пыльным лучом стрелявшего в квадрат экрана, на котором под звуки бывалого пианино происходило чудо, называемое кинематографом.
С волнением, со сжимающимся сердцем перехожу улицу Володарского. Еще несколько шагов по Коммуне — и вот оно, поразительно сохранившееся небольшое, в два этажа, каменное здание старой гимназии. В двадцатые годы в ней помещалась школа первой ступени. Забытое ныне деление подразумевало классы, включая пятый. С шестого начиналась вторая ступень и заканчивалась девятилеткой. Не нужно забывать — в те годы окончание и пяти классов, в особенности в глубине страны, являлось не таким уж малым делом. До обязательного среднего образования было еще так далеко. Здесь, на улице Коммуны, в начальные классы первой ступени ходил и я.
С тех пор дом внешне ничуть не изменился, даже будто стал привлекательней, во всяком случае внешне опрятнее. Только квадратные окна нижнего этажа почти сравнялись с тротуаром. Впритык к светло-желтому дому, на такого же цвета каменной арке — открытому входу в школьный двор (двери в здание находятся внутри него) — восседают чем-то похожие на сфинксов каменные львы. Они замерли здесь навеки. Да, это так. Львы на школьных воротах красуются тут дольше ста лет. С некогда внушительной высоты они видели проходивших мимо ссыльных: губернаторского письмоводителя Герцена и чиновника присутственных мест Салтыкова (Щедрина), посетившего Вятку воспитателя наследника престола поэта Жуковского и Наталью Николаевну Пушкину-Ланскую, второй муж которой, генерал Ланской, был некоторое время вятским крупным военным начальником. Сохранившиеся каменные изваяния, к слову сказать, созданные руками неизвестного небесталанного скульптора, восседали над арками ворот перед многими казенными домами губернского города Вятки. Может быть, это был ее некий символ, своеобразие и даже гордость. Возвышаются они кое-где над арками и ныне. Почерневшие от времени, кто без хвоста, кто без лап или половины морды, иные уже в одиночестве, без своего исчезнувшего напарника, печально напоминают они о своем утраченном сторожевом величии. И современные жители теперь уже не проходят под арками, а огибают их по протоптанным дорожкам, потому что улицы поднялись и под аркой теперь вряд ли пройдет и человек среднего роста. Какая уж тут прежняя губернская гордость! А жаль, ведь редкий любознательный заезжий в Киров не обратит внимания на эту характерную архитектурную деталь города, которому уже минуло шестьсот лет.
Но дети еще и сейчас пробегают в школьный двор под аркой, под которой проходили и мы. Рядом, с левой стороны, во втором этаже окна нашего класса. Сколько смотрел я сквозь эти стекла на улицу Коммуны в тоскливом ожидании звонка, извещавшего об окончании уроков! Он подавался звучным ручным колоколом и радовал тем, что настал час схватить ранец и, выскочив из школы, нестись вниз по улице Володарского. Домой мы бежали вместе с моим недальним соседом Ольковым и, как ни спешили, непременно на минуту-две останавливались у входа в «Прогресс», разглядывая выставленные под стеклом картинки из фильма, который вечером будут «крутить».
В классе я сидел за партой как раз у окна. Отчего-то пуще всего помнилась зимняя картина. Сугробы по краям тротуаров. Снег на крышах, подоконниках, в воронках водосточных труб. Его полно везде, но он все идет и идет…
Навсегда запечатлелся один зимний день. Это было в январе 1924 года.
Погода выдалась морозная. С утра шел снег. Его в эту зиму в Вятке выпало предостаточно. На крутых улицах среди белизны темнели лишь невысокие стены сбегавших по холмам домов да столбы городского электроосвещения. Снег пуховиками лежал на подоконниках и выступах зданий. Белым толстым покрывалом выгибался на головах и спинах надворотных львов.
Мороз, как обычно, в Вятке был сильным, но безветренным. С утра печки в школе жарко натопили. Из теплого класса интересно смотреть в окно: уткнув носы в меховые воротники, по улице спешат прохожие, пробегают покрытые голубоватым инеем, будто поседевшие лошади.
Нас мороз не страшил. Поглядывая в окна, мы дожидались той минуты, когда наперегонки побежим по домам и, забросив в комнаты ранцы и сумки, схватив санки, кинемся на улицу, словно для того только и созданную, чтобы по ней со свистом лететь вниз.
Наша учительница стояла за старой кафедрой и что-то нам диктовала, когда в класс вошла женщина в расстегнутом, подбитом мехом, кожане. Серый пуховый платок ее был спущен на плечи. Женщина двинулась к кафедре. Учительница вышла навстречу. Женщина в кожане что-то тихо сказала учительнице. Та замерла и побледнела. Повернувшись к нам, сидящим за партами, негромко сказала:
— Дети, инспектор губоно принесла горькую весть… Умер Ленин… Владимир Ильич. Наш вождь.
Мы были малы. Росли уже при Советской власти, не зная никакой иной. Ленин был для нас всем. Это благодаря ему люди в России стали равными. С ним Красная Армия победила белогвардейцев. Теперь наши отцы и матери больше не работали на хозяина, а строили новую жизнь, которую учил их строить Ленин. Мы это уже знали, и мы любили Ленина. Знали и то, что он думает о нас, детях. Он был далеко, в незнакомой нам Москве, но он наш.
И вот Ленина не стало.
Никто не шелестел страницами, никто не положил со стуком ручку с пером, которой писал. В классе сделалось так тихо, что за двойными рамами был слышен скрип шагов. Я сидел у стены в первом ряду, пересаженный сюда за болтовню на уроках. Я видел кожанку инспекторши. На ней еще не высохла влага растаявшего снега, а мне думалось — это еще не высохли слезы женщины.
В тот день нас отпустили домой раньше обычного, но по широкой лестнице бывшей гимназии мы спускались без шума и толкотни. Одевались не тузя друг друга. И домой не бежали сломя голову. Мы понимали: случилось то, чего не должно было случиться. Умер Ленин, и мы все притихли, словно осиротели.
Недели через две на углу улиц Коммуны и Володарского я купил журнал «Экран». На обложке его была помещена цветная картинка: в густом снегопаде по рельсам шел паровоз, убранный еловыми ветками и траурными лозунгами. Поезд вез гроб с телом Ленина. Его встречали люди в шапках и зимних пальто. Плечи их были покрыты снегом. Это были члены советского правительства. По очкам и бородке я узнал Председателя ВЦИКа Калинина.
Вятка, и так совсем не шумная, в те дни и вовсе притихла, но вот настал час похорон Ленина, и город наш отозвался скорбными звуками. Хоть и не много было тут фабрик, и не отличались их гудки мощностью, но в тот час в морозной тишине рыдания фабричных гудков плыли над застывшим в минуту молчания городом, печаль их голосов навсегда запечатлелась в моей ребячьей душе.
Я иду по улице Коммуны. За зданием начальной школы двухэтажное здание бывшей гимназии старших классов, называемое Школьный городок. Теперь оно выросло еще на два этажа. Здесь начало Театральной площади. По линии прежней улицы, отступя от Школьного городка, стоял маленький деревянный театр. Перед ним находился небольшой садик, а от него, строго напротив театра, несколько вниз шла улица Карла Маркса, о которой я уже рассказал.
Как не похожа эта нынешняя площадь на ту, что мне помнится. Все с тех пор будто сделалось меньше, только не эта площадь. Она просторна. С западной части перед гранитным многоколонным зданием дома Советов высится памятник вождю революции. Он приметен, этот величественный монумент из розового гранита. Думается, это один из лучших памятников В. И. Ленину, которые мне пришлось видеть. Чувство законной гордости за земляков испытал я, узнав, что памятник изваяла не какая-либо столичная знаменитость, а кировский скульптор Михаил Кошкин. Нет, не оскудела талантами земля вятская!
Не скверик теперь зеленеет посреди площади. Тут террасами расположился зеленый оазис. Посредине его бьет мощный фонтан внушительных размеров, фонтан с круглым каменным бассейном. За фонтаном, значительно дальше, чем когда-то стоял прежний театр, но по его же центру, в тридцатых годах высоко к небу взметнулся белый портик нового театрального здания. По принятой архитектурной практике тех лет, театр этот, выстроенный в 1939 году, несколько напоминает и московский Большой, и ленинградский Пушкинский, и все же архитектура его вызывает уважение к создателям. Поднялся он здесь как гигант среди пигмеев, явно не по масштабу площади и окружавших его домов. Но прошло время, и меняющая облик площадь (она еще не завершена) стала соответствовать масштабам театра. Не случайно ведь наискосок от него, на той же площади, оставлен пустырь за Художественным музеем. Нужно надеяться, и музей обретет здесь, в центре города, достойное его собрания помещение.
Долго смотрю на белую колоннаду незнакомого мне театра. Я испытываю благодарность к этому, театральному зданию. В дни войны в нем нашел приют наш Большой драматический театр имени Горького. Сюда весной сорок второго года привезли истощенного блокадной дистрофией драматурга Евгения Шварца. Замечательный ленинградский писатель-патриот жил здесь в стенах театра, где ему отвели комнату. Тут он стал поправляться и, набрав сил, снова начал писать свои удивительные пьесы-сказки.
Но я хорошо помню тот деревянный театрик, что теперь целиком поместился бы в зрительном зале нынешнего гиганта. Это было затейливое сооружение, скорее похожее на замысловатый теремок, чем на театр. С левой стороны к театру были пристроены лестницы с балкона и мест за креслами прямо на улицу, чтобы в случае пожара публика могла сразу покинуть зал.
Вятский маленький театр просуществовал более полувека. Многие знаменитости, колесящие по дорогам России, выступали на его сцене. Читал вятичам свои хлесткие стихи на подмостках старого театра и Владимир Маяковский, к слову сказать горячо принятый молодежью Вятки двадцатых годов.
Я помню прямоугольный выступ балконов скромного зала. Помню, как мы с мамой смотрели там оперетку «Иванов Павел», где презабавно пели бородатые учителя в уже незнакомых мне зеленых мундирах, как толстенными томами учебников и длинными линейками они пугали маленького ленивого Павлика. В конце концов он проваливался под сцену, как ему ни старалась помочь девочка-шпаргалка в гимназическом передничке.
Еще помню — брат водил меня на какой-то странный спектакль, который назывался «Ничевоки» и в котором я совершенно так ничего и не понял.
Думаю, что это было уже, когда Вятку покинули съехавшиеся туда в голодные годы известные артисты. Пока они жили в городе, наверное, все перебывали в нашей квартире при фабрике. Что-то пели и декламировали, чем-то всех очень смешили. Кажется, в большом кабинете отца, откуда был выход и в квартиру, и в контору завода, перебывала вся интеллигентная Вятка. Как мне нравились эти необыкновенные вечера! Как я только не уговаривал маму и няньку не уводить меня спать!
Отец всегда любил людей. Наглядевшись в Иркутске на сибирское гостеприимство и покоренный им, он и в Вятке, при полном одобрении мамы, с широким радушием принимал гостей.
В годы первого десятилетия рабочего государства новое входило шумно, по-плакатному ярко. В Вятке праздновали все дни революционного календаря. Произносились речи с балконов, гремели оркестры. Звучали новые песни. Ходили со знаменами и лозунгами и в годовщину Парижской коммуны, и в День работницы, и Девятого января, и в первомайский день, который назывался: Праздник труда и падения оков. И, конечно же, особо торжественно и горячо отмечался каждый новый прожитый год со дня Октябрьской революции. Ведь это значило, что Советская власть, вопреки всему, что ей предрекали зарубежные враги и эмигрантская нечисть, живет и здравствует.
Но и старое еще не ушло. Наряду со звонкими днями новой жизни праздновались и рождество, и пасха, и троица. Ведь и эти также были нерабочими. В преддверии их плыл над тихими улицами запах коптящихся окороков. Теплом пекущихся куличей тянуло из кухонь. В нашей семье не верили ни в какого бога, но рождество и пасху отмечали с удовольствием, просто потому что это были добрые, веселые праздники. Мы, дети, с нетерпением ждали, когда привезут елку, в комнатах запахнет лесом и снег, падая с веток, будет таять и лужицами ложиться на крашеный пол. Или ранней весной с удовольствием устраивались за стол на кухне и принимались под нянькиным опытным руководством за окраску вареных яиц во все цвета радуги. В доме аппетитно пахло корицей и ванилью, готовились угощения. В воскресенье из церкви поблизости доносился веселый пасхальный перезвон колоколов. Но больше всего мне этот праздник запомнился вкусными пахучими куличами.
В рождество — тогда именно еще в рождество, а не в Новый год — в клубном зале фабрики, освобожденном от стульев, устраивали елку для детей рабочих и служащих. Хвойный аромат слышался уже на лестнице. В густых ветвях ели зажигались примитивно раскрашенные синие, багряные, желтые электрические лампочки обыкновенного размера. Их я здесь впервые увидел вместо привычных дома свечей. На общественной детской елке всем руководила мама. Детей набиралось множество, и каждый получал в подарок пакетик. Очень нравилось мне стоять в очереди за этим пакетом вместе с другими ребятами. Пряники и конфеты-леденцы из них казались особенно вкусными. Елка называлась рождественской, а пели на ней: «Вперед же, по солнечным реям…», «Взвейтесь кострами…», а то так и совсем уже не идущую к детскому празднику «Как родная меня мать провожала…». Новых песен было мало, а петь их всем очень хотелось.
Я опускаюсь на широкую скамью против фонтана. Здесь, на Театральной площади, замкнулся круг границ самого раннего детства. Отсюда два шага — и дома, на бывшей Спасской. У фонтана резвятся малыши. Им столько лет, сколько было мне в те далекие дни. Я думаю о том, что и они вырастут, жизнь раскидает их в различные края нашей родины. Пройдут еще десятилетия, иные из нынешних детей когда-нибудь приедут в Киров, город будущего — Киров двадцать первого века. Наверное, уже немногим он будет им запоминать город детства, как нынешний мало напоминает мне старую Вятку, и все равно навсегда останется для них родным, близким и все-таки схожим с тем, что был когда-то.
В середине двадцатых годов в жизни нашей семьи многое переменилось. Отец мой, человек решительный и инициативный, нередко отваживающийся в делах на смелый риск, пришелся не по душе какому-то большому вятскому начальству. Немало повоевав за свои принципы и достаточно набив шишек, он оставил директорский пост.
Мужественно и спокойно пережив дни, когда его, как единоначальника на фабрике, обвиняли во всех смертных грехах, в конце концов доказав свою правоту, он уехал в Москву. В столице отцу сразу же нашлось достойное место, но о квартире в Москве тогда нечего было и думать. Довольно долго пришлось жить на два дома. Год или два в Вятку отец только наезжал, чтобы повидаться с мамой и нами.
Мы оставили квартиру при фабрике и переехали на улицу Володарского, заняв первый этаж деревянного дома невдалеке от окраины города.
Перед тем как перебраться сюда, мама настойчиво искала подходящую для нашей семьи (с Агафоновной шестеро, не считая отца) квартиру поближе к нашим школам.
В какой-то из дней ходил с мамой по домам со сдающимися квартирами и я. Осматривая многокомнатные пустые помещения, а такие еще у вятских домовладельцев находились, я вслед за мамой то поднимался на несколько ступенек, то шагал на второй этаж по крутым лестницам. Сдавались квартиры с балконами и верандами с цветными стеклами в сад. В то время редкий дом в Вятке бывал без сада. Глядя через синее, оранжевое или лиловое стеклышко в сад, который сразу же сказочно преображался, я живо представлял себе здесь счастливую жизнь. Но маме эти квартиры почему-то не подходили. Гораздо позже я понял, что они для нас были просто дороги.
Больше всех других мне тогда понравилась квартира во дворе дома на улице Коммуны вблизи торговых рядов. Здания тут теснились вплотную друг к другу. В первых этажах располагались магазины и склады. На углу улицы Ленина кирпичной громадой высилась недостроенная, еще без крыши гостиница Кардакова. Завершить строительство вятскому богатейшему купцу помешала война. Свободная квартира находилась в полуподвале каменного здания. Мы с мамой бродили по пустым, скорее всего сырым комнатам. В окна я видел ноги людей во дворе и колеса повозок, стоящих у задних дверей магазинов. Возле самых окон подстерегала воробьев готовая к прыжку кошка. Мне было по душе то, что отсюда во двор можно было лазить через окно.
Но и этой квартиры мама не сняла, а вскоре мы уже переезжали на улицу Володарского.
Мы поселились в доме, подход к окошкам которого, так же как и у всех соседних, с улицы ограждал палисадник из ровного штакетника. Во дворе был небольшой флигель, за ним кое-какой огород. Росло несколько березок да непременная во дворах этой улицы рябина. Была осень, и на ранних закатах солнца рябины горели багряными шапками. Дворы тут разделялись высокими, еще не состарившимися заборами. Почему так старательно отгораживались владельцы домов друг от друга, для меня так и осталось непонятным. Разве что от охочих до чужих яблок мальчишек? Но какое же для них препятствие заборы? Уж скорее крапивные джунгли выше человеческого роста, разросшиеся вдоль этих заборов по обе стороны.
Хозяйкой нашего дома была еще не старая женщина по фамилии Береснева. Со своим таким тихим мужем, что я его и не запомнил, она занимала весь верхний этаж. В комнатах, заставленных кадушками с фикусами, с геранью на окнах, лежали крест-накрест постеленные цветные половички. От двери к двери они тянулись по крашеному, зеркально отражавшему свет дня полу. Вступать в комнаты кому бы то ни было разрешалось только сняв обувь. Сама Береснева ходила по половикам босиком. Сияющая чистота была манией хозяйки. Кажется, она вообще никого дальше своей кухни в квартиру не пускала. Весь день Береснева перетирала листья «цвета», как она называла комнатные растения. Влажной тряпкой проходилась по мебели и вытряхивала у перил балкона совсем не пыльные половики.
Иногда хозяйка спускалась к нам и говорила с мамой и нянькой тоже только почему-то на кухне, причем обязательно стоя. У нее был тик в левом глазу, и она им все время подмигивала, при этом слышался странный скрипящий звук. Я не понимал, что это под тяжестью ее крепко сбитого тела скрипят половицы, и думал — так скрипит ее глаз при подмигивании. Встречая Бересневу во дворе, удивлялся, почему не слышу скрипа ее глаза.
Если на улице Карла Маркса был настоящий город, то тут, на краю улицы Володарского, ощущалось что-то сельское. Очень скоро мы с младшим братом Димкой сделались обыкновенными мальчишками с вятской окраины. В компаниях белоголовых ребят отправлялись купаться на Вятку-реку. Была там излюбленная парнями со всего города песчаная отмель. Территория отмели строго делилась поулично. Тут купались «профсоюзные», там «мопровские», с такого-то края — «володарские». Несоблюдение границ грозило дракой.
Вятка — река мелководная, с пологим песчаным дном. Если не заплывать далеко, вряд ли можно утонуть. Купаться нас с братишкой хоть со вздохом, но отпускали. Притом я уже шел за старшего и нес ответственность за Димку. Ходили компанией с уличными. Дойдя до реки, раздевались все разом и наперегонки бежали в воду. Купались, конечно же, нагишом. Никаких трусиков тут никто не признавал. Где в Вятке купались девочки, я так и не знаю до сих пор.
Было у мальчишек-купальщиков одно железное правило: когда одевались, сперва надо было натянуть рубаху, а потом уж вставлять ноги в штаны. Если ты про то забывал и сначала надевал штаны, немедленно подвергался обстрелу сырым песком. Коричневые, холодные комки градом сыпались на спину, на грудь и шею. Тогда надо было скидывать штаны и опять бежать к реке, искупать вину новым погружением в воду. Этот и другие мальчишеские законы мы постигли быстро.
С купания шли через сад имени Степана Халтурина, по-прежнему называемого вятичами Александровским. Густо зеленел он на высоком, обрывистом берегу. На краю сада, высоко над Раздерихинским спуском, который приводит к пристани, стояла и теперь стоит словно (парящая в небе удивительная белоколонная ротонда. Нельзя было пройти мимо и не взбежать по ее ступенькам и с высоты не полюбоваться открывающейся картиной. Голову кружило, когда глядел вниз.
В начале лета по реке плавали вместительные пассажирские пароходы, баржи с грузом. Пристань у подножия высокого берега жила сутолочно. Дымили внизу паровозы, и слышалось лязганье буферов. Между товарными вагонами железной дороги и причалами сновали грузчики, казавшиеся сверху лилипутиками. Словно скорлупки от семечек подсолнуха, покачивались на волнах лодчонки. Река была гладкой и тихой. Волны качались от плывущих по реке пароходов. Все они были колесными, как и трудолюбивый буксир «Митя», в одиночестве таскавший паром на другой берег. Паром был тесно уставлен телегами и лошадьми. Пеший народ сидел на скамьях под навесом по краям парома. Старенький «Митя» сперва проходил дымковскую пристань на изрядном от нее расстоянии, а потом разворачивался и тянул паром к пристани против течения, чтобы точно пришвартовать его к сходням. С ротонды я завороженно наблюдал маневр бурно дымящего буксира, и мне все казалось, вот сейчас паром оторвется от буксира и поплывет себе в другую сторону по течению со всеми телегами и людишками.
Удивительная была Вятка в дни весеннего разлива. Далеко, до едва видимых вдали гребешков леса, синели ее воды. По окна стояли в воде домики Дымкова.
Само Дымково гляделось полуостровом. Правей слободы, уже будто просто на острове, среди разлившейся реки, блестели на солнце бензобаки с крышками, перевернутыми вверх воронками.
Картина весеннего разлива Вятки сохранилась в тетради из мундштучной бумаги, с которой я ходил к Демидову.
На сделанном мною так давно рисунке — простор реки, дымковские домики и бензобаки на коричневом островке. Вдали зеленой волнистой полоской протянулся лес. Мимо Дымкова буксирчик тащит паром. На переднем плане сходни, тянущиеся через железнодорожное полотно. На пристани надпись: «Гос. пароходство». За нею белый двухпалубный корабль. Пароход двухтрубный. Обе трубы его спирально дымят. На носу мачта и флаг с буквами: «СССР». Белизна корабля, видно, произвела на меня впечатление, потому что на желтоватой бумаге он выкрашен белой краской. Пароход именуется «Мартышкой». Впрочем, на другом рисунке в той же тетради другой пароходик буксирного типа также называется «Мартышкой».
К середине лета вода с заливных лугов уходила, и за рекой высоко поднималась трава. Полосами и будто коврами заречные луга белели полевыми цветами, звонко краснели султанчиками конского щавеля. Летом по воскресеньям гулять за реку ездила городская публика.
Мы с Агафоновной тоже переплывали на пароме на другой берег. С собой брали корзинку с провизией, бутылки с квасом и молоком. За рекой проводили весь день.
С заречной стороны город на высоком берегу смотрелся белым красавцем. Солнце горело на маковках многочисленных куполов. Густо зеленел прибрежный парк, на правом краю которого виднелась белоколонная ротонда. В саду была еще одна ротонда, также выстроенная архитектором Витбергом. Обе эти беседки, как и чугунная решетка, и великолепный портик — вход с городской стороны, — признаны шедеврами садовой архитектуры, и Вятка всегда ими гордилась. Во второй ротонде, вместительной и чуть побольше прибрежной, по воскресеньям играл духовой оркестр. Звуки вальсов плыли над притихшей рекой и слышались в заречных далях.
Однажды светлым июньским днем в этой ротонде я увидел выставленный планер. Он оказался сделанным из легких деревянных реек, на которых крепко, как шкура на барабане, было натянуто шелковистое желтоватое полотно. Планер стоял, опустившись на хвост, и казался таким воздушным и легким, что, думалось, сейчас взлетит, станет парить в облаках, будто птица.
Мы, мальчишки, во все глаза глядели на планер, стараясь заглянуть и вовнутрь и незаметно для приставленного к нему сторожа коснуться рукой тугих, словно струны, проводков, тянущихся к рулю.
В те годы советская авиация больше была мечтой, чем жизненной реальностью. Создавались авиаклубы, и выходили журналы, посвященные летному делу. Повсюду, в том числе и в Вятке, образовывались ячейки общества «Добролет». Я с гордостью носил значок общества. На нем был изображен биплан с вертящимся пропеллером. Такой же аэропланчик тогда впервые появился на спичечных коробках. Значок этот я выменял на добрых два десятка папиросных коробок: «Зенит», «Дели», «Деловые» и прочие, которые до тех пор старательно собирал. В обществе я, конечно, состоять еще не мог, но значок носил на зависть приятелям, перевинчивая его с курточки на пальто.
Настоящий, точно такой, как на значке, двукрылый аэроплан иногда появлялся в летнем голубом небе. Может быть, он был единственным, потому что над городом больше одного никогда не показывалось. Но какое это было событие, когда над тихими улицами, где, кроме стона колодезных воротов, скрипа тяжелых колес да собачьего лая, ничего не слышалось, раздавался могучий звук летящего самолета.
Что тут начиналось!
— Летит!.. Летит!.. — кричала улица на разные лады.
Повсюду распахивались окна. Задирали бороды к небу седовласые старики, глядели в него бабки в белых платочках. На огородах загорелые женщины выпрямлялись, прикладывали ко лбу ладони и ждали минуты, когда появится летающее чудо. Даже те, кого гул заставал в баньке, прикрывшись чем могли, выглядывали из приоткрытых дверей, лишь бы не пропустить мига, когда над ними покажется самолет.
А по улице, над которой уже летел аэроплан, неслась выскочившая из всех ворот ребятня. За бросившими своих братишек и сестренок юными няньками с ревом спешили малыши. Кто-то гикал, кто-то свистел, кто-то просто орал, выражая свой восторг.
В школе я, увлекающийся разными посторонними занятиями, шалопайничал, и мне следовало летом подзаняться. Мама наняла репетитора — молоденького студента. Мы с ним занимались в крохотной комнате брата Миши, в которой он, на положении старшего, жил один. Учителя моего звали Симой. Ходил он как-то чуть подпрыгивая, за что языкастая на прозвища Агафоновна немедленно окрестила его Симочкой Козликом.
Как-то раз сидели мы с моим репетитором. Я решал задачки, а Сима наблюдал, как это у меня получается. Тут издалека послышался гул летящего самолета. Я взглянул на учителя, но он приказал глазами, чтобы я продолжал свое дело. А рев мотора все нарастал. Самолет вот-вот должен был пролететь над нашей крышей. Уже начали чуть дребезжать стекла в рамах. И тут юное сердце Симочки Козлика не выдержало. Он кинулся к окну, распахнул его, выскочил на улицу и, перемахнув через ограду палисадника, помчался за аэропланом, который уже летел вдоль нашей улицы. Он летел так низко, что была видна голова летчика в шлеме с большими стеклами очков, похожего на марсианина с рисунков к «Борьбе миров» Уэллса.
Я, конечно, несся за своим учителем, который сумел на длинных ногах обогнать всю уличную компанию мальчишек. Но, как мы ни бежали, биплан сперва превратился в две чуть покачивающиеся в голубом небе полоски, а затем и вовсе растаял в его сини.
Самолета вблизи я в то время еще не видел.
Мой школьный приятель Ольков жил на краю города, но с восточной его стороны. Мы каждый день встречались на углу, там, где сходились пути наши в школу. Иногда я вместе с Ольковым ходил на базар, находившийся на одинаковом расстоянии от его и моего дома. На базар мы шли по улице Розы Люксембург. Проходили мимо водопроводной будки, где на марки покупали питьевую воду. Марка стоила одну копейку, и на нее, похожую на нынешние гардеробные номерки от пальто, отпускали два ведра. Вся окраина ходила за водой к таким будкам.
На рынке было всегда интересно. Мы с Ольковым, неизвестно зачем, бродили от одного стоящего под деревянным навесом прилавка к другому. За рынком белело здание тюрьмы, которая тогда называлась исправдомом. Но не тюрьма нас интересовала, а рынок. Рынок расточал запахи. Это был запах свежевыкопанной репы, которая желтыми пирамидами возвышалась на дощатом прилавке, едкий запах зеленого лука, теплый — жареных семечек, терпкий — самодельного кваса и, в особенности, ни с чем не сравнимый аромат красных яблок, привозимых сюда откуда-то издалека. Яблочный дух побеждал все остальные. Еще подходя к рынку, слышал я этот удивительный запах. Никогда и нигде для меня позже так звонко не пахли яблоки, как это было на вятском базаре.
Против тюрьмы помещалась хлебопекарня. Ее хозяином был отец Олькова. Там пекли высокие караваи ситника, желтоватые баранки и розовые пухлые бублики.
Как-то раз Ольков повел меня показать пекарню. Я видел, как белые, будто привидения, дядьки месят тесто в огромных деревянных чанах. У печей орудовали худощавые пекари, тоже все в белом, в фартуках и похожих на грибы высоких колпаках. Лица их и руки, обнаженные, с подвернутыми до локтей рукавами, были красными.
И как хорошо пахло в пекарне. Теперь, когда я слышу кислый запах только что испеченного хлеба, я припоминаю приземистый деревянный дом на окраинной вятской улице и озаренных пламенем пекарей, с ловкостью сталеваров орудующих у огромных печей.
Да, в Вятке еще «держали» свое «дело» купцы — многие из тех самых, что владели магазинами, лавками и пекарнями до революции.
Но утверждалось и другое.
Мой старший брат Миша в те годы стал комсомольцем. Ходил на собрания ячейки и даже стал пионервожатым. От него я впервые услышал песню «Здравствуй, милая картошка…». Он привез ее из лагеря, где жили они в палатках.
Однажды Миша вечером пришел домой возбужденный и сказал, что сегодня комсомольцы их ячейки слышали из Москвы радио. В маленькой нашей проходной комнате, игравшей роль столовой, собрались все домашние. Миша рассказывал, что радио — это множество аппаратов и еще громкоговоритель, из которого они услыхали очень негромкое: «Говорит Москва. Радиостанция имени Коминтерна!» В такое было трудно поверить. Но я знал, что Миша никогда не врет, и верил ему.
В школу я бегал по деревянным тротуарам. Этим замысловатым словом назывались мостки из двух-трех досок, прибитых на уложенные на землю половинки расколотых кругляшей. Тротуары, такие, что двум толстякам на них было затруднительно и разойтись, неровной дощатой лентой тянулись по обеим сторонам улиц. Когда город весной утопал в лужах, передвигаться без них было задачей нелегкой.
Но на всех улицах Вятки с этими допотопными тротуарами-мостками по вечерам горело электричество. А ко времени, когда наша вятская жизнь уже подходила к концу, произошло нечто поразительное.
На некоторых перекрестках — например, у нас, на углу улиц Володарского и Профсоюзов, — на электрических столбах появились сигнальные пожарные аппараты — красного цвета металлические устройства с круглым стеклышком посредине и темнеющей за ним кнопкой. Маленькая табличка гласила: «Для вызова пожарных разбей стекло и нажми кнопку».
Не очень верилось в то, что и на самом деле стоит нажать кнопку, и тут же примчатся пожарные. А уж как хотелось это сделать! Пожалуй, останавливало лишь то, что нужно было сперва разбить стекло. Это уже было делом шумным.
Пожарные все-таки, наверное, действительно прибыли бы скоро. Именно в тот год в Вятке, чуть ли не в первом из небольших губернских городов, появилось два пожарных автомобиля. На них, с обеих сторон, на скамьях сидели пожарные в сияющих медных касках. Не один раз они, звоня в колокол, проносились мимо школы по улице Коммуны. И тут никакая учительская строгость не могла остановить нас, мы всем классам кидались к окнам и успевали увидеть пожарных.
За красной машиной, почти не отставая от нее, следовала лестница на огромных огненного цвета колесах. Лестницу по-старому еще везла пара коней. Но какие это были кони! Сытые, ухоженные до лоска, одной масти, — таких прекрасно выглядевших коней я потом видел только в цирке. Пожарные лошади бежали так быстро, что могли бы перегнать и автомобиль, имей они на то право.
Пожарная часть с высокой каланчой — на ней по тогдашним правилам еще прогуливался дежурный топорник — находилась вблизи, возле театра, который, конечно же, рано или поздно должен был сгореть, как полыхали, сгорая дотла, деревянные театры в России. Но наш вятский театр, к счастью, так и не загорелся.
Той пожарной части уже нет в помине. Но с улицы Коммуны и сейчас видится башня другой старой городской каланчи — напоминание о прошлом.
Для нас, ходивших в младшие классы, пожарная каланча имела свое особое значение.
В морозные дни, когда ртутный столбик термометра за окнами опускался ниже двадцати пяти градусов, занятия в школе первой ступени отменялись. Но не у всех был градусник, да к тому же где гарантия его точности? Чтобы в этом деле не было разброда, над пожарными каланчами на мачте, напоминавшей корабельную, в такие дни вывешивались шары. И до чего же было радостно утром, когда бревенчатые стены домов, стволы деревьев и столбы электрического освещения покрывались мохнатым инеем. Мы добегали до угла — с него была видна каланча — и, увидев черные шары, стремглав летели назад, к дому, чтобы сообщить, что на улице мороз и уроков не будет.
В школу идти было холодно, можно отморозить нос или пальцы, а болтаться по улице — тепло.
Отпросившись у взрослых «хотя бы на немножко», мы немедленно отправлялись гулять.
А гуляние было одно — катание на санках по нашей крутой, до зеркального блеска накатанной улице. И каких только тут не было санок! И старинные, когда-то богатые, с протертыми ковровыми сиденьями. На таких можно было ездить и вдвоем, и втроем. У заднего седока в руках «правилки» — металлические палочки для управления санями. Большинство же санок, конечно, были попроще, без бахромы и портьерных бомбошек. Но и на них катались с правилками. Правилки сами по себе уже определяли спортивный класс катающегося. Были деревянные санки-самоделки — плоская широкая доска с приделанными к ней, также деревянными, полозьями. На них катались, ложась на грудь или на живот и задрав кверху ноги в валенках. И не в новых валенках, которые были чертовски неудобны, а в изрядно поношенных, подшитых толстой войлочной подошвой, с кожаными запятниками и мягкими неровными краями. Катание с поднятыми головой и ногами представляло немалый риск. Но вятские мальчишки всегда были сорвиголовами и летели вниз, ничего не страшась. Было и самое простейшее устройство для катания — ледянки. Отрезок толстой доски снизу окатывали на морозе водой, пока не получался плотный ледяной слой. Приделай к передним углам ледянки веревку, садись и кати, только не задевай ногами дороги, а то вмиг — сам в одну сторону, ледянка в другую. На этих ледянках лихие катальщики обгоняли любые самые наилучшие санки.
Хороша была вятская зима тут, на краю города. Зима с рано наступавшими вечерами. Сперва с синью за окнами, а потом и чернотой, в которой ничего-ничегошеньки не видно и лишь слышится скрип шагов редкого прохожего. Хороша она была с солнечными морозными днями, когда, вбежав в комнату и не раздеваясь, еще в варежках, обнимаешь руками теплую печь и с блаженством прижимаешься к ней носом и подбородком.
Но самыми лучшими были те дни, когда на пожарной каланче вывешивались шары, а нас, мальчишек, никакой холод с утра не страшил.
И вот пришел час. Отец вызывал нас в Ленинград.
Мы покидали Вятку.
Поезд шел и шел, удаляясь от города. Утром, лежа на полке, я видел проплывавшие мимо холмистые поля. Раскроенные на кусочки, они были похожи на гигантские лоскутные одеяла, какими прикрывали высокие кровати в избах и деревнях Ганино и Черваки, где живали мы с нянькой в летние месяцы. Такие же деревни с крытыми дворами, но уже вологодские, оставались позади на нашем пути. Вдали длинными, мелкими гребешками синели леса. Бескрайние, бесконечные, они то сбегали вниз, то, вновь поднимаясь, курчавыми коврами простирались до горизонта.
На станции Буй пассажиры покупали красные головки сыра, которым славился город. В Вологде у вагонов ведрами продавали яблоки. От пристанционных рыночных рядов в Череповце исходил запах вяленой рыбы.
К ночи вторых суток поезд подошел к широкой реке. За окнами мельницей замахали железные фермы моста. Река была гладкой и спокойной, как черное зеркало. И вдруг над водой вспыхнул ряд убегающих к берегу стрельчатых широких окон. Яркий свет их отражался и чуть подрагивал в глади реки. Пораженный неожиданностью увиденного, я припал к вагонному стеклу.
— Волховстрой, — сказала мама. — Электрическая станция. Ее недавно построили. Она дает свет Ленинграду.
Еще две-три минуты, и видение над рекой исчезло. За вагонными окнами замелькали редкие станционные сигналы. Троекратно прокричал паровоз. Понемногу мы приближались к Ленинграду.
Вятские страницы жизни были перевернуты. Раннее детство оставалось позади. Впереди открывались нечитаные главы отрочества. Они влекли и страшили своей неизведанностью.
В те дни запоздалого свидания с городом детства мне не сиделось в номере гостиницы. Все тянуло туда, где я еще не побывал. Хотелось увидеть то, что помнилось с далекого времени.
И вот в солнечное утро, пока еще не пришла нестерпимая жара, я снова на полукружии чарушинской лестницы. На несколько минут задерживаюсь на верхней ее площадке и вглядываюсь в даль улицы Ленина. Широким сизым полотном асфальта она круто спадает вниз к Засоре и, перейдя овраг, снова тянется наверх, будто до самого горизонта. Там, вдали, зеленеют сады и четко на безоблачном небе вырисовывается силуэт готических башен «булычевского дома».
Спускаюсь по гранитным ступеням и сворачиваю влево, к реке. Где-то здесь, совсем рядом, должна быть площадь, а на краю ее — памятник Степану Халтурину.
Памятник открыли года за два до десятилетия Октябрьской революции. Открывали торжественно. На площади, казалось, сошлась вся молодая Вятка и, уж конечно, мы, «володарские мальчишки». Играл оркестр. Комсомольцы пели «Вперед, заре навстречу…». Пришли рабочие с тяжелыми плюшевыми знаменами и кумачовыми лозунгами. С наскоро построенной, увитой еловыми ветвями трибуны произносились речи. Микрофонов еще не существовало, и ораторы надрывали голоса, желая, чтобы их слышали все, кто здесь был. Промаршировала колонна вятских физкультурников. Девушки в пышных коротких шароварах и парни в красных майках и синих широких трусах. Впереди городской футбольной команды вышагивал ее капитан — вратарь. В правой руке он нес символ своего вида спорта — кожаный мяч.
Потом все замерли перед памятником, который пока что был покрыт брезентом. Какой-то седоусый человек с красным бантом на лацкане пиджака подошел к монументу и взял в руку веревку. Оркестр грянул «Интернационал». Все, кто был в шапках, сняли их, кроме военных. Военные приложили ладони к козырькам белых летних буденовок. Брезент медленно сползал с простертой над нами руки Халтурина. Затем обнажились и его голова, и знамя, древко которого он прижимал к груди. Брезент упал наземь, и передо мной явился гигантский, до тех пор незнакомый мне Степан Халтурин. Он был грандиозен, этот каменный человек, в рубашке с распахнутым воротом и по-рабочему закатанными рукавами. Казалось, вот сейчас он сойдет к нам, развернет знамя и пойдет впереди.
Площадь разразилась аплодисментами. Люди кричали: «Ура!» Опять заиграли оркестры. Памятник восхитил всех.
Но где же этот величественный монумент? Впереди, вижу, меж крон деревьев белеет шатер цирка шапито. Он расположился на площадке между каким-то разросшимся садом и набережной. Иду вдоль сада и невольно в него сворачиваю. Тут меня и ждала желаемая встреча. Вот он, памятник, который я так хорошо помнил. Он стоит на прежнем месте, только под сенью листвы поднявшихся тут лип. И до чего же обидно невелик и скромен этот памятник. По-прежнему Степан Халтурин простирает вперед правую руку, но теперь так, словно просит, чтобы о нем не позабыли.
Потом я иду дальше. Вот он, нисколько не утерявший своего строгого вида, витберговский портик — вход в сад. Сохранена и старинная решетка, под стать петербургским. Вхожу в сад. Он тот же, только стал еще тенистее. Чуть ли не вдвое толще сделались стволы старых вязов. Иду к ротонде. И она та же. Поднимаюсь и гляжу вниз и за реку.
Вятка сделалась мельче прежнего, или лето стоит особенно жаркое? Слева от меня — желтыми ящерицами рыжеющие на солнце отмели. Но в сини воды, виляя меж вех фарватера, ползут белые колесные пароходики и тянет к берегам Дымкова старый паром буксир, похожий на «Митю». Недолго уже осталось ему трудиться. Через Вятку на всю ее весеннюю ширь шагнули железобетонные опоры будущего высокого моста. С городской стороны к Дымкову уже тянутся укрепленные на опорах аркообразные фермы. Буксиру с его уходящим в прошлое паромом приходит конец.
А дали? Дали за пойменными лугами прежние. Велик и бесконечен их простор, и чем дольше в них вглядываешься, тем глубже захватывает дух. Нет, не мог я в свои десять лет оценить этой неповторимой, нигде больше мной не увиденной красоты.
Вот она, прекрасная российская земля Прикамья.
И двух дней не прошло в Кирове, как у меня сыскались друзья — нынешние горожане. Уже два дня хожу по улицам старой Вятки с новым моим товарищем, отличным писателем, патриотом Кирова Борисом Порфирьевым. Нам нетрудно найти общий язык. Оба мы росли в Вятке. Потом Борис учился в Ленинградском университете. Он воевал на многих фронтах, в том числе на Ленинградском. Биографии наши в чем-то схожи. Порфирьев по-своему оригинальный скульптор. Так же, как и я, он любит цирк. Борис знает старую Вятку и пишет о ней. Могли мы, конечно, когда-то детьми и встречаться. Жили недалеко друг от друга.
Опускаясь и вновь поднимаясь, мы бродим по крутым улицам. Отыскиваем примечательные места. Вызывая недоумение встречных, подолгу стоим и смотрим на какие-нибудь ветхие деревянные ворота. Однажды отворенные, они остались в этом положении навсегда, так как нижним своим краем глубоко вросли в землю. Зеленая травка беспрепятственно разрослась вокруг побуревших досок. Мы восхищаемся белизной берез в палисаднике одного из домов и останавливаемся возле еще существующих крылечек с железными навесами — характерной чертой уютной чеховской провинции.
Оказывается, моя память крепче памяти Порфирьева. Я показываю ему, где помещалась старая фотография, и рассказываю, как выглядел прежде Ботанический сад в овраге у высохшей ныне речки Засоры.
С Борисом и поэтом Овидием Любовиковым мы обедаем на станции Вятка-2. Я слышу гудки паровозов, уходящих отсюда к Слободскому. Это голоса моего детства.
Я без труда привел Порфирьева к дому в низине улицы Володарского. Он будто сделался куда меньше прежнего, хотя и тот же, с палисадником, но деревца тут давно стали деревьями.
Сюда больше не ведут дощатые тротуары, и не видно уличных столбов. Все провода глубоко под слоем асфальта. Вряд ли теперь здесь зимой катаются и на санках.
Мы заходим во двор. Четверо молодых мужчин без пиджаков стучат костяшками домино. Я спрашиваю, не этот ли дом принадлежал Бересневой. Мужчины пожимают плечами. Никакой Бересневой тут никто не помнит. Дом ныне коммунальный. Спрашиваю, была ли холодная пристройка с западной стороны. Старожил дома из числа «забивающих козла» говорит, что была. Ее разобрали, когда ремонтировали дом. Наружную его стену с запада перебрали, частично заменив бревна. Тогда же ликвидировали выходящие на парадную двери первого и второго этажей. Я помню этот парадный вход. Две тяжелые его двери с улицы были наглухо заперты. Отсюда не ходили. Однажды, через двери нашей квартиры проникнув в сени парадного входа, я был поражен его деревянной роскошью. Имелось тут и окошко, выходящее в чужой сад. Тогда стояла весна, и через запыленные стекла в крестообразной раме виднелись туманно-голубое небо и белая кипень верхушки соседней черемухи.
Нет, нынешний Киров не заслонил мне Вятки моего детства — самой светлой поры жизни, той поры, когда все близкие еще рядом, с тобой и мысли нет, что придет время, и ты с ними безвозвратно расстанешься.
Сегодняшний, совсем другой город существует в ином измерении. Этот Киров по своему значению давно оставил позади не обойденный, памятью истории город на высоком берегу славной реки.
Мне жаль расставаться с уходящей, милой моему сердцу Вяткой и радостно сознавать, что город, когда-то считавшийся захолустьем, куда ссылали неблагонадежных, ныне известен, а кое-чем и знаменит не только в нашей стране.
С того времени, когда я после долгого перерыва снова оказался в Кирове, я бываю там чуть ли не каждый год.
Теперь от самого вокзала, когда-то отдаленного от города, начинается магистраль нового, Октябрьского проспекта. По-столичному широкий, разделенный зеленой лентой бульвара, он поднимается отсюда вверх и бесконечной волнистой лентой, то снижаясь, то вновь устремляясь ввысь, как и все параллельные ему улицы, тянется на долгие километры к разросшемуся заводскому району. Лихо свистя колесиками бугелей, бегут по проспекту троллейбусы, широкими своими окнами отражая стройный ряд высоких домов, стекла витрин и зеленые кроны молодых деревцов.
По пути проплывает приметное здание гостиницы «Вятка» и чуть дальше — стеклянный куб построенного в самом современном духе универмага. Потом будут кинотеатры «Алые паруса» и «Молодая гвардия», Дворец культуры «Первое мая».
Романтика наименований тут не позабыта. О том говорит и сам проспект, названный Октябрьским.
А ведь там, где теперь раскинулся новый прекрасный проспект, не так давно еще росла картошка.
Из троллейбуса уже не видно старины. Пробежав по проспекту два-три километра, он привезет вас в индустриальный Киров. По ходу троллейбуса один за другим потянутся бетонные заборы и корпуса заводов. Марка изделий иных из них высоко котируется и за рубежами нашей Родины.
Таков нынешний Октябрьский проспект, начало которому было положено в годы войны, когда в предместьях Кирова под открытым небом расставляли станки рабочие, прибывшие сюда из Ленинграда. С тех, теперь уже давних, пор иные из них навсегда сделались кировчанами. Породнило то, что город, куда занесла их военная судьбина, носил имя пламеннореволюционного правофлангового ленинградских большевиков-питерцев, как любил их называть великий Ленин.
Лишь только начнешь от вокзала подниматься по Октябрьскому проспекту, сразу увидишь очертания памятника Сергею Мироновичу Кирову, отсюда, снизу, силуэтом глядящимся на фоне неба. Киров, некогда уржумский паренек-вятич, ставший одним из талантливых воплотителей ленинских идей, навсегда подружил эти два города.
Всякий раз, когда я приезжаю в Киров, я с сентиментальным сожалением думаю о том, что деревеньки, которую видел здесь, по соседству с Октябрьским проспектом, уже нет.
Я еще успел нарисовать эту горбатую улочку деревянных полуизб с небольшими садами и огородами, словно испуганно сбившихся в кучу в предчувствии своей обреченности.
Да и на что можно надеяться, если тебя с трех сторон окружают пятиэтажные корпуса новостройки, а поодаль видны и башни высотных домов. Еще немного — и аллеи нового парка, который тут сооружается, сотрут с лица земли вятский пригород. Лишь недолгое время он еще будет жить в памяти старшего поколения. Но те, кому сейчас пять лет, подумают, что тенистый парк тут был всегда. Они примут как само собой разумеющееся стеклянное здание бассейна общества «Спартак» — оно уже светится по вечерам прозрачными стенами.
Здесь же, между зданием бассейна и гостиницей, на прежде далекой и пустынной привокзальной окраине, появилось здание своеобразной архитектуры — Кировский цирк. Да, в бывшей Вятке, где когда-то не видели ничего, кроме бродячей группы забредших гимнастов, в Кирове, который долгие годы довольствовался устанавливаемым на летние месяцы неказистым шапито, теперь существует стационарный цирк, каким гордился бы любой крупнейший город.
Я поклонник цирка и испытываю признательность к его людям, которые каждый вечер поражают зрителей мужеством и отвагой. Цирк в России всегда был любимым народным зрелищем. Город без своего цирка мне представлялся чем-то обойденным.
За цирком подрастает новый парк. Пройдет время — и наполняющая круглый зал публика станет выходить на широкие аллеи парка, совершенно забыв о том, что не так-то давно здесь были неприглядный загородный пустырь, непролазные дороги и тьма-тьмущая, лишь только наступал вечер.
В один из последних своих приездов в Киров я побывал во Дворце пионеров. Великолепное это, наполненное светом сооружение стоит чуть в стороне от города на просторе еще не застроенной земли. Приближаясь ко дворцу, проходишь мимо белых скульптур. Тут история революционной борьбы, защита Советской родины, всепобеждающий труд. Изваяния эти под стать монументальности дворца. Он впечатляет еще издали. Ярким пламенем горит красная керамическая крыша. Она имеет форму продолговатого треугольника. Мысль автора проекта — это пионерский галстук рдеет над дворцом. Я вхожу во дворец. Он чист, просторен и солнечен. Шумит веселая красногалстучная детвора. Как хорошо эти ладно одетые мальчишки и девчонки глядятся в современных интерьерах дворца. Я выступаю перед ними в большом, поднятом амфитеатром зале. Мне хорошо видны глаза каждого, и все, кто тут сидит, отлично видят меня. Несмотря на свои масштабы, зал уютен и располагает к задушевному разговору. Я рассказываю школьникам о Вятке, в которой когда-то жил. Меня слушают внимательно. Замерли и самые несносные непоседы. Но я чувствую — верят с трудом. Еще бы! Я учился в школе еще при жизни Ленина. Могло ли такое быть?!
Я смотрю на этих крепких ребят и думаю о том, что их уже никто никогда не назовет «Вяткой», потому что больше нет той Вятки и мои о ней воспоминания лишь дань чему-то, для них немного, наверно, смешному. Что же, так и должно быть!
Теперь с каждым приездом в Киров я все меньше слышу на его улицах быстрый говорок с мягким оканьем. Здесь говорят как в Москве и Ленинграде. Надо бы радоваться. Да, нынешних парней и девчат в джинсах, с сумками через плечо не примешь за провинциалов.
А мне неуместно жаль этого невозвратного. И прошу снисхождения к, своим сожалениям, объясняя их простительной стариковской привязанностью к прошлому.
Не так давно Валентин Петрович Катаев поведал мне, что, когда Маяковского спросили, какой из русских городов, из числа тех, что он объездил, он считает самым красивым, поэт, чуть, подумав, сказал: «Пожалуй, Вятку». Маяковский и Вятка! Та самая, какую знал я. Удивительно, и тем не менее разве не стоит о том задуматься? Маяковскому был по душе белый город на высоком берегу. Великий поэт, даровитый, не раскрывшийся до конца живописец, человек с отзывчивым сердцем, спрятанным под панцирем неприятия эмоций, знал цену подлинной красоте.
В двадцатые — тридцатые годы, когда в упорной борьбе за новое утверждалось молодое Советское государство, о старине пеклись мало. Издержки времени сказались и на тогдашней Вятке. Многое из того, что восхитило Маяковского, утрачено навечно. Но город все равно по-своему красив и требует к себе внимания.
В один из последних приездов в Киров я побывал у главного архитектора города и узнал немало обнадеживающего. Нет, не ошибся я в своих чаяниях. Не исчезнет в Кирове будущего давняя Вятка Салтыкова-Щедрина и Александра Грина. Центральная, выходящая к реке часть старого города объявлена охранной зоной. Здесь будет восстановлено утраченное. Обновится и то, что уцелело до наших дней. Дома старой Вятки, в которых стало трудно жить, оставаясь прежними снаружи, обновятся внутри, получат современные удобства. Город, славящийся неповторимым лицом, хоть частично должен быть похожим на тот, что был.
За границей своеобразного заповедника старой Вятки установлена зона регулируемой застройки. Холмистость пейзажа — богатые возможности для архитектурных исканий, но многоэтажные дома будут здесь возводиться, и уже возводятся, с той приглядкой, чтобы облик будущего Кирова отражал в себе характер шестисотлетнего русского города. Старый Хлынов-Вятка-Киров помолодеет, но должен остаться отличимым от других городов.
«Рязань, Калуга, Вятка золотая…» — не помню, чья это строка, но люблю ее повторять.
По широкому мосту, протянувшемуся над волнистой линией железобетонных арок, над берегом реки, к которому когда-то таскал паром-труженик «Митя», я еду с местными архитекторами — кировскими мечтателями и реалистами.
Перешагнув Вятку, мост высится и над доброй половиной Дымкова, навсегда прославленного своими глиняными расписными игрушками. В домиках внизу уже не живут женщины, которые сами лепили, обжигали в своих печах и расписывали купчих и кормилиц, индюков и большерогих оленей. Не подозревали они тогда, что их скромное занятие ради зимнего заработка окажется творчеством, которому потом посвятят книги.
Вятские глиняные игрушки восхищают парижан и лондонцев.
Среди них нет двух одинаковых, ибо каждая фигурка и ныне создается и расписывается одним мастером. Но теперь игрушки — дело рук профессиональных художниц, среди которых есть и признанные мастера, отмеченные высокими званиями. Большинство же — молодежь.
Архитекторы везут меня к недавно восстановленной и реставрированной церкви Макария Желтоводского.
Церковь Макария — давнишнее творение безвестных дымковских народных мастеров. Ее четырехэтажная устремленная в небо колокольня и само церковное здание — как бы аккомпанемент к ней — прекрасны своей удивительной, несмотря на немалые масштабы, какой-то игрушечной красотой.
Да, именно игрушечной. Белые стены расписаны ярко и весело, но одновременно и с великим чувством меры, которой трудно научить, если ты не художник «милостью божьей». Все церковное здание исполнено той наивной и звонкой радости, которая отличает дымковские глиняные изделия.
Вернувшись в Ленинград, я рассматриваю свой рисунок в старой тетради. Внимательно вглядываюсь в него и вижу — за нагромождением деревенских дымковских домиков на рисунке видна колокольня с крестом. Сомнений нет, это та самая, что мне показывали архитекторы. Значит, и мой детский взгляд полвека назад привлекло создание дымковских мастеров. Конечно, я не мог его оценить, да и видел церковь Макария издалека, но дети в своих рисунках, как известно, запечатлевают лишь то, что достойно запечатления.
Прощаясь с Кировом, как и всегда, прихожу на набережную Грина и стою на краю, над обрывом.
Теперь здесь сооружен мемориальный памятник кировчанам, не вернувшимся с войны. У подножия обелиска, который, расширяясь, поднимается к небу, качается пламя вечного огня. На мраморном полукольце, охватывающем обелиск, строки стихов, написанных живущим в Кирове поэтом Овидием Любовиковым:
ШАГНУВШИХ В ПЛАМЯ, ПОБЕДИВШИХ ПЛАМЯ УБЕРЕГИ, ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ.
За высоким белокаменным памятником бирюзовые дали лугов и синий горизонт леса. Война счастливо не докатилась до вятского края. Здесь не падали бомбы на город и не веяло горькой гарью от пепелищ. Но тысячи и тысячи мужчин-кировчан не вернулись в родные села. Сколько их уснуло последним сном на долгой дороге к Берлину! И кто знает, не останки ли одного из моих вятских земляков покоятся в Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены!
С площадки мемориала смотрю в заречную даль и вспоминаю того молодого пулеметчика, что искал «своих» на военных дорогах Украины. Дожил ли он до победы, вернулся ли на любимую родину? Может быть, этот величественный обелиск на берегу реки Вятки воздвигнут и в его память.
Обхожу памятник и становлюсь лицом к улице Ленина.
Далекий, милый город детства, ты внес свою достойную лепту в дело торжества мира на прекрасной земле.
1977—1978
О НЕНАПИСАННОМ
Бывают встречи, как будто неимеющие для тебя решающего жизненного значения, однако они оставляют о себе память надолго. Нет-нет да и возвращаешься к ним в мыслях и по прошествии немалого времени. Что-то тебе тут не дает покоя и начинаешь думать: — чего-то я тут не досказал.
Произошло это этак лет двадцать назад, а вот припомнилось, так, как, пожалуй не утратило своей жгучести для меня и нынче.
Однажды получил я задание написать очерк о подвиге замечательной женщины — Героя Советского Союза, одной из прославленных воинов совершившей подвиг во имя Родины.
Не так-то оказалось просто отыскать ту, чье имя в свое время обошло чуть ли не все газеты страны. С трудом наконец раздобыв номер телефона, я позвонил по нему и, услышав ответ, объяснил кто я такой и почему к ней обращаюсь.
Та, с которой говорил, кажется, даже не сразу поняла, что от нее хотят. Во всяком случае, прошла, наверное, минута — другая, пока я услышал в телефон согласие на встречу.
Я, признаться, подумал, что прославленной женщине изрядно надоели различные корреспонденты, не раз и не два заставлявшие ее рассказывать о своих подвигах.
Но, отступать было некуда и я, без всякого энтузиазма направился по данному мне адресу.
Она жила в южном краю Ленинграда, на улице пока названной как-то условно, среди бурно строящегося района, в конце Московского проспекта.
Не легким делом оказалось отыскать и указанный мне корпус, который затерялся в просторном дворе домов под одним номером.
И вот я уже и поднимался вверх в свеже пахнущей лаком кабине лифта.
По пути рисовал ту, с кем должен был повидаться, женщиной крепкой кости, с мужскими уверенными повадками, с открытым полным бесстрашия лицом.
А, может быть, думал я, моя знакомая окажется тоненькой и хрупкой, в прошлом романтической девушкой, про таких ведь особенно приятно сочинять страницы их героических подвигов.
Двери в квартиру мне отворила женщина, ничем особым неприметная, с мягкими неброскими чертами лица. Не блистай на ее груди золотая звездочка на алой ленте, приколотая к строгому жакету, не очень-то парадно надетому поверх домашнего платья, я бы не подумал, что предо мной отважный герой былых сражений.
Мы познакомились.
— Извините, — сказала она. — У меня немного не прибрано. Проходите пожалуйста.
Она ввела меня в комнату, где неприбранного я ничего не увидел, и усадила за покрытый узорчатой скатертью, обеденный стол.
Ничего, решительно ничего тут не напоминало о героическом прошлом хозяйки. Обыкновенные цветы на окнах. Абажур, каких тогда можно было видеть в десятках тысяч квартир. На этажерке телевизор с линзой для увеличения изображения. Детский столик с аккуратно уложенными книжками. В углу, протертая до белой бумаги, лошадка-качалка. Уютно, чисто, обыденно.
Подробней, чем прежде по телефону, я разъяснил цель визита. Щеки моей собеседницы покрылись легким румянцем.
— Чего же еще писать про меня? — сказала она.
Я сказал, что писать нужно, просто необходимо.
Она кивала головой, но слушала, как мне казалось, рассеянно, думая о своем. По старой профессиональной привычке я внимательно вглядывался в чем-то сейчас озабоченное лицо этой женщины, силясь увидеть в нем нечто удивительное.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что на войне мы находились рядом, на правом фланге линии фронта наших войск. На минуту моя собеседница увлеклась, вспоминая ту счастливую осень, когда, прорвав укрепления на Миусе, наши части безудержно неслись по степям Приазовья, с трудом настигая врага, которому удалось задержаться только на правом берегу неизвестной мне до тех пор реки Молочной.
Там и был совершен ее подвиг.
Собеседница моя оживилась. Вот уже, казалось, и загорелся в глазах ее яркий огонек. Я старался запомнить этот миг, но он был слишком короток. Снова сделавшись прежней, она, как бы виновато, сказала:
— Многое забылось. Вот только во сне еще вижу войну.
И опять я заметил, что она беспокойно думала о чем-то другом. Отвечала мне не сразу, и порой невпопад. Вероятно, мысли ее были далеки от темы беседы.
Я поинтересовался, не осталось ли у нее каких-либо документов и фотографий. Моя новая знакомая нахмурила лоб, наверное вспоминая, где это все может лежать, а затем поднялась и вышла из комнаты, оставив меня наедине с невеселыми мыслями о том, что много здесь не почерпнуть.
Вернулась она с альбомом для открыток. Меж его страниц лежали пожелтевшие от времени, потертые на сгибах газеты и две фотокарточки. На одной из них она была снята совсем еще молоденькой на фоне какого-то бревенчатого сарая. Шапка девушки была лихо сбита набок, через плечо висела санитарная сумка. На другой фотографии, очень серьезная и подтянутая, она была запечатлена уже с геройской звездочкой.
— После госпиталя, — объяснила хозяйка.
Осторожно я спросил, нельзя ли мне, хотя бы на несколько дней, взять газеты и карточки, чтобы внимательно ознакомиться с ними и подумать.
— Разумеется, — предупредил я, — я верну вам все назад и буду аккуратен.
— Конечно, конечно. Пожалуйста, берите, — согласилась она так легко и охотно, словно вовсе не дорожила свидетельствами своей славы.
И тут я перешел к самому главному, хотя, может быть, поступил и не очень умело. Я стал просить прославленную героиню описать свой подвиг так, чтобы в этом описании было побольше пережитого.
— Хорошо. Я это постараюсь сделать, — покорно кивнула хозяйка. Создалось такое впечатление, что она согласилась, лишь бы поскорей закончить этот разговор.
Мы условились о новом свидании, и я покинул квартиру. Возвращался я с чувством неудовлетворенности встречей. Не слишком ли опрометчиво я взялся написать очерк?!
Признаться, к тому же я мало надеялся на отыскавшиеся материалы. Кто из побывавших на войне не помнит этих одностраничных «дивизионок» или армейских газет! С телеграфной краткостью в них сообщались не только фронтовые, но и все мировые новости, происшедшие за последние дни. На подвиги, которым потом посвящались книги, там не отводилось и четверти листка.
Но произошло чудо. Из скупых, рубленых строк фронтовых корреспонденций передо мной вырисовывался облик героини. Это была замечательная ленинградская девчонка, школьница, ушедшая дружинницей на фронт против воли родителей, еще во время войны с белофиннами. Санинструктор стрелковой роты, она, в дни осеннего наступления сорок второго года, увидев, что командир убит, первая поднялась с земли и возглавила захлебнувшуюся атаку.
Сквозь полустершиеся строки старых газетных листков я увидел рыжую степь левобережья Молочной, серые, неподвижные тела солдат, скошенных немецкими пулеметами, и светловолосую девушку, ведущую в атаку тех, кого охватила минутная слабость.
Я увидел ссутулившиеся фигуры бойцов, немолодых, обветренных степными вьюгами, несущих ее на шинели, уже израненную, неумело перевязанную бинтами из ее же сумки.
Еще бы фактов, деталей, да подметить неповторимые черты, постичь душу женщины, чтобы, может быть, в очень личном увидеть такое, в чем каждый узнает свое. Но ведь это только скупые строки газет, а когда в записках она разворошит свою память… Сколько же откроется сокровенного, неповторимого для рассказа!
Забывая о том, что называется выдержкой, я звонил новой знакомой, утверждал — и это была правда, — что издательство нас торопит. Она не находила нужным оправдываться, но просила повременить, так как еще не успела записать, что припомнила.
И вот мы встретились во второй раз. С первого взгляда заметил я резкую перемену в моей знакомой. Казалось, она помолодела за время, пока мы не виделись. Движения ее были уверенней и свободней. Глаза смотрели живей. Пожалуй, теперь она была куда больше схожа с той, какую воображал я себе, впервые направляясь в этот дом, хотя на этот раз на ней было надето довольно-таки веселое крепдешиновое платье, а на груди не золотилась звездочка.
Мы уселись за тот же обеденный стол. Она принесла тетрадку в клеенчатом переплете. Я весь превратился во внимание и с волнением ожидал знакомства с ее записками. Но не успела она начать их читать, как открылась дверь, и в комнату осторожно вошел коротко стриженный светловолосый мальчик лет десяти, с носом — маленькой карикатурой на чуть вздернутый нос хозяйки, да к тому же еще усыпанным мелкими веснушками. В руках его был раскрытый, бывалый в боях портфель и голубая тетрадочка с чернильными кляксами на обложке.
— Что тебе, Толик? Ты поел? — спросила мать.
— Да, бабушка покормила, — неожиданно басовито проговорил мальчик и, запинаясь, продолжал: — Вера Порфирьевна велела, чтобы все подписали дневники.
Торопливо, он выложил на стол тетрадку и сунул матери школьную ручку.
— Извините, — сказала она и уже хотела поставить свою подпись как вдруг лицо ее приобрело сперва испуганное, а затем строгое выражение.
— Это откуда же опять двойка?
— Где?
Толя сделал вид, что и сам удивляется, откуда в его дневнике взялась двойка.
— Вот здесь, по письменному, и помечено: «невнимателен».
Мальчик пожал плечами. Это было наивное, но, вероятно, испытанное средство самозащиты.
— Не хитри, Толя, — угрожающе произнесла мать. — Иди в школу. Вечером я с тобой поговорю.
С быстротой фокусника мальчик упрятал тетрадь и перо в портфель и мгновенно исчез за дверью. А моя знакомая сидела задумчивая и, видимо, расстроенная этим маленьким эпизодом.
— Хитрит, — как бы для самой себя повторила она и, обратясь ко мне, продолжала: — Очень, знаете, трудно растить детей без отца. Муж у меня военный, за границей, а я ведь еще учусь на заочном. Поздновато, конечно, но раньше дети были маленькими… — И вдруг она спохватилась: — К чему это я все? Только задерживаю вас. — Она взялась за свою рукопись и сразу смутилась: — Вот, я попробовала тут, как умела… Может быть, вы сами посмотрите? Почерк у меня понятный.
— С удовольствием, — кивнул я и взял тетрадь.
Случаются же в жизни огорчительные минуты! Так вот эта именно и была одной из них. Если кому и следовало ставить двойку, так самой героине за ее воспоминания. Да, я, видимо, действительно, поступил опрометчиво, когда просил ее написать. Ничего-то, ничего не увидел я для себя в ее записках. На пяти с лишним тетрадочных листах очень скромно, со школьной грамотностью было изложено то, что я уже знал из старых газетных статей. Трудно было поверить, что это писала даже очевидица событий.
Я готов был заплакать от досады, читая записки, а она сидела рядом, как второклассница, и молча ждала моего суда. Что я мог ей сказать?!
— Хорошо. Спасибо. Это мне пригодится, — проговорил я и поднялся.
Но моя знакомая, видимо почувствовав какую-то неловкость, краснея, сказала:
— Приходите, когда вам будет нужно. Знаете, в прошлую встречу мне было не до всего этого… Я не хотела вам тогда говорить, но у моей маленькой дочки предполагался… Нет, лучше не вспоминать. Я сходила с ума от страха. Но все, кажется, обошлось благополучно. Сейчас она в детском санатории. А ведь могло быть… — Она подняла голову и упрямо тряхнула ею. — Нет. Я и мысли себе допустить не могла! Чего бы я не сделала ради спасения ребенка!
Я взглянул на собеседницу. Она была удивительна в этот момент: решительная, волевая, даже красивая. Вот такой, наверное, и должна быть героиня.
И как часто бывает, что самый длинный разговор начинается, когда нужно уже прощаться, мы, забыв о цели моего прихода заговорили о вещах совсем посторонних: о том, что медицина еще, увы, очень несовершенна, о том, куда бы лучше всего вывезти детей на лето, о неудобстве второй смены в школах и тяжелом ленинградском климате, но, однако, привычном и родном, как и сам город, который бы мы никогда не променяли ни на какой другой, южный и солнечный. Еще мы восхищались тем, как удивительно на глазах растет и новый район, и предполагали, как будет хорошо, когда сюда пройдет уже строящееся метро.
Хозяйка дома задумчиво посмотрела в окно, за которым на бледном весеннем небе курчавились облачка и покачивался трос от телевизионной антенны. Вздохнув, она вдруг сказала:
— Ничего не боюсь. Лишь бы не было войны!.. Как вы думаете, не будет?
И это спрашивала женщина-герой, жена военного. Что мог ответить ей я, чьи потускневшие погоны саперного капитана давно затерялись среди старых игрушек детей?!
— Уверен, что не будет. Наверняка не будет. На кой черт она нужна!
Обратный путь мой к автобусу пролегал через парк Победы. У бюстов могучеплечих героев, по дорожкам, горланя, носилась детвора, не задумывающаяся о вечной славе. Все кругом звенело весной.
И вдруг мне стало легко и весело. Огорчение по причине того, что обещанному очерку, наверное, не суждено родиться, рассеялось. И внезапно куда-то исчез воображенный мной героический портрет, а его место занял милый сегодняшний облик женщины и матери, до ужаса ненавидящей войну.
И неожиданно подумалось о том, как бы прекрасно было на свете, если бы никогда не нужно было этой женщине становиться героем сражений, а потом с опозданием учиться на заочном факультете института и тщетно пытаться прятать под мелким вырезом платья осколочный шрам на нежной шее.
Вот бы и написать самые счастливые страницы о такой победе на земле!




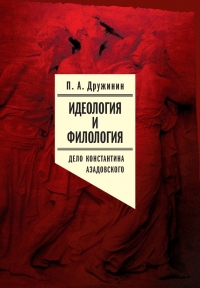
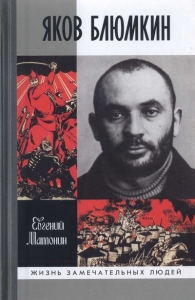

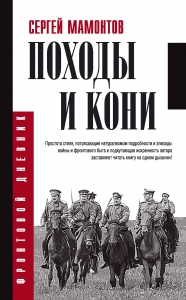

Комментарии к книге «В наши дни», Аркадий Миронович Минчковский
Всего 0 комментариев