Росс Кинг Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря»
Моему тестю Э. Х. Харрису, отставному командиру эскадрильи Королевских ВВС
Я хотел бы творить чудеса.
Леонардо да ВинчиRoss King
LEONARDO AND THE LAST SUPPER
Copyright © 2012 by Ross King
Научный редактор кандидат искусствоведения Максим Костыря
© А. Глебовская, перевод, 2016
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
* * *
Британский писатель и историк Росс Кинг с присущим ему умением создать увлекательное повествование изображает фонтанирующего творческой энергией, полного загадок, несгибаемо-независимого, не находящего применения своему исключительному дарованию Леонардо и с мастерством историка помещает эту удивительную фигуру в контекст эпохи.
Philadelphia InquirerЗахватывающая история исчезающего шедевра… Кинг прослеживает религиозные, светские, психологические и политические подтексты, зафиксированные в выражениях лиц и положении рук собравшихся за священной трапезой, символическое значение стоящей на столе пищи, просыпанной предателем Иудой соли… книга является впечатляющим примером «реставрации» – автор помогает читателям увидеть «Тайную вечерю» совершенно другими глазами.
Kirkus Reviews* * *
Глава 1 Бронзовый конь
Астрологи и предсказатели в один голос твердили: все знаки указывают на приближение бед. В Апулии, на самой пятке Италии, взошли сразу три пылающих солнца. Дальше к северу, в Тоскане, по небу под бой барабанов и звуки труб промчались призрачные всадники на гигантских конях. Во Флоренции монаху-доминиканцу по имени Джироламо Савонарола были видения мечей, явившихся из туч, и черного креста, вставшего над Римом. По всей Италии кровоточили статуи, а женщины производили на свет уродцев.
Эти странные, тревожные события лета 1494 года стали предвестниками больших перемен. В том году, как впоследствии вспоминал один летописец, итальянцам пришлось претерпеть «несчетные и великие беды».[1] Савонарола предрек, что из-за Альп явится грозный завоеватель и повергнет всю Италию в прах. Его мрачное пророчество не замедлило сбыться. В сентябре того же года король Франции Карл VIII переправил через перевал свою тридцатитысячную армию, прошагал через всю Италию и взошел на неаполитанский трон. Выглядел этот бич Божий довольно неказисто: двадцатичетырехлетний король был приземист, близорук и сложен так нескладно, что, по словам историка Франческо Гвиччардини, «больше походил на чудище, чем на человека».[2] Но за внешним уродством и ласковым прозвищем, Карл Любезный, скрывался властелин, обладавший оружием, равного которому по мощи еще не видывали в Европе.
Первую остановку Карл VIII сделал в ломбардском городке Асти, где заложил свои драгоценности, чтобы расплатиться с наемниками; здесь же его приветствовал могучий итальянский союзник, правитель Милана Лодовико Сфорца. Да, поход Карла предсказал Савонарола, но призвал его из-за альпийских хребтов Лодовико. Сорокадвухлетний Лодовико, за темный цвет кожи прозванный Моро (Мавром), был настолько же хорош собой, энергичен и коварен, насколько король Франции был уродлив и слаб. По словам императора Священной Римской империи Максимилиана I, Лодовико превратил Милан – герцогство, которым управлял с 1481 года, сместив с трона своего юного племянника Джангалеаццо, – в подлинный «цвет Италии».[3] Впрочем, Лодовико не ведал покоя. Тестем беспомощного Джангалеаццо был Альфонсо II, новый король Неаполитанский, дочь которого Изабелла скорбела за участь свергнутого мужа и не постыдилась поведать о своих страданиях отцу. Репутацией Альфонсо пользовался прескверной. «Не было еще властителя столь кровавого, жестокого, бесчеловечного, похотливого и алчного», – заявил один французский посланник.[4] Лодовико предупредили: опасайтесь наемных убийц – в Милан, поведал ему один из советников, посланы «на некое дурное дело»[5] неаполитанцы, пользующиеся недоброй славой.
А вот если убрать Альфонсо из Неаполя – правда, для этого нужно убедить Карла VIII не отказываться от притязаний на неаполитанский трон (веком ранее его прапрадед был королем Неаполитанским), – Лодовико в Милане сможет спать спокойно. По словам одного очевидца при французском дворе, он принялся «соблазнять короля Карла… всеми красотами и излишествами Италии».[6]
Герцогство Миланское простиралось на сто километров с севера на юг – от альпийских предгорий до реки По – и на девяносто – с запада на восток. В самом его центре стоял, окруженный глубоким рвом, рассеченный каналами и опоясанный крепкой каменной стеной, сам город Милан. Своим упорством и богатством Лодовико превратил город с населением в сто тысяч человек в величайший из итальянских городов. Могучая крепость с цилиндрическими башнями высилась на северо-восточном конце, а в центре города росли стены нового собора: строительство началось в 1386 году, но и сейчас, по прошествии века, не было завершено даже наполовину. Вдоль мощеных улиц стояли дворцы, фасады их украшали фрески. Один из поэтов утверждал, что в Милан вернулся золотой век, что город Лодовико полон талантливых художников, которые слетаются ко двору герцога, «точно пчелы на мед».[7]
То была вовсе не пустая лесть. С того самого дня, когда в возрасте тринадцати лет Лодовико заказал портрет своего любимого коня, он сделался ревностным меценатом.[8] В Милан, находившийся под его правлением, стекались творческие и научные умы: поэты, живописцы, музыканты и архитекторы, знатоки греческого, латыни и древнееврейского. Возрождены были университеты Милана и соседней Павии. Процветали юриспруденция и медицина. Строились новые здания; над городом парили элегантные купола. Лодовико собственными руками заложил камень в основание прелестной церкви Санта-Мария деи Мираколи прессо Сан-Чельсо.
И тем не менее вердикт летописцев был суров. До того Италия сорок лет наслаждалась относительным миром. Время от времени случались мелкие стычки – например, в 1478 году, когда папа Сикст IV объявил войну Флоренции. Но по большей части итальянские правители силились превзойти друг друга не на поле битвы, а в тонкости художественного вкуса и размахе своих достижений. И вот теперь надвигался новый кровавый прилив. Уговорив Карла VIII с его мощным войском перейти через Альпы, Лодовико Сфорца, сам того не ведая, положил начало – как и предрекали звезды – несчетным и великим бедам.
Мастер Пала Сфорцеска (ок. 1490–1520). Алтарь Сфорца. Фрагмент: коленопреклоненный Лодовико Моро. 1494–1495. Дерево, темпера, масло.
В блистательной когорте талантов при миланском дворе Лодовико Сфорца один художник выделялся особо. «Возрадуйся, Милан, – писал в 1493 году поэт, – ибо в стенах твоих пребывают мужи, наделенные исключительным дарованием, такие как Винчи, чей дар рисовальщика и живописца ставит его выше всех мастеров как древности, так и наших дней».[9]
Этим непревзойденным мастером был Леонардо да Винчи – сорока двух лет от роду, ровесник Лодовико. Родом из Тосканы, он лет двенадцать назад приехал сюда, на север, в поисках славы и, по всей видимости, сделался при дворе Моро фигурой заметной и даже выдающейся. По всем отзывам его ранних биографов, он отличался элегантностью и красотой. Один автор превозносил его «красоту и обаяние». «Природа изобильно одарила его телесной красотой», – вторил другой. «Длинные волосы, длинные ресницы, очень длинная борода, облик, исполненный истинного благородства», – отмечал третий.[10] Помимо этого, Леонардо был наделен недюжинной силой и ловкостью. Говорят, что он мог голыми руками разогнуть подкову, а когда получал отпуск от придворных обязанностей, карабкался по отвесным скалам к северу от озера Комо, на четвереньках проползал мимо огромных валунов и вступал в схватки с «могучими медведями».[11]
Этот совершенный образец мужественности носил почетный титул pictor et ingeniarius ducalis: живописец и инженер герцога.[12] В Милан он приехал в тридцатилетнем возрасте, в надежде заняться здесь проектированием и строительством сокрушительных боевых механизмов – колесниц, пушек и катапульт, которые, как он обещал Моро, «послужат устрашению противника». Надежды его, безусловно, подкреплялись тем, что Милан вел тогда войну с Венецией, – почти семьдесят пять процентов своего колоссального годового дохода Лодовико тратил на военные нужды. Но хотя призраки боев продолжали кружиться у Леонардо в голове, занялся он более мирными и скромными задачами: эскизы костюмов для свадеб и турниров, хитроумные декорации для театральных постановок, портреты любовниц Моро. Он забавлял придворных фокусами – превращал белое вино в красное, изобрел будильник, который будил спящего, подкидывая вверх его ноги. Попадались и вовсе прозаические задания: «дабы нагреть воду для грелки герцогини, – отмечено в его записках, – нужно взять четыре части холодной воды и три части горячей».[13]
Несмотря на такое разнообразие занятий, почти все предшествовавшее десятилетие Леонардо с особым усердием работал над одним заказом – произведением, которое должно было окончательно закрепить за ним репутацию творца, превзошедшего всех мастеров как древности, так и современности. Примерно в 1482 году, незадолго до переезда в Милан, он отправил Лодовико письмо-представление, своего рода резюме, где несколько преувеличил свои возможности. В этом письме он обещал раскрыть Моро все свои секреты, а между делом посулил «приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью блаженной памяти отца Вашего и славного дома Сфорца».[14]
Под «бронзовой конной статуей» имелся в виду конный памятник, больше натуральной величины, с помощью которого Лодовико задумал обессмертить подвиги своего покойного отца Франческо Сфорца. Хитроумный солдат удачи (Никколо Макиавелли восхвалял его «великую доблесть» и «вызывающее почтение коварство»), Франческо стал герцогом Миланским в 1450 году, свергнув недолговечное республиканское правительство.[15] Он был сыном человека по имени Муцио Аттендоло, которому однажды в юности случилось рубить лес, а тут мимо проходил военный отряд; приметив крепкого молодца, солдаты зазвали его к себе. Муцио швырнул топор в дерево, загадав про себя: «Воткнется – уйду с ними». Топор воткнулся, и так Муцио сделался наемником; по ходу своей карьеры он успел побывать на службе у всех основных итальянских правителей. Благодаря могучему телосложению и грозному нраву за ним закрепилось прозвище «Сфорца» («sforzare» означает «принуждать») – оно вошло в него накрепко, как топор в дерево.
Франческо Сфорца был столь же доблестным воякой. Путь от солдата до герцога он прошел за девять лет после женитьбы на незаконной дочери одного из своих нанимателей, герцога Миланского Филиппо Марии Висконти. Семья Висконти правила Миланом с 1277 года, а герцогами они стали в 1395-м. Однако в 1447 году, когда Филиппо Мария скончался, не оставив наследника мужского пола, миланские граждане упразднили герцогское правление и провозгласили республику. Два года спустя Франческо, добиваясь для себя герцогского титула, взял Милан в осаду – оставшиеся без пропитания жители в конце концов отказались от республиканских чаяний и в марте 1450 года возложили на бывшего наемника герцогскую корону. Проблем с преемниками у Франческо, в отличие от Филиппо Марии, не возникло – он оставил тридцать детей, одиннадцать из которых были незаконнорожденными. Впрочем, и в браке он породил аж восемь сыновей, и старший, Галеаццо Мария, брат Моро, стал герцогом в 1466 году, после кончины Франческо.
Семейная история Висконти прихотливо разукрашена ересью, безумием и убийствами. Одна из самых достопамятных представительниц этого семейства, монахиня по имени Майфреда, была в 1300 году сожжена на костре за утверждение, что именно она станет следующим римским папой. Джованни Мария Висконти, старший брат Филиппо Марии, науськивал своих псов на людей и кормил человеческим мясом. Филиппо Мария, тучный и безумный, отрезал жене голову. Но даже в этой компании жестокий и беспринципный Галеаццо Мария выделялся особо. Макиавелли впоследствии много распространялся о его чудовищных поступках – о том, что врагов он убивал «исключительно жестокими способами», у летописцев же даже не поднялось перо описать некоторые его деяния.[16] Его подозревали в убийстве не только собственной невесты, но и матери. В 1476 году его наконец прикончил нож наемного убийцы; после него остался восьмилетний сын и наследник Джангалеаццо – малолетний герцог, которого пятью годами позже оттеснил с дороги Лодовико Моро, решивший вопрос о том, кто будет править в Милане, просто: отрубив регенту голову.
Право Лодовико на престол было весьма сомнительным. Строго говоря, он был лишь опекуном и законным представителем племянника, унаследовавшего титул герцога Миланского от отца. В связи с сомнительностью своих притязаний Лодовико всеми силами стремился увековечить память отца. Ученому по имени Джованни Симонетта было заказано описать блистательную карьеру Франческо. Герцог также планировал украсить бальную залу Миланского замка фресками, которые изображали бы героические сцены из жизни Франческо Сфорца. Конная статуя была задумана еще в 1473 году – Галеаццо Мария решил установить ее перед входом в Миланский замок. Проект этот герцог осуществить не успел, но Лодовико возродил его снова, полагая, что бронзовый монумент станет наиболее заметным и величественным памятником отцу.
Преуспевших наемников часто увековечивали после смерти в картинах, книгах и бронзе. Скульптор Донателло отлил бронзовую конную статую венецианского военачальника Эразмо да Нарни, известного как Гаттамелата (медовый кот), – она была установлена на Пьяцца дель Санто в Падуе. В 1489 году еще один флорентийский скульптор, Андреа Верроккьо, учитель Леонардо, начал по заказу венецианцев работу над статуей Бартоломео Коллеони верхом на коне. Но Лодовико виделось произведение еще более грандиозное. Как сообщает один посланник, «его светлость желают нечто из ряда вон выходящее, доселе невиданное».[17]
* * *
Леонардо заметил как-то раз, что первое его воспоминание – это птица, и, видимо, ему «было суждено»[18] изучать и описывать птиц. Однако кормчими его судьбы все-таки стали лошади, и именно лошадь, выражаясь фигурально, и привела его в Милан. Согласно одному источнику, примерно в 1482 году Лоренцо Медичи, правитель Флоренции, отправил Леонардо в Милан доставить Лодовико Сфорца особый дипломатический подарок: серебряную лиру, которую Леонардо сам изобрел и на которой, по словам одного из ранних биографов, «играл, как никто».[19] Уникальный музыкальный инструмент имел форму лошадиной головы. Небрежный набросок в одной из рукописей Леонардо показывает, как он мог выглядеть, – зубы лошади служили колками для струн, а бороздки на верхнем нёбе – ладами.
Зная обычай Лоренцо Медичи использовать придворных художников для налаживания дипломатических отношений, в историю с лирой нетрудно поверить.[20] Однако, даже если никакой лиры и не было, несомненно то, что Леонардо отправился на север, в Милан, с целью изобретать оружие или ваять конную статую – судя по всему, во Флоренции таких возможностей ему не представлялось.
Заказ на бронзовую статую Леонардо получил через несколько лет после прибытия в Милан. В 1484 году Лодовико вернулся к этому плану, хотя выбор его не сразу пал на Леонардо. Притом что Леонардо уже находился в Милане, весной 1484 года Лодовико отправил Лоренцо Медичи письмо с вопросом, известен ли тому хоть один скульптор, способный изваять такой монумент. Однако оба виднейших флорентийских скульптора, Верроккьо и Антонио Поллайоло, были на тот момент заняты. «Здесь нет ни одного ваятеля, которым я был бы доволен», – с прискорбием ответствовал Лоренцо. Замолвить словечко за Леонардо он не счел нужным, лишь добавил: «Убежден, что его сиятельство найдет нужного человека».[21]
Итак, Леонардо получил этот заказ за отсутствием более достойных кандидатов – возможно, вскорости после ответа Лоренцо. Он с жаром взялся за работу, хотя, судя по всему, фигура коня занимала его куда больше, чем фигура всадника. Леонардо углубился в изучение анатомии лошади и даже сочинил иллюстрированный (ныне утраченный) трактат на эту тему. Он долгие часы проводил в конюшнях герцога, разглядывая и зарисовывая сицилийских и испанских жеребцов, принадлежавших Лодовико и его приближенным. Одна из заметок гласит: «Флорентинец Морелло синьора Мариоло, крупный конь, дивная шея и очень красивая голова. Белый жеребец, принадлежащий сокольничему, недурной круп; стоит за Порта Комасина».[22]
Леонардо собирался не просто изваять анатомически верную статую; он выбрал чрезвычайно энергичную позу – лошадь поднята на дыбы. Статуя Гаттамелаты работы Донателло изображает знаменитого наемника верхом на мирно шагающем коне, а на монументе Верроккьо – над которым Леонардо, возможно, работал год-другой до отъезда из Флоренции – Коллеони сидит на мощном скакуне с динамично поднятой передней левой ногой. Леонардо задумал более впечатляющую вещь – лошадь взвилась на дыбы, передние ноги рассекают воздух над головой поверженного врага. Кроме того, статуя планировалась огромных размеров. Монумент Донателло в высоту почти четыре метра, Верроккьо – больше четырех, Леонардо же задумал скульптуру, где одна только лошадь будет восьмиметровой, в три раза больше натуральной величины. Она увековечит подвиги Франческо Сфорца, а главное – непревзойденный и безграничный талант ее создателя. До того никто еще не решался ни замыслить, ни изваять столь масштабную статую. Один из современников Леонардо писал: «Повсюду утверждали, что это невозможно».[23] Впрочем, Леонардо никогда не смущали масштабы замысла. Однажды он записал, в напоминание самому себе: «Не следует желать невозможного». А в другом месте: «Я хотел бы творить чудеса».[24]
Статуя гигантского коня казалась проектом если не неосуществимым, то, по крайней мере, крайне сложным и хитроумным: для воплощения его в жизнь действительно требовалось чудо. Даже изобретательность Леонардо не была гарантией успеха. У нас нет документальных свидетельств о том, насколько далеко он продвинулся в эти первые годы, но совершенно ясно, что работа шла медленно и трудно. К 1489 году Лодовико Сфорца начал сомневаться в правильности своего выбора. Флорентийский посланник в Милане писал домой, Лоренцо Медичи: «Мне кажется, что, хотя он и отдал этот заказ Леонардо, он не до конца уверен в исходе дела».[25]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Эскиз конной статуи. Ок. 1485–1490. Грунтованная голубым тоном бумага, металлический карандаш.
На сомнения Моро Леонардо ответил продуманной рекламной кампанией. В 1489 году он попросил своего друга, миланского поэта Пьятто Пьяттини, написать стихотворение, где восхвалялась бы конная статуя.[26] Леонардо явно пытался подогреть интерес к проекту и вселить уверенность в свою способность воплотить его в жизнь, тогда как Моро терял веру не только в скульптора, но, возможно, и в сам монумент. Пьяттини честно выполнил просьбу Леонардо – сочинил короткое стихотворение, восхвалявшее Франческо Сфорца; конная статуя в нем названа «сверхъестественной». Он написал и еще одно стихотворение, где воспевал Леонардо, «из скульпторов величайшего», и сравнивал его с древнегреческими ваятелями Лисиппом и Поликлетом.[27]
В одном из писем Пьяттини упоминает, что, хотя Леонардо «настойчиво уговаривал» его сочинить подобное стихотворение, он убежден: художник обращался с той же просьбой и ко «многим другим». Совершенно не исключено, что так оно и было: Леонардо, по всей видимости, выстраивал прочную оборону, чтобы не лишиться важного заказа. Примерно в то же время еще один поэт, Франческо Арригони, написал Лодовико письмо, в котором упомянул, что его попросили «восславить в эпиграммах конную статую». Плод его трудов оказался куда пространнее, чем у Пьяттини: серия эпиграмм на латыни, в которых возносится хвала бронзовому коню и его смелому создателю, каковой в очередной раз сравнивается с известнейшими ваятелями Древней Греции.[28]
Теперь уже невозможно установить, повлияла ли на Моро эта подспудная реклама, но факт остается фактом: заказ у Леонардо не отобрали. В апреле 1490 года он пишет, что «снова принялся за коня», а именно начал работу над видоизмененной композицией, остановившись все-таки на менее смелой и сложной позе: вздыбленного коня сменил конь, пребывающий в равновесии.[29] Примерно в это же время Леонардо приступил к работе над глиняной моделью в натуральную величину.
Его прерывали и отвлекали. В январе 1491 года, ради заключения союза с влиятельным семейством, Лодовико неохотно расстался со своей очаровательной беременной любовницей Чечилией Галлерани (Леонардо недавно написал ее портрет) и женился на Беатриче д’Эсте, дочери герцога Феррарского. Леонардо пришлось немало потрудиться перед свадьбой – он делал эскизы костюмов, украшал бальную залу, участвовал в организации рыцарского турнира. Через год ему поручили спроектировать водопад для новой виллы герцогини под Миланом. Кроме того, у него были собственные интересы – коллегам по миланскому двору они представлялись эксцентричными. Поэт по имени Гвидотто Престинари высмеял Леонардо в куплетах за то, что он целыми днями охотится в лесах и горах в окрестностях Бергамо на «чудищ различных и тысячи странных червей».[30]
К концу 1493 года полномасштабная глиняная модель лошади (впрочем, судя по всему, без всадника) была почти готова – ее прославляли другие поэты, более отзывчивые к дарованию Леонардо, а возможно, и те, кого он сам просил сочинить хвалебные стихи. В одном из стихотворений воспевается «редкостное дарование» Леонардо, а «великий колосс» превозносится за то, что статуи таких размеров не видели даже греки и римляне. В другом изображен Франческо Сфорца, взирающий с небес и расточающий Леонардо комплименты.[31]
Модель, безусловно, была изумительная, но теперь встал вопрос, как отлить огромную статую. Стародавний метод бронзовой отливки Леонардо наверняка освоил двумя десятилетиями раньше во флорентийской мастерской Верроккьо. Глиняная форма, приблизительно повторяющая форму статуи, покрывается воском, в котором прорабатываются более мелкие детали. Модель, покрытая воском, помещается в грубую внешнюю оболочку (для ее изготовления использовался, например, коровий навоз), в нее вставляются отводные каналы. Все это обжигается в литейной яме – расплавленный воск стекает по каналам, а на его место подается по другим желобам расплавленная бронза. Бронза застывает, после чего обугленную оболочку разбивают и достают из нее отливку. Затем поверхность дорабатывают стамеской и полируют наждачной бумагой и пемзой.
Когда пришло время продумывать процесс отливки, Леонардо стал делать многочисленные заметки. Он изо всех сил старается сохранить тайну – прибегает к шифру, хотя и незамысловатому: попросту меняет порядок букв в некоторых словах, так что cavallo (лошадь) превращается в ollavac.[32] Судя по всему, он собирался экспериментировать с разными материалами: форма из речного песка с добавлением уксуса, пропитка льняным маслом или скипидаром, паста из яичных белков, толченого кирпича и бытового мусора.[33] Возможно, он даже подумывал добавить совершенно необычные ингредиенты – на одной из схем, где изображена лошадь, есть заметки о полезных химических свойствах обожженных человеческих экскрементов, что, возможно, не так уж эксцентрично, если вспомнить, что скульпторы часто использовали коровий и лошадиный навоз.[34] Впрочем, один ингредиент значился как безусловно необходимый: для отливки требовалось семьдесят пять тонн бронзы.
* * *
Конец 1493 года – Леонардо уже восемь или десять лет проработал над гигантской конной статуей. Он добавлял последние штрихи к глиняной модели и продолжал обдумывать процесс отливки, когда в январе 1494 года далеко на юге, в Неаполе, семидесятилетний король Фердинанд I, вернувшийся с загородной виллы, начал слезать с коня и вдруг рухнул замертво. После смерти монарха трон занял его сын Альфонсо, жестокий и скаредный отец Изабеллы, жены злополучного Джангалеаццо, законного правителя Милана. Лодовико Сфорца вынужден был перейти к действиям.
В начале октября 1494 года – французская армия как раз готовилась спуститься на итальянскую территорию – Лодовико развлекал малосимпатичного спасителя своих владений Карла VIII кабаньей охотой и пиршеством в загородном доме в Виджевано. Отношения между Лодовико и Карлом были самые сердечные, отчасти потому, что Лодовико, проявив предусмотрительность, в изобилии обеспечил французского короля миланскими куртизанками. Тем не менее Карлу не понравились итальянские вина, а погоду он счел неприятно-жаркой.[35] Лодовико, в свою очередь, быстро пришел к выводу, что его венценосный гость глуп, заносчив и дурно воспитан. «Эти французы – скверные люди, – говорил он наедине венецианскому посланнику, – нельзя допустить, чтобы они стали нашими соседями».[36] Нелюбовь к французам вскоре распространилась по всему герцогству. Французский сановник, сопровождавший короля Карла, с прискорбием отметил: «Когда мы вошли в Италию, все видели в нас людей чрезвычайно добрых и искренних; но долго это впечатление не продержалось».[37]
Характер и намерения французов проявились со всей очевидностью уже несколько недель спустя, в Мордано, который лежит в сорока километрах к юго-востоку от Болоньи. На протяжении предшествовавшего столетия все военные кампании в Италии были относительно бескровными, тактически выверенными и локальными – больше устрашения и помпезности, чем жестокости и героизма, – и напоминали шахматные партии, в которых одному наемнику удавалось перехитрить другого и тот, признав превосходство соперника, мирно удалялся с поля боя. Так это было в Загонаре, где в 1424 году флорентинцы потерпели знаменитое поражение: всех жертв набралось три бойца, которые упали с лошадей и утонули в грязи. В 1427 году венецианцы одолели восьмитысячное миланское войско в битве при Макало; убитых не было. Как заметил не без сарказма один очевидец из Флоренции, «правило у наших итальянских воинов, похоже, такое: вы грабите там, мы грабим тут; нет никакой необходимости подходить близко друг к другу».[38]
Неизвестный художник. Портрет Карла VIII Французского. Конец XV в. Дерево, масло.
Командиры французской армии, вторгшейся в Италию в 1494 году, придерживались иных взглядов на методы ведения войны. В итальянский порт Специя им доставили морем осадные орудия. Пушки их были отлиты из бронзы, в отличие от итальянских, представлявших собой медные трубки, обшитые деревом или шкурами. Французские пушки могли стрелять литыми ядрами размером с человеческую голову, а итальянские заряжали каменными кругляшками, которые вытачивали каменщики (даже те пушки, которые проектировал Леонардо, должны были «кидать мелкие камни»).[39] Французских артиллеристов обучали в специальных школах, орудия их можно было навести с убийственной точностью. Итальянские пушки перетаскивали плужные волы, телеги с французскими пушками тянули быстроногие лошади. Французскую артиллерию можно было быстро переместить на нужную позицию и тут же открыть огонь – и она наносила сокрушительные удары как по городским стенам, так и по шеренгам бойцов на поле боя. В Италии внезапно появились грозные орудия, существовавшие до того только в воображении Леонардо.
Чтобы овладеть югом Италии, необходимо было взять под контроль ряд стратегически важных крепостей, которые блокировали проход к тосканской части Апеннин и в центр Италии. Одной из таких крепостей был Мордано. Он принадлежал Катерине Сфорца, графине Форли, незаконной дочери брата Лодовико – Галеаццо Марии и союзнице Неаполя, а не Лодовико и французов (хотя в ней и текла кровь Сфорца). Когда в октябре 1494 года под стенами Мордано появились войска Карла VIII, и воины, и гражданские рассчитывали на прочность крепостных стен и привычную им нерешительность противника. Однако, после того как на предложение сдаться они ответили отказом, французы тут же проломили стены ядрами.
Штурм в Италии иногда превращался в зверство, если солдаты обнаруживали внутри женщин и беззащитное мирное население, а не бойцов, способных держать в руках оружие. Так, зверским стало взятие Вольтерры военачальником Федериго да Монтефельтро по поручению флорентинцев в 1472 году. «Весь день город грабили и разрушали, – писал впоследствии Макиавелли. – Не пощадили ни женщин, ни святынь».[40] Штурм Мордано, после которого в живых не осталось ни одного обитателя крепости, ни военного, ни гражданского, оказался еще кровавее. Новости об этой резне, вошедшей в историю как «побоище в Мордано», быстро распространились по всей Италии. Вскоре французы перешли к боевым действиям и грабежам даже на территории своих так называемых союзников. Французские захватчики, по словам флорентийского летописца, были «не люди, а звери».[41]
* * *
До того как отправиться из герцогства Миланского на театр военных действий, Карл нанес краткий визит вежливости Джангалеаццо Сфорца, законному правителю герцогства, который вел бесцельно-праздную жизнь в замке в Павии. Они были двоюродными братьями, и между ними нашлось много общего, включая склонность к разврату. Некоторые современники винили Лодовико в интеллектуальной и нравственной ущербности племянника. По словам одного венецианского писателя, Лодовико сделал все возможное, чтобы «из мальчика не вышло ничего путного», – намеренно пренебрегал его образованием как в области военного дела, так и в области управления государством. Более того, он специально нанимал людей, которые «портили и развращали его детскую душу», дабы юный герцог привык ко «всевозможным наслаждениям и праздности».[42] Трудно сказать, справедливы ли эти обвинения, но юный Джангалеаццо, похоже, и не нуждался в особом потворстве. Усладам он предавался с таким усердием, что это сказалось на его здоровье, и к моменту визита французского короля он был уже серьезно болен. Ровно через день после побоища в Мордано он скончался, дожив лишь до двадцати пяти лет. Ходил слух, что смерть его наступила от «безудержных сношений», но куда назойливее были сплетни о том, что его отравил Лодовико.[43]
Как бы то ни было, с точки зрения Лодовико, Джангалеаццо покинул сей мир в самый подходящий момент. Два дня спустя, полностью проигнорировав наследственные притязания пятилетнего сына Джангалеаццо Франческо, напирая на грозящие герцогству опасности и потребность в сильном правителе в столь смутные времена, он возложил на себя титул герцога Миланского и забрал гербовую печать. Однако в момент кончины одного из соперников Лодовико на сцену вышел другой. Растущие подозрения Моро касательно его союзников-французов усилились многократно после появления тридцатидвухлетнего кузена и зятя Карла – Людовика, герцога Орлеанского. Будучи, как и Лодовико, правнуком первого герцога Миланского, безумного и жестокого тирана, скончавшегося в 1402 году, Людовик горел желанием утвердиться в собственном праве правителя герцогства. По мнению некоторых очевидцев, красивый и беспутный Людовик вряд ли мог тягаться с коварным Лодовико. «Голова у него маленькая, много мозгов там не поместится, – писал флорентийский посланник в Милане, а далее предрекал: – Лодовико его скоро одолеет».[44] Тем не менее у Лодовико были все основания опасаться своего французского тезки, врага, который – будучи номинально его союзником – на деле представлял бо́льшую опасность, чем король Неаполя.
Альфонсо тем временем послал свою армию к северу, на битву с королем Франции. Во главе армии стоял миланский аристократ Джанджакомо Тривульцио, личный враг Лодовико, которого тот ранее изгнал из своего герцогства. Когда войско Тривульцио подошло к Ферраре в двухстах километрах от Милана, Лодовико, поняв, что пришло время перековать орала на мечи, конфисковал у Леонардо семьдесят пять тонн бронзы. Металл он переправил своему тестю, герцогу Феррарскому, под наблюдением которого некий мастер Дзанин превратил бронзу в три орудия, в том числе «одно во французском стиле».[45] Феррара была одним из двух городов Италии, где умели отливать столь грозные пушки. В феррарском Старом замке имелся – помимо тюрьмы, пыточной камеры и особой комнаты для обезглавливания узников – литейный двор для изготовления орудий.[46] В это мрачное место и отправили бронзу Леонардо.
* * *
Для Леонардо сложившаяся ситуация представляла собой грустную иронию судьбы. Некогда он приехал в Милан, мечтая создавать военные механизмы. Его записные книжки первых миланских лет полны чертежами изобретений, назначение которых – уничтожать врага. Он обещал, что его боевые машины будут «необычайного характера», он во всех подробностях вычертил пушку на поворотной установке с точным наведением, многоствольный пулемет, бронированный танк с орудиями и колесницу с шипами на колесах, оснащенную вращающимися лезвиями на высоте человеческих голов. Лодовико это оружие массового поражения не заинтересовало. Войны, как уже говорилось, протекали в Италии относительно мирно, а кроме того, вот уже несколько десятилетий основные итальянские правители избегали крупных конфликтов, так что поводов поощрять Леонардо у герцога не было. Когда же у Лодовико внезапно возникла потребность в тяжелой артиллерии, заказ отдали литейщикам из Феррары, а Леонардо – такая вот незадача – лишился своих семидесяти пяти тонн бронзы.
Видя, что возможность отлить памятник от него ускользнула, Леонардо сочинил отчаянное, злобное письмо Лодовико. Вероятно, оно так никогда и не было отправлено, поскольку единственная уцелевшая страница разорвана пополам – возможно, самим Леонардо, на трезвую голову. Но не исключено, что это лишь черновик письма, которое Леонардо все-таки отправил Моро. В любом случае его сердитое и довольно непоследовательное брюзжание сохранилось только в разрозненных фрагментах. «И если я получу еще какой заказ от кого-то из…» – так оно начинается и сразу обрывается. Вот еще несколько обрывков из этого перечня:
«…вознаграждение за мои услуги. Поскольку я не позволю…»,
«…порученное мне, поскольку тем временем…»,
«…с которыми они, возможно, справятся лучше, чем я…»,
«…но менять свое искусство я не собираюсь, и…».
Дальше Леонардо сообщает, что провел всю жизнь на службе у Лодовико, что всегда был готов ему повиноваться, что понимает – сейчас мысли властителя заняты другим. «О коне говорить не буду ничего, поскольку знаю, какие сейчас времена», – примирительно пишет он, однако тут же начинает перечислять все обиды, нанесенные ему в связи с этим последним заказом: жалованье не выплачено за два года, помощникам-мастерам он вынужден был платить из собственного кармана; он упоминает «великие произведения», которые надеялся создать, а вместо этого ему приходится тяжко трудиться, чтобы «заработать на пропитание». Заканчивается письмо так: «Я обратился к вашей светлости с единственной просьбой…»
С какой именно просьбой Леонардо обратился к Лодовико, неизвестно. Одна из оборванных строк – «А помните Вы о росписи комнат», – видимо, призвана напомнить о том, что Леонардо было поручено расписать некие помещения либо в Миланском замке Лодовико, либо в загородной резиденции герцога в Виджевано. Для последней, судя по всему, Леонардо планировал сцены из римской истории, включавшие портреты античных философов.[47]
Впрочем, у Лодовико, как бы он ни был отягощен иными заботами, имелся один заказ для придворного живописца. Французское нашествие лишило Леонардо возможности отлить бронзового коня, однако подарило ему шанс создать другое прославившее его произведение.
Глава 2 Портрет художника в зрелые годы
Бронзовая статуя стала далеко не первым заказом, который Леонардо по тем или иным причинам не выполнил. Он был из тех, кто обещает слишком много и возносится в своих мечтах слишком высоко. Однако к тому моменту список его творческих достижений, пусть и весьма внушительный, был явно недостаточным для такого талантливого человека. Да, в Милане он пользовался заслуженным уважением, однако дожил уже до сорока лет, не создав ни единого шедевра, в котором полностью проявились бы все его гениальные задатки. В его послужном списке – как во Флоренции, так и в Милане – значился целый ряд крупных работ, которые остались незавершенными: заказчики выражали недовольство, а один раз даже дошло до суда. Законченных работ на счету у Леонардо было не так уж много: помимо храмовой росписи «Благовещение» в одном из монастырей под Флоренцией, он написал несколько изображений Мадонны с Младенцем для частных заказчиков, несколько портретов, тоже для частных лиц, – в том числе по заказу Лодовико Сфорца портрет его любовницы Чечилии Галлерани. Кроме того, он, видимо, создал некую картину – его первый биограф называет ее «одним из самых прекрасных и редких произведений живописи», – которую Лодовико отправил в качестве свадебного подарка Максимилиану, императору Священной Римской империи.[48]
Все эти работы, в особенности портреты, были новаторскими по стилю и изысканными по исполнению. Один придворный поэт написал стихотворение, где восславил «гений и мастерство», с которыми Леонардо запечатлел «на все времена» образ Чечилии. Сама Чечилия, явно довольная работой, назвала Леонардо «мастером, которому, по моему мнению, нет равных».[49] Кроме того, Леонардо создал образ некоего святого, вышедший настолько прекрасным и правдоподобным, что владелец «в него влюбился» (так впоследствии заявлял Леонардо) и даже просил художника убрать с картины священные атрибуты, чтобы можно было «целовать ее без задней мысли».[50]
Однако работы эти хранились в частных домах, где видеть их могли только владыки и придворные, а картина, подаренная Максимилиану, судя по всему, находилась в далеком Инсбруке. Пока Леонардо не довелось создать ничего, чтобы заслужить широкую и громкую славу, которая выпала на долю легендарных, всеми любимых художников прошлого: ничего, что можно было бы поместить в соборе или на площади, чтобы каждый мог увидеть собственными глазами, – вроде статуи Гаттамелаты в Падуе, изваянной Донателло, фресок Джотто в Ассизи или купола Филиппо Брунеллески во Флоренции. Бронзовый конь наверняка вызвал бы восторг и изумление, но возможность оказалась упущена.
К сорока двум годам – а средняя продолжительность жизни в ту эпоху равнялась сорока – Леонардо был создателем нескольких картин, причудливого музыкального инструмента, эфемерных декораций к праздникам и маскарадам, а еще – автором многих сотен страниц заметок и набросков к трактатам, которые пока не опубликовал, и чертежей механизмов, которые пока не построил.[51] Целая пропасть отделяла его достижения от его притязаний. Каждый, кто был знаком с ним лично или видел его работы, оказывался поражен неподражаемым блеском. Однако, как это ни досадно, очень многие его начинания заканчивались ничем. Он мечтал о работе зодчего, но в 1490-м надежды эти рухнули, когда его деревянная модель башни с куполом для недостроенного Миланского собора была отвергнута. Он попытался получить заказ на проектирование и отливку бронзовых дверей собора в Пьяченце и даже написал настоятелю анонимное письмо, где прославлял собственные таланты: «Никто с этим не справится, верьте моему слову, кроме флорентинца Леонардо».[52] Однако в Пьяченцу его так и не пригласили. Он создал подробный план новой застройки Милана – предполагалось разделить город на десять округов по пять тысяч зданий в каждом; план включал в себя пешеходные зоны, орошаемые сады и хорошо вентилируемые общественные уборные. В дело из этого плана не пошло решительно ничего. У Лодовико же тем временем нарастали сомнения в способности Леонардо завершить работу над конной статуей – был момент, когда он даже послал во Флоренцию на поиски замены.
Порой Леонардо впадал в уныние из-за того, что он столь малого достиг. Судя по всему, в молодости у него была склонность к меланхолии. «Леонардо, – писал ему один из друзей, – зачем так унывать?» Этот грустный рефрен постоянно звучит в его записных книжках: «Когда бы хоть что-то осуществилось», – вздыхает он то и дело. «Когда бы я хоть что-то осуществил».[53]
* * *
Леонардо появился на свет в 1452 году, в каменном, квадратной планировки доме неподалеку от Винчи, «непримечательной деревушки» (как назвал ее один из первых его биографов) в двадцати пяти километрах к западу от Флоренции.[54] Восьмидесятилетний дедушка с гордостью задокументировал его рождение в переплетенном в кожу семейном альбоме: «У меня родился внук, сын моего сына сера Пьеро, 15 апреля, в субботу, в третьем часу ночи. Наречен именем Лионардо».[55] Звать его, собственно, будут Леонардо ди сер Пьеро да Винчи – именно так двадцать лет спустя он зарегистрируется в Компанья ди Сан-Лука, флорентийском братстве художников. При дворе Сфорца его иногда станут называть «Леонардо Фиорентино» или – в латинизированной форме – «Леонардус де Флорентиа». Так именует его в документах Лодовико.[56] Соответственно, придворный художник и инженер герцога носил имя не малопримечательной тосканской деревушки, а славного города Флоренции.
Отец Леонардо, двадцатишестилетний сер Пьеро, был нотариусом, человеком весьма высокого общественного положения (что можно заключить из его титула): он составлял завещания, договоры, прочие коммерческие и юридические документы. Нотариусы в семье имелись как минимум на протяжении пяти поколений, однако на Леонардо цепочке этой суждено было прерваться. Был он – это следует из дедовской налоговой декларации несколько лет спустя – non legittimo, то есть рожденным вне брака, а значит, не имел права (наравне с преступниками и духовными лицами) претендовать на членство в Гильдии судей и нотариусов. Матерью Леонардо была шестнадцатилетняя Катерина – по своему социальному положению она явно стояла куда ниже толкового и честолюбивого Пьеро, вследствие чего они так и не поженились.
О Катерине нам не известно почти ничего. Возможно, она была служанкой в доме. Недавно возникла теория, что она, как и многие слуги в Тоскане, была рабыней-чужеземкой. Столетием раньше флорентийские градоначальники издали указ, который позволял ввозить в город рабов, но только иноверцев, не христиан; по прибытии во Флоренцию их надлежало окрестить и дать им христианские имена (имя Катерина часто выбирали для этой цели). Состоятельные флорентинцы могли покупать рабов – в основном молодых женщин, которых брали в услужение, – из стран Причерноморья (турчанок, татарок, черкешенок) или из Северной Африки. Стоила такая рабыня от тридцати до пятидесяти флоринов – полугодовой доход квалифицированного ремесленника, – однако в XV веке их стало столько, что в популярной песенке пелось про «молодых рабынь-красавиц», которые высовываются из окон, «по утрам проветривая платье, / свежие, как барбарисов цвет».[57]
Интересно, что у состоятельного друга сера Пьеро, флорентийского банкира по имени Ванни ди Никколо, была рабыня по имени Катерина, а после смерти Ванни в 1451 году сер Пьеро унаследовал его дом во Флоренции и сделался его душеприказчиком. Согласно одной из гипотез, дружба с Ванни и положение душеприказчика могли открыть Пьеро путь к сердцу Катерины. Это объясняет и предположение, выдвинутое одним ученым-антропологом, который выяснил, что отпечатки пальцев, якобы принадлежащие Леонардо, имеют дерматоглифическую структуру (то есть папиллярный узор), типичный для выходцев с Ближнего Востока. Это заявление породило громкие заголовки – что, мол, Леонардо был арабом; скептики, впрочем, утверждают, что, во-первых, установить национальную принадлежность по отпечаткам пальцев почти невозможно, а во-вторых, отпечатки, снятые с записных книжек Леонардо, могут принадлежать и не ему.[58]
За полным отсутствием сведений о Катерине, все теории о том, что мать Леонардо была рабыней, а сам он имел ближневосточные корни, остаются только теориями. Однако нам точно известно, что воспитывался Леонардо в доме отца и деда, а Катерина исчезла из его жизни. Дети рабов, как правило, являлись свободнорожденными людьми, церковь позволяла отцам признавать их и делать законными наследниками. Матерям же, как правило, выделяли небольшое приданое и выдавали их замуж за другого. Что касается Катерины, вскоре после рождения Леонардо она вышла замуж за местного горнового по прозвищу Аккаттабрига. Слово это означает «Забияка», – судя по всему, женихом он был не слишком завидным. После Леонардо у нее родилось еще пятеро детей, четыре дочери и сын, и она жила в относительной бедности в Кампо-Дзеппи, неподалеку от Винчи. О семействе Аккаттабриги известно лишь то, что в 1480-е годы один из сыновей, брат Леонардо по матери, который, похоже, вырос забиякой, как и его отец, погиб в Пизе от арбалетного выстрела.[59]
Вскоре после рождения Леонардо Пьеро женился на другой шестнадцатилетней девушке, звали ее Альбьера. Ее общественное положение было гораздо выше, происходила она из зажиточной семьи флорентийских нотариусов – куда более многообещающая партия для молодого и честолюбивого сера Пьеро. Альбьера скончалась, когда Леонардо было двенадцать лет, так и не став матерью. Вторая жена сера Пьеро, Франческа, умерла в 1473 году, тоже бездетной. Леонардо оставался единственным сыном, пока в 1476 году третья жена сера Пьеро наконец не подарила ему сына, – к этому времени Леонардо уже исполнилось двадцать четыре года и он больше не жил дома. В итоге у сера Пьеро родилось больше дюжины детей – согласно одному недавнему исследованию, их было не меньше двадцати одного.[60]
Судя по всему, рос Леонардо в любви. Как старший сын, он пользовался в доме отца и деда особым почетом. На крестинах его присутствовало как минимум десять крестных – это говорит еще и о том, что для семьи рождение мальчика отнюдь не являлось постыдным фактом. Положение незаконнорожденного закрыло ему двери в университет и в юридическую профессию, однако, похоже, больше никак на нем не отразилось. В Италии XV века незаконнорожденность не влекла за собой серьезных ущемлений. Литераторы Петрарка и Боккаччо, архитектор Леон Баттиста Альберти, художники Филиппо Липпи и его сын Филиппино и даже будущий папа Климент VII – все они родились вне брака. Когда в 1459 году папа Пий II проезжал через Феррару, приветствовать его вышли восемь бастардов из правящего семейства, в том числе и тогдашний герцог Борсо д’Эсте. Возможно, одна из причин снисходительного отношения Пия к клану д’Эсте заключалась в том, что до принятия сана он сам произвел на свет нескольких незаконнорожденных детей. «Что может быть человеку приятнее, – писал он отцу, укорявшему его в греховных связях, – чем продолжить свой род и оставить кого-то после себя? <…> Воистину, то, что семя мое столь плодородно, доставляет мне великую радость».[61]
Вероятно, и сер Пьеро не меньше радовался появлению сына, хотя, по неведомым причинам, так и не признал его законным наследником. Впрочем, это дало Леонардо одно неоспоримое преимущество: оно закрыло ему путь в юриспруденцию, позволив посвятить себя более творческим и разнообразным занятиям, – подобным же образом Петрарка и Боккаччо, почти не испытывая общественного осуждения, оказались свободны от притязаний со стороны церкви или гильдий и, соответственно, могли экспериментировать с новыми формами самовыражения.
Обучение Леонардо, по всей видимости, проходил самое обыкновенное, никто не собирался делать из него гения, которым он в итоге все-таки стал. С шести до одиннадцати лет он, скорее всего, обучался в начальной школе, называвшейся во Флоренции bottegbuzza, так как основная задача ее состояла в том, чтобы подготовить учеников к работе в bottega (мастерской). Обязанности учителя исполнял священник или нотариус, ученики обучались чтению и письму, по большей части – на богатом идиомами тосканском диалекте итальянского языка. Леонардо, скорее всего, немного освоил латынь по грамматике, известной как «Donadello». Впоследствии таких грамматик у него было не менее шести экземпляров, по одному из них, должно быть, он занимался еще в школе. Усердное складирование элементарных пособий по латыни свидетельствует о том, что Леонардо, несмотря на все свои способности, владел латынью не в совершенстве, а возможно, и просто слабо. Самую серьезную попытку освоить ее он предпринял ближе к сорока, в Милане, когда переписывал фрагменты из распространенного учебника Никколо Перотти «Rudimenta grammatices». То, что даже один из величайших умов во всей истории спотыкался на «amo, amas, amat», должно служить утешением всякому, кто когда-либо пытался учить иностранный язык.
Достигнув одиннадцатилетия, ученики отправлялись либо в гимназию, где изучали латинских авторов, готовясь к научному поприщу, либо в ремесленное училище, где больше занимались математикой, чем словесностью. Леонардо, скорее всего, посещал последнее. Учащихся ремесленных училищ немного знакомили с литературой – например, с произведениями Эзопа и Данте, но в основном они занимались математикой: их готовили к коммерческому поприщу. Хороший пример того, что должны были освоить ученики, можно найти в «Trattato d’Abaco» Пьеро делла Франчески – Пьеро утверждал, что это трактат по «математике, необходимой купцам». Среди многочисленных упражнений есть одно, которое ярко иллюстрирует, какими головоломными были торговые операции в Италии XV века: «Два человека проводят сделку по обмену, один предлагает воск, другой – шерсть. Цена воска – 9 дукатов с четвертью, цена сделки – 10 и две трети; у второго шерсть, цену за тысячу я не знаю, но обменный курс – 34 дуката; сделка прошла честно. Сколько стоит шерсть в денежном выражении?»[62]
Один из самых ранних биографов Леонардо, художник и архитектор Джорджо Вазари, утверждал, что Леонардо обладал такими математическими способностями, что, «постоянно выдвигая всякие сомнения и трудности перед тем учителем, у которого он обучался, он не раз ставил его в тупик».[63] Вазари не был лично знаком с Леонардо (он родился в 1511 году), и многие его утверждения весьма спорны. Однако трудно усомниться в том, что Леонардо был любознательным и способным учеником, блистал в геометрии и особенно в рисовании. При этом он не слишком увлекался арифметикой и никогда не пользовался алгеброй.
Судя по всему, он также не слишком преуспевал в письменном итальянском, а уж в латыни и подавно. Однажды он назвал себя uomo senza lettere – «человеком без образования». Это явное преувеличение, – возможно, он имел в виду отсутствие способностей к латыни. Тем не менее в его записных книжках часто встречаются грамматические огрехи, орфографические ошибки, пропущенные слова, да и речь не отличается изяществом. Некоторые ошибки выглядят курьезно, даже если помнить, что записи он, как правило, делал второпях. Например, копируя список книг из своей библиотеки, он пишет «anticaglie» вместо «antiquarie». На той же странице имя «Margharita» написано как «Marcherita». В другом месте он полностью перевирает имя персидского философа Авиценны (Avicenna) и пишет его как «Avinega». Венеция (Venezia) у него превращается в «Vinegia».[64] Впрочем, оправданием ему служит тот факт, что к отклонению от языковой нормы – как и к незаконнорожденности – в его времена относились снисходительно.
* * *
Мачеха и дед Леонардо скончались в одном и том же 1464 году, когда ему исполнилось двенадцать лет. То ли тогда, то ли несколько лет спустя, но никак не позже 1469-го Леонардо перебрался во Флоренцию, где поселился у отца. Сер Пьеро весьма преуспел. К 1462 году он работал в должности нотариуса Козимо Медичи, а к 1469-му стал официальным нотариусом подесты (главы городской администрации). Практика его процветала, среди клиентов значились монахи и монахини как минимум из одиннадцати монастырей, кроме того, он был основным нотариусом флорентийской еврейской общины. «Если понадобится тебе лучший из законников, – писал флорентийский поэт Бернардо Камбини, – это Винчи, Пьеро, не ищи иного».[65] Он пользовался бесплатной квартирой во дворце подесты, а после 1470 года жил в особняке на Виа делле Престанце, сегодняшней Виа ди Гонди, улице, проходящей вдоль северной границы палаццо Веккио.
Флоренция, город с пятидесятитысячным населением, должно быть, произвела сильное впечатление на молодого человека, прибывшего из Винчи. «Нигде в мире нет ничего более прекрасного и ослепительного, чем Флоренция», – заявил около 1402 года ученый Леонардо Бруни. Пятьдесят лет спустя один флорентийский купец, оценивая родной город, решил, что он стал еще изумительнее, чем в дни Бруни, украсился новыми церквями, больницами и дворцами, а по улицам его ходили богатые горожане в «дорогих и элегантных одеждах». В тогдашней Флоренции насчитывалось пятьдесят четыре торговца драгоценными камнями, семьдесят четыре лавки золотых дел мастеров и восемьдесят три мастерских, где ткали шелк. Купец отметил еще одно достоинство города: невероятное изобилие архитекторов, скульпторов и художников.[66] К тому моменту, когда Леонардо приехал во Флоренцию, в ней каждому бросались в глаза фрески, статуи и здания, созданные Джотто, Брунеллески, Мазаччо, Донателло и Лоренцо Гиберти.
Настоящее обучение Леонардо началось не в сельском ремесленном училище, но во флорентийской ювелирной мастерской, куда он поступил в возрасте тринадцати-четырнадцати лет. В ремесленном училище, где во главу угла ставили коммерцию, у него почти не было возможностей проявить свои художественные дарования, но, видимо, его ранние наброски, сделанные в свободное время, привлекли внимание отца. Сер Пьеро был нотариусом флорентийского ювелира и живописца Андреа дель Верроккьо, которому, если верить Вазари, он с гордостью показал несколько рисунков сына.[67] Сер Пьеро отдал Леонардо в обучение Верроккьо, и его, похоже, не смущало, что сын станет всего лишь ремесленником. Сер Пьеро был членом могучей и уважаемой Гильдии судей и нотариусов, в которой состояли сыновья представителей аристократии и богатых купцов. Художники, напротив, были членами гильдии, в которую входили врачи и аптекари, а наряду с ними – представители вовсе не престижных профессий, например обойщики, свечники, шляпники, перчаточники, могильщики и заготовители сыров. Притом что выбор профессии для Леонардо был изначально ограничен его положением незаконнорожденного, сер Пьеро проявил в этом отношении бо́льшую широту взглядов и отсутствие снобизма, чем, скажем, отец Микеланджело, который, по словам Вазари, обругал и поколотил сына, когда тот впервые выразил желание заниматься ручным трудом.
Ученичество в мастерской под началом признанного мастера, как правило, продолжалось шесть-семь лет; мастер предоставлял ученикам питание, кров и непосредственно руководил обучением в обмен на определенную сумму, которую выплачивал отец или опекун ученика. Леонардо повезло – его отец сделал верный выбор. У Верроккьо была непогрешимая репутация «источника, из которого художники могли черпать все необходимые навыки».[68] Ему недавно перевалило за тридцать, был он сыном кирпичника, который впоследствии разбогател, заняв должность таможенного инспектора. В юности Андреа, судя по всему, был сорвиголова: в семнадцать попал под арест за убийство четырнадцатилетнего валяльщика шерсти (впоследствии Верроккьо оправдали). Не исключено, что он учился в мастерской Донателло, однако главным его учителем стал золотых дел мастер по имени Джулиано дель Верроккьо, фамилию которого он впоследствии принял («Верроккьо» означает «верный глаз» – подходящее прозвание для художника). В двадцать, начав самостоятельную жизнь, он бедствовал, некоторое время даже ходил босиком, не имея денег, чтобы купить пару башмаков.[69]
Карьера его пошла вверх, когда в середине или конце 1460-х годов он стал работать на правившую во Флоренции семью Медичи, – кстати, примерно тогда же в его мастерскую поступил Леонардо. Став одним из любимых скульпторов Медичи, Верроккьо спроектировал и построил усыпальницу Козимо Медичи, основателя династии, скончавшегося в 1464 году. Несколько лет спустя он создал из бронзы и порфира надгробие для сыновей Козимо, Пьеро и Джованни. Кроме того, он изваял для Медичи две замечательных бронзовых статуи, «Путто с дельфином» и «Давида». Леонардо попал в мастерскую Верроккьо как раз тогда, когда тот задумывал, а потом отливал две эти элегантные скульптуры, и есть большой соблазн увидеть в фигуре Давида, стройного, атлетически сложенного юноши со спутанными волосами и загадочной полуулыбкой, портрет Леонардо. Если Леонардо действительно обладал исключительно привлекательной внешностью, как в один голос утверждают все его ранние биографы, Верроккьо наверняка использовал своего красавца-ученика для создания образа юного великаноборца. Впрочем, у нас нет ни одного изображения Леонардо в юном возрасте, которое мы могли бы использовать для сравнения, так что домыслы остаются домыслами.
В мастерской Верроккьо Леонардо провел не менее шести-семи лет. Все это время он осваивал тонкости мастерства, которые необходимы художнику и скульптору: как тонировать бумагу или заточить гусиное перо, как выполнить позолоту или отливку из бронзы. Наряду с другими учениками он помогал мастеру в работе над заказами, например над алтарной картиной «Крещение Христа» для аббатства Сан-Сальви во Флоренции. Согласно легенде, именно Леонардо написал одного из коленопреклоненных ангелов, причем столь безупречно, что Верроккьо, по словам Вазари, «никогда больше уже не захотел прикасаться к краскам, обидевшись на то, что какой-то мальчик превзошел его в умении».[70] Вполне возможно, что именно Леонардо написал ангела с льняными волосами, и уж совершенно неоспоримо то, что на живописном поприще ему действительно предстояло превзойти своего учителя, который прежде всего обладал талантом скульптора, а не живописца. Вот только выбрасывать палитру и кисть Верроккьо не торопился, поскольку известно, что много лет спустя он расписывал алтарь в соборе Пистойи.
Андреа дель Верроккьо (1435–1488) и Леонардо да Винчи (1452–1519). Крещение Христа. Ок. 1475. Дерево, масло.
Леонардо принял участие и в работе еще над одним полотном Верроккьо, «Товий и ангел», – его вкладом стал симпатичный песик с шелковистой шерстью, а еще рыба и золотистые завитки у Товия над ушами.[71] Кудрявые волосы всегда занимали Леонардо. У него и у самого, по словам одного из ранних биографов, были длинные кудри, а борода ниспадала «до середины груди», она была «вьющаяся и хорошо расчесанная».[72] По всему видно, что Леонардо гордился своей внешностью. Помимо ухоженных волос и курчавой бороды, его отличала любовь к одежде ярких цветов. Флоренция славилась роскошными тканями – шелками и парчой с названиями вроде rosa di zaffrone (розовый сапфир) и fior di pesco (цветущий персик). Эти экзотические ткани по большей части экспортировались в гаремы Турции, поскольку во Флоренции существовал закон, воспрещавший одеваться слишком роскошно, и местные жители вынуждены были отдавать предпочтение более скромным материям. Однако это не останавливало Леонардо: в последующие годы его гардероб, смелое сочетание оттенков алого, розового и бордового, служил насмешкой над требованиями «модной полиции». В одном из перечней его нарядов значатся мантия из тафты, розовая каталонская мантия, плащ с бархатным капюшоном, еще один – из алого атласа, бордовая накидка из верблюжьей шерсти, темно-бордовые чулки, чулки цвета пыльной розы, черные чулки и две розовые шляпы.[73]
Судя по всему, Леонардо и в других вещах проявлял внутреннюю и внешнюю независимость – пренебрегал модой, традициями, устоями. Еще одним уникальным его свойством было стремление изображать мир природы, лежащий вне пределов человеческой деятельности. На первом известном нам рисунке Леонардо, выполненном летом 1473 года, когда ему был двадцать один год, изображен вид на гористую долину реки Арно, под Флоренцией: холмы и обнаженные скалы вздымаются над плоской равниной. Вероятно, Леонардо делал набросок фона для некой картины, ведь именно ему Верроккьо, по всей видимости, доверил писать фон к «Крещению Христа», где изображены голые скалы, поднимающиеся над равниной. Упомянутый рисунок принято считать первым пейзажем в истории европейского искусства: впервые художник счел, что мир природы, без человеческого присутствия, достоин изображения. Леонардо четко пометил дату: «День Богоматери в Снегах, 2 августа 1473». На обороте он написал: «Sono chonteno» («Я счастлив»). Видимо, Леонардо действительно испытывал особое счастье, бродя среди тосканских холмов, изучая скальные образования и наблюдая, как поднимаются в небо на горячих воздушных потоках хищные птицы.[74]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Долина реки Арно. 1473. Бумага, перо, чернила.
Первый известный нам рисунок Леонардо
Скалы, как и кудри, были предметом особого интереса Леонардо. Он подолгу гулял в горах – такие прогулки любил и поэт Гвидотто Престинари. Интерес к топографии у Леонардо был не только эстетическим, но и научным. В его записях есть замечания по поводу слоев почвы и камня в долине Арно, таких как галечные отложения возле Монтелупо, конгломерат известкового туфа возле Кастельфиорентино, включения из морских раковин в лощине у Колле-Гонцоли.[75] Ко времени, когда он перебрался в Милан, об этих его блужданиях, видимо, уже было широко известно, потому что горцы прислали ему полный мешок геологических образцов. «Встречается в горах Пармы и Пьяченцы множество раковин и источенных червями кораллов, еще прилепленных к скалам; когда делал я большого миланского коня, мне был принесен в мою мастерскую некими крестьянами целый большой мешок их, найденных в этой местности; среди них много было сохранившихся в первоначальной добротности».[76] Вот какова, судя по всему, была репутация Леонардо: о его эксцентричных занятиях было известно даже крестьянам из столь неблизких краев, как Парма и Пьяченца.
* * *
В 1476 году, на пороге своего двадцатипятилетия, Леонардо все еще жил у Верроккьо и, судя по всему, продолжал работать с ним. Почему он жил у мастера, а не в куда более просторном доме отца, остается загадкой, поскольку в доме Верроккьо квартировали также его беспутный младший брат Томмазо, ткач, и сестра Маргерита с тремя дочерьми.[77] Возможно, у Леонардо возникли трения с отцом, который, потеряв вторую супругу, недавно женился в третий раз? Новая жена сера Пьеро Маргерита в своем нежном пятнадцатилетнем возрасте была почти на десять лет моложе Леонардо. В 1476 году она родила сына Антонио – первого законного отпрыска сера Пьеро. Ей предстояло подарить ему еще пятерых (в том числе одну дочь – та умерла во младенчестве), но в конце 1480-х она скончалась, после чего сер Пьеро женился в четвертый раз и продолжил плодить потомство.
Распространенным сюжетом итальянской литературы того времени являются раздоры между отцом и сыном. Частично эти раздоры были следствием существовавшей тогда законодательной системы, которая не требовала от отцов отделять сыновей и давать им юридические права почти до достижения ими тридцатилетия. Поэт и писатель Франко Саккетти утверждал, что «многие сыновья желали отцовской смерти, дабы получить свободу».[78] Леонардо упоминает про эти конфликты отцов и детей в нехарактерно грубом письме, которое отправит много лет спустя своему сводному брату Доменико, вскоре после рождения у того первенца, – «…события, – пишет Леонардо, а с пера его так и капает яд, – которое, как я понимаю, сильно тебя порадовало». Чтобы окончательно испортить всем праздничное настроение, он добавляет, что Доменико зря тешится, «ибо завел себе бдительного врага, который думать будет об одном: как бы добиться свободы, каковую он сможет обрести только после твоей смерти».[79] Трудно сказать, до какой степени на мировоззрение Леонардо влияли писатели вроде Саккетти (сборник его нашумевших рассказов имелся в мастерской у Верроккьо), а до какой – собственные отношения с сером Пьеро.
Впрочем, возможно, Леонардо жил у Верроккьо потому, что высоко ценил общество своего учителя. Верроккьо был умен, начитан, отличался разносторонними интересами. Вазари утверждает, что он изучал геометрию и естественные науки – предметы, которые занимали и Леонардо, – а кроме того, был музыкантом. Музыкантом был и Леонардо, на лире он играл «как никто» и даже давал уроки музыки.[80] Не исключено, что играть его научил именно Верроккьо: в описи инвентаря его мастерской упомянута лютня. Кроме нее, в списке значатся Библия, глобус, произведения Петрарки и Овидия, а также сборник юмористических рассказов Саккетти.[81]
Впоследствии похожие предметы окажутся и в миланской мастерской Леонардо – они, помимо прочего, свидетельствуют о неизменности его интереса к интеллектуальным занятиям, которые он впервые открыл для себя в доме и в мастерской у Верроккьо. Из всего этого, безусловно, следует, что Верроккьо учил Леонардо не только тому, как держать стилос и толочь пигменты. Леонардо прибыл во Флоренцию сельским пареньком с зачаточным образованием. Судя по всему, Верроккьо способствовал раскрытию его природных задатков – возможно, играя на лютне или беседуя о произведениях Овидия.
Впрочем, влияние Верроккьо на Леонардо, безусловно, было куда глубже. По всей видимости, именно он пробудил в молодом человеке интерес к таким вещам, как геометрия, фигуры, образованные пересечением линий, и музыкальные созвучия, и к их применению в живописи. Созданное Верроккьо надгробие Козимо Медичи представляет собой лабиринт геометрических символов, основной из которых, круг, вписанный в квадрат, впоследствии появится у Леонардо в «Витрувианском человеке». Кроме того, два сочлененных прямоугольника со скругленными углами, украшающих надгробие, будут повторены у Леонардо в проекте одного церковного здания. Верроккьо создал это надгробие между 1465 и 1467 годом, примерно тогда, когда Леонардо поступил к нему в мастерскую. Легко представить себе, как юный подмастерье изучает сложный узор и постепенно осознает, что математика – не просто средство для проведения торговых сделок (а именно так его наставляли в училище), но еще и зримое выражение истины и красоты.
* * *
Кроме того, у Леонардо, по всей видимости, было во Флоренции еще одно жилье. Связи Верроккьо с Медичи плюс яркий талант Леонардо открыли перед ним редкостную возможность. Тот факт, что Леонардо работал на Лоренцо Медичи и жил у него в доме, подтверждает один из первых биографов Леонардо, безымянный флорентинец, известный (по названию Библиотеки Гадьяна, где когда-то хранилась его рукопись) как Аноним Гадьяно. В рукописи, относящейся к 1540-м годам, он утверждает, что в молодости Леонардо жил в доме Лоренцо Великолепного, а тот «пользовался его трудами в саду на площади Святого Марка во Флоренции».[82]
Сад скульптур Лоренцо был своего рода музеем под открытым небом, с помощью которого герцог взращивал таланты молодых художников (в 1489 году там бывал подростком Микеланджело). Помимо мраморных и бронзовых статуй, Лоренцо и хранитель коллекции, скульптор по имени Бертольдо, собрали множество живописных и графических работ таких художников, как Брунеллески, Донателло, Мазаччо и Фра Анджелико. Какую именно работу Леонардо выполнял для Лоренцо, отрабатывая свое жалованье, неясно, однако у него были все возможности изучать как древнюю скульптуру, так и произведения знаменитых современников.
Не менее важно и то, что этот сад скульптур открыл Леонардо прямой доступ к Лоренцо Великолепному, владыке Флоренции, богатому и наделенному тонким вкусом покровителю искусств. Именно через Лоренцо – или при его посредстве – Леонардо получил один из первых своих самостоятельных заказов. В начале 1478 года синьория, городской совет Флоренции, заказала ему алтарь в часовне Сан-Бернардо Дворца синьории (сегодня известного как палаццо Веккио). Одновременно Леонардо выполнял еще несколько работ. В конце того же года он сделал пометку, что начал писать «две картины с Мадонной».[83] Заказчики нам неизвестны, однако что касается еще одной заказной работы, у него был чрезвычайно именитый клиент: ему поручили сделать картон к шпалере для португальского короля Жуана II. Опять же, судя по всему, получить этот заказ молодому художнику помог Лоренцо или кто-то из его окружения – у короля Жуана были при дворе Медичи определенные связи.[84] В качестве сюжета Леонардо выбрал Адама и Еву в райском саду и придумал композицию, которая впоследствии произвела сильное впечатление на Вазари. «По тщательности и правдоподобию изображения божественного мира, – писал он, – ни один талант не мог бы сделать ничего подобного».[85]
В семидесятые годы Леонардо также выполнял заказы влиятельного семейства Бенчи – в частности, написал портрет молодой женщины, Джиневры де Бенчи. Сер Пьеро представлял интересы клана Бенчи, однако, вне всякого сомнения, связи Леонардо с семейством Медичи тоже сыграли свою роль при выборе исполнителя – отец и дед Джиневры управляли банком Медичи, и сам Лоренцо писал сонеты в ее честь.[86] Впрочем, заказчиком этой работы, скорее всего, был венецианский дипломат Бернардо Бембо, который за время двух дипломатических визитов во Флоренцию в семидесятых годах тесно сошелся с Лоренцо Медичи и, судя по всему, еще теснее – с Джиневрой.
Еще один заказ Леонардо получил в июле 1481 года – ему поручили написать сцену поклонения волхвов в церкви августинского монастыря Сан-Донато а Скопето, находившейся за флорентийскими стенами. В получении этого заказа ключевую роль наверняка сыграл сер Пьеро – он был нотариусом монахов Сан-Донато а Скопето. Впрочем, заказ на алтарь был странным и замысловатым – вряд ли Леонардо был так уж благодарен за него отцу. Согласно договору, Леонардо должен был закончить работу в течение двух, самое большее – двух с половиной лет; в случае невыполнения монахи получали право разорвать договор, и работа, вне зависимости от стадии завершенности, переходила к ним бесплатно. В качестве вознаграждения художнику причиталась третья доля небольшого поместья за пределами Флоренции, ранее принадлежавшего седельнику, отцу одного из святых братьев. Примечательно, что из этой доли он должен был выделить приданое для внучки седельника, швеи по имени Лизабетта.[87]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Поклонение волхвов. 1481–1482. Дерево, масло.
Итак, во Флоренции перед Леонардо, похоже, забрезжил успех. На подступах к тридцатилетию Леонардо постепенно превращался в ценного мастера, принадлежавшего к почтенной мастерской Верроккьо; талант и связи в высоких кругах обеспечивали ему многочисленные и очень престижные заказы. Возможно, что на этом этапе он уже мог позволить себе нанимать собственных подмастерьев.
Однако гладким его творческий путь назвать нельзя. Судьба заказов, как правило, оказывалась несчастливой. Швея Лизабетта так и не получила приданого – во всяком случае, не от Леонардо. Монахи тоже не дождались своего «Поклонения волхвов». Несмотря на дополнительные поощрения (монахи послали ему бушель пшеницы, потом бочонок красного вина), он не доделал работу, бросив ее на стадии вопиющей, ошеломительной незавершенности. Впрочем, другой, более мелкий заказ тех же монахов Леонардо все же выполнил. Ему поручили расписать солнечные часы, оплатив работу возом дров.
Еще одна вещь Леонардо осталась незавершенной – или не была доставлена заказчику. По неведомой причине картон шпалеры для короля Португалии так и не был отправлен во Фландрию – там предполагалось выткать ее из шелковых и золотых нитей. Не закончил Леонардо и работу над алтарем в часовне палаццо Веккио. Не выполнить заказ синьории, нанимателей своего отца, – скорее всего, это стоило серу Пьеро многих неприятных и неловких моментов, так же как и неполученное приданое, и незаконченное «Поклонение волхвов» для монахов из Сан-Донато. Медлительность и безответственность – которые, безусловно, объяснялись несобранностью, склонностью к экспериментированию и перфекционизму, а также чрезмерной живостью ума, – видимо, проявились у него в полную силу уже на этой ранней стадии карьеры. Один флорентийский поэт, Уголино Верино, обозревавший творческий путь Леонардо с весьма удачной позиции, середины 1480-х годов, с укором произнес: «За десять лет едва ли закончил хоть одну картину».[88]
* * *
Но сколько бы ни ворчали обманутые заказчики, неспособность Леонардо завершить начатое не была следствием недостатка мастерства или отсутствия таланта. Скорее, ему мешало то, что в поисках нового изобразительного языка он ставил для себя слишком высокую планку. В мир он вглядывался куда пристальнее, чем его современники, и стремился более реалистично отобразить его в своем искусстве.
Показательным примером подхода Леонардо к работе может служить картина, изображающая Мадонну с Младенцем и кошкой, задуманная около 1480 года. Картина либо так и не была написана, либо очень давно утрачена, однако из набросков видно, что он раз за разом – словно одержимый навязчивой идеей – перерабатывал позу ребенка с кошкой на руках. В качестве моделей младенца Христа для своих картин Верроккьо использовал терракотовые статуэтки. Однако Леонардо поставил перед собой задачу отобразить жизнь точнее и реалистичнее. Поскольку зарисовки ребенка с кошкой относятся к периоду от конца 1470-х до начала 1480-х годов, возникает искушение увидеть на этих рисунках одного из сводных братьев Леонардо – Антонио (родившегося в 1476 году) или Джулиано (родившегося в 1479-м), который играет с домашней кошкой. Антонио и Джулиано почти наверняка послужили моделями для двух картин с изображением Мадонны и Младенца, которые Леонардо все-таки завершил: «Мадонны с гвоздикой», написанной между 1476 и 1478 годом, и «Мадонны Бенуа», написанной одним-двумя годами позже. В обоих случаях Леонардо изобразил младенца Христа с расфокусированным взглядом и неловко сжатым кулачком – это явно основано на его наблюдениях за маленькими детьми.[89]
Леонардо был убежден, что живописец должен обладать многими особыми свойствами, в том числе острой наблюдательностью, поскольку в своих работах он воспроизводит «все, что видит глаз»,[90] – например, колыхание деревьев под ветром, тени на облаках, то, как предметы выглядят под водой. Леонардо завораживала игра солнечного света и тени на фигурах и предметах. Он намеревался написать трактат о свете и тени, где хотел привести научные объяснения сложных атмосферных явлений, таких как дымка и отраженный свет. Кроме того, его занимали разнообразные позы. Один биограф шестнадцатого столетия сообщает, что, дабы научиться точно изображать суставы и мышцы, Леонардо препарировал трупы, «равнодушно выполняя эту бесчеловечную, омерзительную работу».[91] Никогда еще ни один художник не вглядывался столь пристально в физические свойства человека и окружающего его мира, никто так истово не пытался передать их на полотне.
Леонардо был наделен ненасытной любознательностью, он стремился найти объяснение самым разнообразным явлениям. Его записные книжки полны заметок – не забыть спросить у друга или знакомого: как строили башню в Ферраре, как люди во Фландрии «ездят по льду» зимой, как каплун высиживает куриные яйца.[92] Некоторые вопросы он исследовал сам – порой это требовало ловкости и отваги. Из долины реки По, под Миланом, видна вздымающаяся вдалеке громада горы Монте-Роза высотой в 4600 метров; Леонардо совершил восхождение на один из ее пиков, став одним из первых альпинистов в человеческой истории.[93] Карабкаясь по каменистым склонам, чтобы понять, помимо прочего, почему небо голубое, он изумлялся тому, что с высоты мир выглядит совсем иным: разреженная атмосфера делает солнце ярче, а небо – темнее.[94]
Словом, Леонардо отказывался пользоваться проверенными стилистическими приемами своего времени, отказывался смотреть на мир глазами предшественников и расписывать алтари так, как это делали на протяжении предыдущих пятидесяти лет. Вместо этого он непрерывно экспериментировал, ставил себе практически невыполнимые задачи. Он хотел создавать совершенно уникальные, необычные зрительные формы, вдохновленные не работами предшественников, а окружающей природой. Многие его современники в совершенстве владели живописной техникой, умели создавать изящные произведения и ублаготворять заказчиков. Однако они не лазили по горам, не рассекали мышцы трупов. У Леонардо сложилась более глубокая и захватывающая картина мира, возникли более амбициозные и взыскательные представления о том, как его надлежит отображать и истолковывать в искусстве.
* * *
Примерно в 1482 году – точная дата, да и год тоже, нам неизвестна – Леонардо покидает Флоренцию, увозя с собой серебряную лиру в форме конской головы и письмо с перечнем своих заслуг. За спиной остались тлеть невыполненные заказы, впрочем, хотя в Милане он и начал все с чистого листа, его отношение к делу не изменилось.
В длинном письме к Лодовико Сфорца с перечислением своих достижений Леонардо демонстрирует склонность к вымыслу. Он забывает упомянуть, что был учеником Верроккьо, не описывает ни одной из своих картин (законченных или незаконченных), не сообщает о том, что среди его заказчиков были столь высокопоставленные особы, как король Португалии, Бернардо Бембо, флорентийская синьория и Лоренцо Медичи. В Милане он явно рассчитывал сменить род деятельности: стать архитектором и военным инженером, а не живописцем. Именно поэтому он похваляется своей способностью выполнять инженерные работы (строить мосты через реки, туннели подо рвами) – в чем, на деле, опыта у него либо было совсем мало, либо не было вовсе.
Свидетельств того, что во Флоренции Леонардо принимал участие в такого рода проектах, у нас нет. Согласно одному раннему источнику, основной причиной переезда Леонардо в Милан стал имевшийся у него опыт гидравлических работ. На Лодовико якобы произвели впечатление плотины, которые Леонардо построил на реке Ренелло, и герцог решил воспользоваться его услугами, чтобы объединить два канала, дабы обслуживать городские канализационные стоки и шлюзы.[95] Проверить, обладал ли Леонардо подобным опытом, равно как и определить местонахождение «реки Ренелло», теперь невозможно, однако Леонардо вряд ли стал бы так уверенно заявлять о своих навыках инженера, если бы не имел соответствующей подготовки или способностей. На самом деле чертежи одной из его военных машин, возможно, были созданы еще до отъезда в Милан: речь идет о пушке на колеснице – пушку можно было наводить и по вертикали, и по горизонтали. Более того, из записных книжек явствует, что еще во Флоренции он выполнил чертежи (хотя, возможно, и не воплощенные в жизнь) арбалета, водяного колеса, всевозможных блоков, шкивов и болтов, – все они могли иметь самое широкое применение. Эти чертежи свидетельствуют о поразительной способности к визуализации решения сложных технических проблем; не хватало одного – возможности создать все это в реальности.[96]
Леонардо однажды написал, что механика – «наука благороднейшая и наиполезнейшая».[97] Его увлечение механикой и ошеломительными инженерными проектами, возможно, возникло – или, по крайней мере, зародилось – в результате одного происшествия в мастерской Верроккьо. В мае 1471 года, когда Леонардо было девятнадцать лет, Верроккьо с другими мастерами занимался подъемом медного шара весом в две тонны на высоту около восьмидесяти метров – на фонарь купола Флорентийского собора. Этот подвиг инженерной мысли явно впечатлил Леонардо – он зарисовывал шкивы подъемника Брунеллески, с помощью которых осуществлялся подъем. Алтари для мелких политиков или заштатных монастырей явно меркли в сравнении со столь блистательным начинанием.
Судя по всему, Леонардо был убежден: в Милане, городе с куда большим населением, чем Флоренция, возможностей для инженера будет больше. Однако получить работу в этой области оказалось непросто. Первый его известный миланский проект, выполненный весной 1483 года по заказу братства Непорочного зачатия, тоже был живописным: ему заказали алтарь для часовни церкви Сан-Франческо Гранде. Заказ как минимум был престижным. Церковь находилась в одном из старейших и богатейших районов города, реликвий в ней хранилось больше, чем в любой другой из миланских церквей. Среди имевшихся там ценностей были голова святого Матфея и кусок дерева из комнаты, в которой Христос вкушал последнюю трапезу.[98]
Братство, созданное в 1475 году, представляло собой религиозное сообщество, состоявшее из зажиточных мирян, которые собирались для совместных молитв и проповедовали доктрину Непорочного зачатия Девы Марии. Часовню они приобрели недавно, свод уже расписали фресками, теперь нужен был алтарь. Три предыдущих года столяр усердно строил огромную раму, которую предстояло заполнить живописным декором, резьбой и скульптурой.
Алтарь Леонардо должен был создавать совместно с двумя братьями, Евангелистой и Амброджо де Предис, – Амброджо был придворным живописцем Лодовико Сфорца. Важнейшей частью росписи являлась центральная доска, на которой (это особо оговаривалось в договоре) должна была быть изображена Мадонна в ультрамариновой накидке, фланкированная двумя пророками, с Младенцем на золотом возвышении и с Богом Отцом, тоже в ультрамариновых одеждах, парящим над их головами. О том, что именно Леонардо был назначен главным художником, можно судить по указанию: центральную доску должен был «написать флорентинец».[99]
Хотя Леонардо и не нашел заказчиков для своих убийственных машин, не прошло и года с момента его приезда в Милан, как он уже получил очень престижный заказ. Два года спустя Лодовико от лица Матьяша Корвина, короля Венгрии, поручил Леонардо написать еще одно изображение Мадонны.[100] Однако, как это ни печально, Леонардо не оставил своей привычки бросать работу на полдороге и злить тем самым заказчиков. Про Мадонну, написанную для Корвина, нам ничего не известно, а что до алтаря для часовни, этот заказ превратился в долгую историю отсрочек, взаимных претензий и судебных тяжб. По условиям договора Леонардо и братья де Предис должны были закончить работу к празднику Непорочного зачатия в декабре 1483 года, то есть на все про все у них было чуть более семи месяцев. В братстве, вероятно, уже знали о том, что Леонардо имеет привычку затягивать сроки, поэтому в договоре было особо оговорено, что, в случае если он покинет Милан, не завершив своей части работы, он не получит никакой оплаты.
Вы, полагаю, не удивитесь, услышав, что Леонардо с партнерами не выполнили условий договора. Нам не известно, когда именно Леонардо закончил свою доску – картину, которая сегодня известна как «Мадонна в скалах», однако по прошествии десяти лет она еще не была передана заказчику. К началу 1490-х годов стороны продолжали выяснять отношения в суде: Леонардо и Амброджо (Евангелиста к тому времени уже скончался) взывали к некоему авторитету, возможно Лодовико Сфорца, утверждая, что выплаченные им в качестве гонорара восемьсот лир полностью ушли на материалы. В договоре имелся пункт, согласно которому по окончании работы исполнители должны были получить дополнительное вознаграждение, однако оценщики, монах-францисканец и два представителя братства, предложили им всего сто лир, тогда как художники запросили четыреста. В своей жалобе Леонардо и Амброджо указывали, что третья сторона (какая именно, выяснить так и не удалось) выразила готовность приобрести у них алтарь по более высокой цене. В этой жалобе сквозит определенное высокомерие и даже надменность – в частности, говорится, что члены братства не могут судить о достоинствах картины, «ибо не слепцам рассуждать о цветах».[101]
Богатые, влиятельные члены братства, видимо, были несколько ошарашены такой наглостью со стороны простых художников. Заказчики, как правило, придерживались мнения, что картина – вещь слишком важная, чтобы оставлять ее на усмотрение каких-то там живописцев. Художники считались ремесленниками, которым полагалось работать в строгом соответствии с пожеланиями заказчиков, неизменно стоявших выше в общественной иерархии. Несколькими годами ранее современник Леонардо Доменико Гирландайо, надежный, известный художник с безупречной репутацией, был нанят Фра Бернардо ди Франческо, приором воспитательного дома во Флоренции, чтобы написать алтарную картину «Поклонение волхвов». В договоре несколько раз подчеркивается, что именно Фра Бернардо, а не Гирландайо, будет принимать окончательное решение касательно содержания и качества работы. Все детали должны были соответствовать «тому, что я, Фра Бернардо, сочту наилучшим», а гонорар художник мог получить только в том случае, «если я, вышеупомянутый Фра Бернардо, сочту, что картина того заслуживает». Фра Бернардо закрепил за собой право испросить мнения третьей стороны касательно законченного произведения, и, в случае если оценка окажется неблагоприятной, Гирландайо предстояло получить гонорар, «урезанный настолько, насколько я, Фра Бернардо, сочту справедливым».[102]
Гирландайо безропотно выполнял требования заказчиков. Леонардо – отнюдь; ему вообще не нравилось работать на заказ. Его раздражение против членов братства вполне понятно, однако их нежелание выплачивать ему дополнительное вознаграждение за «Мадонну в скалах» отчасти, видимо, объясняется тем, что он отошел от схемы, прописанной в договоре. На картине нет ни младенца Христа на золотом возвышении, ни Бога Отца, парящего у него над головой. Члены братства вряд ли нуждались просто в красивой картине, которую можно поместить в часовне: им нужно было художественное произведение, которое иллюстрировало и подкрепляло бы их веру в постулат о Непорочном зачатии Мадонны, а именно, что Дева Мария, в отличие от всех прочих, родилась не запятнанной первородным грехом, а зачата была платоническим путем, через целомудренный поцелуй ее родителей. Постулат этот был тогда совсем новым и вызывал крайне противоречивое отношение: францисканцы его поддерживали, доминиканцы решительно отвергали. Праздник Непорочного зачатия был официально установлен только в 1476 году папской буллой, изданной францисканцем Сикстом IV. Члены братства, которых объединяло стремление отстаивать эту доктрину, вовсе не жаждали видеть свободную импровизацию, в которой художник затемнял или попросту игнорировал их воззрения.
Кроме того, членов братства, видимо, ошарашили смелость и новизна произведения. Леонардо так и не закончил «Поклонения волхвов», композицию, которая, если бы она была завершена, не знала бы себе в Италии равных. Удивительные задатки этого произведения, с его пристальным вниманием к положению тел и анатомическим деталям, полностью раскрылись в изумительной «Мадонне в скалах». Леонардо отказался от клишированных жестов и выражений, с помощью которых художники передавали нужный смысл, придал персонажам живость и динамизм через изящный танец движущихся рук – укороченная левая рука Богоматери, указующий палец ангела – и тщательно выверенные позы.
Кроме того, Леонардо создал для персонажей поразительный фон. В договоре обозначены горы и скалы на заднем плане, но он создал мглистый, первозданный пейзаж, на котором вновь появляются увиденные с расстояния крутые откосы реки Арно с наброска 1473 года, на сей раз придвинутые ближе, а еще величественные арки и приапические каменные колонны, образующие грот, в котором и развертывается действие. На создание этой мглистой красоты Леонардо вдохновили его топографические изыскания. Профессиональный геолог, изучивший эту картину в 1996 году, расхвалил ее как «геологический шедевр, в котором Леонардо с особой точностью воспроизводит сложные географические формации».[103] На первом плане он с той же точностью и достоверностью изобразил растения – водосбор, зверобой.[104] Единство композиции придает тонкая моделировка светотени – фигуры показаны в приглушенном, рассеянном свете, точно через дымчатый фильтр.
Перед нами подлинный шедевр. Леонардо наконец-то удалось создать великолепное произведение, большую алтарную картину, которой предстояло занять видное место в одном из самых знаменитых храмов Милана. При этом, из-за распрей с братством, картина оставалась у него в мастерской, никем не оцененная, мало кому доступная. Пройдет двадцать пять лет, прежде чем алтарь – с другой центральной доской, выполненной Леонардо гораздо позднее, – наконец-то займет свое место в Сан-Франческо Гранде. Что случилось с первым вариантом картины, была ли она в 1490-е годы кому-то продана, установить так и не удалось. Работа – а она, безусловно, заслуживает звания лучшего алтаря пятнадцатого столетия – пропала из виду до 1625 года, а потом вдруг всплыла в собрании французских королей.[105]
Все эти распри вызывали у Леонардо мучительное раздражение. Не то чтобы он разделял отвращение к человеческому роду, присущее его современнику Никколо Макиавелли, который написал в своем «Государе», что люди в большинстве своем «неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману».[106] Однако записные книжки его пестрят мелочными жалобами, в которых сам он представлен человеком обманутым, преданным, несправедливо обиженным. «Все зло, какое есть или было когда-либо, – гласит одна из записей, – даже если бы оно могло бы быть приведено им в действие, и то не удовлетворило бы всех чаяний его низкой душонки». Или так: «Известен мне человек, который, пообещав много, но меньше должного, будучи разочарован в своих самонадеянных планах, попытался лишить меня всех моих друзей». Иногда в заметках сквозят его подозрения касательно порядочности не только отдельных личностей, а человечества в целом – в одном месте он разражается тирадой, направленной против людей, которые есть «не что иное, как проход для пищи и наполнители выгребных ям». Они идут по жизни, язвил он, не оставляя за собой ничего, кроме переполненных отхожих мест.[107]
В начале творческого пути у Леонардо было достаточно и друзей, и покровителей – он выполнял заказы двух самых знатных итальянских вельмож, Лоренцо Медичи и Лодовико Сфорца. Однако его нежелание идти в искусстве на компромисс ради какого-то пункта договора снискало ему репутацию «трудного», ненадежного художника – а с такой репутацией получать заказы было непросто. Но главное заключалось в том, что создать подлинный шедевр ему еще только предстояло. Французские орудия катились по территории Италии, бронзу его сплавляли по воде в Феррару, а долг, который его гению долженствовало вернуть миру, так и оставался неоплаченным.
Глава 3 Трапезная
На конской сбруе из конюшни Лодовико Сфорца часто повторялся один мотив: мавр, держащий над головою земной шар. Ниже был начертан девиз: «A bon droyt» («В своем праве»).[108] Осенью 1494 года эмблема эта выглядела чрезвычайно уместно: Лодовико казался всемогущим и, можно сказать, держал в руках судьбы мира – или, по крайней мере, Италии. Один венецианский летописец восхищался его успехами и апломбом: «Все, к чему бы этот человек ни прикоснулся, процветает, все, что он ночью видит во сне, днем сбывается наяву. Правда и то, что его уважают и почитают по всему миру, в Италии же он признан мудрейшим и самым удачливым из мужей. А еще все прочие его боятся, ибо фортуна сопутствует ему во всем, за что бы он ни взялся».[109] Впрочем, Лодовико не только боялись, его еще и не любили. Заигрывания с Францией и дурное обращение с племянником лишили его доверия, а кроме того, никто не знал, чего от него ждать.
Начинания короля Карла VIII также оказались настолько успешными, что один из его посланников подивился: похоже, «сам Господь» направляет и оберегает юного монарха, ибо «задумал сделать его своим орудием в деле усмирения и наказания этих итальянских князьков».[110] Итальянская кампания развивалась по плану, к концу октября французские войска достигли границ Флоренции.
Французам необходимо было занять флорентийские крепости, раскиданные по всей Тоскане, дабы по мере продвижения вглубь Италии обеспечить себе защиту с флангов. Когда флорентинцы, сторонники короля Альфонсо Неаполитанского, отказались сдаться, французы предприняли штурм первой из этих крепостей, Фивиццано. Итальянцы вновь были поражены жестокостью пришельцев. Гарнизон был уничтожен полностью, город разграблен и сожжен, а его обитатели – истреблены, как это было и в Мордано. В последний день октября Пьеро Медичи, сын Лоренцо, новый правитель Флоренции, поспешно принял все требования французского короля, сдал ему крепости и обеспечил беспрепятственный проход по территории Тосканы. Когда новости о капитуляции достигли Флоренции, «в городе (так пишет Гвиччардини) вспыхнуло неслыханное возмущение», и через несколько дней Медичи, правившие городом свыше шестидесяти лет, вынуждены были бежать.[111]
Лодовико вернулся в лагерь французов на следующий же день после похорон своего племянника, но вскорости отправился обратно в Милан. Там он занялся подготовкой документов, необходимых для официального принятия нового титула. Строго говоря, дарование титула герцога Миланского являлось прерогативой императора Священной Римской империи, на территории которой (по крайней мере, формально) располагался Милан. В 1395 году император Вацлав даровал Джангалеаццо Висконти, первому герцогу, «владычество, всю полноту законодательной и исполнительной власти» над Миланом, однако править он должен был от имени императора.[112] Преемник Вацлава Фридрих III не слишком благоволил к династии Сфорца, а потому ни Франческо, ни его сын Галеаццо Мария – притом что оба являлись правителями-самодержцами и называли себя герцогами – не были официально удостоены этого титула.
Лодовико имел твердые намерения оттеснить герцога Орлеанского и сделать Сфорца официальной правящей герцогской династией, а потому принялся обхаживать Максимилиана, дабы придать своему титулу законность. Император с готовностью поддержал претензии Лодовико, в том числе и потому, что годом ранее взял в жены его племянницу Бьянку Марию. Брак оказался несчастливым: Максимилиана сильно озадачила привычка его нареченной ужинать прямо на полу. Впрочем, приданое в четыреста тысяч дукатов, выплаченное из кладовых Сфорца, заставило его взглянуть с большей терпимостью и на застольные манеры жены, и на претензии пятилетнего Франческо на герцогский титул.[113]
Помимо титула, Лодовико думал и о прославлении своей семьи. Его меценатство, в том числе и желание возвести бронзовый конный памятник отцу, было нацелено на увековечивание имени Сфорца. Теперь же он увлекся другим масштабным проектом. Останки членов его семьи были погребены на разных кладбищах герцогства, причем некоторые из этих кладбищ оказались совсем непритязательными. Прадед Лодовико, Джангалеаццо Висконти, скончавшийся в 1402 году, был скромно погребен у алтаря Чертозы ди Павия, монастыря в сорока километрах к югу от Милана, заложенного в 1396 году. Когда в Чертозу приезжали именитые посетители, монахи иногда вели их по приставной лесенке взглянуть на славные останки, которые, по словам одного из этих гостей, «выглядели не лучше, чем им положено по природе».[114]
Джангалеаццо Висконти рассчитывал, что Чертоза станет усыпальницей для него и для членов его семьи, однако его планам не суждено было осуществиться – помешали недостаток средств, медлительность строителей, а также скоропостижная кончина Джангалеаццо от чумы. В 1494 году Лодовико решил почтить прадеда, построив ему более величественную и подобающую усыпальницу, призвал скульптора, чтобы тот изваял статую Джангалеаццо и высек барельефы на его саркофаге. Кроме того, он начал проявлять особое внимание к Чертозе. Нанял архитектора, чтобы тот завершил фасадные работы, а в 1490 году отправил гонца во Флоренцию и заказал Филиппино Липпи и Пьетро Перуджино алтарные картины.
Кроме того, Лодовико не забывал и про собственный последний приют. Около 1492 года он начал планировать строительство усыпальницы для себя и своих потомков. Местом была выбрана миланская церковь Санта-Мария делле Грацие, построенная между 1468 и 1482 годом внуком зодчего, создавшего павийскую Чертозу. Средства на строительство храма, равно как и на земельный участок, расположенный в западной оконечности города, были выделены одним из военачальников Франческо Сфорца, однако после его смерти Лодовико принял все финансовые обязательства на себя. В 1492 году он начал расширять и по-новому украшать церковь: восточная часть была полностью снесена, заложено основание более обширного храма. Вскоре после этого Лодовико попросил секретаря созвать «всех специалистов по архитектуре», дабы разработать проект фасада.[115]
Возможно, что среди этих специалистов был и Леонардо да Винчи. С тех пор как несколькими годами раньше был отвергнут его проект купола Миланского собора, интерес к архитектуре у Леонардо отнюдь не угас. В какой-то момент он представил проекты некой трибуны и, видимо, погребального памятника.[116] В его записных книжках упоминаются разговоры с каменщиками-немцами, работавшими на строительстве собора, а одна заметка свидетельствует о желании приобрести книгу по церковной архитектуре – книгу «с описанием Милана и его церквей, купить которую можно у последнего книготорговца на пути в Кордузо». Следует также отметить, что Леонардо состоял в близкой дружбе с Донато Браманте, архитектором, который, вне всякого сомнения, участвовал в перестройке церкви Санта-Мария делле Грацие.[117] При этом если Леонардо и внес какой-то вклад в эту работу, он был минимальным. У Лодовико имелись на него совсем иные виды.
Церковь Санта-Мария делле Грацие.
Церковь была частью архитектурного комплекса доминиканского монастыря: помимо нее, в комплекс входили ризница, внутренний сад, кельи, где монахи спали и молились, и трапезная, где они вкушали пищу. Эти здания, как и церковь, появились совсем недавно и, чтобы стать достойными имени Сфорца, требовали новой отделки. И хотя Леонардо мечтал создавать пушки и танки, проектировать купол для недостроенного Миланского собора или отливать самую огромную конную статую в мире, заняться этим ему было не суждено. Вместо этого ему предстояло расписать стену.
* * *
Два предшествовавших столетия орден доминиканцев, или, как они именовались официально, орден братьев-проповедников, был, наряду с францисканским, самым активным религиозным орденом в Италии. Во всяком случае, на виду он был много больше других. Доминиканские монахи в заметных черно-белых одеяниях встречались во всех городах и весях Италии, проповедуя с кафедр церквей или перед толпами на городских площадях.
Орден доминиканцев возник в начале XIII века, после того как его основатель Доминик прошел во времена катарской ереси через провинцию Лангедок на юге Франции. Он выступил с решительным осуждением еретиков, противопоставивших простодушную веру и суровое благочестие помпезности и роскоши официальной церкви. Доминик предлагал лечить подобное подобным: усердной молитвой и скромной жизнью. «На рвение нужно отвечать рвением, на смирение – смирением», – с таким, ставшим впоследствии знаменитым, упреком обратился он к трем богато одетым, напыщенным папским легатам, которые не смогли ничего добиться в Лангедоке.[118] В 1217 году папа дал Доминику дозволение основать собственный орден, причем он и его последователи стали называть себя «Милицией Иисуса Христа».[119] Доминиканцы приняли на себя роль духовных стражей церкви, а после 1232 года – папских инквизиторов. Когда Майфреда Висконти заявила, что в Пасхальное воскресенье 1300 года намеревается возложить на себя папскую тиару, доминиканцы выследили всех ее приверженцев, допросили и сожгли на костре. А когда во времена более близкие, в 1494 году, в Турине были сожжены четыре женщины, обвиненные в колдовстве, дознание тоже проводил доминиканец.[120]
Религиозное рвение снискало доминиканцам их прозвище, основанное на игре слов: «Domini canes» – Псы Господни. Они это прозвание приняли. На фресках в их церквях, например в Санта-Марии Новелла во Флоренции, встречаются стаи пятнистых черно-белых собак. Собаки отсылают не только к прозванию и черно-белым одеждам, но и к легенде о том, что матери Доминика во время беременности якобы приснился сон, что у нее родился черно-белый пес с факелом в пасти. «Выскочив из чрева, – повествует „Золотая легенда“, – пес этот предал огню всю ткань мира».[121]
Доминиканцы, можно сказать, действительно озарили мир светом, сделавшись основными церковными просветителями. «Лук натягивают в учении, – гласит доминиканская максима, – а тетиву спускают в молитве». Упор на учение и преподавание привел к тому, что именно доминиканцы заняли все богословские кафедры в университетах Парижа, Оксфорда и Болоньи. К XV веку среди пап насчитывалось двое доминиканцев, многие другие представители ордена прославились в Европе как писатели и проповедники. Кроме того, именно из среды доминиканцев вышел величайший ученый Средневековья, немецкий епископ Альберт Великий, за исключительную широту своих научных познаний прозванный Доктор Универсалис. Величайшим после Доминика представителем ордена стал «ангельский доктор» Фома Аквинский, автор «Суммы теологии», амбициозного трактата, где в полутора миллионов слов представлено все «относящееся к христианской вере».[122]
Фома Аквинский, кстати, не предавался аскетизму – он был высок, тучен и любил вкусно поесть. Доминик, напротив, не давал потачек своей плоти. «Золотая легенда» повествует, что он всегда кормил свое тело скуднее, «чем оно желало», а пока учился в Испании, за десять лет не выпил ни стакана вина.[123] Верные его примеру, доминиканцы проводили жизнь в молитве, учении и проповедях. Жизнь братьев была суровой и тяжкой даже по меркам Средневековья. Они принимали обеты послушания, целомудрия и бедности, кормились за счет подаяния. С середины сентября и до Пасхи, а также круглогодично по пятницам они вкушали пищу только раз в день. Одежду шили из грубой шерсти, спали на жестких постелях в общих спальнях. Отправляясь в странствия, чаще передвигались пешком, чем верхом, зачастую – босыми и не имея при себе денег. Дабы приобщиться к страстям Христовым, они занимались самобичеванием: на одной из фресок Фра Анджелико в доминиканском монастыре Сан-Марко во Флоренции изображен коленопреклоненный Доминик, который охаживает себя хлыстом перед изображением распятого Христа.
Доминиканцы были самым гласным из всех религиозных орденов и часто проповедовали перед целыми толпами прямо на улицах и площадях. Однако бо́льшую часть дня братья соблюдали обет молчания, дабы сосредоточиться на изучении наук и созерцании. Еду тоже вкушали в молчании. Винченцо Банделло, ставший настоятелем Санта-Марии делле Грацие в 1495 году, был автором труда «Declarationes super diversos passus constitutionum» («Рассуждения по различным обрядовым вопросам»), в котором описан ритуал совместных трапез монахов-доминиканцев. В положенный час они собирались в трапезной, называвшейся cenacolo (от латинского «cenaculum», зал, где трапезничали римляне). Сначала они заходили в небольшое прилегающее помещение, где мыли руки – единственную часть тела, которую когда-либо омывали (считалось, что купание способствует телесному расслаблению и разжигает похоть). После этого они молча сидели на скамьях, прежде чем войти в собственно cenacolo, которое в Санта-Марии делле Грацие было узким, вытянутым помещением, расположенным перпендикулярно церкви, тридцать три метра в длину и восемь метров в ширину, обставленным по периметру столами. Место это было мрачное, суровое, окна находились на западной стене и располагались очень высоко. Прежде чем занять свои места за столом, братья преклоняли колени перед распятием на дальней стене; садились они за внешнюю сторону стола, лицом к центру. На самом дальнем месте, под распятием, сидел настоятель.
После благословения трапезы служки приносили из монастырской кухни еду. Была она столь скромной, что настоятелей призывали избегать искушения и не вкушать ничего за пределами монастыря, где, несомненно, кормили гораздо лучше. Художники, работавшие по заказу братьев, часто жаловались на ужасное питание. Говорили, что Паоло Уччелло якобы сбежал из церкви, где работал, после того, как его стали кормить одним сыром. Давид Гирландайо однажды вылил на монаха суп и ткнул в него хлебом, протестуя против того, как скверно кормили их с братом. Никакого мяса в меню, разумеется, не было. Доминик, соблюдавший Устав святого Бенедикта, никогда не вкушал скоромного, поясняя, что оно, как и купание, может пробудить вожделение. Фома Аквинский учил, что вкусная пища, например мясо, «разжигает телесный зуд» и «способствует переполнению семенников».[124]
Монаха, нарушившего правило молчания, наказывали недопущением к следующей трапезе, однако, если настоятель считал целесообразной застольную беседу, он мог дать одному-двум братьям разрешение говорить. Но чаще монахи слушали за едой одного из членов братства – его называли lector in mensa, или застольным чтецом, – который читал вслух Библию или какой-то иной религиозный текст, например «Золотую легенду», написанную тоже доминиканцем. С середины XIV века монахи (равно как и монахини) некоторых обителей получили новую пищу для размышлений во время молчаливой трапезы. Стены стали украшать фресками, причем их сюжетом – что в данном случае неудивительно, – как правило, были сцены трапез. Иногда художники изображали Авраама, который готовит угощение для ангелов (сцена из Бытия 18), или чудо о хлебах и рыбах. Однако чаще всего для росписи выбирали Тайную вечерю, а посему изображения Тайной вечери получили название «cenacolo». Преломляя хлеб, монахи и монахини могли представлять себя апостолами, ужинающими в Иерусалиме.
Именно такую картину Лодовико Сфорца и хотел заказать для трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие. И вот в обществе монахов-доминиканцев – компании набожных, трудолюбивых аскетов – появился Леонардо да Винчи.
Нам неизвестно, когда именно Леонардо получил заказ на изображение Тайной вечери в трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие. Архивы монастыря погибли, а с ними были утрачены и все подробности, связанные с этим заказом. Логично предположить, что это было либо в конце 1494-го, либо в самом начале 1495 года, после того как окончательно отпала возможность изваять бронзового коня. Мы не знаем наверняка, кто именно нанял Леонардо, Лодовико Сфорца или братья-доминиканцы. Однако, учитывая личный интерес Лодовико к монастырю – он ужинал там каждый вторник и субботу, демонстрируя свою набожность и смирение, – скорее всего, заказчиком выступал именно он. Несколько лет спустя, обсуждая эту работу, он упомянул соглашения, которые подписал с Леонардо.
Эти «соглашения», безусловно, и представляли собой утраченный договор. Заказчик никогда не позволил бы художнику приняться за работу, не подписав с ним предварительно документ, в котором оговаривались, в частности, сюжет, цена, материалы и сроки исполнения. Вряд ли Лодовико нанял бы Леонардо, с его репутацией ненадежного, медлительного работника, уже неоднократно бросавшего начатое на полпути, не составив договора, который предоставил бы ему определенные гарантии и заставил исполнителя сосредоточиться на своей работе. Впрочем, как уже выяснили на собственном горьком опыте члены братства Непорочного зачатия, даже самый драконовский документ не мог помешать Леонардо импровизировать и затягивать сроки.
Решение поручить выполнение настенной росписи именно Леонардо было отнюдь не очевидным, скорее, наоборот, вызывало некоторое удивление. В своем письме-представлении он делал упор на то, что имеет богатый опыт в области создания военных механизмов. Письмо заканчивалось невнятным, почти проходным замечанием, что он, мол, может изображать «и в живописи – все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто б он ни был».[125] Пусть здесь и есть элемент бравады, но уже в 1482 году Леонардо был совершенно зрелым художником, который при желании мог превзойти почти всякого в портретах или алтарных образах. «Мадонна в скалах», созданная уже после написания этого письма, в полной мере раскрывает его удивительные таланты.
Однако в том, что касается живописи, у Леонардо действительно имелся один недостаток. Его учитель Верроккьо преуспел во многих областях искусства – работал в мраморе, бронзе, меди и латуни. А вот его живописный опыт ограничивался темперой на досках – и даже здесь он сделал не так уж много. Алтари и портреты тогда, как правило, писали темперой. Основу для алтарной картины набирали из склеенных досок, обычно для этого брали тополь; доски потом во много слоев грунтовали клеем и мелом. Темпера (от латинского «temperare», смешивать) изготавливалась путем соединения порошкообразных пигментов с жидким связующим веществом, чаще всего для этой цели использовали яичный желток. Чтобы краска дольше не высыхала, художники иногда добавляли в нее мед или сок фигового дерева, вязкость можно было понижать добавлением уксуса, пива или вина.
Росписи на стенах часовен или трапезных, как правило, делали не темперой, а в иной технике, известной как «фреска». Верроккьо, при всем разнообразии своих талантов, никогда в этой технике не работал и, соответственно, вряд ли мог передать ее тайны Леонардо. Сам Леонардо тоже никогда раньше не писал фресок. Когда он жил во Флоренции, с 1470 по начало 1480-х годов, заказчики фресок чаще всего обращались к Сандро Боттичелли или Доменико Гирландайо. Последний работал в этой технике особенно успешно и плодотворно. Отчет, подготовленный для Лодовико Сфорца флорентийским агентом, который пытался нанять Гирландайо для росписи Чертозы в Павии, гласит, что он «большой мастер расписывать деревянные панели, а более того – стены… работает быстро и заказов берет много».[126]
Слова «работает быстро» не имеют ни малейшего отношения к Леонардо. Видимо, именно по причине слабого знания техники фресковой живописи, а также из-за репутации человека, бросающего дело на полдороге, имени Леонардо нет в списке молодых художников, которых Лоренцо Медичи отправил летом 1481 года в Рим расписывать стены только что построенной Сикстинской капеллы. Боттичелли и Гирландайо, входившие в эту группу, имели куда больше опыта фресковой живописи, чем Леонардо.
Считалось, что техника фрески наиболее сложна для освоения. Вазари утверждает, что многие живописцы способны достигнуть мастерства в работе маслом и темперой, однако лишь избранные в состоянии освоить фресковую живопись, ибо этот способ, по его словам, «поистине требует наибольшей мужественности, уверенности, решительности и более прочен, чем все остальные».[127] Слово «фреска» происходит от итальянского affresco – корень его, fresco, означает «свежий»: при этом способе работы художник не смешивает красители со связующими веществами, а растирает прямо в воде и наносит на влажную штукатурку; та, высыхая, впитывает их и связывает химически, таким образом, красочный слой образует со стеной единое целое.
Техника уникальная и, как отметил Вазари, долговечная. Однако при использовании ее возникало множество сложностей – в том числе и потому, что художнику приходилось работать на большой поверхности, иногда высоко над полом, в труднодоступных местах. Кроме того, в распоряжении мастера оставалось всего несколько часов – закончить дневной фрагмент нужно было до того, как штукатурка высохнет, – а значит, работать приходилось быстро. И наконец, мастер был ограничен в цветовой гамме, так как использовать можно было лишь те пигменты, которые не меняют цвета в щелочной среде. Самые яркие оттенки синего и зеленого – ультрамарин, лазурит, малахит – можно было добавлять, только смешивая со связующим веществом и нанося на уже высохшую штукатурку. Эта дополнительная техника, известная как секко, имела недостаток: темпера, нанесенная на сухую штукатурку, была куда менее стойкой, чем красители, разведенные водой и нанесенные на влажную поверхность. Соответственно, заказчики, как правило, не хотели, чтобы художники работали в технике секко. В договоре Филиппино Липпи с банкиром Филиппо Строцци на серию фресок в часовне Строцци в Санта-Марии Новелла (работы начались в 1487 году) было четко прописано, что художник будет работать только в технике фрески.
Мало того что Леонардо не владел этой крайне сложной техникой, он никогда еще не работал над столь масштабными произведениями. Потерпев несколько неудач при попытках написать алтарную картину, он внезапно получил заказ на роспись целой северной стены трапезной, размерами девять на четыре с половиной метра.
Заказ на роспись стены трапезной считался весьма почетным, особенно если (как, похоже, это было в нашем случае) заказчиком выступал сам герцог. Однако, судя по всему, Леонардо и здесь не преминул покапризничать. Его отрывистое, раздраженное письмо к Лодовико, которое пестрит рублеными фразами – «навязанное», «не мое искусство» и «вот если бы другой заказ», – вполне возможно, написано именно в связи с его новой работой в Санта-Марии делле Грацие. Хотя письмо содержит жалобы по поводу понесенных расходов и невыплаченных денег, возмущается художник не столько из-за конной статуи («О коне не буду говорить ничего»), сколько по некоему новому поводу. В другом отрывочном послании к Лодовико, чуть более позднего времени, Леонардо сетует на то, что его заставляют выполнять для герцога разные мелкие поручения, отвлекая от гораздо более важного заказа, – возможно, речь идет о конной статуе. «Прискорбно мне, – пишет он, – что вследствие необходимости зарабатывать себе пропитание я вынужден прерываться и заниматься пустяками, вместо того чтобы выполнять работу, которую доверила мне ваша светлость».[128]
Была ли роспись трапезной Санта-Марии делле Грацие одним из тех «пустяков», на которые Леонардо вынужден был отвлекаться от более важных дел – бронзового коня или какого-то другого заказа? Его недовольство тем, что от идеи создания конной статуи пришлось отказаться, наверняка только усилилось, когда он узнал, что ему ни с того ни с сего поручили работу, для которой у него не было необходимых навыков. В любом случае настенная роспись не являлась равноценной заменой конному монументу. Неизвестно, где именно Лодовико собирался поставить статую, но для нее наверняка выбрали бы почетное место, возможно даже площадь перед замком, где ее непременно увидели бы все миланцы и все, кто приезжал в город. Но проект был приостановлен, а Леонардо поручили расписывать какую-то дальнюю комнатенку, где собиралась трапезничать горстка монахов.
Но если Леонардо писал свои гневные письма с целью отвертеться от этой работы, он не преуспел. Видимо, он довольно скоро понял: хочешь оставаться в фаворе у Моро – выполняй все его желания. А кроме того, он, наверное, осознал и другое: ему представилась возможность продемонстрировать свои таланты живописца, причем в масштабах, доселе невиданных.
* * *
1494 год – «очень несчастливый год для Италии» – завершился тем, что король Карл VIII и его воины вошли в ворота Рима. Карл провел одиннадцать приятнейших дней во Флоренции – он жил во дворце Медичи и слегка поменял его планировку, добавив новые проходы, через которые мог проскальзывать в покои своей очередной любовницы. Из Флоренции он двинулся к югу на Сиену, потом на Витербо. После этого взгляды его обратились к Риму, и в середине ноября он издал воззвание, в котором просил лишь права свободного прохода по римской территории. Однако, по словам Гвиччардини, он «с каждым днем делался все наглее, ибо успехи его превзошли многократно самые смелые его ожидания».[129] Даже союзников короля несколько отрезвили его легкие победы: и Лодовико Сфорца, и венецианский сенат стали опасаться, что завоевание Неаполя вряд ли удовлетворит амбиции французов.
Рим и прилегавшие к нему территории, известные как Папская область, находились под управлением папы, который был не только духовным вождем, но и светским правителем: он взимал налоги с миллионного населения и устанавливал для него законы. Карл недвусмысленно намекал, что намерен сместить нынешнего папу Александра VI, человека мирского склада, имевшего заслуженную репутацию мота и коррупционера, если его святейшество не удовлетворит просьбу короля и не передаст ему ключи от всех замков и корону Неаполя. Когда французы начали свой марш на Рим, у Александра VI сделались обморочные припадки. В начале конфликта он принял сторону Неаполя, заявив, что связан с Альфонсо «теснейшими узами родства и дружбы», и поклявшись защищать его от захватчиков.[130] Теперь же он колебался: то ли оказать доблестное сопротивление французам – он утверждал, что скорее умрет, чем станет рабом французского монарха, – то ли усмирить гордыню и подумать, не стоит ли с ними договориться. К тому моменту, когда французские войска вступили на римскую территорию и начали захватывать один город за другим, папа так и не пришел ни к какому решению. А французы, помимо прочего, изловили на дороге под Римом его любовницу Джулию Фарнезе, которая попыталась спастись бегством.
Население самого Рима, возлагавшее все надежды на то, что папа сумеет замириться с французами, пребывало в состоянии ужаса и возмущения. Риму грозил голод, поскольку французский флот заблокировал вход в Тибр и поставки продовольствия прекратились. Особенно от этих лишений страдали священники, которые, по циничному замечанию одного очевидца-венецианца, «привыкли только к изысканным яствам».[131] Папа заперся в Ватикане, который обороняли его телохранители-испанцы, и начал готовиться к побегу из города – даже сложил постельное белье и столовый сервиз. После этого, «заметив, как стремительно приближается сей юный властитель» (так писал один из посланников Карла), папа решил открыть перед ним ворота Рима.[132]
Изначально Карл планировал войти в Рим 1 января, однако придворный астролог сообщил ему, что наиболее благоприятное положение планет ожидается на сутки раньше, поэтому французский монарх въехал в северные римские ворота Порта дель Пополо в последний день 1494 года. На то, чтобы войти вслед за ним в те же ворота, у французской армии вместе со швейцарскими и немецкими наемниками ушло шесть часов. За ними по булыжникам мостовой и лужам вкатились тридцать шесть бронзовых пушек: смертоносное напоминание о том, что ждет римлян, если они вздумают оказать сопротивление.
Варвары вступили в ворота Рима. «На всей памяти человеческой, – горестно сообщал посланник из Мантуи, – никогда еще не выпадало на долю церкви столь тяжкого испытания».[133]
Глава 4 Ужин в Иерусалиме
История Тайной вечери была знакома Леонардо по целому ряду находившихся во Флоренции изображений. Кроме того, он знал ее и из Библии, экземпляр которой значится в списке принадлежавших ему книг, – художник составил его в середине 1490-х годов. Примечательно, что это, скорее всего, тот самый экземпляр, который он приобрел (согласно другой его заметке на память) в конце 1494 или в начале 1495 года, именно тогда, когда начал работать в трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие. Почти наверняка его Библия была хорошо известным и широко распространенным переводом на итальянский, выполненным Никколо ди Малерми, «Biblia volgare historiata»: впервые она вышла в свет в Венеции в 1471 году и к началу 1490-х годов выдержала десять изданий (с сотнями ксилографических иллюстраций). Велика вероятность, что Леонардо специально приобрел Библию, чтобы изучать евангельские тексты, посвященные Тайной вечере.[134]
В своей новой Библии Леонардо мог прочитать четыре варианта рассказа о Тайной вечере, два из них исходили из уст очевидцев. Каждый из четырех авторов Евангелий, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, представляет свою версию событий. Как и в случае с другими эпизодами из жизни Христа, в первых трех рассказах, известных как синоптические Евангелия, имеются многочисленные параллели. В них описаны одни и те же события, зачастую изложенные в той же последовательности и схожими словами, – это сходство навело богословов на мысль, что авторы их работали коллегиально. Притом что как между разными авторами синоптических Евангелий, так и внутри каждого текста существуют расхождения, касающиеся деталей, Матфей, Марк и Лука демонстрируют большое единодушие, в отличие от Иоанна, текст которого изобилует всевозможными подробностями. Впрочем, очевидных противоречий между четырьмя Евангелиями нет, разве что разница в расстановке акцентов, уровне детализации и последовательности определенных событий. Двое авторов, Матфей и Иоанн, лично присутствовали на Тайной вечере. Принято считать, что Евангелие от Матфея является первым по времени написания, соответственно, именно с него и начинается Новый Завет. Матфей принадлежал к особой группе последователей Христа – ее членов называли апостолами: это двенадцать человек, которых Христос после восхождения на гору призвал к особому служению – проповедовать вместе с Ним. «И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов», – гласит Евангелие от Марка (Мк. 3: 15). Апостолы присутствовали при триумфальном въезде Христа в Иерусалим на осле, они были не только участниками Тайной вечери, но также свидетелями и Воскресения, и, сорока днями позже, Вознесения – когда Христос вознесся сквозь тучи на небо. Последними словами Христа, обращенными к апостолам, стало воззвание: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1: 8). Написание Евангелий и стало частью свидетельствования перед всем миром.
В синоптических Евангелиях рассказ о Тайной вечере начинается сразу после того, как Иуда приходит к первосвященнику и предлагает предать Христа, которого священники и фарисеи ненавидят и боятся.[135] Только Матфей уточняет, какое Иуда получил вознаграждение, – тридцать серебреников; Марк и Лука просто отмечают, что первосвященник со товарищи обещал выплатить предателю некую сумму. Иоанн вовсе не упоминает, что у Иуды был корыстный интерес. Он считает, что Иуда предал Христа совсем по иной причине.
Приближается Пасха, праздник, во время которого иудеи совершают особый ритуал: забивают ягненка и вкушают его мясо в память об избавлении от Ангела Мщения и освобождении из египетского плена. Апостолы спрашивают у Христа, что приготовить для пира. По словам Матфея, Христос велит им найти на улицах Иерусалима «такого-то» и сказать ему: «Учитель говорит: время Мое близко». Марк и Лука добавляют, что узнать этого незнакомца можно будет по тому, что он несет кувшин воды. «Последуйте за ним, – передает слова Христа евангелист Марк, – и куда он войдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?“ И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую».
Настает вечер, Христос садится с учениками за трапезу в этой большой горнице. Происходит это либо в день пасхального пира, либо (по словам Иоанна) во время приготовления к нему (он однозначно указывает, что трапеза происходит до начала основного празднества). В любом случае следующее за этим Распятие символически связано – по крайней мере, у Луки и Иоанна – с закланием агнцев перед пиром. Эта удивительная параллель подчеркивает, что агнец, которого евреи принесли в жертву, чтобы спасти от египтян своих перворожденных, является прообразом «Агнца Господнего», искупившего человеческие грехи своей великой жертвой.
Кратко и точно синоптические Евангелия описывают все, что происходит за трапезой, хотя последовательность событий в них не совпадает. По словам Матфея, за едой Христос говорит: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Взволнованные апостолы начинают спрашивать: «Не я ли, Господи?» – на что он отвечает: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Тогда Иуда интересуется, не о нем ли речь, на что Иисус отвечает ему: «Ты сказал».
Сразу же за этим откровением следует учреждение таинства причастия. «Ядите: сие есть Тело Мое», – говорит Христос, преломляя хлеб. Потом берет чашу и, благодарив, говорит: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Матфей добавляет трогательную подробность: по завершении трапезы Христос с учениками воспели.
Марк почти дословно повторяет Матфея: у него весть о предательстве тоже непосредственно предшествует причастию. А вот у Луки события эти представлены в обратном порядке. В его пересказе Христос сперва преломляет хлеб и пьет с учениками вино, а потом уже возвещает о предательстве. Судя по всему, таинство причастия еще не завершено, когда Христос обрушивает на учеников пугающее заявление. «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается, – говорит он и сразу же добавляет: – И вот, рука предающего Меня со Мною за столом». Апостолы начинают «спрашивать друг друга», кто из них способен на такое. Впрочем, по словам Луки, их сильнее заботит нечто другое, потому что тут внезапно разгорается «спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Лука не упоминает о том, что Иуда опускает руку в то же блюдо, что и Иисус; собственно, по ходу трапезы ни разу не упоминается, что предатель – именно Иуда, хотя ранее Лука и повествует о его сделке с первосвященниками и книжниками.
В Евангелии от Иоанна все эти события представлены несколько иначе. Это Евангелие было написано последним. Историк IV века Евсевий утверждает, что Марк и Лука уже давно написали свои Евангелия, а Иоанн, проповедовавший изустно, только много позже решил дополнить их более подробным рассказом о ранних проповедях Христа.[136] Повествование Иоанна о Тайной вечере тоже изобилует подробностями, хотя в его изложении сама вечеря – она точно не является пасхальным пиршеством – заканчивается очень быстро. По окончании трапезы Христос встает из-за стола, препоясывается полотенцем и (не слушая протестов Петра) начинает омывать ноги ученикам, подавая тем самым пример смирения; в других Евангелиях этот эпизод не упомянут. Именно во время омовения ног Он впервые (метафорически) возвещает ученикам о предательстве. «Не все вы чисты», – говорит Он многозначительно. А потом добавляет, что в будущем все они должны омывать друг другу ноги, и снова возвращается к предательству: «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». Вскоре после этого Христос, дух которого встревожен, внезапно высказывается более прямо и недвусмысленно: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня».
Эти слова перекликаются со словами из других Евангелий, однако Иоанн добавляет к ним один из самых блистательных драматических пассажей во всей Библии. Как и в других Евангелиях, сразу за заявлением Иисуса следуют замешательство, тревога, самокопание – сотрапезники поворачиваются друг к другу, «недоумевая, о ком Он говорит». Иоанн более подробно описывает эту сумятицу. У Христа на груди возлежит один из «учеников Его, которого любил Иисус». Скромность не позволяет Иоанну назвать имя этого любимого ученика – в последующих главах он упомянут еще несколько раз, причем там уже становится ясно, что этот возлюбленный ученик и есть сам Иоанн. «Ибо тот самый святой Иоанн Евангелист и есть ученик, которого любил Иисус, – поясняет святой Августин, – ибо он возлежал на груди у него за Тайной вечерей».[137]
Встревоженные апостолы требуют разъяснений. Характерно, что именно Петр, с его добросердечием и прямодушием, делает знак Иоанну, который все еще возлежит у Христа на груди, чтобы тот спросил, «кто это, о котором говорит». Иоанн от общего имени задает вопрос: «Господи! кто это?» Христос отвечает так же, как и в первых двух Евангелиях: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». После чего обмакивает хлеб и подает Иуде.
И тут Иоанн вводит сюжетную линию, которой нет в двух первых Евангелиях, у Луки же она упомянута вскользь. Еще до того, как начать рассказ о Тайной вечере, Лука упоминает, что, когда первосвященники и книжники рядили, как бы им умертвить Христа, «вошел же сатана в Иуду», обещавшего предать Христа в их руки. Иоанн рассказывает об этом подробнее. В отличие от остальных, он не упоминает, что Иуда и ранее строил козни с первосвященником. Если бы он уже не заключил свою низкую сделку, обвинение в предательстве озадачило бы его не меньше других, а то, что хлеб Христос, обмакнув, подал именно ему, – и тем более. Иоанн однозначно говорит о том, что Иуда – человек низкий, в предыдущей главе он обвиняет его в том, что тот ворует деньги из ящика, который ему доверили. Еще явственнее Иоанн предрекает предательство, когда описывает, как целым годом ранее Христос обратился к своим новоизбранным апостолам со словами: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол». Чтобы никто не усомнился в том, кто именно этот злодей, Иоанн поспешно добавляет: «Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати». Итак, Иоанн впрямую предрекает грядущие события, однако, описывая Тайную вечерю, не говорит ни слова о том, что Иуда вступил в сговор с врагами Иисуса.
Еще одно примечательное отличие рассказа Иоанна о Тайной вечере от описания событий в синоптических Евангелиях заключается в следующем: Иоанн не упоминает об учреждении обряда причастия. Зато в других частях его Евангелия речь о причастии заходит довольно часто. Так, рассказывая о пасхальной трапезе годом ранее, он напрямую говорит о том, что спастись можно, вкусив плоти и крови Христа. После чуда с насыщением пяти тысяч Христос обращается к благодарной толпе со словами: «Я есмь хлеб жизни» – и добавляет: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6: 48, 56). Это утверждение вызывает недоумение и ропот, даже ближайшие ученики Христа с трудом в состоянии это постичь: «Какие странные слова! кто может это слушать?» Более того, по словам Иоанна, «с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Среди таких отступников, судя по всему, был и Марк, чем объясняется его отсутствие на Тайной вечере годом позже.
По словам Иоанна, Христос не раздает «хлеб жизни» за Тайной вечерей. Он опускает один кусок в блюдо и протягивает его Иуде, а тот его съедает. То, что Иуда съедает кусок хлеба, полученный из рук Христа, превращает всю сцену в своего рода безбожный перевертыш причастия, потому что, как говорит Иоанн, «после сего куска вошел в него сатана». Затем Иисус обращается к Иуде без обиняков: «Что делаешь, делай скорее». Вновь следует замешательство. Это утверждение озадачивает остальных апостолов не менее, чем предшествовавшее, касающееся предательства, – некоторые из них ошибочно полагают, что Христос просто дал Иуде, хранителю общей кассы, поручение купить все необходимое к предстоящему пиршеству.
Но Иуда-то прекрасно знает, что именно имеет в виду Христос и что он, Иуда, должен сделать, – и скрывается в ночи. Он вернется несколькими часами и пятью главами позже, в сопровождении воинов, служителей первосвященников и фарисеев, «с фонарями и светильниками и оружием». Сцена подготовлена для следующего акта драмы.
* * *
Безусловно, Леонардо видел во Флоренции и ее окрестностях не одно изображение Тайной вечери. Уже свыше тысячи лет художники по всей Европе по-всякому воплощали этот библейский сюжет. Один из древнейших примеров, дошедших до наших дней, – это мозаика из церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, относящаяся к первой половине VI века; эта мозаика является частью цикла сцен из жизни Христа. По ходу последующих столетий Тайную вечерю изображали в иллюминированных рукописях, высекали из камня и слоновой кости, ткали на шпалерах, а в Шартрском соборе в середине XII века она предстала в виде изумительного витража.
В большинстве случаев авторы этих работ опирались на Евангелие от Иоанна, по крайней мере в том смысле, что изображали нежную сцену, на которую в синоптических Евангелиях нет даже намека: Иоанн возлежит у Христа на груди. Впрочем, допускалась немалая свобода творчества. Зачастую Тайная вечеря из библейского сюжета превращалась в сцены современных застолий. На византийских изображениях, вроде упомянутого из Равенны, часто представлен роскошный банкет, где аристократического вида сотрапезники возлежат на «сигме» – подковообразном ложе, опершись локтями на валики (именно так римляне и трапезовали: стулья в столовых появились позднее). «Тайная вечеря» из Наумбургского собора, вырезанная в камне около 1260 года, показывает нам другую оконечность социального спектра: там изображена группа неотесанных, прожорливых крестьян.
Неизвестный художник. Тайная вечеря. Мозаика Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне. Византийское влияние. VI в.
Изображения Тайной вечери становятся еще многочисленнее и занимают еще более видное место в итальянском искусстве XIV века, причем особенно часто их выполняют в новой технике – фреске. Ранее Тайная вечеря, как правило, изображалась в циклах «Страсти Христовы» или среди сцен, иллюстрирующих жизнь Христа, однако к середине четырнадцатого столетия она выпала из этого контекста и стала все чаще появляться в трапезных мужских и женских монастырей. Теперь братья или сестры садились за столы прямо под фреской, изображающей апостолов в иерусалимской горнице. Итак, Тайная вечеря стала характерным сюжетом для монастырских трапезных, хотя и не только для них.
Одно из лучших изображений Тайной вечери в трапезной появилось в середине XV века. Община монахинь-затворниц, сестер-бенедиктинок из монастыря Сант-Аполлония во Флоренции, заказала его Андреа дель Кастаньо, которого прозвали (за серию картин, изображавших казненных Медичи заговорщиков) Андреино дельи Импиккати, то есть Маленький Андреа Висельников. В монастырской трапезной он создал безупречную иллюзию трехмерного пространства, расширив площадь помещения за счет изображенной на фреске прямоугольной комнаты и дав монахиням возможность – на то время доступную уже многим – вкушать пищу в присутствии Христа и апостолов. В трактовке Кастаньо сцена выглядит мирной. Сонный Иоанн положил голову на руку Христа, а остальные апостолы заняты разговором или погружены в свои думы. Ученик, сидящий третьим слева, задумчиво смотрит в пространство, а второй справа даже раскрыл на столе книгу.
Вряд ли Леонардо довелось увидеть «Тайную вечерю» Кастаньо. Она находилась в обители затворниц, а значит, в течение четырех веков, до роспуска общины Сант-Аполлонии в 1860 году, мало кто мог видеть ее, кроме немногочисленных сестер (росписи повезло – она пережила конец XIX века, когда помещение использовалось как армейский склад). Однако Леонардо, безусловно, видел во Флоренции несколько других вариантов той же самой сцены, в том числе другую «Тайную вечерю» (утраченную), которую Кастаньо написал для госпиталя Санта-Мария Нуова. Доменико Гирландайо – «скорый работник», успевший за свою жизнь очень много, – в последние годы пребывания Леонардо во Флоренции создал две «Тайные вечери», одну в 1480 году для храма монахов-умилиатов, церкви Оньиссанти, а другую двумя годами позже в гостевой трапезной Сан-Марко. И на этих двух работах изображена мирная беседа, где два-три апостола погружены в свои мысли. У Гирландайо сильнее, чем у Кастаньо, выражено взаимодействие между фигурами, особенно на фреске из Оньиссанти, где некоторые, вслушиваясь, подались вперед, а Петр решительно сжимает нож. Как и многие другие, Гирландайо изобразил Иоанна возлежащим на груди у Христа – указание на то, что и он следовал тексту Евангелия от Иоанна.
У Кастаньо и Гирландайо, как и у прочих мастеров, имелись веские причины трактовать Тайную вечерю – которая, согласно Новому Завету, полна смущения и изумленной растерянности – как сцену самоуглубленного размышления. Монашеские обители были обителями молчания. Важность молчания подчеркнута в Сан-Марко, где братию и посетителей встречал Петр Веронский с прижатым к губам пальцем, изображенный на фреске Фра Анджелико. Тишину соблюдали в общих помещениях, в храме, в спальнях. Чтобы братия не расслаблялась, в каждом монастыре имелся особый уполномоченный, «циркатор», в обязанности которого входило подкрадываться к братьям «в неподходящие и неожиданные моменты», дабы проверить, не нарушают ли они правило.[138]
Сестры из обители Сант-Аполлонии жили в том же мире немногословного размышления, и трапезная, для которой написал свою фреску Кастаньо, задумывалась как место тишины. По правилу бенедиктинцев вкушать пищу в трапезной полагалось в молчании, звучать должен был лишь голос сестры, читавшей Священное Писание. «Во время трапез, – писал святой Бенедикт, – надлежит соблюдать полное молчание, не нарушаемое даже шепотом, и не должно звучать иных голосов, кроме голоса чтеца».[139] Апостола, читающего книгу (у которого, кстати, очень сердитое выражение лица), Кастаньо, возможно, изобразил в напоминание о той сестре, которая будет читать вслух остальным. Спокойная, созерцательная обстановка Тайной вечери показывала затворницам из монастыря Сант-Аполлония, как им должно вести себя не только в трапезной, но и во всей их затворнической жизни.
Доменико Гирландайо (1449–1494). Тайная вечеря. 1480. Фреска церкви Оньиссанти.
Написать Тайную вечерю всегда было непростой задачей, даже на обширном пространстве стены трапезной. Художнику нужно было рассадить за столом тринадцать фигур, проиллюстрировав либо тот момент, когда Христос учреждает обряд причастия, либо тот, когда Он объявляет, ко всеобщему смущению, что один из учеников Его предаст. Кастаньо и Гирландайо удалось создать удачные композиции, используя прихотливую игру жестов и выражений лиц, в которой воспроизводилась молчаливая, задумчивая атмосфера, царившая в трапезных.
Леонардо же в этих деликатных жестах и задумчивых лицах, скорее всего, виделась лишь бледная тень той полноты жизни, которую он всегда стремился передавать в своем искусстве. Кроме того, в этих произведениях отсутствовал драматический накал, характерный для библейских текстов. Ведь нельзя забывать, что момент это исключительно эмоциональный. Тринадцать человек садятся за стол, дабы справить важный праздник: харизматичный духовный лидер и группа Его последователей, тщательно отобранных и наделенных особыми дарованиями. Они собрались в центре оккупированного города, власти которого задумали их погубить и ждут подходящего момента. Притом среди них сидит, преломляя с ними хлеб, предатель.
Такую сцену не изобразишь с должной силой на шпалере или витраже, она не способствует спокойным, безмятежным размышлениям. Здесь нужно нечто совсем другое.
* * *
Не было, пожалуй, во всей истории другого художника, который рисовал бы столько, сколько рисовал Леонардо, – или испытывал бы столь же непреодолимое желание запечатлевать на бумаге все увиденное. В одном источнике описаны эти его непрерывные труды; там сказано, что, отправляясь на прогулку, Леонардо всегда засовывал за пояс блокнот и на его страницах запечатлевал «лица, повадки, одеяния и движения» встречных.[140] Пристальное наблюдение за людьми, занятыми повседневным трудом, а также точная и реалистичная передача их черт и поз на бумаге были важнейшими составляющими его искусства. В одной заметке он поучает будущих художников: «Старайся часто во время своих прогулок пешком смотреть и наблюдать места и позы людей во время разговора, во время спора, или смеха, или драки».[141]
Художник, рассматривающий и зарисовывающий сограждан на рынке или на площади, был тогда весьма необычным зрелищем. Как правило, натурщиков для своих произведений художники находили прямо в мастерских – попросту просили учеников принять необходимые позы. Случалось, что они заимствовали позы и выражения лица у скульптур, с уже написанных картин или из альбомов, где были собраны полезные подробности: как тело движется и выглядит в разных положениях. Леонардо же считал «крайне вредоносным» для живописца копировать лица и позы с работ другого автора.[142] А потому наброски он всегда делал за пределами мастерской, на вольном воздухе, где мог наблюдать, как движутся и взаимодействуют между собой реальные люди.
Леонардо много лет прожил во Флоренции, большом городе, где уличная суета постоянно дарила ему возможности наблюдать людей во всех их проявлениях. Один из его современников назвал Флоренцию «театром мира».[143] Флорентинцы часто сходились, чтобы пообщаться, на улицах и площадях, на мостах вроде Понте Веккио. Во время карнавала на улицах пели песни и разыгрывали сценки, а на площадях команды из двадцати семи человек играли в кальчо – примитивную и очень жесткую разновидность футбола. Флорентийский рынок гудел, как улей. Поэт Антонио Пуччи описывает его как отдельный мир, место, где толпились торговцы пряностями, мясники, ростовщики, старьевщики, игроки и нищие. Тут же были и торговки, «которые весь день бранятся… сквернословя / И обзывая шлюхами друг дружку».[144] На флорентийских улицах можно было встретить и настоящих проституток – по закону им полагалось носить длинные перчатки, обувь на высокой платформе, колокольчики на голове и желтую ленту.
Похоже, что из всего разнообразия флорентийской жизни Леонардо особо занимали так называемые sersaccenti delle pancacce (всезнайки на скамейках).[145] То были люди из самых разных слоев общества, которые сидели и сплетничали на многочисленных каменных скамьях, стоявших на флорентийских улицах, площадях, даже у основания кампанилы Джотто и у фасадов богатых дворцов. Одним из самых популярных мест была «рингиера», каменное возвышение, которое пристроили к палаццо Веккио в 1323 году, чтобы отцам города было откуда обращаться к населению. Беседы всезнаек, собиравшихся на скамейках, порой носили на диво ученый характер. Ученый и дипломат Джанноццо Манетти якобы выучил латынь, подслушивая мудреные разговоры, а собеседники, занимавшие скамьи перед фасадом палаццо Спини однажды обратились к Леонардо с просьбой растолковать им один отрывок из Данте. Однако по большей части беседы были не столь возвышенными. Песенка, появившаяся в 1433 году, начиналась так: «Кто хочет слышать басни и вранье, ступайте к тем, что на скамьях сидят вседневно». Другой автор сетовал, что завсегдатаи скамей суть вместилища «подозрений и зависти, враги всяческого добра».[146]
Леонардо привлекали художественные возможности, которые открывали перед ним флорентийские сплетники-всезнайки. Видимо, он ходил по улицам с блокнотом в руке, подмечая жесты и выражения этих «людей во время разговора, во время спора, или смеха, или драки». Его завораживали человеческие взаимоотношения: например, когда один говорит, а другие слушают – это он мог наблюдать всякий раз, когда на «рингиере» произносили речи или делали оповещения. В одной из его заметок говорится о том, как правильно изобразить человека, обращающегося к группе: «Делай так, чтобы говорящий держал двумя пальцами правой руки один палец левой, загнув предварительно два меньших; лицо должно быть решительно обращено к народу; рот должен быть приоткрыт, чтобы казалось, что человек говорит». Внимающий же ему народ следует изображать «молчащим и внимательным, все должны смотреть оратору в лицо с жестами удивления», а стариков следует представлять сидящими «с переплетенными пальцами рук, держа в них усталое колено» или с перекрещенными ногами и с подбородком, подпертым ладонями.[147]
Говорящих и слушающих Леонардо запечатлел на многих своих рисунках. Примерно в 1480 году – как раз тогда он начал работу над «Поклонением волхвов» – он сделал небольшой набросок трех фигур на скамье. Крайне интересны их позы. Сидящий в центре, созерцатель, подпер подбородок правой рукой, поставив правый локоть на левую ладонь, а две боковые фигуры склонились к нему, как будто с сочувствием; тот, что сидит справа, утешает огорченного друга, обвив его рукой.[148] За этим рисунком последовали другие похожие – Леонардо сделал целую серию набросков людей, увлеченных разговором, сидящих в естественных, непринужденных позах. Возможно, некоторые были подготовительными материалами к «Поклонению волхвов», поскольку все относятся к началу 1480-х годов. Леонардо явно планировал наполнить это произведение движением. На незавершенной картине показана череда энергично движущихся фигур, образовавших тесный полукруг за спиной Мадонны с Младенцем: преклоняя колени, толкаясь, протискиваясь и жестикулируя, они пытаются лучше разглядеть происходящее.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Мужчины, беседующие на улице Флоренции. Бумага, перо, чернила. Набросок.
Делая очередной эскиз, Леонардо придумал совсем любопытную сцену. На обороте одной из зарисовок для «Поклонения волхвов» он набросал несколько групп – в основном эти люди сидят и либо слушают, либо что-то говорят остальным. Хотя некоторые фигуры, возможно, предполагалось использовать для «Поклонения волхвов», воображение увело Леонардо в сторону. В нижнем правом углу листа он торопливо набросал пять фигур, сидящих на скамье. Тот, что в середине, о чем-то жарко повествует, ухватив за руку одного слушателя и наставив палец на другого. Кто-то сосредоточенно внимает, кто-то пытается перебить, а тот, что сидит слева, погружен в себя и словно вовсе не замечает оратора.
Такую сцену Леонардо запросто мог подсмотреть на одной из флорентийских скамей. Однако, пока он зарисовывал этих людей, увлеченных беседой, в голову ему явно пришла еще одна мысль. В нижнем левом углу страницы набросана одинокая фигура бородача, сидящего за столом, – он написан в том же масштабе, что и люди на скамье. Обернувшись влево, он указывает на стоящую перед ним тарелку (или тянется к ней). В этой фигуре сразу можно узнать Христа, а тарелка, вне всякого сомнения, это блюдо, которое уже изображали бесчисленные живописцы и в которое Христос собирается обмакнуть хлеб, чтобы подать его Иуде, указав таким образом на предателя. Увлеченные разговором мужчины на скамье явно напомнили Леонардо апостолов во время Тайной вечери.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Наброски фигур для картины «Поклонение волхвов». Бумага, перо, чернила.
Итак, уже в начале 1480-х годов Леонардо начал прикидывать – ограничившись, правда, несколькими ловкими взмахами пера, – как можно изобразить Христа и Его учеников за столом в тот момент, когда Спаситель возвещает о грядущем предательстве. Интерес Леонардо к жарким беседам означает, что сюжет этот был ему внутренне близок, а живость, которую он сообщал движениям и выражениям лиц, наводит на мысль, что он хотел превзойти своих коллег, авторов других флорентийских «Тайных вечерей».
У нас нет никаких свидетельств того, что в начале 1480-х годов Леонардо получил во Флоренции заказ на создание «Тайной вечери». Эти наброски были лишь мимолетными движениями мысли, которые тут же забывались. Пройдет еще десять с лишним лет, прежде чем ему представится возможность превратить своих говорунов на скамьях в нечто новаторское и доселе невиданное.
* * *
Одно указание на то, что Леонардо стал обдумывать композицию «Тайной вечери» для церкви Санта-Мария делле Грацие, мы находим на страницах его записной книжки, относящейся к началу 1490-х. Он был чуть ли не единственным художником того времени, который осмыслял свои будущие картины (или картины, которые надеялся написать) не только через эскизы, но и через подробнейшие описания того, как может или должна выглядеть та или иная сцена. Он часто описывал бурные сцены – битвы, штормы, наводнения и пожары, – описания эти выходят за пределы наставлений будущим художникам, превращаясь в зловещие видения беспомощности человека перед лицом стихий и буйства природы. Однако главной его заботой всегда был реализм в трактовке человеческих фигур, основанный на непосредственном наблюдении жестов и лиц.
Например, в батальную сцену он советовал включить летающие по воздуху стрелы и ядра, а также бойцов, которые «в предсмертной агонии» закатывают глаза и скрежещут зубами; призывая к максимальному правдоподобию, он наставляет, как именно писать ноздри побежденных.[149] Рассуждение о том, как надлежит изображать потоп, напоминает сценарий фильма ужасов: горы обрушиваются в долины, вода, пенясь, мчится по полям, неся с собой разбитые лодки и кровати, а люди в страхе теснятся на вершинах холмов и борются с животными (даже со львами) за клочок сухой земли. По мнению Леонардо, многие будут кончать с собой, дабы спастись от гнева волн: «Одни из них бросались с высоких скал, другие сжимали горло собственными руками, иные брали собственных детей и с великой быстротой убивали их всех, иные собственным оружием наносили себе раны и убивали самих себя».[150]
В записной книжке Леонардо также содержатся подробные наставления касательно того, как придать сцене вроде Тайной вечери правдоподобность. На одной странице дан последовательный отчет о реакции отдельных слушателей на речь говорящего за обеденным столом (не указано, что это Иисус). На этой странице нет иллюстраций, по которым можно было бы точно определить, что речь идет о Тайной вечере, при этом описаны жесты одиннадцати, а не двенадцати сотрапезников. Тем не менее контекст совершенно прозрачен:
Один, который испил, оставляет чашу на своем месте и поворачивает голову к говорящему. Другой сплетает пальцы своих рук и с застывшими бровями оборачивается к товарищу; другой, с раскрытыми руками, показывает ладони их, и поднимает плечи к ушам, и открывает рот от удивления. Еще один говорит на ухо другому, и тот, который его слушает, поворачивается к нему, держа нож в одной руке и в другой – хлеб, наполовину разрезанный этим ножом. Другой, при повороте, держа нож в руке, опрокидывает этой рукою чашу на столе. Один положил руки на стол и смотрит, другой дует на кусок, один наклоняется, чтобы видеть говорящего, и заслоняет рукою глаза от света, другой отклоняется назад от того, кто нагнулся, и между стеною и нагнувшимся видит говорящего.[151]
Искусство художника состояло для Леонардо в умении улавливать мелкие красноречивые детали – вроде тех, которые он, согласно преданию, заносил в книжечку, спрятанную за поясом, – особенно выражения лиц и движения тел. В трактате о живописи он утверждает, что художник должен «писать две главные вещи: человека и представление его души. Первое – легко, второе – трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движениями членов тела».[152] По этому отрывку видно, как естественно он перенес свои наблюдения в контекст Тайной вечери. Отдельные реакции сотрапезников он обозначил как через их действия (поднятая или перевернутая чаша, нож в руке, откинутый назад или поданный вперед корпус), так и через выражения лиц (нахмуренные брови, заслоненные глаза, bocca della maraviglia, или «рот удивления»). Он заставил мгновение застыть во времени, чтобы зритель как бы поймал персонажей на полужесте, где хлеб – «наполовину разрезанный», а чаша поднята к губам. По его плану, картина должна была воздействовать на зрителя за счет широкого диапазона движений и выражений лиц, охватывающих целую гамму чувств, таких как гнев, изумление и растерянность, – и все они должны были быть сообщены зрителю при помощи языка жестов.
Эта застольная сцена не задумывалась как торжественная, исполненная созерцательности картина, вроде той фрески, которую Кастаньо написал для сестер из монастыря Сант-Аполлония. Вместо этого она должна была вобрать в себя тревожную и трагическую интонацию строк из Евангелия, которые повествуют о Тайной вечере.
Глава 5 Окружение Леонардо
Вскоре по получении заказа на роспись стены в трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие Леонардо, по всей видимости, приступил к предварительной работе в мастерской: он стал делать первые наброски. Его мастерская, в которой по-прежнему громоздилась глиняная модель гигантского коня, была, как и подобает мастерской «живописца и инженера герцога», весьма роскошна. В своих заметках Леонардо советует художникам предпочесть небольшую мастерскую слишком просторной: «Маленькие комнаты или жилища собирают ум, а большие его рассеивают».[153] Впрочем, поступки Леонардо не всегда совпадали с его наставлениями. У него вместо маленькой мастерской было просторное помещение в настоящем замке.
Мастерская и жилище Леонардо располагались в Корте дель Аренго, который иногда называли Корте Веккиа, или «старым двором». Раньше тут жили правители Милана из рода Висконти, но ближе к концу XIV века они перебрались на другой конец города, в свою новую неприступную крепость Кастелло ди Порта Джовиа. Корте дель Аренго находился в самом центре Милана, чуть к югу от недостроенного собора, и выходил воротами на площадь перед ним. Это был средневековый замок с башенками, внутренними дворами и рвами. После отъезда Висконти он пришел в упадок, однако в 1450-е годы архитектор Филарете, по собственному хвастливому заявлению, «вернул ему здравие, без каковой починки он бы уже скоро испустил последний вздох».[154] По завершении реконструкции Франческо Сфорца перенес свой двор в обновленный дворец, и по его указу стены были расписаны фресками – портретами героев и героинь древности. После смерти Франческо в 1466 году замок перешел к его сыну Галеаццо Марии, который устраивал здесь роскошные пиры и турниры, однако позднее, по примеру Висконти, перенес свой двор в Кастелло ди Порта Джовиа. Лодовико тоже предпочитал надежную крепость Кастелло (впоследствии этот замок получит название Кастелло Сфорцеско). Корте дель Аренго оказался как бы лишним, и Леонардо, которому нужно было пространство для работы над конной статуей, был водворен сюда в конце 1480-х или в начале 1490-х годов. «La mia fabrica», называл он это место: моя фабрика.[155] Здесь – возможно, в одном из внутренних дворов или прямо в большом зале – он и построил свою восьмиметровую глиняную модель.
Корте отличался роскошью и удобством. При этом место, по всей видимости, было мрачное, по коридорам блуждали призраки безумных, бессчастных представителей клана Висконти, например Лукино, которого в 1349 году отравила его третья жена, или Бернабо, которого в 1385-м отравил племянник, или даже жены Франческо Бьянки Марии, которую (по слухам) Галеаццо Мария отравил в 1468-м. Гнетущую атмосферу усугубляло еще и то, что в Корте подолгу жил отстраненный от власти Джангалеаццо и его озлобленная, исстрадавшаяся жена Изабелла. Брак был однозначно несчастливый. «Тут никаких новостей, – писал один миланский придворный посланнику в Мантуе в 1492 году, – помимо того, что герцог Миланский избил жену».[156]
Леонардо наверняка привнес в мрачные стены Корте дель Аренго жизнерадостный дух. Когда речь не идет о достоинствах маленькой мастерской, в его записях постоянно звучит мысль о том, что место работы художника должно свидетельствовать о тонком вкусе. В его заметках к незавершенному трактату о живописи описан «изысканно одетый» художник – возможно, идеализированный образ его самого, – который наряжается «так, как это ему нравится», когда предается своему искусству. «И жилище его полно чарующими картинами и чисто. И часто его сопровождает музыка или чтецы различных прекрасных произведений, которые слушаются с большим удовольствием».[157] Леонардо, любивший книги и музыку, возможно, держал в мастерской чтецов и музыкантов, а порой, вероятно, и сам играл на лире и пел. Вазари утверждает, что, работая над «Моной Лизой», Леонардо «держал при ней певцов, музыкантов и постоянно шутов», откуда, по его мнению, и взялась ее знаменитая улыбка: она довольна и развлекается.[158]
Давая советы начинающим живописцам, Леонардо не раз подчеркивал, как полезно жить в одиночестве. Живописец или рисовальщик, утверждал он, должен часто оставаться один: «И если ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе. И если ты будешь в обществе одного-единственного товарища, то ты будешь принадлежать себе наполовину».[159] Впрочем, в своем жилище в Корте дель Аренго Леонардо редко оставался в одиночестве, поскольку с ним жили и работали помощники, так же как когда-то и он с другими учениками жил и работал у Верроккьо. В одной из его заметок сказано, что он должен кормить шесть ртов; эту цифру подтверждают и другие его заметки, в которых подробно зафиксированы появление в доме и уход всевозможных помощников.[160] Чтобы изваять конную бронзовую статую, Леонардо наверняка требовалась многочисленная команда.
В обмен на обучение и содержание его подмастерья вносили ежемесячную плату и выполняли разные работы по дому. В этот период был среди них некий «маэстро Томмазо», который в ноябре 1493 года изготовил для Леонардо подсвечники и заплатил за девять месяцев.[161] Этим Томмазо, возможно, был флорентинец по прозвищу Зороастро, сын садовника Джованни Мазини. Впрочем, сам эксцентричный Томмазо заявлял, что он внебрачный сын Бернардо Ручеллаи, одного из первых флорентийских богачей, зятя Лоренцо Медичи. Томмазо познакомился с Леонардо во Флоренции и, судя по всему, последовал за ним в Милан. Он слегка увлекался оккультными науками, что и снискало ему прозвище Зороастро, а украшенный орехами костюм (возможно, созданный для одного из театральных спектаклей Леонардо) побудил дать ему менее лестное прозвище Галлоццоло (Чернильный Орех). Кроме того, Томмазо занимался гаданием, отсюда еще одно его прозвище, Индовино (Гадальщик). Сам Леонардо относился к алхимикам и некромантам с величайшим презрением, называя их «ложными толкователями природы», у которых одна цель – обман. Вряд мастер одобрял занятия Зороастро, потому бдительно следил, чтобы тот не оставался без дела: ему было поручено изготавливать подсвечники, растирать краски и вести домашнюю приходно-расходную книгу.[162]
В другой заметке Леонардо сказано, что в марте 1493 года «поселился у меня Джулио, немец».[163] После Джулио он перечисляет еще три имени: Лючия, Пьеро и Леонардо. Видимо, это тоже были его помощники, причем Лючия, по всей видимости, исполняла обязанности экономки и кухарки. В конце того же года немец Джулио все еще жил в доме у Леонардо, изготовил щипцы для угля, рычаг для мастера и вносил помесячную плату. Несколькими месяцами позже появился подмастерье по имени Галеаццо, он платил по пять лир в месяц.[164] Отец Галеаццо, по всей видимости, вел какие-то дела в Голландии или Германии, поскольку плату за сына вносил рейнскими флоринами (которые стоили несколько дешевле флорентийских). Пять лир в месяц было немалой суммой во времена, когда лир за десять можно было снять во Флоренции домик на целый год.[165] Разумеется, отец Галеаццо платил не просто за проживание сына: он платил за обучение у одного из величайших художников в Италии. Впрочем, даже Леонардо, со всем своим авторитетом, не мог заставить учеников сосредоточиться на деле, иногда приходилось силой поднимать юношей с постелей и усаживать за работу. Один из учеников написал в записной книжке (так дети пишут на классной доске): «Мастер сказал, что, лежа под одеялом, не достигнешь Славы».[166]
В доме у Леонардо, правда не очень долго, проживала еще одна персона. Запись этого периода гласит: «Катерина приехала 16 июля 1493».[167] Некоторые биографы трактуют эту лаконичную запись как сообщение о визите матери Леонардо, которая на старости лет добралась до Милана (в 1493 году ей должно было исполниться пятьдесят семь), дабы знаменитый сын поселил ее у себя и окружил заботой. Трактовка, понятное дело, соблазнительная: разлученная с сыном во младенчестве и выданная за Забияку, бывшая рабыня (нельзя исключить, что именно таково было ее положение) наконец обретает покой в объятиях снискавшего славу сына. Вот только в другой заметке Леонардо, сделанной через полгода, значится, что Катерине выплачено десять сольдо, что говорит о том, что она все-таки была служанкой или, как минимум, выполняла некие поручения за определенную плату.[168]
В любом случае в доме у Леонардо она прожила недолго, так как через несколько месяцев умерла. Он с полнейшим хладнокровием перечисляет по пунктам все расходы, связанные с ее похоронами: носильщики, восемь клириков, врач и несколько могильщиков, – за все это Леонардо заплатил из собственного кошелька. Кроме того, он оплатил свечи, полог на погребальные носилки, факелы для похоронной процессии и два сольдо церковному звонарю.[169] Похороны для того времени были весьма скромные, ведь в некоторых областях Италии моралисты и чиновники вынуждены были всячески обуздывать «разорительнейший и бессмысленный обряд».[170] Разорительными похороны стали по одной простой причине: по их размаху судили о положении и достоинстве семьи. Один флорентинец из поколения Леонардо после похорон отца с гордостью отметил, что устроил «публичное празднество, достойное нашего высокого положения».[171]
Скромные похороны Катерины никак не соотносились с рангом матери художника и инженера Лодовико Сфорца. Тем не менее сам факт, что Леонардо потратился на похороны женщины, проработавшей у него меньше года, свидетельствует о том, что либо у нее не было родни, либо (позволим себе толику сентиментальности!) она действительно была его матерью.
* * *
Еще один важный совет, который Леонардо хотел озвучить в задуманном им трактате о живописи, заключался в том, что молодым художникам необходимо хорошее общество. Он настаивал: художники должны избегать «болтовни» и держаться подальше от «плохих товарищей».[172] При этом у самого Леонардо имелся по всем статьям плохой товарищ: юноша по имени Джакомо.
В Италии эпохи Возрождения эксплуатация детей была делом обычным: почти все мальчики отправлялись работать по достижении десяти лет, а то и раньше.[173] Художники, наряду с другими ремесленниками – плотниками, каменщиками, часто нанимали мальчика на посылки (fattorino), который выполнял мелкую работу по дому и в мастерской, получая взамен кров и пищу. Некоторые из них – пример тому Пьетро Перуджино, который в детстве служил «фатторино» у одного из художников в Перудже, – впоследствии и сами становились живописцами.
Такой «фатторино» появился в мастерской у Леонардо летом 1490 года. «Джакомо поселился у меня в День святой Марии Магдалины в 1490 году в возрасте десяти лет», – сообщает художник. Полное имя Джакомо было Джанджакомо Капротти да Орено, однако за безобразное поведение он скоро получил прозвище: Леонардо стал называть его Салаи, что на тосканском диалекте означает «демон» или «бес». Новичок очень скоро во всей полноте проявил свои таланты. «На второй день я велел скроить для него две рубашки, – пишет Леонардо в длинном, полном жалоб письме отцу мальчика, – пару штанов и куртку, а когда я отложил в сторону деньги, чтобы заплатить за эти вещи, он эти деньги украл у меня из кошелька, и так и не удалось заставить его признаться, хотя я имел в том твердую уверенность». На этом его прегрешения не закончились. На следующий день Леонардо пошел поужинать с другом, известным архитектором, и Джакомо, тоже приглашенный к столу, произвел сильное впечатление: «И этот Джакомо поужинал за двух и набедокурил за четырех, ибо он разбил три графина, разлил вино». Свой гнев на мальчика Леонардо изливает на полях письма: «Lardo, bugiagdo, ostinato, ghiotto» – вор, лгун, упрямец, обжора.[174]
Дальше – больше. Несколько недель спустя один из подмастерьев Леонардо, Марко, обнаружил пропажу серебряного штифта для рисования и нескольких серебряных монет. Он устроил обыск и обнаружил деньги «спрятанными в сундуке этого Джакомо». Не он один пострадал от ловких пальцев Джакомо. Несколько месяцев спустя, в начале 1491 года, Леонардо делал эскизы костюмов «дикарей» для турнира по случаю свадьбы Лодовико Сфорца. Джакомо сопровождал Леонардо на примерку и не упустил случая, представившегося ему, когда участники разделись, дабы примерить костюмы: «Джакомо подобрался к кошельку одного из них, лежавшему на кровати со всякой другой одеждой, и вытащил те деньги, которые в нем нашел». Вскоре пропал еще один серебряный штифт.[175]
Как Джакомо распоряжался незаконно полученным добром? Как любой десятилетний мальчик, прежде всего он отправлялся в лавку сладостей. Это мы знаем из удрученного рассказа об обстоятельствах исчезновения турецкой кожи, за которую Леонардо заплатил две лиры и из которой рассчитывал сделать себе пару башмаков. «Джакомо через месяц у меня ее украл и продал сапожнику за 20 сольдо, из каковых денег, как он сам мне в том признался, купил анису, конфет».[176]
Так и ждешь, что это печальное повествование закончится словами о том, как Леонардо указал Джакомо на дверь. Ничего подобного. Большинство его учеников то появлялись в мастерской, то исчезали, Джакомо же прожил у Леонардо много лет. И это далеко не обязательно означает, что со временем он исправился. По всей видимости, он так и остался человеком хитрым, вздорным и капризным. На страницах одной из записных книжек значится – правда, похоже, не рукой Леонардо: «Салаи, я хочу с тобой мира, не войны. Не будем больше воевать, ибо я сдаюсь».[177] Если слова эти написал не сам Леонардо, уставший от постоянной борьбы, то, видимо, один из его учеников. Судя по тону – и о том же свидетельствует нахальная кража штифта у Марко, – Джакомо был причиной постоянных трений среди других учеников.
Джакомо не просто разрешили остаться в мастерской; судя по всему, Леонардо относился к наглому «фатторино» как к любимчику. С самого начала он засыпал его подарками, следил, чтобы он хорошо и красиво одевался, не хуже, чем его наставник. Только за первый год пребывания Джакомо в мастерской гардероб его обошелся Леонардо в 26 лир 13 сольдо, что равнялось годичному жалованью среднего слуги.[178] Среди приобретенных предметов значатся (на удивление!) двадцать четыре пары обуви, четыре пары штанов, шапка, шесть рубашек и три куртки.[179] Недатированные записи более позднего периода рассказывают о том, что Леонардо купил Джакомо цепочку, а также дал денег на покупку меча и на то, чтобы узнать свою судьбу у гадалки.[180] «Заплатил Салаи 3 золотых дуката, – написано в другом месте, – он сказал, что они нужны ему на розовые чулки с узором». Судя по всему, Джакомо, как и его наставнику, нравились розовые чулки. Неделю или две спустя были сделаны новые покупки: «Дал Салаи 21 локоть полотна на рубашку, по 10 сольдо за локоть».[181] Выходит, что один только материал обошелся в 210 сольдо, то есть больше чем в 10 лир, – половина годичного жалованья слуги.
Ответ на вопрос, почему этого нечистого на руку пройдоху не выгнали из Корте дель Аренго, достаточно прост. Леонардо испытывал сильное физическое влечение к Джакомо, его завораживала внешность мальчика, особенно его кудри. По словам Вазари, Салаи был «очень привлекателен своей прелестью и своей красотой, имея прекрасные курчавые волосы, которые вились колечками и очень нравились Леонардо».[182] По всей видимости, Леонардо использовал Салаи в качестве натурщика. Точно атрибутированного его портрета не существует, однако искусствоведы дали выразительному лицу, часто возникающему среди набросков Леонардо, – красивый юноша с греческим носом, густыми кудрями и дивными пухлыми губами – название «профиль типа Салаи».[183]
Похоже, что современники Леонардо мало интересовались его отношениями с Салаи. Однако спустя несколько десятилетий после его смерти, в 1560 году, художник по имени Джанпаоло Ломаццо, который, потеряв зрение, стал писателем, сочинил (но не опубликовал) трактат под названием «Gli sogni e ragionamenti» («Сны и доводы»). Это воображаемый диалог между Леонардо и греческим скульптором Фидием. Ломаццо родился в 1538 году, почти двадцать лет спустя после смерти Леонардо, и не мог знать об отношениях Леонардо и Салаи ничего, кроме сплетен и домыслов (правда, он утверждает, что расспрашивал бывших слуг Леонардо).
В этом диалоге Фидий заставляет Леонардо открыть душу и признаться, что он любил Салаи «сильнее всех на свете». Это откровение заставляет Фидия осведомиться, была ли эта любовь плотской. «Не случалось ли тебе играть с ним в игры сзади, столь любимые флорентинцами?» Леонардо с готовностью подтверждает, что случалось: «И сколь часто! Но прими во внимание, что он был необычайно хорош собой, особенно в возрасте пятнадцати лет».[184] То есть, если верить Ломаццо, страсть Леонардо к обворожительному Салаи достигла апогея примерно тогда, когда он начал работать над «Тайной вечерей» для Санта-Марии делле Грацие.
В пятнадцатом столетии гомосексуализм был во Флоренции столь обычным делом, что слово «содомит» в немецком звучало как «флоренцер». К 1415 году отцы города до такой степени обеспокоились любовными склонностями флорентийской молодежи, что «в стремлении обороть большее зло меньшим» дали разрешение на открытие двух новых публичных борделей в дополнение к одному, который был уже учрежден с той же целью лет на десять ранее.[185] Когда эта мера не принесла желаемых результатов, все с тем же «желанием истребить порок Содома и Гоморры, столь противный природе», отцы города предприняли еще один шаг.[186] В 1432 году был создан особый комитет, Ufficiali di notte e conservatori dei monasteri, сиречь Чиновники ночи и хранители морали в монастырях, в обязанности которого входило выслеживать и наказывать содомитов. За семь последовавших десятилетий эти ночные патрули выловили свыше десяти тысяч нарушителей. Официальным наказанием для содомитов было сожжение на костре, однако большинству удавалось отделаться штрафом. «Рецидивистов» иногда сажали в gogna, в колодки, у внешней стены местной тюрьмы.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Две головы в профиль. Фрагмент: профиль «типа Салаи». Ок. 1500. Бумага, сангина.
В 1476 году в руки «ночной стражи» попался и Леонардо. Отцы города учредили специальные ящики, известные как tamburi (барабаны) или buchi della verità (отверстия истины), которые стояли в нескольких точках Флоренции – например, на стене палаццо Веккио. В эти ящики горожане могли опускать анонимные обвинения во всевозможных проступках. Среди тех, кто непосредственно пострадал от этой системы доносов, были золотых дел мастер Лоренцо Гиберти (обвиненный в 1443 году в незаконнорожденности), Филиппо Липпи (обвиненный в 1461 году в том, что прижил ребенка с монахиней) и Никколо Макиавелли (обвиненный в 1510 году в содомитском грехе с проституткой по имени Ла Ричча). В апреле 1476 года в одно из этих «отверстий истины» попало и имя Леонардо. Вместе с тремя другими молодыми людьми он был обвинен в плотской связи с семнадцатилетним юношей по имени Якопо Сальтарелли. В доносе пояснялось, что Сальтарелли «замешан во множестве предосудительных деяний и готов удовлетворять всякого, кто попросит его о подобных непотребных услугах». Анонимный обвинитель включил в свой список четверых, что «совершали содомский грех с упомянутым Якопо», среди них было и имя «Леонардо ди сер Пьеро да Винчи, что проживает у Андреа де [sic!] Верроккьо».[187]
То же обвинение прозвучало вновь два месяца спустя, на сей раз на изысканной латыни, но Леонардо так и не был осужден, поскольку аноним в суд не явился и ни один свидетель не подтвердил его слова. В итоге обвинение отозвали, дело закрыли. Биографы и искусствоведы, в большинстве своем, склонны выносить обвинительный приговор. Семейный тандем авторов широко известного учебника утверждает, что обвинения «почти наверняка справедливы», после чего добавляет, непонятно на каком основании, что именно гомосексуализмом Леонардо объясняется «его привычка бросать работу на полдороге».[188] Насчет склонности к проволочкам – вопрос особый, однако с одним не поспоришь: по понятиям более поздних веков Леонардо, вне всякого сомнения, был гомосексуалистом. Фрейд, безусловно, был прав, когда утверждал, что Леонардо вряд ли хоть раз в жизни держал в любовных объятиях женщину.[189] Два года спустя после истории с Сальтарелли Леонардо сделал в записной книжке почти нечитаемую запись: «Фиораванте ди Доменико из Флоренции – мой любимейший друг, как если бы он был моим…»[190] Редактор, готовивший в XIX веке произведения Леонардо к печати, целомудренно подставил вместо многоточия «брат», однако отношения молодых людей могли быть куда более близкими.
Через год или два после истории с Сальтарелли Леонардо, похоже, оказался замешан еще в одном скандале. В письме к Лоренцо Медичи, написанном в начале 1479 года, правитель Болоньи Джованни Бентивольо упоминает о молодом художнике-подмастерье, которого недавно изгнали из Флоренции и заключили в Болонье в тюрьму по причине «злокозненного образа жизни». Подробности злодеяний этого юноши не обозначены, лишь сказано, что он попал, по словам Бентивольо, в «mala conversatione» – дурное общество. Возможно, он мало чем отличался от многочисленных бесшабашных юнцов, которые, как сетовал один флорентинец, «третируют трактирщиков, крушат статуи святых, бьют горшки и тарелки».[191] Примечательно другое: Бентивольо называет его по имени – Паоло ди Леонардо ди Винчи да Фиоренца. Подобное обращение, с использованием отчества «ди Леонардо ди Винчи», по идее, наводит на мысль, что Паоло мог быть сыном Леонардо. Это, впрочем, невозможно, потому что, если Паоло в начале 1479 года было, скажем, шестнадцать лет – а уж моложе вроде бы некуда, – простой подсчет показывает, что Леонардо стал отцом в одиннадцать. Если же Паоло было больше шестнадцати, выходит, что Леонардо был и вовсе из молодых, да ранних.[192]
Гораздо правдоподобнее выглядит другая трактовка: Паоло был учеником и подмастерьем Леонардо – тот к этому моменту уже закончил свой долгий период ученичества у Верроккьо. Ученики часто брали себе фамилию учителя (или к ним так обращались). Сам Верроккьо служит тому примером: при рождении его нарекли Андреа Микеле ди Чьони, но он отказался от отцовской фамилии и стал использовать фамилию своих учителей, ювелиров Франческо и Джулиано Верроккьо. Сложнее сказать, принимал ли Леонардо какое-то участие в «злокозненном образе жизни» Паоло и включал ли этот образ жизни «порок Содома и Гоморры». Изгнание в Болонью не было тогда обычным наказанием для содомитов, хотя назидательный тон письма свидетельствует о том, что среди проступков Паоло были и плотские грехи. В любом случае, в чем бы ни состояли прегрешения Паоло, они, безусловно, подпортили репутацию его учителя, и, возможно, именно об этом юном безобразнике Леонардо и думал, когда давал молодым живописцам совет избегать «плохих товарищей».
* * *
В конце 1494 года в Корте дель Аренго, видимо, кипела работа – оставив попытки изваять гигантского коня, Леонардо переключился на фреску для церкви Санта-Мария делле Грацие. Перед тем как приступить к созданию панно или настенной росписи, художник должен был сделать десятки, а то и сотни набросков. Среди них были и «primi pensieri», то есть «первые мысли» в поисках нужного решения, и полномасштабные эскизы, которые служили образцами для окончательного варианта. Соответственно, создание фрески требовало масштабной, усердной работы с бумагой, пером и чернилами – с их помощью Леонардо прорабатывал детали композиции, прежде чем перейти к их воплощению на штукатурке.
Леонардо был неподражаемым рисовальщиком. Один взгляд на его подростковые наброски убедил Верроккьо взять Леонардо в ученики. Век спустя Джорджо Вазари изумлялся его мастерству: «Рисовал он и на бумаге столь тщательно и так хорошо, что нет никого, кому в этих тонкостях когда-либо удалось с ним сравняться».[193] Во времена, когда графические работы считались исключительно подготовительными, Леонардо явно гордился своими набросками. В 1480-е годы, возможно вскоре после приезда в Милан, он составил список принадлежавших ему рисунков. Получилась разномастная подборка, в которую входили «голова герцога» (по всей видимости, Лодовико), три Мадонны, многочисленные изображения святого Себастьяна и святого Иеронима, композиции с изображением ангелов, женские портреты с уложенными в прически косами, мужчины «с прекрасными ниспадающими волосами» и голова молодой цыганки.[194]
Согласно одному из источников, наброски в книжечке, носимой за поясом, Леонардо делал при помощи стилоса.[195] Стилос – это инструмент с металлическим наконечником, которым рисовальщики широко пользовались до изобретения карандаша (графит был открыт только в 1504 году, а карандаши в деревянном корпусе появились во второй половине XVII века). Для рисования стилосом использовалась бумага, покрытая специальным грунтом, в состав которого, в числе прочего, входила толченая кость. Один рецепт XV века рекомендует сжигать объедки со стола – например, куриные крылышки, а потом тонким слоем рассыпать пепел по бумаге или пергаменту и смахивать излишки заячьей лапкой.[196] Подготовив таким образом бумагу, художник наносил на нее изображение с помощью стилоса – его, как правило, изготавливали из серебра и остро затачивали; стилос оставлял частицы серебра на поверхности, они быстро окислялись, оставляя серебристо-серый след.
Впрочем, Леонардо пользовался и другими техниками: рисовал мелком, пером и чернилами, свинцовыми белилами, углем. Кроме того, – что для него характерно – он много экспериментировал. Советовал смачивать кончик стилоса слюной; из заметок видно, что бумагу он грунтовал толчеными чернильными орехами, сажей и растением гулявник.[197]
То, как Леонардо развивал свои идеи через длинные серии набросков, хорошо видно по «Поклонению волхвов», для которого он в начале 1480 года сделал множество зарисовок, как отдельных фигур, так и групп. Многие из них выполнены стилосом, однако в технике, которую во флорентийских мастерских тогда использовали редко: с доводками пером (гусиным, обмакнутым в чернила).[198] Делая быстрые наброски на маленьких листочках, Леонардо создавал целые серии вариантов, прорабатывал позы Иосифа, Марии, младенца Христа и волхвов. Возможно, у него были натурщики (его ученики), которые принимали указанные положения прямо в мастерской, но не исключено, что он по ходу дела набрасывал портреты самых выразительных завсегдатаев флорентийских скамей. Фигуры на этих набросках молитвенно складывают руки, стоят на коленях на земле, склоняют головы, заслоняют ладонью глаза, перекрещивают запястья или голени, сгибаются пополам. Леонардо однажды написал, что существует «18 человеческих действий», к которым относятся бег, отдых, положения стоя, сидя, на коленях, лежа, а также человек «несущий или несомый», – судя по всему, в «Поклонение» он собирался включить все восемнадцать.[199]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Перспективный эскиз заднего плана для картины «Поклонение волхвов». Бумага, перо, чернила.
Лучшим из подготовительных материалов к «Поклонению» стал изумительный набросок стилосом, который Леонардо доработал пером, а местами – чтобы добиться большего изящества – еще и размыл чернила. Набросок выполнен на листке шестнадцать сантиметров в высоту и чуть меньше двадцати – в ширину, но на нем вифлеемские ясли представлены как весь наш полный суеты мир. Святого семейства и волхвов не видно. Вместо этого Леонардо увлекся прорисовкой суетливой толпы: призрачные фигуры карабкаются по лестницам, свешиваются с арок, кони взбрыкивают и встают на дыбы, есть даже сидящий верблюд, наблюдающий все это действо. Непоседливые фигуры помещены в перспективную сетку, линии которой рвутся вперед от смещенной фокальной точки на носу одного из вздыбленных коней.
Взявшись за работу над фреской, Леонардо действовал точно так же. Один из самых первых набросков выполнен на листе размером примерно двадцать на двадцать пять сантиметров. В штрихах пером в верхней части листа не угадывается никаких деталей, можно лишь вообразить себе прерывистый ряд призрачных фигур, однако нетрудно догадаться, что это Христос и апостолы, сидящие за длинным столом. В этом primo pensiero трактовка Леонардо достаточно традиционна – он следует за такими художниками, как Кастаньо и Гирландайо, помещая Христа на ближнем краю стола, напротив остальных сотрапезников. Тоже следуя за Кастаньо и Гирландайо – и почти за всеми другими художниками, изображавшими «Тайную вечерю», – он показывает Иоанна приникшим к груди Христа.
Такое расположение фигур говорит о том, что Леонардо, как и многие его предшественники, опирался на текст Евангелия от Иоанна, а не на синоптические Евангелия. Справа, в нижней части листа, он набросал в несколько большем масштабе деталь центрального мотива: Христа, Иоанна, Иуду и еще одного апостола, прикидывая, как Иуда протянет руку через стол, чтобы взять у Христа обмакнутый в чашу хлеб. Этот жест, которым Христос указывает на своего предателя, зафиксирован в трех из четырех Евангелий и является общей чертой всех «Тайных вечерей», от Джотто и Дуччо до Кастаньо и Гирландайо. Итак, в этот момент Леонардо обдумывал традиционную композицию, однако по мере того, как он перерабатывал ее снова и снова, представления его менялись.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Эскиз для «Тайной вечери» и архитектурные наброски. Ок. 1494. Бумага, перо, чернила.
* * *
Графическое наследие Леонардо сохранилось в куда большем объеме, чем наследие любого из его современников. И все равно из множества набросков к «Тайной вечере», которые он, по всей видимости, создал зимой 1494/95 года, до нас дошло лишь около десятка. Из них, безусловно, лучший – собственно, вообще один из лучших у Леонардо – это оплечный набросок одного из апостолов, Иакова Зеведеева.
Иаков Зеведеев, или Старший (его называли так, чтобы отличать от другого апостола по имени Иаков, известного как Иаков Младший), был братом святого Иоанна. Набросок Леонардо выполнен на листе примерно восемнадцать на двадцать пять сантиметров. Апостол, молодой человек, изображен на нем в три четверти: такой портрет выполнить куда сложнее, чем в профиль или анфас. Леонардо и до этого изображал лица в три четверти, например коленопреклоненного ангела в «Крещении Христа» Верроккьо, ангела в «Мадонне в скалах» и любовницу Лодовико Чечилию Галлерани на ее портрете. Знание перспективы и анатомии придало художникам уверенности и открыло возможность представлять лица и тела в различных ракурсах, а соответственно – создавать иллюзию движения и передавать индивидуальность натурщиков. Портреты в три четверти стали шагом вперед по сравнению с портретами в профиль, которые были наиболее типичны для XV века. Профильные портреты, прототипами для которых отчасти послужили изображения императоров на римских медальонах, не предполагали передачи индивидуальных черт, они прежде всего должны были отображать общественный или политический статус модели.[200] Развернув лицо в три четверти, можно было представить его контур в более естественном и выигрышном ракурсе, что значило точнее передать индивидуальность и даже психологию изображаемого.
Леонардо еще больше усложнил задачу, слегка наклонив лицо апостола вперед, таким образом немного сократив сверху в перспективе. Иаков смотрит вниз, в статическом изумлении разомкнув губы, и его глубоко посаженные глаза – им Леонардо уделил особое внимание – обращены на нечто, находящееся прямо перед ним. Левая рука с изогнутым запястьем, едва видная, заставляет предположить, что натурщик держал руку на грифе некоего музыкального инструмента. Итак, судя по позе, натурщик был музыкантом – не исключено, что Леонардо, мастерски игравший на лире, давал ему уроки. Художник явно сосредоточился на том, чтобы верно передать выражение лица, и тем не менее расшифровать его непросто. Произносит ли юный апостол какие-то слова? Или вздрагивает от изумления? То, что он видит, вызывает у него восхищение или отвращение? Неоднозначность движения и выражения лица на этом наброске будет звучать несмолкающим эхом на картине Леонардо.
Иаков Зеведеев – еще один юноша «с прекрасными ниспадающими волосами», которых Леонардо так любил изображать на своих картинах. При этом макушка его обозначена лишь несколькими волнистыми линиями, да и вообще рисунок, безусловно, незавершен. При всей его поразительной ловкости, его нельзя включить в число дивных, детализированных прорисовок, про которые Вазари с восхищением говорил, что «нет никого, кому в этих тонкостях когда-либо удалось с ним сравняться». Здесь перед нами всего лишь подготовительный набросок, попытка Леонардо определиться с позой и выражением лица одного из апостолов – и все равно выполнен он виртуозно.
На то, что Леонардо не особенно ценил этот набросок, – и что позднее, безусловно, появились более проработанные эскизы фигуры святого Иакова, которые, увы, утрачены, – указывает тот факт, что он использовал лист бумаги второй раз: в левом нижнем углу набросал архитектурный проект какого-то замка. Леонардо терпеть не мог попусту расходовать материалы и, как правило, заполнял листы с обеих сторон всевозможными не связанными между собой рисунками, которые делал с промежутком в месяцы, а порой и годы. На обороте одного из листов с архитектурными чертежами он написал список: колпак, ножницы, суповая тарелка, шелковые шнурки.[201] Оборот другого листа, большого, тридцать один на сорок четыре сантиметра, испещрен всевозможными чертежами и идеями: от инженерных планов и геометрических форм до листьев водяной лилии и наспех набросанного локона. Все эти зарисовки – здесь более пятнадцати отдельных (иногда наползающих друг на друга) картинок – свидетельствуют как о разнообразии интересов Леонардо, так и о постоянном недостатке у него бумаги.[202]
Рисунок головы Иакова Зеведеева выполнен в особой технике – сангиной, или красным мелом. Набросков к «Тайной вечере» сохранилось очень мало, и делать обобщения рискованно, однако имеющиеся изображения наводят на мысль о том, что к началу 1490-х Леонардо частично отказался от стилоса, предпочитая ему сангину. Согласно одному источнику, он также пользовался пастелью и именно в этой технике делал наброски голов Христа и апостолов, но они не сохранились.[203] У стилоса были недостатки: жесткость и в результате малая выразительность, поскольку давлением на него нельзя было регулировать интенсивность цвета и толщину линии. Другое дело – мелки и пастель. Черный мел, который изготавливали из сланца, завозимого с севера Италии, использован в рисунках одного из учеников Леонардо, относящихся к тому же времени. Однако материал этот был тогда совсем новым, художники пятнадцатого столетия еще не знали, как его называть, и один из них описывает его в записной книжке как «черный камень происхождением из Пьемонта».[204]
Леонардо сделал черным мелом несколько сохранившихся набросков к «Тайной вечере», однако он, похоже, предпочитал сангину и, возможно, использовал ее первым. Она изготавливалась из смеси глины с оксидом железа и гематитом; в Древнем Риме ею выполняли настенные росписи. Леонардо, насколько нам известно, первым из художников Возрождения обратился к этой технике. Он явно ценил ее уникальные свойства – кроваво-красный цвет, прекрасно передающий оттенки кожи, и твердость, идеально подходящую для отображения мелких деталей; в технике сангины исполнены множество его изумительных рисунков, от человеческой фигуры на фоне гор до клубов дыма, вздымающихся над горящим зданием в Милане. Именно сангиной он в основном делал пометки, связанные с конной статуей: его надежды и планы на создание бронзового коня сохранились в виде убористых красноватых строк.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Эскиз головы св. Иакова Старшего для «Тайной вечери» и архитектурные наброски. Ок. 1494. Бумага, перо, чернила.
* * *
Набросок головы Иакова Зеведеева обнаруживает, как и все наброски Леонардо, одну характерную черту. Тени на рисунках и гравюрах художники наводили с помощью параллельных линий, перпендикулярных либо наклонных: эта техника называется штриховкой. Леонардо штриховал не так, как большинство художников: у них параллельные линии направлены вверх слева направо – ////, а у него вверх справа налево – \\\\.
Объяснение этой индивидуальной особенности долго искать не приходится: Леонардо был левшой, mancino. Соответственно, ему проще было штриховать в «обратном», нежели в обычном направлении. Особенность, как широко известно, распространялась и на его почерк – он часто (хотя и не всегда) писал справа налево. Один из близких его друзей сообщает нам, что он и рисовал, и писал левой рукой и почерк его «можно было читать только в зеркале или держа перевернутый лист против света. Насколько я понимаю и могу утверждать, таков обычай нашего Леонардо да Винчи, светоча живописи, коий левша».[205] Благодаря привычке писать справа налево у него выработался изумительный, совершенно неподражаемый почерк. Кого еще можно мгновенно и безошибочно опознать по почерку? Это слегка сумасбродная манера письма дополняет образ Леонардо как человека эксцентричного и своеобразного – человека, который переворачивал все общепринятые правила и понятия и всегда прокладывал собственный путь.
А вот широко распространенное представление, что зеркальный почерк Леонардо был шифром, неверно. Трудно вообразить себе менее надежный шифр, поскольку, чтобы его разгадать (как указал выше друг Леонардо), нужно было всего лишь поднести лист бумаги к зеркалу. Более того, Леонардо никогда и не думал прятать свои записи от мира, напротив, он надеялся сделать их всеобщим достоянием. Например, заметки к трактату о живописи, все до единой написанные зеркальным образом, явно предназначались для самого широкого распространения. Первый известный нам образец его почерка – надпись на зарисовке долины Арно от 1473 года – свидетельствует о том, что справа налево он писал уже в ранней юности. Нет решительно никаких причин, которые могли бы заставить его зашифровать эту надпись, – она просто фиксирует дату, когда был сделан набросок. Скорее ему, левше, было просто естественнее перемещать руку по странице справа налево, чем в обратном направлении. Кроме того, тем самым он избегал неприятности, которая подстерегает всех леворуких: не размазывал влажные чернила.
Искусствоведы много лет размышляли над тем, почему Леонардо писал и рисовал левой рукой. В XIX веке переводчик и редактор его записных книжек высказал предположение, что левшой он стал, когда утратил подвижность правой руки, то ли в результате несчастного случая, то ли в драке; это мнение с некоторой осторожностью поддерживает А. И. Попэм, английский специалист по графике Леонардо. Попэм считал, что Леонардо, возможно, частично утратил подвижность правой руки еще в детстве.[206] Более продвинутую концепцию предлагает Мари Бонапарт, дважды внучатая племянница Наполеона и женщина, которой Зигмунд Фрейд по ходу лечения задал бессмертный вопрос: «Чего хотят женщины?» С ее точки зрения, причина леворукости Леонардо очевидна: в детстве он удерживался от мастурбации, что сделало его левшой и привило отвращение к сексу.[207]
Однако нет никаких сомнений в том, что Леонардо писал левой рукой не потому, что в детстве повредил правую, и не по причине отвращения к сексу. Куда очевиднее другое объяснение: он просто родился левшой, как примерно десять процентов сегодняшнего населения Земли. Во времена Леонардо процент, видимо, был ниже – и это делало его еще уникальнее, – поскольку родителей тогда наставляли первой освобождать из свивальника правую руку, чтобы младенец сначала научился пользоваться ею и она стала сильнее.[208] Либо родители Леонардо не последовали этому совету, либо предпринятые меры не оказали должного эффекта. Кстати, Микеланджело и его друг Себастьяно дель Пьомбо тоже родились левшами, однако научились писать и рисовать правой, видимо под руководством родителей или школьного учителя.
Другой левша, которого в школе не стали переучивать, Раффаэлло да Монтелупо, утверждает, что на человека, пишущего левой, сбегались смотреть целые толпы. Раффаэлло был скульптором и архитектором, работал с Микеланджело и утверждал, что «многие изумлялись», когда видели, как он пишет, повернув лист под прямым углом и держа перо в левой руке. Однажды, когда он подписывал некий официальный документ, ошеломленный нотариус призвал десятерых коллег, дабы они полюбовались на это необычайное зрелище.[209] Леворукость Леонардо, равно как и его пристрастие к письму справа налево, наверняка добавляла ему таинственности, создавая репутацию художника, который работает не так, как все, и видит мир под иным углом.
Глава 6 Священная лига
Король Карл VIII вошел в Неаполь в феврале 1495 года, четыре месяца и девятнадцать дней спустя после того, как выдвинулся из Асти. Его победа, одержанная с удивительной легкостью, была почти полной. Как отметил один французский сановник из свиты короля, вторжение в Италию «было осуществлено без всяких усилий, при столь незначительном сопротивлении, что наши бойцы за все время похода едва ли когда надевали на себя латы».[210]
Карл покинул Рим в середине января, после двухнедельной оккупации, во время которой он успел побродить по развалинам и осмотреть основные достопримечательности, а также посетить мессу в соборе Святого Петра. По прибытии, подыскивая себе уютное пристанище, он остановил выбор на Ватикане – «чертоге весьма изысканном, – писал он с энтузиазмом, – изукрашенном и меблированном не хуже, чем любой дворец или замок, какие мне доводилось видеть».[211] Он получил аудиенцию у папы, который после длительных пререканий по поводу протокола опасливо вышел из своего укрытия в Кастель Сант-Анджело, дабы принять не слишком смиренное поклонение французского короля. Воспоследовала весьма комичная сцена, оставившая у зрителей впечатление, что папа отказывается надевать снятую камауро, пока король не водрузит обратно на голову свою шляпу.[212] Карл ненадолго задержался в Священном городе, пустив там смутные и неубедительные слухи по поводу церковной реформы. На Лодовико Сфорца в Милане это не произвело особого впечатления. «Его христианнейшее величество лучше бы для начала реформировало самого себя», – заметил он ядовито.[213] И вот наконец Карл отправился завоевывать себе еще один трон – неаполитанский.
Король Альфонсо предрек, что его грехи обязательно навлекут на него несчастья. Вот несчастья и начались. Крепости одна за другой сдавались французам, и в итоге Альфонсо впал в такой ужас и панику, что по ночам кричал, будто слышит приближение врага, будто даже деревья и камни вопиют: «Франция! Франция!»[214] Кроме того, ему явилась тень отца, пророча беды. А еще его посещали призраки умерщвленных политических соперников. Отрекшись от трона в пользу своего сына Фердинанда II, он нагрузил пять галер рукописями, шпалерами и бочками с вином и сбежал в монастырь на Сицилии. Фердинанд, двадцати пяти лет от роду, немного поизображал отвагу, но потом бросил Неаполь и сбежал на остров Искья. 22 февраля Карл вступил в город как свободоносец и герой-победитель. В Неаполе он тут же приобрел всеобщую популярность, поскольку снизил налоги и разрешил продолжить занятия работорговлей.
Изначальная цель Лодовико Сфорца – избавиться от угрозы со стороны короля Альфонсо – была достигнута, причем блистательно. Однако герцога немало смутило то, с какой легкостью и быстротой французы завоевали Итальянский полуостров. Не меньше тревожил его и тот факт, что французы по-прежнему занимали Пизу, Сиену и множество крепостей в Тоскане и Папской области, причем уходить не торопились. А хуже всего было то, что кузен Карла Людовик Орлеанский, претендент на миланский престол, выжидал в Асти, всего в ста километрах к юго-западу от Милана.
Через неделю после прибытия Карла в Неаполь Лодовико начал строить планы изгнания из Италии захватчиков, которых сам же и пригласил. «Неаполь потерян, – писал он в венецианский сенат, – народ с радостью встретил французского короля. Я готов сделать все, чего у меня попросит Республика. Но времени терять нельзя; действовать мы должны незамедлительно».[215] Венецианцы, до сего момента сохранявшие нейтралитет, готовы были прислушаться к увещеваниям Лодовико. По словам Гвиччардини, увидев, как армия Карла «молнией» пролетела по Италии, они тоже «начали смотреть на чужие несчастья как на угрозу им самим».[216]
Еще раньше Карл дал клятву отправиться после завоевания Неаполя в Крестовый поход против турок. Впрочем, обосновавшись в своем новом королевстве, он быстро пришел к выводу, что обойдется и без опасной заморской экспедиции. И он, и его воины предпочитали проводить время в неаполитанских публичных домах, «предаваясь удовольствиям».[217] Вскоре у них начала проявляться странная, разрушительная хворь: солдаты-французы называли ее «неаполитанской болезнью», а неаполитанцы – «французской». Гвиччардини подробно расписывает все ее ужасы: нарывы, язвы, жестокие боли в суставах и нервных окончаниях. «Болезнь эта сгубила множество мужчин и женщин разных возрастов, – пишет он, – а многих жестоко искалечила и превратила в инвалидов, терзаемых непрерывными муками».[218]
Два года спустя, когда болезнь широко распространилась и по Италии, и по Франции, один врач из Винченцы описал этот «недуг необычного свойства» в трактате, который многозначительно поименовал «De morbo Gallico» («О французской болезни»). Он отметил, что зараза либо была занесена в Италию французами, либо «болезнь эта и французская армия напали на Италию одновременно».[219] Философы и врачи спорили между собой, как именно происходит заражение и не привезли ли страшную хворь в Европу на борту Колумбовых галеонов. Впрочем, все сошлись на том, что эта жестокая напасть (в итоге ее окрестили сифилисом) есть наказание Господа роду человеческому за его слабости. Как писал в отчаянии один придворный лекарь из Феррары, «мы также видим, что Всевышний Творец, разгневавшись на нас за наши страшные грехи, наказал нас жесточайшим из всех зол».[220]
* * *
Не один Леонардо готовился в 1495 году приступить к выполнению работ в церкви Санта-Мария делле Грацие. Кто-то – возможно, Лодовико Сфорца – нанял художника Джованни Донато да Монторфано, чтобы тот изобразил на противоположной стене сцену Распятия. Итак, предполагалось, что две артели живописцев будут работать в трапезной одновременно.[221]
Сцену Распятия в монастырских трапезных изображали почти так же часто, как и Тайную вечерю, – настолько часто, что в 1580 году один мастер даже выразил удивление, почему художники и их заказчики так уверены, что эта сцена подходит для принятия пищи.[222] В трапезных Флоренции Тайную вечерю часто преднамеренно помещали рядом со сценой Распятия. «Тайная вечеря» Таддео Гадди в Санта-Кроче находится под массивным Распятием кисти того же мастера, на котором изображен святой Франциск, обнявший подножие креста. В Сант-Аполлонии Андреа дель Кастаньо изобразил Христа на кресте (а также Положение во гроб и Воскресение) прямо над «Тайной вечерей». Эти сцены не давали монахам и монахиням забывать о муках Христа и заставляли во время застольной молитвы размышлять о таинствах Его жизни, смерти и воскресения. Как подчеркивается в одном тексте, истинный ученик Христа должен «всечасно нести крест Иисуса Христа в своих мыслях и в своей плоти, дабы истинно произносить и ощущать внутри себя слово апостола Павла… Christo confixus sum croci, сиречь пригвожден к кресту вместе с Христом».[223]
Возможно, была и иная причина, по которой Монторфано поручили расписывать стену в той же зале, что и Леонардо. У заказчиков появился обычай ставить художников работать в паре, устраивая между ними негласное соревнование, дабы сподвигнуть на особое усердие. В 1408 году старосты Флорентийского собора наняли трех скульпторов – в их числе Донателло, – чтобы высечь из мрамора статуи евангелистов для украшения фасада, дав ваятелям понять, что четвертая глыба мрамора и заказ на четвертого евангелиста достанется победителю. (Состязание выдохлось само по себе: скульпторы так затянули работу, что у старост лопнуло терпение и они передали последнюю глыбу четвертому скульптору.) Позднее, в начале 1480-х, когда папе Сиксту IV понадобилась артель художников, чтобы расписать фресками стены Сикстинской капеллы, он превратил заказ в состязание, пообещав награду художнику, чью работу сочтут лучшей. По словам Вазари, победил Козимо Росселли – его аляповатая смесь золота и ультрамарина, над которой насмехались все остальные художники, впечатлила понтифика, человека с не очень развитым художественным вкусом.[224]
Совершенно не исключено, что Лодовико тем самым хотел подвигнуть Леонардо, известного своей медлительностью в работе, на то, чтобы он уложился в оговоренный срок. Впрочем, если заказы действительно задумывались как необъявленное состязание, силы соперников были явно неравны. О Монторфано мы знаем немного, разве только то, что родом он был из семьи миланских художников, которой давно покровительствовали Сфорца. Один его родственник, по имени Батиста, – возможно, дядя – в начале 1470-х годов отделывал для Галеаццо Марии интерьеры Кастелло ди Порта Джовиа.[225] Джованни, скорее всего, учился у своего отца Альберто, а потом работал вместе с братом Винченцо; расписал фресками несколько миланских церквей.
Тридцатипятилетний Монторфано был, безусловно, искусным ремесленником, но никак не художником того же калибра, что и Леонардо. Он писал в несколько старомодном стиле, находясь в блаженном неведении относительно новаторств флорентинца, его натурализма в деталях и экспериментов с позами и выражением лиц персонажей. При этом у Монторфано было одно важное преимущество перед тем, кто трудился на противоположном конце трапезной. Из заказов, которые он выполнял для разных миланских церквей, видно, что к 1495 году он успел приобрести богатый опыт работы в технике фрески, тогда как Леонардо ни разу еще не доводилось решать эту непростую задачу – писать на свежеоштукатуренной стене.
* * *
«Действовать мы должны незамедлительно», – взывал Лодовико Сфорца к венецианскому сенату, и не прошло и нескольких недель, как миланский герцог уже представил план того, как изгнать французских захватчиков из Италии. Поздно вечером в последний день марта 1495 года, пустив в ход то, что французский посланник с презрением назвал «коварством и двоедушием»,[226] Лодовико создал мощный союз против французов, получивший название Священной лиги.
Другими членами Священной лиги стали папа Александр VI, император Священной Римской империи Максимилиан I, а также Фердинанд и Изабелла Испанские. Все они поклялись защищать христианский мир от турок, хранить достоинство церкви и права Священной Римской империи, уважать и защищать силой оружия территориальные права друг друга, а также изгнать иноземных захватчиков – понятное дело, французов – с территории Итальянского полуострова. Для выполнения последней задачи стороны пригласили Франческо II Гонзага, маркиза Мантуи, встать во главе сорокатысячной армии, которая должна была противостоять французам. Французский посланник в Венеции, узнав о намерениях Священной лиги, перепугался за судьбу своего короля. «Я был крайне обеспокоен и встревожен за моего повелителя, – писал он, – ибо опасался, что и ему, и всей его армии грозит серьезная опасность».[227]
Однако никакие призраки грядущих невзгод не омрачали радости Карла и его воинов – они продолжали приятнейшим образом проводить время в Неаполе, где французский монарх (что с неодобрением отметил его посланник в Венеции) «не думал ни о чем, кроме собственных удовольствий, а министры его не интересовались ничем, кроме собственной выгоды».[228] Карла пленили многочисленные услады, которыми радовали его новые владения. Среди сокровищ, которые Альфонсо забрал с собой в изгнание на Сицилию, была коллекция семян из королевских садов. Вряд ли то обстоятельство, что он оставил завоевателя, искренне увлекавшегося садоводством, без семян, могло послужить Альфонсо достаточным утешением. «Брат мой, – писал Карл герцогу Бурбонскому, – это самая богоданная страна и самый прекрасный город из всех, какие мне доводилось видеть. Ты не поверишь, какие у меня тут очаровательные сады. Они столь прекрасны, столь богаты редкими и изумительными цветами и фруктами, что, видит Бог, не хватает лишь Адама и Евы, чтобы превратить место это в новый Эдем».[229]
В конце концов, сообразив, что лучше все-таки отступить из Италии до того, как Священная лига соберет силы для решительного удара, Карл вынужден был покинуть свой неаполитанский эдем. 20 мая, прихватив некоторые из исторических сокровищ Неаполя, в том числе и бронзовые замковые ворота, Карл с половиной армии покинул город. Прочих бойцов – около тридцати тысяч – он оставил, в надежде, что они удержат для него завоеванное королевство. Сам же он двинулся на север, к Риму, и добрался туда 1 июня, объявив, что явился «как добрый сын Святой церкви», и потребовав аудиенции у папы Александра VI.[230] Двумя неделями ранее его короновали в Неаполе с большой помпой, однако без папского благословения, а посему церемония не имела реального смысла. Теперь Карлу требовалось благословение папы и официальная инвеститура в ранге короля Неаполитанского.
Александр VI же тем временем направлялся в тосканские холмы в сопровождении двадцати своих кардиналов; Карлу он оставил, по сути, единственный выход – выступить из Рима три дня спустя. Карл двинулся на север и в Поджибонси, неподалеку от Сиены, встретился с одним из немногих оставшихся у него в Италии друзей, Джироламо Савонаролой. Монах тут же принялся укорять Карла за то, что тот обманул надежды Господа, ибо так и не провел церковной реформы, «которую, говорю тебе, Он возложил на тебя и к которой призывал тебя во множестве неопровержимых знамений». Савонарола, всегда скорый на мрачные пророчества, предупредил Карла, что отказ следовать воле Господа навлечет на его голову «еще более страшные несчастья».[231]
* * *
Пока Карл и его армия брели по апеннинским перевалам, держа опасный путь к дому, на Лодовико Сфорца сыпались несчастья. После создания по весне Священной лиги лето началось для Лодовико обнадеживающе. Он по-прежнему выглядел человеком, который (о чем возвещали знаки на его упряжи) держал в руках судьбы мира. 26 мая в Милане состоялось грандиозное празднование в его честь. В соборе отслужили мессу, после чего Лодовико вышел из него и встал под воздвигнутым по этому поводу на площади алым балдахином, расшитым листьями шелковицы – одной из его личных эмблем. После десяти с лишним лет плетения заговоров и интриг для Лодовико настал долгожданный день: ему предстояло получить от императора Священной Римской империи право именоваться герцогом Миланским.
Императорская грамота была доставлена в подходящий и, возможно, далеко не случайный момент: через несколько дней после подписания договора о создании Священной лиги. Теперь в Милане Лодовико решил устроить в собственную честь грандиозную церемонию. Епископ-немец и посланник Максимилиана по очереди зачитывали список императорских привилегий, дарованных новоиспеченному герцогу их владыкой, после чего надели на Лодовико герцогскую корону и мантию, а в руки ему вложили скипетр и церемониальный меч. Засим Лодовико прошел торжественной процессией с участием герцогини Беатриче до церкви Сант-Амброджо, дабы вознести благодарность за восшествие на герцогский престол. Беатриче, недавно разрешившаяся вторым их сыном Франческо, описала этот день в письме сестре как «величественнейшее зрелище и благороднейшее торжество из всех, какие нам доводилось видеть».[232] После церемонии в Сант-Амброджо они с Лодовико вернулись в Кастелло, где началось пиршество.
Леонардо, скорее всего, участвовал в этом празднестве. При дворе Лодовико он был «судией во всех вопросах, связанных с красотой и изысканностью, особенно в том, что касалось зрелищ».[233] В 1490 году его декорации к празднеству «Райский пир», устроенному Лодовико по случаю бракосочетания его племянника Джангалеаццо с Изабеллой, имели огромный успех. Для таких работ Леонардо выбирали не только по причине его любви к «изысканности и красоте», но из-за его дара дополнять красочные и удивительные зрелища всевозможными инженерными находками. «Его гений изобретателя вызывал изумление», – дивится один из авторов.[234] От «Райского пира» не сохранилось ни чертежей, ни набросков, однако один свидетель описывает изобретенную Леонардо сложную сценографию, где Рай был изображен в образе приподнятого над сценой золотого шара, окруженного семью планетами, двенадцатью знаками зодиака и «множеством огней, представлявших собой звезды». В кульминационный момент планеты опускались – видимо, при помощи сложной системы тросов, – и оттуда Изабелле подавали либретто пьесы.[235]
Леонардо, видимо, довелось поработать над множеством таких декораций – если верно утверждение секретаря Беатриче, что новые спектакли ставили при дворе Лодовико каждый месяц.[236] Год спустя после постановки «Райского пира» Леонардо участвовал в украшении бальной залы Кастелло для свадебных торжеств самого Лодовико и делал эскизы костюмов «дикарей» для актеров – тех самых, у которых юный Салаи крал кошельки, – эти актеры, по всей видимости, участвовали в свадебном празднестве. Леонардо любил представить в своих спектаклях и темные стороны бытия. Для одного празднества он создал сложный механизм, при помощи которого бутафорская гора распахивалась, являя Плутона и его мелких бесов, которые суетились в своем жутком подземном мире. «Когда Плутонов парадиз раскрывается, – гласит одна из его заметок, – оттуда появляются бесы, играющие на горшках и издающие адские звуки. Тут будут смерть, фурии, Цербер, множество рыдающих херувимов. Пламя будет всевозможных цветов».[237]
Интерес Леонардо к ужасам и пожарам проявился еще в юности. Согласно легенде, одним из первых его художественных произведений стал маленький деревянный щит, который по просьбе отца он расписал для местного крестьянина. Юный Леонардо создал у себя в спальне «чудовище весьма отвратительное и страшное», состоявшее из мертвых змей, ящериц, сверчков и нетопырей. По мере того как все это загнивало, распространяя зловоние, он постепенно выписывал на щите адское существо, выползающее из расселины и испускающее дым из ноздрей и пламя из глаз. Закончив, Леонардо приглушил свет в комнате и позвал отца. Тот в первый момент был ошеломлен видом свирепого чудища, но потом «вещь эта показалась серу Пьеро более чем чудесной».[238]
Работы Леонардо, безусловно, отличаются «красотой и изысканностью». «Леонардо, – восторгается искусствовед Бернард Беренсон, – единственный художник, про которого можно сказать в буквальном смысле: все, к чему он прикасался, обретало нетленную красоту».[239] Однако Леонардо тянуло и к ужасающему, и к гротескному – к тому, что можно назвать инфернальной красотой. Возникает ощущение, что порой он находил в таких вещах даже больше мощи и притягательности, чем в гармонии, науке, разуме.
Тяга к таинственному и инфернальному чувствуется и в одном из первых его письменных документов – странном фрагменте, сочиненном в конце 1470-х годов. История, которую он рассказывает, возможно, основана на впечатлениях от блуждания в предгорьях рядом с Винчи, однако она быстро приобретает символическое звучание. Леонардо начинает со слов о том, как, «увлекаемый жадным своим влечением», он отправился блуждать «среди темных… скал» в поисках «разнообразных и странных форм». Вскоре он оказывается у входа в большую пещеру и останавливается там, пораженный. Нужно принять какое-то решение. «Дугою изогнув свой стан, – пишет Леонардо, – и оперев усталую руку о колено, правой затенил я опущенные и прикрытые веки. И когда, много раз наклоняясь то туда, то сюда, чтобы что-нибудь разглядеть там в глубине, но мешала мне в том великая темнота, которая там внутри была, пробыл я так некоторое время, внезапно два пробудились во мне чувства: страх и желание; страх – пред грозной и темной пещерой, желание – увидеть, не было ли чудесной какой вещи там в глубине».[240]
Достигнут конец страницы, но история, которую можно было бы озаглавить «Пещера страха и желания», видимо, продолжается. Внизу страницы Леонардо изобразил символ – петлю, напоминающую по форме цифру 6, которой всегда давал знать, что текст продолжается на обороте или на следующей странице. Однако на обороте – одни научные выкладки. Завершение истории до сих пор не обнаружено, и нам неведомо, одолело ли желание страх и какие дива дивные явились художнику в темных недрах скалистого грота.
Привлекательным сторонам страха и опасности посвящен еще один текст Леонардо, сочиненный в конце 1480-х годов.[241] Он написан в форме письма другу по имени Бенедетто: это пространный рассказ о людях, которых держит в страхе некий гигант, – у него «черное лицо», «глубоко сидящие красные глаза» и «косматый нос с широкими ноздрями», а из носа торчит густая щетина. Леонардо говорит от лица человека, пережившего ужасный миг, когда «чудовище» прокладывало свой смертоносный путь через толпу беспомощных лилипутов. Леонардо подчеркивает, что попытки человека защитить себя бессмысленны и самонадеянны: разумные попытки оказать сопротивление бессильны против разъяренного гиганта. «О несчастные люди, – пишет Леонардо, – вам не помогают неприступные крепости, вам не помогают высокие стены городов, вам не помогают ваша многочисленность, дома и дворцы!»
Мораль этой истории, судя по всему, заключается в том, что бессмысленно пытаться обуздать хаос средствами той самой инженерной науки, которой по иронии судьбы сам Леонардо и занимался. Никакой человеческий гений, подчеркивает он, не способен противостоять мощи гиганта. Единственная надежда – бежать прочь от цивилизации, в «малые щели и подземные убежища». И здесь немногие счастливцы, отрекшись от своей человеческой сущности, смогут жить «наподобие мелких морских раков, сверчков и им подобных животных».
Возможно, история эта связана с работой Леонардо над какой-то маской или спектаклем, а может быть, это лишь занятный литературный опус, который можно прочитать вслух миланским придворным или близким друзьям. В любом случае Леонардо подчеркивает, что речь идет о трагедии: матери и отцы теряют детей, женщины – возлюбленных, и никогда «от Сотворения мира» не слыхивали еще таких жалоб и рыданий. Заканчивает он тревожной и пронзительной нотой, которая погружает всю историю в еще больший мрак. Повествователь, как выясняется, не спасся и не выжил. «Я не знаю, что сказать и сделать, – пишет Леонардо, – ибо всякий раз вижу себя плывущим вниз головой по огромному горлу к изуродованным смертным, погребенным в недрах бездонной утробы».
«Пещера страха и желания» возникает здесь вновь, в форме глотки прожорливого гиганта, в которую пристально всматривается Леонардо. Он так живо перевоплощается в жуткое чудовище, что видит в воображении самого себя, мертвого и изуродованного, у него в утробе. Леонардо стал жертвой того, что Джозеф Конрад называл «чарующей силой в отвратительном»: гипнотической притягательности опасного, загадочного, разрушительных сил, которые действуют за гранью человеческого знания.[242] В этом тексте Леонардо фантастическое и безумное явно вытесняют научное и рациональное.
* * *
Миланские постановки Леонардо не только славились своими визуальными эффектами: они прежде всего служили пропагандистским целям Лодовико Сфорца. В декорации к «Райскому пиру» входили куда менее изощренные детали, например портреты предков Лодовико, подвешенные к фризу и увитые гирляндами. Принимал Леонардо участие и в другом пропагандистском проекте Лодовико – он делал для герцога эскизы эмблем. Все аристократические фамилии выбирали себе геральдические символы и потом использовали их при каждой возможности. Эмблемой флорентинцев Медичи были palle – малиновые шары, основной компонент их герба. Висконти избрали свернувшуюся змею, пожирающую человека; ту же эмблему взяли себе и Сфорца, когда Франческо породнился с Висконти.
Отдельные члены аристократических семейств часто выбирали индивидуальные эмблемы (imprese): изображения растений, животных или предметов, сопровождаемые девизом, воплощавшие их личные достоинства. В знак своих поэтических занятий, а также по созвучию со своим именем Лоренцо Медичи выбрал для себя лавровое дерево. Лодовико также вдохновился звучанием своего имени. Второе нареченное имя его было Маурус, однако, когда в детстве он серьезно заболел, мать в надежде на покровительство Богородицы заменила его на Мария. Тем не менее полузабытое имя осталось жить, на его основе создавались бесконечные каламбуры, прозвища, эмблемы. Слово «maurus» можно перевести и как «шелковица», и как «мавр» – Лодовико нравились оба значения. Изображения шелковицы и мавров появлялись почти на всех устроенных им празднествах. На свадебных торжествах в 1491 году было представлено войско из двенадцати вычерненных мавров – они шли маршем перед триумфальной колесницей, которую венчала фигура мавра, победоносно восседающего на земном шаре. При миланском дворе пошла мода на африканских рабов – один летописец сообщает, что у каждого придворного Лодовико в свите было по мавру-рабу.[243]
Судя по всему, мавританскую символику для Лодовико разработал не Леонардо, однако именно он сочинил сложную фразу из шестнадцати слов, этакую интеллектуальную скороговорку, в которую слово «moro» втиснуто целых пять раз: «O moro, io moro se con tua moralità non mi amori tanto il vivere m’è amaro» («О мавр, я умру, если с твоей высокой моралью ты меня не будешь любить, столь тягостно будет мне жить»).[244] Леонардо очень любил подобные каламбуры, которые частенько дополнял иллюстрациями-загадками. Находясь при дворе Лодовико, он нарисовал серию пиктограмм, или картинок-ребусов, или изящных зрительных каламбуров.[245] Игру слов он порой неприметно вписывал и в свои картины, например в портрет Джиневры де Бенчи, где на заднем плане изображен можжевельник (ginepro) – визуальный эквивалент имени молодой женщины.
Судя по всему, в Милане существовала целая индустрия по разработке эмблем и девизов, а весной 1495 года Лодовико проявлял повышенный интерес к геральдике, ибо, когда Максимилиан официально облек его титулом герцога, он наконец-то смог добавить к своему гербу имперских орлов. Более того, он хотел, чтобы его новый герб появился над росписью Леонардо в трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие. Монастырь и так уже расписывали геральдическими символами Сфорца, дабы подчеркнуть, что он находится под особым покровительством Лодовико. На внешней стене появились терракотовые щиты, на которых гордо красовались всевозможные его эмблемы, в том числе и змея Висконти. На внешней стене апсиды, спроектированной Браманте, появилась еще одна эмблема Сфорца, две руки с занесенным топором – напоминание о том, что Муцио Аттендоло некоторое время был дровосеком.
На северной стене трапезной, прямо под сводами, находились три люнета в форме полумесяцев. Лодовико распорядился, чтобы Леонардо изобразил там три геральдических щита – как напоминание о власти династии. Три этих герба, Лодовико и двух его юных сыновей, по всей видимости, стали первой работой Леонардо в трапезной. Их существование – еще одно доказательство того, что именно Лодовико заказал Леонардо настенную роспись, и роспись эта, помимо прочего, должна была послужить прославлению семьи герцога и стать очередным инструментом пропаганды.
Итак, создав множество набросков и эскизов композиции, Леонардо приступил к работе непосредственно в трапезной – и начал с этих трех люнетов; было это, по всей видимости, примерно тогда же, когда Лодовико официально получил титул. Впрочем, здесь слышится насмешка судьбы, поскольку через несколько дней после воцарения само существование дома Сфорца оказалось под угрозой.
* * *
В конце мая Людовик Орлеанский, претендент на герцогство Лодовико, выдвинулся из Асти на миланскую территорию. Он стоял во главе армии, насчитывавшей семь с половиной тысяч бойцов, «воинства столь доблестного… какое никогда еще не выходило на битву».[246] Воспоследовал триумф, какого Людовик даже не мог себе представить. Когда его отряды появились под стенами Новары, горожане тут же открыли ворота и, по словам одного очевидца, приняли захватчиков, «елико возможно изъявляя свою радость».[247] Опаснейший враг, стоявший во главе могучей армии и встретивший восторженный прием подданных Лодовико, находился в сорока километрах к западу от Милана.
В принципе, Лодовико мог рассчитывать на помощь союзников, например венецианцев. Напав на миланские владения, Людовик рискнул навлечь на себя гнев Священной лиги. Однако не одного лишь герцога Орлеанского боялся Лодовико. Его потрясло предательство новарцев. По всей видимости, лояльность их подорвали высокие налоги, а также займы, которые они вынуждены были давать под его экстравагантные строительные затеи, непомерные поборы в пользу императора, займы и выплаты всевозможным союзникам Лодовико. Недовольство правлением Лодовико стремительно распространялось по герцогству. Граждане Павии – второго по важности города после Милана – призвали герцога Орлеанского войти в город и освободить их от Лодовико. Кроме того, как писал один очевидец, если бы Людовик надумал войти в Милан, «его приняли бы с еще большей радостью».[248]
Страх перед тем, что от него отвернутся собственные подданные, вверг Лодовико в панику. Он немедленно покинул свое сельское поместье в Виджевано, где все еще продолжались празднества, и вернулся в Милан. В страхе перед бунтом и расправой он заперся в Кастелло, отказываясь принимать кого бы то ни было. Есть основания предполагать, что у него даже случился удар. Два монаха писали в свой монастырь в Венеции: «Он плох здоровьем, одна рука, как говорят, парализована, он окружен ненавистью и боится бунта».[249]
Пока Лодовико прятался в Миланском замке, Людовик повернул со своей армией к югу и приблизился к Виджевано, где стояла лагерем миланская армия. Командир миланцев, двоюродный брат Лодовико Галеаццо Сансеверино, до сих пор хранил ему верность. Однако при приближении армии Людовика Сансеверино и его отряд начали готовиться к стремительной эвакуации. Потеря Виджевано, родного города и любимого места отдыха Лодовико, стала бы для него тяжелейшим унижением. Впрочем, Людовик, видимо, решил, что доблесть нужно подкреплять рассудительностью. Вместо того чтобы осадить Виджевано, он повел войско обратно к Новаре. В Трекате его ждали «виднейшие граждане Милана», они слезно умоляли захватить их город. Предложив Людовику в заложники своих детей как доказательство дружбы и доверия, они заверили его, что предприятие это будет успешным. Согласно их заявлению, жители Милана, как простонародье, так и аристократия, «желали падения дома Сфорца».[250]
* * *
Новару герцог Орлеанский взял в самое подходящее время. Он знал, что Лодовико не может рассчитывать на незамедлительную помощь сорокатысячной армии Священной лиги. Франческо Гонзага ушел на юг, чтобы перехватить Карла VIII и его армию, которая оказалась уже в ста тридцати километрах к юго-востоку от Милана. Французский король сумел перейти через Апеннины с артиллерией и пятью тысячами мулов, нагруженных золотом и прочими трофеями. Впрочем, армия, сократившаяся за счет дезертирства и болезней до десяти тысяч человек, была уже не та, что несколько месяцев назад победоносно шагала по полуострову. Французы, без видимого усилия завоевавшие столько итальянских городов, наконец-то потеряли боеспособность. Едва Карл спустился с перевалов, как на него обрушилась могучая армия Гонзага. «И вот я здесь, – похвалялся Гонзага в письме супруге, – во главе лучшей армии, какую когда-либо видела Италия, готовой не только противостоять французам, но и истребить их».[251] В войске Гонзага было полторы тысячи страдиотов, набранных венецианцами в Албании и Греции: «могучие, крепкие ребята», одевались они как турки, спали рядом со своими конями, а головы врагам отрубали ятаганами.[252] Пророчество Савонаролы касательно страшных несчастий, похоже, начинало сбываться.
В итоге Максимилиан все-таки пришел на выручку Лодовико, отправив к нему швейцарских и немецких наемников. Помощь подал и венецианский сенат – он отправил в Милан несколько тысяч страдиотов. Далеко не все в Венеции считали, что Лодовико стоит защищать: один венецианец заметил, что было бы лучше, если бы страдиоты обратили свои ятаганы против герцога Миланского.[253] Тем не менее иностранные подкрепления оказались его спасителями и вынудили Людовика и его армию отступить в крепость Новары. Эпизод этот занял всего несколько недель, однако оставил по себе тягостный, тревожный осадок. Неутешительным для Лодовико наверняка было и то, что спасли его не собственные подданные или воины, а иностранцы с другой стороны Альп или, в случае страдиотов, Адриатики.
Чуть позже, 6 июля, Франческо Гонзага перехватил армию Карла в Форново, километрах в двадцати к юго-западу от Пармы. Французы сильно уступали противнику в численности, а проливные дожди вывели из строя их смертоносную артиллерию. Однако в этот решающий момент, когда бойцы Карла оказались, по сути, беззащитны, итальянцы, которым пожива была важнее кровопролития, сломали строй и ринулись прямиком к нагруженному добычей французскому обозу. За ними последовали страдиоты – дабы не упустить возможности пограбить, они побросали свои ятаганы и тоже принялись обчищать кибитки французов. Нагрузившись добычей, итальянцы стремительно отступили, преследуемые по пятам французскими конюхами и слугами, – они, проявив большую доблесть, чем противник, схватили топоры, которыми рубили дрова, и, по словам очевидца, налетели на мародеров и «повышибали им мозги».[254] Карл в этой битве лишился многих личных вещей, в том числе шлема и меча, а также трофея сентиментального свойства: книжечки, содержавшей портреты обнаженных барышень, удостоивших его своей благосклонностью по ходу Итальянской кампании.
Хотя битва при Форново продолжалась меньше четверти часа, потери оказались ошеломляющими – она стала самым кровопролитным сражением на земле Италии за два века. Священная лига потеряла три тысячи бойцов, французы – тысячу. Кровавая баня завершилась тем, что прихлебатели при французском лагере, «несколько мошенников и шлюх», принялись обирать мертвых.[255] Священная лига объявила о своей победе, и по этому случаю Франческо Гонзага приказал Андреа Мантенье написать «Мадонну делла Витториа». Впрочем, обмануть никого не удалось. Неорганизованность итальянского войска – «лучшей армии, какую когда-либо видела Италия», – стала страшным, несмываемым позором. «Пальмовая ветвь победителей, – писал Гвиччардини, – была единодушно отдана французам».[256] Кроме прочего, обе армии – и Карла, и Людовика – остались на итальянской территории, на расстоянии перехода от Милана.
Глава 7 Тайные рецепты
Пока Леонардо готовился приступить к работе над росписью в Санта-Марии делле Грацие, одним из первых этапов, который монахи-доминиканцы могли наблюдать в трапезной, стало возведение лесов. Чтобы изобразить на стене гербы Лодовико Сфорца и двух его сыновей, Леонардо требовалась сложная система лесов, которая позволила бы подняться на высоту почти в десять метров.
Именно эта необходимость карабкаться по лестницам и работать высоко над полом, зачастую с большими неудобствами, и была одной из причин того, что карманный справочник живописца, выпущенный в XVI веке, гласил: фрески не для «робких художников или людей нерешительных».[257] Автор фресок вынужден был покинуть свою уютную мастерскую, терпеть неудобства и даже рисковать упасть с высоты. В 1541 году Микеланджело серьезно повредил ногу, сорвавшись с лесов во время работы над «Страшным судом» на алтарной стене Сикстинской капеллы (спасло его, по собственному признанию, самолечение треббианским вином). Куда худший удел ждал Барну да Сиена – он упал и разбился насмерть, когда писал Распятие в Колледжате в Сан-Джиминьяно.[258]
Механика устройства лесов заинтересовала Леонардо. Несколько лет спустя, во Флоренции, он, по словам Вазари, изобрел особый механизм для перемещения картона, «хитроумнейшее сооружение, которое, сжимаясь, поднимало его, а расширяясь, спускало».[259] Ни чертежей, ни описаний лесов для Санта-Марии делле Грацие не сохранилось, однако они, по всей видимости, были не особенно сложны. В любом случае, как всегда при работе над фресками, Леонардо должен был обеспечить на лесах место для себя и своих подмастерьев, а также возможность отступить от стены, чтобы оценить сделанную работу. Кроме того, леса должны были как можно меньше нарушать распорядок жизни братьев, которые, понятное дело, продолжали вкушать пищу в том же помещении, в котором работал художник.
После того как леса были готовы, Леонардо, видимо, приступил к оштукатуриванию северной стены трапезной и подготовке ее к росписи. Обычно художники наносили на стену или свод несколько слоев известковой штукатурки – до и по ходу работы. Первый слой грубой штукатурки, arriccio, был своего рода подложкой, сглаживавшей неровности каменной кладки. Он, помимо прочего, должен был быть достаточно шершавым (иногда в него добавляли кирпичную крошку), чтобы обеспечить сцепление с более гладким верхним слоем, intonaco, на котором и работал художник. Нанесение слоев штукатурки, как подчеркивало руководство Андреа Поццо, следовало поручить «опытному, добросовестному каменщику».[260] Хотя Леонардо, скорее всего, нанял такого каменщика, он наверняка сам надеялся поучаствовать в подготовке штукатурки, поэкспериментировать с составом. «Можно также использовать гипс, опилки, лоскутки и клей, и получится добрая штукатурка» – гласит одна из его заметок. «Или: жгут, посеченный лезвием, как на сукновальной машине, гипс и клей. Хорошо».[261] Ему явно хотелось создать грубую штукатурку, которая обеспечивала бы хорошее сцепление поверхностей. Впрочем, штукатурка, которую в итоге нанесли на стену трапезной, оказалась вполне обыкновенной, она состояла из известняка с добавлением кварцевой пыли и местного речного песка. Ее положили слоем в полтора-два сантиметра, причем в середине стены – где должны были располагаться Христос и апостолы – она немного грубее по консистенции.[262]
Работа, безусловно, доставляла монахам определенные неудобства. Несколько недель в трапезной, плохо вентилируемом помещении, дурно пахло. Поццо отметил, что известняк, использовавшийся в нижнем слое, «распространяет неприятный запах», который, кроме прочего, «очень вреден для здоровья».[263] После нанесения художник должен был дождаться, пока штукатурка высохнет, – в прохладную погоду это занимало месяц или два. Затем наносили второй слой, и художник мог приниматься за работу.
Фрески писали в очень жестком графике. В начале рабочего дня каменщик загрунтовывал небольшой участок стены, который художник должен был покрыть краской до высыхания. Поццо подробно описывает этот процесс. «Это называется росписью „фреско“, – пишет он, – потому что краску необходимо нанести, пока штукатурка не высохла; по этой причине покрывать штукатуркой нужно лишь такой участок, который можно расписать в течение дня».[264] Итак, фреска создавалась фрагмент за фрагментом, день за днем, от художника требовалось работать в быстром темпе на небольшом участке влажной штукатурки. Как указывает Поццо, фреска требовала «большей поспешности и проворства», чем любой другой вид живописи.[265]
Фрески, как правило, не писали на влажной штукатурке с нуля. Для переноса изображения на стену использовали картоны. Картон – эскиз фрески в натуральную величину – создавался путем пропорционального увеличения эскизов при помощи сетки и переноса по квадратам на общий картон, состоявший (в зависимости от размеров фрески) из нескольких или нескольких десятков склеенных вместе листов бумаги. Этот большой картон, который, в случае «Тайной вечери» Леонардо, был в ширину почти десять метров, нарезали на фрагменты, а их прикрепляли к стене сразу после нанесения очередного участка верхнего слоя штукатурки. Рисунок с картона переносили на стену одним из двух способов: либо проходя стилосом по угольному контуру, который от этого вдавливался во влажную штукатурку, либо накалывая картон тысячами булавочных уколов, а потом набивая отверстия с помощью мешка, заполненного угольной пылью, – от этого на штукатурке оставался пунктир. Затем художник снимал картон и начинал заполнять либо вдавленный, либо пунктирный контур.
Итак, работа над фреской предполагала напряженный и длительный подготовительный этап еще до того, как будет положен первый мазок: конструирование и сооружение лесов, замешивание и нанесение штукатурки, перенос рисунка с картонов, которые сами по себе были итогом бесконечных предварительных набросков и занимали до нескольких сотен листов (один из знаменитых сохранившихся картонов, к «Афинской школе» Рафаэля, восьмиметровой фреске, украсившей жилые покои Ватикана около 1510 года, состоял из 195 склеенных между собой листов бумаги).
Хотя Леонардо и любил преодолевать трудности, наверняка эта сложная техника его несколько озадачила – по причине недостатка опыта. Более того, подобный режим работы – быстро накладывать краску и перемещаться на следующий участок – шел вразрез с его обычной манерой. Леонардо был не из тех, кто работает «с поспешностью и проворством». Дневник, который вел Якопо да Понтормо, когда делал росписи во флорентийской церкви Сан-Лоренцо, отчетливо показывает, как проходила работа над фреской. «В четверг написал две руки», – помечает он. «В пятницу написал голову и скалу под ней. В субботу – ствол дерева, скалу, руку. 27-го закончил ногу… Во вторник приступил к торсу… В четверг закончил руку. В пятницу другую руку. В субботу бедро».[266]
Трудно представить себе Леонардо работающим в такой фрагментарной манере. Он был не из тех, кто в пятницу закончит руку, а в субботу с готовностью возьмется за бедро. Он предпочитал писать в темпе более неспешном, чем того требовала техника фрески, тщательно обдумывая всевозможные тонкости – модуляцию цвета, переходы от света к тени, – что было практически невозможно при том «графике», который задавала фресковая живопись. Портреты и алтарные картины Леонардо писал с подчеркнутой медлительностью. Он тщательно добивался правильности цвета, смешивая краски и доводя их до нужной текстуры. Для достижения своих уникальных светотеневых эффектов он даже формовал и размазывал незасохшую краску кончиками пальцев. Следы пальцев видны на нескольких его картинах, в том числе на портретах Джиневры де Бенчи и Чечилии Галлерани, – свидетельства его попыток смягчить черты и одновременно непрерывных усилий добиться необычных визуальных эффектов.[267]
Отсутствие опыта в технике фрески, а также несовместимость этой техники с особенностями его дарования, видимо, стали двумя причинами, побудившими Леонардо написать Лодовико растерянное, несвязное письмо, где он пытается отказаться от этой работы, утверждая, что это «не мое искусство». Потом Леонардо, должно быть, смирился и продолжил трудиться над росписью, причем в духе экспериментаторства, а не в испытанной временем технике, в которой работали знаменитые живописцы, чьи фрески он видел во Флоренции.
* * *
Леонардо всегда тянуло к работе с масляными красками. Его записные книжки пестрят упоминаниями разных типов масел. Судя по всему, он много экспериментировал, изготавливая масло из грецких орехов, льняного и горчичного семени, иголок можжевельника и смолы кипариса. Надо думать, мастерская его по временам напоминала лавку аптекаря или лабораторию алхимика – масла вытекали из-под прессов и бурлили в ретортах. Он даже пытался изобрести способы избавления от «дурного запаха» некоторых ореховых масел, смешивая их с уксусом и выпаривая над огнем. Советы его на эту тему были многочисленны. «Если же ты хочешь, чтобы масло имело вид хороший и не густело, – пишет он в своем трактате о живописи, – впусти в него немного камфары, растворенной на медленном огне, и как следует смешай ее с маслом, и оно никогда не загустеет».[268]
По сравнению с яичной темперой, масло еще оставалось относительно новой, даже экспериментальной техникой. Вазари ошибочно утверждает, что масляная живопись возникла в первой половине XV века, на деле же процесс использования масла для растворения красителей описан еще в начале XII века в латинском трактате монаха-немца, известного только под своим псевдонимом – пресвитер Теофил. Однако масляная живопись не получила распространения, пока примерно в 1410 году техника эта не была усовершенствована во Фландрии Хубертом Ван Эйком. Ван Эйк, придворный живописец герцога Бургундского, стал использовать смесь льняного и орехового масел с добавлением смол и масла лаванды. Это открытие прославило его так, что кости его руки (кисть и предплечье) хранятся как реликвия поблизости от церкви в Генте, где находится его надгробие с незамысловатой эпитафией: «Меня звали Хуберт Ван Эйк. Теперь я – пища для червей».[269]
Делать какие-то общие выводы об итальянской средневековой живописи нелегко по одной причине: из всех работ, созданных в XIV веке, сохранилось меньше пяти процентов.[270] Тем не менее есть косвенные свидетельства того, что масляная живопись была известна в Италии как минимум с начала XIV века. В 1325 году, когда герцог Савойский заказал ученику Джотто по имени Джорджо д’Аквила роспись часовни в Пинароло, ему было выдано ореховое масло, однако масло, по мнению Джорджо, оказалось некачественным, и он отправил его герцогу на кухню, для использования при готовке.[271] Инновации Ван Эйка проникли в Италию при посредстве Антонелло да Мессины, который одно время работал в Брюгге; на его надгробии (он скончался в 1479 году) выбита горделивая надпись: «Он был первым, кто придал итальянской живописи красоту и долговечность, смешав краски с маслом».[272] Антонелло, как представляется, передал свой секрет Доменико Венециано, а тот, согласно не слишком правдоподобному утверждению Вазари, был убит соперником – не кем иным, как Андреа дель Кастаньо, который завидовал его успехам. По версии Вазари, Кастаньо вошел к Венециано в доверие, приглашая его на веселые вечеринки, где прекрасные девушки пели ему хвалу, аккомпанируя себе на лютне. После того как Венециано выболтал секрет изготовления масляных красок, Кастаньо ударил его свинцовой гирей по голове.[273]
Увы, не все тут согласуется: Кастаньо умер от чумы около 1457 года, за несколько лет до Венециано. Возможно, таким же вымыслом является и история о том, как Джованни Беллини хитростью выманил у Антонелло тот же секрет: явился к нему в мастерскую, переодевшись венецианским аристократом, желавшим заказать свой портрет, а потом внимательно проследил, что именно делает Антонелло.[274] Впрочем, при всей апокрифичности этих историй очевидно, что на протяжении почти всего пятнадцатого столетия техника смешивания пигментов с маслами – какие именно нужно брать масла и как именно смешивать – ревностно охранялась каждой мастерской.
Верроккьо, работавший исключительно с темперой, вообще не интересовался этим новшеством. Леонардо же увлекся масляной живописью уже в ученичестве. Лицо и кудри коленопреклоненного ангела в «Крещении Христа» Верроккьо – существует распространенное мнение, что это работа Леонардо, – написаны скорее маслом, чем темперой. В портрете Джиневры де Бенчи (середина 1470-х) использованы как масло, так и темпера, а лет на пятнадцать позже, работая над портретом Чечилии Галлерани, художник использует только масло. Члены братства Непорочного зачатия, похоже, оценили и то, что масло гораздо тоньше передает некоторые оптические эффекты, и то, как виртуозно Леонардо владеет этой техникой: в договоре 1483 года, подписанном с Леонардо и братьями де Предис, неоднократно повторяется, что и фигуры, и фоновый пейзаж на алтаре должны быть исполнены масляными красками.
У масла был целый ряд преимуществ перед яичной темперой. Самое очевидное состояло в том, что красители, смешанные с маслом, выглядели насыщеннее и блестели ярче, чем темпера. Масло обеспечивало художнику более богатую палитру цветов и оттенков, поскольку масляные краски можно было смешивать либо на палитре, либо (чему свидетельство – следы пальцев Леонардо) прямо на поверхности картины. Кроме того, можно было варьировать соотношение масла и пигментов, получая более разнообразный набор консистенций – от тонких, просвечивающих слоев цвета до плотных сгустков. Масло можно было разогреть перед добавлением пигмента, чтобы создать более вязкую краску, а уменьшить вязкость можно было добавлением камфары или других масел. В отличие от темперы, масло при высыхании не меняло цвета. Кроме того, сохло оно медленнее, давая художнику возможность переработать картину, внести столько изменений, сколько понадобится, – еще одно свойство, которое, безусловно, импонировало Леонардо.
Легенды о шпионаже и убийствах свидетельствуют еще об одном: работа с маслом требовала большого технического мастерства. Художник должен был понимать специфические свойства различных пигментов: какие больше подходят для масла, какие – для темперы. Кроме того, ему нужно было знать, с каким маслом – льняным, ореховым, маковым – смешивать пигменты, нужно ли подогревать масло на огне или на солнце. Именно поэтому Леонардо и проводил все свои эксперименты со ступками, пестиками и бурлящими ретортами.
Масляная техника давала Леонардо возможность воспроизводить изумительные зрительные эффекты, которые и составили его репутацию живописца: мрачный полусвет и дымка в «Мадонне в скалах», слегка размытые черты на портретах Джиневры де Бенчи и Чечилии Галлерани. Его мастерство и опыт в работе с маслом, но не с фреской навели его на мысль, что «Тайную вечерю» можно написать в технике, отличной от общепринятой, а именно маслом по сухой штукатурке.
Метод был новым, не проверенным временем, хотя раньше его уже хвалил архитектор и ученый-эрудит Леон Баттиста Альберти. Его трактат «De re aedificatoria» («Десять книг о зодчестве»), написанный в 1440-е годы, содержит советы по созданию фресок, за которыми следует весьма примечательное заключение: «Было в недавнее время открыто, что льняное семя защищает любую краску, какую вам вздумается нанести, от пагубных воздействий климата и воздуха, при условии что стена, на которую ее наносят, суха и не содержит никакой влаги».[275]
В библиотеке Леонардо имелся труд Альберти – один из самых знаменитых трактатов по архитектуре XV века.[276] Более того, работы, о которых говорил Альберти, были ему прекрасно знакомы. Наверняка Альберти имел в виду настенные росписи Доменико Венециано, который в конце 1440-х годов (примерно тогда, когда Альберти трудился над своими трактатами) расписывал маслом по сухой штукатурке стены капеллы Портинари в лечебнице Санта-Марии Нуова во Флоренции, – тот же эксперимент в той же часовне несколько лет спустя повторил его предполагаемый соперник и убийца Андреа дель Кастаньо.[277]
Хотя работы этих художников не сохранились, Леонардо наверняка видел их (у него был банковский счет в Санта-Марии Нуова) и оценил техническое нововведение. Кроме того, ему наверняка была знакома настенная роспись, которую выполнили маслом Паоло Уччелло и Антонио ди Папи для трапезной флорентийской церкви Сан-Миниато аль Монте. Эта роспись – «Распятие», относящееся к середине 1450-х годов, – не сохранилась, однако в архивах Сан-Миниато однозначно указано, что выполнена она была маслом, – художники использовали эту технику, «хотя и не были обязаны». Заказчики остались так довольны, что выдали исполнителям дополнительное вознаграждение.[278]
Пример коллег, наряду с инструкциями Альберти и собственной любовью к новаторству, должен был вдохновить Леонардо и придать ему уверенности в себе: он напишет «Тайную вечерю» маслом по сухой штукатурке. Собственно, он собирался сделать еще один шаг вперед – смешивать пигменты не только с маслом, но и с яичным желтком, чтобы получилась «масляная темпера».[279] По сути, он брал темперные краски и подмешивал в них масляную эмульсию. Процедура была полностью новаторской – о прецедентах не известно, – и, прежде чем приняться за основную работу, Леонардо наверняка много экспериментировал у себя в мастерской в Корте дель Аренго, доводя новую технику до совершенства.
* * *
Итак, Леонардо подошел к работе иначе, чем Монторфано, который трудился над своим «Распятием» в каких-нибудь тридцати метрах. Леонардо создал для своей картины доселе невиданную поверхность. После того как просох первый слой штукатурки, он покрыл его более тонким, слегка зернистым слоем углекислого кальция, смешанного с магнезией и неким связующим веществом, скорее всего изготовленным на основе животного клея.[280] Когда подготовительный слой высох, Леонардо покрыл его слоем свинцовых белил – по сути, грунтовкой, которая должна была закрепить слой штукатурки и добавить живописи свечения.[281]
Леонардо, по всей видимости, знал, что использование свинцовых белил в качестве грунта сопряжено с определенным риском. Свинцовые белила изготавливали, смешивая свинцовую стружку с уксусом и конским навозом, – это самый распространенный краситель в истории, много веков именно этой краской и пользовались по преимуществу все европейские художники. Однако для фресковой живописи их применять не рекомендовалось, поскольку, окисляясь, они превращались в двуокись свинца и приобретали буроватый оттенок. Это превращение видно на фресках Чимабуэ в Нижней базилике Сан-Франческо в Ассизи, где белая краска потемнела с катастрофическими последствиями, изменив все исходные цвета. Леонардо, видимо, полагал, что долговечность красителя повысится, если смешать его с маслом или наносить вместе со связующим веществом, например яичной темперой, или если накладывать его не на влажную, а на сухую штукатурку.
При использовании свинцовых белил, особенно в больших количествах, возникала и другая опасность. Свинец, как известно, ядовит. О его токсичных свойствах знали уже во времена Древнего Рима, когда архитектор Витрувий написал, что он «вреден для человеческого организма», отмечая, что люди, обслуживающие водопровод, «очень бледны».[282] Отравление свинцом было для художников профессиональным заболеванием. Им, возможно, страдали Рафаэль и Корреджо, его жертвой пал и Джеймс Мак-Нейл Уистлер: он тяжело заболел в 1862 году, когда писал свою «Симфонию в белом № 1». Ван Гог, который, случалось, ел свои краски (у свинца сладковатый вкус), возможно, тоже пострадал именно от этого. Многие авторитеты, например Вазари, и сам периодически погружавшийся в депрессию, полагали, что умственные расстройства и меланхолия, отличавшие многих художников, связаны с малоподвижным и умозрительным образом жизни, однако на деле виновником мог быть пигмент на кончиках их кистей.[283] Трудно найти художника, который бы до или после Леонардо использовал так много свинцовых белил, как он в своей «Тайной вечере», – хотя никаких симптомов отравления у него, судя по всему, не наблюдалось.
Загрунтовав штукатурку свинцовыми белилами, Леонардо перешел к работе красками, накладывая их на снежно-белую, точно сухая кость, стену. Как именно он переносил на нее рисунок, неясно. Невозможно сказать, пользовался ли он картонами, и если да – в какой мере, ибо картонов не сохранилось; с другой стороны, картоны по определению были одноразовыми, они портились при наложении на стену и, соответственно, почти всегда погибали. Иногда Леонардо брал сангину и набрасывал контуры и детали композиции прямо на белом грунте.[284] В других местах он наносил предварительный рисунок с помощью кисти и черной краски. Местами он процарапывал контур на штукатурке, возможно используя картон. Когда доходило до проработки цветом, он порой отступал от этих линий – переиначивал и импровизировал по ходу. Впрочем, свидетельства серьезных изменений или колебаний немногочисленны. Кроме того, нет булавочных наколов, неопровержимых свидетельств того, что художник использовал картон.[285]
Открыв оптимальный, по его понятиям, состав «масляной темперы», Леонардо начал наносить краску слой за слоем, давая каждому из них высохнуть, прежде чем перейти к следующему: в технике фрески такое невозможно. Зачастую художник использовал четыре-пять слоев разного цвета, очерчивая формы и создавая полутона, иногда начинал с более темного тона, а потом дополнял и расцвечивал его более светлыми, полупрозрачными красками. Например, для неба на заднем плане он сначала использовал азурит (пигмент, получаемый из медной лазури), а потом последовательно добавлял к нему более светлые синие и голубые слои, создавая иллюзию глубины. Особо тщательно выписывал он оттенки кожи, используя три цвета и более. На некоторых лицах он делал подложку из свинцовых белил, потом наносил слой черной краски с добавлением киновари, потом еще слой свинцовых белил и, наконец, желтую охру и еще один слой киновари.[286] Нанесение краски послойно, неспешность, упорядоченность этого процесса, возможность перерабатывать фрагменты картины – все это типично для масляной живописи по дереву, а не для масштабной росписи по штукатурке. Леонардо даже использовал прозрачный лак для выделения отдельных цветовых пятен.[287]
У Леонардо был и другой способ сделать цвета насыщеннее. Он использовал многие пигменты, не подходящие для фресковой живописи, в особенности ярко-синие и красные: ультрамарин, азурит, киноварь. Техника фрески ограничивает палитру, поскольку пигменты, изготовленные из минералов, не выдерживают взаимодействия с известью. Их можно смешать со связующим веществом, например яичным белком, и потом нанести на стену – к этому прибегали многие художники (Микеланджело позднее будет щедро использовать ультрамарин для своего «Страшного суда» в Сикстинской капелле). Однако связующее вещество постепенно утрачивает цвет, а пятна краски превращаются (как предупреждал один трактат) в «уродливые потеки».[288] Соответственно, при создании фресок советовали пользоваться только теми пигментами – менее насыщенными охрами и умбрами, – которые способны выдержать воздействие известковой штукатурки, а разводить их водой.
Однако Леонардо, по всей видимости, хотел придать настенной живописи хроматическое богатство алтарной картины, написанной маслом или темперой, и стремился преодолеть цветовые ограничения, которые накладывала техника фрески. Леонардо, как никто до него, разбирался во взаимовлиянии цветов: как цвет изменяется под воздействием соседнего и, в свою очередь, изменяет его. «Поверхность каждого непрозрачного тела, – пишет он, – причастна цвету противостоящего ему предмета».[289] То есть Леонардо понимал, что насыщенность и оттенок цвета могут меняться в зависимости от того, какие цвета имеются рядом. Например, он отмечал, что красный выглядит насыщеннее рядом с белым и желтым, но не с фиолетовым. Одним словом, Леонардо открыл закон дополнительных цветов, отметив, что цвета приобретают особую яркость, «окруженные своими прямыми противоположностями».[290] Тем самым Леонардо опередил коллег по цеху на много столетий. Только в XIX веке был разработан закон «одновременного контраста цветов» (как его называл французский химик Мишель-Эжен Шеврёль). В 1839 году Шеврёль изобрел цветовой круг (его теперь используют во всех школах на уроках рисования), на котором было показано, каких мощных, выразительных контрастов можно добиться, поместив рядом цвета, расположенные в 180 градусах друг от друга, – представление, из которого вырос пуантилизм Жоржа Сёра, а потом буйные, взаимоотрицающие цвета постимпрессионистов.[291]
Примечательно и еще одно наблюдение Леонардо, касающееся относительности цвета: «Поверхность всякого теневого тела причастна цвету противолежащего ему предмета».[292] Судя по всему, основная посылка этого утверждения – что тени не являются черными, но имеют оттенок определенного тона – так и осталась непонятой и неисследованной, пока не легла в основу представлений импрессионистов: один американский критик нашел для нее подходящее название, «идея синей тени».[293] Леонардо даже придумал собственный метод написания синих теней: он использовал пигмент из смеси яри-медянки и шеллака – красноватого клейкого вещества, получаемого из насекомых.[294]
В любом случае выбор техники и красителей гарантировал, что почтенные доминиканцы будут вкушать пищу среди неповторимого буйства красок.
* * *
Судя по расходным книгам Леонардо, краски для выполнения большого заказа он закупал оптом. Несколько лет спустя, во Флоренции, работая еще над одной масштабной стенной росписью, «Битвой при Ангиари», он приобрел два фунта киновари, четыре фунта желтой краски, шесть – зеленой, двадцать фунтов голубца (краски, которую изготавливали из минерала азурита) и сорок фунтов льняного масла для растворения пигментов. Общая стоимость составила 120 лир, или 30 флоринов, – годовой доход ткачихи.[295]
Стоимость красителей для «Тайной вечери», которая по размерам меньше «Битвы при Ангиари», скорее всего, равнялась примерно половине этой суммы. Договор на «Тайную вечерю» утрачен, поэтому подробности касательно оговоренных материалов и сметы (на краску, штукатурку, леса) нам неизвестны. Впрочем, опыт сотрудничества с братством Непорочного зачатия, когда все причитавшиеся Леонардо деньги ушли (по его словам) на краски и иные материалы, должен был заставить художника внимательнее прочитать договор.
Самые качественные пигменты поставляли из Венеции; иногда в договорах имелся отдельный пункт, оговаривавший, что художнику дозволяется съездить за материалами во Флоренцию или в Сиену.[296] Художник мог приобрести исходные вещества (киноварь – для красных, малахит – для зеленых) и изготовить краски самостоятельно, измельчив их у себя в мастерской. Некоторые предпочитали закупать готовые краски у определенных изготовителей. У нас нет данных о том, где и у кого Леонардо приобрел материалы для «Тайной вечери», однако известно, что для «Поклонения волхвов» он покупал готовые краски у монахов из монастыря Сан-Джусто алле Мура, известных своим мастерством (в частности, они были поставщиками Боттичелли и Микеланджело).
То, что Леонардо должен приобрести краски именно у монахов Сан-Джусто алле Мура, было одним из условий договора. Впрочем, в других случаях он, судя по всему, предпочитал покупать исходные вещества, а потом – что неудивительно – экспериментировать со всевозможными смесями и составами. Один из его рецептов изготовления индиговой краски звучит так: «Возьми цветов синили и крахмала в равных долях, и замешай вместе с мочой и уксусом, и сделай из этого порошок, и высуши его на солнце, и, если это окажется слишком белым, добавь цветов синили, делая пасту той темноты цвета, какая тебе потребна». Для изготовления желтой краски цинковую окись надлежит растереть с индийским шафраном и бурой. Чтобы получить красивый зеленый цвет, нужно смешать зелень с лимонным соком, а для получения голубого цвета необходимо положить в водку цикорий. Для получения «прекрасной зелени» нужно смешать медную зелень с алоэ, желчью или индийским шафраном.[297]
Когда дело наконец дошло до росписи на стене трапезной, Леонардо пришлось карабкаться на самый верх лесов. Фрески почти неизменно писали сверху вниз, чтобы потеки краски не попадали на уже готовые фрагменты. Леонардо, возможно, прибег к тому же методу, так что первым, что он написал в трапезной, стали три геральдических щита в люнетах прямо под сводом: гербы Лодовико Сфорца и двух его сыновей-наследников. Гербу Лодовико скоро предстояло стать в Милане и его окрестностях привычным зрелищем. Герцог планировал высечь его в мраморе и поместить на городских воротах, а также на всех общественных зданиях. Эта затея, по словам герцога, была «близка его сердцу».[298] Однако первым местом, где герб этот воссиял во славе, стала, судя по всему, трапезная церкви Санта-Мария делле Грацие.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Центральный люнет над «Тайной вечерей» с изображением герба Сфорца. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Все три геральдических щита сильно пострадали от времени, изображения распознать трудно, отчасти потому, что около 1700 года их закрасили, семьдесят пять лет спустя частично раскрыли, а полностью расчистили только в середине XIX века. Однако верхний правый герб – по всей видимости, именно с него и начал Леонардо – явственно принадлежал старшему сыну Лодовико Массимилиано. Имя мальчика, родившегося в январе 1493 года, отражало новые политические пристрастия и растущие амбиции Лодовико. При рождении ребенка нарекли Эрколе в честь деда по матери, Эрколе д’Эсте Феррарского, однако не прошло и года, как Лодовико официально перекрестил его в Массимилиано, дабы подольститься к императору Максимилиану. Поскольку мальчик носил титул герцога Павийского, на гербе его представлены и змея Висконти, и орлы Павии.
Младший брат Массимилиано, Франческо, названный в честь деда по отцу, появился на свет два года спустя, в феврале 1495-го, примерно тогда, когда Леонардо приступил к работе в трапезной. Новорожденного почтили гербом в верхнем правом углу помещения. Геральдические знаки почти полностью утрачены, однако слова DVX BARI, «герцог Бари» – титул юного Франческо, – можно прочитать и по сей день. Лодовико и его жена почтены в центральном, самом большом люнете. Опять же геральдические знаки почти не читаются, однако на щите изображены и имперский орел, и змея Висконти; Беатриче наверняка представляли белый орел и флер-де-лис, украшавшие семейный герб д’Эсте.
Леонардо любил выдумывать остроумные девизы, однако работа над этими тремя геральдическими щитами вряд ли давала простор его фантазии. Он оживил изображения, окружив каждое венком из пальмовых ветвей, украшенных травой, желудями, дубовыми листьями, фруктами – яблоками, абрикосами, грушами. В центральном люнете он даже добавил ежевику, оливки и фиги. Все детали выписаны с натуралистической точностью (аккуратно прорисованы даже прожилки на листьях ветки грушевого дерева), невзирая на то что расположены гербы почти в десяти метрах от пола и рассмотреть их в полусвете трапезной очень сложно, почти невозможно. Кроме того, Леонардо прорисовал некоторые детали гербов золотом, создав иллюзорное чувство объема – как будто щиты подвешены высоко на стене.
Эти три щита, по сути, стали только началом. Лодовико, так часто думавший о своих предках, думал и о потомках, о том, что трапезную церкви Санта-Мария делле Грацие можно превратить в своего рода фамильную галерею рода Сфорца. А потому Леонардо написал еще два щита в люнетах на стенах, прилегающих к той, где предстояло появиться «Тайной вечере». Щиты оставили пустыми в ожидании появления на свет очередных наследников Сфорца.[299] То был оптимистичный жест – ведь сделан он был в момент, когда над домом Сфорца сгустились тучи. Одна мысль наверняка приходила Леонардо в голову, когда он приступал к работе: если Лодовико не удержится у власти, заказ будет отменен.
* * *
Прежде чем написать гербы рода Сфорца, Леонардо нанес на стену предварительный рисунок. Он разметил поверхность с помощью стилоса, обозначил на ней контур (возможно, использовав для этого картон), потом дополнительно прочертил его углем. На угольном рисунке читается обратный наклон штриховки – верный знак того, что Леонардо сделал рисунок собственноручно. Впрочем, следуя давней негласной традиции, он явно поручил часть живописных работ своим ученикам.
И при работе над картинами, и при работе над фресками художники всегда передоверяли фрагменты попроще, вроде пейзажа и повторяющихся деталей, подмастерьям или ученикам. Знаменитое утверждение Микеланджело, что он в одиночестве расписал свод Сикстинской капеллы, «без всяческой помощи – никто даже не перетирал для него краски», – откровенное преувеличение.[300] Заказчики знали о том, что мастер не сможет сам написать каждый сантиметр фрески, однако в договорах, как правило, уточнялось, что именно глава мастерской отвечает за самые важные, заметные и сложные детали. Договор с Лукой Синьорелли на фрески для собора в Орвието (1499) в этом смысле типичен: там оговорено, что Синьорелли лично напишет «лица и все части фигур, от середины фигуры и доверху».[301] В договоре также указано, что Синьорелли должен лично смешивать краски, – показатель того, какое значение придавалось этой муторной, отнимающей много времени процедуре и какова была ее сложность.
Точных имен помощников Леонардо в этой работе, помимо Салаи, мы не знаем. Маленькому негоднику уже исполнилось пятнадцать лет, он работал при Леонардо в качестве неизменного, пусть и ничем не выдающегося, помощника. Впрочем, в Милане вокруг Леонардо собрались куда более талантливые подмастерья – небольшая группа молодых живописцев, составивших своего рода школу Леонардо. В их число входил богатый миланский аристократ, родившийся около 1467 года, по имени Джованни Антонио Больтраффио. Другого ученика Леонардо, который тоже родился примерно в 1467 году, звали Марко д’Оджоно. Оба уже понесли профессиональные потери: у каждого Салаи украл по рисунку серебряным штифтом.
К середине 1490-х годов Больтраффио и д’Оджоно пустились в свободное плавание – они совместно работали в Милане над алтарной картиной для недавно построенного оратория рядом с собором Сан-Джованни суль Муро. Оба так крепко усвоили стиль учителя, что одно время эту картину приписывали самому Леонардо. Леонардо поддерживал с ними тесные профессиональные отношения, даже снабжал их рисунками и эскизами (возможно, так оно было и в случае алтаря в оратории). Он запросто мог попросить их помощи в работе над фреской. Документальных свидетельств о том, что они в тот период были как-то связаны с его мастерской, нет, но отсутствие свидетельств еще не есть доказательство их отсутствия.
Впрочем, согласно записным книжкам, в мастерской имелись и другие помощники. Леонардо, скрупулезно ведший все счета, фиксирует многочисленные выплаты разным домочадцам и подмастерьям, обитавшим в Корте дель Аренго: Джанпьетро, Бенедетто, Джованни, Джанмария, Бартоломео и Герардо.[302] Джанпьетро – это, по всей видимости, Джованни Пьетро Риццоли, впоследствии известный как Джампетрино, молодой миланский живописец, который одно время работал в мастерской Леонардо.[303] Личности других установить сложнее. Их имена, лаконично упомянутые в бухгалтерских записях Леонардо без всяких дополнительных подробностей, не дают возможности установить, были ли они художниками. Вряд ли все они участвовали в работе над фреской. Впрочем, некоторые, например Бенедетто и Джованни, явно были умелыми ремесленниками, способными за несколько месяцев заработать немалые деньги. Если у них был опыт создания фресковой живописи, на планы Леонардо они наверняка смотрели с недоверчивым изумлением.
Глава 8 Беды со всех сторон
В середине июля 1495 года Карл VIII и его воины достигли безопасного укрытия – крепости Асти. После отступления из Форново они обносились, устали, исчерпали запасы провианта – вынуждены были пить стоялую воду из канав и питаться одним хлебом, «причем не самым лучшим».[304] Десятью месяцами раньше именно в Асти состоялась первая встреча Карла с Лодовико Сфорца. Для развлечения гостя Лодовико нанял певцов, танцоров и музыкантов, а Беатриче поразила цвет французского рыцарства красотой своего наряда – корсаж (по словам одного ошарашенного очевидца-француза) «был усыпан брильянтами, жемчугом и рубинами, как спереди, так и сзади».[305] Теперь же два правителя находились в состоянии войны – Карл ждал прибытия двадцати тысяч наемников-швейцарцев, чтобы возобновить наступление.
Лодовико мог порадоваться хотя бы тому, что дела у герцога Орлеанского, его соперника в борьбе за миланское владычество, шли весьма скверно. После безрассудного броска на Милан Людовик вынужден был отступить в Новару, и теперь войско его находилось в осаде, окруженное совместными миланскими и венецианскими силами. Атаковать Новару Лодовико не планировал. У него не было артиллерии, да и вообще не хотел он разрушать ядрами один из собственных городов. Вместо этого он решил взять Людовика и его армию измором – тот в такой панике бежал за стены Новары, что допустил серьезнейшее упущение: не сделал запасов провианта. Бойцы Священной лиги отвели воду, вращавшую жернова мельниц внутри города, тем самым лишив французов возможности смолоть имевшийся у них небольшой запас зерна. Помимо физического, французских воинов терзал информационный голод, поскольку Лодовико, со свойственным ему коварством, отправил в Новару поддельные документы, гласившие, что Карл пал в битве при Форново. Упадку морального духа в стенах крепости способствовал и еще один слух: что Карл слишком занят ухаживанием за Анной Соларо, дочерью местного богача, и ему совсем не до невзгод своих воинов.[306]
Осада Новары продолжалась все лето 1495 года, не завершилась и осенью. Обстановка в городе скоро стала невыносимой. «Каждый день люди умирали от голода», – пишет французский хронист.[307] Карл отправил из Асти караван вьючных животных с провиантом для осажденных, но его с легкостью перехватили, конфисковав продовольствие.
Все же в конце концов перед осажденными забрезжила надежда. Стремительно приближались и зима, и швейцарские наемники, поэтому Франческо Гонзага начал улещивать Карла: прежде всего он вернул ему меч и шлем, взятые при Форново, а с ними – альбом с реестром его амурных побед. Карл выразил свою признательность и через посланника в Венеции дал знать, что и он желает мира. Начались переговоры, поначалу Лодовико занял крайне жесткую позицию. Впрочем, нужда в мире сильно превосходила его тягу к войне, и быстро была достигнута договоренность о выводе войска из Новары. К моменту окончания осады, продлившейся три месяца и четырнадцать дней, от голода и болезней скончались две тысячи воинов Людовика. Одного из французских посланников потряс вид уцелевших, «столь худых и изможденных, что они больше напоминали мертвецов, чем живых людей; воистину, никогда еще никому не приходилось претерпевать таких тягот».[308] По ходу отступления еще сотням предстояло умереть прямо у дороги – в пятнадцати километрах от Новары, на французском аванпосту в Верчелли; трупы погибших кидали прямо в навозные кучи.
Людовик жаждал отомстить Лодовико. Сразу после вывода армии из Новары он, по словам ошарашенного французского посланника, «завел речь о новых сражениях».[309] Во французский лагерь наконец-то прибыли двадцать тысяч швейцарских наемников, и Людовик убедил Карла прекратить мирные переговоры и повернуть свою армию на Милан.
* * *
Возможно, эти политические события на некоторое время отвлекли Леонардо от его стенной росписи. Впрочем, какой бы тяжелой ни выглядела ситуация, ничто не в силах было отвадить Лодовико от помпезности и расточительности, и, видимо, вновь Леонардо, «судья по всем вопросам, связанным с красотой и изысканностью», был призван к нему на службу.
В августе, во время осады Новары, Лодовико руководил смотром армии Священной лиги, впечатляющим парадом, по ходу которого миланские войска маршировали под гигантским знаменем, украшенным знакомой фигурой мавра, державшего орла в одной руке и душившего дракона другой. «Воистину, то было изумительное зрелище», – писал один ученый-неаполитанец, свидетель события. Правда, произошла неприятная заминка: под Лодовико споткнулся и рухнул конь – сбросил всадника на землю, и тот перепачкал свой пышный наряд. «Это приняли за дурной знак, – повествует один летописец, – и присутствовавшие там в тот день часто впоследствии поминали об этом происшествии».[310]
У нас нет данных, свидетельствующих о том, что Леонардо участвовал в осаде Новары и перекрытии подачи воды в город. Хотя, учитывая его интерес к гидравлике и опыт соответствующих работ – от каналов и фонтанов до водяных будильников, выбор вроде бы должен был пасть на него. В его письме-представлении обозначено умение «отводить воду из рвов». Находясь на службе у Лодовико, он изучил каналы в сельской местности вокруг Виджевано – основной из них, Навильо Сфорцеско, был центром сложной разветвленной системы. С целью улучшить навигационные и ирригационные свойства местности Леонардо написал подробный план строительства мельниц, плотин и шлюзов.
Примерно в это же время Леонардо, по всей видимости, получил еще одно задание – укрепление Миланского замка. Военное строительство тоже входило в сферу его интересов. Ему принадлежал экземпляр «Trattato di architettura civile e militare» («Трактат о гражданской и военной архитектуре») Франческо ди Джорджо Мартини, самого востребованного военного инженера в Италии. Этот экземпляр сохранился до наших дней, наброски и заметки на полях свидетельствуют о внимательном, заинтересованном чтении. Не исключено, что Франческо был героем мальчишеских лет Леонардо, – возможно, именно этот создатель военных укреплений пробудил в нем интерес к боевым машинам. В 1490 году Леонардо довелось познакомиться с Франческо лично – они обсуждали устройство центрального купола Миланского собора. После этого они вместе отправились верхами в Павию и жили там в одном трактире, пока проводили с инженерами консультации по поводу Павийского собора. Интерес Леонардо к фортификации, видимо, только усилился после 1494 года, когда французская артиллерия недвусмысленно продемонстрировала уязвимость итальянских крепостей.
Из заметок Леонардо мы видим, что он проводил замеры укреплений Миланского замка, дабы усовершенствовать их, сделав стены неприступными. «Рвы Миланского замка… тридцать локтей» – гласит одна из его пометок (локоть равняется сорока девяти сантиметрам). «Валы шестнадцать локтей в высоту и сорок в ширину… Внешние стены восемь локтей в ширину и сорок в высоту, внутренние стены замка шестьдесят локтей». Леонардо пишет, что такие укрепления «полностью бы меня устроили», если бы только амбразуры – небольшие отверстия, в которые, как он отмечает, «всегда целят хорошие бомбардиры», – не были расположены точно по линии тайных ходов внутри стен замка. Если эти слабые точки пробить ядрами, враг хлынет в крепость и «завладеет всеми башнями, стенами и тайными ходами».[311] Если Лодовико прочитал эти слова после событий в Новаре, по спине у него, видимо, пробежал холодок.
Деятельность по охране рубежей государства и отпору его врагам наверняка была для Леонардо куда интереснее, чем работа над росписью в церкви Санта-Мария делле Грацие, да и престижа в ней было больше. В письме к Лодовико он подчеркивает свое умение изобретать и использовать смертоносные «военные орудия». Однако больше десяти лет идеи его оставались незамеченными, а вместо этого ему приходилось забавлять придворных всякими хитрыми приспособлениями и досужими развлечениями. И тут итальянцев вдруг посрамили на поле боя, их замки и пушки оказались бессильными против французского нашествия, и даже сам Лодовико, едва запахло порохом, вынужден был искать укрытия в своем замке. Леонардо, видимо, верил в то, что в случае войны и угрозы со стороны могучего противника ему наконец дадут возможность построить военные механизмы.
* * *
Похоже, что в 1495 году Леонардо принимал участие еще в некоем проекте: для этого потребовалось совершить поездку во Флоренцию – город, разительно переменившийся со дней его ученичества. Наверняка за прошедшие годы он время от времени навещал Флоренцию, до которой было всего двести пятьдесят километров к юго-востоку, но визиты эти не документировались. Его бывший учитель и друг Верроккьо скончался в 1488 году, но отец все еще был жив. Сер Пьеро, которому исполнилось шестьдесят девять лет, женился в четвертый раз, и его дом на Виа Гибеллина (куда он переехал в 1480 году) буквально кишел младенцами. Помимо Леонардо, у него было уже восемь отпрысков: шесть сыновей и парочка дочек. Все, кроме двух старших, Антонио и Джулиано, родились уже после отъезда Леонардо в Милан. Младшему, Пандольфо, был всего год, и в 1495 году мачеха Леонардо, тридцатиоднолетняя Лукреция, снова была беременна.
Дела, по которым Леонардо ездил во Флоренцию, не были связаны с живописью. В годы жизни в Милане он не получал заказов ни от кого из флорентинцев – отчасти, видимо, по причине своей общеизвестной медлительности. Однако он надеялся завести связи в среде флорентийских купцов, прежде всего торговцев шерстью. Во Флоренции процветала текстильная промышленность, Леонардо же изобрел целый ряд текстильных механизмов: ручной ткацкий станок, механическую шпульку, машину для изготовления иголок, которая, по его расчетам, могла производить сорок тысяч иголок в час и позволяла зарабатывать фантастическую сумму – шестьдесят тысяч дукатов в год. Он, видимо, рассчитывал, что во Флоренции этим изобретениям найдется применение. Примерно в 1494 году он набросал чертеж ткацкого станка, а на тех же страницах – проект канала, по которому, по его замыслу, флорентийская Гильдия торговцев шерстью могла бы перевозить товар через Тоскану, а с других пользователей брать деньги и тем самым увеличивать свои доходы. Все эти занятия свидетельствуют о широте интересов Леонардо, о масштабе его амбиций и о глубине убежденности в том, что любую человеческую деятельность можно оптимизировать с помощью технологии и изобретений. Впрочем, похоже, что ему не удалось соблазнить твердолобых флорентийских купцов ни одним из этих планов.[312]
В 1495 году его, судя по всему, привело во Флоренцию другое: смена правительства и забрезжившая возможность получить архитектурный заказ. После изгнания Медичи в конце 1494 года Флоренция объявила себя республикой и приняла новую конституцию. Вакуум власти, образовавшийся после изгнания бывших правителей, быстро заполнил Джироламо Савонарола, который утверждал, что является глашатаем Божьим, а следовательно – непререкаемым авторитетом. Он ратовал за созыв народного собрания, которое состояло бы из всех флорентинцев мужского пола в возрасте свыше двадцати девяти лет. Такое расширение состава правительства означало, что потребуется построить новый, просторный Зал совета.
Вазари пишет, что перед началом строительства были испрошены мнения всевозможных знаменитостей, в том числе Леонардо и молодого Микеланджело. Последнему было всего двадцать лет, и, по правде говоря, то, что к нему обратились тоже, весьма сомнительно. Более того, в 1495 году Микеланджело даже не было во Флоренции – после низложения Медичи он перебрался в Болонью. А вот что касается участия Леонардо, Вазари, возможно, прав. Впрочем, если Леонардо рассчитывал получить этот заказ, подробности которого прояснились только после «долгих споров», его ждало разочарование. Работу поручили Симоне дель Поллайоло, известному как Кронака, – человеку, который, подчеркивает Вазари, «был большим другом Савонаролы и весьма был ему предан».[313]
Нельзя исключить, что Леонардо в тот раз приехал во Флоренцию и еще по одной причине: пошпионить против родного города. В его записных книжках кто-то – не Леонардо – нацарапал частично нечитаемую фразу, «меморандум маэстро Леонардо», где от художника требовали «предоставить как можно скорее доклад о положении во Флоренции», а в особенности о том, как Савонарола «организовал Флорентийское государство».[314] Судя по всему, Леонардо должен сделать некоему лицу в Милане доклад о политической ситуации во Флоренции: по сути, передать информацию о Савонароле и его новом республиканском правительстве, – скорее всего, лицом этим был Лодовико Сфорца. Леонардо вменялось в обязанность обратить особое внимание на городские укрепления, например на вооружение и гарнизон фортов, – это наводит на мысль, что замышлялось нападение или захват.
Доклад Леонардо не сохранился, поэтому мы не можем сказать, действительно ли он выступал во Флоренции в роли тайного агента герцога. Однако само по себе такое задание не исключено – отношения между двумя государствами были натянутыми. Флоренция хранила верность французам и, несмотря на обещание военной поддержки со стороны членов Священной лиги, отказалась в нее вступать. Французы по-прежнему занимали Пизу и другие укрепленные флорентийские города, а флорентинцы явно доверяли французам больше, чем Лодовико, – его они справедливо подозревали в желании стать властителем Пизы. Собственно, летом Лодовико отправил в Пизу отряд лучников, чтобы помочь горожанам отразить попытки флорентинцев вернуть себе город. Кроме того, в задачи его входило подорвать влияние Савонаролы. «Я делаю все, чтобы настроить народ здесь против него», – докладывал посланник Лодовико во Флоренции.[315]
У Лодовико были все основания опасаться как Савонаролы, так и союза флорентинцев с французами. Встретившись в июне с Карлом VIII, монах-доминиканец заверил того, что весь город на стороне французов. Похоже, город был и на стороне Савонаролы. Один флорентийский лавочник отметил в своем дневнике: жители Флоренции так преданы Савонароле, что по его приказу готовы броситься в огонь.[316] Дабы послушать его пламенные проповеди, в собор стекалось до двенадцати тысяч человек. Вести он возглашал не слишком радостные. «Возвещаю вам, – заявил он с кафедры в 1495 году, – что Италию ждут потрясения, и те, кто ныне превыше всех, падут в бездну. О Италия! Беды посыплются на тебя одна за другой. Голод сменится войной, война – мором; беды со всех сторон».[317]
На портрете Савонаролы, выполненном одним из сподвижников, где его суровое лицо с орлиным носом частично скрыто капюшоном рясы, есть надпись: «Портрет фра Джироламо Савонаролы, пророка, посланного Господом». Намерения у пророка были внятные. Как сформулировал один из его сторонников, он желал «очистить наш город от пороков и наполнить его сиянием добродетели».[318]
Если Леонардо действительно посетил Флоренцию в 1495 году, его вряд ли порадовали бы некоторые из планов Савонаролы очистить город от пороков. Монах совершенно не признавал тщеславия и роскоши, поэтому ввел строгие законы против роскошных и «распутных» одеяний. То, что ученые-гуманисты изучали языческих авторов, представлялось ему неприемлемым. «Платон, Аристотель и прочие философы горят в аду», – жизнеутверждающе объявил он любителям классического знания. В декабре 1494 года Савонарола призвал побивать камнями и сжигать содомитов. Сразу после этого призыва участились доносы того же рода, что и донос, заставивший Леонардо в 1476 году предстать перед судом. Хотя правительство отклонило предложение карать содомию смертью, ситуация вскорости сделалась еще опаснее и мрачнее – в начале 1496 года Савонарола начал призывать членов своих отрядов – детей в белых облачениях, fanciulli (деток), – выслеживать и обличать содомитов. «К мальчикам этим относились с таким уважением, – пишет один из горожан, – что все сторонились греха, а в особенности – мерзейшего из пороков».[319]
Да, то более не была Флоренция Лоренцо Великолепного. Поколебленные призывами Савонаролы, флорентинцы отказывались от ценностей, которые в предшествовавшем столетии снискали городу репутацию непревзойденного центра наук и искусств: от восхищения классическим наследием Древней Греции и Древнего Рима, от приверженности светским и даже эзотерическим ценностям, от веры, что человек может раскрыть свои таланты не только в армии или в церкви, от убеждения, что обнаженное тело (представшее в виде произведения искусства, как бронзовый «Давид» Донателло или «Рождение Венеры» Боттичелли) должно вызывать не стыд, а восторг. Леонардо наверняка испытал большое облегчение, когда вернулся в Миланский замок.
* * *
Предполагалось, что Священная лига просуществует четверть века. На деле, стараниями Лодовико Сфорца, она продержалась всего полгода. В середине октября Моро, по сути, перекинулся на сторону противника. Явно сочтя французов угрозой более серьезной, чем папа или венецианцы, он заключил сепаратный мир с Карлом VIII, а тот, в ответ на обещание Лодовико «поставить все свои силы на службу королю»,[320] отверг притязания герцога Орлеанского на Милан. В рамках того же соглашения Лодовико пообещал не содействовать Альфонсо, сыну Фердинанда I, в возвращении Неаполитанского королевства, дать французским войскам свободный проход к Неаполю и даже предоставить в распоряжение Карла свою армию и военные корабли, когда и если тот вернется для сражения с Фердинандом. Кроме того, он пообещал содействовать французам в борьбе с венецианцами, если те станут возражать против принятого решения.
Действия Лодовико предсказуемым образом разъярили венецианцев, усмотревших в них предательство. Впрочем, и отношения между Карлом и Лодовико оставались натянутыми. Было ясно, что герцог Миланский вряд ли исполнит взятые на себя обязательства, и французский посланник, заметив, с какой неохотой герцог предоставляет обещанные корабли для очередного наступления на Неаполь, горько сетовал на его «двурушничество». Да и Лодовико не доверял Карлу. По словам одного из посланников, «он наконец-то сказал мне напрямую, что не имеет доверия к нашему королю».[321] Когда Карл предложил переговоры, чтобы уточнить условия мирного договора, Лодовико ответил, что на встречу с французским королем согласится, только если между их лагерями будет протекать река, образуя естественную преграду.
Во французском лагере противники мира между Лодовико и Карлом – в особенности герцог Орлеанский – только радовались такому развитию событий. Людовику внушали надежду и другие, более трагические новости. Наследником Карла был его единственный сын, трехлетний Карл-Орлан. По словам одного придворного, дофин был «очень красивым, не по годам развитым ребенком, ничуть не боявшимся того, что обычно пугает детей». Однако в декабре он заразился корью и умер. Французский двор погрузился в траур, а восемнадцатилетняя королева едва не потеряла рассудок от горя. Однако некоторые придворные не могли не заметить, что Людовик «возрадовался после смерти дофина, ибо был (после него) следующим претендентом на трон».[322] Словом, злейшему сопернику Лодовико было теперь до французской короны рукой подать.
Глава 9 Всякий художник изображает себя
Леонардо постоянно выискивал в своем окружении людей, обладавших примечательными, выразительными чертами лица. Однажды он специально исследовал форму носов, выяснив (со свойственной ему дотошностью), что они бывают десяти видов: «прямые, горбатые, продавленные, с выпуклостью выше или ниже середины, орлиные, ровные, курносые, закругленные и острые».[323] Его интерес к лицам, безусловно, обострился, когда он начал работу в трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие, ибо ему предстояло найти модели для тринадцати персонажей. Если верить рассказам, на его картинах – в том числе и на «Тайной вечере» – оказались, сами того не зная, запечатлены обитатели Милана и Флоренции.
Дотошность Леонардо в изображении лиц описана в произведении, опубликованном в 1554 году, автору Джованни Баттиста Джиральди до определенной степени можно доверять, поскольку отец его был знаком с Леонардо и имел возможность наблюдать за его работой. Джиральди утверждает, что, собираясь изобразить человеческую фигуру, Леонардо прежде всего обдумывал «ее свойства и природу», а именно: должна ли фигура производить впечатление радости или грусти, молодости или старости, доброты или злобы. Выявив все эти подробности, он отправлялся в место, «где, как ему было известно, собирались подобные люди, и внимательно рассматривал их лица, манеры, одежду, движения».[324]
Еще восторженнее говорит об этом Вазари, по словам которого Леонардо испытывал «удовлетворение при виде какого-нибудь человека со странной головой или запущенной бородой или волосами». Заметив на улице такого человека, Леонардо мог «целый день бродить следом за такой понравившейся ему фигурой», накрепко запечатлевая в мозгу все примечательные черты, а вернувшись в мастерскую, «зарисовывал ее, как если бы она сейчас перед ним стояла».[325]
Недостатка в удивительных лицах в Милане не было: примерно тогда же, когда началась работа над фреской, Леонардо составлял свои знаменитые серии гротескных голов: мужчин и женщин с комичными, а подчас ужасно искаженными чертами. Если верить этим наброскам, Милан был настоящим паноптикумом, где все мужчины были беззубыми карликами, а женщины – уродками с приплюснутыми носами, в нелепых головных уборах. На многих карикатурах у мужчин выдвинуты вперед подбородки. Все эти модели явно страдали патологическим выступанием нижней челюсти, известным также как «челюсть Габсбургов»: наследственным заболеванием, при котором нижняя челюсть растет быстрее, чем верхняя, и в результате образуется выдвинутый вперед подбородок. В «Тайной вечере» этим заболеванием в той или иной степени страдают Иуда, Петр и Симон.
Интерес Леонардо к причудливым лицам не был простым пристрастием вуайериста к физическим уродствам. Он хотел, чтобы лица на его картинах были разнообразнее, своеобычнее и выразительнее, чем у предшественников и современников. Слишком многие художники ограничивались стандартным набором выражений, стереотипным представлением таких чувств, как горе, страх, жалость. «Кто такого разнообразия не учитывает, – писал Леонардо, – тот всегда делает свои фигуры по шаблону, так что кажется, будто все это сестры, а это заслуживает всяческого порицания».[326]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Гротескные головы (Человек, обманутый цыганами). Ок. 1493. Бумага, перо, чернила.
Зарисовка причудливых лиц была одним из ключевых методов, позволявших уловить и реалистично передать разнообразие выражений. Леонардо считал, что с возрастом черты характера проявляются в чертах лица и по лицу можно с уверенностью судить о темпераменте и нравственности. «Лицо, – писал он, – являет в себе приметы природы человека». Порой он описывал эти приметы конкретнее. Например, радость можно распознать по «складкам, отделяющим щеки от губ», а человек злобного, несдержанного нрава характеризуется «выступами и провалами» на лице. Куда сомнительнее утверждение, что продольные морщины на лбу – это признак «людей, полных скрытой гордости или склонных во всеуслышание жаловаться на жизнь».[327]
Знание того, какие лицевые особенности соответствуют какому темпераменту, разумеется, помогает художнику раскрыть черты характера и оттенки эмоционального состояния. В этом контексте выбор подходящей модели для Иуды, человека, лицо которого, согласно этой логике, обязательно должно быть отмечено печатью внутренней испорченности, приобретал особую важность. Джиральди описывает, как Леонардо подбирал натурщика для Иуды – человека, у которого было бы лицо «подходящее для такого злодейства». Больше года он бродил по одной из миланских окраин, Боргетто, «где жили люди дурные, низменные, по большей части – злобные и бесчестные»; он искал мерзавца, достойного столь незавидной роли.[328] Как бы то ни было, можно с уверенностью сказать: Леонардо сделал набросок Иуды, однако лицо его не отличается злобностью. На рисунке изображен пожилой человек с приподнятыми бровями, носом с горбинкой, выступающим подбородком и четко обозначенными челюстными мышцами.
Раздумывая над конной статуей, Леонардо делал пометки касательно конкретных миланских лошадей («Флорентинец Морелло синьора Мариоло, крупный конь, добрая шея, очень красивая голова»); аналогичным образом он записывал, где найти людей, которые привлекли его своей внешностью. «Кристофано да Кастильоне в Пьета – красивая голова», – пишет он, имея в виду работника Монте ди Пьета, благотворительного учреждения, дававшего займы под низкий процент. Другая заметка: «Джованнина, изумительное лицо, в Санта-Катерине, в лечебнице».[329] «Санта-Катерина» – это августинский женский монастырь Санта-Катерина де Сан-Северино (впоследствии известный как Санта-Катерина алла Кьюза), который в апреле 1495 года, по согласованию с герцогом, переместили из обветшавшего строения в новое, рядом с Порта Тичинезе, в юго-западной части Милана. Скорее всего, с Джованниной, по всей видимости – одной из сестер, Леонардо познакомился через секретаря Лодовико, Маркезино Станга, который руководил этим переездом. Не исключено, что Станга задействовал Леонардо в осмотре обоих зданий, – именно так художник и познакомился с Джованниной.[330]
В записных книжках Леонардо значатся имена нескольких человек, которых он рассматривал в качестве моделей для образа Христа в «Тайной вечере». «Алессандро Кариссими да Парма – рука Христа» – гласит одна из заметок.[331] Об Алессандро почти ничего не известно, помимо того, что родом он был из видного аристократического семейства, близко связанного со Сфорца.[332] Моделью для лица Христа должен был послужить кто-то иной. На другой странице, под заголовком «Христос», Леонардо упоминает человека из окружения некоего «кардинала Мортара». На самом деле он имеет в виду Мортару, город на юго-западе от Виджевано, где у Лодовико (носившего, помимо прочих, титул графа Мортара) имелся замок. В коллегии кардиналов кардинал Мортара не значится, однако Леонардо почти наверняка имел в виду младшего брата Лодовико, Асканио Сфорца, влиятельного кардинала, обладавшего многочисленными бенефициями. Помимо прочего, кардинал Сфорца (которого в 1492 году едва не избрали папой) являлся главой Павийской епархии, где и находился Мортара и его многочисленные храмы.
Словом, идентифицировать «кардинала Мортара» довольно просто, а вот человек из его окружения – возможная модель для Христа – обозначен, с прискорбной краткостью, только как «giova cote».[333] За этим сокращением может скрываться и Джованни Конте, и граф (conte) Джованни или il giovane conte (молодой граф). Весьма вероятным кандидатом – его выдвинул один итальянский исследователь – представляется воин по имени Джованни Конте, капитан милиции, впоследствии поступивший на службу к Чезаре Борджиа.[334]
Если этот самый Джованни Конте действительно послужил Леонардо моделью, это сообщает определенную иронию образу Христа-миротворца, который воплотился в облике воина, впоследствии служившего под началом одного из самых жестоких итальянских военачальников. Более того, Асканио Сфорца, на службе у которого Джованни состоял на момент знакомства с Леонардо, был известен как кардинал светского толка – он носил доспехи и командовал личной армией, насчитывавшей две тысячи бойцов. Будучи одним из самых богатых кардиналов, он изумлял Рим блеском своего двора, а одно из устроенных им празднеств вышло столь роскошным, что летописец не решился его описывать из опасения, что его сочтут фантазером.[335]
* * *
Имена Алессандро Кариссими да Парма и приближенного кардинала Сфорца говорят нам о том, что некоторые модели Леонардо выбирал из высших слоев миланского общества. Как живописец и инженер герцога, он был вхож в избранные городские круги, и записки его пестрят упоминаниями видных фигур.[336] Кого-то из этих людей он наверняка использовал в качестве моделей. Один посетитель мастерской Леонардо писал впоследствии, что апостолы из «Тайной вечери» – это «портреты видных миланских придворных и граждан того времени».[337] Это утверждение, сделанное человеком, который лично беседовал с Леонардо, нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, легко представить, что Лодовико хотел увековечить на картине наиболее достойных представителей своего двора, а косвенным образом и себя.
Самым знаменитым миланским придворным был военачальник Лодовико Галеаццо Сансеверино. Если, помимо прочего, роспись Леонардо должна была прославить высшее миланское общество, без портрета щеголя Галеаццо на ней было не обойтись. Он был одним из дюжины сыновей Роберто Сансеверино, офицера-наемника из Неаполя, повсеместно известного как синьор Роберто. Роберто приходился двоюродным братом Лодовико и одно время сражался за него, но впоследствии переметнулся в другой лагерь, встал на сторону врагов Моро и трижды пытался его свергнуть. Галеаццо остался верным своему повелителю. В 1489 году он был помолвлен с незаконнорожденной дочерью Лодовико Бьянкой (ей тогда было семь лет), а впоследствии сделался его военачальником и верным другом. Идеальный образец рыцарства, он появлялся на празднествах и турнирах в золотых доспехах и с золотым копьем, с помощью которого одного за другим выбивал соперников из седла. Леонардо как раз участвовал в изготовлении костюмов для одного из таких празднеств, когда в «доме мессира Галеаццо» Салаи стащил кошелек у раздетого лакея.
Судя по всему, Галеаццо охотно помогал Леонардо. Когда Леонардо работал над бронзовой статуей, он получил доступ в конюшни Галеаццо для изучения экзотических пород лошадей. Некоторые из зарисовок лошадей помечены как «сицилиец мессира Галеаццо» или «крупная генета мессира Галеаццо» – имеется в виду берберская лошадка, известная как giannetto.[338] А вот служил ли сам Галеаццо моделью для Леонардо, теперь уже узнать невозможно, поскольку достоверных его портретов не сохранилось.
Еще одной фигурой, почти столь же прославленной и заметной, как Галеаццо Сансеверино, был архитектор Донато Браманте. Настоящее его имя было Донато д’Анджело Лазари, однако известен он был как Браманте, что означает «желающий» или «жаждущий», – по причине его великого честолюбия и эпикурейских вкусов. «Мне не важно, сколько я потрачу, лишь бы жить в роскоши», – якобы заявил он.[339] Как и Леонардо, тоже отличавшийся честолюбием и экстравагантностью, в Милане Браманте был чужаком, сыном крестьянина из деревни Монте Асдруальдо под Урбино. Как и Леонардо, он был обладателем изумительного и, судя по всему, не требовавшего особых усилий дара. Самым заметным памятником его гению стала одна из построек в Санта-Марии делле Грацие: он сделал великолепную цилиндрическую пристройку к восточному фасаду церкви Солари. Кроме того, он участвовал в проектировании нового собора в Павии, а в 1495 году решил создать в Виджевано столь просторную центральную площадь, что под снос пошла бо́льшая часть городка.
Браманте представляется естественным и крайне подходящим кандидатом в модели для «Тайной вечери» Леонардо. Они были близкими друзьями. В одной из своих заметок Леонардо называет Браманте «Доннино», а Браманте посвятил Леонардо сборник стихов, в котором называет его «cordial caro ameno socio» («сердечным, милым и приятным собеседником»).[340]
Не исключено, что у Леонардо имелся и совершенно особый повод запечатлеть Браманте на стене трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие. У Леонардо на тот момент не было никакого опыта в области фресковой живописи, Браманте же начал свою творческую карьеру живописцем. Помимо прочего, в Милане он создавал фрески на фасадах дворцов и вилл. Также он написал в технике фрески серию портретов философов для Каза Панигарола в Милане, а между 1490 и 1493 годом – фреску для Лодовико в Миланском замке, известную как «Аргус».
Учитывая богатый опыт Браманте, он вполне мог давать Леонардо советы или оказывать помощь, когда тот начал работу над настенной росписью. Как минимум, он мог помочь Леонардо с проектированием и строительством лесов – та же работа была поручена ему двенадцатью годами позже папой Юлием II, когда Микеланджело начал расписывать Сикстинскую капеллу. Возможно, на мысль об описанных у Вазари лесах, с раздвижным механизмом, позволявшим поднимать и опускать платформу, Леонардо навели именно изобретения Браманте, который, в частности, проектировал подъемные мосты. Одна из заметок Леонардо, сопровождающаяся чертежом перекрещенных шестов, гласит: «Конструкция подъемного моста, которую мне показал Доннино».[341]
Позднее Рафаэль включил портрет Браманте в две свои фрески в жилых покоях Ватикана, особенно широкую известность приобрело его изображение в образе Евклида в «Афинской школе». Примерно в то же время Микеланджело изобразил его в образе пророка Иоиля на своде Сикстинской капеллы, а его ученик Брамантино представил Браманте на шпалере, сотканной для Миланского замка: там он показан пирующим, – несомненно, то была дань его пристрастию к роскоши.[342] Еще с большим сходством он изображен в профиль на медали, отлитой Карадоссо примерно в 1505 году. Эти портреты, выполненные десятью-двенадцатью годами позже, свидетельствуют о том, что он был человеком красивым, с залысиной, окруженной буйными кудрями, и орлиным профилем.
Микеланджело Буонарроти (1475–1564). Пророк Иоиль. Фреска потолка Сикстинской капеллы.
Если Леонардо действительно запечатлел Браманте в образе одного из апостолов, скорее всего, – это видно из сопоставления с известными изображениями – речь идет о Варфоломее, который стоит на левом конце стола. На наброске сангиной, выполненном Леонардо, Варфоломей изображен приятным мужчиной с кудрями, откинутыми назад ветром, между которыми просматривается вполне типичная лысина. У него развитые надбровные дуги, крупный нос, пристальный, умный взгляд, волевой подбородок. Моделью явно служил мужчина средних лет, а Браманте в 1494 году исполнилось пятьдесят. На фреске Варфоломею возвращены густые волосы и добавлена борода – эти детали несколько затемняют сходство с Браманте. И все же в этой фигуре, подавшейся вперед, опершись руками о стол, полной настороженности и энергии, миланские придворные наверняка с легкостью узнавали знаменитого архитектора.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Голова апостола Варфоломея. Эскиз для «Тайной вечери». Бумага, металлический карандаш. Подготовительный рисунок.
* * *
Еще одной моделью для «Тайной вечери» Леонардо послужил – в духе старой традиции флорентийских мастерских – он сам. Во дни его ученичества в ходу была поговорка, приписываемая Козимо Медичи: «Ogni pittore depinge sé» («Каждый художник изображает себя»).[343] Для Леонардо эта фраза стала своего рода трюизмом. «Я знавал живописцев, – пишет он, – которые во всех своих фигурах, казалось, портретировали самих себя с натуры, и в этих фигурах видны движения и манеры их творца».[344]
Многие художники тишком помещали на картины автопортрет в качестве своего рода подписи. Смуглый изящный профиль Доменико Гирландайо и пухлое лицо Пьетро Перуджино выглядывают из многих групповых сцен на их фресках. Некоторые флорентийские художники, такие как Филиппо Липпи и Сандро Боттичелли, судя по всему, многократно включали собственные изображения в работы, ссужая свои черты сразу нескольким персонажам (из этого можно заключить, что у Липпи было круглое лицо и крупные уши). Эти автопортреты отнюдь не были следствием нарциссизма, осознанного или неосознанного; возможно, речь шла о простом удобстве: художнику только-то и нужно было, что посмотреть в зеркало на своего бесплатного натурщика.[345]
Леонардо считал, что этого следует избегать, и особо подчеркивал, что живописец не должен изображать на картинах лица, «похожие на их мастера».[346] При этом, как ни удивительно, его постоянно обвиняли в том, что свои картины он наводняет автопортретами. В 1490 году придворный поэт Сфорца, Гаспаро Висконти, высмеял неназванного художника в стихотворении, озаглавленном «Против дурного живописца». Он обвинял живописца в том, что любимый его предмет изображения – это он сам, поскольку он «Свой образ в мыслях держит крепко / И часто в образах других / Лишь самого себя изображает». По словам Висконти, художник этот воспроизводит не только свое лицо – «сколь ни было б оно прекрасно», – но также и свои «манеры и привычки».[347]
Принято считать, что мишенью нападок Висконти был именно Леонардо. Впрочем, трудно сказать наверняка, какие именно картины и автопортреты имел в виду поэт, притом что в «Тайной вечере» имеются как минимум два кандидата на сходство с Леонардо. Некоторые лица снова и снова возникают на его картинах, а уж тем более на его рисунках. Особенно западают в память два из них. Первое – ангелоподобный юноша с кудрявыми волосами и лицом андрогина, второе – более мужественная фигура, грозного вида старик с ястребиным носом и выпирающим подбородком. Непросто опознать Леонардо – которому, когда Висконти написал свое стихотворение, было за сорок – ни в одном из этих отчетливых типажей.
Стихи Висконти написаны примерно тогда, когда Леонардо работал над «Тайной вечерей». Если речь в них действительно идет о Леонардо, поэт, видимо, счел злоупотреблением использование автопортрета в настенной живописи, а точнее, по его мнению, Леонардо придал сходство с самим собой сразу нескольким апостолам и, более того, одолжил им позы и жесты, которые воспроизводят его «манеры и привычки».
Карадоссо. Медаль с профилем Донато Браманте. (Реверс.)
Висконти был другом Браманте – по всей видимости, также и другом Леонардо: тон стихотворения скорее напоминает дружеское пикирование, чем злобную критику; у Леонардо даже имелся список с одного из сонетов Висконти. У Висконти было перед нами большое преимущество: он знал, как именно Леонардо выглядел и как себя вел. Облик Леонардо – еще одна из его загадок. У нас почти нет сведений о том, каков он был в период работы над «Тайной вечерей». Подробности относительно его пристрастия к алым плащам и розовым шляпам вычленимы из списков одежды. Список, составленный от руки примерно через десять лет после создания «Тайной вечери», свидетельствует, что как минимум после пятидесяти он носил очки, а в постели – ночной колпак.[348] Но что касается черт его лица и внешности, помимо того, что был он очень красив, о чем упоминают разные ранние биографы (никто из них лично с Леонардо не встречался), нам не известно почти ничего.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Предполагаемый автопортрет. Из «Кодекса о полете птиц». Бумага, перо, чернила.
Мы знаем, что Леонардо создал как минимум один автопортрет: флорентийский поэт утверждал, что видел этот сделанный углем рисунок, однако работа давно утрачена.[349] Единственная фигура на одном из его произведений, про которую можно с достаточной долей уверенности сказать, что она носит черты портретного сходства со своим создателем, находится в правом нижнем углу «Поклонения волхвов»: красивый задумчивый мужчина, выделенный из толпы тем, что лицо его повернуто не к коленопреклоненным волхвам и младенцу Христу – он смотрит на нечто, находящееся за пределами картины. Однако этот алтарный образ так и не был закончен, и черты, на наше горе, прописаны нечетко.
Отсутствие сведений о внешности Леонардо не помешало искусствоведам выдвинуть целый ряд кандидатур на должность его автопортретов. Игра «найди Леонардо» приобрела широкий размах, и его черты стали выискивать повсюду, начиная от знаменитого рисунка «Витрувианский человек» (относящегося к концу 1480-х) до наброска остроносого персонажа, который рассеянно смотрит на нас из-за строк, заполненных зеркальным почерком, на страницах «Кодекса о полете птиц».[350] Впрочем, пройдет почти тридцать лет после создания «Поклонения волхвов» – и только тогда Леонардо явится вновь, уже бесспорно, на сей раз в рисунке сангиной, сделанном одним из его подмастерьев, возможно Франческо Мельци. На этом наброске, относящемся примерно к 1515 году, Леонардо изображен в профиль: величественное лицо человека средних лет с классически правильными чертами, греческим носом и пышными волнистыми волосами, чуть отступившими со лба, с длинной бородой. Безусловно, именно этот портрет вдохновил будущих биографов, таких как Вазари и Аноним Гадьяно, на восторги по поводу красоты и изящества Леонардо.
Самое знаменитое изображение Леонардо – это его якобы автопортрет сангиной, где изображен пожилой человек; под ним неизвестной рукой, позднее, начертано чернилами (теперь надпись почти нечитаема): «Ritratto di se stesso assai vecchio» («Автопортрет в довольно поздние годы»). Волосы и борода опять поражают пышностью, однако Леонардо – если это действительно он – теперь представлен с нависшими бровями, лысиной и выглядит значительно старше. Этот рисунок, обнаруженный только в 1840 году, в XIX веке признавался за бесспорный автопортрет Леонардо (а многими признается и поныне). Однако теперь принято считать, что выполнен он в 1490-е годы – собственно, примерно тогда, когда Леонардо работал над «Тайной вечерей». Если датировка эта верна, рисунок не может быть автопортретом, поскольку на нем изображен человек шестидесяти-семидесяти лет, а никак не сорока с небольшим.[351]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Портрет бородатого мужчины (возможно, автопортрет). Ок. 1513. Бумага, сангина.
Вне зависимости от того, автопортрет это или нет, рисунок этот затмил образ художника, существовавший в XVI веке: атлетического, необычайно красивого гедониста с длинными ресницами и пристрастием к розовым чулкам. Вместо этого Леонардо предстал в образе седобородого мэтра: серьезного, умудренного, вдумчивого. С таким Леонардо не стыдно было вступать в эпоху индустриальной революции.
* * *
К началу 1496 года Леонардо – что было для него типично – работал, помимо «Тайной вечери», еще над несколькими проектами. Некоторые являлись заказами Лодовико, другие Леонардо делал по собственному почину.
Хотя Леонардо жаждал получать военные заказы, Лодовико и теперь видел в нем прежде всего декоратора и сценографа. В какой-то момент в 1495 году, когда уже началась работа над «Тайной вечерей», герцог подрядил Леонардо расписать потолки нескольких «camerini» (комнаток) в Кастелло. По всей видимости, заказ этот был получен более чем годом раньше, поскольку в разорванном письме к Лодовико содержится призыв «вспомнить заказ на роспись комнат». Комнаты были частью крытого моста, «Ponticella», которым Браманте недавно соединил два берега рва, обеспечив Лодовико и Беатриче тихое укрытие. Вероятно, Леонардо приступил к работе в конце 1495 года, так как в ноябре того же года потолки, как значится в одном документе, были загрунтованы и подготовлены к росписи.[352]
Примерно в то же время Леонардо получил от Лодовико еще один заказ. Конец 1495-го и первые недели 1496 года он провел за подготовкой декораций и костюмов к представлению пятиактной комедии Бальдассаре Такконе о Юпитере и Данае. Спектакль состоялся в конце января во дворце двоюродного брата Лодовико, Джанфранческо Сансеверино, одного из одиннадцати братьев Галеаццо. Леонардо в очередной раз поразил публику зрительными и звуковыми эффектами: над сценой взошла звезда «с такими звуками, что, кажется, будто дворец сейчас рухнет» – как значилось в режиссерских ремарках Такконе. Были и воздушные сцены – Меркурий спускался с Олимпа по веревке, прикрепленной к блоку. Была в пьесе и роль annunziatore, небесного вестника, которая тоже наверняка сопровождалась воздушной акробатикой.[353]
Как бы Леонардо ни увлекало изобретение подобных зрелищных эффектов, он работал еще над одним проектом, который явно был ему куда интереснее. Меркурий, парящий над головами зрителей, в очередной раз напоминает о его давнем увлечении полетами. Леонардо завораживала возможность перемещения человека в разных средах, таких как вода и воздух. Вскоре после прибытия в Милан он начал проектировать лодку, способную двигаться под водой, – по сути, субмарину. Безусловно, толчком (а может, и основой) для этого послужило судно, придуманное учеником Браманте по имени Чезаре Чезариано, который утверждал, что изобрел лодку, ходившую под водой во рву вокруг Миланского замка и по озеру Комо.[354]
Однако усерднее всего Леонардо изучал механику полета. Он исследовал полет птиц и насекомых, пытаясь понять, как можно применить ту же механику к человеку и поднять его в воздух. В молодости он много времени проводил на речных берегах и у оврагов, следя за мотыльками, стрекозами и летучими мышами. В начале 1480-х он нарисовал стрекозу, сделав на полях надпись: «Чтобы увидеть полет на четырех крыльях, ступай к оврагу – и увидишь черные сетчатые крылья».[355] Еще одна стрекоза появляется в его заметках несколько лет спустя, когда он уже жил в Милане. На том же листе – зарисовки летучей мыши, летучей рыбы и, судя по всему, бабочки или мотылька. Больше всего его интересовали летучие рыбы. С оттенком изумления он подчеркивал, что летучая рыба способна передвигаться и в воде, и в воздухе.[356]
Вскоре Леонардо начал проверять свои наблюдения на практике. Вдохновившись полетом стрекозы, он изобрел странный механизм, где пилот должен был постоянно стремительно приседать, работая живым поршнем, и одновременно изо всех сил накручивать лебедку, соединенную с четырьмя похожими на весла крыльями.[357] Еще один его ранний чертеж представляет собой попытку усовершенствовать гигантские маховые крылья. На сей раз образцом послужила летучая мышь, являвшаяся, по его мнению, лучшим прототипом летательного аппарата. «Помни, – писал он в заметке самому себе, – что птица твоя должна подражать не иному чему, как летучей мыши, на том основании, что ее перепонки образуют арматуру, или, вернее, связь между арматурами, т. е. главную часть крыльев».[358]
В конце 1480-х Леонардо создал чертеж еще одного хитроумного аппарата, работавшего по принципу архимедова винта. Винтовые механизмы, основанные на этом принципе, уже тысячу лет использовались для подъема воды, Леонардо они были знакомы по его гидравлическим работам. Перенося те же принципы на полет, он полагал, что аппарат разовьет подъемную силу, ввинчиваясь в воздух. На рисунке изображена центральная штанга, укрепленная на платформе и окруженная спиралевидными парусами, которые, по его замыслу, следовало изготавливать из накрахмаленного льняного полотна. Не совсем понятно, какая сила будет обеспечивать движение по горизонтали, и Леонардо даже в самых дерзких своих аэронавигационных мечтах не предполагал, что аппарат этот сможет поднять человека. Возможно, вращать паруса, как и мельничные крылья, должен был ветер, пока машина чудесным образом не взмоет в воздух. Использованный в ней принцип ротации часто приводит к тому, что ее (без серьезных оснований) называют прототипом вертолета.[359]
Год или два спустя Леонардо сделал чертеж нового летательного аппарата. На сей раз пилота предполагалось в горизонтальном положении закрепить ремнями на доске, а ступнями он должен был нажимать на педали, которые, через систему блоков, приводили бы в движение крылья у него над головой. Конструкцию этих крыльев Леонардо позаимствовал – это следует из заметок – у хищных птиц, вроде коршуна. Он даже именовал эту летательную машину «uccello», птица; заметки и рисунки на оборотной стороне листа описывают детали: крыло предполагалось сделать из тростника и накрахмаленного шелка, а сверху оклеить перьями. Леонардо отметил, что испытательный полет надлежит провести над озером, дабы уменьшить риск при падении, а пилота снабдить бурдюком, который, если что, удержит его на плаву. Впрочем, как бы усердно ни крутил пилот педали, вряд ли ему удалось бы развить необходимую подъемную силу – и уж тем более ему не грозило, вслед за Икаром, упасть с небес на землю.[360]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Летательный аппарат. Ок. 1488–1490. Бумага, перо, чернила. Парижский манускрипт B. Fol. 83 v.
«Уччелло» так никогда и не был испытан, а вот следующее изобретение Леонардо, как это ни удивительно, судя по всему, – да. Летательный аппарат, над которым он работал, когда взялся за «Тайную вечерю», представлял собой усовершенствованную версию «уччелло». Леонардо удалось уменьшить вес аппарата; теперь пилота крепили ремнями к двум крыльям, которые приводились в движение ножными педалями, связанными с ними системой тросов и блоков. Двигателем опять же служил сам пилот – он должен был стремительно сгибать и разгибать обе ноги одновременно.
Крылья эти выглядят не более многообещающими, чем предыдущие, однако на странице из записной книжки Леонардо, относящейся к середине 1490-х годов, значится, что он и его «чудо-пилот» наметили провести испытательный полет, стартовав – это звучит и вовсе устрашающе – с крыши Корте дель Аренго.[361]
* * *
Леонардо был не первым, кто мечтал о полете. Ему, по всей видимости, были известны хотя бы некоторые истории бесстрашных испытателей, которые пытались подняться в воздух – и неизменно терпели поражение. Одну из первых в человеческой истории попыток взлететь предпринял в 875 году Аббас ибн Фирнас, поэт и врач из мавританской Испании. Он оторвался от земли с помощью пары крыльев из шелкового полотна на ивовом каркасе, покрытых орлиными перьями; преодолев небольшое расстояние, он рухнул на землю и сломал спину. Век с четвертью спустя подвиг его повторил в Персии, с еще более трагическими последствиями, ученый по имени Исмаил Аль-Джаухари – он погиб после того, как, прикрепив к спине крылья, прыгнул с крыши мечети. Примерно в то же время в Англии монах-бенедиктинец по имени Эйлмер Мальмсберийский, «приняв вымысел за правду» (как выражается летописец) решил полететь, как Дедал. Он прикрепил к ногам и рукам крылья и прыгнул с церковной башни. По свидетельству летописца, он пролетел более двухсот ярдов, но потом утратил управление и рухнул на землю. Он сломал обе ноги «и до конца дней остался хромым».[362]
Силовой установкой во всех этих аппаратах служили сами пилоты, отчаянно машущие руками. Однако к тринадцатому столетию речь уже шла о механических крыльях. Монах-францисканец Роджер Бэкон, ученый-универсал, известный как «доктор мирабилис» («удивительный доктор»), писал о механике полета и с уверенностью рассуждал о возможности создания летательных аппаратов с кривошипно-шатунным механизмом. Примерно в 1260 году он написал, что «летательные машины можно построить таким образом: чтобы человек сидел в середине машины, вращая некий двигатель, с помощью которого искусственные крылья взмахивали бы в воздухе, как у летящей птицы». Он утверждал, что такие аппараты «изготавливали уже давно, равно как и в наши дни», – автором одного из них был некий «мудрец», его знакомый, хотя никаких свидетельств об этих устройствах не сохранилось.[363]
Судя по одной из заметок, Леонардо разыскивал печатное издание трудов «Руджери Бако».[364] Возможно, вдохновившись описанием Бэкона, он (судя по всему, в большой тайне) начал строить на крыше Корте дель Аренго собственный механический летательный аппарат. «Запри верхнюю комнату, – гласит одна из его заметок, – и сделай большую высокую модель».[365] Запустить прототип он явно планировал с крыши замка, места «более во всех отношениях подходящего, чем любое другое место в Италии». Подходящими, по всей видимости, были высота и воздушные потоки. Однако имелся и недостаток: Леонардо тревожился, что рабочие, трудившиеся неподалеку над постройкой собора (как раз возводили башню над куполом), увидят, как он создает свою машину. В итоге он нашел на крыше укромное место, где, по собственному мнению, мог работать незаметно: «А если встать на крыше со стороны башни, те, что строят тибуриум, тебя не заметят».[366]
Возможно, нескромные глаза тревожили Леонардо потому, что он планировал сделать из смертельно опасного полета сюрприз во время одного из многочисленных празднеств Лодовико. Несколько лет спустя, в 1498 году, для развлечения гостей на брачном пиру математик из Перуджи Джованни Батиста Данти предложил, согласно легенде, смастерить пару крыльев, с которыми он прыгнул бы с самой высокой башни города. К изумлению зрителей, он проплыл над площадью, но после этого отказал рулевой механизм, и пилот врезался в стену церкви – сломал ногу, однако выжил.[367]
Не сохранилось документов того времени, которые подтверждали бы, что «уччелло» все-таки поднялся в воздух. Полвека спустя Джироламо Кардано, отец которого знал Леонардо в Милане, утверждал, что художник «пытался взлететь, но не смог».[368] Кардано не сообщает, где и когда состоялся испытательный полет и почему он не увенчался успехом, однако то, что запуск производили с крыши Корте дель Аренго, представляется маловероятным. Исследования возможностей поднять человека в воздух Леонардо проводил куда глубже и вдумчивее, чем все его предшественники. Кроме того, он позаботился о мерах предосторожности, продумав использование не только бурдюков, но и своего рода подушек безопасности: силу возможного удара он надеялся смягчить с помощью мешков, «снизанных, как четки», и привязанных к спине пилота.[369] Но даже и так трудно себе представить, что испытания прошли с большим успехом, чем у его предшественников, особенно если стартовой площадкой была выбрана крыша замка в центре густонаселенного города.
И все же в то время, в середине 1490-х, Леонардо с большим оптимизмом смотрел на перспективы воздухоплавания. На обороте листа, где подробно расписан полет с крыши Корте дель Аренго, набросана карта Европы (скопированная из «Космографии» Птолемея), под которой Леонардо приписал: «Мечта о покорении воздуха открывает огромные просторы перед чудо-пилотом». Иными словами, у ног чудо-пилота лежала вся Европа. Однако в 1496 году Леонардо временно прекратил исследования в области воздухоплавания. Посвятив этому предмету десять с лишним лет, он внезапно прервал все изыскания, – возможно, какая-то модель потерпела трагическое крушение, а возможно, ученый просто понял, что ни одно из его творений не может подняться в воздух.
Эти исследования Леонардо возобновит лет восемь спустя, вернувшись во Флоренцию, когда начнет работу над «Кодексом о полете птиц». Заметка на внутренней стороне этого кодекса свидетельствует о том, что Леонардо продолжал верить в будущее авиации: «Могучая птица совершит свой первый полет на спине могучего лебедя, заполнив вселенную чудесами, а все книги – своей славой и снискав вечный почет месту своего рождения».[370] «Великий лебедь» – это гора Монтечечери под Флоренцией, названная именем крупных птиц, «ceceri», которые, в свою очередь, получили название от нароста на клювах в форме горошины (cece). Здесь, над каменоломнями Фьезоле, Леонардо рассчитывал поднять в воздух один из своих летательных аппаратов. Однако, если полет этот и состоялся, все книги он своей славой не заполнил: о нем не сохранилось ни единого документального свидетельства.
Глава 10 Чувство перспективы
Загрунтовав свинцовыми белилами стену трапезной в Санта-Марии делле Грацие, Леонардо прежде всего вбил в штукатурку гвоздь. Гвоздь этот обозначал центр композиции, точку, где должны сойтись все линии и сосредоточиться все внимание: лицо Христа.
Небольшая дырочка видна на правом виске Христа и сегодня, словно предвестие тернового венца. Для Леонардо гвоздь этот обозначал то, что он называл «точкой, где соединяется стечение пирамид».[371] В пятнадцатом столетии были заново открыты законы перспективы, и это произвело революцию в искусстве. Художники научились создавать убедительную иллюзию пространства, прочерчивая линии, перпендикулярные плоскости картины (ортогональные), которые соединяются в точке схода, и рассчитывая масштаб, в котором горизонтальные (поперечные) линии уходят вдаль. Леонардо много писал про перспективу, которую называл «дочерью живописи». Он описывал ее как феномен, посредством которого «вещи отсылают глазу свои собственные подобия по линиям пирамид».[372] Глаз – вершина этой зрительной пирамиды, задача художника – точно отобразить на картине масштаб уменьшения и соотношения между размерами предметов, видимых глазу.
В начале 1480-х годов Леонардо создал самую знаменитую во всей истории иллюстрацию к закону перспективы – набросок тушью и пером к «Поклонению волхвов». На нем представлена геометрически выверенная сетка, сквозь которую, создавая контраст своей хаотичностью, проходит толпа призрачных человеческих и конских фигур. Скорее всего, он сделал такой же набросок и к «Тайной вечере», определив, как ортогональные линии (балки на потолке, края стола) сходятся на правом виске Христа. Потом набросок нужно было увеличить, чтобы сделать картоны. Однако перспективные наброски для «Тайной вечери», так же как и картоны и многие другие подготовительные материалы, давно утрачены.
Единственным следом стремления Леонардо создать выверенную перспективу остается дырка от гвоздя и отходящие от нее ортогональные линии на стене. Использование гвоздя и процарапанных линий указывает на то, что Леонардо прибег к традиционной фресковой технике XV века, впервые примененной флорентийским художником Мазаччо в работах «Святая Троица» (в Санта-Марии Новелла) и «Чудо с сатиром» (в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине). На обеих фресках Мазаччо вбивал гвоздь в той точке стены, где должны были сойтись ортогональные линии, потом привязывал к гвоздю длинную веревку, натягивал ее и «вбивал» в мокрую штукатурку – оставался узор из расходящихся линий, видимых до сих пор.
Архитектурное пространство, в которое Леонардо поместил Христа и апостолов, – узкое, завешенное шпалерами помещение с кессонированным потолком и тремя окнами – свидетельствует о довольно любопытном подходе. Леонардо мечтал об архитектурных заказах, но пока их не получал. При этом у него было четкое представление о том, как нужно структурировать архитектурное пространство, а в «Тайную вечерю» он ввел архитектурные детали, организованные по принципам музыкальной гармонии, разработанным Пифагором за две тысячи лет до того.
Леонардо был музыкантом и создателем струнных инструментов, соответственно, у него было обостренное понимание музыкальной гармонии. Как и многие его современники (в том числе и Верроккьо), он верил, что музыкальный лад можно воплотить в оптическом пространстве. Леонардо усматривал четкое соответствие между тем, как мы слышим звуки и видим предметы. «Я приведу мое правило расстояний… – пишет он, – как это сделал музыкант по отношению к звукам».[373] Он, по сути, перефразирует Леона Баттисту Альберти, который писал, что те же музыкальные гармонии, которые услаждают слух, «способны заполнить взгляд и разум несказанным восторгом» и что, соответственно, художники и архитекторы должны применять музыкальные лады к своим творениям. Леонардо был знаком подобный пример: надгробный памятник Козимо Медичи, созданный Верроккьо, – его симметричные геометрические формы, как выяснилось, воспроизводят музыкальные созвучия.[374]
На то, что Леонардо собирался использовать для организации пространства своей картины принципы музыкальной гармонии, указывает один из набросков к «Тайной вечере» – тот, на котором Христос протягивает кусок хлеба Иуде: на нем записаны в столбик несколько чисел. Заметка гласит: 3.4.6.-6.3–6–4 = 32. Леонардо наверняка знал из разных источников, что ноты можно записывать числами, поскольку высота звука зависит от нескольких переменных, таких как размер и вес музыкального инструмента или его составных частей. Например, если разрезать струну пополам, высота ее звучания будет на октаву выше, чем у целой струны; октава, соответственно, обозначается через соотношение 1:2. Две трети от полной длины будут давать тональный интервал в пятую долю (выражаемый через соотношение 2:3), а три четверти – в четвертую (3:4).
Леонардо да Винчи (1452–1519). Схема построения перспективы «Тайной вечери».
Леонардо использует эти соотношения при расчете пространства комнаты, в которой сидят Христос и апостолы, превращая ноты в своего рода зримую музыку. Архитектурные детали на картине, судя по всему, организованы в виде рядов, привязанных к тоновым интервалам. Как указал один исследователь, соотношение двоек, троек, четверок и шестерок на рисунке Леонардо представляет собой соотношение между четвертой и пятой частью октавы (3:4:6), октавой (3:6) и пятой частью (4:6).[375]
В «Тайной вечере» действительно прослеживается арифметическая прогрессия. Например, если стена трапезной разделена на двенадцать частей, то кессонированный потолок на первом плане – на шесть, что дает соотношение 1:2 (октава). Дальняя стена по ширине дает четыре таких же части, а окна – три таких же (если измерять ширину между центрами двух боковых окон, а не между их внешним краем). Тогда получается (с небольшим приближением) пропорция 12:6:4:3. То же соотношение существует между шпалерами на стене. Они – разной длины, те, которые расположены в дальней части комнаты, увеличиваются в соотношении 1:1/2:1/3:1/4 – давая (на сей раз без всяческого приближения) математическую пропорцию 12:6:4:3.[376]
Эта музыкальная калибровка оптического пространства, безусловно, несет следы влияния Верроккьо и Альберти. Вряд ли Леонардо разделял веру многих своих современников в то, что эта пропорция содержит божественное начало. Однако, как и Альберти, он наверняка был убежден, что использование ее способно подарить «несказанный восторг» как уху, так и глазу.
* * *
Метод работы Леонардо не позволяет определить, с какой именно части стены он начал роспись. Обычно при создании фрески художники систематически заполняли пространство свода или стены, расписывая последовательно соседствующие друг с другом участки штукатурки, работая (как следует из дневника Понтормо) над правой рукой в четверг, над левой – в пятницу, над бедром в субботу. Леонардо вряд ли согласился бы на такой дискретный метод. К стене он подходил так же, как и к своей живописи на дереве, над которой трудился медленно и методично, слой за слоем, доделывая и переделывая, тщательно следя за вносимыми по ходу изменениями.
Прежде всего нужно было нанести углем на всю загрунтованную поверхность контур композиции – либо путем перевода с картона, либо напрямую с эскизов. Контур голов апостолов, как и потолочные балки, был проработан стилосом. Когда дело дошло до работы цветом, Леонардо продвигался то медленно, то с лихорадочной быстротой и, по всей видимости, на протяжении одного дня работал сразу над несколькими участками стены, от пола до самого верха лесов.
Один из очевидцев работы Леонардо подтверждает, что Леонардо пользовался именно таким нестандартным методом. Этим очевидцем был Маттео Банделло, юный племянник (он родился в 1485 году) настоятеля церкви Санта-Мария делле Грацие. Впоследствии Маттео стал популярным писателем, автором юмористических новелл в стиле Боккаччо; один из его рассказов, «Джульетта и Ромео», был опубликован в 1550-е годы, а в 1567 году переведен на английский – на нем и основана трагедия Шекспира. Еще одна его новелла легла в основу стихотворения лорда Байрона.
В одной из новелл Маттео Леонардо выступает в роли рассказчика: автор вкладывает в уста Леонардо всевозможные истории о приключениях и невзгодах талантливого, но распутного и рассеянного художника Филиппо Липпи. Рассказу предшествуют замечания от лица Маттео о том, как он наблюдал Леонардо за работой над стенной росписью. Истории его полны комических преувеличений и самых невероятных домыслов, да и обстоятельства, в которых все это было написано, – новелла была опубликована много лет спустя – не дают оснований относиться к повествованию с доверием. Однако описание непредсказуемой, неторопливой манеры письма Леонардо звучит очень и очень правдоподобно.
«Имел он обыкновение – и я столько раз сам видел это, – начинает Маттео, – приходить рано утром и взбираться на мостки». В этих случаях, по его словам, Леонардо выглядел истинным образцом трудолюбия, ибо «работал он от зари до зари, не выпуская кисти из руки, забывая о еде и питье». Однако случалось, что Леонардо рано приходил в трапезную, но почти не работал. Вместо этого он часами созерцал картину, не дотрагиваясь до кисти, «все приглядывался к ней и размышлял над нарисованными фигурами». А случалось, что он прерывал работу в Корте дель Аренго, где все еще (по словам Маттео) «лепил из глины изумительную конную статую», и в полдень наведывался в трапезную. Он забирался на леса, быстро накладывал два-три мазка «и уходил».[377]
Сам Маттео вовсе не осуждает Леонардо, а вот его дядю, настоятеля Винченцо Банделло, этот прихотливый график работы сильно настораживал и раздражал. Вазари пишет, что Банделло хотел бы, чтобы Леонардо «никогда не выпускал кисти из рук, как он это требовал от тех, кто полол у него в саду»; он жаловался Лодовико, что работа продвигается медленно, непредсказуемо. Для Банделло, как и для многих его современников, художник был обычным ремесленником, которому платили за то, чтобы он покрыл краской столько-то квадратных метров стены в день. (Борсо д’Эсте, дед жены Лодовико Беатриче, так и платил художникам – за каждый квадратный фут фресковой живописи.) Леонардо смотрел на свою задачу по-другому: он считал, что оригинальность и творческий подход важнее экономических соображений и квадратных футов. Он объяснял Лодовико, что «возвышенные таланты иной раз меньше работают, но зато большего достигают, когда они обдумывают свои замыслы и создают те совершенные идеи, которые лишь после этого выражаются руками, воспроизводящими то, что однажды уже было рождено в уме».[378]
Не исключено, что рассказ Вазари является апокрифическим, но Леонардо наверняка не считал себя человеком, работающим по указке, как те, кто занимается прополкой в саду. Кроме того, Банделло и его братию, возможно, смущал и злил необычный подход Леонардо к работе – ведь получалось, что уродливые леса и запах масла и краски будут портить им трапезы неопределенно долго. Разницу между эксцентричным стилем Леонардо и более традиционными методами подчеркивало и то, как вел свою работу в другом конце трапезной Джованни да Монторфано. Монторфано быстро заполнил стену сценой Распятия. На его многокрасочной фреске уместилось более пятидесяти фигур, не только Христос и два распятых разбойника, но еще и римские воины на конях, скорбящие женщины и особо чтимые доминиканцами святые – Доминик, Екатерина Сиенская. На заднем плане высились многочисленные башни замка, реяли знамена, расстилался гористый пейзаж. На плакетке у основания креста художник гордо вывел свое имя: GIO. DONATVS MONTORFANVS. Выше добавил год: 1495. Монторфано завершил свою работу в течение года. К началу 1496 года не было заметно никаких признаков того, что Леонардо скоро закончит и свою роспись.
* * *
Христа-младенца Леонардо писал уже неоднократно, а вот фигуру взрослого Иисуса ему довелось изобразить только в «Тайной вечере». Заметки, касающиеся Алессандро Кариссими да Парма и человека из свиты кардинала Сфорца, позволяют сбросить со счетов рассказ Вазари о том, что Леонардо «и не собирался искать на земле» модель для Христа, полагая, что никто не обладает нужной благодатью и красотой.[379] Изображение головы Христа в любом случае было сложнейшей задачей, в том числе и из-за ее местоположения в самом центре композиции. Много лет спустя Ломаццо утверждал, что всякий раз, когда Леонардо брался за работу над ликом Христа, у него начинала дрожать рука. В эту историю нетрудно поверить. Художников, изображавших библейские сцены, собственная работа подчас трогала до глубины души. Считается, что Фра Анджелико, монах-доминиканец, часто плакал, когда создавал свои фрески. «Всякий раз, как он писал Распятие, – утверждает Вазари, – ланиты его обливались слезами».[380] Впрочем, если эта история правдива, у Леонардо рука скорее дрожала потому, что он сознавал всю важность своей работы, равно как и то, что голова Спасителя находится в самой центральной точке, а не потому, что изображение головы Христа вызывало у него какие-то мятежные сомнения.
Тот же Ломаццо сообщает нам, что Леонардо якобы отчаялся в своей способности создать идеальный образ Христа. И тогда, по словам Ломаццо, он обратился за советом к другу, художнику Бернардо Дзенале, который сказал, что невозможно изобразить черты более совершенные, чем те, которые Леонардо уже сообщил Иакову Старшему и Иакову Младшему. Дзенале посоветовал Леонардо «оставить Христа незавершенным», поскольку он «никогда не сможет дописать Его лицо после таких апостолов».[381]
Эти непроверенные рассказы о колебаниях Леонардо, вкупе с утратой красочного слоя на росписи, породили ошибочное мнение, впервые высказанное Вазари, что Леонардо намеренно не закончил голову Спасителя, «полагая, что ему не удастся выразить в ней ту небесную божественность, которой требует образ Христа». Недавняя расчистка показала, что лицо Христа в «Тайной вечере» Леонардо было прописано в мельчайших деталях.[382] У Леонардо не было нужды оставлять голову незавершенной, поскольку он, как никто, умел передать божественную одухотворенность. В «Мадонне в скалах» лица Мадонны и ангела озарены неисповедимым, потусторонним светом; лицо Христа – с опущенными глазами и скорбными чертами – Леонардо изобразил с той же изумительной возвышенностью.
Сосредотачивая внимание зрителей на лице Христа, Леонардо следовал живописной традиции XV века, называемой «католической точкой схода», в рамках которой точка схода находилась в самой священной части картины: на облатке причастия или даже на матке Богоматери (эту технику один искусствовед назвал «маточной перспективой»).[383] Фигуру Христа Леонардо выделил еще несколькими способами. Во-первых, Христос значительно выше многих других апостолов: в высоту он такой же, что и Варфоломей (крайний слева), притом что Варфоломей изображен стоящим. Эта техника, которую Леонардо использовал столь тонко, что мы ее почти не замечаем, является возвратом к давно минувшим векам, когда живописцы выстраивали фигуры в так называемой иерархической перспективе, увеличивая их в соответствии с их теологической значимостью (это объясняет, почему на многих средневековых картинах изображена огромная Мадонна, окруженная крошечными ангелами и святыми).
Помимо того, что Христос занимает центр композиции, Он пространственно отъединен от апостолов, которые тесно сгруппированы – касаются друг друга или наклоняются, частично загораживая соседей. Еще большей выразительности Леонардо добавил Христу за счет того, что поместил Его на фоне окна, открывающего чистое небо и синеватый контур пейзажа, – собственно, у Христа появился небесный нимб. Эффект изумительный, даже несмотря на утрату краски, поскольку теплый тон лица и волос Христа и Его красное одеяние как бы выдаются вперед, тогда как холодные голубые оттенки пейзажа отступают вглубь: прекрасный пример того, как тонко владел Леонардо техникой выступающих и отступающих цветов. Синий плащ на левом плече Христа написан ультрамарином, который, наряду с золотом, считался самым ярким и дорогим пигментом. В одном трактате о живописи, относящемся XV веку, он назван «цветом благородным, изысканным и совершенным превыше всех прочих». Унция ультрамарина могла стоить до восьми дукатов – это больше, чем бедный работник платил в год за аренду дома во Флоренции. Ультрамарин, который поставляли только из Афганистана, был настолько дорог, что воры порой беззастенчиво соскребали его с картин. По причине его красоты и высокой стоимости им покрывали самые важные и почитаемые части картины, прежде всего плащ Богоматери.[384]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: Иисус Христос. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Красный хитон, надетый у Христа под плащом, тоже был яркого, удивительно интенсивного цвета. Леонардо, как правило, накладывал краску на грунт из свинцовых белил, которым была покрыта вся стена. Однако под красным одеянием он покрыл белый грунт слоем черного пигмента на основе графита, создав темную подложку. Потом добавил киноварь, поверх нее полупрозрачный красный краплак – пигмент, который получали посредством вытяжки красной краски из старых тканей. Этот прием он усвоил, когда писал на досках: нанесение краски на черную основу делало цвета интенсивнее и глубже. В завершение поверх краплака наносился еще один слой киновари.
Киноварь давала самый яркий красный цвет, а на стене выглядела, видимо, еще выразительнее, потому что этот пигмент, как и ультрамарин, нельзя было использовать во фресковой технике. Киноварь изготавливают из минерала кирпично-красного цвета, который, по верованиям древних римлян, происходил из крови драконов, раздавленных слонами. Как и большинство минеральных пигментов, он, по словам Андреа Поццо, «совершенно несовместим с известью».[385] Действительно, накладывать пять отдельных слоев краски, тонко прорабатывая достоинства каждого из них, – такого фресковая живопись никогда не знала.
* * *
Судя по всему, человек, послуживший Леонардо моделью для фигуры Христа, – возможно, воин Джованни Конте – был еще молод. Леонардо внес в его внешность примечательное изменение: добавил бороду. У Иисуса, понятное дело, была борода – так считали абсолютно все. В течение многих веков художники и скульпторы единодушно изображали его с бородой. На всех изображениях Тайной вечери, от Джотто до Гирландайо, Иисус неизменно предстает бородатым.
Впрочем, нельзя сказать, что Иисуса всегда изображали с бородой. В Библии нет описаний его внешности, за исключением не слишком лестного пророчества Исаии, что «нет в Нем ни вида, ни величия» (Ис. 53: 2). Когда ранние христиане, обращенные из язычества, хотели изобразить Спасителя в римских катакомбах, они заимствовали имевшиеся под рукой образы Аполлона и Орфея – ни тот ни другой не носил бороды.[386] Но гладколицый богоподобный Христос просуществовал недолго. К IV веку жизнерадостный безбородый Сын Божий уступил место другому, невзрачному и даже уродливому, с бородой и изможденным лицом – это было в русле церковного аскетизма и утверждения святого Августина, что волосы на лице есть признак мужественности. «Бородой отмечен мужчина отважный, – заявлял он. – Наличие бороды подразумевает человека молодого, энергичного, деятельного, стремительного».[387]
К Средним векам уже возникли якобы авторитетные источники, утверждавшие, что Иисус был бородат. В 1384 году император Византии подарил генуэзскому купцу чудодейственный образ бородатого Христа, не являвшийся, по легенде, рукотворным. Другие чудом возникшие изображения, такие как плат Вероники и Туринская плащаница – ткани, на которых якобы запечатлелся образ Христа, – убеждали верующих в том, что у них есть истинные изображения Иисуса. Плат находился в Ватикане, плащаница – в собрании герцогов Савойских; на обоих однозначно изображен мужчина с бородой. Священный образ на плате Вероники был широко известен: его не только показывали верующим в главные церковные праздники, но также чеканили на римских дукатах и на жетонах, которые выдавали паломникам, посетившим Рим.[388]
Люди, жившие в XV веке, были убеждены, что знают, как выглядел Христос, еще и потому, что, помимо чудотворных образов, у них имелось описание Его внешности, сделанное очевидцем. Речь идет о так называемом «Послании Лентула», докладе римскому сенату от лица Публия Лентула, предшественника Понтия Пилата на посту прокуратора Иудеи. Лентул кратко, по-деловому упоминает, что Христос излечивал хромых, воскрешал мертвых, что ученики обращались к Нему как к Сыну Божию. Далее он переходит к конкретике – дает подробное описание внешности этого удивительного человека:
…вид Его важен и выразителен, так что, смотря на Него, нельзя не любить и вместе с тем не бояться Его. Волосы у Него волнистые и кудреватые, немного потемнее и сильно блестящие там, где они спадают на плечи. Они разделяются на две стороны по обычаю назореев. Чело у Него гладкое и чудесно спокойное; на лице Его нет ни морщин, ни каких-либо пятен, а румянец делает Его щеки прекрасными. Нос и рот его совершенны. Он имеет густую коричневатую бороду в цвет Его волос, недлинную, но разделенную надвое. Глаза у Него яркие и как бы имеют различный цвет в различное время. Он страшен в Своих угрозах, спокоен в Своих увещаниях, Человек любящий и любимый, бодрый, но постоянно серьезный. Никогда никто не видел Его смеющимся, но часто видели плачущим. Руки и другие члены тела Его совершенны. Речь Его ровна и важна, Он смирен и кроток, прекраснейший из сынов человеческих.[389]
Никакого Публия Лентула не существовало, «Послание Лентула» – фальшивка, сочиненная в XII или XIII веке, однако художникам Средневековья это было неведомо. Ученый Лоренцо Валла еще в 1440 году изобличил в этом творении «очевидный подлог», однако к тому времени оно уже успело закрепить в общем сознании образ Христа, который просуществует весь XV век, да и после: красивый, спокойный человек с каштановыми волосами до плеч, с пробором посредине, с ухоженной бородой.[390]
В «Послании Лентула» есть одна несообразность: Христос изображен в нем бородатым, хотя во времена его написания христианскому духовенству строго запрещалось иметь растительность на лице, да и миряне носили ее все реже. В 1119 году Тулузский собор пригрозил отлучением всякому священнику, который отрастит бороду, а папа Александр III, глава Церкви в 1159–1181 годах, дозволил архидьяконам насильно сбривать священникам бороды. Законы против бород у духовенства оставались в силе на протяжении всех Средних веков, а к пятнадцатому столетию, по крайней мере в Италии, бороды вышли из обихода не только в клерикальной, но и в светской среде. Властители, современники Леонардо, такие как Лоренцо Медичи и Федериго да Монтефельтро, ходили чисто выбритыми; то же касается Лодовико Сфорца и всех членов его клана. На фресках Гирландайо в капелле Торнабуони изображены видные флорентинцы, от крупных банкиров до ученых-гуманистов, и все они безбороды. Многочисленные автопортреты Гирландайо свидетельствуют о том, что и он часто захаживал к цирюльнику; то же относится к Перуджино, Боттичелли и Рафаэлю. Джордж Элиот совершенно достоверно описывает в «Ромоле», романе о жизни Флоренции эпохи Возрождения, сцену, когда цирюльник достает ножницы, чтобы облагородить облик гостя из Греции. «Здесь, во Флоренции, – наставляет клиента цирюльник, – мы не любим, когда нос человека торчит из копны волос». В Милане и Риме к растительности на лице относились столь же неодобрительно. Даже почти все евреи в Италии XV века ходили бритыми и так были похожи на христиан, что в периоды гонений (например, в Милане в 1452–1466 годах) их обязывали носить отличительные знаки в форме желтой нашивки: не Звезды Давида, а il segno del O, круга, вырезанного из желтой ткани.[391]
Борода для итальянцев XV века выглядела экзотически и была знаком глубокой религиозности, приметой далеких миров ислама и восточного христианства. Однако даже великий греческий ученый из Константинополя Иоанн Аргиропул сбрил бороду, когда прибыл во Флоренцию, – флорентинцы назвали это Latinizzamento (латинизацией). Очень немногие итальянцы носили бороды: самопровозглашенные пророки, святые отшельники, которые появились в итальянских городах в последние десятилетия XV века, такие как «Guglielmo barbato» (бородатый Гульельмо) – он проповедовал в Риме в 1470-е годы, «пророча в полный голос зло», по словам одного поэта.[392]
Еще одним редким итальянцем эпохи Леонардо, носившим бороду, был сам Леонардо – это видно по его рисунку сангиной. Однако рисунок этот выполнен лет через двадцать после завершения «Тайной вечери», а вот о том, как Леонардо выглядел в 1490-е годы, у нас нет решительно никаких свидетельств. Вполне возможно, что, хотя до нас и дошел портрет бородатого старца, в миланский период он не носил бороды.
* * *
Как мы уже говорили, приступив к работе над росписью, Леонардо купил Библию. Судя по всему, он серьезно изучал Священную историю, вглядываясь в религию с той же пристальностью, с какой вглядывался в любой интересовавший его предмет. В записных книжках есть страница, где он прерывает рассуждения о том, мог ли потоп, случившийся во времена Ноя, принести «ракушки» (мы теперь называем их окаменелостями), которые находят на вершинах гор, с морского берега, и говорит: «Здесь возникает сомнение, а именно: потоп, происшедший во времена Ноя, был ли всеобщим или нет?» Могли ли сорок дней и сорок ночей проливных дождей полностью покрыть поверхность Земли до того уровня, на котором находят ракушки? Если да, куда потом ушла вода? И могли ли ракушки, которые, по вычислениям Леонардо, быстрое течение переносит всего на несколько метров в день, проделать четырехсоткилометровое странствие от Адриатики до вершин Доломитов всего за сорок дней? «Здесь естественные причины отсутствуют, – заключает Леонардо, – потому необходимо для разрешения таких сомнений призвать на помощь чудо». Ничто, даже Библия, в которой он усматривал «конечную истину», не могло избежать его вопросов и ненасытного любопытства.[393]
Возможно, предмет своей картины Леонардо изучал и по другим источникам, а не только через чтение описаний Тайной вечери в Евангелиях. Одно из свидетельств его подготовительной работы над картиной, написанное много позже, принадлежит перу французского ученого и музейного хранителя Эме Гийона де Монлеона. В 1811 году Гийон утверждал, что, изображая в «Тайной вечере» хитон Христа, Леонардо выкрасил его в алый цвет, «потому что таков был лоскут подлинного одеяния Спасителя, сохранившийся в виде реликвии в церкви Санта-Мария Маджоре в Риме».[394] Гийон не приводит никаких документальных свидетельств и, скорее всего, ошибается. В Санта-Марии Маджоре есть другая реликвия – плащ Богоматери (равно как и ее молоко), а вот хитона Христа, tunica inconsutilis (бесшовного одеяния), сотканного Марией, который Христос проносил всю жизнь, а потом его разыграли в кости римские воины, там нет. На обладание этой реликвией одновременно претендуют собор в Трире (Германия) и приходская церковь в Аржантее под Парижем.
Леонардо наверняка отнесся бы к реликвиям из Санта-Марии Маджоре с большой долей скепсиса. Однажды он сочинил загадку, поставив вопрос: как через тысячу лет после смерти мертвецы могут «содержать на свой счет многих живых»? Ответ таков: «за счет своих давно умерших святых» живут монахи.[395] Впрочем, Гийон был прав в одном: Леонардо, безусловно, волновала историческая точность. Он как минимум один раз проявил интерес к церковным реликвиям, церковной истории, к человеческой и исторической стороне религиозного сюжета. В 1503 году, когда он жил во Флоренции и работал над несколькими изображениями Мадонны с Младенцем, он вступил в переписку с неким мастером Джованни, который служил во францисканской церкви Санта-Кроче. Письмо Леонардо утрачено, но его, по всей видимости, интересовали некоторые документы, якобы хранившиеся в этом храме: письма, относящиеся ко временам жизни Богоматери. Маэстро Джованни, посоветовавшись с неким мастером Закарией, с радостью подтвердил Леонардо, ссылаясь на «подлинную запись, хранящуюся в нашем храме», что святой Игнатий Антиохийский написал Богоматери письмо и «получил ответ и королларии – ибо жил в ее эпоху».[396] Леонардо, видимо, слышал про эти тайные письма и интересовался ими в надежде, что, увидев письма или «королларии» Мадонны, сможет точнее Ее изобразить.
Хотя Леонардо недолюбливал некоторые церковные обряды, у него, судя по всему, не возникало серьезных сомнений в «конечной истинности» Библии. Его репутация человека, полностью лишенного религиозных устоев, возникла в 1550 году, с выходом «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари, где художник изображен эксцентричным безбожником, позволявшим себе еретические высказывания. На самом деле все сложнее. Ни в работах, ни в действиях Леонардо не просматривается ничего, даже отдаленно похожего на ересь. Например, анатомирование трупов вряд ли разгневало бы церковные власти. То, что Церковь запрещала проводить вскрытия, – широко распространенное заблуждение. И вскрытие, и препарирование были в Италии Средних веков и эпохи Возрождения самым обычным делом. Первое задокументированное вскрытие произошло в Италии в 1286 году, а в последовавшие века тела людей самых разных званий регулярно вскрывали и исследовали, не только при обучении медиков, но и перед обычными похоронами – вскрытие проводил по просьбе родных лечащий врач. Один из современников Леонардо, флорентинец Антонио Бенивьени, вскрыл и препарировал как минимум сто шестьдесят тел, в их числе монахинь, аристократов и детей.[397]
Собственно, и рассуждения Леонардо о том, как именно произошел потоп, не являются ни ересью, ни, как утверждают многие, предвестием современной палеонтологии. Стивен Джей Гулд отметил, что многие заметки Леонардо, в том числе и та, что посвящена окаменелостям, «источают дивный аромат современности». Однако далее он показывает, что, по сути, рассуждения Леонардо об окаменелостях и потопе «абсолютно и однозначно лежат в русле Возрождения и позднего Средневековья». Здесь нет ни намека на палеонтологию, которая возникнет в XIX веке; заметки о ракушках на вершинах гор, скорее, попытка подтвердить средневековую концепцию того, что тело есть микрокосм Земли.[398] Так, в рассуждениях Леонардо дыхание сопоставляется с морским приливом и отливом, а биение сердца – с астрономическими единицами времени. До Дарвина еще шагать и шагать.
Потенциально более взрывоопасными были некоторые высказывания Леонардо из области астрономии. Астрономией он интересовался на протяжении всей жизни и некоторое время даже надеялся построить телескоп, чтобы наблюдать за звездами. «Сделай стекла для глаз, чтобы видеть луну большой» – гласит одна из его заметок.[399] В другой записной книжке есть фраза, написанная необычайно крупными буквами: «Il sole nó si move» – «солнце не двигается».[400] Объяснений Леонардо не дает. На первый взгляд, это может служить подтверждением его гелиоцентризма, вызовом геоцентрическим представлениям, которые насаждала Церковь: это та самая дерзкая доктрина, за которую в 1616 году Галилей был объявлен еретиком, а в 1633-м предан суду. Однако специалист по творчеству Леонардо Карло Педретти полагает, что утверждение это, скорее всего, никак не связано с астрономией и может быть связано с подготовкой к празднеству или театральному представлению.[401]
В другом месте Леонардо описывает – опять же без лишних пояснений – взаимное положение Солнца и Земли: «…что Земля не в центре солнечного круга и не в центре мира».[402] Педретти и к этому заявлению относится скептически. Он указывает, что Леонардо, на деле, имеет в виду следующее: Земля не является центром орбиты Солнца, не будучи единственной планетой в Солнечной системе.[403] Специалист по научной деятельности Леонардо Мартин Кемп также считает, что это утверждение не свидетельствует о гелиоцентрических взглядах, а скорее лежит в русле рассуждений Леонардо о центре тяжести и водной оболочке Земли.[404]
Судя по всему, интерес Леонардо к астрономии ограничивался физическими наблюдениями, вычислениями он не занимался. Ничто в его наследии не говорит о том, что он пытался, подобно Копернику, Кеплеру и Ньютону, рассчитать движение небесных тел по орбитам, чтобы прийти к общим выводам о поведении планет. Более того, его зарисовки в Лестерском кодексе, относящиеся примерно к 1508 году, показывают, что он придерживался сугубо традиционных взглядов на строение Вселенной.
Вазари в итоге переработал свой рассказ о еретических склонностях Леонардо. Восемнадцать лет спустя после выхода «Жизнеописаний», во втором издании, он не только выпустил все замечания о еретических рассуждениях Леонардо, но даже добавил, что тот, «чувствуя приближение смерти, стал усердно изучать все, что касалось религии, истинной и святой христианской веры».[405] Этот переворот во взглядах Вазари был вызван тем, что в 1566 году он познакомился с Франческо Мельци, и верный Мельци, многие годы проживший рядом с Леонардо, видимо, развеял его заблуждения.
Мельци мог преувеличить набожность своего учителя. Однако один из ведущих специалистов по Леонардо утверждает, что его христианская вера была «по сути традиционной».[406] И действительно, научные изыскания не породили у Леонардо сомнений или скепсиса, скорее укрепили его религиозные взгляды. Исследования в области анатомии особенно способствовали укреплению уверенности в существовании Небесного Создателя. Исследование трупов подтолкнуло Леонардо к тому, чтобы описать человеческое тело как «чудесное орудие, изобретенное верховным художником», а в своих заметках по анатомии он пишет, что должно «славить первого создателя этой машины». При этом, сколь бы ни прекрасно было человеческое тело, «оно ничто по сравнению с душой, которая живет в таком обиталище».[407]
Леонардо считал, что душу, в отличие от трупа, невозможно анатомировать, а чудеса – объяснить силами человеческого разума. Мартин Кемп утверждает, что Леонардо проводил четкое различие между верой и разумом. Бог и душа для него оставались не постижимыми ни силой мысли, ни опытным путем, однако это не значит, что он их отрицал: по мнению Кемпа, он просто рассматривал их как «рационально неопределимые».[408] Леонардо считал, что созерцать и постигать Бога следует через изучение Его творений и наслаждение ими. Он однажды написал в защиту живописцев, которые не оставляли работу в церковные праздники, что «подлинное понимание всех форм, какие есть в творениях Природы… <…> есть способ постичь суть создателя всех этих удивительных вещей и способ возлюбить столь великого изобретателя».[409] Итак, вглядываясь в тайны природы, Леонардо совершал акт поклонения, а отнюдь не богохульства.
* * *
И тем не менее в произведениях Леонардо есть явственный налет антиклерикализма: он не приемлет определенных церковных институций, в особенности монашества. Он всегда скептически относился к религиозным орденам, в одной его заметке это сказано впрямую: «Фарисеи – сиречь Святые Отцы».[410] По сути, он называл церковников напыщенными лицемерами. Более подробно он рассуждает о лицемерии в другой своей заметке: загадывает загадку – кто живет в богатстве и помпезных зданиях, доказывая, что «это есть средство подружиться с Богом»?[411] В этой загадке звучит антиклерикализм, идущий от Данте, который поместил папу Николая III вверх ногами в яму в восьмом круге Ада, через Чосерово описание Продавца Индульгенций с его мешком фальшивых реликвий к многочисленным жалобам пятнадцатого столетия на торговцев индульгенциями и прочих нечистоплотных клириков, «которые мало думают о душе и много – о деньгах».[412]
Если не считать рассказа Вазари о Винченцо Банделло, у нас нет никаких сведений о разногласиях между Леонардо и монахами, а потому невозможно сказать, связано ли его недовольство клиром с работой среди доминиканцев из Санта-Марии делле Грацие. Впрочем, антиклерикализм Леонардо носил ограниченный характер, к некоторым монахам он относился с приязнью, а иногда даже с восхищением. Благодушное отношение к монахам звучит в одной из его шуток. Леонардо очень любил шутки и смешные истории. В его коллекции было несколько сборников смешных (и зачастую неприличных) историй, например «Фацетии» («Шутки») Поджо Браччолини. Судя по всему, он собирался выпустить собственный сборник забавных историй, потому что примерно в период работы над «Тайной вечерей» записал довольно много басен, шуток и загадок – смешных сюжетов и интеллектуальных головоломок, которыми развлекал скучающих придворных Лодовико.[413]
В одной из лучших шуток Леонардо речь идет о двух монахах и купце. И в «Трехстах новеллах» Саккетти, и в «Декамероне» Боккаччо священники и монахи подвергаются презрительному осмеянию, кроме того, там много историй о развратности и мздоимстве духовных лиц. Большинство авторов этих историй были воинствующими антиклерикалами: монастыри они изображали как гнездилища всех пороков, а монахов – как алчных, похотливых лицемеров. История Леонардо выделяется среди них тем, что монахи в ней изображены с большей приязнью, даже с симпатией.
Шутка, на самом деле, очень смешная. Два монаха-минорита странствуют по Италии и останавливаются в гостинице. Там они встречаются с купчиком, который едет куда-то по своим делам. Гостиница совсем захолустная, выбор блюд невелик: на ужин подают одну вареную курицу. Купчик коварно замечает, что день – из тех, когда по правилам ордена монахам не должно вкушать мяса, и жадно поглощает курицу в одиночестве, тогда как голодные монахи довольствуются собственными скудными припасами. Однако они отомстили ему на следующий день, когда все вместе продолжили путь и один из них предложил перенести купчика через реку на своих плечах. На середине реки монах спросил у купчика, есть ли у того при себе деньги. «Разумеется, – ответил тот. – Уж не думаете ли вы, что купцы, как я, могут иначе пускаться в путь?» Монах сообщает, что устав ордена запрещает ему носить на себе деньги, и сбрасывает купчика в реку. У истории счастливый конец – купчик, улыбаясь и покраснев от стыда, стойко сносит месть.[414]
Глава 11 Чувство пропорции
Леонардо любил составлять списки. В его записных книжках осталось множество каталогов и описей – последние он, видимо, делал, когда паковал вещи перед поездкой или переездом. Кроме того, он часто перечислял по пунктам то, что собирался изучить или приобрести. Иногда такие списки переплетались, в итоге возникали довольно странные соположения. В одном списке стоит пометка: перевести труд Авиценны о «полезных изобретениях», а потом перечисляются всякие художественные припасы: уголь, мел, перья, воск. После этого короткая заметка на память: «Добыть череп». Заканчивается список горчицей, сапогами, перчатками, гребнями, полотенцами и рубашками. В другом списке соседствуют желание освоить умножение квадратных корней и напоминание упаковать носки.[415]
Но если подобные предметы и затеи иногда мешались в кучу, к перечням своих книг Леонардо относился куда внимательнее. Однажды он объявил, что не считает себя «книжником», но на деле был весьма начитан и владел неплохой библиотекой. Получив весьма скромное школьное образование, он стал одним из величайших самоучек в истории. К тому времени, когда он начал вращаться в миланских придворных кругах, он явно ощутил необходимость расширить свой кругозор. В конце 1480-х годов он начал составлять в небольшой записной книжке самый длинный свой список – словарь иностранных, латинских, специальных слов, явно чтобы расширить словарный запас. Список занимает более пятидесяти страниц и состоит примерно из девяти тысяч единиц; в итоге у Леонардо появилась возможность поражать придворных Лодовико такими редкими словами, как «архимандрит» (предводитель группы).[416]
Леонардо признавал, что «чванливцы» правы, когда говорят, что он не книжник. «Живопись представляет чувству с большей истинностью и достоверностью творения природы, чем слова или буквы», – говорил он в свою защиту.[417] При этом по его записным книжкам разбросаны имена и высказывания самых разных авторов – не только древности, таких как Платон, Плиний, Вергилий, Лукреций, Ливий, Квинтилиан и Плутарх, но и Средневековья: математика-мусульманина Сабита ибн Курры, физиков Ричарда Свайнсхеда и Бьяджо Пелакани, францисканца Джона Пекэма, Леона Баттисты Альберти. Опять же ощущается зазор между тем, что Леонардо говорил и как поступал. Книжным знанием он интересовался ничуть не меньше, чем непосредственным опытом. При этом никакие чужие слова он не принимал на веру. Даже Библия не избегла критического подхода.
Леонардо не жалел сил на поиски книг, которые хотел приобрести или прочитать, часто записывал, где их можно найти или у кого взять на время. «Книга с описанием Милана и его церквей, купить которую можно в последней писчебумажной лавке на пути в Кордузо» – гласит одна из его заметок. Другую книгу он надеялся взять взаймы у местного врача: «Маэстро Стефано Капони, лекарь, живет в Пишине, имеет „De ponderibus“ Евклида». Записные книжки Леонардо буквально испещрены подобными заметками – он выслеживает тома один за другим. «Наследникам маэстро Джованни Гирингалло, – пишет он, – принадлежат труды Пелакано». Еще одна многообещающая ниточка – Винченцо Алипрандо, «что живет у таверны „Медведь“» и владеет некой книгой по римской архитектуре. Кроме того, Леонардо брал книги в библиотеках. «Попробовать заполучить Витолоне из библиотеки в Павии, о математике». На той же странице: «У внука Джананжело, художника, есть книга про воду, принадлежавшая его отцу».[418]
Собирать книги Леонардо начал после переезда в Милан и примерно в 1495 году тщательно записал названия сорока принадлежавших ему томов. В этом списке – труды по самым разным предметам. В библиотеке Леонардо имелись трактаты по хирургии, сельскому хозяйству, военному делу – все это выглядит вполне ожидаемым, – но были и книги древнеримских авторов, таких как Плиний, Ливий, Овидий. Эти книги соседствовали с томами куда более причудливого толка. Судя по всему, в библиотеке его находилось место и серьезным научным трудам, и произведениям незамысловатым и даже юмористическим. Ему принадлежала книга Луиджи Пульчи «Il Morgante maggiore» («Большой Моргант»), поэма-бурлеск (впоследствии частично переведенная лордом Байроном) о гиганте, который поедает верблюдов и ковыряет в зубах сосной. Кроме того, у него имелась книга путешествий под названием «Приключения сэра Джона Мандевиля» (там описан остров, где живут двадцатиметровые гиганты, и птица, которая может унести в своих когтях слона), а также собрание басен Эзопа.[419] Из еще одного списка, составленного десятью годами позже, видно, что собрание разрослось до ста шестнадцати томов, – можно подсчитать, что Леонардо в среднем приобретал по семь-восемь книг в год.[420]
Возможно, самую удачную свою букинистическую покупку Леонардо сделал примерно тогда, когда получил заказ на «Тайную вечерю». В конце 1494-го или в начале 1495 года он приобрел экземпляр «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» («Сумма арифметики, геометрии, пропорций и пропорциональности») фра Луки Пачоли. За этот труд он заплатил 119 сольдо – почти вдвое больше того, что в то же время заплатил за Библию Малерми.[421] Книга только-только вышла в Венеции, – очевидно, Леонардо не хотел тратить время на поиски ее в библиотеках или на то, чтобы брать на время старые экземпляры у местных ученых мужей. Книга его не разочаровала, и через год он убедил Лодовико Сфорца пригласить ее автора-монаха в Милан, в качестве еще одного блистательного украшения двора.[422]
Из ордена францисканцев вышло немало великих философов и ученых. Самым известным был Роджер Бэкон, который занимался анатомированием мозга и называл себя «мастером опытов».[423] Фра Лука Пачоли стал еще одним членом этой блистательной когорты. В глазах многих своих современников он был величайшим из чудес света. «Сколько изумительных качеств сочетаются в этом человеке! – восклицал один писатель. – Какая одаренность, какая великолепная память, какое изобилие знаний и глубокая приверженность ученым занятиям!» Пачоли сравнивали с Аристотелем и Гомером, называли человеком «редчайшего, почти невиданного свойства… Невозможно перечислить все достижения его разума». Для другого почитателя Пачоли был просто «чудом нашего времени».[424] В историю он вошел под менее романтическим прозванием «отец бухгалтерии».
* * *
Лука Пачоли родился в 1445 году в тосканском городке Борго-Сан-Сеполькро (сегодняшнем Сансеполькро), в семидесяти километрах к юго-востоку от Флоренции. Он учился во францисканской школе, потом состоял в учениках сперва у местного купца, а затем, возможно (хотя достоверных свидетельств не сохранилось), у самого знаменитого сына Борго-Сан-Сеполькро – художника и математика Пьеро делла Франчески. Пачоли впоследствии описывал Пьеро как «короля живописцев нашего времени»,[425] однако общим их интересом была скорее математика, чем живопись. Пьеро написал свой «Трактат о счетах», книгу об «арифметике, необходимой купцам», по просьбе семьи богатых купцов из Борго. Пачоли также преподавал математику купечеству – еще в молодости перебрался в Венецию и стал домашним учителем трех сыновей коммерсанта по имени Антонио Ромпиази.
После смерти Ромпиази в 1470 году Пачоли вел кочевой образ жизни, странствовал по Италии, давал уроки математики и читал лекции. В Риме он познакомился с архитектором Леоном Баттистой Альберти, в Урбино стал наставником Гвидобальдо да Монтефельтро, сына и наследника герцога. Примерно в 1477 году он принял монашество, вступив в орден францисканцев, а впоследствии вернулся в Борго-Сан-Сеполькро, где и написал свою «Сумму арифметики». Когда он приехал в Венецию проследить за ее изданием, художник по имени Якопо де Барбари написал его портрет. На этом портрете францисканская ряса Пачоли подпоясана веревкой (три узла символизируют обеты бедности, целомудрия и послушания), голова накрыта капюшоном. Лицо, однако, видно отчетливо: человек средних лет с пухлыми щеками и двойным подбородком. Он дает урок геометрии стоящему рядом юноше приятной наружности, но с высокомерным взглядом, пользуясь доской, учебниками и двумя моделями многогранников – один сделан из стекла, наполовину заполнен водой и висит в воздухе.
Якопо де Барбари (1440/50–1516). Портрет математика фра Луки Пачоли. Ок. 1500. Дерево, темпера.
Один из учебников, показанных на картине, – это «Начала» Евклида. Второй – «Сумма арифметики» самого Пачоли. Как следует из витиеватого заглавия, это был энциклопедический труд, полный шестисотстраничный компендиум арифметики, алгебры и геометрии. Во введении отмечено, что книга также содержит «исчерпывающие указания по ведению коммерции». Особенно она прославилась тем, что предала огласке двойную бухгалтерию, которую вели венецианские купцы, – отсюда и репутация Пачоли как отца бухгалтерии, отца баланса и отца добавленной стоимости.[426]
Именно занудными рассуждениями о бухгалтерском учете, возможно, и объясняется налет скуки на лице молодого человека, стоящего рядом с Пачоли. Леонардо, со своей стороны, очень любил такие математические трактаты. К 1490-м годам ему принадлежало как минимум шесть книг, называвшихся «Libro d’abaco» («Счетная книга»), – справочников по основам математики и счисления. С математикой он познакомился еще в школе в Винчи, где, по словам Вазари, постоянно ставил учителя в тупик своими вопросами. Позднее он прочно утвердился в мысли, что математика – важнейшая из наук. «Пусть не читает меня, согласно моим принципам, тот, кто не является математиком» – так звучит широко известное изречение Леонардо (не так широко известно то, что принципы, о которых он говорит, – это его теории о том, как работает артериальный клапан).[427] Примечательно, что сам он был довольно слаб в математике, часто допускал элементарные ошибки. В одной из заметок он считает тома в своей растущей библиотеке: «25 маленьких книг, 2 книги побольше, 16 еще побольше, 6 в пергаментных переплетах, 1 книга в переплете из зеленой замши». Эти подсчеты (в рамках очаровательно произвольной классификации) в итоге дают 50, однако Леонардо приходит к другому выводу. «Итого: 48», – уверенно заявляет он.[428]
Пачоли читал публичные лекции по математике, которые оплачивал Лодовико. Однако престиж, которым он пользовался при дворе Сфорца, зиждился не на опыте двойной бухгалтерии, а на его интересе к многогранникам, вроде того, который показан на картине Барбари. Многогранник, или «полиэдр» по-гречески, представляет собой сложную трехмерную геометрическую фигуру, например тетраэдр (пирамиду), октаэдр (бриллиант) или икосаэдр, который состоит из двенадцати пятиугольников и двенадцати шестиугольников и похож на футбольный мяч. Платон, Евклид и Архимед описывали свойства этих и других многогранников, а потом интерес к ним возродился в пятнадцатом столетии. Художник из Флоренции Паоло Уччелло использовал многогранники на своих картинах (особенно в форме подбитой, напоминающей бублик шляпы, которая называлась «маззоччо») и в узоре, который он создал для мозаичного пола в соборе Святого Марка в Венеции. Пачоли был новейшим приверженцем такой геометрической акробатики. Он утверждал, что еще в Урбино сделал стеклянные модели шестидесяти многогранников (хотя об этом не сохранилось никаких свидетельств), а в Милане собирался сделать еще несколько для Галеаццо Сансеверино, которому его, по всей видимости, представил Леонардо.
Леонардо и Пачоли быстро сдружились. Позднее, во Флоренции, они даже поселились вместе, а в Милане Пачоли, возможно, жил у Леонардо в Корте дель Аренго. Леонардо явно считал, что многое может почерпнуть у ученого-монаха, которого наверняка постоянно бомбардировал вопросами. «Научиться умножению корней у маэстро Луки» – гласит одна из его заметок.[429]
Объединяла их не одна только любовь к математике. Как и Леонардо, который любил развлекать придворных своими механизмами и фокусами (например, превращал белое вино в красное), Пачоли, похоже, сделался при дворе Сфорца своего рода интеллектуальным шутом. Вскоре после прибытия в Милан он начал работать над трактатом «De viribus quantitatis» («О силе чисел»). В нем содержались не только головоломные алгебраические задачки, которые Пачоли, возможно, демонстрировал и решал перед придворными, но и всевозможные фокусы. В рукописи Пачоли описаны следующие занятные трюки:
Как сделать, чтобы яйцо ходило по столу.
Как сделать, чтобы яйцо скользило вверх по лезвию копья.
Как сделать, чтобы вареный цыпленок прыгал по столу.
Как есть жир и выдувать огонь.
Как сделать, чтобы на вареном мясе появились черви.
Заставить вареного цыпленка прыгать по столу можно так: смешать ртуть с «небольшим количеством магнитного порошка», вылить в бутылку, закупорить, засунуть бутылку в цыпленка «или другой кусок отварного мяса, главное – чтобы он был горячий, тогда он станет прыгать». Червей на куске мяса он получал так: нарезал струны от лютни «на длинные куски, по длине настоящих червей», и прятал их в мясе. Если мясо подогреть, струны, «сделанные из жил, начнут медленно извиваться, предстанут червями, и тех, кто их видит, стошнит».[430]
Вот чем развлекалось «чудо своего времени». Возможно, выдумывать некоторые фокусы ему помогал Леонардо, который тоже любил шутки и розыгрыши. В одной из заметок Леонардо пишет, как «устроить пожар, который охватит всю залу, ничего в ней не повредив». Чтобы фокус получился, нужно создать коньячные пары в замкнутом пространстве, распылить в них порох, а потом войти в комнату с зажженным факелом. «Хороший фокус», – отмечает Леонардо. Кроме того, он надувал овечьи кишки, так что они заполняли все помещение, заставляя гостей тесниться по углам. «Выполнил он бесконечное множество таких затей», – сообщает Вазари.[431]
Но если Леонардо и Пачоли и тратили часть своего времени на то, чтобы развлекать скучающих придворных, в основном они занимались более серьезными вещами. Вскоре после прибытия Пачоли в Милан они приступили к совместной работе над его фундаментальным трудом.
* * *
Один из самых знаменитых рисунков Леонардо был выполнен за несколько лет до того, как он начал работать над «Тайной вечерей». На этом аккуратном наброске пером изображен обнаженный человек, раскинувший ноги и руки так, будто хочет упасть на снег и оставить там свой оттиск. Он стоит в квадрате, пересеченном кругом. Своим разборчивым зеркальным почерком Леонардо поясняет, зачем сделал этот рисунок: если ты расставишь ноги так, чтобы уменьшить рост на одну четырнадцатую, и одновременно «настолько раздвинешь и подвинешь руки, что вытянутыми пальцами ты коснешься линии самой верхней части головы», пупок окажется центром твоих раскинутых конечностей, а пространство между ног образует равносторонний треугольник.[432]
В этом на первый взгляд странном акробатическом упражнении Леонардо обращается к работам древнеримского архитектора и инженера Витрувия; именно поэтому его знаменитый рисунок и назван «Витрувианским человеком». В «Десяти книгах об архитектуре», созданных примерно тогда, когда родился Христос, Витрувий описывает изыскания по геометрии и пропорциям с участием человеческого тела: «Ибо если человек лежит на спине, руки и ноги раскинув, то в центре круга размещен его пупок, его тело, руки и ноги будут вписаны в окружность». То же происходит и с квадратной формой, утверждает Витрувий, ибо расстояние от носков ног до затылка равно расстоянию от кончиков пальцев одной раскинутой руки до другой.[433]
«Десять книг по архитектуре» – единственный римский трактат об архитектуре, сохранившийся со времен Античности; в XV веке он пользовался большим влиянием. Работа Витрувия представляет собой эклектичное сочетание философии и практики, там описано все, от фаз Луны до строительства катапульт и стенобитных машин. Одна глава называется «Об изначальной материи по мнению физиков», следующая – «Кирпичи». Такая книга не могла не понравиться Леонардо. «Спросить у книготорговцев про Витрувия», – пишет он в одной из своих многочисленных заметок о поиске книг.[434] Видимо, он купил экземпляр книги вскоре после того, как в 1486 году появилось первое печатное издание.
Одна из глав «Книг по архитектуре» носит название «О соразмерности в храмах и в человеческом теле». Судя по всему, Витрувий много занимался измерением лиц и тел. Человеческое тело он считал комбинацией соотношений и пропорций, дробей и единиц, сложных взаимоотношений между разными частями. Например, он утверждал, что расстояние от корней волос до низа подбородка у человека всегда то же, что длина руки от запястья до кончика среднего пальца. Это расстояние равно десятой части его роста, тогда как расстояние от подбородка до темени – восьмой. «Что до длины самого лица, – пишет он, – то расстояние от низа подбородка до низа ноздрей составляет его треть, нос от низа ноздрей до раздела бровей – столько же, и лоб от этого раздела до начала корней волос – тоже треть».[435]
Поскольку Леонардо не был готов ничего принимать на веру, даже слова Витрувия, он стал проводить собственные опыты. Примерно к 1490 году он, благодаря систематическим измерениям, собрал данные по головам, торсам и конечностям большого количества молодых людей, в том числе двоих, которых называл Треццо и Караваджо, по их родным городам в Ломбардии. Один из этих двоих, возможно, и послужил моделью для «Витрувианского человека».[436] В систему измерений Витрувия Леонардо внес множество уточнений и дополнений – он, например, заявлял, что расстояние между ртом и основанием носа составляет одну седьмую длины лица, а расстояние между ртом и кончиком подбородка составляет «четвертую часть лица и равно ширине рта». Он также выяснил, что длина руки «9 раз укладывается в человеческом росте», а расстояние между сосками и макушкой головы составляет четверть общего роста.[437]
Для чего нужны все эти соотношения и пропорции? Витрувий считал, что храмы надлежит строить со строгим соблюдением пропорций, каковые он определял как «соответствие между членами всего произведения и его целым по отношению к части, принятой за исходную». Лучшим примером пропорциональности, по мнению Витрувия, служит человеческое тело, ибо его «сложила природа».[438] Поскольку соотношения между членами человеческого тела отражают заданный природой порядок, имеет смысл изучать телесные пропорции и использовать полученные данные для расчета пропорций римских храмов – тогда они будут обладать гармонией и отражать ту же упорядоченность и красоту.
Архитекторы XV века, такие как Альберти и Франческо ди Джорджо, были буквально заворожены этой идеей гармонизации зданий по принципу пропорций человеческого тела. И разумеется, дотошно изучая тела Треццо и Караваджо, Леонардо стремился к удовлетворению своих архитектурных амбиций – например, к тому, чтобы перекрыть Миланский собор куполом. Кроме того, он использовал эти измерения, равно как и знания в области перспективы, чтобы поставить живопись на твердую научную основу, притом что его точнейшие измерения, разумеется, превосходили стандартные художественные требования. Леонардо считал, что в природе все пропорционально, и даже размышлял о том, что можно найти пропорциональное соотношение между обхватом древесного ствола и длиной его ветвей.[439]
Пачоли тоже размышлял над пропорциями – это следует из полного названия его трактата. Кроме того, в «Сумме арифметики» он не только дает советы о ведении коммерции, но и пытается применить законы математики и пропорции к живописи и архитектуре. В Милане Пачоли занялся этими исследованиями еще усерднее. Вскоре после прибытия туда он взялся за работу над новой книгой – в этой работе участвовал и Леонардо, который делал к ней иллюстрации как раз тогда, когда писал «Тайную вечерю». Книга Пачоли должна была называться «De divina proportione» («О божественной пропорции»). Многое в ней наверняка представляло для Леонардо необычайный интерес. Пачоли занимался не просто измерениями расстояния между ртом и подбородком, он замахнулся на большее – на пропорции Бога и Вселенной.[440]
Сотрудничество, судя по всему, складывалось очень удачно. Пачоли восхищался живописными талантами Леонардо, Леонардо не меньше ценил способности монаха в области математики и геометрии. Пачоли называл Леонардо «принцем среди людей» и впоследствии с сильной ностальгией вспоминал совместную работу над книгой «О божественной пропорции», даже писал о «счастливых временах, когда мы были вместе в великолепном городе Милане».[441] Леонардо ничего или почти ничего не добавил к содержанию трактата, однако Пачоли попросил его сделать рисунки шести многогранников.
* * *
Трактат Пачоли «О божественной пропорции», написанный в течение года-двух после его прибытия в Милан, представляет собой еще одно толстое, заумное сочинение, на сей раз посвященное не бухгалтерии, а геометрии и соотношениям. Написан этот труд на скверном итальянском языке и приводит на ум замечание, якобы сделанное Сэмюэлем Джонсоном по поводу одной рукописи, хорошей и самобытной: «Вот только та часть, которая хороша, не самобытна, а та, что самобытна, не хороша». Пачоли вольно пользуется математическими открытиями Платона, Евклида и Леонардо Пизанского (в более поздние века известного как Фибоначчи). Кроме того, он многое позаимствовал у своего бывшего учителя Пьеро делла Франчески – столь многое, что его обвинили в плагиате из «Книги о пяти правильных телах».
В трактате Пачоли особое внимание уделено одной пропорции. В VI книге «Начал» Евклид показал, как можно разделить отрезок, чтобы соотношение между меньшей и большей частью равнялось соотношению между длиной большей части и всего отрезка. Евклид назвал это действие делением отрезка «в крайнем и среднем отношении», причем отношение выражается бесконечным числом, которое начинается как 1,61803. Соотношение это проявляется очень во многом, в том числе в прогрессивной последовательности чисел, впервые описанной Леонардо Пизанским (с работами которого Пачоли был хорошо знаком), а теперь известной как «числа Фибоначчи» – 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. В этой последовательности каждое следующее число является суммой двух предыдущих; кроме того, после первых нескольких чисел каждое число, будучи разделенным на предыдущее, дает приблизительно (хотя лишь приблизительно) 1,61803. Например, 21 ÷ 13 = 1,61538.
Пачоли дал более красивое название делению отрезка, «в крайнем и среднем отношении» (как оно называлось много веков): он назвал это «божественной пропорцией». Для Пачоли она была божественной благодаря внутренней связи (тут явно всплывает его францисканство) с природой Бога. Математические свойства этого соотношения – тот факт, что, например, 1,6182 = 2,618, – он считал не случайными, а божественными. Среди доводов в пользу своего утверждения он приводил, например, такой: и Бог, и божественная пропорция иррациональны, то есть непостижимы и не могут быть выражены через соотношение двух целых чисел. Игры Пачоли с числами явно вышли за пределы бухгалтерского учета и устремились в онтологические дали.
Помимо Евклида, Пачоли многое заимствовал из «Тимея» Платона, произведения, где речь идет о столь серьезных материях, как происхождение времени, Солнца и «души мира». Особенно Пачоли занимал раздел, посвященный многогранникам. Трудно переоценить значение этих многогранников для Платона. Они были не просто геометрическими причудами, – по его мнению, они являлись элементами, из которых строится весь физический мир. В описании Вселенной четыре стихии (земля, воздух, огонь и вода) представлены как твердые тела, выраженные через четыре многогранника, а именно: куб, восьмигранник (диамант), тетраэдр (пирамида) и икосаэдр (двадцатигранник). Доводы в пользу этих рассуждений Платон приводит весьма туманные, однако утверждает, что тетраэдр, составленный из четырех равносторонних треугольников, обладает «свойством огня» (возможно, потому, что напоминает язык пламени), а шарообразный икосаэдр – это многогранник воды. Нам эти аналогии могут показаться надуманными, однако в некотором смысле для древних греков они были тем же, чем для нас – модели молекул из палочек и шариков, которые использованы, например, в двухспиральной модели ДНК Уотсона и Крика.
У Платона, кстати, имелся собственный эквивалент «молекулы жизни», пятый многогранник – додекаэдр. Ему Платон приписывал особо важную роль. Додекаэдр состоит из двенадцати сопряженных пятиугольников, и в космологии ему приписывается свойство заключать в себя и упорядочивать все другие: своего рода геометрический бозон Хиггса. «Его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца», – писал Платон в «Тимее», не вдаваясь в объяснения почему.[442]
Для Пачоли особое значение имело то, что это космологическое оригами можно было сложить только при помощи божественной пропорции, которая описывала соотношение между сторонами и диагоналями пятиугольников. Более того, додекаэдр включает в себя остальные четыре многогранника, причем в буквальном смысле, потому что их можно поместить внутрь (иногда одновременно, как, например, в случае с тетраэдром и кубом). Это делает додекаэдр точной метафорой всеобъемлющей сущности, хотя для Пачоли она, разумеется, была не просто метафорой – он напрямую наделял додекаэдр божественными свойствами.[443] Божественная пропорция, в представлении Пачоли, была попыткой дать христианизированную трактовку рассуждений Платона о демиурге, который создал Вселенную в форме додекаэдра. По сути, это была попытка геометра, или бухгалтера, доказать существование Бога.
Леонардо выпала непростая задача изобразить эти геометрические фигуры. Среди шестидесяти иллюстраций, которые он должен был сделать, имелись ромбокубоктаэдр с двадцатью шестью гранями (состоявший из восемнадцати квадратов и восьми равносторонних треугольников) – задачка, от которой створожатся любые мозги. Однако Леонардо эта работа явно была в радость. В одной из его записных книжек есть аккуратные рисунки пяти базовых фигур, они сопровождаются стишком: «Сей сладкий плод, в красе лелеем глазом, / Давно зовет философов искать / Истоки наши, напрягая разум».[444] Рисунки этих сладких плодов он сделал чернилами и акварелью, показав все фигуры целиком, а также – это великолепные образцы владения перспективой и трехмерного воображения – в виде прозрачных каркасов.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Додекаэдр. Иллюстрация к трактату Луки Пачоли «О божественной пропорции» (1509, Венеция). Гравюра.
Пачоли, видимо, был в восторге от этой работы. Позднее он написал, что художник создал «великолепные, весьма грациозные фигуры», причем такие, что превзойти их (это было весьма расхожее сравнение) не смогли бы даже мастера древности, такие как Апеллес, Мирон и Поликлет.[445]
* * *
Участие Леонардо в работе над трактатом, его дружба и тесное сотрудничество с Пачоли заставляют задаться вопросом: использовал ли он божественную пропорцию в работе над «Тайной вечерей»? Ведь Пачоли рекомендовал свой трактат «умам светлым и любознательным» и обещал, что всякий, изучающий «философию, перспективу, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и иные математические дисциплины», найдет его труд «тонким, вдумчивым и познавательным и с восторгом приобщится ко всевозможным вопросам, касающимся до самого тайного знания».[446] Итак, воспользовался ли Леонардо «тайным знанием» Пачоли?
С середины XIX века непрерывно звучат заявления о применении художниками божественной пропорции, которая теперь известна как золотое сечение, золотое соотношение, а также – в честь Фидия, который, как считается, использовал ее при строительстве Парфенона, – обозначается греческой буквой «фи» (Ф). (Кстати, на самом деле Парфенон построил вовсе не Фидий – он занимался только его внешней отделкой. Ранние источники называют в качестве зодчих Парфенона Иктина, Калликрата и Карпиона.)
Золотое сечение, несомненно, присутствует в природе: в ананасах, подсолнухах, раковинах моллюсков, спиралях галактик – например, Млечного Пути. Ряд авторов утверждают, что золотое сечение можно отыскать почти повсюду, от египетских пирамид до греческих ваз и григорианских песнопений. Однако золотым сечением увлеклись лишь в недавние времена. Само название придумали в XIX веке. Заявления об его использовании в живописи и архитектуре по большей части не выдерживают более пристального рассмотрения, и исследования, которых делается все больше, с успехом их опровергают. Например, пропорции Парфенона никак не подтверждают распространенной гипотезы, что Фидий, а точнее, Иктин, Калликрат и Карпион знали о существовании божественной пропорции и пользовались этим знанием. Теории касательно пирамид доказать крайне сложно, поскольку они основаны на современных математических системах, а не на тех, которыми пользовались древние египтяне.[447]
* * *
Прибытие в Милан Пачоли подстегнуло и без того немалый интерес Леонардо к математике и геометрии. Записные книжки его стали заполняться множителями и квадратными корнями. Он восхвалял в математике «достоверность доказательства».[448] Он провел многие часы за делением чисел на три и четыре, за рассечением геометрических фигур; он занимался древней проблемой «квадратуры круга».[449] Этим занятиям он отдался с такой полнотой, что, скорее всего, именно они, а не какая-то катастрофа или осознание непригодности его конструкций заставили Леонардо временно отказаться от работы над летательными машинами. По случайному ли совпадению или нет, но попытки Леонардо подняться в воздух стали сходить на нет именно после прибытия в Милан Пачоли.
При этом свидетельства об интересе Леонардо к божественной пропорции и об использовании ее на практике крайне скудны. В его записных книжках нет ни упоминаний о божественной пропорции, ни ее описаний: мы не находим этого понятия ни среди его многочисленных высказываний о пропорции, ни среди еще более обширных заметок по математике и геометрии. Собственно, полное отсутствие упоминаний о божественной пропорции – одна из многих неожиданностей в наследии Леонардо. Если он верил в то, что божественная пропорция действительно является ключом к совершенной композиции, универсальной формулой, почему он ни разу не упомянул о ней в своем пространном рассуждении о пропорции в «Трактате о живописи»?
Да и из живописных работ Леонардо не так-то просто извлечь свидетельства того, что он экспериментировал с божественной пропорцией. На его картинах, безусловно, присутствуют геометрические фигуры – в качестве примера можно привести равносторонний треугольник, который образуют голова и руки Христа в «Тайной вечере». Более того, прямоугольники, выстроенные по принципу золотого сечения, можно при желании наложить на некоторые лица на его картинах. Однако наложения эти, как правило, произвольны и неубедительны. В качестве доказательства часто приводят незаконченную картину Леонардо «Святой Иероним», над которой он работал в 1480-е годы. В книге Дэвида Бергамини «Математика», опубликованной в замечательной серии «Научная библиотека» концерна «Тайм лайф», утверждается, что золотой прямоугольник «так четко укладывается вокруг фигуры святого Иеронима, что некоторые исследователи полагают: Леонардо специально нарисовал фигуру в соответствии с этими пропорциями».[450] Однако, если посмотреть пристальнее, видно, что «исследователи» специально строят прямоугольник так, чтобы в него влезла (а она все равно влезает плохо) фигура святого Иеронима: рука его вытягивается за пределы прямоугольника, а голова, как на грех, не доходит до верхней стороны. Портит картину еще и то, что Леонардо написал «Святого Иеронима» за десять лет до знакомства с Пачоли и с понятием божественной пропорции. Вся эта процедура напоминает усилия математика, который по ходу исследований (наверняка чрезвычайно приятных), пришедшихся на 1940-е годы, обнаружил золотое сечение в соотношении между объемом груди и талии голливудской звезды Вероники Лейк.[451]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Св. Иероним с наложением прямоугольника, якобы доказывающим применение правила золотого сечения. Ок. 1480–1482. Дерево, масло, темпера.
На деле блеск и притягательность работ Леонардо никак не связаны с прямоугольниками и отрезками; их сила – в непревзойденной наблюдательности и недоступном другим понимании света, движения и анатомии. «Святой Иероним» обязан своей выразительностью прежде всего яркому контрасту между чуть размытой жилистой фигурой отшельника – в которой явственно читается интерес Леонардо к строению отдельных частей человеческого тела – и гибким туловищем льва, свернувшегося перед ним на земле. Зверь, вне всякого сомнения, написан с натуры, с одного из львов, которых держали в зверинце за флорентийским палаццо Веккио, буквально в нескольких шагах от дома отца Леонардо. Похоже, что однажды Леонардо даже довелось анатомировать льва. «Глаза у львиной породы, – пишет он, – имеют вместилищем бо́льшую часть головы их, и зрительные нервы непосредственно соединяются с мозгом».[452] Именно любопытство и рвение – желание изучать свирепых животных, мечущихся по клетке, а потом еще и заглядывать в их рассеченный мозг – были залогом творческой гениальности Леонардо, а вовсе не усердие в вычерчивании прямоугольников.
Одна из причин, по которой Леонардо не использовал божественную пропорцию в своих произведениях (и не ратовал за нее в своих текстах), заключается в том, что и Пачоли, собственно, не предлагал ее живописцам и архитекторам в качестве композиционного приема. Я хочу сказать, что Пачоли не усматривал в божественной пропорции формулу красоты: судя по всему, эта мысль вообще не приходила ему в голову. Вместо этого он ратовал за витрувианскую систему, основанную не на иррациональной математической константе 1,61803, но на куда более простых соотношениях (Витрувий считал «идеальным» число 10).[453]
Леонардо доверял эмпирическим выводам куда больше, чем абстрактным концептам. Он склонен был верить собственным глазам и циркулям, а не платоновским рассуждениям о форме и пропорциях Вселенной. Как и Никколо Макиавелли, он предпочитал «следовать правде не воображаемой, а действительной» (гл. 15).[454] Измеряя Треццо и Караваджо, Леонардо наверняка понял, что одно из самых распространенных современных ему представлений о золотом сечении – если разделить рост человека на расстояние от пупка до пола, то получится 1,61803 – совершенно неверно. Более того, соотношение роста его «Витрувианского человека» с расстоянием от пупка (иногда это соотношение приводят в качестве телесного доказательства существования золотого сечения) дает примерно 1,512, то есть куда меньше искомого идеала, и является хорошим примером того, какие требуются подтасовки, чтобы обосновать многочисленные теории об использовании золотого сечения в искусстве. Эмпирический подход Леонардо к пропорциям человеческого тела привел к тому, что он выразил их соотношения по-иному, через целые числа. Вот типичное его рассуждение: рост человека равен восьми длинам его стопы или девяти расстояниям между подбородком и верхом лба.[455] Или, как мы уже видели в случае с «Тайной вечерей», он применял к живописи и архитектуре музыкальные тоновые интервалы и при организации пространства комнаты, где сидят Христос и апостолы, использовал соотношения 1:2, 2:3 и 3:4.
Леонардо наверняка увлекли бы всевозможные проявления принципа золотого сечения в живой природе, например строение корзины подсолнечника, у которого семенные коробочки расположены в виде двух закручивающихся в противоположные стороны спиралей, устроенных в соответствии с рядами Фибоначчи: 21, 34, 55, 89 или 144 – по часовой стрелке и, соответственно, 34, 55, 89, 144 или 233 против. Однако ни Леонардо, ни его современники, включая Пачоли, еще не знали об этих явлениях – большинство из них были открыты только в начале двадцатого столетия дизайнерами из Баухауса и американскими художниками, такими как Роберт Генри и Джордж Беллоуз; только тогда золотое сечение и вошло в мастерские зодчих и живописцев.
* * *
Через несколько месяцев после приезда Луки Пачоли в Милан его сотрудник и новый друг внезапно исчез. Летом 1496 года, после полутора лет работы в Санта-Марии делле Грацие, Леонардо вдруг прервал работу и куда-то уехал. 8 июня один из секретарей Лодовико Сфорца доложил, что художник «вызвал изрядный скандал, после чего покинул город».[456]
Подробности этого скандала нам неведомы. Возможно, произошел некий спор касательно оплаты. А возможно, Моро надоел медлительный живописец (который наверняка уделял больше времени многогранникам Пачоли, чем апостолам в трапезной) и он стал настаивать на скорейшем окончании работы. Скандал и последовавшее за ним бегство, видимо, только закрепили за Леонардо репутацию несговорчивого, строптивого живописца. Означало это и то, что «Тайной вечере», как и многим его произведениям, грозила опасность остаться незавершенной.
Оригинальный договор не сохранился, и подробности его нам не известны; мы не знаем, сколько Леонардо должны были заплатить за «Тайную вечерю» и когда он обязался ее закончить. Что касается оплаты, мнения расходятся очень сильно. Один из монахов этого монастыря, живший в середине следующего столетия, утверждал, что Лодовико назначил Леонардо годичное жалованье в пятьсот дукатов. Это была весьма значительная сумма, учитывая, что жалованье крупных чиновников составляло триста дукатов, однако его вряд ли могло хватить Леонардо, с его изысканными вкусами в одежде, свитой слуг и учеников и любовью к роскоши. Маттео Банделло полагает, что Леонардо получал жалованье в две тысячи дукатов – этого хватило бы на самую роскошную жизнь.[457] Вероятно, Банделло преувеличивает, тем более что у него, скорее всего, не было доступа ни к каким документам (когда Леонардо начал работу над «Вечерей», тому было всего десять лет). Однако не исключено, что две тысячи дукатов Леонардо заплатили за всю работу. Именно столько получил несколькими годами раньше Филиппино Липпи за фрески в капелле Карафа в церкви Санта-Мария сопра Минерва в Риме.[458] Несколько лет спустя Микеланджело получил три тысячи дукатов за фрески на куполе Сикстинской капеллы, где работы было гораздо больше.
Две тысячи дукатов – если за «Тайную вечерю» заплатили именно столько – являлись внушительной суммой. Этого хватило бы, например, на покупку большого особняка на берегу Арно во Флоренции.[459] Перевести две тысячи дукатов в сегодняшние деньги довольно сложно. Дукат состоял из 0,1107 тройской унции (3,443 грамма) золота, а значит, Леонардо (если верить Банделло) получил 221,4 унции золота. В сегодняшних ценах, когда золото стоит около 1600 долларов за унцию, получается, что Леонардо заплатили немного больше 350 тысяч долларов.
Итак, вознаграждение было достаточно щедрым; возможно, художника не устраивали какие-то иные условия? Раздражение и возмущение у него могло вызвать то, что Лодовико постоянно заваливал его всякими мелкими поручениями. Подобно монахам из Сан-Донато а Скопето, которые заставили Леонардо расписать солнечные часы по ходу работы над «Поклонением волхвов», Лодовико рассматривал своего придворного художника как подручную рабочую силу и поручал ему, по минутной прихоти, самую примитивную и неинтересную работу. Беатриче могла потребоваться новая канализация в ее покоях, или было решено перекрасить спальню – звали Леонардо. Возможно, именно спальня герцогини и стала последней каплей, потому что именно ее перекраской Леонардо и занимался, когда в гневе покинул замок.
Нельзя сказать наверняка, ограничилось ли дело уходом из замка, или ярость Леонардо была столь велика, что он вообще уехал из Милана. Если – да, то, скорее всего, он направился в Брешию, находившуюся на венецианской территории, в семидесяти километрах к востоку от Милана. О его пребывании в Брешии не сохранилось никаких письменных свидетельств, однако, судя по всему, он надеялся получить там заказ на создание алтаря францисканской церкви Сан-Франческо. Через Луку Пачоли он познакомился с главой ордена францисканцев Франческо Нани. В начале года Леонардо сделал набросок к портрету Нани, а в Брешию, возможно, направился в надежде, что могущественный клирик, происходивший из этого города, поможет ему по знакомству получить заказ на алтарную картину.[460]
Из краткого описания будущего алтаря, сделанного Леонардо, возникает ощущение, что работа предполагалась вполне традиционная. Художник собирался изобразить Богоматерь и двух святых покровителей Брешии, Фаустино и Джовиту. Богоматерь должна была находиться на возвышении, возможно на троне, а окружать это трио должны были видные францисканцы – святой Франциск, святой Бонавентура, святая Клара и святой Антоний Падуанский. Композиция (скорее всего, предложенная монахами-францисканцами) странным образом напоминает другие работы – например, алтарь часовни Сан-Бернардо дворца синьории, – которые Леонардо бросил недоделанными во Флоренции. Трудно представить себе, что после работы над новаторской картиной во Флоренции он мог отнестись с энтузиазмом к такому стандартному заказу.
А тем временем секретарь Лодовико отправил письмо архиепископу Миланскому, чтобы тот договорился с Пьетро Перуджино – надежным художником, если таковые вообще имеются, – о завершении работы в покоях Беатриче. О том, что предполагается делать с незаконченной росписью в трапезной доминиканского монастыря, в письме не сказано ни слова.[461]
* * *
Летом 1496 года у Лодовико Сфорца были проблемы гораздо более насущные, нежели капризы беглого художника. С начала года он разыгрывал очередной рискованный сценарий. На сей раз, вместо того чтобы пригласить в Италию французов в качестве защитников от неаполитанцев, он пригласил в Италию Максимилиана как защитника от французов. Как и в прошлый раз, это грозило далекоидущими последствиями практически всем итальянским герцогствам и республикам.
В ходе завоевания Италии Карл VIII подписал с Флоренцией договор, в котором обязался вернуть ей Пизу сразу после захвата Неаполя. Однако осуществлять возврат не спешил – отчасти потому, что пизанцы жаловались французам: флорентинцы-де «относятся к ним совершенно по-варварски».[462] Тогда Флоренция решила вернуть себе ценные владения силой. Лодовико рассчитывал воспользоваться этой ситуацией и забрать Пизу себе. Пизанцы одобрительно отнеслись к его посулам, а именно к обещанию военной и финансовой помощи в битве против Флоренции. Венецианцы тоже предложили пизанцам помощь, и тогда Лодовико, из страха, что город перейдет к Венеции, призвал Максимилиана, мужа своей племянницы Бьянки Марии.
Появление Максимилиана на итальянской земле было призвано не только помочь Лодовико захватить Пизу; дополнительным бонусом являлось то, что армия Максимилиана явно воспрепятствовала бы любым новым наступлениям французов – а в 1496 году новое наступление казалось весьма вероятным. Неаполитанцы последовательно отвоевывали свои захваченные территории, и многочисленное французское войско под началом Джанджакомо Тривульцио, миланского наемника, перешедшего на сторону французского короля, стояло в Асти, готовое снова ринуться в Италию. Перед лицом этой угрозы Лодовико пребывал, по словам одного летописца, «в состоянии сильнейшей тревоги».[463]
В июле в бенедиктинском аббатстве на немецкой границе состоялась встреча Лодовико и Максимилиана. Под прикрытием совместной охоты и пира они составили план, согласно которому Максимилиан должен был прибыть в Италию, якобы с целью посетить Рим и получить императорскую корону из рук папы. А по пути, воспользовавшись возможностью, убедиться, что Пиза не попала в руки флорентинцев. Хотя у Максимилиана не было особого желания ни помогать пизанцам, ни ссориться с флорентинцами, двигали им два важных соображения: во-первых, он получит императорскую корону, без чего не может официально именоваться императором Священной Римской империи (до коронации он, строго говоря, был лишь «избранным императором»); во-вторых – и это было еще заманчивее, – Лодовико пообещал ему значительное вознаграждение.
Итак, в начале сентября Максимилиан выступил с восьмью пехотными полками в Итальянский поход. Он провел несколько недель в Виджевано в обществе Лодовико: они пировали и охотились с леопардами. В октябре он отправился по суше в Геную, а оттуда морем, вдоль берега, – в Пизу. Местное население приняло его с воодушевлением. Статую Карла VIII сбросили с постамента, над городом взвились имперские орлы. Впрочем, воодушевление и радость продлились недолго. Немецкие войска снабжались плохо, дисциплина хромала; кроме того, гарнизон Пизы уже укомплектовали венецианцами, бойцы Максимилиана оказались как бы лишними. Он отплыл в Ливорно, пообещав завоевать его для пизанцев, но его остановили бурное море и французские корабли. Флот его был рассеян штормом, некоторые суда пошли ко дну, а во время стычки с французами ядро пролетело так близко от императора, что даже зацепило его мантию. Тяга Максимилиана к приключениям стремительно иссякала. Вскорости он перебазировался в более спокойные окрестности Павии, во владениях Лодовико, где были намечены новые пиршества.
Провал экспедиции Максимилиана не лучшим образом сказался на репутации Лодовико. Один венецианский летописец описывает герцога как «одного из мудрейших людей… все страшатся его, ибо фортуна благоволит ему во всем». Одновременно он отмечает, что никто не любит Лодовико и не доверяет ему и «рано или поздно он будет наказан за свое двуличие. Ибо он никогда не держит обещаний, а сказав одно, всегда делает другое». Жаловался на его поведение и другой венецианец. «Гордость и высокомерие его непомерны», – пишет он с горечью.[464]
В личных делах Лодовико проявлял то же двуличие, что и в политических. В ноябре очевидиц из Феррары писал на родину: «Согласно последним новостям из Милана, Лодовико проводит все свое время и ищет утех в обществе девицы, состоящей в услужении у его жены. Здесь на это смотрят с осуждением».[465] Упомянутая девица – это Лукреция Кривелли, одна из фрейлин Беатриче, и осуждение поступки Лодовико вызывали прежде всего у самой Беатриче. Она уже избавилась от предыдущей любовницы Лодовико, Чечилии Галлерани, с которой Моро бестактно развлекался в первые же недели после свадьбы. И вот пять лет спустя появилась новая соперница, и Беатриче, находившаяся на позднем сроке беременности, впала в отчаяние. Хуже того, Лукреция получила от Лодовико знак особой приязни: Леонардо написал ее портрет.
Когда-то Лодовико заказал Леонардо портрет Чечилии Галлерани, а теперь как-то ухитрился уговорить его написать новую наложницу. Серия эпиграмм на латыни, приведенных в записных книжках Леонардо, – сочинения неизвестного поэта – возглашает, что Леонардо, «первейший из живописцев», пишет портрет Лукреции. Лукрецию, славословит поэт, «писал Леонардо, влюблен был Моро».[466] Когда именно был закончен этот портрет, неясно. Да и не до конца понятно, о какой именно картине речь, хотя, скорее всего, это все-таки так называемая «La belle Ferronière» («Прекрасная Ферроньера»).[467] Этот портрет брюнетки с оленьими глазами был выполнен на доске орехового дерева – похоже, из того же самого ореха, из которого выпилена доска для «Дамы с горностаем».[468] Личность модели окончательно не установлена, однако эпиграммы на латыни наводят на мысль, что, поскольку никакого иного портрета, подходящего под имеющееся описание, мы не знаем, на нем изображена именно Лукреция.[469]
Как это часто бывает в случае с Леонардо, правда тонет в допущениях и домыслах. «Прекрасная Ферроньера» – типичный пример споров и недомолвок, которыми окружены почти все его произведения. Не все согласны с тем, что это работа Леонардо: один из исследователей считает, что сам мастер ни разу не дотронулся до нее кистью.[470] Только в 1839 году ее идентифицировали как произведение Леонардо; позднее, в XIX веке, картину приписывали его ученику Больтраффио, а в 1920-е годы копия, принадлежащая американскому торговцу автомобилями, была выдана за настоящего Леонардо – воспоследовали суд, обличение в подлоге, по ходу которых стали очевидны предвзятость и сугубая ограниченность ведущих экспертов, таких как Бернард Беренсон.[471] Ничто, за исключением эпиграмм на латыни, не связывает эту картину с Лукрецией Кривелли.
Но если «Прекрасная Ферроньера» – это все-таки портрет Лукреции, выполнена она была как раз тогда, когда Леонардо работал над «Тайной вечерей». Любовницей Лодовико Лукреция стала не позднее августа 1496 года, вскоре после его визита к Максимилиану, – по крайней мере, как раз в это время она от него забеременела. Связь их продолжалась всю осень, и, возможно, именно тогда герцог и заказал Леонардо ее портрет. Точная дата возвращения Леонардо из Брешии в Милан – как и многие даты его приездов и отъездов – нам не известна. Мы знаем лишь то, что алтарная картина для церкви Сан-Франческо так и не была написана, а в январе 1497 года, согласно документам, Леонардо находился в Милане и снова работал в Санта-Марии делле Грацие.
Глава 12 Любимый ученик
Как люди, жившие в период итальянского Возрождения, узнавали, глядя на картину с библейским сюжетом, на кого именно они смотрят? Как разбирались в целых толпах святых и учеников, которые заполняли фрески и алтарные картины?
Примерно до 1300 года идентифицировать персонажей было проще – художники предусмотрительно подписывали под ними имена, снабжая каждого своего рода биркой. Ко временам Джотто надписи эти почти исчезли, и возникла новая традиция: художники разработали особые атрибуты, с помощью которых можно было идентифицировать святых и библейских персонажей. Петра признать легко, потому что он, как правило, изображается с ключами («и дам тебе ключи Царства Небесного», говорит ему Иисус в Евангелии от Матфея). Иногда Петр держит рыбу – намек на его бывшее занятие. Марию Магдалину можно опознать, потому что в руках у нее сосуд с благовониями, который она принесла ко гробу Иисуса. Атрибуты некоторых апостолов предсказывают их мученическую смерть: у Иакова Младшего – камень (он был побит камнями), у Симона – пила, которой его распилили, у Фаддея – алебарда, которой его убили в Персии волхвы-язычники.
Изображая Тайную вечерю, художники не всегда давали себе труд снабдить каждого апостола символом, тем более что это размывало бы общий живописный эффект. Некоторых апостолов зрители в любом случае распознавали без труда благодаря их внешности или жестам, особенно седоволосого и седобородого Петра, моложавого Иоанна и, понятное дело, злодея Иуду. Однако далеко не все художники придавали индивидуальные черты каждому из двенадцати апостолов. Лоренцо Гиберти на бронзовом рельефе на дверях баптистерия Сан-Джованни даже изобразил пятерых из них со спины – видны только затылки, и кто есть кто, можно разве что догадываться.
При этом у искусствоведов нет ни малейших сомнений относительно каждого из двенадцати апостолов на «Тайной вечере» Леонардо. Имена были установлены, когда около 1807 года сотрудник Академии изящных искусств Брера в Милане по имени Джузеппе Босси обнаружил в приходской церкви Понте Каприаска, у озера Лугано, фресковую копию картины Леонардо, выполненную в XVI веке. Притом что к тому времени надписи уже почти исчезли с работ итальянских живописцев, в этом случае на фризе внизу были аккуратно выведены имена всех апостолов. Эта идентификация, выполненная, по всей видимости, кем-то, кто знал Леонардо и его окружение, теперь принята почти всеми, хотя есть у нее один решительный противник.
Перед Леонардо возникла та же композиционная проблема, с которой сталкивался каждый художник, изображавший Тайную вечерю: как разместить за столом тринадцать человек и вовлечь всех в беседу. Одна из примечательных черт его композиции состоит в том, что двенадцать апостолов у него разделены на четыре группы по три человека, по две триады с каждой стороны от Христа. Самая выразительная и интригующая группа находится непосредственно справа от Христа, и в нее входят – как говорит нам копия из Понте Каприаска – Иуда, Петр и Иоанн. Иоанн у Леонардо показан отклонившимся от Христа в сторону Петра, который, в свою очередь, напряженно тянется вперед и шепчет Иоанну на ухо, – из-за этого Иуде, который сидит между ними, приходится податься назад и вправо.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: Три апостола (Иуда, Петр, Иоанн), сидящие справа от Христа. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Всякий, кто знаком с Евангелием от Иоанна, сразу понимает, что именно изображено. «…Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня», – произносит Иисус. «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит, – продолжает Иоанн. – Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит» (Ин. 13: 21–24).
Иисус, разумеется, говорит про Иуду, но кого имеет в виду Иоанн? Ученик, возлежащий у груди Иисуса, не только находится в привилегированном положении за столом, в физическом соприкосновении со Спасителем, но еще и знает больше других по поводу предательства – или, по крайней мере, так полагает Петр.
Принято считать (мы это уже видели), что ученик, сидящий рядом с Христом, – «которого любил Иисус» – это и есть сам Иоанн. В распоряжении переводчиков Библии на греческий было несколько слов, обозначающих любовь. Ранее в Евангелии от Иоанна (11: 3) нам сообщают, что Иисус любит Лазаря, брата Марии и Марфы, которого он воскресил из мертвых. Любовь к Лазарю описана греческим словом «филия», которое обозначает крепкую дружбу или братскую привязанность. Но для описания отношения Христа к Иоанну в греческом переводе Нового Завета использовано слово «агапе», подразумевающее куда более глубокую приязнь, однако полностью лишенную чувственных коннотаций «эроса».
На всех «Тайных вечерях» Иоанн изображен молодым и довольно женственным, среди бородатых спутников, явно старше его годами. Опираясь на Евангелие от Иоанна, художники почти единодушно изображают его спящим на груди у Христа. Начиная с XII века мотив этот становится неизменным – и, например, Джотто в капелле Скровеньи в Падуе показывает Христа обнимающим спящего Иоанна. На всех знаменитых «Тайных вечерях» во флорентийских трапезных – кисти Гадди, Кастаньо и Гирландайо – используется тот же мотив, причем у Гирландайо он одинаков во всех трех вариантах.
Подход Леонардо к Иоанну уникален. Хотя на одном из ранних набросков композиции Иоанн изображен спящим рядом с Христом, потом Леонардо отказался от этой позы, очевидно, потому, что апостол отвлекал внимание от фигуры Христа, которого художник хотел поставить в самую выразительную, изолированную позицию в центре композиции. А потому Леонардо отклонился от стойкой живописной традиции и проиллюстрировал момент, наступивший через секунду-другую после того, который представляли все остальные: воспрянув с груди Христа, Иоанн грациозно наклоняется к Петру и нагибает голову вправо, чтобы лучше расслышать его настойчивый вопрос: «Кто это, о котором говорит?» На копии из Понте Каприаска художник подписал у ног этого персонажа уверенной рукой: S. IOHANES – то есть святой Иоанн.
Однако точно ли здесь изображен святой Иоанн? В знаменитом романе Дэна Брауна «Код да Винчи» героиня видит нечто совсем другое. «Это женщина!» – восклицает Софи Невё, рассмотрев репродукцию картины и обнаружив там «намек на грудь». «Это, моя дорогая, Мария Магдалина», – сообщает ей другой персонаж.[472]
Если верить роману Брауна, Леонардо отлучил от трапезы одного из апостолов, по всей видимости Иоанна, и вместо него включил в композицию Марию Магдалину. Из этого в романе сделан вывод, что она присутствовала на Тайной вечере, что они с Иисусом были женаты или состояли в плотской связи, что у них родился ребенок, что Иисус попросил ее (а не Петра) основать церковь, а Леонардо, принадлежавший к тайному братству Приорат Сиона, был в курсе всех этих скандальных тайн. Откровение это превратило роман во всемирный бестселлер, по нему сняли документальный сериал (телеканал Эй-би-си) и художественный фильм, что заставило Ватикан уполномочить архиепископа Генуэзского заклеймить роман за «постыдные и безосновательные заявления».[473]
О том, что Мария Магдалина была любовницей Христа, речь заходила задолго до 2003 года. Подтверждения тому имеются в Евангелии от Филиппа, сборнике раннехристианских текстов, обнаруженном в 1945 году в пещере под Наг-Хаммади в Египте вместе с другими написанными на папирусах кодексами. Кодексы написаны по-коптски через целых два века после смерти Христа и позднее спрятаны, поскольку, как любые гностические тексты, они считались еретическими, а содержащееся в них толкование христианской веры – не соответствующим канону, который как раз тогда вырабатывали Отцы Церкви. Евангелие от Филиппа даже не претендует на то, что оно написано Филиппом. Именем его оно названо лишь потому, что он единственный апостол, упомянутый на его страницах. От него, судя по всему, исходит изложенная в тексте душещипательная легенда: что крест, на котором был распят Христос, был вырезан из дерева, некогда посаженного его отцом Иосифом, потому что тому нужен был плотничий материал.[474]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостол Иоанн. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Евангелие от Филиппа – это беспорядочный набор библейских цитат, зашифрованных утверждений и странных домыслов, вроде того, что некоторые люди страшатся «воскреснуть обнаженными». Однако больше всего автор или авторы рассуждают на тему брака. В тексте есть многочисленные упоминания покоев невесты, а также говорится, что рабы, животные и «нечистые женщины» не должны иметь доступа в это потайное место, а невеста не должна никому позволять видеть, как она «выскальзывает из опочивальни». В тексте сказано: «Никто (не сможет) узнать, в какой (день мужчина) и женщина сочетаются друг с другом, кроме них самих».
В контексте этих не слишком связных и странных высказываний Мария Магдалина упомянута как «спутница» Христа. «А любой специалист по арамейскому языку скажет тебе, – узнает далее Софи Невё, – что слово „спутница“ в те времена на деле означало „супруга“».[475] На самом деле в Евангелии от Филиппа употреблено слово koinonos, а оно греческое (да и весь текст написан по-коптски, а не по-арамейски). Значение у этого слова довольно широкое (спутник, партнер, соратник), оно отнюдь не подразумевает плотских, а уж тем более брачных уз. В Библии словом koinonos описаны деловые отношения Петра с другими рыбаками, Иоанном и Иаковом (Лк. 5: 10).
И тем не менее далее в Евангелии от Филиппа действительно сказано, что «(Господь любил Марию) более (всех) учеников, и Он (часто) лобзал ее (уста)», – слово «уста», собственно, подставлено туда толкователями и переводчиками, однако именно в этом месте (не единственном в кодексе) в папирусе образовалась досадная дырка. В тексте говорится, что другие ученики испытывали к Марии зависть и спрашивали: «Почему Ты любишь ее более всех нас?» Ответ Христа свидетельствует о ее особой духовной прозорливости: «Почему не люблю Я вас, как ее? Слепой и тот, кто видит, когда оба они во тьме, они не отличаются друг от друга. Если приходит свет, тогда зрячий увидит свет, а тот, кто слеп, останется во тьме».
Больше об отношениях Христа и Марии Магдалины Евангелие от Филиппа не сообщает нам ничего. Впрочем, согласно гностическим Евангелиям, не одну Марию Магдалину Иисус удостаивал поцелуя, не одной ей была присуща особая духовная прозорливость. Еще один написанный на папирусе кодекс, который был обнаружен в Наг-Хаммади, известный как (Второй) Апокалипсис Иакова, гласит, что Иисус, прежде чем просветить своего брата Иакова, поцеловал его. «И поцеловал Он меня в уста, – написано в кодексе. – Он ухватился за меня, говоря: „Возлюбленный мой! Узри же, Я открою тебе всё, что не познали ни Небеса, ни их Архонты“». Кодекс якобы является записью проповеди Иакова в Иерусалиме, в которой он раз за разом подчеркивает свое привилегированное положение среди последователей Иисуса. «Я – тот, кто получил Откровение от Плеромы Нерушимости, – похваляется он, – тот, кто был первым призван тем, кто велик, кто повиновался Господу». Всего несколькими строчками ниже он еще раз подчеркивает собственную уникальность: «Ныне же я снова богат познанием, и у меня есть особое понимание, пришедшее исключительно свыше… Открытое мне было сокрыто от любого и открыто будет (только) через Него». Итак, согласно этому Евангелию, Иакову удалось занять положение, за которое так отчаянно боролись все апостолы, – стать самым верным последователем Христа.
Разумеется, Леонардо ничего не знал об этих гностических текстах. Все его сведения о Марии Магдалине могли быть почерпнуты только из Библии, где она упомянута всего несколько раз. И Матфей (27: 55–61), и Марк (15: 40–47) утверждают, что она присутствовала при Распятии и погребении, все четыре Евангелия описывают (с некоторыми вариациями), как она на Пасху принесла благовония ко гробу Христа и застала гробницу пустой.
Возможно, Леонардо также знал кое-что о Марии Магдалине из подробных рассказов в «Золотой легенде» – произведении, где ей отведена весьма примечательная роль, не ограничивающаяся поцелуями Христа. «Золотая легенда» – это сборник житий святых, составленный в XIII веке доминиканцем, архиепископом Генуи. Сборник этот пользовался колоссальной популярностью как среди духовенства, так и среди мирян; большей читательской аудиторией могла похвастаться только Библия. Описанная там Мария Магдалина находится в очень близких отношениях с Иисусом и играет важную роль в Его служении. Автор книги Иаков Ворагинский последовал примеру папы Григория Великого (590–604) и создал чрезвычайно привлекательный персонаж, соединив черты Марии Магдалины, описанной (очень кратко) в Библии, с чертами многих других женщин из Нового Завета, некоторые из них тоже носили имя Мария (например, Мария Вифанская, сестра Лазаря), имена других неизвестны, включая и ту, что умастила ноги Христа благовониями и отерла своими волосами. К этому собирательному образу он добавляет Марию Египетскую, раскаявшуюся блудницу из Александрии, которая жила отшельницей в пустыне, укрываясь лишь своими волосами. Мария Египетская относится к куда более позднему времени, она умерла около 421 года, но Иакова Ворагинского это не смутило.
Начинает Иаков рассказ с того, что снабжает Марию Магдалину достойной (и явно вымышленной) родословной: родом, утверждает он, она якобы была из богатой, почтенной семьи, владевшей замком недалеко от Назарета, который назывался Магдало. В молодости она предавалась чувственным утехам, но Иисус простил ей грехи, оказав «многие знаки любви», например позволив прислуживать Ему в дороге. Он числил ее «среди самых ближних к себе» и принял ее сторону, когда сестра ее Марфа обвинила ее в лености, а Иуда – в небережливости. Похоже, Он действительно был к ней искренне привязан: «Видя, что она плачет, Он не мог сдержать слез».[476]
По словам Иакова Ворагинского, слава Марии умножилась после смерти Христа. Петр препоручил ее человеку по имени Максимин (в Библии он не упомянут: Иаков Ворагинский путает епископа Трирского IV века с Максимином, одним из семидесяти апостолов, упомянутых у Луки – 10: 1). Их обоих, а также сестру Марии Марфу и брата Лазаря преследовали злодеи, которые попытались погубить их жестоким и изобретательным способом – посадив на корабль без кормила. Корабль чудесным образом доплыл до Марселя, где Мария убедила местных жителей отречься от идолопоклонства, стала творить чудеса и собирать вокруг себя учеников. В расцвете сил она удалилась в пустыню, одна, если не считать приставленных к ней ангелов, которые ежедневно возносили ее на небо есть манну и слушать небесную музыку. После тридцати лет такого идиллического существования она скончалась и была погребена в церкви в Экс-ан-Провансе, откуда во времена Карла Великого мощи ее были перенесены в аббатство Везеле. Здесь она продолжала творить чудеса: оживила мертвого рыцаря, вернула зрение слепцу, помогла герцогу Бургундскому зачать наследника.
Благодаря этой реликвии Везеле стал одним из самых крупных центров паломничества во всей Франции; чтобы вместить толпы пилигримов, потребовалось построить новое аббатство. Однако к концу XIII века доминиканцы из церкви Сен-Максимен в Эксе объявили, что именно им, а не бенедиктинцам из Везеле принадлежат ее истинные мощи. Их претензии основывались на том, что в 1279 году (лет за двадцать до того, как Иаков Ворагинский прославил Марию Магдалину в «Золотой легенде») в их храме был найден древний саркофаг. Духовные власти подтвердили, что это действительно ее останки, а доминиканец-инквизитор Бернар Ги рассказывает в своей летописи, что из могилы вознесся дивный аромат, «как если бы открыли дверь в аптеку со сладчайшими специями», и на языке Марии обнаружили зеленый побег, – впоследствии оказалось, что это пальма.[477]
С этого момента хранителями мощей Марии Магдалины стали доминиканцы. Она сделалась одной из важнейших их святых, отчасти потому, что якобы именно она проповедовала слово Христово на юге Франции, где в начале XIII века принял крещение Доминик. В день празднования ее памяти в 1206 году ему было видение – огненный шар над гробницей Марии Магдалины на холме рядом с деревней Пруй. Приняв видение за знак свыше, он несколько месяцев спустя основал на этом месте первый доминиканский монастырь, взывая к заступничеству Марии Магдалины. В 1297 году она была провозглашена покровительницей ордена доминиканцев, а праздник ее отмечали столь ревностно, что любой уклонявшийся от участия рисковал быть приговоренным к бичеванию.[478]
Учитывая такое отношение к Марии Магдалине, братья-доминиканцы из Санта-Марии делле Грацие вряд ли усмотрели бы в ее появлении в сцене Тайной вечери – если бы Леонардо вдруг надумал ее туда поместить – нечто неподобающее или еретическое. Прецедент включения Марии Магдалины в число сотрапезников на Тайной вечере уже имелся. Фра Анджелико поместил ее на видное место на фреске в доминиканском монастыре Сан-Марко во Флоренции – осиянная нимбом, она стоит, преклонив колени, в комнате, где пируют двенадцать апостолов. Появление Марии Магдалины среди апостолов не вызвало ни ропота, ни возмущения, ведь впоследствии она проповедовала во Франции, и в Средние века ее называли apostolorum apostola, апостол апостолов, – прозвание это было дано ей потому, что в Евангелиях отчетливо сказано: она стала первой свидетельницей Воскресения и именно ее Христос просил возвестить об этом.[479]
В юные годы, во Флоренции, Леонардо наверняка видел множество изображений Марии Магдалины. Самым примечательным из них была деревянная статуя в баптистерии работы Донателло, крайне нелестный портрет, где Мария изображена с изможденным лицом, запавшими глазами, выпирающей грудиной и с длинными спутанными волосами, которые окутывают ее истощенное тело. Образ, созданный Донателло, основан на жизнеописании Марии Магдалины, которое сочинил в середине XIV века один монах-доминиканец. Внимание в нем заострено на ее истовом покаянии, там описано, что, покончив с блудом, она физически истязала себя: до крови царапала лицо и ноги, клочьями выдирала волосы, била себя по лицу кулаками, а по грудям – камнем. А завершая жестокое самобичевание, восклицала: «Такова тебе награда, о тело мое, предававшееся праздным наслаждениям».[480]
Фра Беато Анджелико (Гвидо ди Пьетро; ок. 1387–1455). Причащение апостолов. Ок. 1451–1453. Дерево, темпера. В нижнем левом углу стоит на коленях Мария Магдалина.
Изображение Донателло представляет собой крайность, однако в XV веке Марию Магдалину чаще всего представляли именно как кающуюся грешницу.[481] Она была покровительницей проституток, образ ее часто украшал благотворительные заведения и другие места, где бывшим блудницам давали приют. Кроме того, для всех грешниц, не только проституток, она служила примером того, что, даже низко пав, можно вернуть себе духовную чистоту и обрести спасение. Собственно, раскаяние ее было настолько полным, что Церковь причисляла ее (не совсем последовательно) к святым девственницам. Теолог-доминиканец Фома Аквинский так объяснял это превращение: «Лишившись девственности в грехе, можно вернуть ее покаянием – не в телесном, но в духовном смысле». На фреске Луки Синьорелли в соборе Орвието «Шествие непорочных дев» – в качестве его «богословских консультантов» выступали монахи-доминиканцы – она изображена во главе процессии. Здесь она совсем не похожа на изможденную отшельницу Донателло, у нее золотистые волосы, на ней розовое одеяние.[482]
Итак, к 1490-м годам образ Марии Магдалины уже оброс множеством толкований и значений: блудница, спутница Христа, «апостол апостолов», покровительница доминиканцев, чудотворица, святая дева, а главное – раскаявшаяся грешница, пример того, как падший человек может возродиться, как самые низкие и презренные могут быть призваны Христом к апостольскому служению. На фресках и алтарных картинах ее изображали очень часто. Так что нет ничего противоречивого или теологически неуместного в том, чтобы она появилась на картине, где изображен Христос с апостолами.
* * *
И все же, неужели Леонардо действительно решил не изображать на своей «Тайной вечере» Иоанна и заменить его на Марию Магдалину? Действительно ли у персонажа, которого принято считать Иоанном, имеется, как восклицает Софи Невё, «намек на грудь» и, возможно, другие женские черты, позволяющие прийти к выводу, что перед нами не мужчина, а женщина?
Один довод в пользу возможного появления на картине Леонардо Марии Магдалины был опровергнут под присягой во время коррупционного суда во Франции, на котором было установлено, что роль Леонардо как великого магистра призрачного Приората Сиона – всего лишь грубый подлог. Приорат Сиона якобы был тайным обществом, созданным в 1099 году в Иерусалиме, дабы хранить документы, доказывающие, что Мария Магдалина родила от Христа ребенка. Потомки Христа впоследствии основали династию Меровингов, королей франков, которые с V по VIII век правили почти всей нынешней Францией (и большой частью Германии). На самом деле Приорат Сиона придумал в 1950-е годы Пьер Плантар, антисемит, мошенник и фантазер, возомнивший себя истинным королем Франции и последним потомком Христа и Марии Магдалины. Леонардо втянули в эту историю потому, что его имя – наряду с именами Исаака Ньютона, Виктора Гюго и коррумпированного французского дельца по имени Рожер-Патрис Пела – было внесено в список «великих магистров», который составил и подкинул в Национальную французскую библиотеку Плантар. В 1993 году Плантар признался в подлоге во французском суде, перед лицом не склонного к шуткам судьи.[483]
Если Леонардо не был хранителем скрытого знания о тайном браке Марии Магдалины, о галльских потомках Христа и праве Пьера Плантара на французский престол, были ли у него хоть какие-то причины изображать ее в «Тайной вечере»? А если он все-таки изобразил ее, то зачем замаскировал? Он мог, как Фра Анджелико, поместить ее – «апостола апостолов» – среди других. Если доминиканцы из Сан-Марко во Флоренции не возражали против ее появления на фреске Фра Анджелико, разве стали бы протестовать доминиканцы из Санта-Марии делле Грацие, тем более что особо ее почитали?
Ключом к личности загадочной фигуры, изображенной рядом со святым Петром, безусловно, служит его или ее половая принадлежность. В «Коде да Винчи» это, вне всякого сомнения, женщина. «Леонардо был достаточно мастеровит, чтобы отобразить разницу между полами», – объясняет один персонаж Софи.[484] Правда, скорее обратное: Леонардо мастерски умел затемнять различия между полами. Ему нравилось изображать загадочные андрогинные фигуры: не только прекрасных юношей (возможно, моделью служил Салаи), которые снова и снова мелькают среди его набросков, но и другие образы, например Уриила, ангела, стоящего на коленях в правом углу его «Мадонны в скалах». Работая над этой картиной, Леонардо пользовался жизнеописанием Иоанна Крестителя, созданным в XIV веке Доменико Кавалькой, где описано, что в детстве, когда Иоанн встретился с младенцем Христом в пустыне, ему покровительствовал ангел Уриил. Уриил Леонардо прекрасен в своей загадочности, и пол его определить довольно трудно. Судя по изумительному наброску головы Уриила серебряным карандашом, моделью почти наверняка служила женщина. В обоих вариантах «Мадонны в скалах» женственность ангела подчеркнута золотыми кудрями и нежными чертами лица. Результат заставляет крепко почесать в затылке: кто перед нами – молодая женщина или прекрасный юноша андрогинного типа? Леонардо намеренно затушевывал «разницу между полами».
Столь же двойственна и фигура на одной из последних его картин, «Иоанн Креститель». Черты Иоанна искусно затенены, что придает особую мягкость его гладкому женственному лицу с большими манящими глазами и улыбкой сфинкса. Многих зрителей озадачивала андрогинность этого образа. «Мужчина ли это? – задается вопросом Ипполит Тэн. – Это женщина, у него тело женщины или тело прекрасного неоформившегося подростка».[485] Возможно, сильнее всего этот женомужчина тревожил Бернарда Беренсона. Великий знаток не мог понять, «почему эта полнотелая женщина прикидывается мужественным, иссушенным солнцем Крестителем… и почему оно ухмыляется, указует ввысь и дотрагивается до своей груди?»[486]
Моделью для этого загадочно-соблазнительного существа вполне мог послужить Салаи – ему было за тридцать, и он, судя по всему, в полной мере сохранил и свою привлекательность, и свои отталкивающие качества. Салаи даже считают моделью другого завораживающего портрета Леонардо: искусствовед Сильвано Винчети (тот самый, что обнаружил в 2010 останки Караваджо) утверждает, что именно с него написана «Мона Лиза». Свою теорию он строит на якобы имеющемся сходстве между Крестителем и так называемой Моной Лизой, отмечая, что Леонардо часто использовал Салаи в качестве модели и, «безусловно, придал» некоторые его черты и Лизе.[487] Подрывает теорию Винчети только одно – отсутствие визуальных доказательств: мы не знаем, как именно выглядел Салаи. Атрибутированных его портретов не существует, у нас есть лишь наброски образа кудрявого юноши, моделью для которых, логично предположить, служил именно этот молодой человек. Впрочем, нельзя не отметить, что кудрявые юноши появлялись на рисунках Леонардо и до того, как Салаи стал его учеником.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Иоанн Креститель. 1513–1516. Холст, масло.
Вряд ли Салаи служил моделью для «Моны Лизы», однако андрогинные свойства изображенной отмечали и другие, например французский художник Марсель Дюшан, который в 1919 году подрисовал усы и козлиную бородку к репродукции картины, – получилась его «L.H.O.O.Q»,[488] а Мона Лиза превратилась в клишированного гермафродита из ярмарочного балагана – бородатую женщину. Впрочем, на роль натурщика для «Моны Лизы» выдвигали и другого кандидата – самого Леонардо. В 1987 году американская художница Лилиан Шварц с помощью компьютерной программы наложила лицо «Моны Лизы» на предполагаемый автопортрет Леонардо из Королевской библиотеки в Турине. Она обнаружила, что глаза, брови, нос и подбородок обладают таким сходством, что совпадение просто не может быть случайным, а значит, «Мона Лиза» действительно является своего рода автопортретом художника. Двуполость она подчеркнула тем, что назвала получившийся образ «Мона/Лео». Вот только теорию ее несколько портит то, что набросок из Турина – не автопортрет Леонардо, хотя, если лица действительно настолько похожи, не исключено, что для «Моны Лизы», по крайней мере частично, были использованы черты натурщика-мужчины.[489]
Еще одно неопределеннополое творение Леонардо – эротический набросок, известный как «Angelo incarnato», или «Воплотившийся ангел»: судя по всему, это сделанная самим Леонардо скабрезная карикатура на его собственного улыбающегося андрогина, Иоанна Крестителя. К женственным чертам юноши, изображенного на картине (мягкому овалу лица и завиткам волос), на рисунке добавлен не просто «намек на грудь», но округлая железа с большим соском. При этом ангел Леонардо гордо демонстрирует эрегированный член. Один из недавних биографов Леонардо описывает этот рисунок как «своего рода транссексуальную порнографию», где ангелу приданы черты «несимпатичного катамита, выуженного из самых низов римского рынка продажных тел».[490]
По словам Карло Педретти, «идея слияния двух полов поначалу занимала и забавляла Леонардо, а потом приобрела опасную навязчивость».[491] В этом Леонардо был не одинок: тогдашняя художественная традиция вольно трактовала различия полов. Флорентийские художники предыдущего поколения во множестве изображали красивых мальчиков, порой андрогинного и хрупко-чувственного вида. Особенно ярким примером служит бронзовый «Давид» Донателло, заказанный Козимо Медичи для украшения двора его флорентийского палаццо. Сочетание мужественных и женственных черт в этой статуе, возможно, призвано приводить на ум мифического гермафродита, которого Антонио Беккаделли прославил в своей непристойной поэме «Гермафродит», написанной примерно тогда, когда Донателло отливал свою статую. В то время всеобщее восхищение вызывала древнеримская статуя, откопанная во Флоренции: она называлась «Спящий гермафродит» и изображала прекрасное юное существо с женской грудью и мужскими гениталиями.[492] В XV веке понятие «гермафродит» не имело отрицательных коннотаций: андрогинность понималась как проявление двуединства и совершенства личности. Ученый Марсилио Фичино, член кружка Козимо Медичи, пишет в своем комментарии к «Пиру» Платона, что в андрогине сосуществуют мужская добродетель – мужество и женская – воздержанность. Получалось, что гермафродит представляет собой идеальное создание: нечто цельное, завершенное. Последний покровитель Леонардо, французский король Франциск I, не возражал, когда художник Никколо да Модена представил его в образе андрогина: воинские достоинства мужчины совмещались в нем с женским плодотворным и творческим началом.[493]
Леонардо занимали не столько философские аспекты андрогинности, сколько ее эротизм. Художника интересовали лица всевозможных типов, однако его идеалом физической красоты был молодой человек, юноша или даже отрок, с кудрявыми волосами и женственными чертами лица, сочетающий в себе детство и зрелость, мужественность и женственность. Примером такого рода красоты оставался для него Салаи, и Леонардо, вне всякого сомнения, терпел его бесконечные выходки только ради его ангельского лица и копны кудряшек.
Для Леонардо было бы совершенно естественно использовать Салаи в качестве натурщика для «Тайной вечери» – понятное дело, не для образа одного из зрелых апостолов (когда Леонардо начал работу над картиной, Салаи был еще подростком), но для более юного. Возможно, он послужил моделью для святого Филиппа, апостола в оранжевом одеянии, – он стоит через две фигуры по левую руку от Христа и, судя по всему, страстно доказывает собственную невиновность. Многие годы считалось, что моделью для Филиппа на сохранившемся наброске углем послужила молодая женщина, не только из-за тонких черт лица, но и потому, что на голове у модели – лента или повязка. Однако «повязка» при ближайшем изучении оказалась складкой на бумаге, так что совершенно не исключено, что моделью был юноша или подросток. Впрочем, вопрос о половой принадлежности модели запутался еще сильнее, когда под слоем краски на другой работе Леонардо, лондонском варианте «Мадонны в скалах», был обнаружен ранее неизвестный рисунок. Это портрет Богоматери, и черты Ее в точности совпадают с чертами Филиппа из «Тайной вечери» – из этого можно заключить, что для образов Марии и апостола Леонардо использовал один и тот же набросок и одну и ту же модель. Вопрос о том, женщина это или мужчина, остается открытым.[494]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Голова апостола Филиппа. Эскиз для «Тайной вечери». Бумага, черный мел.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостол Матфей. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Выполненный черным мелом набросок Филиппа имеет явственное сходство с изображением «типа Салаи», относящимся примерно к 1495 году: Леонардо наградил обоих большими глазами и греческим носом, а кроме того, – это очень важно – они одного возраста. В окончательном варианте картины Леонардо сделал Филиппа несколько старше, однако подчеркнул его молодость, изобразив его, как Иоанна и Матфея, без бороды – в отличие от всех остальных. Черты Салаи можно усмотреть и в лице Матфея, другого молодого апостола, – к сожалению, утрата красочного слоя повредила его густые кудри. В любом случае сходство греческих носов, опущенные уголки губ и округлый подбородок – все это наводит на мысль о «профиле типа Салаи» и указывает на то, что Филиппа и Матфея Леонардо рисовал с одной и той же модели.
Что касается фигуры, в которой традиционно принято видеть Иоанна, набросков и эскизов к ней не сохранилось, а из-за утраты красочного слоя (лишь одна десятая часть кожи Иоанна сохранила исходную тонировку) нам осталась лишь тень его лица.[495] Он выглядит даже моложе Филиппа и Матфея. Черты Салаи в нем различить сложнее, поскольку, в отличие от двух других апостолов, он показан не в профиль (а именно в профиль Леонардо обычно изображал кудрявых подростков вроде Салаи). Однако выражение лица у него кроткое и мечтательное – перед нами еще один ангелоподобный андрогин Леонардо. Намека на грудь там, положим, нет, но есть намек на загадочную улыбку сфинкса: та же непостижимая улыбка играет на губах у двух других завораживающих андрогинов Леонардо, Уриила и Иоанна Крестителя.
* * *
Итак, нарисованную Леонардо фигуру с женственными чертами нельзя автоматически, не задумываясь, причислять к женскому роду. Собственно, фигура, изображенная в «Тайной вечере», никакая не женщина: нужен очень пристрастный взгляд, чтобы усмотреть на этой картине Марию Магдалину. Зрители XV и XVI столетий видели на ней совсем другое.
Как мы уже показали, существовала давняя традиция придавать Иоанну, любимому ученику, женственный облик и сажать его рядом с Христом, а еще чаще – заставлять его почивать у Христа на груди во время Тайной вечери. Считалось, что он был младшим из всех апостолов, и художники стремились использовать его молодость. Самое раннее из известных его изображений находится в катакомбах Святой Теклы в Риме, оно относится к концу IV века, и здесь Иоанн показан хрупким и гладколицым, почти мальчиком. Художники, писавшие сцену Тайной вечери, неизменно представляли его красивым, безбородым и зачастую женоподобным юношей с длинными волосами. Леонардо сохранил его женственность, но в остальном отошел от традиции: Иоанн сидит рядом с Иисусом, по правую руку, однако подавшись в направлении святого Петра, который манит его к себе, задавая свой неотложный вопрос. Композиция давала явственный повод для этого изменения: Леонардо хотел отделить помещенного в центр Иисуса от других, а если бы святой Иоанн спал у Него на груди, эффект не был бы достигнут.
Ни в одном из трех синоптических Евангелий нет упоминаний об особых отношениях между Иисусом и Иоанном, да и вообще в Библии не так много сказано о жизни и личности Иоанна. В собственном Евангелии он вообще не упомянут, не считая нескольких загадочных отсылок к ученику, которого Иисус возлюбил более других. Синоптические Евангелия сообщают нам, что Иоанн был братом Иакова Старшего и сыном рыбака по имени Зеведей. Христос призвал их, когда они чинили отцовские сети; Иоанн и Иаков оставили лодку и последовали за Ним.
Пробелы в жизнеописании Иоанна успешно, но не слишком достоверно заполнили всевозможные легенды, сложенные и получившие распространение после смерти апостола. В них акцентирована и расширена его роль ученика, которого возлюбил Христос. В апокрифических Деяниях Иоанна их близость подчеркнута особо. Апокрифические Деяния были написаны в III или IV веке, чтобы хоть как-то дополнить скудость содержащихся в Библии сведений о жизни (и смерти) Иоанна, Андрея, Павла, Петра и Фомы; это живые популярные рассказы, в которых встречаются говорящие животные, летающие волшебники и мелодраматические эпизоды самокастрации и некрофилии. Апостолы в них совершают многочисленные подвиги – оживляют мертвую рыбу, крестят льва, а в Деяниях Иоанна имеется забавная история о том, как Иоанн, ночуя в трактире, повелел клопам оставить его, дабы как следует выспаться, – и преуспел.
В V веке папа Лев Великий заклеймил апокрифические Евангелия как «гнездилища многих извращений» и приказал их сжечь.[496] Но притягательность их оказалась столь велика, что они продолжали ходить в списках даже в XIV веке, а художники часто черпали в них вдохновение, – например, Джотто изобразил воскрешение Друзианы святым Иоанном, а Филиппино Липпи – распятие святого Петра вниз головой.
В Деяниях Иоанна много говорится о тесных отношениях между Иоанном и Иисусом. Согласно этому тексту, Иисусу приходится спасать Иоанна от женитьбы и любви к женщинам (тем самым он превращается в наглядный пример для молодых людей, выбравших духовную стезю). В текст включена длинная речь, в которой Иоанн описывает, как Иисус следил за тем, чтобы он, Иоанн, «не осквернился союзом с женщиной». Когда в юности Иоанн задумал жениться, Иисус явился ему и сказал: «Иоанн, ты Мне нужен». Иоанн, однако, не изменил решения, день свадьбы приближался, и тогда Иисус поразил его «немощью телесной», расстроившей союз. Когда Иоанн в другой раз надумал вступить в брак, Иисус сказал ему: «Иоанн, не будь ты Моим, Я позволил бы тебе сочетаться браком» – после чего ослепил его. Когда к Иоанну вернулось зрение, Иисус открыл ему, «сколь мерзостно даже пристально смотреть на женщину». Тем самым апостол был спасен от «гнусного безумия, каковое несет в себе плоть».[497]
Традиция восприятия Иоанна как любимого ученика впоследствии породила подозрительные комментарии, особенно в Англии. Драматург Елизаветинской эпохи Кристофер Марло был обвинен в том, что назвал Иоанна «катамитом», «соложником Христа», который «клонится всечасно Ему на грудь» и предается тому же, чему предавались «грешники Содома». Несколько десятилетий спустя, в 1617 году, король Иаков I ссылался на этот пример, чтобы оправдать свою любовь к Джорджу Вильерсу, герцогу Букингемскому, – он заявил Королевскому совету: «У Христа был Его Иоанн, а у меня есть мой Джордж».[498] В 1967 году Хью Монтефьоре, впоследствии ставший епископом Бирмингемским, зачитал в Оксфорде, на ежегодной конференции для прогрессивных священников, доклад, где содержались рассуждения о том, что Христос был гомосексуалистом, – в качестве доказательства приводятся Его отношения с Иоанном и другими апостолами. В последнее время другие богословы развили эту мысль, причем один из них указал на «возможные гомосексуальные действия» Иисуса в отношении Иоанна.[499]
В средиземноморском мире существует долгая история отношений между учителем и учеником. Тесная связь между старшим, учителем, и младшим, учеником, воспета в Древней Греции, где юноши вступали в полноправную взрослую жизнь, проходя через так называемый воспитательный гомосексуализм. Те же обычаи существовали и в Италии эпохи Возрождения, особенно во Флоренции, где в 1469 году Марсилио Фичино, переводчик Платона, прославлял «сократову любовь»: по его представлению, мальчики, стоящие «на пороге зрелости», должны причаститься жизни общества через «укромную и приятную близость» с мужчинами постарше.[500] Вне всякого сомнения, подобная близость зачастую возникала и в мастерских между учителем и учениками. «Боттичелли держит при себе мальчика», – злословил один клеветник в адрес художника и его юных помощников.[501] Такая же близость существовала между Леонардо и Салаи (а до того, возможно, между Леонардо и Верроккьо).
Соответственно, Иисус, прижимающий к груди голову Иоанна, был для итальянцев пятнадцатого столетия образом многозначительным. Впрочем, существовало понимание, что отношения между учителем и учеником – связь высокодуховная. Как мы уже видели, для характеристики отношений между Иисусом и Иоанном в греческом переводе с древнееврейского оригинала использованы не слова «филия» или «эрос», но «агапе» – в других местах текста тем же словом обозначена искупительная любовь Иисуса к миру. То есть во многих религиозных текстах подчеркнута духовная, а не земная и не плотская суть этой любви. В качестве примера можно привести средневековый трактат «Размышления о жизни Христа», сочиненный около 1300 года анонимным автором, монахом-францисканцем, известным последующим поколениям как Псевдо-Бонавентура. В этом тексте Иоанн – жених на свадьбе в Кане Галилейской, где Иисус сотворил первое из своих чудес, превратив воду в вино (Ин. 2: 1–11). Псевдо-Бонавентура расцвечивает повествование подробностью, которой нет в Евангелии от Иоанна: «По завершении пира отозвал Иисус Иоанна в сторону и сказал: „Оставь жену свою и следуй за Мной, ибо Я приведу тебя к высшему браку“. И тот последовал за Ним».[502]
«Высший брак» и составляет основу тесных взаимоотношений Христа и Иоанна: речь идет о союзе души с Богом в своего рода «мистическом браке». Эта пара стала символом религиозного мистицизма, их духовное бракосочетание проиллюстрировано множеством изображений (как живописных, так и скульптурных), где Иоанн возлежит на груди у Христа, а иногда держит Его руку. Без всякого скабрезного подмигивания монахиня-доминиканка писала в XIV веке: «Вспомнила я, как святой Иоанн возлежит у благого сердца Господа моего Иисуса Христа, и снизошла на меня столь светлая благодать, что я не в силах описать ее словами».[503] Многие авторы подчеркивали, что Иоанн не просто физически опирался на Христа. Святой Августин утверждает, что поза эта даровала Иоанну священное вдохновение для проповеди и Евангелия, ибо «он пил… из груди Господа».[504] В гимне, сочиненном в начале X века монахом по имени Ноткер Заика, где перечислены все деяния Иоанна, есть такие слова: «Ты восстал, отвергнув ее, с груди брака, последовал за Мессией и из Его груди испил поток святости».[505]
Описания Иоанна, пьющего из груди Господа, в Средние века претворились в культ Святого Сердца, рассматривавший сердце Христа как символ Его любви к человечеству и как источник, из которого верные могут впитывать благодать и мудрость. Самое известное проявление этого культа – «Вестник любящий благости Божией» монахини-бенедиктинки Гертруды Хельфтской. В произведении Гертруды описано видение, бывшее ей на Страстной неделе в 1289 году, – в нем она опустила голову на левую руку Христа, рядом с раной у Него в боку, и ощутила «любящее биение» Его сердца. В искусстве Святое Сердце принято представлять через образ безбородого юного Иоанна, склонившегося на грудь Христа. Иногда их показывают держащимися за руки, как жених и невеста, – это символ мистической брачной гармонии.[506]
Художники эпохи Возрождения, писавшие Тайную вечерю, помнили о культе Святого Сердца, когда изображали Иисуса и Иоанна сидящими за столом в тесной близости. Многие помещали Иоанна слева от Христа склонившим голову тому на сердце. Скорее всего, влияние было и обратным, поскольку самое раннее произведение, где Иоанн показан во время Тайной вечери склонившим голову на грудь Иисусу (на бронзовой двери церкви Сан-Дзено в Вероне), появилось почти за два века до текста Гертруды.
Соответственно, брак, о котором подспудно повествует «Тайная вечеря», – это не неоглашенный союз Христа и Марии Магдалины, а многократно воспетый духовный союз Христа и Его любимого ученика. Как мы уже видели, в одном из набросков Леонардо попытался поместить спящего Иоанна Христу на грудь (также он рассматривал возможность – которую потом отринул – посадить Иуду на противоположном конце стола). В его описании того, как следует изображать Тайную вечерю, нет упоминаний о такой «раскладке», предложенный там сценарий гораздо ближе к композиции, которая в конце концов и была воплощена: «Еще один говорит на ухо другому, и тот, который его слушает, поворачивается к нему». Леонардо, которого особо занимали действие и движение, решил изобразить сцену через секунду-другую после того момента, который традиционно изображали художники: не статичную сцену с Иоанном, почивающим на груди у Христа, но момент, где Иоанн только-только очнулся ото сна и выслушивает от Петра настоятельный вопрос: «Кто это?»
Глава 13 Пища и питие
Леонардо, как широко известно, был вегетарианцем. В 1516 году один итальянец, совершивший путешествие в Индию, писал домой Джулиано Медичи, сыну Лоренцо Великолепного, что индийцы – «люди кроткие… не вкушающие ничего, в чем есть кровь, не дозволяющие охотиться на живых тварей, как наш Леонардо да Винчи».[507] Списки покупок Леонардо также свидетельствуют о пристрастии к растительной пище: фасоль, белая и красная кукуруза, пшено, гречка, горох, виноград, грибы, фрукты, отруби. «Попросил прислать крупные кукурузные початки из Флоренции» – гласит заметка, относящаяся примерно к периоду работы над «Тайной вечерей». Кукуруза была тогда в Италии в новинку, ее завезли в Европу из Америки лишь несколькими годами ранее. Леонардо, судя по всему, пришелся по вкусу этот экзотический импортный продукт.[508]
У нас нет сведений о том, когда именно Леонардо стал вегетарианцем. В нескольких его списках фигурирует мясо: в одном, за 1504 год, помечена покупка «доброй говядины».[509] Впрочем, мясо он, скорее, покупал для учеников и подмастерьев, а не для себя. Некоторые его заметки миланского периода (1490-е) прямо свидетельствуют о том, что поглощение мяса вызывало у него отвращение. «О, какая грязь, когда видно будет, что одно животное держит язык в заду у другого!» – пишет он про колбасу. Его всегда мучила парадоксальность того, что жизнь может продолжаться только за счет отнятия другой жизни. «Жизнь нашу создаем мы смертью других, – пишет он в заметках о физиологии. – В мертвой вещи остается бессознательная жизнь, которая, вновь попадая в желудок живых, вновь обретает жизнь чувствующую и разумную». Созданный им образ мертвых животных, оживающих у нас в желудке, может заставить призадуматься даже самого убежденного мясоеда.[510]
Произведения Леонардо этого периода также свидетельствуют о том, что его глубоко возмущало жестокое обращение с бессловесными тварями. Он с ужасом и омерзением описывает животных, попавших в капканы, съеденных владельцами, – животных, которым на их самопожертвование человек отвечает «голодом, жаждой, тяготами, и ударами, и уколами, и ругательствами, и великими подлостями».[511] В связи с этим трудно не принять на веру знаменитый рассказ Вазари о том, как Леонардо покупал птиц в клетках и выпускал, «возвращая им утраченную свободу».[512] В этом смысле Леонардо разительно отличался от большинства итальянцев. Кровавые развлечения были весьма популярны при итальянских дворах, в том числе и при дворе Лодовико: придворные и гости часто отправлялись в сельское поместье герцога в Виджевано, где били оленей, кабанов и волков. Даже Беатриче с удовольствием участвовала в этих развлечениях – «то ездит верхом, то охотится», похвалялся Лодовико в письме своей невестке.[513]
Помощник Леонардо Томмазо Мазини, эксцентричный дилетант, известный под прозвищем Зороастро, тоже был вегетарианцем; один более поздний источник утверждает, что он носил только лен, ибо не в состоянии был терпеть на своем теле убитых животных и «не мог заставить себя убить даже блоху».[514] В ту эпоху вегетарианцами в Италии были по большей части монахи нищенствующих орденов. Не исключено, что вегетарианцем был Лука Пачоли, так как все францисканцы, следуя примеру святого Франциска, воздерживались от употребления мяса. Сам святой Франциск был своего рода предшественником Леонардо в любви к животному миру: согласно преданию, он освобождал животных из капканов, молился за птиц, приручил волка-людоеда из Губбио. Святой Доминик также не употреблял мяса, и устав доминиканцев рекомендовал братьям воздерживаться от скоромного, делая исключения только для случаев тяжкой болезни.[515]
Трудно предположить, что к вегетарианству Леонардо склонили призывы религиозных орденов. Доминиканцы не ели мяса не потому, что возражали против жестокого обращения с животными, но потому, что употребление мяса является плотским искушением, от которого надлежит воздерживаться, ибо оно может вовлечь монаха в иные опасные соблазны: как мы уже говорили, Фома Аквинский считал, что мясо разжигает сексуальные аппетиты и ведет к избыточной выработке «семенного вещества». Словом, вегетарианство было тем немногим, что объединяло Леонардо с братьями из Санта-Марии делле Грацие.
Поскольку писать ему выпало застольную сцену, Леонардо, скорее всего, обращал внимание на то, как монахи вкушают трапезу: что именно они едят, как накрыт стол. В конце концов сцены Тайной вечери, которыми украшали трапезные, должны были прежде всего изображать совместное принятие пищи так, чтобы монахи или монахини могли ощутить причастность одному из самых важных эпизодов из страстей Христовых. Как и многие другие художники, Леонардо определенным образом «подгонял» картину к окружающей обстановке. Как писал Гёте: «Христос должен был вкусить свою вечернюю трапезу у доминиканцев в Милане». Немецкий поэт посетил Санта-Марию делле Грацие в конце XVIII века, и, по его мнению, расстановка столов сохранилась прежней. Стол настоятеля стоял напротив входа, на одну ступень поднятый над уровнем пола, а столы братии тянулись вдоль двух стен. Гёте заключил, что именно эти столы Леонардо использовал в качестве модели. Нет никакого сомнения, писал он, что «скатерть с вмятинами складок, с цветными полосами и завязанными в узлы концами взята из монастырской прачечной и миски, тарелки, кубки и прочая утварь списаны с тех, которыми пользуются монахи».[516]
Чутье, похоже, не обмануло Гёте. Узлы на углах скатерти – примечательная деталь, и легко вообразить себе, что скатерть, изображенная на росписи, скопирована с тех, которыми застилали столы в трапезной. В былые века то, как Леонардо изобразил скатерть, снедь и утварь, вызывало многочисленные толки и восторги. Один французский священник, посетивший Милан в 1515 году, описал работу Леонардо как «произведение на диво великолепное» и особо похвалил то, как написан стол: «…ибо, увидев хлеб на столе, можно подумать, что это действительно хлеб, а не подделка. То же можно сказать о вине, стаканах, сосудах, столе и скатерти».[517] Вазари, в свою очередь, отметил, что в скатерти «самое строение ткани передано так, что настоящее реймское полотно лучше не покажет того, что есть в действительности».[518] Четыре столетия спустя именно яства на столе Леонардо привлекли внимание Энди Уорхола. Художник, чья слава зиждилась на банках с супом и кока-колой, заявил, что «еда – это тема, где он чувствует себя уютно», и загорелся мыслью «осовременить застольную сцену Леонардо», после чего создал сорок картин и шелковых ширм с изображением Тайной вечери.[519]
Уорхол скончался в 1987 году, за двенадцать лет до того, как была проведена последняя по времени консервация «застольной сцены». Расчистка позволила увидеть то, чего не видели предыдущие поколения, – детали этого натюрморта. Важную роль среди очень реалистично написанной утвари играет графин с водой, который стоит перед Иаковом Старшим: Леонардо удалось передать не только прозрачность стекла (сквозь него видна стоящая за ним тарелка), но и отражение света на выпуклой поверхности – воистину виртуозная работа.
Итак, скатерть и утварь Леонардо писал с того, что видел в монастыре, а вот другие детали картины резко контрастируют со скромным, аскетичным духом трапезной. Стены комнаты, где Христос с апостолами вкушают вечерю, завешаны восьмью шпалерами, по четыре на каждой боковой стене. Шпалеры украшены цветочным орнаментом, напоминающим «мильфлер» (тысячу цветов), который использовался на фламандских шпалерах XV века (малозначительные детали Леонардо наверняка перепоручил своим ученикам). Эти шпалеры вносят в работу современную куртуазную ноту, совершенно чуждую быту монахов из Санта-Марии делле Грацие, где на стенах, разумеется, не было ни намека на столь изысканный декор. Фламандские шпалеры являлись модным и дорогостоящим украшением при итальянских дворах. Красота и высокая цена делали их предметами роскоши, важными признаками богатства. Для свадебного пира брата Лодовико Сфорца, Галеаццо Марии, центральная площадь Павии была украшена роскошными шпалерами. Без этого впечатляющего зрелища, пояснил матери жениха один из придворных, «нам было бы чрезвычайно стыдно».[520]
Были увешаны шпалерами и многие покои Миланского замка Сфорца. Отец Лодовико, Франческо, привез из Фландрии в Милан четырех мастеров, а незадолго до его смерти в 1466 году приехали еще пятеро, им в помощь. Во дни Лодовико шпалеры, находившиеся в замке, оценивались более чем в 150 тысяч дукатов.[521] Из шпалер, сотканных для замка, не уцелело ни одной, однако вполне вероятно, что именно с них Леонардо заимствовал узоры для шпалер в «Тайной вечере», тем самым подчеркивая связь между росписью и величием двора Сфорца.[522]
Одно свидетельство важности и ценности шпалер сохранилось с чуть более позднего времени. Будущий король Франции Франциск I получил в качестве свадебного подарка в 1514 году фламандскую шпалеру, которую в 1533 году с большой помпой презентовал папе Клименту VII. На шпалере этой была изображена «Тайная вечеря» Леонардо.
* * *
О том, что именно вкушали Христос и апостолы во время Тайной вечери, Евангелия не могли сообщить художникам почти ничего. Намеки неоднозначны, порой противоречивы. Матфей вообще очень кратко рассказывает о Тайной вечере. Он говорит, что то была пасхальная трапеза, из чего можно заключить (хотя в тексте об этом и не говорится), что подали ягненка и опресноки. Марк и Лука также указывают, что Тайная вечеря состоялась на Пасху и, когда апостолы «приготовили пасху» (Лк. 22: 13), на стол были поставлены ягненок и опресноки. Как и Матфей, оба говорят о том, что Христос разделил с апостолами хлеб и вино.
Рассказ Иоанна и здесь несколько отличается от остальных. Он однозначно заявляет, что Тайная вечеря состоялась за несколько дней до Пасхи, из чего можно заключить, что ягненка к столу не подавали. Иоанн упоминает лишь о хлебе, который Иисус обмакнул в блюдо и затем протянул Иуде. Иоанн не описывает обряда причастия, так что чаша с вином у него не упомянута.
Как должен был поступить со столь разноречивыми описаниями художник? В Евангелиях, как видно, разворачивается настоящая драма: названо имя преступника, одного из апостолов, и описано таинство причастия (у Матфея, Марка и Луки). Однако художнику это не дает никаких указаний, ему приходится использовать собственное воображение, чтобы уставить стол яствами и напитками.
По большей части художники изображают Тайную вечерю как трапезу скудную, аскетичную. Это соответствует немногочисленным подробностям, которые сообщают нам Евангелия. Кроме того, это соотносится с отнюдь не роскошной снедью, которую подавали в монастырских трапезных, особенно во дни постов (а их было много), когда монахи и монахини довольствовались лишь хлебом и водой. Помимо этого, нельзя забывать, что художники Средневековья и эпохи Возрождения вообще не очень интересовались гастрономическими деталями. В XV веке и ранее снедь служила лишь малозначительным дополнением к застольным сценам, которые не имели цели воспевать хлебосольство и изобилие и не призваны были демонстрировать таланты художника, – этот взгляд возник лишь в XVII веке, когда голландские мастера начали создавать роскошные натюрморты, изображая столы, уставленные экзотическими яствами. Например, в начале 1460-х годов флорентийские художники Филиппо Липпи и Беноццо Гоццоли написали по сцене, изображающей пир у Ирода. Вроде бы сюжет самый подходящий для того, чтобы изобразить столы, ломящиеся от экзотических блюд. Однако, если сравнивать с более поздними эпохами, оба художника удовольствовались весьма скромным набором снеди: несколько крошечных бокалов, совсем маленькие тарелки. Дело в том, что этим художникам было совсем не интересно демонстрировать свое мастерство, изображая в подробностях и с дотошным реализмом ломти мяса и горы фруктов.
К той же лаконичности прибегали и художники, писавшие Тайную вечерю: как правило, они изображали только хлеб и вино, самое большее – маленького ягненка. Леонардо же выставил на стол целый набор блюд. Помимо небольших хлебов, столовых приборов и наполовину пустых стаканов с красным вином, он изобразил три больших общих блюда. Хотя одно из них, расположенное в центре, перед Христом, пустует, если не считать дольки некоего фрукта (возможно, граната) в уголке, остальные два буквально ломятся от яств. На том, что стоит перед Андреем, лежат, что само по себе интересно, восемь или девять рыбин. Рыба не типична для Тайной вечери, однако самый древний вариант ее изображения, мозаика V века в церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, включает в себя двух огромных рыбин на столе. Хотя в Евангелиях и не упомянуто, что за Тайной вечерей подавали рыбу, наличие ее на столе вполне оправданно: многие апостолы были рыбаками, а кроме того, рыба являлась символом Христа – по-гречески первые буквы слов Jesus Christos Theou Uios Soter (Иисус Христос Божий Сын Спаситель) образуют слово ichthus (йота, хи, тета, эпсилон, сигма), а слово это означает «рыба».
Другое блюдо – оно стоит напротив Матфея – еще интереснее. Из-за утраты красочного слоя рассмотреть его содержимое почти невозможно, и, скорее всего, в таком состоянии оно находилось уже многие века, потому что никто, судя по всему, не высказался по поводу уникального – и крайне примечательного – добавления к Тайной вечере. По счастью, после недавней реставрации мы можем рассмотреть, глядя на несколько блюд (включая и то, что стоит рядом с правой рукой Христа), что именно, по мнению Леонардо, вкушали Иисус и апостолы: нарезанного кусками угря, украшенного ломтиками апельсина.[523]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: кусочки угря и апельсина. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Угорь, безусловно, выбор любопытный. Леонардо поставил перед апостолами вегетарианское угощение – или, по крайней мере, угощение без мяса наземных животных. Возможно, он соотносился с тем, что подавали к столу в монастыре, поскольку угря вылавливали в реках неподалеку от Милана. Однако угорь считался деликатесом, более подобающим для придворных банкетов, чем для монастырских трапез. Греческий поэт Архистрат, автор первой в мире поваренной книги, объявил его «превыше всех прочих рыб», и многие века угря поставляли в дворцовые поварни.[524] Известно, что угря готовили для празднеств, посвященных бракосочетанию тестя Лодовико Сфорца, Эрколе д’Эсте, с Элеонорой Арагонской в 1473 году. В письме к подруге Элеонора описывает, как среди прочего на свадебном пиру был подан на пяти блюдах угорь «в хлебных корочках». За этим блюдом последовало интермеццо, во время которого актеры, одетые Персеем и Андромедой, читали стихи. Потом принесли следующую перемену: «на пяти блюдах жареный угорь под желтым соусом». Исполнили второе интермеццо, на сей раз гостям явилась богиня Церера на колеснице, влекомой двумя угрями.[525]
Благодаря своему постоянному присутствию на подобных празднествах, угорь стал ассоциироваться с роскошью и изобилием. Действительно, угри, похоже, толкали гостей к избыточному чревоугодию. В 1491 году Галеаццо Сансеверино описал в письме, как они с Беатриче, молодой женой Лодовико, ловили угрей в реке к северу от Милана, а потом отправились на одну из вилл Лодовико – она находилась неподалеку – «и уселись ими ужинать, и под конец больше не могли проглотить ни кусочка».[526] Случалось, что подобная невоздержанность приводила к летальному исходу. Считается, что король Англии Генрих I (в 1135) и, сто пятьдесят лет спустя, папа Мартин IV, который любил лакомиться угрями, замаринованными в вине Верначча, скончались от переедания. Если верить Данте, из-за своего обжорства он оказался среди грешников в Чистилище.
Вполне вероятно, что Леонардо доводилось лакомиться угрем при дворе Лодовико в замке. Не исключено, что на замковой кухне угрей готовили именно так, как показано на его «Тайной вечере», – с ломтиками апельсина. Кстати, рецепт приготовления угрей с апельсинами приведен в рассказе писателя XV века по имени Джентиле Сермини – сборник его рассказов был составлен около 1424 года. Согласно рецепту Сермини, с угря необходимо снять кожу, потом отварить его, нарезать кусками, зажарить на вертеле, после чего замариновать в соке шести гранатов и двенадцати апельсинов. Может, это и совпадение, но Леонардо, похоже, изобразил на столе и гранаты тоже.[527]
Сермини был родом из Сиены, – возможно, он описывал рецепт, прекрасно известный всем тосканцам, в том числе и Леонардо. Впрочем, Леонардо, вообще любивший смешные рассказы, например истории Поджо Браччолини, мог просто прочесть рассказ Сермини. Он бы ему, безусловно, понравился. Как и многие итальянские рассказчики пятнадцатого столетия, Сермини был отъявленным антиклерикалом, и в его рассказе угорь служит символом алчности и чревоугодия. В рассказе говорится о священнике, которому не терпится поскорее закончить службу, чтобы вернуться домой и полакомиться жирным сочным угрем, подаренным ему одним нищим прихожанином и приготовленным кухаркой по особому рецепту, с апельсинами и гранатами. Его обжорство возмущает другого прихожанина, Лодовико, который, произнося тираду, направленную против священника, хватает его молитвенник. «Там было полно рецептов всевозможных кушаний, – обнаруживает возмущенный Лодовико, – всевозможных яств: как их готовить, с какими соусами подавать, к какому времени года приурочивать».[528]
Рассказ Сермини – это сатира на разложившееся духовенство в целом и священников-эпикурейцев в частности. Леонардо и сам часто высказывался в антиклерикальном духе, а монахов из католических орденов считал лицемерами, ибо они пытаются «подружиться с Богом», живя (по его мнению) в богатстве и в «торжественных зданиях». Изобразив на столе угря – еду, которая ассоциировалась с чревоугодием, – Леонардо, возможно, зло намекал на порочность духовенства. С другой стороны, он поставил блюдо с недоеденными угрями прямо перед Христом – нет оснований предполагать, что он решился бы на столь откровенное кощунство. Поскольку моделями ему служили миланские придворные, а картина, помимо прочего, призвана была воспеть правление Лодовико, он, возможно, просто хотел показать, какие изысканные яства подают к герцогскому столу.
Не исключено и то, что Леонардо решил обыграть шутку, связанную с монахами монастыря Санта-Мария делле Грацие. Французский священник, увидевший роспись в 1515 году, отметил, с каким необычайным реализмом изображена снедь, и, хотя конкретно угрей он не упомянул, Леонардо, вне всякого сомнения, изобразил их с тем же вниманием к деталям, как и все остальное на столе: после реставрации стали отчетливо видны жирные куски сочного беловатого мяса, на которое апостолы того и гляди выжмут сок из апельсинов. Апельсины написаны так тщательно, что видна даже цедра. Учитывая пренебрежительное отношение художников-итальянцев к гастрономическим подробностям, можно сказать, что в 1490-е годы не было ни одной другой картины, где снедь была бы изображена столь скрупулезно и вдумчиво, тем более художником, который мог бы сравняться талантом с Леонардо. Каковы бы ни были намерения Леонардо, он успешно изобразил знаменитое и желанное лакомство, дабы его могли созерцать монахи, которые бо́льшую часть года сидели на хлебе и воде, а все остальное время должны были довольствоваться самой простой пищей.
* * *
Чуть ли не в каждом изображении Тайной вечери на столе стоят хлеб и вино. Иногда чаша с вином изображается рядом с Иисусом, например на фреске Козимо Росселли на стене Сикстинской капеллы. Чаще художники изображали несколько кувшинов с вином, расставленных по столу, а перед каждым апостолом – наполовину наполненный стакан. Автор фрески «Тайная вечеря» в церкви Сан-Андреа а Черчина, в нескольких километрах к северу от Флоренции, проявил особую щедрость: он снабдил апостолов тринадцатью сосудами с вином, причем с красным и белым на выбор.
К изображению хлеба и вина, понятное дело, побуждает текст Писания: они необходимы для причастия, которое описано в синоптических Евангелиях. При этом, изображая на столе хлеб и вино, художники воспроизводили то, что могли наблюдать не только в монастырских трапезных, но и вообще на столах итальянцев. В XV веке хлеб и вино являлись для итальянцев основными продуктами питания: именно на них уходила бо́льшая часть семейного бюджета. На хлеб приходилось сорок процентов из общих расходов на питание, он обеспечивал шестьдесят процентов калорийности рациона – из этого делается понятно, почему урожаи были в буквальном смысле вопросом жизни и смерти и почему библейские стихи, вроде «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» и «Я есмь хлеб жизни», так сильно воздействовали на людей Средневековья и эпохи Возрождения. Доминиканцы жили, выпрашивая – в буквальном смысле слова – хлеб на пропитание, и то, как трудно набрать достаточное его количество, звучит постоянным рефреном в ранней доминиканской литературе.[529]
Помимо хлеба, к столу регулярно (и щедро) подавали вино, как в монастырской трапезной, так и в семейной столовой, – отчасти потому, что, будучи алкогольным напитком, оно, в отличие от воды, не содержало вредных бактерий и микробов. Средняя флорентийская семья выпивала семь баррелей (то есть больше 2800 литров) вина в год, а ежегодное потребление вина на душу населения в Италии эпохи Возрождения составляло от 200 до 415 литров (для сравнения: в современной Италии – это жалкие 60 литров).[530] Леонардо, безусловно, следил за тем, чтобы в доме его не было недостатка в вине: судя по спискам покупок, запасы пополняли регулярно. В одной заметке значится, что определенный сорт вина стоит сольдо за бутылку, а с учетом вышеприведенной статистики в доме у Леонардо за три дня 1504 года выпивали не меньше двадцати четырех бутылок. Вино подавали даже к завтраку, ибо одна из заметок за 1495 год гласит: «Во вторник купил вина на утро».[531]
Духовенство предавалось винопитию столь же усердно, как и все остальные. Доминиканцы особенно славились своим пристрастием к вину. Святой Доминик употреблял вино «сильно разбавленным», однако его последователь и преемник Иордан Саксонский проявлял больший энтузиазм, отмечая, что «вино дарует радость и умиротворение». Вскоре у доминиканцев начала складываться репутация людей, излишне приверженных этой радости. Один из магистров ордена жаловался, что в трапезных, где долженствует царить молчанию, братия «на протяжении почти всей трапезы» обсуждает достоинства вин и что «один любит то, а другой это, и все в таком духе».[532] Эти энофилы могли, как минимум, утешаться тем, что Фома Аквинский отказался причислить трезвость к добродетелям и объявил «умеренное питие» полезным и для души, и для тела.[533]
Леонардо в своей «Тайной вечере» поставил на стол как минимум двенадцать стаканов с вином, все разной степени полноты (стоящий перед Варфоломеем – почти пуст: в этом можно усмотреть еще один довод в пользу того, что моделью для этого апостола послужил Браманте, отличавшийся большим жизнелюбием). Как и большинство художников, Леонардо поставил на стол красное вино – оно соотносится с кровью Христа. Кроме того, на столе разложены небольшие хлебы. Приборов не видно, если не считать нескольких хлебных ножей и грозного вида ножа в руке у Петра – это скорее оружие, чем столовый прибор. Отсутствие приборов отражает обычаи того времени. Список утвари на кухне у самого Леонардо включает котел, сковороду, поварешку, кувшин, стаканы и бутыли, солонки и единственный нож – при отсутствии ложек и вилок.[534] Вилка еще не успела войти в широкий обиход, хотя уже в Средневековье итальянцы изобрели однозубую вилку, с помощью которой ели лазанью. А так кушания брали руками, часто с общих тарелок. Стихотворение о правилах этикета, сочиненное одним миланским монахом, напоминало: «И тот, кто ест, не должен в то же время / По грязи пальцами скрести».[535]
Перед Христом, помимо блюда с недоеденными угрями, стоит стакан с вином, лежат небольшая буханка хлеба и гранат (или, возможно, яблоко). Притом что Леонардо больше, чем кто-либо до него, уделял внимание точному и реалистичному изображению предметов, он не чурался и их символического использования. На одной из его картин, изображающих Мадонну с Младенцем, известной как «Мадонна Бенуа», младенец Христос держит некий цветок крестообразной формы, предвестник будущего распятия. На другой, «Мадонна с прялкой», в руке у Него крестообразное материнское веретено – еще одно предвестие будущих страстей. В «Мадонне в скалах» множество ботанических символов – благость и чистота Марии отмечены фиалками и лилиями, а символом страстей Христовых служит пальма и (слева на первом плане в парижской версии) анемон: считается, что в красный цвет его лепестки окрасила кровь Христа. Символические элементы усматривают и в «Моне Лизе». Натурализм этого портрета общеизвестен, и тем не менее один искусствовед рассудил, что он воплощает в себе триумф Добродетели над Временем.[536]
Снедь, лежащую на столе в «Тайной вечере», Леонардо тоже отчасти использовал в символическом ключе. Хлеб и вино, разумеется, обозначают тело и кровь Христовы. Яблоко (если это действительно яблоко) напоминает о том, что Христос – это «новый Адам». Если это гранат, ему в традиционной иконографии приписывается то же значение. Гранаты часто появляются на картинах итальянских художников: на «Мадонне с гранатом» Сандро Боттичелли (1487) младенец Христос держит разрезанный гранат, из которого падают зернышки. Красные зернышки символизируют не только кровь Христа, но и объединение людей в лоне христианской Церкви.
Леонардо изобразил руки Христа на столе, рядом с Его порцией хлеба и вина. Судя по всему, Он на что-то указывает левой рукой, а правой к чему-то тянется. Этот двойной жест выглядит простым и естественным – но как нам его трактовать? Собирается ли Христос обмакнуть хлеб в блюдо вместе с Иудой, тем самым указав на предателя? Или Он сейчас возьмет в руки хлеб и вино и учредит таинство причастия?
Матфей так описывает первое причастие: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 26–28). Марк дает почти аналогичное описание, а вот у Луки события происходят в обратном порядке: сперва – вино, потом – хлеб. А еще синоптические Евангелия расходятся в том, в какой момент трапезы было учреждено причастие. У Матфея и Марка Христос сперва объявляет о грядущем предательстве, а потом разделяет с учениками символы своего тела и крови; у Луки причастие идет первым, или, возможно, все происходит еще драматичнее: Христос учреждает причастие одновременно с оповещением о предательстве. «И вот, рука предающего Меня со Мною за столом», – говорит Христос, подавая апостолам чашу (Лк. 22: 21). То есть за Его словами о том, что Ему вот-вот предстоит умереть за своих спутников, следует зловещее заявление, что предатель сидит среди них.
Художнику, изображающему Тайную вечерю, необходимо как-то примирить между собой эти разноречивые свидетельства. Некоторые следовали версии, где Христос оделяет всех хлебом и вином, – получался вариант Тайной вечери, известный как «Причащение апостолов». Лучшим, пожалуй, его примером является работа Фра Анджелико в монастыре Сан-Марко: со стола убрано, Христос стоит с чашей в руке, протягивая хлеб Иоанну, а остальные апостолы более или менее спокойно сидят на своих местах или стоят на коленях на полу (среди них и Мария Магдалина) и ждут своей очереди принять причастие.
Примечательно, что фреска Фра Анджелико находилась не в трапезной, а в келье. Подобные сцены, изображающие прежде всего церковное таинство, куда чаще украшали часовни, чем трапезные. Изображения Тайной вечери для трапезных обычно следовали Евангелию от Иоанна, где, как мы уже говорили, об учреждении обряда причастия ничего не сказано. В них, соответственно, акцент делался на реальной снеди и вине, а не на теле и крови Христовых – причем в таких вариантах даже чаша для причастия появляется только в XVII веке.[537] Отсюда примечательное «отсутствие» чаши в «Тайной вечере» Леонардо («Никакого особенного сосуда на картине не оказалось, – читаем мы в „Коде да Винчи“. – Никакой чаши Грааля»).[538]
Вместо того чтобы показывать причащающихся апостолов, художники, писавшие сцену Тайной вечери в трапезных, изображали Иоанна спящим на груди у Христа или, хотя и реже, Христа, протягивающего обмакнутый хлеб Иуде. Этот жест отсылает нас к конкретному моменту повествования: утверждению, что предатель – именно Иуда. Такая композиция более характерна для раннего периода, особенно для иллюминированных рукописей. Популярна она была и среди сиенских живописцев XIV века – Дуччо, Пьетро Лоренцетти и Барны да Сиена единодушно показывают Христа в момент обличения виновного: Он протягивает хлеб Иуде. Однако к XV веку изображаемый момент повествования стал более размытым и менее драматичным – художники, такие, например, как Кастаньо и Гирландайо, отошли и от обмакивания хлеба, и от совместного вкушения хлеба и вина. Они изображают группу людей, собравшихся за столом для трапезы, голова Иоанна покоится у Христа на груди, а Иуда сидит на противоположном конце стола.
Леонардо настаивал на том, что жесты и выражение лица каждого персонажа должны восприниматься зрителем точно и однозначно. «Картины или написанные фигуры должны быть сделаны так, – пишет он в „Трактате о живописи“, – чтобы зрители их могли с легкостью распознавать состояние их души по их позе».[539] Каково же состояние души Христа?
* * *
У тех, кто смотрел на эту картину в давние времена, не возникало вопросов, какой именно момент на ней изображен. На одной из первых копий с «Тайной вечери» Леонардо – гравюре, относящейся примерно к 1500 году и приписываемой миланскому художнику Джованни Пьетро да Бираго, – сделана попытка разрешить любые сомнения. Гравер довольно дерзко добавил к работе Леонардо подпись – своего рода ранний вариант «пузыря» из комиксов: «Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est». Это значит: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Мф. 26: 21).[540]
Для Джованни и многих его последователей вопросов не было: на картине изображен момент, когда Иисус возвещает о предательстве, за чем следует замешательство среди апостолов. Гёте подкрепляет эту трактовку своим авторитетом, отмечая, что «всех собравшихся охватывает смятение» после слов Иисуса: «Один из вас предаст Меня!»[541] Статья Гёте появилась в 1817 году и была вдохновлена книгой «Тайная вечеря», которую семью годами раньше опубликовал Джузеппе Босси, – он реставрировал роспись после серьезного урона, нанесенного ей наводнением. Для Босси главным в картине были человеческие чувства: Леонардо «взывал к духу всех людей, способных чувствовать, людей всех эпох и всех вероисповеданий». Религиозный аспект этого произведения для Босси совершенно не важен. Леонардо, настаивает он, ничем не пожертвовал в картине ради «личных мнений или религиозных обрядов, которые не столь вечны и универсальны, как человеческие чувства». Что касается универсальных человеческих чувств, речь, согласно Босси, идет о «дружбе и страхе предательства».[542] В его трактовке Леонардо превращается в своего рода Шекспира с кистью – он поднимает этические вопросы и рассматривает извечные коллизии в напряженной драматической сцене, которая не имеет ничего – или почти ничего – общего с религиозной церемонией.
Трактовки, делавшие акцент исключительно на человеческих чувствах художника в ущерб религиозному содержанию, преобладали на протяжении многих лет, особенно в аудиториях американских школ и университетов. Учебник, опубликованный в США в 1935 году, безапелляционно заявлял, что «это прославленное религиозное произведение по сути своей не является религиозным. Оно содержит в себе психологические наблюдения самого глубоко мыслящего ученого того века».[543] Иными словами, Леонардо был совершенно равнодушен к разным там религиозным финтифлюшкам из Евангелий и воспользовался церковным текстом, чтобы выявить научные и психологические основы человеческого поведения, – такое не зазорно было бы написать самому Фрейду или хорошему романисту. Поколение спустя, в 1969 году, ученый Фредерик Хартт опубликовал обзорный труд по итальянскому искусству, в котором тоже утверждал, что Леонардо «совершенно не занимало возникновение обряда причастия… ему был важен один-единственный момент в этом повествовании – выявление личности предателя».[544]
Понятно, чем привлекательны подобные трактовки. С одной стороны, озадаченная реакция апостолов на слова Христа описана (в отличие от учреждения причастия) во всех четырех Евангелиях. Кроме того, подобное прочтение не только логично объясняет неожиданные позы, протестующие жесты и изумленные выражения лиц персонажей «Тайной вечери», оно еще и включает в сюжет картины один из самых драматичных, исполненных саспенса моментов во всей Библии. Более того, эти трактовки подкрепляются нашим общим представлением о том, что в Италии эпохи Возрождения художники и скульпторы предпочитали изображать человеческие чувства, а не религиозные символы. Есть и дополнительный бонус, особенно милый сердцу отпавших протестантов вроде Гёте – он вообще не считал себе христианином, а уж католиком и подавно – и американских педагогов ХХ века, которым полагалось всячески изгонять религию из школьной программы: такое прочтение полностью выселяет из картины элемент религиозного таинства и представляет Леонардо как «самого глубоко мыслящего ученого того века».[545]
Впрочем, консенсус этот постепенно разваливается, во многом благодаря усилиям американского искусствоведа Лео Стейнберга. В 1973 году Стейнберг опубликовал в журнале «Арт квортерли» стотринадцатистраничную статью, в которой приводятся аргументы в пользу присутствия в картине сакральной составляющей – чрезвычайно изощренные и построенные на глубочайшей эрудиции.[546] Другие исследователи тоже начали пристальнее рассматривать руки Христа, вино и хлеб на столе, а возможно, лишний раз заглянули и в свои Библии, после чего пересмотрели смысл произведения Леонардо. В последние десятилетия ХХ века самым распространенным университетским учебником по истории искусства была книга Х. В. Янсона «История искусств: Обзор изобразительного искусства от начала времен до наших дней». Янсон (он, кстати, родился в России), анализируя картину Леонардо, вернулся к теме причастия: он отметил, что художник не просто изображает некий эпизод психологической драмы, и обратил внимание на жесты Христа, которые указывают на то, что Он совершает «основное действие по ходу Тайной вечери – учреждение обряда причастия».[547] Автор другого широко используемого учебника усматривает в картине Леонардо «блистательное сочетание» драматического «Один из вас предаст Меня» и литургического обряда причастия.[548] К 1983 году видный искусствовед, специалист по Леонардо, смог написать: большинство авторитетов сходятся в том, что «Тайная вечеря» представляет собой «совокупность двух последовательных ситуаций», а именно оповещения о предательстве и учреждения таинства причастия.[549]
* * *
Итак, на картине запечатлено множество разных событий, причем зрители прошлых времен, в своем стремлении изгнать из нее религиозную компоненту, просмотрели их сложную взаимосвязь. С помощью выразительных жестов, тонких намеков и аллюзий Леонардо сумел передать переплетение последовательных событий, развертывавшихся в некой комнате в Иерусалиме (и известных нам в разных вариантах Евангелий). Оповещение о предательстве – лишь самое очевидное. Иисус, видимо, уже произнес свои слова («Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня») и умолк. Остальные апостолы изумлены и озадачены. Леонардо показал нам весь спектр откликов, обозначенных в Евангелиях: они задают вопрос «Не я ли, Господи?» (как у Матфея и Марка), спрашивают «друг друга» (Лука) и смотрят «друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит» (Иоанн). Леонардо, как мы уже видели, включил и эпизод из Евангелия от Иоанна, где Петр делает знак Иоанну, а тот, поднявшись с груди Христа, склоняется вправо, чтобы выслушать вопрос: «Кто это, о котором говорит?»
Из записок Леонардо явствует, что его очень интересовало, как именно двигаются люди, когда говорят, слушают, задают вопросы, выражают определенные чувства мимикой, жестами, позами. Однако примечательно, что содержание картины не ограничивается оповещением о предательстве и откликами на эту весть. Очень важно то, что Иисус не просто возвещает, кто предатель, Он одновременно выполняет и другие действия. С точки зрения Леонардо, руки Христа играли в композиции значимую роль. Они были настолько важны, что считалось: моделью послужил Алессандро Кариссими да Парма, человек, который якобы обладал очень красивыми и выразительными руками, – первой попавшейся парой рук тут было явно не обойтись. Кроме того, руки Христа служат центром композиции и в буквальном смысле – они образуют равносторонний треугольник в центре картины. Проигнорировать эти руки – значит упустить нечто очень важное.
Правой рукой Иисус тянется к тому же блюду, что и Иуда, – тот сидит вторым от Него. Почти дотрагиваясь до блюда, руки их, искусно укороченные и представляющие собой зеркальные отображения друг друга, напоминают нам про стих из Матфея: «…опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Однако тянется Иисус, судя по всему, не только к блюду и нечистой руке Иуды: одновременно он тянется и к стоящему перед Ним стакану с вином. Сквозь прозрачное стекло стакана можно разглядеть фаланги Его мизинца и кончик среднего пальца – в этом в очередной раз проявляется блистательное мастерство живописца. Изначально жест этот был, безусловно, чрезвычайно заметным и смыслонасыщенным; только утрата красочного слоя могла заставить тех, кто видел «Тайную вечерю» до нас, проглядеть тот факт, что Иисус собирается испить вина вместе с апостолами.
Левая рука Иуды также изображена в движении, он указывает – очень скрытно и сдержанно, посреди всеобщей отчаянной жестикуляции, – на хлеб, до которого легко может дотянуться. Более того, Иисус смотрит прямо на этот хлеб, словно не обращая внимания на царящее вокруг возбуждение, взгляд Его сосредоточен именно на нем. Леонардо был весьма изощрен в вопросах зрительного восприятия и с помощью перспективы с единой точкой схода следил за тем, как именно будет восприниматься его картина. Перспектива привлекает наше внимание к лицу Христа, расположенному в центре композиции, а лицо Христа, с опущенными глазами, перемещает зрительский взгляд по диагонали левой руки к ладони и, соответственно, к хлебу. Если Гёте и многие другие не заметили этого грациозного и совершенно очевидного жеста или сочли нужным его проигнорировать, то для доминиканцев из Санта-Марии делле Грацие он был однозначен и понятен: братья знали, что перед ними Христос, который сейчас раздаст священный хлеб апостолам.
Было бы странным – и это еще мягко сказано, – если бы живописец украсил стену доминиканского монастыря композицией, которая «не была бы сугубо религиозной по своей сути». Если работы по заказу францисканцев, например фрески Джотто в Ассизи, чаще всего представляют собой вдохновляющие эпизоды из библейской и церковной истории, то произведения, созданные по заказу доминиканцев, как правило, иллюстрируют тот или иной догмат. Одним из догматов, к которому было приковано внимание доминиканцев, поборников чистоты церковного учения, являлось пресуществление. В 1215 году на Четвертом Латеранском соборе было изложено учение о пресуществлении хлеба и вина в истинные тело и кровь Христа. В том же веке таинство это было философски обосновано Фомой Аквинским, а в 1264 году был учрежден особый праздник Тела и Крови Христовых. К концу XIII века причастие стало важнейшим церковным таинством. Вся философия церкви зиждилась на чуде претворения гостии в плоть, а вина – в кровь.[550]
В наш век безбожия, когда алтари вывозят из часовен и вывешивают на стенах музеев, принято рассматривать картины исключительно с точки зрения их художественных достоинств. В XV веке итальянцы, безусловно, замечали и ценили эстетические свойства живописи, однако произведения искусства имели для них и иное измерение. Картины почитались священными, поскольку поклонение образам Христа и Богоматери было, согласно решению Никейского собора, равнозначно поклонению самому Христу или Богоматери, заступникам верующих. Монументальный алтарь Джотто «Мадонна Оньиссанти» в наши дни считается – и совершенно справедливо – важной вехой в истории искусств, поскольку создает убедительную иллюзию глубины и содержит реалистическую трактовку черт лица и положений тела. Однако он был написан в первом десятилетии XIV века отнюдь не из формальных и эстетических соображений, а прежде всего для того, чтобы Мадонна взяла под свое покровительство местную общину монахов-умилиатов. Так и «Тайная вечеря» Леонардо создавалась не ради искусствоведов и туристов из грядущих атеистических эпох, но для группы монахов-доминиканцев, которые, как положено, прославляли жертву Христа, причащаясь Святых Даров.
То, что современники и ближние потомки Леонардо видели в его работах не одни лишь художественные достоинства, можно продемонстрировать на примере «Мадонны в скалах». Считалось, что эта алтарная картина, как и многие другие религиозные изображения, является чудотворной. Во время эпидемии чумы 1576 года местные жители обращались к картине Леонардо (которая тогда находилась в Сан-Франческо Гранде) с просьбами о спасении, служили перед ней особые мессы. Причем они считали, что спасут их не те свойства изображения, которые так ценятся сегодня, – динамизм композиции и тонкая игра светотени, – но тот факт, что Леонардо изобразил именно Деву Марию.[551]
Есть еще один пример. В 1501 году над Флоренцией нависла угроза вторжения безжалостного Чезаре Борджиа. В то же время в городе был выставлен на обозрение картон Леонардо с изображением Мадонны и Ее матери святой Анны – он вызвал сенсацию. Когда его представили публике, по словам Вазари, «в течение двух дней напролет мужчины и женщины, молодежь и старики приходили, как ходят на торжественные праздники, посмотреть на чудеса, сотворенные Леонардо и ошеломлявшие весь этот народ».[552] Возникает искушение сравнить этих людей с теми, кто штурмует сегодня залы музеев, чтобы подивиться на разрекламированную выставку Леонардо да Винчи. Однако Фредерик Хартт отметил, что флорентинцы стекались к картону Леонардо не потому, что хотели получить эстетическое наслаждение, а потому, что святая Анна считалась заступницей города. Эти энтузиасты, пишет Хартт, хотели видеть «не столько проявление гения Леонардо, сколько призыв к могущественной защитнице перед лицом угрозы вторжения нового безжалостного завоевателя».[553] Ими двигала вера, а не любовь к искусству. Их интересовали святая Анна и Богоматерь, а не Леонардо.
* * *
Есть и еще одна причина, исключающая всякую возможность того, что Леонардо проигнорировал причастие, да и вообще религиозный аспект в своей «Тайной вечере». Лодовико Сфорца наметил Санта-Марию делле Грацие в качестве усыпальницы для себя и своей семьи. К 1497 году планы строительства мавзолея Сфорца, увы, превратились в вопрос крайне насущный.
Провал Итальянского похода Максимилиана осенью 1496 года стал первой из неудач Лодовико, первым намеком на то, что Моро не держит более все судьбы мира в своих руках. Второй удар обрушился на него еще до того, как Максимилиан покинул землю Италии. Император направлялся в Павию, где его ждали услады пиршеств Лодовико, когда последнего настигла весть, что семья Моро понесла тяжелую утрату, – и беззаботное веселье будет неуместно.
Помимо двух сыновей от Беатриче, у Лодовико было как минимум трое незаконнорожденных детей. В конце 1496 года его последняя любовница Лукреция Кривелли была беременна, а две предыдущие наложницы, Бернардина де Коррадис и Чечилия Галлерани, подарили ему по ребенку. Сын Чечилии, родившийся в 1491 году, был торжественно окрещен Чезаре Сфорца Висконти и воспет придворными поэтами Лодовико. Он жил с матерью, которая тактично перебралась из замка в один из самых роскошных домов Милана, палаццо дель Верме. Дочь Бернардины, по имени Бьянка, родившаяся около 1482 года, удостоилась еще больших почестей. Она была признана отцом, стала близкой подругой Беатриче и в совсем юном возрасте предназначена в жены галантному Галеаццо Сансеверино. Леонардо даже создал ее портрет, набросок мелом на пергаменте, по случаю бракосочетания.[554] Их с Галеаццо обвенчали летом 1496-го, однако в ноябре следующего года она скончалась в Виджевано в возрасте тринадцати-четырнадцати лет, возможно из-за осложнений по ходу беременности.
Бьянку погребли в церкви Санта-Мария делле Грацие, и после ее кончины двор Лодовико погрузился в траур. Беатриче, тоже ожидавшая ребенка, часто посещала доминиканский храм и молилась у могилы своей любимой юной компаньонки. После одного из таких посещений, 2 января 1497 года, она вернулась в замок и занемогла. В тот же вечер она разрешилась мертвым младенцем, мальчиком, а вскоре после полуночи скончалась. Смерть ее сопровождалась подходящими случаю знамениями: в небе над замком полыхало пламя, а стены ее личного садика обрушились. «И с того дня, – пишет венецианский летописец, – герцога обуяло беспокойство, и познал он великие печали, хотя до того жил очень счастливо». По словам другого очевидца, смерть герцогини привела к тому, что «все рухнуло в одночасье и двор из веселого рая превратился в мрачный ад».[555]
Тело Беатриче вынесли из замка на носилках, которые, в числе прочих, несли посланники от Максимилиана и короля Испании. «Мы отнесли ее в Санта-Марию делле Грацие, – пишет отцу Беатриче посланник из Феррары, – в сопровождении бесчисленной толпы монахов, монахинь и священников». На улицах, по его словам, «царила величайшая скорбь».[556] В церкви Санта-Мария делле Грацие тело подняли по ступеням к высокому алтарю, под купол Браманте, и уложили на возвышение, обернутое расшитой золотом материей с гербами дома Сфорца. Беатриче погребли рядом с Бьянкой, и Кристофоро Солари было поручено изваять для нее надгробие из каррарского мрамора.
После этого украшение церкви приобрело для Лодовико еще большую важность. Были освящены новые алтари, святого Людовика и святой Беатрисы – покровителей Лодовико и его усопшей герцогини. Кроме того, Солари поручили изваять рельефы для основного алтаря, а скорбящий Лодовико буквально осыпал доминиканскую обитель дарами: потиры, инкрустированное драгоценными камнями распятие, несколько канделябров, шитый алтарный покров, иллюминированные хоровые книги в украшенных самоцветами переплетах и даже новый орган. Он планировал собрать группу зодчих, чтобы они спроектировали для церкви новый фасад. Кроме того, Лодовико настойчиво требовал, чтобы Леонардо, который трудился всего лишь в нескольких метрах от места последнего упокоения Беатриче, поскорее завершил свою работу.
Глава 14 Язык жестов
Нет оснований сомневаться, что смерть Беатриче повергла Милан в «величайшую скорбь». В обычаях итальянцев было открыто выражать горе. Смерть любимого человека могла заставить друзей и родственников голосить на улицах, рвать одежду, бить себя в грудь и выдергивать волосы целыми прядями. Причем подобной несдержанностью отличались не одни только женщины; мужчины тоже собирались вместе, чтобы публично рыдать и возносить умершему хвалу. Зрелища эти отличались таким накалом страстей, что в Средневековье в ряде городов был принят закон, запрещавший эту прилюдную истерию. На похороны подсылали шпионов, и горюющим особенно громогласно грозил большой штраф, а зачастую и порка. Однако власти пытались отогнать море метлой. Видимо, всплески чувств были просто частью национальной культуры. Через много лет после того, как вступил в силу вышеупомянутый закон, Петрарка жаловался на «громкие непристойные вопли», которые издавали на улицах скорбящие.[557]
Другие чувства итальянцы выражали с той же силой, и Гёте считал, что для Леонардо это стало большим подспорьем в его работе над «Тайной вечерей». «У людей его нации, – писал он, – одухотворено все тело, все члены его принимают участие в любом выражении чувства, страсти, даже мысли». Более того, Гёте усматривал в итальянцах «национальную черту» использовать при разговоре самобытные жесты и язык тела; он считал, что художник вроде Леонардо не мог не задействовать этот очевидный ресурс при работе над «Тайной вечерей».[558]
Леонардо да Винчи (1452–1519). Зарисовки рук в разных положениях. Бумага, карандаш.
До Леонардо никто так не интересовался выразительными возможностями человеческих рук. Среди набросков к его незавершенному «Поклонению волхвов» есть два листа, покрытые изображениями рук во всевозможных положениях, зарисованных в самых разных ракурсах. Судя по всему, это руки музыканта, вероятно одного из друзей Леонардо – например, Аталанте Мильоротти (которому он, возможно, давал уроки музыки): левая рука грациозно лежит на чем-то, напоминающем деку музыкального инструмента. Кроме того, в одной из записных книжек Леонардо есть зарисовка женщины, играющей на лютне, – левая рука покоится на грифе.[559] Рассматривая собственные руки или руки своих учеников, держащие длинный смычок лиры да браччо или летающие по грифу, Леонардо, несомненно, задумывался о заложенных в них красоте и выразительности.
Завораживали Леонардо и другие пары рук. Приехав в Милан, он наверняка познакомился с Кристофоро де Предисом, отцом братьев Амброджо и Евангелисты. Кристофоро и сам был преуспевающим художником – талантливым миниатюристом, иллюстрировавшим книги для Галеаццо Марии Сфорца. При этом Кристофоро был глухонемым. Леонардо, с его ненасытным любопытством, наблюдал, как глухонемые вроде Кристофоро общаются при помощи мимики и «жестов». Он призывал начинающих художников изучать «движения немых», чтобы понять, как наилучшим образом отображать мысли и чувства. Он отметил, что глухие способны понимать, что им говорят, считывая движения рук: «Таково оно с глухонемым, который, увидев двоих за разговором, хотя и лишен слуха, может понять по выражениям и жестам говорящих суть их разговора». Для Леонардо человек, который смотрит на картину (он называл ее «немой поэзией»), напоминал глухого, следящего за оживленным разговором.[560] Картины были своего рода пантомимами, иными словами, на них фигуры выражали «скрытое в мыслях» посредством жестов и языка тела.
Жесты и выражения лиц играют важную роль во всех картинах Леонардо, но особенно в «Тайной вечере». Благодаря разнообразию жестов мы видим, что апостолы потрясены, озадачены, разгневаны или огорчены словами Христа. Все на этой картине лихорадочно жестикулируют. «Экая толпа несдержанных, взбудораженных, крикливых иностранцев», – жаловался когда-то Бернард Беренсон.[561] Филипп прижимает руки к груди, Иаков Старший раскинул их, Иоанн смиренно сжал ладони, Иаков Младший дотрагивается до плеча Петра, а Петр, в свою очередь, касается одной рукой плеча Иоанна, во второй же он сжимает нож. Андрей, Матфей и Симон разводят руками, и жесты эти можно интерпретировать как… действительно, а как именно?
Жесты некоторых апостолов трудно истолковать. Они озадачивают, не допуская однозначной трактовки. Как, например, трактовать движения Фаддея, второго справа? Правой рукой он словно хватает воздух, отставив большой палец, – возможно, указывает на кого-то в обвинительном порыве, а левая его рука довольно неловко лежит на столе. Много лет комментаторы пытались как-то объяснить жест Фаддея. Один утверждает, что большой палец указывает на Христа и тем самым Фаддей дает понять, что ни в чем не виноват. Другой считает, что Фаддей предлагает Симону (слева от него) верить словам Матфея (справа от него), на которого показывает большим пальцем. Еще один зритель пришел к выводу, что Фаддей «исподтишка указывает большим пальцем на Христа», полагая, что Он и есть предатель.
Один большой палец, три разные цели – и каждое прочтение подразумевает иной смысл. Гёте, кстати, вообще не считал, что Фаддей на кого-то указывает. Он собирается ударить тыльной стороной правой ладони по внутренней стороне левой – выразительный жест, смысл которого, по словам Гёте, совершенно понятен: «Разве я не говорил этого! Разве не подозревал всегда!»[562] Словом, если суммировать эти трактовки, Фаддей может иметь в виду что угодно, от уверения в собственной невиновности до утверждения: «Я же вам говорил!»
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостол Фаддей. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Как отметил Гёте, прибегнув к языку жестов, Леонардо в полной мере использовал то, что теперь принято называть национальной особенностью. Великий немецкий поэт, свободно говоривший по-итальянски и прекрасно знавший итальянскую культуру, утверждал, что в распоряжении итальянцев имеется богатейший ассортимент жестов. Он отмечал, что «с помощью различных положений и движений рук» итальянцы могут передать такие смыслы, как: «Что мне за дело!», или «Он мошенник, берегись его!», или «Запомните это хорошенько, слушающие меня!».[563] Действительно, языком тела и жестов итальянцы пользуются куда чаще и куда артистичнее, чем представители любой другой европейской культуры. В 1832 году один священник и библиотекарь из Неаполя по имени Андреа де Йорио опубликовал труд «Мимика древних в свете неаполитанской жестикуляции». Де Йорио пытался показать, как выразительные жесты его современников – то есть живших в то время неаполитанцев – могут помочь в толковании жестов и поз, которые встречаются в античной скульптуре, на древних вазах и фресках, например тех, которые нашли неподалеку от Неаполя, в Геркулануме и Помпеях. Он считал, что существует «полное сходство» между жестами его современников-неаполитанцев и их древних предков, погребенных под пеплом Везувия.[564]
Де Йорио составил иллюстрированный каталог жестов и выражений лица, где задокументирован весь репертуар неаполитанцев (и в более широком смысле – всех итальянцев) не только XIX века, но – как ему представлялось – далекого прошлого и будущего. Некоторые из этих жестов используются и по сей день, например «mano cornuto», или «коза», – жест, где средний и безымянный палец опущены вниз, а указательный и мизинец вытянуты вперед. Или вопросительный жест, когда ладонь развернута вверх, а все пальцы вытянуты и сомкнуты, – это, по словам Йорио, означает: «О чем вы говорите?» Он также описал распространенный жест, который назвал «negativa»: кончики пальцев подпирают подбородок внешней стороной, а потом их резко выталкивают вперед, давая понять, что жестикулирующий «хочет отодвинуть голову от того, что ему навязывают или предлагают, ибо ему это не нравится». Другие жесты не только существуют сейчас, но и известны нам по примерам из Средневековья и эпохи Возрождения. Непристойная «mano in fica» (фига) – большой палец просунут между средним и указательным пальцем сжатой в кулак руки – присутствует и в «Аде» Данте, и на своде Сикстинской капеллы, где его нам демонстрирует один из шаловливых путти Микеланджело.[565]
Страница из трактата Андреа де Йорио. «La Mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano». Иллюстрации № 19 и № 20.
Однако человека, задавшегося целью расшифровать мысли апостолов из «Тайной вечери» Леонардо, книга де Йорио только разочарует. Жесты итальянцев, судя по всему, не были так однозначны, как это представлялось Гёте. Де Йорио обнаружил, что прочитать мысли собеседника по его жестикуляции не так-то просто. Один и тот же жест мог передавать несколько разных значений. Даже у фиги их оказалось целых три: с ее помощью отгоняли зло, оскорбляли или делали «своего рода непристойное или обидное предложение». Для обозначения «нет» существовало тринадцать различных жестов, а «коза», по подсчетам де Йорио, выражала пятнадцать различных смыслов: от попытки защититься от сглаза до угрозы выколоть глаза. Если человек сидел, переплетя пальцы, это могло означать и грусть, и попытку наложить охранительное заклятие на роженицу.[566] Даже самый простой жест, например воздевание рук, обладал целым рядом возможных значений: согласие, осмеяние, требование, отстранение, мольба, удивление.
Де Йорио писал, что существуют «всевозможные мелкие модификации жеста, которые и определяют всякий раз его конкретное значение».[567] Значение того или иного движения руки следует трактовать в сочетании с положением всего тела, выражением лица и направлением взгляда. Жесты, подчеркивал де Йорио, существуют только в контексте, в том числе в контексте конкретного разговора. Малейшее изменение в положении руки может радикальным образом изменить смысл любого жеста.
Контекст жестов в «Тайной вечере», разумеется, религиозный, поскольку стенная роспись является иллюстрацией к Писанию, а также потому, что предназначалась она для монахов-доминиканцев. Именно к ним прежде всего и должны были обращаться изображенные на картине апостолы.
Движения тела имели для доминиканцев особую важность. Члены ордена были прежде всего проповедниками и, как ораторы, обращавшиеся к толпам на городских площадях, понимали лучше других, какую смысловую нагрузку несут жест и движение. Многочисленные книги по риторике и искусству проповеди учили их, как использовать жесты в интересах дела. Особенно влиятельный и знаменитый труд «Institutio oratoria» («Воспитание оратора») Квинтилиана учил говорящих использовать «язык жестов» для передачи своих мыслей, чувств и намерений.[568] Расхваливая «хороших ораторов» и советуя молодым художникам всматриваться в них повнимательнее, поскольку они «сопровождают руками свои слова», Леонардо, видимо, предлагал ученикам наблюдать, помимо прочего, и за проповедями монахов-доминиканцев.[569] Самым зажигательным оратором пятнадцатого столетия был доминиканец Джироламо Савонарола, который подкреплял мысли «живой, едва ли не яростной жестикуляцией», – хотя вряд ли Леонардо когда-то присутствовал на его проповедях.[570]
Для доминиканцев жесты имели и более личное значение: ими пользовались не только на площади, но и в обители. Поскольку монахам предписывалось по много часов в день хранить молчание, в том числе и в трапезной, был разработан язык жестов (первоначально – бенедиктинцами и цистерцианцами), с помощью которого они общались. В его словаре было несколько сот жестов, от утверждения («мягко поднять руку… обратив тыльную сторону ладони к собеседнику»), указания («на нечто увиденное можно обратить внимание других, раскрыв ладонь в направлении вещи») и горя («сжав тело ладони другой»). В некоторых монастырях существовали свои жесты для обозначения хлеба, рыбы и овощей.[571] Соответственно, доминиканцы, как и глухонемые, учились выражать желания и чувства при помощи мимики – Леонардо наверняка наблюдал это, работая в главной церкви доминиканского монастыря.
Посредством ритуальных движений доминиканцы общались не только с братией, но и со святыми и мучениками. Иллюстрированный доминиканский молитвенник «De modo orandi» («О способах произнесения молитвы») учил новичков, как жестикуляция может способствовать молитве и размышлению. В трактате утверждается, что с помощью определенных поз, в основном тех, которые принимал святой Доминик, можно вызывать соответствующие психологические состояния. Все жесты Доминика были тщательно описаны и истолкованы: «Иногда он простирал руки, разводил их перед грудью, точно раскрытую книгу… случалось, что он соединял ладони и держал их сомкнутыми перед глазами, сгорбив при этом спину». Смирение он демонстрировал поклоном, экстаз – воздевая над головой сомкнутые ладони, покаяние – самобичеванием. Многие эти позы запечатлены на картинах.[572] Обитатели монастыря были грамотными читателями языка жестов. Как же они воспринимали жестикуляцию апостолов Леонардо?
* * *
Один из самых простых жестов в «Тайной вечере» Леонардо делает апостол Иоанн: его сомкнутые ладони с переплетенными пальцами лежат на столе. Как указывал де Йорио, жест этот, который он называл «mani in pettine» («гребенка»), был выражением скорби. Леонардо и сам отмечал, что художники могут использовать этот жест для выражения горя: «При этих плачах один обнаруживает отчаяние, другой не слишком опечален, одни только слезливы, другие кричат, у одних лицо обращено к небу и руки опущены, причем пальцы их переплелись».[573]
Художники часто изображали Иоанна в скорбных позах – стоящим или коленопреклоненным у подножия креста с сомкнутыми ладонями. Например, Мазаччо именно так представил его в своей «Святой Троице» в доминиканской церкви Санта-Мария Новелла – Леонардо наверняка знал эту работу (равно как знали ее и многие братья-доминиканцы из монастыря Санта-Мария делле Грацие). Согласно Евангелию от Иоанна, любимый ученик был одним из немногих, кто вместе с Марией и Марией Магдалиной «при кресте Иисуса стояли» (Ин. 19: 25), пока он умирал. Итак, на сценах Распятия Иоанн представлен в позе скорби, как правило со сложенными ладонями и переплетенными пальцами – с жестом «гребенка». Собственно, именно так Джованни да Монторфано изобразил его на противоположной стене трапезной: светловолосый безбородый юноша, который стоит у креста, с нахмуренным лбом и переплетенными пальцами. Голова слегка наклонена влево, тем самым он превращается в своего рода зеркальное отображение Иоанна Леонардо на противоположной стене. Любому, кто сомневается в том, кто именно сидит рядом с Христом на картине Леонардо, достаточно повернуться и посмотреть на его двойника в «Распятии» Монторфано.
Еще несколько жестов на картине Леонардо отсылают нас к предстоящим страстям Христовым. Пожалуй, наиболее красноречивый жест делает Петр: правая его рука уперта в бок в позе, которую де Йорио называет «mano in fianco» («рука в бок»), – этот жест выражает негодование.[574] В руке Петр держит нож – оружие с заостренным лезвием сантиметров пятнадцать в длину. Гирландайо изобразил Петра с похожим ножом в своей «Тайной вечере» в церкви Оньиссанти: эта работа была закончена в 1480 году, когда Леонардо еще находился во Флоренции. В обоих случаях нож указывает на событие, которое произошло позднее в тот же вечер: защищая Иисуса «от множества народа с мечами и кольями» (Мф. 26: 47), Петр отрезал ухо Малху, рабу первосвященника. Вложив Петру в руку нож, Леонардо продемонстрировал знакомство не только с Евангелиями – во всех рассказывается история об отрезанном ухе, – но и с картиной Гирландайо.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Эскиз рук апостола Иоанна. Бумага, карандаш.
Нож Петра указывает, в совершенно буквальном смысле, и еще на одну деталь: кончик его направлен на Варфоломея, апостола, стоящего на левом конце стола.[575] Как мы уже видели раньше, святых зачастую идентифицировали по символам их мученичества. Монторфано, например, помогает установить личность святых на своей фреске с помощью всевозможных ключей: святой Петр Веронский (убитый катарами) изображен с окровавленным мечом в черепе, а святая Екатерина Сиенская (которая вытащила свое «каменное» сердце и обменяла на любящее сердце Христа) держит сердце в правой руке. Атрибутом Варфоломея являлся нож, которым его освежевали заживо варвары-армяне (этой мученической кончиной объясняется, почему он одновременно является святым покровителем и армян, и тех, кто свежует туши); Микеланджело впоследствии представит Варфоломея на алтарной стене Сикстинской капеллы с ножом и его собственной снятой кожей в руках. Леонардо, изобразив нож, не только предсказал мученическую смерть Варфоломея, но и тяготы и страдания, которые ожидают апостолов (многим из них предстоит принять мученический венец), когда они станут свидетелями Христу «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1: 8).
Еще один жест, предуведомляющий о будущем, делает Фома: встав из-за стола и зайдя за спину Иакову Старшему, он воздевает указательный палец правой руки. Указующий палец, как и улыбка, остается одной из главных загадок творчества Леонардо. Уриил в «Мадонне в скалах» (луврская версия) и загадочное существо, известное как «Иоанн Креститель», оба указывают пальцем. Уриил направляет наш взгляд на младенца Иоанна Крестителя, а на более поздней картине Креститель указует вверх, – возможно, это аллюзия на то, что он узнал Мессию, о котором писали пророки.
Палец Фомы в «Тайной вечере» тоже направлен вверх и является более внятным символом, потому что если и был в истории человек, чей палец имел особое значение, так это Фома. Когда другие апостолы сообщили ему о воскресении Христа, Фома потребовал прямых доказательств. Он сказал: «…если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Восемь дней спустя Иисус вошел в комнату, где находился Фома, и закрыл за собой двери. «…Подай перст Свой сюда», – приказал он Фоме (Ин. 20: 25, 27). Палец Фомы имел такое огромное значение, что в IV веке святая Елена вывезла эту реликвию из Иерусалима и поместила в церковь Санта-Кроче ин Джерузалемме в Риме.
Леонардо прекрасно знал историю Фомы и его знаменитого пальца. Все время, пока он учился и работал у Верроккьо, наставник проектировал и отливал бронзовую скульптурную группу «Неверие святого Фомы» с фигурами в натуральную величину для ниши внешней стены церкви Орсанмикеле во Флоренции. Верроккьо получил этот заказ от Университа делла Мерканца, коммерческого суда, который председательствовал над всеми флорентийскими гильдиями. Отец Леонардо сер Пьеро снимал у коммерческого суда жилье и являлся его нотариусом, – возможно, именно он обеспечил Верроккьо этот заказ. В свете девиза Мерканца: «Не выносить суждений, пока истина не установлена доподлинно», апостол, требовавший безусловного установления истины, лучше других подходил в качестве символического воплощения прозорливых судий, – действительно, в тосканских ратушах Фома часто служил символом правосудия.[576] Скульптурная группа Верроккьо строилась прежде всего на жестах, он показал Фому в тот момент, когда, повинуясь велению Христа, он собирается коснуться пальцем раны.
Если Фома являлся подходящим святым для Мерканца, он же, как апостол, требовавший визуальных и тактильных доказательств и «анатомировавший» воскресшего Христа своим пальцем, был самым подходящим святым для Леонардо, который ничего не принимал на веру, обязательно должен был все потрогать, ощутить, увидеть своими глазами. Для Леонардо, как и для Фомы, лучше было один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Всякое знание основано на наших ощущениях», – заявляет он в одной рукописи. И в другой: «Все науки бессмысленны и исполнены ошибок, если не основываются на опыте, отце всякой уверенности. Истинные науки – те, в которые опыт входит посредством чувств».[577]
«Всякий художник изображает себя»: если Леонардо, как утверждает Гаспаро Висконти, использовал в «Тайной вечере» и свои черты, тогда с точки зрения личностного совпадения самым подходящим кандидатом является Фома. Висконти утверждает, что Леонардо ссудил ему не только свою внешность, но и свои «действия и повадки», сиречь жесты и выражение лица. К 1511 году указующий палец настолько закрепился за Леонардо, что Рафаэль запечатлел его на предполагаемом портрете художника: Леонардо представлен Платоном в «Афинской школе» (где также присутствуют Браманте в образе Евклида и Микеланджело в образе Гераклита). На этой ватиканской фреске изображен бородатый лысеющий Платон, который в точности повторяет жест Леонардова Фомы, – его указательный палец воздет вверх. Рафаэль любил поиграть с портретами и аллюзиями. Художник ненавязчиво иронизирует над мрачным, угрюмым Микеланджело, придав ему облик философа-брюзги Гераклита, и в то же время отдает дань его талантам, подражая его мощному новаторскому стилю. Рафаэль мог также намеренно воспроизвести и манеру Леонардо (весь замысел «Афинской школы», по словам Янсона, «воспроизводит дух „Тайной вечери“ Леонардо»), и один из основных жестов в его искусстве.[578]
Однако нельзя с уверенностью приписать Фоме черты Леонардо: не сохранилось рисунка, где был бы запечатлен образ модели, который (как мы видим на примере Варфоломея) часто отличался от конечного результата на стене трапезной. Кроме того, хотя Фома далеко не урод – у него большие глаза и прямой греческий нос, – его не назовешь идеалом красоты, воспетым биографами Леонардо, впрочем, не назовешь красавцем и напыщенного старикашку из «Афинской школы». Фома – один из «щелкунчиков» Леонардо: он, возможно, беззуб, уголки рта опущены вниз, нижняя губа отвисла, подбородок выдается вперед. Из-за утраты красочного слоя трудно восстановить мелкие детали его изначального облика. Ранние реставраторы не погнушались тем, чтобы упростить и гипертрофировать черты нескольких апостолов: во время недавней консервации выяснилось, что один из них изменил контур губ Фомы, повернув уголки вниз.[579] А вот на ранних копиях с фрески, например резцовой гравюре на меди, относящейся примерно к 1500 году, или на копии маслом, выполненной учеником Леонардо Джампетрино, мы видим Фому, у которого ни рот, ни челюсть не являют собой ничего гротескного.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостол Фома. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
Приписывается Франческо Мельци (1493–1570). Портрет Леонардо в профиль. Ок. 1515. Сангина.
Судя по всему, моделью для Фомы послужил тот же человек, что и для Иакова Младшего, сидящего вторым слева, рядом с Варфоломеем. Черты Иакова, который также обращен к нам в профиль, менее карикатурны и, возможно, могут поведать, как выглядел Леонардо в середине 1490-х. Притом что Иакова с поврежденной настенной росписи трудно сравнивать с прекрасным, прорисованным во всех деталях профильным портретом сангиной, на котором, вероятно, изображен Леонардо, определенное сходство между ними все-таки есть: и у того и у другого греческий нос и длинные волосы с пробором посредине. Кроме того, оба бородаты, а бороды в «Тайной вечере», возможно, служат объяснением слов Висконти о том, что Леонардо изображал себя. Висконти еще явственнее разглядел бы черты художника и в Фоме, и в Иакове Младшем, если бы Леонардо в 1490 году носил бороду: редкое украшение на лице итальянцев пятнадцатого столетия.[580]
Тем не менее все попытки опознать на картине Леонардо остаются, за недостатком прямых доказательств, в области домыслов. С большей уверенностью можно утверждать, что доминиканцы, глядя на жестикулирующих апостолов, видели в их жестах не только реалистично и выразительно переданные человеческие чувства, но четкие, однозначные отсылки к библейскому тексту.
* * *
Художники, изображавшие Тайную вечерю, всегда ясно указывали на предателя. Часто Иуда тянется к хлебу, который подает ему Христос, или, совершая святотатство, раскрывает рот, готовясь положить туда кусок. Иногда он сидит на противоположной стороне стола от Христа и других апостолов, на некоторых картинах он – единственный апостол без нимба. На «Тайной вечере» Козимо Росселли в Сикстинской капелле он изображен с темным нимбом, а на случай если вдруг у зрителей останутся какие-то сомнения, на плече у него сидит крылатый демон. На некоторых картинах Иуда прячет за спиной рыбу или какую-то другую снедь. В Средние века, особенно в пьесах, которые разыгрывали на Страстной неделе, всегда делался акцент на том, что он не только предатель, но еще и вор. «Мерзкий предатель, вор, расхититель денег, человек без веры, исполненный скрытой злобы», – честят его во французской пьесе 1486 года.[581]
Леонардо подошел к этому вопросу тоньше, чем большинство живописцев, однако и его Иуду ни с кем не перепутаешь. Как и многие другие художники, Леонардо изобразил его протянувшим руку к тому же блюду, что и Христос. Впрочем, у Леонардо Иуда тянется к блюду левой, а не правой рукой. Иуда Леонардо, как и сам Леонардо, – левша. Существует еще лишь один Иуда, протянувший левую руку, – на витраже в Шартрском соборе, хотя, если взглянуть с другой стороны, он, понятное дело, оказывается правшой.
Уж кому, как не Леонардо, было знать, с каким страхом и подозрительностью относились в те времена к левшам. На латыни левая рука называлась «sinister» – во многих современных языках это слово означает «зловещий», а объяснить его значение проще всего через древнеримские предсказания: если птица или иной знак появлялся слева от жреца – на левой (sinister) стороне, в противоположность правой (dexter), это считалось дурным предзнаменованием. Леворукость стала синонимом несчастья и даже зла. В христианстве правая сторона тела считалась более нравственной и якобы охраняемой Богом. Согласно святому Августину, левая рука воплощает в себе преходящее, смертное, плотское, а правая – «Бога, вечность, сроки Господа, Который нас не оставит».[582] Веками превосходство правой руки над левой влияло на то, как люди рыбачили, пахали землю, вили канаты, ели. Греки и римляне, например, всегда возлежали за трапезой на левом боку, опираясь на левый локоть, чтобы оставить правую руку свободной для еды и питья. Плутарх отметил, что родители учат детей есть правой рукой с самого детства, а если они «пытаются протянуть левую, мы их сразу поправляем».[583] Предубеждение против левой руки сохранялось и в эпоху Возрождения: родители первой высвобождали правую руку младенца из свивальника, чтобы впоследствии он пользовался именно ею и для еды, и для письма.
Художники четко осознавали значение «правого» и «левого». На профильных портретах женщины всегда смотрят влево, то есть находятся в геральдической позиции «sinister», поскольку место женщины – по левую руку от Бога, тогда как их мужья, занимающие в геральдике превосходящее положение, смотрят вправо.[584] На сценах Распятия голова Христа всегда наклонена вправо, в сторону, обозначающую вечность и спасение. Джованни да Монторфано не отступил от стандарта: на его фреске в той же церкви Санта-Мария делле Грацие голова Христа повернута вправо, к Благоразумному Разбойнику (над ним возвышается ангел), слева распят Безумный Разбойник (над которым реет демон). Среди немногих левшей на картинах – ведьмы; художники вроде Альбрехта Дюрера и Пармиджанино намеренно изображали их леворукими.[585]
Соответственно, сделав Иуду левшой, Леонардо ловко воспользовался целым набором негативных культурных ассоциаций. Увидеть человека, который ест левой рукой, было делом крайне необычным, а в обстановке трапезной эта аномалия еще сильнее бросалась в глаза. И все же то, что Леонардо, один из самых знаменитых левшей в истории, делает акцент на этом явном предрассудке, выглядит неприятным сюрпризом, ведь он наверняка ощущал эти негативные коннотации куда острее любого другого художника.
* * *
Иуда не просто тянется левой рукой к блюду: он подался вперед, изогнулся, при этом перевернул солонку и рассыпал ее содержимое. Этот жест – еще одно изумительное изобретение Леонардо – упомянут в описании того, как он собирается изобразить группу сотрапезников. Одна часть этого описания почти соответствует (хотя и с некоторыми модификациями) позам Петра – Иуды – Иоанна: «Еще один говорит на ухо другому, и тот, который его слушает, поворачивается к нему, держа нож в одной руке и в другой – хлеб, наполовину разрезанный этим ножом. Другой, при повороте, держа нож в руке, опрокидывает этой рукою чашу на столе». Поразмыслив, вместо опрокинутой чаши Леонардо решил изобразить солонку.
Солонку, к сожалению, сегодня не разглядишь: разрушение росписи привело к тому, что она исчезла без следа. Однако она отчетливо видна на многих ранних копиях – копии Джампетрино и копии из Понте Каприаска, поэтому то, что Леонардо изобразил именно солонку, не вызывает ни малейших сомнений. Он не первым из живописцев поместил солонку на стол в «Тайной вечере»: солонки присутствуют как минимум в двух других версиях, написанных в Северной Италии во второй половине XV века.[586] А вот мотив просыпанной соли – изобретение Леонардо, и, как это ни парадоксально, художник, напрочь лишенный суеверий, поспособствовал распространению всем известного предрассудка.
Рассыпанная соль считается дурным знаком. Пошло это, опять же, от римских жрецов, занимавшихся прорицаниями. Рассыпание соли считалось предвестием беды, так называемым dirae (дурной знак; другими были – чихание, разлитие вина, пророческие слова или звуки, видения). У древних римлян солонка символизировала семью, Гораций восхвалял «древнюю солонку», блестевшую на столе и являвшую собой образ довольства и семейного счастья. В Средние века и эпоху Возрождения королевские солонки отличались особой роскошью и свидетельствовали о богатстве и высоком положении своих владельцев, а в Англии гости, которых сажали «выше соли», занимали за столом привилегированное положение между солонкой и хозяином. Во Франции солонки украшали самоцветами, часто они имели форму корабля, и легко представить, что перевернуть такую королевскую солонку, символизирующую «корабль государства», было дурным предзнаменованием.[587]
Можно только гадать, был ли Леонардо знаком с этими суевериями и насколько широко они были распространены в Италии XV века. Зато он, скорее всего, имел представление о значении соли в религии. Соль неоднократно упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете, причем самое знаменитое упоминание – в метафоре, через которую Иисус описывает апостолов. «Вы – соль земли», – говорит Он им (Мф. 5: 13). В Ветхом Завете при посредстве соли заключались заветы между Богом и человеком, например, «по завету соли» Бог дал царство над Израилем Давиду и сыновьям его (2 Пар. 13: 5). Возникла эта фраза, скорее всего, потому, что соль, как консервант, символизировала нечто долговечное. Кроме того, соль использовали в качестве приношения Богу. «Всякое приношение твое хлебное соли́ солью», – наставляет Книга Левит (2: 13). Древние иудеи считали, что соль обладает целительными и охранительными свойствами. Пророк Елисей очистил зараженные воды Иерихона, бросив в них соль (4 Цар. 2: 19–22), а новорожденных принято было посыпать солью (Иез. 16: 4).
Эта более поздняя практика, связывающая соль с пользой для здоровья, сохранилась и во Флоренции: если с ребенком, подкинутым в воспитательный дом Оспедале дельи Инноченти, оставляли соль, это значило, что младенец не окрещен.[588] Соль не только считалась полезной для здоровья, она еще, видимо, защищала новорожденного от злых духов. Освященную соль, которой кропили, будто святой водой, использовали для изгнания ведьм и демонов; в некоторых странах ее бросали в цыган.[589]
Даже если Леонардо и был знаком со всеми этими ассоциациями, оценить важность соли он мог и не обращаясь к Библии или народным суевериям. Природа соли очень его интересовала: ее происхождение, состав, тот факт, что она, по его словам, «есть во всех сотворенных вещах». В его заметках мы находим фрагменты, где он опровергает рассуждения Плиния Старшего о том, почему морская вода солона. Рассуждения уходят в особенно интересном направлении, когда он заводит разговор о важности соли (он считает ее необходимой для жизни) для питания человека. Леонардо отмечает, что род человеческий «был и будет потребителем соли вечно». На сколько же, гадает он, хватит тогда существующих запасов? Конечен ли земной запас соли, в каковом случае человечество просто вымрет, когда он будет исчерпан? Или он возобновляется, причем самопроизвольно? Леонардо склоняется к последнему, а именно к тому, что соль постоянно циркулирует в наших телах, так «чтобы в моче, поте или других выделениях вновь оказывалось бы столько соли, сколько ежегодно привозится в города», а значит, запас ее бесконечен (хотя, возможно, когда-то ее и придется извлекать из «выходящих из тел выделений»). Примечательно, что, рассуждая о соли, Леонардо прибегает к псевдорелигиозному языку: он говорит о том, что «она умирает и возникает вновь вместе с поглощающими ее людьми» и при этом «смерти не имеет»; заключение о бессмертии соли Леонардо делает на основании того, что уничтожить ее не может даже огонь.
Итак, и для Леонардо, и для первых зрителей «Тайной вечери», монахов-доминиканцев, соль обладала огромным количеством добавочных смыслов: она необходима для продолжения жизни, является примером постоянного обновления, символизирует не только союз апостолов и человека с Богом, но и крепкое здоровье и удачу. Рассыпать соль в столь ответственный момент – когда звучит имя предателя – было дурным знаком и худшим из возможных святотатств.
Наши современники по-прежнему считают, что рассыпать соль – не к добру: согласно недавним исследованиям, пятьдесят процентов англичан признались в том, что, перевернув солонку, бросают соль через плечо, дабы отвести беду.[590] Леонардо, человек, который более других способствовал распространению этого суеверия, наверное, немало бы позабавился, узнав, что мы бросаем щепотку соли именно через левое плечо, поскольку дьявол, понятное дело, всегда находится слева.
* * *
В «Тайной вечере» Леонардо показан еще один жест Иуды: он сжимает кошель с неправедно полученной мздой. Это соответствует тексту Евангелий, где сказано, что именно Иуда был хранителем общих денег, а кроме того (это известно из Евангелия от Матфея), получил за предательство Иисуса тридцать серебреников. При этом Иуда, сжимающий кошель в кулаке, появляется в «Тайных вечерях» куда реже, чем можно было ожидать, – этот мотив представлен на фреске, которую несколькими годами раньше написал во Флоренции Перуджино, а больше, по сути, нигде. Позднее, в 1512 году, тосканский художник Лука Синьорелли изобразил Иуду в момент беззастенчивого воровства: он тайком засовывает хлеб причастия себе в кошель.
Иуда, сжимающий кошель, был в «Тайной вечере» весьма красноречивым образом. В европейском искусстве кошель служил традиционным атрибутом евреев (иудеев) – в нем соединялись предательство Иуды, христианское неприятие алчности и тогдашние трения в обществе, связанные с ростовщичеством. В псалтырях и иллюстрированных библиях часто изображали евреев с кошелями на шее, радостно приветствующих дьявола или мучающихся в аду.[591]
Леонардо не так прямолинеен, как Синьорелли или иллюстрированные библии, однако, дав Иуде в руку кошель, он связал историю предательства Христа с историей евреев в целом. Иуда и иудеи стали почти синонимами, отчасти благодаря этимологическому «доказательству», предложенному Отцами Церкви. «Название свое евреи производят не от Иехуды, коий был святым человеком, но от предателя».[592] Святой Амвросий, Миланский епископ IV века, усматривал связь между Иудой, иудеями, ростовщиками, а также дьяволом, которого «и самого до́лжно сравнить с ростовщиком, обирающим человеческие души».[593] Разумеется, и христиане занимались ростовщичеством: Медичи и другие флорентийские семьи составили свои огромные состояния, ссужая деньги под процент. Однако ростовщичество так тесно связывалось с евреями, что даже имело синоним – «жидовство».[594] Так называемый грех ростовщичества стал одной из причин изгнания евреев из Англии в 1290 году и из Франции в 1306-м.
Папа относился к ростовщикам терпимее, чем светские правители, однако это не мешало проповедникам сурово клеймить этот грех. «Бог заповедал человеку не ссужать денег под процент, – возглашал в своих пламенных проповедях францисканец Бернардин Сиенский, который скончался в 1444 году, – ибо это есть покража, это противоречит заповедям Господним, а посему нельзя потворствовать ростовщичеству и тем, кто им занимается».[595] Бернардин призывал метить евреев особым образом. В Италии евреев периодически принуждали носить желтый знак, segno del O. В 1463 году во Флоренции был принят закон, по которому любой еврей, не имеющий на одежде этого знака, мог быть оштрафован на приличную сумму – двадцать пять лир. В 1452 году такой же закон был введен и в Милане, где евреи расплачивались таким образом за право жить в городе, строить синагоги и отмечать свои праздники. Желтый круг, по всей видимости, символизировал монету – и тем самым всех евреев причисляли к сообщникам Иуды.[596]
Власти в разговорах с евреями прибегали порой к очень жестким выражениям. В 1406 году все евреи-ростовщики Флоренции были лишены прав со следующей формулировкой: «Евреи или иудеи есть враги Креста, Господа нашего Иисуса Христа и всех христиан».[597] Несколько десятилетий спустя, в 1442-м, флорентийский городской совет четко сформулировал отношение церкви к евреям, поместив их в одну категорию с «еретиками и сектантами» как людей, которым «не суждена жизнь вечная, их пожрет геенна огненная, уготованная для дьявола и его приспешников».[598] Впрочем, если говорить об Италии XV века, похоже, лишь немногие из этих теологических наветов на евреев проникли в повседневную жизнь. Вазари рассказывает историю о том, что во Флоренции был некий слесарных дел мастер, современник Леонардо, по прозванию Капарра, и он отказывался брать заказы у евреев, заявляя, что «деньги их гнилые и воняют». Впрочем, Вазари подчеркивает, что Капарра вообще был человеком буйным, эксцентричным и «с причудами», – похоже, взгляды его все-таки были взглядами меньшинства.[599] В Милане, например, между христианами и евреями, как правило, складывались вполне сердечные отношения, с большой долей взаимной терпимости и даже дружества. Евреи и христиане часто трапезовали вместе, участвовали в празднествах друг друга. Евреи обучали благородных христианок музыке и танцам, а христианки были повитухами, а порой даже и кормилицами в еврейских семьях.[600] Галеаццо Мария Сфорца, будучи во многих других отношениях настоящим чудовищем, к евреям относился с достойной похвалы терпимостью, в 1466 году освободил их от обязанности носить segno del O, а потом, в 1475 году, запретил духовенству нападать на евреев в своих проповедях.
Леонардо, по всей видимости, относился к евреям столь же либерально, как и его современники-миланцы. Знакомства с евреями он мог сводить, помимо прочего, при дворе Лодовико Сфорца, который поощрял занятия гебраистикой. В 1490 году он назначил ученого Бенедетто Испано главой новообразованной кафедры гебраистики. Еще один ученый-еврей, Саломоне Эбрео, получил от Лодовико приглашение поселиться в замке, где он занимался переводом древнееврейских рукописей на латынь.[601]
Один из специалистов по Леонардо утверждает, что у Иуды в «Тайной вечере» «выраженная семитская внешность».[602] Собственно говоря, семитскими чертами наделены несколько апостолов. Этнограф по имени Уильям Эдвардс, живший в XIX веке, даже использовал лица из «Тайной вечери» Леонардо в своих рассуждениях о чистоте и преемственности еврейских «национальных черт», – по его мнению, лица евреев девятнадцатого столетия совпадали «один в один» с лицами на картине Леонардо.[603] Эдвардс ошибочно полагал, что натурщиками Леонардо служили евреи, тогда как на деле нет полной уверенности даже в том, что с еврея написан Иуда. Один из немногих ключей к личности натурщика – история, рассказанная Джованни Баттистой Джиральди: тот повествует, что Леонардо якобы часто посещал миланский пригород под названием Боргетто, где зарисовывал лица мрачных маргинальных типов (евреи при этом не упомянуты). Боргетто («маленький пригород», от корня «борго») не следует путать с еврейским гетто – вроде того, которое несколькими десятилетиями раньше было создано в Венеции. В нашем случае речь идет о горстке домишек на северо-восточной оконечности Милана, вне городских стен. Отправившись в этот бедный район – по прямой до него от Корте дель Аренго было около полутора километров, – Леонардо совершенно не обязательно сумел бы отыскать там натурщика-еврея. Более того, если верить тому же Джиральди, Леонардо рассматривал в качестве модели как минимум одного христианина: настоятель монастыря Винченцо Банделло так допекал его требованиями поскорее закончить работу, что Леонардо посулил запечатлеть назойливого приора в образе Иуды.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Голова Иуды. Эскиз для «Тайной вечери». Сангина.
Теоретически Джиральди можно считать надежным источником, поскольку информацию он черпал от своего отца, а тот знал Леонардо лично и видел, как художник работает на лесах. С другой стороны, Джиральди был рассказчиком по призванию (из сборника его рассказов, опубликованного в 1565 году, Шекспир позаимствовал сюжеты для «Меры за меру» и «Отелло»). Соответственно, нельзя исключить, что он приукрашивал слова и поступки Леонардо, чтобы история получилась поинтереснее. Кстати, это наблюдение содержится в книге Джиральди, которая называется «Рассуждение о сочинении комедий и трагедий». История (которую повторяет и Вазари), возможно, не имеет отношения к действительности. Судя по всему, моделью для Иуды Леонардо послужил один из монахов: на выполненном сангиной наброске головы Иуды отчетливо видна тонзура – выбритая макушка, – характерная для доминиканцев. А значит, у Леонардо не было нужды бродить в поисках модели по миланским трущобам, – возможно, ему достаточно было обвести взглядом братию монастыря Санта-Мария делле Грацие.
На лице Иуды почти не сохранилось исходного красочного слоя. Об изначальном замысле Леонардо мы можем судить только по наброску сангиной. Судя по этому наброску, человек, который позировал для Иуды, отнюдь не был «семитской внешности», если не считать орлиного носа, впрочем, орлиный нос трудно отнести к исключительно семитским чертам. Нос у Иуды крупный, но это не тот гипертрофированный крюк, который, как правило, изображали художники, если им нужно было показать типичного или карикатурного еврея. Более того, в набросках Леонардо мы находим десятки лиц с орлиными носами – нельзя забывать, что это была одна из десяти выделенных им форм носа. В эпоху Возрождения в Италии орлиные носы отнюдь не считались гротескными: названные в честь орлиного клюва, они воспринимались как признак благородства.[604] У нескольких апостолов одинаковые римские носы, особенно отчетливо можно рассмотреть нос Симона, который показан в профиль на дальнем конце справа. Кстати, более чем вероятно, что Симон написан с той же модели, что и Иуда: носы и рты (впалые, с опущенными углами) у них почти идентичные. Примечательно и то, что на гравированном портрете Винченцо Банделло настоятель изображен не только с приличествующей клирику тонзурой, но и с орлиным носом.[605]
В любом случае Иуда у Леонардо – никакая не грубая карикатура на еврея. Его якобы злобное лицо – отчасти результат последовательных усилий нескольких реставраторов, которые сильно исказили его черты, отчасти – копиистов, которые стремились придать предателю полагающийся ему зловещий облик. Гёте отмечал, что лицо Иуды у Леонардо «вовсе не уродливо», однако некоторые копиисты, например Андреа Веспино, скопировавший роспись в натуральную величину между 1612 и 1616 годом, превратили его в «чудовище», черты которого свидетельствуют о «коварном и дерзком злорадстве».[606] Впрочем, эти замены делались отнюдь не для того, чтобы подчеркнуть семитский характер черт Иуды. С другой стороны, придание ему все более злодейского облика стало своего рода традицией итальянских «Тайных вечерей». Иуду часто изображали как единственного нехристианина за столом, представителя еврейства как такового, народа, который, согласно средневековым богословам, замучил и умертвил Христа. Хорошим примером служит «Причащение апостолов», написанное для братства Тела Христова в Урбино Йосом ван Гентом в 1474 году. На этой алтарной картине Иуда показан сжимающим мешок с деньгами, а на плечи ему накинуто еврейское молитвенное покрывало. В соответствии с североевропейской традицией (ван Гент был фламандцем), у Иуды рыжие волосы: рыжеволосых, как и левшей, считали людьми опасными, сомнительными.[607]
* * *
Многие обратили внимание на то, что на «Тайной вечере» Леонардо Иуда – единственный апостол, лицо которого затенено. Леонардо действительно подчеркивает контраст между лицом Иуды, находящимся в тени и повернутым в сторону от зрителя, с сияющими чертами Христа, осененными, словно нимбом, светом из окна. Но Иуда посрамлен еще и другим способом: Леонардо одел его в сиреневый хитон и синий плащ (рукава, на которые падает свет, кажутся зелеными). Леонардо много пользовался ультрамарином в этой работе, особенно изображая плащ Христа, на который краска положена густо и изобильно, но также и для одеяний Варфоломея, Петра, Матфея и Филиппа. Иуда тоже изображен в синем, однако, в отличие от Христа и других апостолов, он не заслужил ультрамарина, дорогого пигмента, которым, как мы уже знаем, художники пользовались только для самых почитаемых частей картины. Одеяние Иуды написано азуритом, стоимость которого была в тридцать раз меньше.[608]
И наконец, можно окончательно опровергнуть еще одну легенду про Иуду на картине Леонардо. Пользуясь словами Лоренцо Валлы, легенда эта – «лукавая подделка». Как представляется, распространил ее по Америке в первые десятилетия ХХ века пресвитерианский проповедник из Индианы по имени Д. Уилбур Чэпмен. Чэпмен, видимо, позаимствовал ее из первого из многочисленных упоминаний в печати – это были «Речи на церемонии вручения дипломов» Гарри Касселла Дэвиса, сборник «напутствий, поздравлений, речей, очерков, стихотворений, выступлений выпускников, тостов; включает также примеры тостов и обращений по поводу национальных праздников и прочих торжеств».
Герои этой легенды – Леонардо и юноша по имени Пьетро Бандинелли. Имя звучит вполне правдоподобно, однако не всплывает ни в одном из документов, связанных с Леонардо. Иногда его называют хористом, иногда – семинаристом; легенда гласит, что Леонардо выбрал его моделью для головы Христа. После этого он стал искать модель для Иуды. Найти ее не удавалось, пока много лет спустя, в минуту озарения, художник не обратил внимания на некоего нищего, озлобленное лицо которого представилось ему весьма подходящим. Оказалось, что этот омерзительный старик и есть Пьетро Бандинелли, а его прекрасные черты изуродованы – и тут мы доходим до морали нашей истории – годами житья в грехе.
Это типичный пример выдумки, каковые так и витают вокруг Леонардо. В ней полно явных ошибок, – например, она исходит из того, что Леонардо работал над картиной долгие годы, и пренебрегает тем фактом, что даже самое греховное существование не способно превратить черты Христа в черты Иуды. В некоторых вариантах место действия переносится из Милана в Рим и утверждается, что «Тайная вечеря» написана на холсте. Однако подобным историям совсем не обязательно прочное основание из подлинных фактов, и за последнее десятилетие ее пересказали, без всякого критического осмысления, как минимум в восьми книгах. Легенда о Пьетро Бандинелли продолжает гордо рассекать волны, и потопить ее так же непросто, как и столь же недостоверные россказни о золотом сечении и таинственном замещении святого Иоанна Марией Магдалиной.[609]
Глава 15 «Герцога никто не любит»
К середине 1497 года Леонардо трудился над «Тайной вечерей» уже несколько лет – более или менее интенсивно. Нет сомнений, что иногда он пренебрегал своими обязательствами, отвлекаясь на другие заказы и занятия. Он был поглощен математическими исследованиями и продолжал усердно работать над иллюстрациями к «Божественной пропорции» Луки Пачоли. Очевидец, проживавший в эти годы в Милане, отмечал впоследствии, что то время, которое «Леонардо должен был проводить за написанием картины… он полностью посвящал геометрии, архитектуре и анатомии».[610]
Прошло уже полтора года с тех пор, как Джованни да Монторфано закончил свое «Распятие» на противоположной стене трапезной, и Лодовико с нетерпением ждал, когда и Леонардо завершит работу. В конце июня он поручил своему секретарю «понудить флорентинца Леонардо завершить работу, которую он начал в трапезной Грацие». Лодовико хотел, чтобы Леонардо поскорее покончил с «Тайной вечерей», потому что надумал дать ему еще один заказ: Леонардо должен был «заняться другой стеной трапезной».[611]
То ли Монторфано оставил несколько нерасписанных фрагментов внутри своей фрески, то ли Лодовико хотел заново заштукатурить часть первого плана, чтобы включить в картину некоторые добавления: собственный портрет, портрет покойной герцогини и их двоих детей. На сей раз, наученный горьким опытом «Тайной вечери», Лодовико решил припереть капризного живописца к стене. Он упоминает некий договор на портреты, который Леонардо пока не подписал. Секретарю было поручено заставить Леонардо «подписать договор собственноручно», а также принудить художника «завершить работу в оговоренный срок».[612]
В алтарные картины и фрески часто включали портреты заказчиков, допуская при этом анахронизм: люди в современных одеждах преклоняли колени у подножия креста или даже, как на «Причащении апостолов» Йоса ван Гента, сидели бок о бок с Христом и апостолами за вечерей. На фреске Монторфано предполагалось изобразить Лодовико в профиль, в левой части композиции, коленопреклоненным рядом с мучеником-доминиканцем святым Петром Веронским, а рядом с ним – его сына Массимилиано. Беатриче и второй их сын, Франческо, должны были находиться справа, рядом со святой Екатериной Сиенской. Поскольку в начале года Беатриче скончалась, портрет ее был исполнен особой значимости; понятно, что Лодовико не терпелось увидеть его законченным.
Этим портретам предстояло стать лишь частью той дани, которую Лодовико отдал памяти покойной жены, – он, безусловно, обожал ее, несмотря на многочисленные связи на стороне. Он планировал открыть новые ворота в городской стене и назвать их Порта Беатриче; медальон с ее портретом должен был украсить двери церкви Санта-Мария делле Грацие. Внутри храма планировались другие памятные знаки: Кристофоро Солари готовил изваяние для ее надгробия, где она должна была мирно почивать на спине, со сложенными руками и закрытыми глазами, одетая в платье, которое было сшито по случаю рождения ее старшего сына. Ладони ее прикрывала шкурка куницы – примечательный знак, ибо зверек этот считается покровителем рожениц.
Беатриче в свое время ежедневно проводила долгие часы у гробницы Бьянки; теперь же Лодовико, окутанный черным плащом, подолгу скорбел в церкви об усопшей жене. «Он ежедневно навещает храм, где погребена его жена, – писал молодой венецианский политик, – и никогда не пренебрегает этим, и бо́льшую часть времени проводит с братией из монастыря». По сути, Лодовико посещал два-три богослужения в день. «Он очень набожен, – продолжает молодой венецианец, – ежедневно молится, соблюдает посты, жизнь ведет строгую и богобоязненную. Комнаты его по-прежнему затянуты черным, а пищу он вкушает только стоя».[613] Через две недели после смерти Беатриче Лодовико, в знак скорби, обрил голову.
Трудно сказать, насколько Леонардо продвинулся в работе над «Тайной вечерей» к лету 1497 года. Возможно, она уже была близка к завершению, хотя настоятельная записка Лодовико, в которой он велит своему секретарю понудить Леонардо «завершить начатую работу», вроде бы указывает на то, что Леонардо брался за дело лишь урывками и конца этому не предвиделось. Впрочем, в 1497 году, после «скандала» годом ранее, Леонардо взялся за работу всерьез. В январе Маттео Банделло, племянник настоятеля, наблюдал, как Леонардо постоянно трудится на лесах, пусть и в довольно странной манере: иногда он лихорадочно писал от восхода до заката, не делая перерывов на еду, иногда часами рассматривал роспись, не притрагиваясь к кисти.
Банделло сообщает нам и другие подробности о тогдашней деятельности Леонардо. Он утверждает, что в трапезной собирались зрители – посмотреть, как Леонардо работает, и высказать свое мнение; художник это приветствовал. Банделло не конкретизирует, о каких именно зрителях идет речь, лишь отмечает, что в начале 1497 года в их числе оказался француз Раймон Пероди, епископ Гуркский, который остановился в монастыре во время визита в Милан. Епископа, судя по всему, увиденное не впечатлило. Он счел, что две тысячи дукатов – слишком щедрое вознаграждение за такую работу. Возможно, было задето самолюбие Пероди, поскольку его годовой доход составлял всего три тысячи дукатов. Вне всякого сомнения, он считал себя, епископа и кардинала, фигурой куда более значительной, чем какой-то там размалевщик стен в трапезной.[614]
Банделло также сообщает, что одной из причин, по которой Леонардо иногда не являлся в трапезную, была продолжавшаяся работа над «огромным глиняным конем» в Корте дель Аренго. Возможно, Банделло путает факты, поскольку записывал свои воспоминания он много лет спустя. Однако не исключено и то, что по прошествии двух с лишним лет Леонардо все еще не хотел отказываться от своего блистательного проекта и мечтал о том, что памятник будет отлит в бронзе, а потому не бросал работу над конем, одновременно занимаясь «Тайной вечерей». Леонардо, конечно же, не оставил мыслей о статуе, из его записок следует, что между 1495 и 1497 годом он все еще делал пометки о том, как лучше ее отлить. От Лодовико он не дождался ни ободрения, ни денег.[615]
Кроме того, в 1497 году Леонардо отвлекался на другие заказы. Наконец-то его привлекли к архитектурной работе: перестройке виллы, принадлежавшей Мариоло де Гвискарди и расположенной неподалеку от Порта Верчеллина, совсем рядом с монастырем Санта-Мария делле Грацие. О самом Мариоло известно немного, только то, что он был мажордомом Лодовико и владел целой конюшней, причем одну из его лошадей Леонардо рассматривал в качестве модели для своей конной статуи. Вилла Мариоло стояла за городскими воротами, в районе, который недавно превратился в пригород, заселенный богатыми миланскими придворными. Галеаццо Сансеверино, тоже владевший большой конюшней, был одним из соседей Мариоло.
Леонардо получил точные указания касательно перестройки виллы – она должна быть удобной, но не слишком роскошной. Предполагалась гостиная тринадцать метров длиной и четыре спальни, в том числе, как прописал Мариоло, «для моей жены и ее фрейлин». При вилле должны были быть двор, караульная, а также столовая для прислуги десять метров в длину. Леонардо приступил к работе с большим рвением – делал многочисленные пометки, наброски, вычисления. Похоже, он продумал все: кухню, кладовую, судомойню, курятник, конюшню на шестнадцать лошадей, даже дровяник и помещение для хранения навоза. Во главу угла ставился комфорт. «Комната для прислуги за кухней, – помечал Леонардо на плане, – чтобы хозяин не слышал, как они шумят».[616]
Пока шла работа на вилле, Леонардо приходилось отвлекаться и на другие, куда менее приятные дела. Салаи, уже ставший подростком, продолжал испытывать его терпение, вопреки – а возможно, и благодаря – неизменной привязанности к нему Леонардо. В апреле 1497 года Леонардо приобрел молодому человеку дорогой плащ из серебристой материи, отороченный зеленым бархатом и украшенный позументом. Это одеяние стоило двадцать шесть лир – строительный рабочий зарабатывал столько за неделю. Проявив беспечность, он отдал деньги, которыми надлежало расплатиться за плащ, Салаи в руки. «Деньги Салаи украл», – пишет Леонардо с усталой покорностью судьбе.[617]
* * *
Раймон Пероди, чья епархия находилась на территории современной Австрии, прибыл в Милан с целью укрепить добрые отношения между Лодовико и Максимилианом. После провала похода на Пизу император распрощался с Лодовико в последние дни 1496 года и оставил Италию (как отмечал один венецианец) «в еще большем смятении, чем нашел, когда туда попал».[618] 1497 год стал свидетелем непрекращающихся смут и беспорядков. В Неаполе в возрасте двадцати семи лет скончался Фердинанд II, оставив свое королевство в положении «более шатком, чем когда-либо».[619] Во Флоренции Джироламо Савонарола зажег первый свой «костер тщеславия». Тридцатиметровая пирамида была сложена из флаконов с духами, париков, шляп, масок, кукол, шахматных фигур, игральных карт, музыкальных инструментов, книг, рукописей, картин и статуй. На верхушку поместили чучело Сатаны, сверкающую кучу осыпали порохом и подожгли. «Они уничтожали все с величайшим восторгом», – говорит один из очевидцев. После этого прозвучала песня, в которой Христос объявлялся королем Флоренции.[620]
Три месяца спустя, в мае, папа Александр VI отлучил Савонаролу от церкви за «распространение вредоносного учения, которое прельщает и будоражит простодушных».[621] А в июне сын папы Хуан Борджиа, герцог Гандийский, был убит в Риме – неизвестный перерезал ему горло и бросил тело в Тибр. Папа счел загадочную гибель сына наказанием Божьим, однако остался при убеждении, что к его смерти причастна не только рука Господа, но и рука брата Лодовико Сфорца, кардинала Асканио. Неприкаянный призрак Хуана скоро стали встречать на улицах Рима, а в октябре в Кастель Сант-Анджело попала молния, вызвав взрыв, после которого город засыпало осколками мрамора. «Правление папы Александра, – писал один венецианский летописец, – ознаменовалось множеством пугающих и зловещих событий». У папы было свое мнение о том, чем вызваны эти многочисленные беды. «Да простит Господь того, кто пригласил французов в Италию, – сказал он в разговоре с флорентийским посланником, – ибо в этом истоки всех наших бед».[622]
Один венецианец, завистливо оценивавший успехи Лодовико Сфорца в конце 1496 года, пришел к утешительному заключению: «Полагаю, что благоденствие его долго не продлится, Господь справедлив и покарает его, ибо он предатель и никогда не держит своего слова».[623] Лодовико действительно, похоже, получал по заслугам. Две утраты, жены и дочери, стали для него тяжелым ударом. Кроме того, колоссальные расходы: приданое, выданное Максимилиану, деньги, направленные в Пизу, расходы на строительство храмов и украшение Милана и Виджевано, не говоря уж о бесконечных пиршествах и прочих праздниках, – заставляли его постоянно повышать налоги. Был введен налог, который назывался inquinito, – он увеличил на двадцать процентов сборы на такие продукты, как мясо, вино и хлеб. Еще до конца года в Кремоне, Лоди и Павии вспыхнули беспорядки. «Во всем Миланском герцогстве смуты и недовольства, – писал один венецианец. – Герцога никто не любит».[624]
Угроза маячила и за пределами владений Лодовико. Французы готовы были снова ринуться в Италию – Карл VIII, как отметил один из его послов, лелеял «великие надежды отмстить герцогу Миланскому».[625] Судя по всему, орудием наказания герцога должен был стать Людовик Орлеанский, который в 1496 году собрал в Асти многотысячное войско, готовясь к вторжению в Ломбардию, чтобы подтвердить свои притязания на корону Миланского герцогства. Против Лодовико собирались выступить и другие правители, не только французы. Помощь Людовику обещали оказать Флоренция, Болонья, герцог Мантуи и даже – такова была безжалостная правда итальянской политики – тесть Лодовико Эрколе д’Эсте, герцог Феррарский. Венецианцы тоже не возражали примкнуть к французам в походе против Лодовико, дабы наказать его за предательство.
Однако ни в 1496-м, ни в 1497-м вторжение не состоялось. Несмотря на призывы со стороны итальянских союзников, Людовик продолжал колебаться. Он выжидал, и, возможно, это было мудро. После кончины дофина в конце 1495 года он стал наследником французского престола, а Карл, продолжавший вести рассеянный и распутный образ жизни, был далеко не в добром здравии. Несмотря на потери в Неаполе – ему пришлось отказаться от всех земель, завоеванных в 1495 году, – король Франции не предпринимал никаких решительных мер по возвращению своих утраченных владений. Он размышлял над «многочисленными ошибками», которые допустил по ходу Итальянской кампании, и между делом планировал новую, решив на сей раз действовать наверняка.[626] Впрочем, бо́льшую часть времени он все равно отдавал развлечениям – празднествам и турнирам. Кроме того, он подолгу гостил в Туре, якобы ради поклонения гробнице святого Мартина, а на деле, как отмечали циничные наблюдатели, ради поклонения одной даме из свиты королевы.
В середине дня 7 апреля 1498 года, в Вербное воскресенье, король Карл взял свою королеву за руку и отвел в часть замка в Амбуазе, которой она еще никогда не видела, в галерею Акельбак. Оттуда пара должна была наблюдать за игрой в теннис, или jeu de paume. Теннис уже убил одного из дальних предков короля, Людовика Х, который в 1316 году скончался в возрасте двадцати шести лет, крепко приложившись к охлажденному вину в прохладном гроте после яростного поединка в теннис на страшной жаре. В случае Карла винить нужно не вино, а архитектуру. После возвращения из Италии он, под впечатлением от тамошних архитектурных изысков, затеял перестройку замка в Амбуазе, превратив его, как выразился один восхищенный придворный, «в самое величественное и великолепное строение, какое имелось у кого-либо из королевских особ за последние сто лет».[627]
Увы, королевские архитекторы еще не приступили к работам в галерее Акельбак, которая была «самым скверным помещением во всем замке».[628] И вот, пробираясь в полуразрушенную галерею, Карл, хотя и был совсем низкорослым, по иронии судьбы ударился головой о потолочную балку. Он все же посмотрел часть поединка, беспечно беседуя с собравшимися, но потом внезапно упал и потерял сознание. Его уложили тут же, в галерее, на наспех сооруженную кровать, и девять часов спустя он скончался. Ему было двадцать семь лет. Один из его придворных скорбел по поводу столь неподобающей кончины: «Так и окончил свои дни великий и могучий монарх, в убогом и грязном закоулке».[629]
Людовик Орлеанский был коронован на французский престол 28 мая 1498 года в Реймсе. Теперь его именовали Людовиком XII, однако он тут же добавил к списку своих титулов еще один: герцог Миланский.
* * *
Претензии Лодовико Сфорца заставили Леонардо сосредоточиться. За две недели до смерти Карла VIII канцлер герцога уведомил своего патрона в письме, что работы в трапезной подвигаются «без промедлений».[630] Возможно, герцог справлялся о портретах – своем, жены и детей, которые были включены в «Распятие» Монторфано, потому что весной 1498 года Леонардо уже закончил «Тайную вечерю». У нас нет точных данных касательно того, когда именно он отложил в сторону кисти и разобрал леса. Однако, по всей видимости, это произошло между июнем 1497 года, когда Лодовико в нетерпении написал гневное письмо, и февралем следующего года. 9 февраля 1498 года Лука Пачоли сочинил и датировал посвящение к своему трактату «О божественной пропорции», три иллюминированные рукописи которой будут закончены в конце года. Из посвящения Пачоли следует, что работа над росписью в трапезной доминиканского монастыря завершена. Он превозносит картину как «творение скорее божественное, нежели человеческое» – трудно представить себе более лестный первый отзыв критики.[631]
Возможно, Леонардо завершил работу уже летом 1497 года. Известно, что в августе он получил от Лодовико щедрый дар: участок земли с виноградником рядом с Порта Верчеллина. Не исключено, что земля была выдана ему в счет оплаты, а может, в качестве дополнительного вознаграждения за роспись трапезной. Участок находился недалеко, всего в нескольких метрах – к юго-востоку от церкви Санта-Мария делле Грацие и к югу от сегодняшней Корсо Маджента. Этот дар, благодаря которому Леонардо стал соседом братьев-доминиканцев, – самое веское доказательство того, что работа над «Тайной вечерей» была завершена. Сам факт, что Лодовико расплатился с живописцем землей, а не деньгами, красноречиво свидетельствует о состоянии герцогской казны. Впрочем, он также является доказательством признательности: дополнительное вознаграждение за работу, исполненную на совесть.[632]
Участок земли, некогда принадлежавший одному из монастырей, был примерно двести двадцать метров в длину и пятьдесят пять в ширину. Поблизости находились развалины храма Марса, римский театр, давно превращенный в церковь, и порфировая гробница римского императора Валентиниана II. Леонардо явно радовался своим новым владениям, дотошно промерил их, рассчитал стоимость. В итоге получилось одна тысяча девятьсот тридцать один дукат с четвертью; если к этому прибавить две тысячи дукатов, упомянутые Банделло, общее его вознаграждение, исчисляя в современных деньгах, равнялось примерно семистам тысячам долларов.
Хотя на участке имелся небольшой домик, Леонардо, видимо, мечтал о том, чтобы построить более внушительное здание. Расположение участка было крайне выгодным, неподалеку от владений видных представителей знати, таких как Галеаццо Сансеверино и Мариоло де Гвискарди. Леонардо наконец-то обзавелся собственной землей, и этот знак высокого статуса, крошечный участок земли в окружении поместий миланской политической элиты, он сохранил до конца жизни. В завещании он опишет его как «свой сад, который находится за стенами Милана», и разделит между Салаи (который в итоге выстроит там себе дом) и другим преданным слугой. Леонардо явно рассматривал сад как одну из величайших ценностей, какие мог передать в наследство.[633]
* * *
Как воспринял «Тайную вечерю» Лодовико Сфорца, источники умалчивают. Однако, когда леса сняли, он, равно как и долготерпеливый Винченцо Банделло с его братией, наконец-то получил возможность беспрепятственно разглядывать творение Леонардо.
Войдя в трапезную через небольшую дверь справа от росписи, они, видимо, прежде всего увидели, что с помощью цвета, света и перспективы Леонардо волшебным образом оживил изображенную сцену. Один из посетителей, который вошел в ту же дверь несколькими годами позже, отметил, что внимание его «сосредоточилось на одном хлебе, лежащем на одной линии с левой рукой Христа, раскрытой так, будто Он предлагал этот хлеб входящему».[634] Рука Христа, протянутая в приветствии (и одновременно указующая на хлеб причастия), – вот что видели все зрители в первый момент, когда попадали в помещение. Этот жест не только подчеркивал, что перед нами священное таинство, он еще и затягивал зрителей внутрь изображенной иллюзии.
Иллюзия того, что Иисус с апостолами присутствуют в трапезной, сохранялась, и когда монахи рассаживались за столы. Гёте вообразил себе эту сцену: «Должно быть, сильное было впечатление, когда в часы трапезы сидящие за столом настоятеля и сидящие за столом Христа встречались взглядами друг с другом, словно в зеркале, а монахам за их столами казалось, что они находятся между этими двумя содружествами».[635] Иллюзия, видимо, была еще правдоподобнее, если, как подозревал Гёте, написанная Леонардо скатерть с ее тугими складками и сложным синим узором была скопирована с одной из тех льняных скатертей, которые хранили в монастырском бельевом шкафу. Более того, монахи, как и апостолы, все сидели по одну сторону длинных столов.
Посетителей наверняка удивляла и еще одна вещь – яркость росписи, сияние красок, ставшее возможным потому, что Леонардо отказался от фресковой техники в пользу «масляной темперы». Одеяния апостолов были калейдоскопом красного, зеленого, желтого и ультрамарина, причем яркость их подчеркивалась тщательно проработанной игрой контрастов. Как мы уже видели, Леонардо было известно, что интенсивность основного цвета повышается, если поместить его рядом с дополнительным. Именно поэтому зеленый плащ Варфоломея подчеркнут глубоким красным плаща Иакова Младшего, синее одеяние Матфея – желтым всплеском одежд Фаддея, а оранжевое покрывало Филиппа – синевой его рукавов. Более того, цвета всех одежд тщательно синкопированы по линии стола, создавая узор из чередующихся оттенков, который заставляет глаз скользить по чересполосице наступающих и отступающих темных и светлых пятен, подчеркивая тем самым жестикуляцию апостолов.
Трапезная церкви Санта-Мария делле Грацие. 1900-е. Издание Броджи.
Один из самых удивительных колористических эффектов связан с одеждой Иуды. Леонардо всегда занимало то, что можно сделать с цветом при помощи света и тени. Он писал, что тень влияет на тон и «истинная суть» цвета выявляется только на свету.[636] На нынешней, поврежденной росписи одеяние Иуды кажется двуцветным: правая рука – в синем, левая – в зеленом. Однако изначальное впечатление проще всего воссоздать по точной копии, которую около 1520 года выполнил ученик Леонардо Джампетрино (возможно, работавший рядом с учителем на лесах). Джампетрино показывает, что в тени хитон Иуды – синий, но он кажется зеленым на левой руке Иуды, протянутой за хлебом, – там, где свет из окна падает на материю, освещая ее. То же самое происходит с левой рукой Христа, указующей на хлеб. Опять же, утрата красочного слоя не позволяет оценить оригинал, однако Джампетрино показывает, что предплечье и правое плечо Христа затемнены, а ладонь и запястье, вытянутые вперед, освещены, – тем самым подчеркнуты его слова («Сие есть тело Мое»), а также объясняется, почему посетителям казалось, что рука тянется за пределы росписи, словно приглашая в трапезную.
Эта тончайшая, изумительная игра света стала одной из самых прискорбных утрат при разрушении росписи. На копии Джампетрино видно, что Леонардо сумел сделать сцену частью трапезной, добившись того, что свет на картине, исходящий из невидимого источника слева, соотносится со светом, падающим из реальных окон напротив входа. Эта игра света и тени продолжена и на полу, где ножки стола (написанные Джампетрино) бросают наклонные тени слева направо. Иллюзию усиливают три окна в глубоких нишах, написанные на заднем плане картины, создается впечатление, что северная стена трапезной пробита насквозь. Вид, открывающийся через эти окна, – лучезарная даль и холмы за ней – типичный итальянский пейзаж, а церкви с квадратными колокольнями и островерхими крышами, подобные той, что виднеется за спиной Иисуса, часто встречаются в ломбардской сельской местности вокруг Милана.
Однако иллюзия имеет свои границы. Между картиной и пространством трапезной существует ряд нестыковок. Прежде всего, фигуры у Леонардо написаны больше, чем в натуральную величину, апостолы вполовину выше монахов, а Христос крупнее всех. Кроме того, реальные и воображаемые сотрапезники не находятся на одном уровне: роспись Леонардо начинается примерно в двух метрах от пола, то есть Христос и апостолы подняты над головами сидящих монахов.
Леонардо включил в картину и другие тонкие визуальные хитрости. Притом что он был мастером перспективы, он не стал делать то, чего от него ждали, а именно не сделал архитектурное пространство картины естественным продолжением реального пространства трапезной. К тому времени художники уже научились предлагать зрителям убедительные трехмерные иллюзии, на которых изображенное на фреске пространство представало как бы продолжением помещения или свода. Одним из лучших примеров такого фокуса служит хор в церкви Санта-Мария прессо Сан-Сатиро в Милане, построенной Браманте в 1480-е годы, – туда поместили чудотворный образ Святой Девы. За церковью находилась проезжая дорога, и построить полномасштабный хор не представлялось возможным; поэтому Браманте расписал (плоскую) заднюю стену, придав ей видимость полукруглого хора с кессонированным потолком, – это один из первых и самых убедительных образцов эффекта trompe l’oeil в истории искусства.
Эту технику смешения реальности с иллюзией будут успешно использовать еще два века. Зачастую художники подсказывали, с какой именно точки их иллюзия становится наиболее убедительной. Вот один знаменитый пример: живописную архитектурную композицию Андреа Поццо на потолке церкви Сант-Игнацио в Риме, с ее амурами, ангелами и возлежащими на облаках святыми, лучше всего рассматривать с середины центрального нефа, с точки, которая для пущей внятности помечена диском из желтого мрамора.
Впрочем, монахам, трапезничавшим «в обществе» Христа и апостолов, не предоставили такой идеальной точки.[637] Взаимоотношения между картиной и реальным пространством неоднозначны – боковые стены помещения не протягиваются (как следовало бы ожидать) в завешанное шпалерами помещение Леонардо. Если встать левее или правее центра, одна из боковых стен трапезной более или менее совмещается со стеной на картине, однако стык между трапезной и росписью с другой стороны при этом смещается. Ученые только недавно установили, что идеальная точка (та, где перспектива выправляется и иллюзия делается безупречной) находится примерно в десяти метрах от росписи и примерно в пяти метрах над полом, – куда, понятно, монахам было не забраться.
Леонардо довольно много писал о том, как можно контролировать и оптимизировать восприятие живописного произведения зрителем. Он понял, что проблема с линейной перспективой заключалась в следующем: при ее использовании картина хорошо смотрелась с одной-единственной точки в помещении, а со всех других начинались искажения. «Поскольку плоскость, на которой ты пишешь, будут рассматривать несколько человек, – помечает он, – возникнет несколько точек зрения, с которых изображение будет выглядеть неблаговидным и неверным». Иными словами, то, что одному монаху будет казаться идеальным, другому, сидящему поблизости, представится искаженным. Дабы сгладить это несоответствие, Леонардо советовал художникам делать так, чтобы идеальная точка зрения находилась как можно дальше от стены, «на расстоянии, как минимум в десять раз превышающем размер предметов». В другом месте он советует увеличивать расстояние до двадцати размеров предметов в высоту и в ширину, ибо с такого расстояния можно избежать «всяких неверных соотношений и несоответствий в пропорциях», а также «удовлетворить любого зрителя, стоящего в любом месте напротив картины».[638]
В собственной работе Леонардо не воспользовался тем, о чем писал в своем трактате. Идеальную точку зрения он поместил не подальше от расписанной стены, но поднял на невозможную высоту, а потом затушевал несоответствия с помощью хитроумных приемов. В итоге нет такого места, где, стоя на полу, можно было бы увидеть безупречную перспективу, однако благодаря оптическим уловкам нет и такого, откуда она предстает сильно искаженной.
Мартин Кемп продемонстрировал, что за внешним реализмом картины скрывается то, что он назвал «серией зрительных парадоксов».[639] Например, шпалеры на стенах – неодинакового размера: чем дальше они висят в комнате, тем они шире. Кроме того, они не изображены в перспективе: цветы написаны на стене плоско, без сокращения по диагонали. Кессонированный потолок не сходится с горизонтальным карнизом под углом в девяносто градусов; он несколько приподнят, видимо, чтобы дойти до уровня центрального люнета. Четко не обозначено пространство стола. Он кажется широковат для такой комнаты и одновременно – маловат для сгрудившихся вокруг него фигур: непонятно, на чем сидели, прежде чем встать, Петр и Фома. И наконец, как мы уже видели, Леонардо использовал не прямую, а обратную перспективу, сделав фигуру Христа значительно крупнее других апостолов. По сравнению с сидящим рядом с Ним Иоанном Он просто великан; кроме того, Он одной высоты с Варфоломеем и Филиппом, хотя Он сидит, а они стоят.
Не то чтобы это был зрительный парадокс в духе Эшера, однако остроглазый зритель обнаружит в картине много фокусов, но таких хитроумных, что их почти никто не замечает.
* * *
У Лодовико Сфорца были для Леонардо и новые задачи. Пока враги Моро собирали силы, еще оставалось время дать придворному инженеру несколько заказов. Весной 1498 года Леонардо отправили осмотреть разрушенные оборонительные сооружения генуэзской гавани – бывшего французского владения, которое последние два десятилетия находилось под миланским правлением. Вот уже месяц, как мол был поврежден во время шторма, и герцог хотел отремонтировать его до того, как французы, которые год назад уже попытались вернуть себе Геную, нападут с моря. Примерно в это же время Леонардо изучал процесс пробивания стен снарядами.[640] Когда на границах Миланского герцогства забряцало оружие, воскресли и мечты Леонардо конструировать пушки, катапульты и гигантские арбалеты.
Но если Леонардо питал надежду, что его талант и изобретательность будут использованы для защиты государства, его ждало очередное разочарование: некоторое время спустя он вернулся к интерьерным работам. Он вписал портреты Лодовико и его покойной жены в «Распятие» Монторфано, а после этого закончил отделку одного из покоев замка, известного как Сала делле Ассе (комната с деревянными панелями). Кроме того, он собирался возобновить работу, к которой, по всей видимости, приступил в конце 1495 года, в Салетта Негра (черной комнатке) – одном из личных покоев герцога внутри Понтичелла, крытого моста через ров.
От выполненной Леонардо отделки черной комнатки не сохранилось ничего, однако само название предполагало, что декор должен был быть в темных тонах. Один очевидец, посетивший Милан годом ранее, после смерти герцогини, отметил, что Лодовико задрапировал все стены замка черным; видимо, траурные обряды проходили и в Понтичелле, покоях, куда Лодовико имел обыкновение удаляться с Беатриче в часы досуга, свободные от придворных обязанностей.
Еще один интерьер Леонардо, выполненный по заказу герцога, Сала делле Ассе – помещение в северо-восточной башне замка, был куда более красочным, но, разумеется, тоже в траурных тонах. Леонардо и его помощники создали великолепный живописный лес. Шестнадцать деревьев (по всей видимости, шелковиц) раскинули по стенам сложный узор переплетенных ветвей, над окнами и дверями перетекая густой кроной на своды. Живописные вставки на своде служили прославлению недавних достижений Лодовико, например инвеституры титула герцога Миланского, политически выгодного брака его племянницы Бьянки, путешествия с Беатриче в Германию ради закрепления союза с Максимилианом. В узор вплетен – он струится и вьется повсюду – золотой позумент.
Эти роскошные узоры, в особенности золотой позумент, постоянно напоминали о покойной герцогине. Беатриче и сама изготавливала узлы из позумента, которые были модным украшением одежд в 1490-е годы, – это видно на «Прекрасной принцессе» Леонардо. Их называли fantasie dei vinci – отсылка к выражению dolci vinci, нежные узы любви, из Песни XIV Дантова «Рая». Золотой позумент вьется среди ветвей шелковицы и, возможно, служит аллюзией на узы любви, которые связывали Беатриче и Лодовико.[641]
У Леонардо не было необходимости лично расписывать Сала делле Ассе, – по всей видимости, бо́льшую часть работы он перепоручил подмастерьям. Однако изумительный дизайн, вне всякого сомнения, принадлежит ему. Как и Беатриче, он любил узлы; более того, у итальянского слова vinci есть значение «узел». Леонардо они привлекали не меньше, чем локоны и правильные многогранники. Составляя вскоре после прибытия в Милан опись своих рисунков и прочих произведений, он включил в него «множество замыслов узлов» и «голову девушки с волосами, собранными в узел».[642] На портрете Чечилии Галлерани, известном как «Дама с горностаем», платье по горлу отделано узлами, а у «Прекрасной Ферроньеры» узлами украшены рукава и в узел собраны волосы. Не исключено, что мода на узлы в волосах и на одежде, захлестнувшая Милан в 1490-е годы, чем-то была обязана вкусу и фантазии Леонардо. В одной из заметок, где речь идет о его работе в качестве «модельера», описано, как сшить «красивое платье», скроенное из тонкой материи и украшенное «узором из узлов».[643]
Не исключено, что Лодовико планировал сделать Леонардо еще один крупный заказ. В 1497 году, как мы уже видели, он пожелал, чтобы художник «занялся другой стеной трапезной». Обычно фразу эту трактуют в том смысле, что Леонардо хотели поручить добавить портреты правящего семейства к «Распятию» Монторфано. Заказ этот был выполнен – возможно, самим Леонардо – в 1497 или 1498 году. Впрочем, портреты дошли до нас в таком плачевном состоянии (вся краска осыпалась), что установить, насколько велик был вклад Леонардо, совершенно невозможно. Один исследователь выдвинул альтернативную, весьма занимательную теорию: мол, Лодовико хотел, чтобы Леонардо вовсе соскоблил фреску Монторфано, которая рядом с «Тайной вечерей» выглядела довольно бледно, и заново расписал южную стену трапезной.[644] Если это правда, то в свете этой возможности дальнейшие события приобретают еще более трагическую окраску.
* * *
Лодовико ждал скорый и страшный конец. В начале 1499 года французы и венецианцы подписали в Блуа договор, по которому намеревались, отстранив Лодовико от власти, поделить герцогство пополам. Венецианцы немедленно выдвинули двенадцатитысячное войско к восточным границам Милана.
Две эти враждебные силы пригласили папу присоединиться к коалиции против Сфорца. Александр поначалу отклонял их предложения, призывая Людовика XII воздержаться от нападения на Милан. Однако Александр и Людовик скоро нашли общий язык, а поводом стали два брака. Людовик хотел получить у папы разрешение на развод со своей женой Жанной, чрезвычайно набожной женщиной, чье богатое приданое когда-то заставило его закрыть глаза на ее телесное уродство («Поверить не могу, что она такая уродина!» – воскликнул ее собственный отец, король Людовик XI, впервые увидев дочь в одиннадцатилетнем возрасте).[645] Людовик XII возжелал взять себе новую супругу, собственную племянницу и вдову Карла VIII, Анну Бретонскую, которая принесла бы ему в приданое герцогство Бретань (а также, как он надеялся, подарила бы наследника: брак с Жанной был бездетным).
Папа же, в свою очередь, надеялся устроить политически выгодный брак для своего сына Чезаре. Замаячившая возможность женить Чезаре на французской принцессе (Людовик предложил ему двух на выбор) и тем самым обеспечить ему собственное герцогство заставила папу пересмотреть взгляды и на развод короля, и на противоборство Франции и Милана. «Папа стал почти французом с тех пор, как Всехристианнейший Король предложил герцогство его сыну», – мрачно докладывал брату Асканио Сфорца.[646] Асканио заявил папе протест: отъезд Чезаре во Францию будет означать конец Италии; папа напомнил ему, что именно Моро первым пригласил в Италию французов. Асканио вскоре счел благоразумным потихоньку выбраться из Рима и вернуться в Милан. Лодовико тем временем составил завещание, где говорилось, что он желал бы быть похоронен в церкви Санта-Мария делле Грацие, рядом с Беатриче.
Друзей у Лодовико в Италии почти не осталось. Дошло до того, что даже многие его подданные, обремененные налогами, втайне поддерживали французское вторжение: один летописец извещает, что «большинство миланцев желают прихода короля».[647] Рассчитывать на помощь Максимилиана Лодовико тоже не приходилось. Император был занят войной со швейцарцами, и у него не было ни малейшего желания снова отправляться в Италию, ставшую свидетельницей его жестокого позора. Лодовико уже не раз, не задумываясь, зазывал в Италию, ради спасения собственной шкуры, ее злейших врагов, и на сей раз он обратился к султану Османской империи Баязиду II. В июле поползли слухи, что, несмотря на плачевное состояние его казны, он отправил «Большому турку» двести тысяч дукатов – в обмен на помощь в борьбе с венецианцами. «Турки войдут в Венецию, – цитирует его слова один дипломат, – как только французы войдут в Милан».[648]
Летом 1499 года турки действительно начали совершать набеги на территорию Венеции – жгли деревни, угоняли в плен тысячи человек; однажды они появились всего в тридцати километрах от Венецианской лагуны. Однако, несмотря на вмешательство Баязида, для Лодовико все было кончено. В начале августа в Асти собралась французская армия численностью около тридцати тысяч человек, под командованием Тривульцио. Тринадцатого они перешли в наступление, принялись занимать одну крепость за другой и (повторив «ужас Мордано») полностью перерезали гарнизон в Анноне. На другом конце герцогства венецианская армия пересекла границу с песней «Ora il Moro fa la danza» («Вот теперь-то Мавр попляшет!»). В герцогстве воцарились хаос и паника. Начались нападения на дома соратников Сфорца. Дворец и конюшни Галеаццо Сансеверино были разграблены, а казначея Лодовико толпа забила на улице до смерти. Миланский летописец описывает разрушение другого дома по соседству, «недавно построенного, еще не законченного», принадлежавшего Мариоло де Гвискарди, мажордому Лодовико.[649] Судя по всему, единственное произведение Леонардо-зодчего обратилось в пепел, даже не будучи завершенным.
Напор беснующейся толпы и французской стали Лодовико было не сдержать. 2 сентября, мучась подагрой и астмой, он, вместе с Сансеверино, бежал из города в сопровождении вооруженной охраны и направился на север в надежде укрыться в Германии. Однако, прежде чем тронуться в путь, он сел верхом на черного скакуна, завернулся в черный плащ и отправился преклонить колени у могилы жены.
Одного венецианца, который вел дневник, потрясло внезапное низвержение герцога. «Вообрази себе, читатель, – писал он, – какое горе и позор испытывал столь славный муж, которого считали мудрейшим из монархов и величайшим из правителей, когда за несколько дней утратил столь великолепное государство, причем даже не вытянув меч из ножен».[650]
* * *
Как и венецианский летописец, Леонардо был потрясен падением герцога. Помимо прочего, он испытывал гнев. Его наблюдение, нацарапанное на обороте обложки одной из записных книжек, звучит горько: «Герцог потерял власть, имущество, свободу, и ничего из предпринятого им не завершено до конца».[651] Суждение резкое, однако резкость Леонардо легко можно понять. Возможно, он стал очевидцем разрушения виллы, которую строил для Мариоло де Гвискарди, а кроме того, еще более дорогое ему начинание – отливка конного монумента – окончательно кануло в Лету с приходом французов.
Судя по всему, в недели, предшествовавшие низложению Моро, Леонардо вел обычный образ жизни и с обычным рвением занимался в Корте дель Аренго научными исследованиями. «1 августа 1499 года, – гласит одна из его заметок, – писал здесь о движении и весе».[652] Кроме того, он возобновил работу над конной статуей, так как, судя по другой заметке, относящейся к этому периоду, он продолжал проводить опыты, связанные с будущей отливкой гигантского коня. Рядом с рисунком, изображающим скульптуру в отливной форме (возможно, это Франческо Сфорца), написано: «Закончив и дав ей просохнуть, положи в форму».[653] Не исключено, что Леонардо подумывал устроить на части своего нового земельного надела, рядом с доминиканским монастырем, литейную мастерскую, где можно было бы отлить коня и всадника. Возможно, в какой-то момент в 1498 или 1499 году он переправил гигантскую глиняную модель из Корте дель Аренго на виноградник – напрямик расстояние между ними составляет чуть более полутора километров.
Скорее всего, глиняная модель находилась на винограднике, когда 9 сентября, через неделю после бегства Лодовико из Милана, в город вошел французский авангард – через Порта Верчеллина, находившиеся неподалеку от монастыря Санта-Мария делле Грацие. Много лет спустя, в 1554 году, рыцарь-госпитальер по имени Сабба да Кастильоне описал последовавшие события. Кастильоне родился в Милане около 1480 года и, возможно, находился в городе в момент его захвата. Даже по прошествии пятидесяти лет он не мог вспоминать об этих событиях без «горя и негодования». Модель конной статуи, сетует Кастильоне, была «бессовестно разбита» – гасконцы-арбалетчики использовали ее в качестве мишени.[654] Хотя Кастильоне не уточняет, где именно в тот момент находилась модель, скорее всего, на винограднике рядом с Порта Верчеллина, – там арбалетчикам было проще всего до нее добраться.
Мастерская Жана Перреаля (ок. 1455–1530). Портрет Людовика XII Французского. Ок. 1490. Дерево, масло.
Были у Леонардо основания переживать и за свою работу в Санта-Марии делле Грацие. Одна из причин, почему арбалетчики выбрали конную статую в качестве мишени, заключалась в том, что она, понятное дело, была символом правления Сфорца. Лодовико в свое время хотел, чтобы «Тайная вечеря», как и бронзовый конь, прославляла имя Сфорца. Фамильные гербы и портреты видных придворных вызывали однозначные и опасные ассоциации со свергнутым герцогом. Существовала также опасность – она всегда возникает, когда приходят французы, – что роспись погибнет при грабеже. Когда французы оккупировали Флоренцию в 1494 году и Неаполь в 1495-м, мародерство достигло неслыханных масштабов. Пять лет спустя повторилась та же история. Из Павии были похищены двадцать семь портретов членов семей Висконти и Сфорца. В Милане из замка тащили драгоценности и мрамор, а Тривульцио присвоил принадлежавшие Лодовико шпалеры. Дома сподвижников Лодовико, стоявшие за Порта Верчеллина, – то есть новых соседей Леонардо – были заняты французами. Захватчики ворвались в замок – кастелян-предатель сдал его в обмен на денежное вознаграждение. «В замке не осталось ничего, кроме грязи и запустения, синьор Лодовико никогда в жизни бы такого не позволил! – восклицает один венецианец, видевший все своими глазами. – Офицеры-французы плюют на пол в покоях, а солдаты бесчестят на улицах женщин».[655] В Сала делле Ассе одна из четырех таблет, прославлявших достижения Лодовико, была изуродована до неузнаваемости.
После прибытия в Милан Людовика XII «Тайная вечеря» Леонардо едва избежала той же участи. Триумфальный въезд монарха в город – он был облачен в герцогские одежды – состоялся 6 октября. Людовика сопровождал Чезаре Борджиа, в пурпурном одеянии; он шествовал под отороченным горностаевым мехом паланкином, который несли восемь миланских аристократов. Последовали многочисленные празднества – триумфальная колесница, изображавшая Победу, поддерживаемую Доблестью, Покаянием и Славой, проследовала под триумфальной аркой, увенчанной конной статуей французского короля. Населению раздавали монеты, на которых было вычеканено: «Людовик, король Французский и герцог Миланский».
На следующий день нового герцога Миланского отвели в трапезную церкви Санта-Мария делле Грацие – посмотреть на стенную роспись, выполненную по заказу его предшественника. По всей видимости, слава о картине уже успела разнестись повсюду. Людовик не интересовался живописью, за исключением тех картин, на которых был изображен сам, предпочтительно верхом. Тем не менее произведение Леонардо произвело на него должное впечатление. Он даже воспылал надеждой увезти роспись домой в качестве трофея, что было демонстрацией величайшего восхищения, доступного французу. По словам Паоло Джовио, король «был ею столь очарован, что с живостью поинтересовался у стоявших рядом, возможно ли отделить ее от стены и переправить во Францию». От своего намерения он отказался только тогда, когда его заверили, что, если отделить роспись, «будет разрушена знаменитая трапезная».[656]
Вазари дополняет этот рассказ: он утверждает, что король даже приказал соорудить деревянные брусья и железные связи, чтобы с их помощью доставить работу Леонардо во Францию. При этом, по словам Вазари, Людовик «готов был потратить на это любые средства».[657] То, что Людовику не удалось осуществить свое намерение, стало одной из немногочисленных побед миланцев.
* * *
После бегства Лодовико Сфорца из Милана Леонардо остался без покровителя, под крылом у которого прожил шестнадцать лет. Его резкое суждение о герцоге – что «ничего из предпринятого им не завершено до конца» – показывает, как тяжело ему было смириться с мыслью о многочисленных упущенных возможностях, в том числе и лично для него. При этом, даже если Моро явно недооценивал своего художника и инженера, используя его таланты не по назначению, – Леонардо выступал в роли театрального постановщика, декоратора и вообще придворного на побегушках, – Лодовико, по крайней мере, обеспечивал ему простор для творчества и финансовую поддержку. Почти два десятилетия Леонардо мог невозбранно идти по своему извилистому научному пути, на котором встречались аэродинамика, анатомия, архитектура, математика и механика.
С уходом со сцены Лодовико перед Леонардо встала необходимость искать нового покровителя. Он даже был готов предложить свои услуги врагу, а потому, несмотря на беспорядки, оставался в Милане. У нас нет документальных свидетельств о том, присутствовал ли Леонардо при посещении Людовиком трапезной, украшенной его росписью, однако король наверняка пожелал лично встретиться с художником, чьим произведением так восхищался. Леонардо, со своей стороны, возможно, не отказался бы пойти по стопам скульптора Гвидо Мадзони: в 1495 году в Неаполе Карл VIII был так впечатлен его произведениями, что предложил ему хорошо оплачиваемую должность при французском дворе.
Леонардо, впрочем, сумел найти как минимум одного покровителя. В какой-то момент услугами его воспользовался влиятельный секретарь Людовика XII Флоримон Роберте – в его замке на Луаре, выстроенном в итальянском стиле, в скором времени обосновалась одна из лучших частных художественных коллекций XVI века, куда вошел бронзовый «Давид» Микеланджело (ныне утраченный). Роберте заказал Леонардо картину, которая теперь известна как «Мадонна с веретеном», – небольшое изображение Богоматери с Младенцем, на котором представлена (как пишет человек, лично видевший эту работу позднее) «Мадонна, сидящая так, будто Она собирается накрутить пряжу на веретено», а младенец Христос, ножки которого опущены в корзину с пряжей, держит предмет, имеющий форму креста, «и не хочет отдавать его матери, которая пытается забрать его у Сына».[658]
Помимо Роберте, Леонардо свел в свите Людовика XII еще одно знакомство. «Узнал у Жана Парижского способ письма темперой» – гласит одна из его заметок.[659] Жан Парижский – это придворный живописец и королевский камердинер Жан Перреаль, так сказать, коллега Леонардо при французском дворе. Вероятно, что впервые Леонардо познакомился с ним в 1494 году, когда Перреаль сопровождал Карла VIII в Милан. Помимо прочего, оба они увлекались астрономией. «Измерения Солнца, обещанные мне маэстро Джованни, французом» – значится в другой его заметке.[660] В 1499 году Перреаль вернулся в Милан в свите Людовика XII. Будучи придворным живописцем, он, по всей видимости, отвечал за организацию и украшение празднеств, сопровождавших триумфальный въезд Людовика в город. Возможно, он был также одним из тех, кто сопровождал короля в церковь Санта-Мария делле Грацие.
Леонардо рассчитывал еще на одно знакомство среди захватчиков. К концу 1499 года он начал планировать отъезд из Милана: уезжать он, судя по всему, собирался насовсем. «Продать, что нельзя взять с собой», – помечает он для памяти на странице с архитектурным чертежом, сделанным десятью годами раньше.[661] Составлен список того, что он намеревается увезти: постельное белье, обувь, носовые платки и полотенца, книгу о перспективе, другую, по геометрии, четыре пары чулок и колет, даже семена – в «двух закрытых ящиках, везти на мулах». Третью коробку погонщик мулов должен был доставить на хранение в Винчи, где по-прежнему проживал дядя Леонардо.
Леонардо да Винчи (1452–1519). Страница из «Атлантического кодекса» (Codex Atlanticus. Fol. 669 r).
В этой заметке, чуть не единственный раз в жизни, Леонардо прибегает к шифру. Начинается заметка загадочно: «Найти Ingil и сказать ему, что будешь ждать его в Amor и поедешь с ним в Ilopan». Расшифровывается эта запись до смешного просто: Леонардо просто написал слова задом наперед. Amor – это Рим (Roma), а Ilopan – Неаполь (Napoli). То есть Леонардо собирался поехать в Рим, а оттуда – после встречи с «Ингилом» – в Неаполь. Занятная подробность заключается в том, что, поскольку заметка эта написана «зеркальным почерком», прочитать «зашифрованные» слова даже проще, чем остальной текст, – так что попытка скрыть важную информацию может быть признана провальной.
«Ингил» – это Людовик Люксембургский, обладавший, помимо прочих, титулом графа Линьи (Ligni). Он был камергером Людовика XII, а также, как правитель Пикардии и смотритель Лилльского замка, одним из главных его военных советников. Скорее всего, Леонардо познакомился с ним во время первого вторжения 1494 года, когда Линьи был назначен губернатором Сиены. Пять лет спустя у Леонардо появилась надежда поступить к Линьи на службу. Французы продолжали строить планы захвата Неаполя, но, чтобы подступиться к итальянскому югу, сначала нужно было овладеть крепостями Тосканы и Папской области. Заметка Леонардо завершается словами: «…освоить нивелирование и сколько грунта может вынуть за день один человек» – это говорит о том, что он собирался вплотную заняться строительством земляных и прочих укреплений, тем самым осуществив свою мечту стать военным инженером.
Однако Линьи так и не взял Леонардо к себе на службу: он вскоре покинул Милан и вернулся во Францию. Все французы, помимо Роберте, похоже, предпочитали не иметь дела с Леонардо, возможно не доверяя бывшему приближенному Сфорца. Среди его ближайших друзей был верный поклонник Сфорца, архитектор Джакомо Андреа да Феррара, человек, за столом у которого когда-то отличился своими шалостями десятилетний Салаи. Джакомо Андреа был настолько близким другом Леонардо, что Пачоли в предисловии к трактату «О божественной пропорции» даже назвал его братом художника. В декабре 1499 года Джакомо Андреа отправился в Инсбрук, где помогал Лодовико строить планы возвращения к власти. Французы не оставили это без внимания: по возвращении в Милан он был казнен через повешение, потрошение и четвертование.
Судя по всему, у Леонардо желание служить новым господам истаяло так же быстро, как и у других. Поначалу Людовик завоевал симпатию всех миланцев, снизив налоги, однако поведение французов скоро стало нестерпимо жестоким и беспринципным. Многие придворные уже бежали из города. Донато Браманте отправился в Рим, где скоро нашел себе занятие – обмеривал древние руины и писал папский герб на церкви Сан-Джованни ин Латерано. Лука Пачоли тоже готовился к отъезду.
Ничто не держало Леонардо в Милане, город утратил всю свою притягательность. Еще до конца декабря он освободил комнаты в Корте дель Аренго, частично упаковав, частично распродав имущество. По всей видимости, он напоследок посетил Санта-Марию делле Грацие: в списке дел, которые нужно было сделать до отъезда из Милана, значится: «Забрать жаровни из Грацие».
И вот, у самого порога нового столетия, он вместе со своими мулами и ящиками двинулся по замерзшим дорогам в путь.
Эпилог Достиг ли я хоть чего-то?
В последующие годы Леонардо преследовали все те же горести: скитания, недовольство заказчиков, крушение всех хитроумных, порой гениальных проектов.
Мантуя, расположенная в ста пятидесяти километрах к юго-востоку от Милана, стала первой остановкой на его пути. Маркиза Изабелла д’Эсте, сестра Беатриче, возжелала заказать ему свой портрет. Изабелла слыла великой упрямицей: «женщина с собственным мнением», по словам ее супруга, которая «все и всегда делала по-своему».[662] Сотрудничество между Леонардо и Изабеллой не могло закончиться ничем хорошим. Через несколько недель он отбыл в Венецию, оставив ей набросок мелом и смутное обещание дописать портрет.
В Венеции бряцали оружием. В начале весны 1500 года Леонардо предложил сенату свои услуги инженера, пообещав, помимо прочего, установить шлюз на реке Изонцо, с помощью которого можно будет заполнить долину водой и потопить наступающих турок.[663] Даже серьезные территориальные потери не подвигли венецианцев на то, чтобы принять это предложение.
Во время пребывания в Венеции Леонардо, по всей видимости, получил несколько уколов в самое сердце: конная статуя Верроккьо стала для него болезненным напоминанием об упущенной возможности с бронзовым конем. Впрочем, в первые месяцы 1500 года надежды на завершение этого проекта ненадолго возродились. В самом начале февраля состоялось триумфальное возвращение Лодовико Сфорца в Милан – ему удалось отвоевать значительную часть герцогства с помощью швейцарских и немецких наемников. Миланцы встретили его восторженно, приветствуя криками «Моро! Моро!», поскольку правление французов оказалось отвратительной тиранией. Но если у Леонардо и возникли планы вернуться в Милан и зажить там прежней жизнью, через два месяца они сошли на нет – французы одолели герцога. Брошенный своими воинами, Лодовико попытался бежать, переодевшись солдатом-швейцарцем, однако 10 апреля его взяли в плен в Новаре. Там разыгралась сцена предательства, исполненная библейских аллюзий: один из швейцарских наемников указал на него врагу, получив за это от французов денежное вознаграждение. Этот Иуда (известно его имя – Ханс Турман) был без промедления казнен швейцарцами как предатель.[664]
Через неделю после пленения Лодовико Леонардо, за неимением лучшего, вернулся во Флоренцию. Ему исполнилось сорок восемь лет. Отец его был еще жив, он обосновался на Виа Гибеллина с четвертой женой и одиннадцатью детьми, младшему из которых, Джованни, было два года. Леонардо снял комнаты в монастыре Сантиссима-Аннунциата, где его отец – по-прежнему обладавший ценными связями – организовал ему заказ на создание алтаря для своих клиентов, монахов-сервитов. Дальше все пошло по-прежнему. Леонардо «тянул долгое время, так ни к чему и не приступая», – сообщает Вазари.[665] Объяснение его медлительности можно найти в отчете соглядатая, которого Изабелла д’Эсте подослала к Леонардо, дабы выяснить, как продвигается работа над ее портретом. Агент мрачно доложил, что Леонардо поглощен математическими изысканиями. Привычки художника, сообщил он Изабелле, «переменчивы и непостоянны», и он, похоже, живет сегодняшним днем. Более того, Леонардо «опостылела его кисть».[666] Братья из обители, как и Изабелла, так и не дождались выполнения своего заказа.
В 1502 году появилась возможность поработать в должности военного инженера. Леонардо поступил на службу к Чезаре Борджиа, однако жестокость этого солдафона потрясла его и разочаровала. Война, сделал он вывод, «есть самая жестокая разновидность безумия».[667] После этого он предложил свои услуги султану Османской империи, посулив построить мост через Золотой Рог. Однако турецкого властителя это не заинтересовало. Другой инженерный проект – амбициозный план прорыть канал и отвести в него из прежнего русла реку Арно – был принят на ура флорентийскими отцами города, причем одним из самых ярых его сторонников был Никколо Макиавелли. План этот ожидал скорый и бесславный конец.[668]
Так что как бы Леонардо ни надоела живопись, все другие проекты заканчивались одинаково и предсказуемо. В 1503 году он начал работать над портретом Лизы, молодой жены состоятельного торговца тканями по имени Франческо дель Джокондо. Как всегда, Леонардо не спешил. По словам Вазари, «потрудившись над ним четыре года, так и оставил его незавершенным».[669] Портрет в итоге все-таки был дописан, но к Франческо дель Джокондо так и не попал.
До нас не дошло сердитых жалоб Франческо и его супруги, зато другой заказчик – правительство Флоренции очень громко и гневно высказывалось по поводу невыполнения Леонардо своих обязательств. В октябре 1503 года, примерно тогда же, когда была начата работа над «Моной Лизой», Леонардо поручили стенную роспись под названием «Битва при Ангиари» на стене Зала совета в палаццо Веккио. Он приступил к делу в июне 1505 года, используя очередную экспериментальную технику, но вскоре вовсе забросил работу. В ранних источниках перечисляется множество причин его неудачи: от плохой штукатурки и некачественного льняного масла до неспособности жаровен высушить краску (которая, судя по всему, стекала по стене), а порой и «некое возмущение» Леонардо, – возможно, повторился «скандал», после которого несколькими годами раньше он покинул свои рабочие леса в Милане. В любом случае затею эту ждал, по словам Паоло Джовио, «безвременный конец».[670] В 1506 году Леонардо покинул Флоренцию и вернулся в Милан, оставив отцов города в ярости, – они обвиняли его в бессовестном поведении: «Он получил крупную сумму денег, а сам лишь начал большую работу, которую ему заказали».[671] Однако Леонардо был глух ко всем призывам, и «Битва при Ангиари» так никогда и не была закончена.
Мосты, каналы, летательные аппараты, многочисленные картины – все это осталось на чертежной доске или на мольберте. Даже любимые математические и геометрические штудии в итоге перестали его радовать. Тоскливая запись в записной книжке ставит грустную точку в его исследованиях: «Ночь святого Андрея. Закончил работать над квадратурой круга, иссяк свет, иссякла ночь и бумага, на которой я писал».[672]
Свеча гаснет, рассветный луч проникает сквозь ставни, и Леонардо, в очках и ночном колпаке, устало откладывает перо.
* * *
«Скажи мне, было ли хоть что-то совершено», – снова и снова спрашивает Леонардо на страницах своих записных книжек. Явившись среди всего этого небрежения и запустения, «Тайная вечеря» остается триумфальным свидетельством того, что гений его все-таки погасил свой долг перед историей. За три года он сумел – чуть не единственный раз в своей жизни – взнуздать неуемную энергию и творческие порывы и направить их в единое русло. Результат – сто сорок квадратных метров краски и штукатурки, произведение искусства, подобного которому никогда до того не видели, нечто, превосходящее даже высочайшие достижения мастеров предыдущего столетия.
«Тайная вечеря» сочетает в себе яркость красок и тонкость оттенков, буйство движений и утонченное изящество линий, символизм с наглядностью и узнаваемостью. А самое главное, она содержит чрезвычайно правдоподобные детали, от выражений лиц апостолов до блюд со снедью и складок на скатерти, – равного этому еще не создавали на плоскости. Она открыла совершенно новую эпоху в истории искусства. «Современная эпоха началась с Леонардо, – утверждал в 1586 году художник Джованни Баттиста Арменини, – с первой звезды в созвездии великих, которым удалось достичь совершенной зрелости стиля».[673]
«Тайная вечеря» действительно является важной вехой в истории живописи. Искусствоведы ведут с нее отсчет периода, получившего название Высокое Возрождение: эпохи, когда работали такие непревзойденные творцы, как Микеланджело и Рафаэль, работали в изумительном, интеллектуально-изощренном стиле, в котором главный акцент делался на гармонию, пропорциональность, движение. Леонардо произвел в искусстве настоящий переворот, вызвал потоп, уничтоживший все, что существовало прежде. Переворот этот легко проследить по карьере одного из его современников. В 1489 году человек, отвечавший за роспись собора в Орвието, уверенно заявил, что «самый знаменитый художник во всей Италии» – это Пьетро Перуджино. Десятилетием позже богатый банкир из Сиены Агостино Киджи по-прежнему утверждал, что Перуджино – «лучший живописец в Италии», а второй – Пинтуриккьо, а третьего нет вовсе. Однако, когда Перуджино в 1505 году представил публике свой очередной алтарь, его осмеяли за бездарность и неоригинальность. К 1505 году мир уже познакомился с мощью творческого гения Леонардо.[674]
Трудно переоценить значимость «Тайной вечери» в биографии и наследии Леонардо. Именно этой работе он обязан своей репутацией великого живописца. При жизни художника, а потом долгие десятилетия и даже столетия после его смерти бо́льшая часть его произведений (а их сохранилось всего пятнадцать, причем четыре из них не закончены) была недоступна и широкой публике, и другим художникам. За три столетия, отделяющие его смерть от начала XIX века, многие сегодня известные нам работы Леонардо были рассеяны по миру – неузнанные, недоступные зрителям, вообще позабытые.
«Мону Лизу» Леонардо до XIX века никто, по сути, не видел. Пока художник был жив, она оставалась у него, и видеть ее могли только посетители мастерской. Аноним Гадьяно знал о ней лишь понаслышке – он считал, что на картине изображен мужчина. После смерти Леонардо Салаи продал портрет, в итоге он попал в мыльню короля Франции, а потом, несколько веков спустя, – в спальню Наполеона. Известность он приобрел только после того, как его извлекли из личных покоев французских властителей и в начале XIX века вывесили на всеобщее обозрение в Лувре. Соответственно, Санта-Мария делле Грацие оставалась одним из немногих мест, где можно было посмотреть на подлинную работу Леонардо и изумиться величию его гения.
«Я хотел бы творить чудеса», – написал Леонардо однажды. Примечательно, что в XVI веке для характеристики его работ чаще всего пользовались словом «чудесные».[675]
* * *
«Это река, что протекает через Амбуаз», – пишет Леонардо в одной из своих последних заметок, рядом с наброском русла Луары.[676] И ему, и его покровителю Лодовико Сфорца суждено было умереть в долине Луары, во Франции, с зазором в тридцать километров и одиннадцать лет друг от друга: Лодовико скончался в темнице, Леонардо – в королевском замке.
Пленение Лодовико в Новаре в апреле 1500 года стало, по словам хрониста, «зрелищем столь унизительным, что тронуло до слез даже многих его врагов».[677] Герцога в итоге заключили в замке Лош, в двухстах пятидесяти километрах к юго-западу от Парижа. Хронист воспевает его правление: «Так в тесном узилище были заточены помыслы и чаяния человека, мыслям которого ранее было тесно даже в пределах Италии».[678]
Лодовико было дозволено общество шута, иногда – книга или посетитель; в остальное время властитель, заказавший одно из величайших произведений искусства за всю историю человечества, коротал свои дни, разукрашивая стены своей темницы змеями, звездами и изречениями. Проведя почти восемь лет в заточении, он сумел ненадолго вырваться из темницы, подкупив стражу, – его вывезли из замка на телеге, груженной сеном. Однако он заблудился в лесах под Лошем, очень быстро был пойман и приговорен к более суровому заключению. Здоровье его было подорвано, и в мае 1508 года он скончался, не дожив двух месяцев до пятьдесят шестого дня рождения. Нам неизвестно, где погребены его останки, однако в Милане братия доминиканского монастыря сохранила о нем добрую память – монахи попытались организовать возвращение его тела в Милан, дабы похоронить рядом с Беатриче.[679]
К моменту смерти Лодовико Леонардо вернулся в Милан и поступил на службу к врагу и тюремщику Лодовико, королю Людовику XII. Колесо судьбы описало полный круг, когда в декабре 1511 года, через двенадцать лет после первого бегства из Милана, Леонардо вынужден был бежать повторно, поскольку швейцарские наемники выгнали из города французов. Последовали новые скитания. Проведя несколько лет в Риме, Леонардо навсегда покинул Италию – в 1516 году он отбыл во Францию, где стал придворным художником французского монарха Франциска I. Леонардо увез с собой записные книжки – около двадцати тысяч страниц заметок и набросков – и несколько картин, в том числе и «Мону Лизу».
Леонардо было пожаловано поместье Клу в Амбуазе, всего в тридцати километрах к северу от мрачной темницы в Лоше. В красивом краснокирпичном замке имелась центральная башня и винтовая лестница; из него открывался вид на королевский замок, с которым жилище Леонардо было связано подземным ходом: таким образом король имел прекрасную возможность, по словам Вазари, «часто и милостиво его навещать».[680] Впрочем, живописью Леонардо больше не занимался. Вместо этого он продолжил изучение геометрии, проектировал новую королевскую резиденцию, исследовал течение Луары, а также участвовал в постановках театральных представлений при дворе. К 1517 году с ним случился удар, здоровье пошатнулось. В апреле 1519 года, «сознавая неизбежность смерти и неопределенность часа ее», он составил завещание, позаботившись о Салаи, своих подмастерьях и слугах.[681] Девять дней спустя, 2 мая, он скончался в возрасте шестидесяти семи лет в своем поместье и был погребен, согласно его воле, во внутреннем дворе церкви Сен-Флорантен в Амбуазе. Шестьдесят бедняков из прихода несли свечи на похоронах.
Новости о смерти Леонардо дошли до его флорентийской родни только месяц спустя. В один из дней июня из Франции пришло письмо от Франческо Мельци, одного из помощников художника, со следующими словами: «Всем нам должно скорбеть о его утрате, ибо равного ему природа создать не в состоянии».[682]
* * *
«Прекрасное в человеке преходяще, – написал однажды Леонардо, – а в искусстве – нет».[683] Увы, прекрасное в искусстве тоже порой оказывается преходящим, и «Тайная вечеря» – яркий тому пример. Стиль Леонардо оказался безупречен, а вот техника – отнюдь. «Тайная вечеря» пострадала от того, что последний ее реставратор назвал – с преднамеренным преуменьшением – «неполной адгезией» между краской и поверхностью стены.[684] Поскольку Леонардо отказался от фресковой техники, красочный слой не вступил со штукатуркой в неразрывную связь и всего несколько лет спустя начал отслаиваться. «Распятие» Монторфано на противоположной стене трапезной, прекрасно сохранившееся, за исключением написанных Леонардо портретов Сфорца (они полностью утрачены), служит немым укором великому мастеру, допустившему трагический просчет.
К неудачной технике Леонардо добавилось великое множество губительных совпадений. Трапезная находится в низине, Леонардо писал на сырой северной стене, на которую попадали не только пар и дым из монастырской кухни, но и сажа от свечей и жаровен, стоявших в трапезной. Кроме того, само здание было построено крайне небрежно (это отмечает Гёте), из выветрившихся кирпичей и обломков «старых, развалившихся зданий».[685]
Живопись начала осыпаться уже через двадцать лет после завершения. Антонио де Беатис, посетивший трапезную в 1517 году, записал в дневнике, что работа Леонардо, оставаясь «исключительно великолепной», постепенно портится – возможно, как ему представлялось, из-за сырости.[686] То был первый голос в ставшем потом неумолчным хоре: восторги по поводу невероятной художественной мощи этого произведения, пересыпанные сожалениями о его плохой сохранности и почти неизбежной гибели. Спустя поколение после Беатиса, Арменини сообщает, что роспись «наполовину утрачена», а в 1582 году Ломаццо находит ее «в состоянии полного разрушения».[687]
Дальше – хуже. Если поначалу живопись страдала от технических недочетов и неподходящих климатических условий, то впоследствии в дело вступили и иные, еще более разрушительные силы. Настоящие непотребства начались в 1652 году, когда обитатели монастыря, от большого ума, решили пробить в северной стене дверь, ампутировав Христу ступни и еще сильнее отслоив краску и штукатурку ударами кирок. К 1726 году роспись стала такой тусклой и нечеткой, что монахи решили прибегнуть к услугам некоего художника по имени Микеланджело Беллотти. Со знаменитым тезкой у него оказалось мало общего: это был человек, по словам Гёте, «наделенный весьма скудным дарованием, зато, как и полагается обычно, чрезмерным нахальством». Беллотти возвел леса и, спрятавшись за ними, приступил к работе «преступной рукой, способной только позорить искусство».[688]
В 1770 году явился еще один проходимец, Джузеппе Мацца. Он выскоблил стену железными инструментами и переписал сцену «Тайной вечери» по собственному вкусу, оставив нетронутыми только головы Матфея, Фаддея и Симона. Будучи убежден, что перед ним фреска, он размыл штукатурку едким натром. Разразился скандал. Маццу выгнали с позором, а настоятеля, затеявшего эту непродуманную реставрацию, перевели в другой монастырь. На протяжении двух следующих столетий роспись чем только не обрабатывали – воском, лаком, клеем, шеллаком, смолами, спиртом, растворителями – в отчаянных попытках остановить ее разрушение. Кроме того, ее несколько раз переписывали заново. В ходе одной реставрации нога Варфоломея превратилась в ножку стула, а рука Фомы – в каравай хлеба.
В 1796 году вновь явились французы-завоеватели, на сей раз под предводительством Наполеона; одному из его генералов вздумалось устроить в трапезной конюшню. Лошади потели и топали ногами, а солдаты швыряли в апостолов обломками кирпича. Через четыре года случилось наводнение. Пятнадцать дней трапезная на полметра была затоплена, влага впиталась в стены, живопись покрылась зеленой плесенью. Один посетитель, оказавшийся там несколько лет спустя, описал, как дотронулся до росписи (это, похоже, никому не возбранялось) и почувствовал, как в руке остались «чешуйки» краски: замечательный сувенир.[689] В 1821 году реставратор по имени Стефано Барецци, тоже пребывавший в ложном убеждении, что «Тайная вечеря» – это фреска, попытался соскоблить краску со стены и перевести живопись на огромное полотно. Когда из этого ничего не вышло, ему осталось только одно – попытаться, без особого успеха, приклеить краску обратно к штукатурке.
Наглядный трагический распад этого шедевра стал горьким напоминанием о том, что земная красота не вечна. Китс оказался не прав: прекрасное не пленяет навсегда; оно само разрушается, гибнет, грозит обратиться в ничто. В 1847 году один английский писатель вздыхал, что произведение Леонардо «никогда уже не будет доступно человеческому глазу… бо́льшая его часть погибла безвозвратно».[690] Делается понятно, почему десять лет спустя трапезную превратили в сеновал.[691]
В итоге «Тайная вечеря» прославилась своим безнадежным состоянием не менее, чем своими художественными достоинствами, став самым знаменитым безвозвратно погибающим шедевром в истории искусства. Писатель Генри Джеймс назвал ее «печальнейшим произведением искусства в мире», сравнив с «трудолюбивым калекой, к которому заходят посмотреть, как там у него дела, а удаляются со вздохами, будто отходят на цыпочках от смертного ложа».[692] В 1901 году поэт Габриэле Д’Аннунцио сочинил «Оду на смерть», в которой скорбел о «чуде, которого больше нет».[693] Попытки возродить шедевр, предпринятые в первой половине ХХ века, включали инъекции воска – прямо как в салоне красоты – и «омолаживающие» растирания резиновыми валиками.
Самый опасный день в своей истории роспись пережила 16 августа 1943 года, когда в церковь Санта-Мария делле Грацие попала бомба, сброшенная с самолета Британских королевских ВВС; снесло крышу, соседняя галерея была разрушена. «Тайная вечеря», защищенная мешками с песком и матрасами, чудом уцелела, но несколько месяцев стояла без кровли, затянутая лишь брезентом. Трапезную наспех отстроили заново, после чего роспись начала исчезать под слоем плесени и грязи; воспоследовала очередная реставрация, на сей раз применили шеллак, чтобы закрепить отлетающую от стены краску, и (как говорится в одном докладе) крайне передовую для 1950-х технологию – «тепловые лучи, ультрафиолетовые лучи, лабораторные исследования и т. п.».[694] Однако под новым красочным слоем нарушилась циркуляция воздуха, и между красками и стеной начала образовываться плесень.
В 1977 году началась последняя реставрация, она длилась двадцать два года; картина была вновь открыта для обозрения в мае 1999-го. Высокотехнологичная консервация включала целую систему жизнеобеспечения – датчики температуры и влажности, а также великое множество диагностических тестов, проводившихся с помощью сонаров, радаров, инфракрасных и миниатюрных камер, которые вводили в микроотверстия в стене, чтобы взять микропробы. Со стены счистили все, кроме красок, нанесенных Леонардо: слои шеллака, грязи и краски, оставленные предыдущими реставрациями, снимали с помощью растворителей, которыми пропитывали листочки японской бумаги. Те участки, где красочный слой Леонардо полностью утрачен, были заполнены акварелью нейтрального тона.
Развалины трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие после бомбардировки Британских королевских ВВС во время Второй мировой войны. «Тайная вечеря» (скрыта защитной конструкцией)уцелела лишь чудом.
Иногда раздаются голоса, что, мол, нынешняя «Тайная вечеря» на восемьдесят процентов создана реставраторами и только на двадцать – Леонардо.[695] Реставрация росписи превратилась в мозаичный пространственно-временной континуум, подобный кораблю Тезея, бережно хранимому афинянами, – в итоге все деревянные части, из которых он изначально состоял, постепенно сгнили и были заменены другими, вызвав к жизни философские споры о том, то же самое это судно или нет. Да, то, что можно увидеть сегодня, отстояв в очереди, а потом пройдя по поглощающим пыль коврам через задерживающую все загрязнения фильтрационную камеру, ради того, чтобы провести заветные пятнадцать минут в трапезной, очень далеко от изначального творения Леонардо. Однако усилия реставраторов стабилизировать состояние росписи и приблизить ее к оригиналу – насколько это по силам человеку и технологии – отмечены большим тактом. Мы теперь знаем гораздо больше о технике Леонардо (особенно о том, как он пользовался масляными красками) и способны сполна оценить ее виртуозность: прозрачность стекла, снедь на тарелках, заглаженные складки на скатерти. Более того, лица апостолов (реставраторы, где это было возможно, пользовались рисунками Леонардо), безусловно, теперь гораздо ближе к исходному замыслу художника, особенно лицо Иуды – он перестал быть злобной карикатурой, в которую его превратили ранние реставраторы.
Неоценимую помощь реставраторам оказали многочисленные ранние копии картины, на которых видны детали, утраченные или поврежденные в оригинале: кошель Иуды, перевернутая солонка, выражения лиц апостолов, цвета их одежд. Самой точной считается большая копия маслом на холсте, выполненная около 1520 года Джампетрино, возможно, для одного из сыновей Лодовико Сфорца. Весьма вероятно, что в 1490-е годы Джампетрино работал с Леонардо, а потому как интерпретатор он пользуется особым доверием: не исключено, что он даже помогал своему учителю в трапезной. В 1987 году его восьмиметровая картина была переправлена из Оксфорда в Милан в помощь реставраторам.
Копия Джампетрино – лишь одна из многих. Слава «Тайной вечери» была столь велика, что спрос на списки возник, по сути, еще до того, как на оригинале высохла краска. Церкви, монастыри, лечебницы, кардиналы, правители – все они желали иметь копию, подобно тому, как все желали иметь щепку от Животворящего Креста или фалангу пальца святого. Уже в 1498 году неизвестный художник сделал с «Тайной вечери» гравюру, а за несколько десятилетий после того, как картина была дописана, появились копии на штукатурке, дереве, холсте, в мраморе и терракоте, в виде шпалер и расписанных деревянных скульптур. Копии появлялись повсюду – в Венеции, Антверпене, Париже. В Чертоза ди Павия даже имелось два варианта: маслом и в мраморе.
Эти копии стали родоначальниками индустрии, которая сегодня охватывает широчайший спектр техник, от открыток и репродукций-жикле до восковых скульптур, семь вариантов которых Умберто Эко насчитал по дороге между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Сегодня можно заказать себе татуировку «Тайная вечеря» на грудь или распорядиться, чтобы вас похоронили в гробу, где с обеих сторон вырезана сцена Леонардо. Можно установить вариант с колоссальным разрешением, шестнадцать миллиардов пикселей, на домашнем компьютере – онлайн-копия, которая, по словам ее создателей, «Халтадефиниционе», является «самой четкой фотографией во всем мире». Еще более высокотехнологичная копия появилась в 2010 году, когда английский кинорежиссер Питер Гринуэй создал мультимедийную инсталляцию в нью-йоркском Арсенале на Парк-авеню, в которую включил не только «клон» «Тайной вечери» в натуральную величину (выполненный с помощью струйного принтера), но и «клон» всей трапезной. Копии «Тайной вечери», в свою очередь, копируют: образцом для шелкографии Энди Уорхола послужило не само творение Леонардо (Уорхол просто не мог видеть роспись в 1985–1986 годах, когда начал работать над своей интерпретацией: роспись находилась на реставрации), а всевозможные копии: знаменитая гравюра XIX века, созданная Рафаэлем Моргеном, детские книги, христианские китчи, а также наверняка и репродукция, которая когда-то висела на кухне в его родном доме в Питсбурге.[696]
«Тайную вечерю» почти единодушно признают самым знаменитым произведением живописи в мире, единственной соперницей ей может служить другой шедевр Леонардо – «Мона Лиза». Однако громкая слава росписи слабо связана с тем, что можно увидеть сегодня в трапезной церкви Санта-Мария делле Грацие в Милане. Афинский философ наверняка сказал бы, что самой знаменитой вещи в мире, на деле, уже не существует. Однако сам факт ее бренности лишь укрепил ее славу, поскольку теперь это произведение можно бесконечно перетолковывать и изобретать заново. Шедевр Леонардо не только пересказывает сюжет из Евангелия, он стал частью собственного сюжета, завязкой которого был триумф Леонардо, а продолжением – столетия упадка, утрат и, в конце концов, по прошествии пяти веков, – своего рода воскресение. Леонардо, похоже, все-таки был прав: прекрасное в искусстве непреходяще.
Благодарности
Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне финансовую помощь и/или моральную поддержку в процессе сбора материала и написания книги. Как всегда, было приятно и познавательно работать с моим нью-йоркским редактором Джорджем Гибсоном – благодаря его терпеливым, тактичным и глубоким замечаниям книга стала значительно лучше. Кроме того, я очень многим обязан Мартину Кемпу, почетному профессору искусствоведения Оксфордского университета, который щедро делился со мной своим временем и знаниями. Он прочитал рукопись, ответил на ряд вопросов и дал мне возможность познакомиться с сокровищами его коллекции, посвященной Леонардо, которая хранится в исследовательском центре исторического факультета Оксфордского университета.
Рукопись книги прочитали еще несколько человек, они высказали свои пожелания и соображения. Мой друг доктор Марк Эсквит, как всегда, оказался вдумчивым и придирчивым читателем. Рукопись прочитал и другой мой друг, Том Смарт, которому я признателен за советы и ободрения; ознакомился с ней и мой верный литературный агент Кристофер Синклер-Стивенсон. Дейва Собел, Кит Девлин и мой брат доктор Брайан Кинг ответили на мои вопросы в тех областях, где познания Леонардо многократно превосходят мои собственные. Доктор Мэтью Лэндрус любезно позволил мне использовать его зарисовку «Тайной вечери» в перспективе. Натаниэл Кнэбел из «Блумсбери» со свойственным ему мастерством превратил рукопись в книгу, и я признателен Поле Купер за отличную, внимательную техническую редактуру. Лея Бересфорд подобрала иллюстрации, использованные в книге, и помогла решить другие технические вопросы. Кроме того, хочу поблагодарить Билла Свейнсона и всех лондонских сотрудников «Блумсбери».
Надеюсь, что в примечаниях и библиографии я адекватно отобразил то, сколь многим я обязан ученым, занимавшимся творчеством Леонардо. Я много пользовался научными работами, книгами и открытиями Кеннета Кларка, Мартина Кемпа, Чарльза Николла и Карло Педретти – список этот далеко не полон. Кроме того, одним из величайших удовольствий по ходу моих исследований стало чтение записок самого Леонардо, позволившее мне мельком взглянуть на лихорадочную деятельность этого изумительно изобретательного и многогранного разума; в этом мне помогло издание его записных книжек, впервые вышедшее в 1883 году, где переводчиком и составителем выступал Жан-Поль Рихтер. За доступ к этой книге и к другим я благодарен Лондонской библиотеке и Библиотеке Сэклера в Оксфордском университете.
И наконец, я неизменно признателен своей жене Мелани за ее любовь, поддержку и терпение, проявленные в те годы, которые я отдал Леонардо. Эта книга посвящена ее отцу, Банни Харрису, по случаю его восьмидесятилетия. Он уже давно остается для нас обоих приятнейшим собеседником и источником доброжелательной моральной поддержки – не говоря уж о постоянной готовности напоить и накормить.
Библиография и библиографические сокращения
Adelman. Review. – Adelman Howard. Review: Simonsohn’s The Jews in Milan // Jewish Quarterly Review. New series. Vol. 77 (October 1986 – January 1987).
Ady. A History of Milan. – Ady Cecilia M. A History of Milan Under the Sforza. London: Methuen, 1907.
Alberge. Is this portrait a lost Leonardo? – Alberge Dalya. Is this portrait a lost Leonardo? // Guardian, 27 September 2011.
Alberti. On the Art of Building. – Alberti Leon Battista. On the Art of Building in Ten Books / Trans. Joseph Rykwert, Neil Leach, Robert Tavernor. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
Ammirato. Opuscoli. – Ammirato Scipione. Opuscoli. Vol. 2. Florence, 1637.
Anthon. A Classical Dictionary. – Anthon Charles. A Classical Dictionary. New York: Harper & Brothers, 1848.
Aquinas. Summa theologiae. – Thomas Aquinas st. Summa theologiae / Ed. by Thomas Gilby. Cambridge; London: Blackfriars; Eyre & Spottiswoode, 1964–1981. 61 vols.
Armenini. On the True Precepts. – Armenini Giovanni Battista. On the True Precepts of the Art of Painting / Trans. Edward J. Olszewski. New York: Burt Franklin & Co., 1977.
Augustine. Exposition on Psalm 133. – Aurelius Augustine st. Exposition on Psalm 133 // Nicene and Post-Nicene
Bacon. The «Opus Majus». – Bacon Roger. The «Opus Majus» of Roger Bacon / Ed. John Henry Bridges. Vol. 1. Oxford: Williams and Norgate. 1900.
Bailey. The Disenchantment of Magic. – Bailey Michael D. The Disenchantment of Magic: Spells, Charms, and Superstition in Early European Witchcraft // American Historical Review (April 2006).
Baldassarri, Saiber, eds. Images of Quattrocentro Florence. – Baldassarri Stefano Ugo, Saiber Arielle, eds. Images of Quattrocentro Florence: Selected Writings in Literature, History and Art. New Haven: Yale University Press, 2000.
Bambach, ed. Leonardo, Left-handed Draftsman and Writer. – Bambach Carmen C., ed. Leonardo, Left-handed Draftsman and Writer // Leonardo da Vinci: Master Draftsman. New York and New Haven: Metropolitan Museum of Art and Yale University Press, 2003. P. 31–57.
Bandello. Tutte le opere. – Bandello Matteo. Tutte le opere / Ed. Francesco Flora. 2 vols. Milan: A. Mondadori. 1934.
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». – Barcilon Pinin Brambilla, Marani Pietro C. Leonardo: «The Last Supper» / Trans. Harlow Tighe. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
Barsley. The Left-Handed Book. – Barsley Michael. The Left-Handed Book: An Investigation into the Sinister.
Baum. Judas’s Red Hair. – Baum Paul Franklin. Judas’s Red Hair // Journal of English and Germanic Philology 21 (July 1922).
Baumgartner. Louis II. – Baumgartner Frederic J. Louis II. New York: St. Martin’s Press, 1994.
Baxandall. Painting. – Baxandall Michael. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. Oxford: Oxford University Press, 1972.
Beck. Leonardo’s Rapport. – Beck James. Leonardo’s Rapport with His Father // Antichita viva 27 (1988). P. 5–12.
Bembo. History of Venice. – Bembo Pietro. History of Venice / Ed. and trans. Robert W. Ulery Jr. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
Benivieni. De abditis nonnullus. – Benivieni Antonio. De abditis nonnullus ac mirandis morborum et sanatorium causis. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1954.
Berenson. Italian Painters. – Berenson Bernard. Italian Painters of the Renaissance. Vol. 2. London: Phaidon, 1968.
Bergamini. Mathematics. – Bergamini David. Mathematics. New York: Time-Life, 1963.
Bergeron. King James. – Bergeron David M. King James and Letters of Homoerotic Desire. Iowa City: University of Iowa Press, 1999.
Besta. Vera narratione. – Besta Giacomo Filippo. Vera narratione del successo della peste che afflisse l’inclita città di Milano, l’anno 1576. Milan: Gottardo, 1578.
Black. Absolutism. – Black Jane. Absolutism in Renaissance Milan: Plenitude of Power under tbe Visconti and the Sforza, 1329–1535. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Black. Education and Society. – Black Robert. Education and Society in Florentine Tuscany: Teachers, Pupils and Schools, с. 1250–1500. Leiden: Brill, 2007.
Blanckaert. On the Origins of French Ethnology. – Blanckaert Claude. On the Origins of French Ethnology.
Borgo, Sievers. The Medici Gardens. – Borgo Lodovico, Sievers Ann H. The Medici Gardens at San Marco // Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 33. Bd., H. 2/3 (1989). S. 237–256.
Boswell. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. – Boswell John. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
Bowd. Venice’s Most Loyal City. – Bowd Stephen D. Venice’s Most Loyal City: Civic Identity in Renaissance Brescia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
Boyle. Senses of Touch. – Boyle Marjorie O’Rourke. Senses of Touch: Human Dignity and Deformity from Michelangelo to Calvin. Leiden: Brill, 1998.
Brachert. A Musical Canon. – Brachert Thomas. A Musical Canon of Proportion in Leonardo da Vinci’s Last Supper // Art Bulletin 53 (December 1971). P. 461–466.
Bramly. Leonardo. – Bramly Serge. Leonardo: The Artist and the Man. London: Michael Joseph, 1992.
Brewer. The American Leonardo. – Brewer John. The American Leonardo: A Tale of Obsession, Art, and Money. New York: Oxford University Press, 2009.
Britton. «Mio malinchonico, o vero… mio pazzo». – Britton Piers. «Mio malinchonico, o vero… mio pazzo»: Michelangelo, Vasari, and the Problem of Artists’ Melancholy in Sixteenth-Century Italy // Sixteenth Century Journal 34 (Fall 2003). P. 653–675.
Brown. Origins of a Genius. – Brown David Alan. Leonardo da Vinci: Origins of a Genius. New Haven: Yale University Press, 1998.
Brown. The Da Vinci Code. – Brown Dan. The Da Vinci Code. New York: Doubleday, 2003.
Brucker. The Society. – Brucker Gene A. The Society of Renaissance Florence: A Documentary Study. Toronto: University of Toronto Press, 1998.
Bruschi. Bramante. – Bruschi Arnaldo. Bramante. London: Thames & Hudson, 1977.
Bull. Two Portraits. – Bull David. Two Portraits by Leonardo: Ginevra de’ Benci and the Lady with an Ermine // Artibus et Historiae 13 (1992). P. 67–83.
Burckhardt. Italian Renaissance Painting. – Burckhardt Jacob. Italian Renaissance Painting According to Genres. Los Angeles: Getty Publications, 2005.
Burkett, ed. The Blackwell Companion. – Burkett Delbert, ed. The Blackwell Companion to Jesus. Oxford: Blackwell, 2011.
Campbell. Half-Belief. – Campbell Colin. Half-Belief and the Paradox of Ritual Instrumental Activism: A Theory of Modern Superstition // British Journal of Sociology 47 (March 1996).
Cartwright. Beatrice. – Cartwright Julia. Beatrice d’Este, Duchess of Milan, 1475–1497: A Study of the Renaissance. London: J. M. Dent & Sons, 1910.
Castiglione. Ricordi. – Castiglione Sabba da. Ricordi overo ammaestramenti. Venice, 1554.
Cecchi. New Light. – Cecchi Alessandro. New Light on Leonardo’s Florentine Patrons // Leonardo da Vinci: Master Draftsman / Ed. Carmen С. Bambach. New York and New Haven: Metropolitan Museum of Art and Yale University Press, 2003. P. 120–139.
Cennini. The Book of the Art. – Cennini Cennino. The Book of the Art of Cennino Cennini / Trans. Christiana J. Herringham. London: George Allen & Unwin, 1899.
Cerretani. Storia fiorentina. – Cerretani Bartolomeo. Storia fiorentina / Ed. Giuliana Berti. Florence: Leo S. Olschki, 1994.
Cianchi. La madre di Leonardo. – Cianchi Francesco. La madre di Leonardo era una schiava? Ipotesi di studio di Renzo Cianchi. Vinci: Museo Ideale Leonardo da Vinci, 2008.
Clark, Pedretti, eds. The Drawings of Leonardo da Vinci. – Clark Kenneth, Pedretti Carlo, eds. The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle. 3 vols. London: Phaidon, 1969.
Clark. Leonardo da Vinci. – Clark Kenneth. Leonardo da Vinci / Introduction by Martin Kemp. Rev. ed. London: Penguin, 1989.
Clayton. Leonardo da Vinci. – Clayton Martin. Leonardo da Vinci: The Divine and the Grotesque. London: The Royal Collection, 2002.
Commines. The Memoirs. – Commines Philip de. The Memoirs of Philip de Commines, Lord of Argenton / Ed. Andrew R. Scoble. Vol. 2. London: Henry G. Bohn, 1856.
Condivi. The Life of Michelangelo. – Condivi Ascanio. The Life of Michelangelo / Trans. Alice Sedgwick Wohl. Ed. Hellmut Wohl. 2nd. ed. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999.
Covi. Four New Documents. – Covi D. A. Four New Documents Concerning Andrea del Verrocchio // Art Bulletin 48 (March 1966). P. 97–103.
Crampton. Homosexuality. – Crampton Louis. Homosexuality and Civilization. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
Crawford. European Sexualities. – Crawford Katherine. European Sexualities, 1400–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Cronin. The Florentine Renaissance. – Cronin Vincent. The Florentine Renaissance. London: Collins, 1967.
Crowe, Cavalcaselle. The Early Flemish Painters. – Crowe Joseph Archer, Cavalcaselle Giovanni Battista. The Early Flemish Painters: Notices of Their Lives and Works. London: John Murray, 1857.
Cruttwell. Verrocchio. – Cruttwell Maud. Verrocchio. London: Duckworth & Co., 1904.
Culpeper. John, the Son of Zebedee. – Culpeper R. Alan. John, the Son of Zebedee: The Life of a Legend. Edinburgh: T&T Clark, 2000.
Dall’Orto. «Socratic Love». – Dall’Orto Giovanni. «Socratic Love» as a Disguise for Same-Sex Love in the Italian Renaissance // The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe / Ed. Kent Gerard, Gert Hekma. New York: The Haworth Press, 1989. P. 33–66.
Davis. Commencement Parts. – Davis Harry Cassell. Commencement Parts. New York: Hines, Noble & Eldredge, 1898.
Dean. The Towns of Italy. – Dean Trevor. The Towns of Italy in the Later Middle Ages. Manchester: Manchester University Press, 2000.
Debby. Jews and Judaism. – Debby Nirit ben-Aryeh. Jews and Judaism in the Rhetoric of Popular Preachers: The Florentine Sermons of Giovanni Dominici (1356–1419) and Bernardino da Siena (1380–1444) // Jewish History 14 (2000).
Devlin. The Myth That Will Not Go Away. – Devlin Keith. The Myth That Will Not Go Away // Mathematical Association of America (May 2007). Работа доступна на сайте: .
Dillenberger. The Religious Art of Andy Warhol. – Dillenberger Janet Daggett. The Religious Art of Andy Warhol. New York: Continuum, 2001.
Eastlake. Materials. – Eastlake Charles Lock. Materials for a History of Oil Painting. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1847.
Eco. Faith in Fakes. – Eco Umberto. Faith in Fakes: Travels in Hyperreality / Trans. William Weaver. London: Vintage, 1986.
Elam. Art and Diplomacy. – Elam Caroline. Art and Diplomacy in Renaissance Florence // Journal of the Royal Society of Arts 136 (October 1988). P. 813–820.
Elam. Lorenzo de’ Medici’s Sculpture Garden. – Elam Caroline. Lorenzo de’ Medici’s Sculpture Garden // Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 36. Bd., H. 1/2 (1992). S. 41–84.
Elet. Seats of Power. – Elet Yvonne. Seats of Power: The Outdoor Benches of Early Modern Florence // Journal of the Society of Architectural Historians 61 (December 2002). P. 444–469.
Eusebius. History of the Church. – Eusebius of Caesarea. History of the Church // Nicene and Post-Nicene Fathers / Ed. by Philip Schaff, Henry Wace. Vol. 1. Grand Rapids: Wm. B. Erdmans, 1982.
Farago. Aesthetics. – Farago Claire. Aesthetics before Art: Leonardo Through the Looking Glass // Compelling Visuality: The Work of Art in and Out of History / Ed. Claire Farago, Robert Zwijnenberg. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. P. 45–92.
Fathers. 1st ser. Vol. 8 / Trans. J. E. Tweed. Ed. by Philip Schaff. Buffalo: Christian Literature Publishing Co., 1888.
Feinberg. Sight Unseen. – Feinberg Larry J. Sight Unseen: Vision and Perception in Leonardo’s Madonnas // Apollo (July 2004). P. 28–34.
Feinberg. Visual Puns. – Feinberg Larry J. Visual Puns and Variable Perception: Leonardo’s Madonna of the Yarnwinder // Apollo (August 2004). P. 38–41.
Fiorio, ed. Le Chiese di Milano. – Fiorio M. Т., ed. Le Chiese di Milano. Milan: Electa, 1985.
Fischer. Luca Pacioli. – Fischer Michael J. Luca Pacioli on Business Profits // Journal of Business Ethics 25 (2000). P. 299–312.
Francesca. Trattato d’Abaco. – Francesca Piero della. Piero della Francesca: Trattato d’Abaco / Ed. Gino Arrighi. Pisa: Domus Galileana, 1971.
Freud. Leonardo da Vinci. – Freud Sigmund. Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood // The Standard Edition of the Complete Psychological Works / Ed. James Strachey. Vol. 11. London: Hogarth Press, 1968. P. 63–137.
Frick. Dressing. – Frick Carole Collier. Dressing Renaissance Florence: Families, Fortunes and Fine Clothing. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2002.
Furlotti. The Art of Mantua. – Furlotti Barbara. The Art of Mantua: Power and Patronage in the Renaissance / Trans. A. Lawrence Jenkins. Los Angeles: Getty Publications, 2008.
Fusco, Corti. Lorenzo de’ Medici. – Fusco Laurie, Corti Gino. Lorenzo de’ Medici on the Sforza Monument // Achademia Leonardi Vinci: Journal of Leonardo Studies and bibliography of Vinciana / Ed. Carlo Pedretti. Vol. 5. Florence: Giunti, 1992. P. 11–32.
Gage. Color and Culture. – Gage John. Color and Culture: Practice and Meaningfrom Antiquity to Abstraction. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1999.
Galbraith. The Constitution of the Dominican Order. – Galbraith Georgina Rosalie. The Constitution of the Dominican Order. Manchester: Manchester University Press, 1925.
Galluzzi, ed. Leonardo da Vinci. – Galluzzi Paolo, ed. Leonardo da Vinci: Engineer and Architect. Montreal: Musee des Beaux-Arts, 1987.
Gardener. Art through the Ages. – Gardener Helen. Art through the Ages. New York: Harcourt, Brace, and World, 1970.
Garland. Impressionism. – Garland Hamlin. Impressionism // Art in Theory, 1815–1900: An Anthology of Changing Ideas / Ed. by Charles Harrison, Paul Wood, Jason Gaiger. Oxford: Blackwell, 1998.
Gavitt. Charity and Children. – Gavitt Philip. Charity and Children in Renaissance Florence: The Ospedale degli Innocenti, 1410–1536. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.
Geanakoplos. Constantinople and the West. – Geanakoplos Deno John. Constantinople and the West. Madison: University of Wisconsin Press, 1989.
George W. Stocking. Madison: University of Wisconsin Press, 1990. P. 35.
Ghiberti. I commentari. – Ghiberti Lorenzo. I commentari / Ed. Ottavio Morisani. Naples: Riccardo Ricciardi, 1947.
Ghyka. The Geometry. – Ghyka Matila. The Geometry of Art and Life. New York: Sheed and Ward, 1946.
Gilbert. How Era Angelica and Signorelli Saw the End of the World. – Gilbert Creighton. How Era Angelica and Signorelli Saw the End of the World. University Park: Penn State University Press, 2003.
Gilbert. Last Suppers and their Refectories. – Gilbert Creighton. Last Suppers and their Refectories // The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion / Eds. Charles Trinkaus, Heiko A. Oberman. Leiden: Brill, 1974. P. 371–402.
Ginzburg. The Enigma of Piero. – Ginzburg Carlo. The Enigma of Piero: Piero della Francesca / Trans. Martin Ryle, Kate Soper. London: Verso, 2000.
Glasser. Artists’ Contracts. – Glasser Hannelore. Artists’ Contracts of the Early Renaissance. New York: Garland, 1977.
Goethe. Observations. – Goethe Johann Wolfgang von. Observations on Leonardo da Vinci’s Celebrated Picture of the Last Supper / Trans. G. H. Noehden. London: J. Booth, 1821.
Goldscheider. Leonardo da Vinci. – Goldscheider Ludwig. Leonardo da Vinci: Life and Work, Paintings and Drawings. London: Phaidon, 1959.
Goldthwaite. The Building. – Goldthwaite Richard A. The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980.
Goldthwaite. The Economy. – Goldthwaite Richard A. The Economy of Renaissance Florence. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009.
Gombrich. The Grotesque Heads. – Gombrich Ernst. The Grotesque Heads // The Heritage of Apelles: Studies in the Art of the Renaissance. Oxford: Phaidon, 1976. P. 57–75.
Gould. Leonardo’s Mountain of Clams. – Gould Stephen Jay. Leonardo’s Mountain of Clams and the Diet of Worms: Essays on Natural History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
Grazzini. Flemish Weavers. – Grazzini Nello Forte. Flemish Weavers in Italy in the Sixteenth Century // Flemish Tapestry Weavers Abroad: Emigration and the Founding of Manufactories in Europe. / Ed. Guy Delmarcel. Louvain: Louvain University Press, 2002. P. 131–162.
Griffiths. Leonardo Bruni. – Griffiths Gordon. Leonardo Bruni and the 1431 Florentine Complaint Against Indulgence-Hawkers: A Case-Study in Anticlericalism // Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe / Ed. by Peter A. Dykema, Heiko A. Oberman. Leiden: Brill, 1993.
Guicciardini. The History. – Guicciardini Francesco. The History of Italy / Trans. Sidney Alexander. New York: Macmillan, 1969.
Harris. Cultural Influences on Handedness. – Harris Lauren Julius. Cultural Influences on Handedness: Historical and Contemporary Theory and Evidence // Left-Handedness: Behavioral Implications and Anomalies / Ed. Stanley Coren. Amsterdam: Elsevir Science, 1990. P. 195–258.
Hartt. Leonardo and the Second Florentine Republic. – Hartt Frederick. Leonardo and the Second Florentine Republic // Journal of the Walters Art Gallery 44 (1986). P. 95–116.
Haskins. Mary Magdalen. – Haskins Susan. Mary Magdalen: Myth and Metaphor. New York: Harcourt Brace, 1994.
Hatfield. Some Unknown Descriptions. – Hatfield Rab. Some Unknown Descriptions of the Medici Palace in 1459 // Art Bulletin 52 (September 1970).
Heaton. Leonardo da Vinci and His Works. – Heaton Mrs. Charles W. Leonardo da Vinci and His Works. London: Macmillan, 1874.
Hedeman. Van der Weyden’s Escorial Crucifixion. – Hedeman Anne D. Van der Weyden’s Escorial Crucifixion and Carthusian Devotional Practices // The Sacred Image East and West / Ed. by Robert Ousterhout, Leslie Brubaker. Urbana: University of Illinois Press, 1995.
History of Left-Handedness. London: Souvenir Press, 1966.
Hood. Saint Dominic’s Manners of Praying. – Hood William. Saint Dominic’s Manners of Praying: Gestures in Fra Angelico’s Cell Frescoes at S. Marco // Art Bulletin 68 (June 1986). P. 195–206.
Horace. The Odes. – The Odes of Horace / Trans. by E. R. Garnsey. London: Swan Sonnenschein, 1907.
James. Signorelli and Fra Angelico. – James Sara Nair. Signorelli and Fra Angelico at Orvieto: Liturgy, Poetry and a Vision of the End-Time. Aldershot, Hants.: Ashgate, 2003.
Jansen. Like a Virgin. – Jansen Katherine L. Like a Virgin: The Meaning of the Magdalen for Female Penitents of Later Medieval Italy // Memoirs of the American Academy in Rome 45 (2000). P. 131–152.
Jansen. Maria Magdalena. – Jansen Katherine L. Maria Magdalena: Apostolorum Apostola // Women Preachers and Prophets through Two Millennia of Christianity/ Ed. Beverly Mayne Kienzle, Pamela J. Walker. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1998. P. 57–96.
Janson. A History of Art. – Janson H. W. A History of Art: A Survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day. London: Thames and Hudson, 1962.
Jeffrey, ed. A Dictionary of Biblical Tradition. – Jeffrey David L., ed. A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1992.
Jirousek. Christ and St. John the Evangelist. – Jirousek Carolyn S. Christ and St. John the Evangelist as a Model of Medieval Mysticism // Cleveland Studies in the History of Art 6 (2001). P. 6–27.
Jorio. Gesture in Naples. – Jorio Andrea de. Gesture in Naples and Gesture in Classical Antiquity / Trans. Adam Kendon. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2000.
Kattenberg. Andy Warhol. – Kattenberg P. A. P. E. Andy Warhol, Priest: «The Last Supper Comes in Small, Medium and Large». Leiden: Brill, 2002.
Kemp, Cotte. La Bella Principessa. – Kemp Martin, Cotte Pascal. La Bella Principessa: The Story of the New Masterpiece by Leonardo da Vinci. London: Hodder & Stoughton, 2010.
Kemp. «Fate come dico, nоn fate come faccio». – Kemp Martin. «Fate come dico, nоn fate come faccio»: Lo Spazio e lo spettatore nell // Ultima Cena, Il Genio e le Passioni // Ed. Pietro Marani. Milan: Skira, 2001. P. 53–59.
Kemp. Christ to Coke. – Kemp Martin. Christ to Coke: How Image Becomes Icon. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Kemp. Dissection and Divinity. – Kemp Martin. Dissection and Divinity in Leonardo’s Late Anatomies // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 35 (1972). P. 200–225.
Kemp. Experience. – Kemp Martin. Leonardo da Vinci: Experience, Experiment and Design. London: V&A Publications, 2006.
Kemp. Leonardo. – Kemp Martin. Leonardo. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Kemp. Science and the Poetic Impulse. – Kemp Martin. Science and the Poetic Impulse // Sixteenth-Century Italian Art / Ed. Michael W. Cole. Oxford: Blackwell, 2006. P. 94–114.
Kemp. The Marvellous Works. – Kemp Martin. Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man. Rev. ed. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Kennedy. The Last Supper for the Laptop Generation. – Kennedy Randy. The Last Supper for the Laptop Generation // New York Times. 2 December 2010.
King, ed. The Fantasia of Leonardo da Vinci. – King Ross, ed. The Fantasia of Leonardo da Vinci: His Riddles, Jests, Fables and Bestiary. Delray Beach, FL: Levenger Press, 2010.
Klapisch-Zuber. Women. – Klapisch-Zuber Christiane. Women, Family and Ritual in Renaissance Italy / Trans. Lydia Cochrane. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
Kleinhenz. Medieval Italy. – Kleinhenz Christopher. Medieval Italy: An Encyclopedia. Vol. 2. New York: Routledge, 2004.
Kurlansky. Salt. – Kurlansky Mark. Salt: A World History. New York: Walker & Co., 2002.
La Farge. The Bearded Lady. – La Farge Antoinette. The Bearded Lady and the Shaven Man: Mona Lisa, Meet Mona/ Leo // Leonardo 29 (1996). P. 379–383.
Land. Leonardo da Vinci. – Land Norman E. Leonardo da Vinci in a Tale by Matteo Bandello // Discoveries (2006).
Landucci. A Florentine Diary. – Landucci Luca. A Florentine Diary from 1450 to 1516 / Trans. Alice de Rosen Jarvis. London: J. M. Dent, 1927.
Lane. A Course of Lectures on Syphilis. – Lane Samuel. A Course of Lectures on Syphilis // Lancet. 13 November 1841.
Lang. Leonardo’s Architectural Designs. – Lang S. Leonardo’s Architectural Designs and the Sforza Mausoleum // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 31 (1968). P. 218–233.
Lansing. Passion and Order. – Lansing Carol. Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
Laurenza. Leonardo: On Flight. – Laurenza Domenico. Leonardo: On Flight. Florence; Milan: Giunti, 2004.
Laurenza. Leonardo’s Machines. – Laurenza Domenico. Leonardo’s Machines: Secrets and Inventions in the Da Vinci Codices. Florence; Milan: Giunti, 2005.
Levy. Framing Widows. – Levy Allison. Framing Widows: Mourning, Gender and Portraiture in Early Modern Florence // Widowhood and Visual Culture in Early Modern Europe – Ed. Allison Levy. Aldershot: Ashgate, 2003. P. 211–232.
Licht. Elysium. – Licht Mel. Elysium: A Prelude to Renaissance Theater // Renaissance Quarterly 49 (Spring 1996). P. 1–29.
Lipton. Images of Intolerance. – Lipton Sarah. Images of Intolerance: The Representation of Jews and Judaism in the Bible Moralisee. Berkeley: University of California Press, 1999.
Livio. The Golden Ratio. – Livio Mario. The Golden Ratio: The Story of Phi, the Extraordinary Number of Nature, Art and Beauty. London: Review, 2002.
MacCurdy. Leonardo da Vinci. – MacCurdy Edward. Leonardo da Vinci. London: George Bell, 1908.
Macey. Bonfire Songs. – Macey Patrick. Bonfire Songs: Savonarola’s Musical Legacy. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Machiavelli. Florentine Histories. – Machiavelli Niccolò. Florentine Histories / Trans. Laura F. Banfield, Harvey C. Manfield. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Machiavelli. The Art of War. – Machiavelli Niccolò. The Art of War / Ed. and trans. Christopher Lynch. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
Machiavelli. The Prince. – Machiavelli Niccolò. The Prince / Trans. George Bull. London: Penguin, 1961.
Maiorini. Leonardo da Vinci. – Maiorini Giancarlo. Leonardo da Vinci: The Daedalian Mythmaker. University Park: Pennsylvania State University Press, 1992.
Markowsky. Misconceptions. – Markowsky George. Misconceptions about the Golden Ratio // College Mathematics Journal 23 (January 1992). P. 2–19.
Martines. Scourge and Fire. – Martines Lauro. Scourge and Fire: Savonarola and Renaissance Florence. London: Jonathan Cape, 2006.
Masters. Fortune is a River. – Masters Roger D. Fortune is a River: Leonardo da Vinci and Niccolò Machiavelli’s Magnificent Dream to Change the Course of Florentine History. New York: Plume, 1999.
Matteini, Moles. A Preliminary Investigation. – Matteini Mauro, Moles Arcangelo. A Preliminary Investigation of the Unusual Technique of Leonardo’s Mural «The Last Supper» // Studies in Conservation 24, no. 3 (August 1979). P. 125–133.
McGrath. Lodovico il Moro. – McGrath Elizabeth. Lodovico il Moro and his Moors // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 65 (2002). P. 67–94.
Merrifield. The Art of Fresco Painting. – Merrifield Mary Philadelphia. The Art of Fresco Painting as Practised by the Old Italian and Spanish Masters. London: Charles Gilpin, 1846.
Michelangelo. The Letters. – Michelangelo Buonarroti. The Letters of Michelangelo / Ed. by E. H. Ramsden. Vol. 1. Stanford: Stanford University Press, 1963.
Miller. The Last Word. – Miller Laura. The Last Word: The Da Vinci Con // New York Times, 22 February 2004.
Milman. History. – Milman Henry Hart. History of Latin Christianity. Vol. 4. London: John Murray, 1855.
Mirzoeff. Silent Poetry. – Mirzoeff Nicholas. Silent Poetry: Deafness, Sign and Visual Culture in Early Modern France. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Moffitt. Painterly Perspective. – Moffitt John F. Painterly Perspective and Piety: Religious Uses of the Vanishing Point, from the 15th to the 18th Century. Jefferson, NC: McFarland, 2008.
Moffitt. Painters «Born Under Saturn». – Moffitt John F. Painters «Born Under Saturn»: The Physiological Explanation // Art History 11 (1988). P. 195–216.
Monstadt. Judas beim Abendmahl. – Monstadt Brigitte. Judas beim Abendmahl: Figurenkonstellation und Bedeutung in Darstellungen von Giotto bis Andrea del Sarto. Munich: Scaneg, 1995.
Montelupo. Vita. – Montelupo Raffaello da. Vita da Raffaello da Montelupo / Ed. Riccardo Gatteschi. Florence: Polistampa, 1998.
Montléon. Le cenacle. – Montléon Aimé Guillon de. Le cénacle de Léonard de Vinci rendu aux amis des Beaux-Arts dans le tableau aujourd’hui chez un citoyen de Milan. Milan and Lyon: Dumolard, 1811.
Monumenta ordinis. – Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica. Vol. 15. Rome: Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum, 1933.
Moore. Leonardo da Vinci. – Moore Malcolm. Leonardo da Vinci may have been an Arab // Telegraph, 7 December 2007.
Morley. The Plant Illustrations. – Morley Brian. The Plant Illustrations of Leonardo da Vinci // The Burlington Magazine, 121 (September 1979). P. 553–562.
Murray. The Art of the Renaissance. – Murray Peter and Linda. The Art of the Renaissance. London: Thames & Hudson, 1963.
Murray. The New Wine. – Murray Paul. The New Wine of Dominican Spirituality: A Drink Called Happiness. London: Continuum, 2006.
Nagel. Structural Indeterminacy. – Nagel Alexander. Structural Indeterminacy in Early Sixteenth Century Italian Painting // Subject as Aporia in Early Modern Art / Ed. Alexander Nagel and Lorenzo Pericolo. Farnham, Hants: Ashgate, 2010. P. 17–23.
Najemy. A History of Florence. – Najemy John M. A History of Florence, 1200–1575. Oxford: Blackwell, 2006.
Neil. The Origins and Role of Same-Sex Relations. – Neil James. The Origins and Role of Same-Sex Relations in Human Societies. Jefferson, NC: McFarland & Co., 2009.
Nelson. The High Altar-piece. – Nelson Jonathan. The High Altar-piece of SS. Annunziata in Florence: History, Form, and Function // The Burlington Magazine 139 (February 1997). P. 84–94.
Niccoli. Prophecy and People. – Niccoli Ottavia. Prophecy and People in Renaissance Italy. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Nicholl. Leonardo da Vinci. – Nicholl Charles. Leonardo da Vinci: The Flights of the Mind. London: Allen Lane, 2004.
Nicolle. Fornovo 1495. – Nicolle David. Fornovo 1495: Frances Bloody Fighting Retreat. Oxford: Osprey, 1996.
O’Malley. Pietro Perugino. – O’Malley Michelle. Pietro Perugino and the Contingency of Value // The Material Renaissance / Ed. Michelle O’Malley, Evelyn Welch. Manchester: Manchester University Press, 2007.
Oechsli. The History of Switzerland. – Oechsli Wilhelm. The History of Switzerland, 1499–1914 / Trans. Eden and Cedar Paul. Cambridge: Cambridge University Press, 1922.
Ohly. The Damned and the Elect. – Ohly Friedrich. The Damned and the Elect: Guilt in Western Culture / Trans. Linda Archibald. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Origo. The Domestic Enemy. – Origo Iris. The Domestic Enemy: The Eastern Slaves in Tuscany in the Fourteenth and Fifteenth Centuries // Speculum: A Journal of Medieval Studies 30 (July 1955). P. 321–366.
Paoletti, Radke. Art in Renaissance Italy. – Paoletti John T., Radke Gary M. Art in Renaissance Italy. London: Laurence King Publishing, 2005.
Park. The Criminal and the Saintly Body. – Park Katharine. The Criminal and the Saintly Body: Autopsy and Dissection in Early Renaissance Italy // Renaissance Quarterly 47 (Spring 1994). P. 1–33.
Parzen. Please Play with Your Food. – Parzen Jeremy. Please Play with Your Food: An Incomplete Survey of Culinary Wonders in Italian Renaissance Cookery // Gastronomica: The Journal of Food and Culture 4 (Fall 2004). P. 25–33.
Pastor. The History of the Popes. – Pastor Ludwig. The History of the Popes from the Close of the Middle Ages // Ed. F. I. Antrobus. Vol. 6. London: Kegan Paul, Trench & Trubner, 1898.
Pauli. Vatican Appoints Official Da Vinci Code Debunker. – Pauli Michelle. Vatican Appoints Official Da Vinci Code Debunker // Guardian. 15 March 2005.
Peart-Binns. Bishop Hugh Montefore. – Peart-Binns J. S. Bishop Hugh Montefore. London: Blond / Quartet, 1990.
Pedretti. A Study in Chronology. – Pedretti Carlo. Leonardo: A Study in Chronology and Style. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1973.
Pedretti. Leonardo: Architect. – Pedretti Carlo. Leonardo: Architect / Trans. Sue Brill. London: Thames and Hudson, 1986.
Pedretti. Nec ense. – Pedretti Carlo. Nec ense // Achademia Leonardi Vinci: Journal of Leonardo Studies and Bibliography of Vinciana 3 / Ed. Carlo Pedretti (Florence: Giunti, 1990). P. 82–90.
Pedretti. Newly Discovered Evidence. – Pedretti Carlo. Newly Discovered Evidence of Leonardo’s Association with Bramante // Journal of the Society of Architectural Historians 32 (October 1973). P. 223–227.
Pedretti. Studies. – Pedretti Carlo. Leonardo: Studies for «The Last Supper» from the Royal Library at Windsor Castle. Florence: Electa, 1983.
Pedretti. The «Angel in the Flesh». – Pedretti Carlo. The «Angel in the Flesh» // Achademia Leonardi Vinci: Journal of Leonardo Studies and Bibliography of Vinciana 4 / Ed. Carlo Pedretti (Florence: Giunti, 1991). P. 34–48.
Pedretti. The Sforza Sepulchre. – Pedretti Carlo. The Sforza Sepulchre // Gazette des Beaux-Arts 89 (1977). P. 121–131.
Pérez-Gómez. The Glass Architecture of Luca Pacioli. – Pérez-Gómez Alberto. The Glass Architecture of Luca Pacioli // Chora: Intervals in the Philosophy of Architecture / Ed. Alberto Pérez-Gómez, Stephen Parcell. Vol. 4. Montreal; Kingston: McGill-Queen’s Press, 2003. P. 245–286.
Piccolomini. Reject Aeneas, Accept Pius. – Piccolomini Aeneas Silvius. Reject Aeneas, Accept Pius: Selected Letters of Aeneas Sylvius Piccolomini (Pope Pius II) / Trans. Thomas M. Izbicki et al. Washington, D. C.: Catholic University of America Press, 2006.
Pini. Vite e vino. – Pini Antonio Ivan. Vite e vino nel medioevo. Bologna: CLUEB, 1989.
Pizzorusso. The Authenticity. – Pizzorusso Ann. The Authenticity of the Virgin of the Rocks // Leonardo 29 (1996). P. 197–200.
Ponting, ed. Drawings of Textile Machines. – Ponting Kenneth G., ed. Leonardo da Vinci: Drawings of Textile Machines. Bradford-on-Avon: Moonraker Press and Pasold Research Fund Ltd., 1979.
Popham. The Drawings. – Popham A. E. The Drawings of Leonardo da Vinci. London: Jonathan Cape, 1946.
Pseudo-Bonaventure. Meditations. – Pseudo-Bonaventure. Meditations on the Life of Christ / Trans. Isa Ragusa, Rosalie B. Green. Princeton: Princeton University Press, 1961.
Quintilian. The Institutio Oratoria. – Quintilian. The Institutio Oratoria of Quintilian / Ed. and trans. by H. E. Butler. Vol. 4. Cambridge, MA: Loeb Classical Library, 1920.
Rapp. The Father of Western Gastronomy. – Rapp Albert. The Father of Western Gastronomy // Classical Journal 51 (October 1955).
Rebora. Culture of the Fork. – Rebora Giovanni. Culture of the Fork: A Brief History of Food in Europe / Trans. Albert Son-nenfeld. New York: Columbia University Press, 2001.
Redon, Sabban, Serventi. The Medieval Kitchen. – Redon Odile, Sabban Francoise, Serventi Silvano. The Medieval Kitchen: Recipes from France and Italy / Trans. Edward Schneider. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Reti. Two Unpublished Manuscripts. – Reti Ladislao. Two Unpublished Manuscripts of Leonardo da Vinci in the Biblioteca Nacional of Madrid. Part II // The Burlington Magazine (February 1968). P. 81–91.
Rhees. Christ in Art. – Rhees Rush. Christ in Art // Biblical World 6 (December 1895). P. 490–503.
Robertson. Bramante. – Robertson Charles. Bramante, Michelangelo and the Sistine Ceiling // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 49 (1986). P. 91–105.
Robinson, ed. The Nag Hammadi Library. – Robinson James M., ed. The Nag Hammadi Library in English. Leiden; New York: Brill and Harper and Row, 1977.
Roscoe. The Life of Lorenzo de’ Medici. – Roscoe William. The Life of Lorenzo de’ Medici. London: Henry G. Bonn, 1847.
Rubin. Corpus Christi. – Rubin Miri. Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Rubin. Image and Identity. – Rubin Patricia Lee. Image and Identity in Fifteenth-Century Florence. New Haven: Yale University Press, 2007.
Saalman. Paolo Uccello. – Saalman Howard. Paolo Uccello at San Miniato // The Burlington Magazine 106 (December 1964). P. 558–563.
Sacchetti. II Trecento Novelle. – Sacchetti Francesco. II Trecento Novelle / Ed. Antonio Lanza. Florence: Sansoni, 1984.
Samuels. Bernard Berenson. – Samuels Ernest. Bernard Berenson: The Making of a Legend. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
Savonarola. Selected Writings. – Savonarola Girolamo. Selected Writings of Girolamo Savonarola: Religion and Politics; 1490–1498 / Ed. Anne Borelli, Maria C. Pastore Passaro. New Haven: Yale University Press, 2006.
Schneemelcher, ed. New Testament Apocrypha. – Schneemelcher Wilhelm, ed. New Testament Apocrypha. Vol. 2. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2003.
Schwartz. The Staging of Leonardo’s Last Supper. – Schwartz Lillian F. The Staging of Leonardo’s Last Supper. A Computer-Based Exploration of Its Perspective // Electronic Art 1, Leonardo: Supplemental Issue (1988). P. 89–96.
Setton. The Papacy. – Setton Kenneth M. The Papacy and the Levant, 1204–1571. Vol. 3. Philadelphia: American Philosophical Society, 1984.
Shell, Sironi. Cecilia Gallerani. – Shell Janice, Sironi Grazioso. Cecilia Gallerani: Leonardo’s Lady with an Ermine // Artibus et Historiae 13 (1992). P. 47–66.
Shoumatoff. The Alps. – Shoumatoff Nicholas and Nina. The Alps: Europe’s Mountain Heart. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.
Slim. The Lutenist’s Hand. – Slim H. Colin. The Lutenist’s Hand // Achademia Leonardi Vinci: Journal of Leonardo Studies and Bibliography of Vinciana 1 / Ed. Carlo Pedretti (Florence: Giunti, 1988). P. 32–34.
Smit. Flemish Tapestry Weavers. – Smit Hillie. Flemish Tapestry Weavers in Italy, с. 1420–1520: A Survey and Analysis of the Activity in Various Cities // Flemish Tapestry Weavers Abroad: Emigration and the Founding of Manufactories in Europe / Ed. Guy Delmarcel. Louvain: Louvain University Press, 2002. P. 113–130.
Sohm. The Artist Grows Old. – Sohm Philip Lindsay. The Artist Grows Old: The Aging of Art and Artists in Italy, 1500–1800. New Haven: Yale University Press, 2007.
Spencer. Andrea del Castagno. – Spencer John R. Andrea del Castagno and His Patrons. Durham: Duke University Press, 1991.
Squires. Mona Lisa ‘was a boy’. – Squires Nick. Mona Lisa ‘was a boy’ // Daily Telegraph, 2, February 2011.
Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». – Steinberg Leo. Leonardo’s Incessant «Last Supper». New York: Zone Books, 2001.
Steinberg. Leonardo’s Last Supper. – Steinberg Leo. Leonardo’s Last Supper // Art Quarterly 36 (1973). P. 297–410.
Strickland. Saracens, Demons, and Jews. – Strickland Debra Higgs. Saracens, Demons, and Jews: Making Monsters in Medieval Art. Princeton: Princeton University Press, 2003.
Strocchia. Death Rites. – Strocchia Sharon T. Death Rites and the Ritual Family in Renaissance Florence // Life and Death in Fifteenth-Century Florence / Eds. Marcel Tetel, Ronald G. Witt, Rona Goffen. Durham: Duke University Press, 1989. P. 120–145.
Strong. The Triumph of Mona Lisa. – Strong Donald. The Triumph of Mona Lisa: Science and Allegory of Time // Leonardo e I’età della Ragione / Ed. Enrico Bellone and Paolo Rossi. Milan: Edizioni di Saentia, 1982. P. 255–278.
Syson, et al. Leonardo da Vinci. – Syson Luke, et al. Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan. London: National Gallery, 2011.
Tacconi. Cathedral and Civic Ritual. – Tacconi Marica S. Cathedral and Civic Ritual in Late Medieval and Renaissance Florence: The Service Books of Santa Maria del Fiore. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Tal. Witches on Top. – Tal Guy. Witches on Top: Magic, Power, and Imagination in the Art of Early Modern Italy. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Tantillo. Goethe’s Modernisms. – Tantillo Astrida Orle. Goethe’s Modernisms. London: Continuum, 2010.
Tavuzzi. Dominican Inquisitors. – Tavuzzi Michael M. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy, 1474–1527. Leiden: Brill, 2007.
Taylor. No Royal Road. – Taylor R. Emmett. No Royal Road: Luca Pacioli and His Times. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1942.
Tilborg. Imaginative Love. – Tilborg Sjef van. Imaginative Love in John. Leiden: Brill, 1993.
Tinagli. Women in Italian Renaissance Art. – Tinagli Paola. Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation, Identity. Manchester: Manchester University Press, 1997.
Todeschini. The Incivility of Judas. – Todeschini Giacomo. The Incivility of Judas: ‘Manifest’ Usury as a Metaphor for the ‘Infamy of Fact’ // Money, Morality and Culture in Late Medieval and Early Modern Europe / Ed. by Juliann Vitullo, Diane Wolfthal. Farnham, Surrey: Ashgate, 2010.
Trexler. Public Life. – Trexler Richard C. Public Life in Renaissance Florence. Ithaca: Cornell Paperbacks, 1991.
Trumble. The Finger. – Trumble Angus. The Finger: A Handbook. Melbourne: Melbourne University Press, 2010.
Tucker. The Preacher as Storyteller. – Tucker Austin B. The Preacher as Storyteller: The Power of Narrative in the Pulpit. Nashville: B&H Publishing, 2008.
Tugwell, ed. Early Dominicans. – Tugwell Simon, ed. Early Dominicans: Selected Writings. Mahwah, NJ: Paulist Press, 1982.
Tuohy. Herculean Ferrara. – Tuohy Thomas. Herculean Ferrara: Ercole d’Este (1471–1505) and the Invention of a Ducal Capital. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Turner. Inventing Leonardo. – Turner Richard. Inventing Leonardo. London: Papermac, 1995.
Ulivi. Per la genealogia. – Ulivi Elisabetta. Per la genealogia di Leonardo: Matrimoni e altre vicende nella famiglia da Vinci sullo sfondo della Firenze rinascimentale. Vinci: Museo Ideale Leonardo da Vinci, 2008.
Valla. On the Donation of Constantine. – Valla Lorenzo. On the Donation of Constantine / Trans. G. W. Bowersock. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
Valsecchi. It’s Art, but Is It Leonardo’s? – Valsecchi Piero. It’s Art, but Is It Leonardo’s? Milan: Associated Press Wire, 28 May 1999.
Varriano. At Supper with Leonardo. – Varriano John. At Supper with Leonardo // Gastronomica: The Journal of Food and Culture 8 (Winter 2008). P. 75–79.
Vasari on Technique. – Vasari Giorgio. Vasari on Technique / Trans. Louisa S. Maclehose. Ed. G. Baldwin Brown. New York: Dover, 1960.
Vasari. Lives of the Artists. – Vasari Giorgio. Lives of the Artists / Trans. George Bull. 2 vols. London: Penguin, 1965.
Vasari. Lives of the Most Eminent Painters. – Vasari Giorgio. Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects / Trans. Gaston du C. de Vere. 10 vols. London: Philip Lee Warner, 1912–1915.
Vecce. Leonardo. – Vecce Carlo. Leonardo. Rome: Salerno Editrice, 1998.
Villari. Life and Times of Girolamo Savonarola. – Villari Pasquale. Life and Times of Girolamo Savonarola / Trans. Linda Villari. 2 vols. London: T. Fisher Unwin, 1888.
Villata, ed. Documenti. – Villata Edoardo, ed. Leonardo da Vinci: I documenti e le testimonianze contemporanee. Milan: Castello Sforzesco, 1999.
Vinci. Codex Atlanticus. – Vinci Leonardo da. Leonardo da Vinci, Codex Atlanticus: A Catalogue of Its Newly Restored Sheets / Ed. Carlo Pedretti. Milan: Giunti, 1979.
Vinci. Codex Madrid. – Vinci Leonardo da. Codex Madrid: Leonardo da Vinci: The Madrid Codices. Vol. 5: Transcription and Translation of Codex Madrid II / Ed. by Ladislao Reti. New York: McGraw-Hill, 1974.
Vinci. On Painting. – Vinci Leonardo da. Leonardo da Vinci on Painting: A Lost Book (Lihro A) / Ed. Carlo Pedretti. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1964.
Vinci. «Paragone». – Vinci Leonardo da. Leonardo da Vinci’s «Paragone» / Ed. Claire J. Farago. Leiden: Brill, 1992.
Vinci. The Literary Works. – Vinci Leonardo da. The Literary Works of Leonardo da Vinci / Соmр. and ed. Jean-Paul Richter. 2 vols. London: Phaidon, 1970.
Vinci. The Literary Works with a commentary. – Vinci Leonardo da. The Literary Works of Leonardo da Vinci / Ed. Jean-Paul Richter, with a commentary by Carlo Pedretti. 2 vols. Oxford: Phaidon, 1977.
Vinci. The Notebooks. – Vinci Leonardo da. The Notebooks of Leonardo da Vinci / Ed. Irma A. Richter. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Vinci. Treatise on Painting. – Vinci Leonardo da. Treatise on Painting / Ed. A. Philip McMahon. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1956.
Vitruvius. Ten Books on Architecture. – Vitruvius. Ten Books on Architecture / Trans. Morris Hicky Morgan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914.
Voragine. The Golden Legend. – Voragine Jacobus de. The Golden Legend: Readings on the Saints / Ed. William Granger Ryan. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Wallace. Michelangelo’s Assistants. – Wallace William E. Michelangelo’s Assistants in the Sistine Chapel // Gazette des Beaux-Arts 11 (December 1987). P. 203–216.
Wasserman. Leonardo da Vinci’s Last Supper. – Wasserman Jack. Leonardo da Vinci’s Last Supper: The Case of the Overturned Saltcellar // Artibus et Historiae 24 (2003). P. 65–72.
Waterman. Story of Superstition. – Waterman Philip F. Story of Superstition. New York: Alfred A. Knopf, 1929.
Welch. New Documents. – Welch Evelyn. New Documents for Vincenzo Foppa // The Burlington Magazine. Vol. 27 (May 1985).
Welch. Patrons, Artists and Audiences. – Welch Evelyn. Patrons, Artists and Audiences in Renaissance Milan // The Northern Court Cities: Milan, Parma, Piacenza, Mantua, Ferrara / Ed. Charles M. Rosenberg. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 21–70.
White. Eilmer of Malmesbury. – White Lynn Jr. Eilmer of Malmesbury, an Eleventh Century Aviator: A Case Study of Technological Innovation, Its Context and Tradition // Technology and Culture 2 (Spring 1961). P. 97–111.
Wilk. The Cult of Mary Magdalene. – Wilk Sarah. The Cult of Mary Magdalene in Fifteenth-Century Florence and Its Iconography // Studi Medievali 26 (1985). P. 685–698.
William Edwards and the Doctrine of Race // Bones, Bodies, Behavior: Essays on Biological Anthropology / Ed. by
Williams. Verrocchio’s Tombslab. – Williams Kim. Verrocchio’s Tombslab for Cosimo de’ Medici: Designing with a Mathematical Vocabulary // Nexus: Architecture and Mathematics // Ed. Kim Williams. Florence: Edizioni dell’Erba, 1996. P. 193–205.
Wisch. Vested Interest. – Wisch Barbara. Vested Interest: Redressing Jews on Michelangelo’s Sistine Ceiling // Artibus et Historiae 24 (2003). P. 143–172.
Wisdom from the Monastery. – Wisdom from the Monastery: The Rule of Saint Benedict for Everyday Life. Norwich: Canterbury Press, 2005.
Witt. What Did Giovannino Read and Write? – Witt Ronald. What Did Giovannino Read and Write? Literacy in Early Renaissance Florence // I Tatti Studies: Essays in the Renaissance 6 (1995). P. 83–114.
Wohl. Domenico Veneziano Studies. – Wohl Hellmut. Domenico Veneziano Studies: The Sant’ Egidio and Parenti Documents // The Burlington Magazine 113 (November 1971). P. 635–641.
Wolf. From Mandylion to Veronica. – Wolf Gerhard. From Mandylion to Veronica: Picturing the Disembodied Face and Disseminating the True Image of Christ in the Latin West // The Holy Face and the Paradox of Representation: Papers from a Colloquium Held at the Bihlioteca Hertziana, Rome and the Villa Spelman, Florence, 1996 / Ed. by Herbert L. Kessler, Gerhard Wolf. Bologna: Nuova Alfa Editonale, 1998. P. 153–179.
Woods-Marsden. Portrait of the Lady. – Woods-Marsden Joanna. Portrait of the Lady, 1430–1520 // Virtue and Beauty: Leonardo’s Ginevra de’ Benci and Renaissance Portraits of Women / Ed. David Alan Brown. Princeton: Princeton University Press, 2001. P. 63–87.
Zagano, McGonigle. The Dominican Tradition. – Zagano Phyllis, McGonigle Thomas C. The Dominican Tradition. Collegeville, Minnesota: Order of Saint Benedict, 2006.
Zöllner. Leonardo da Vinci. – Zöllner Frank. Leonardo da Vinci, 1452–1519: The Complete Paintings and Drawings. Cologne; London; Los Angeles; Madrid; Paris; Toronto: Taschen, 2003.
Цветные иллюстрации
1. Леонардо да Винчи (1452–1519). Мадонна в скалах. 1483 – ок. 1485. Холст, масло.
2. Йорис Хофнагель (1542–1600). Карта Милана. Ок. 1572. Цветная гравюра. Иллюстрация из «Атласа городов земного шара» Георга Брауна (1541–1622) и Франса Хогенберга (1535–1590).
3. Йорис Хофнагель (1542–1600). Карта Милана. Фрагмент: Кастелло Сфорцеско. Ок. 1572. Цветная гравюра. Иллюстрация из «Атласа городов земного шара» Георга Брауна (1541–1622) и Франса Хогенберга (1535–1590).
4, 5. Церковь Санта-Мария делле Грацие в Милане. Современные фото экстерьера и внутреннего убранства.
6. Андреа дель Кастаньо (1423–1457). Тайная вечеря. 1447. Фреска.
7. Доменико Гирландайо (1449–1494). Тайная вечеря. Фрагмент. 1480. Фреска.
8. Джованни Донато да Монторфано (1440–1510). Распятие. 1495. Фреска.
9. Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
10. Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостолы Иуда, Петр и Иоанн. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
11. Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: Иисус Христос и апостолы Фома, Иаков Старший и Филипп. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
12. Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостолы Варфоломей, Иаков Младший и Андрей. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
13. Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: апостолы Матфей, Фаддей и Симон. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
14. Леонардо да Винчи (1452–1519). Эскиз головы Христа. 1495–1497. Черный мел, сангина, пастель.
15. Леонардо да Винчи (1452–1519). Тайная вечеря. Фрагмент: Иисус Христос. 1495–1497. Стенная роспись (после реставрации).
16. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Ок. 1880. Фото.
17. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи до реставрации. 1970-е. Фото.
18. Джампетрино (Джан Пьетро Риццоли; работал 1508–1549). Копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Ок. 1520. Холст, масло.
19. Анонимный миланский мастер (в инвентаре 1650 года приписывалась Марко д’Оджоно). Копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. XVI в. Холст, масло.
20. Леонардо да Винчи (1452–1519). Портрет Чечилии Галлерани (Дама с горностаем). Ок. 1498. Дерево, масло.
21. Леонардо да Винчи (1452–1519). Женский портрет (Прекрасная Ферроньера). Ок. 1496. Дерево, масло.
22. Леонардо да Винчи (1452–1519). Пропорции человеческого тела по Витрувию. Ок. 1490. Перо, чернила, черный мел.
Примечания
1
Guicciardini. The History. P. 32.
(обратно)2
Ibid. P. 49.
(обратно)3
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 314.
(обратно)4
Commines. The Memoirs. P. 151.
(обратно)5
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 223.
(обратно)6
Commines. The Memoirs. P. 107–108.
(обратно)7
Villata, ed. Documenti. P. 76.
(обратно)8
Welch. Patrons, Artists and Audiences. P. 46.
(обратно)9
Villata, ed. Documenti. P. 77.
(обратно)10
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 255. Здесь и далее цит. по: Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2008; Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 32. Здесь и далее цит. по: Волынский А. Л. Жизнь Леонардо да Винчи. СПб., 1900. Ломаццо, цит. по: Pedretti. Studies. P. 134.
(обратно)11
О подкове: Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 270; о походах в горы: Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1030.
(обратно)12
Kemp. The Marvellous Works. P. 160.
(обратно)13
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1018.
(обратно)14
Ibid. Vol. 2. § 1340; цит. по: Да Винчи, Леонардо. Избранные произведения: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1935. (Далее: Да Винчи. Избранные произведения.)
(обратно)15
Machiavelli. The Art of War. P. 21; Machiavelli. The Prince. P. 1, 62. Здесь и далее цит. по: Макиавелли Н. Государь. Искусство войны. М., 2013.
(обратно)16
Machiavelli. Florentine Histories. P. 313.
(обратно)17
Villata, ed. Documenti. P. 44.
(обратно)18
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1363.
(обратно)19
Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 30.
(обратно)20
См.: Elam. Art and Diplomacy. P. 813–820.
(обратно)21
Villata, ed. Documenti. P. 45.
(обратно)22
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1384.
(обратно)23
Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 31.
(обратно)24
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1190, 796.
(обратно)25
Villata, ed. Documenti. P. 44.
(обратно)26
Ibid. P. 45–46.
(обратно)27
Ibid. P. 46.
(обратно)28
Ibid. P. 57–61.
(обратно)29
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 720; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 117.
(обратно)30
Villata, ed. Documenti. P. 62–63.
(обратно)31
Ibid. P. 78–79. В первом стихотворении (автор его – Бальдассаре Такконе) говорится, что Леонардо все еще работает над глиняным конем, а значит, в 1493 г. модель не была готова, тем более – не выставлена на обозрение.
(обратно)32
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 9.
(обратно)33
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 710, 711.
(обратно)34
Ibid. § 714.
(обратно)35
Commines. The Memoirs. P. 125.
(обратно)36
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 256.
(обратно)37
Commines. The Memoirs. P. 133.
(обратно)38
Landucci. A Florentine Diary. P. 22.
(обратно)39
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1340; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 22.
(обратно)40
Machiavelli. Florentine Histories. P. 309.
(обратно)41
Cerretani. Storia fiorentina. P. 201.
(обратно)42
Bembo. History of Venice. P. 81.
(обратно)43
Guicciardini. The History. P. 54.
(обратно)44
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 231.
(обратно)45
Villata, ed. Documenti. P. 85.
(обратно)46
Tuohy. Herculean Ferrara. P. 97.
(обратно)47
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1514.
(обратно)48
Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 31.
(обратно)49
Цит. по: Shell, Sironi. Cecilia Gallerani. P. 48; Pedretti. Leonardo: Architect. P. 77.
(обратно)50
Подробнее об этой истории см.: Nagel. Structural Indeterminacy. P. 17–23.
(обратно)51
Кристиане Клапиш-Зубер утверждает, что средняя продолжительность жизни в Италии в эпоху Возрождения была «от двадцати до сорока лет». См.: Klapisch-Zuber. Women. P. 57. N. 45.
(обратно)52
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1346.
(обратно)53
Ibid. § 1365, 1366. Друг Леонардо, поэт Антонио Каммелли, цит. по: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 160.
(обратно)54
Giovio Paolo. The Life of Leonardo da Vinci // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 29.
(обратно)55
Villata, ed. Documenti. P. 3. Подробнее о традиции представлять ферму в Анчьяно как место рождения Леонардо см. в: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 18–19.
(обратно)56
Villata, ed. Documenti. P. 102, 87; Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 722.
(обратно)57
Цит. по: Origo. The Domestic Enemy. P. 321. Ориго пишет, что слуги-рабы были в деревнях и городах вокруг Флоренции обычным делом. О цене рабов см.: Goldthwaite. The Economy. P. 377. О вероятности того, что мать Леонардо была рабыней, см.: Cianchi. La madre di Leonardo.
(обратно)58
См.: Moore. Leonardo da Vinci; а также доклад Марты Фалькони (Marta Falconi: / 15993133/ns/technology_and_science-science/t/experts-reconstruct-Ieonardo-fingerprint/#.TwGqXRzCcrg).
(обратно)59
Bramly. Leonardo. P. 242.
(обратно)60
Ulivi. Per la genealogia. 2008.
(обратно)61
Piccolomini. Reject Aeneas, Accept Pius. P. 159–160.
(обратно)62
Francesca. Trattato d’Abaco. P. 51. О школьном образовании в Тоскане эпохи Возрождения см.: Witt. What Did Giovannino Read and Write? P. 83–114; Black. Education and Society.
(обратно)63
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 255
(обратно)64
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1421, 1525.
(обратно)65
Цит. по: Bramly. Leonardo. P. 117. О службе сера Пьеро нотариусом Козимо Медичи см.: Beck. Leonardo’s Rapport. P. 5–12. О его профессиональных связях с еврейской общиной см.: Cecchi. New Light. P. 123.
(обратно)66
Baldassarri, Saiber, eds. Images of Quattrocentro Florence. P. 40, 73. Об изобилии и роскоши см.: Brown. Origins of a Genius. P. 12.
(обратно)67
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 256; о связях сера Пьеро с Верроккьо см.: Cecchi. New Light. P. 124.
(обратно)68
Цит. по: Brown. Origins of a Genius. P. 54.
(обратно)69
Cruttwell. Verrocchio. P. 27.
(обратно)70
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 258; точку зрения, что ангел написан именно Леонардо, поддерживают очень многие. См.: Brown. Origins of a Genius. P. 142.
(обратно)71
Участие Леонардо в этой работе было обнаружено Уильямом Суидой в 1954 г., но почти никто не согласился с его заявлением; в недавнее время на ту же точку зрения встал Дэвид Алан Браун. См.: Brown. Origins of a Genius. P. 51. Браун полагает (с. 54), что голова Товия тоже написана Леонардо.
(обратно)72
Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 32.
(обратно)73
Список одежды Леонардо см.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 332. О модах XV в. см.: Baxandall. Painting. P. 14–15; Frick. Dressing. P. 3.
(обратно)74
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1369. Об участии Леонардо в создании пейзажного фона «Крещения Христа» Верроккьо см.: Brown. Origins of a Genius. P. 140.
(обратно)75
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1369; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 330.
(обратно)76
Ibid. § 987; Там же. С. 335.
(обратно)77
Cruttwell. Verrocchio. P. 37.
(обратно)78
Sacchetti. Il Trecento Novelle. P. 44.
(обратно)79
Цит. по: Bramly. Leonardo. P. 123. О пессимистических взглядах Леонардо на семейную жизнь см. также: King, ed. The Fantasia of Leonardo da Vinci. P. 47.
(обратно)80
Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 30.
(обратно)81
Covi. Four New Documents. P. 97–103.
(обратно)82
Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 30. Об участии Леонардо в работе над садом Лоренцо см.: Borgo, Sievers. The Medici Gardens. P. 237–256; Elam. Lorenzo de’ Medici’s Sculpture Garden. P. 41–84.
(обратно)83
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 663.
(обратно)84
Roscoe. The Life of Lorenzo de’ Medici. P. 236.
(обратно)85
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 258.
(обратно)86
О связях сера Пьеро с Бенчи см.: Cecchi. New Light. P. 129.
(обратно)87
О договоре на роспись алтаря см.: Villata, ed. Documenti. P. 13–14.
(обратно)88
Baldassarri, Saiber, eds. Images of Quattrocentro Florence. P. 209.
(обратно)89
Подробнее о «внешней невзрачности» младенца Христа на двух этих картинах см.: Feinberg. Sight Unseen. P. 28–34.
(обратно)90
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 500.
(обратно)91
Giovio Paolo. Life of Leonardo da Vinci // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 29.
(обратно)92
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1448, 1432.
(обратно)93
Среди других пионеров альпинизма были Петрарка – он поднялся на гору Ванту в 1336 г. – и Пьетро Бембо, будущий кардинал, покоривший Этну в 1494-м.
(обратно)94
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1060. См.: Shoumatoff. The Alps. P. 192–193.
(обратно)95
Это свидетельство графа А. Г. Реццонико было опубликовано в 1780 г. и процитировано: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 175. Педретти, автор комментария, отмечает, что эта история «озадачивает», однако добавляет, что граф Реццонико мог иметь доступ к документам, которые теперь утрачены.
(обратно)96
О ранних проектах Леонардо см.: Kemp. The Marvellous Works. P. 58–66. Об арбалете см.: Laurenza. Leonardo’s Machines. P. 75–79. Лоренца датирует этот чертеж примерно 1482 г.
(обратно)97
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1154; цит. по: Да Винчи. Избранные сочинения. Т. 1. С. 129.
(обратно)98
Farago. Aesthetics. P. 56.
(обратно)99
О договоре см.: Villata, ed. Documenti. P. 19–28. Ханнелора Глассер подробно обсуждает договор и предусмотренные в нем последствия в: Glasser. Artists’ Contracts. P. 208–270.
(обратно)100
Villata, ed. Documenti. P. 35.
(обратно)101
Glasser. Artists’ Contracts. P. 345. Высокое лицо, к которому апеллировали художники, названо «Знатнейшим и сиятельнейшим повелителем» – почти не остается сомнений, что речь идет о Лодовико Сфорца. Что касается потенциального покупателя, его личность установить гораздо сложнее.
(обратно)102
Цит. по: Baxandall. Painting. P. 6.
(обратно)103
Pizzorusso. The Authenticity. P. 197.
(обратно)104
Об идентификации растений на картинах см.: Morley. The Plant Illustrations. P. 559.
(обратно)105
Многие исследователи принимают за данность, что Лодовико Сфорца приобрел картину и преподнес в качестве свадебного подарка Максимилиану. Это возможно, однако гипотеза не подтверждена никакими документами, есть только свидетельство Анонима Гадьяно, что Лодовико отправил Максимилиану «одно из самых редких и прекрасных произведений живописи» кисти Леонардо. Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 30.
(обратно)106
Machiavelli. The Prince. P. 54.
(обратно)107
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1356, 1357, 1179; Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 309.
(обратно)108
McGrath. Lodovico il Moro. P. 85.
(обратно)109
Cartwright. Beatrice. P. 246.
(обратно)110
Commines. The Memoirs. P. 153.
(обратно)111
Guicciardini. The History. P. 58.
(обратно)112
Цит. по: Black. Absolutism. P. 70.
(обратно)113
О застольных манерах Бьянки Марии см.: Cartwright. Beatrice. P. 219.
(обратно)114
Commines. The Memoirs. P. 137.
(обратно)115
Цит. по: Welch. Patrons, Artists and Audiences. P. 46.
(обратно)116
Pedretti. The Sforza Sepulchre. P. 121–131; Lang. Leonardo’s Architectural Designs. P. 218–233.
(обратно)117
Об их отношениях см.: Pedretti. Newly Discovered Evidence. P. 223–227. О Леонардо и немецких масонах см.: Lang. Leonardo’s Architectural Designs. P. 221. Заметку о книге про Милан и его церкви см.: Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1448.
(обратно)118
Цит. по: Milman. History. P. 251.
(обратно)119
Monumenta ordinis. P. 90–91.
(обратно)120
Tavuzzi. Dominican Inquisitors. P. 255.
(обратно)121
Voragine. The Golden Legend. Vol. 2. P. 44–45.
(обратно)122
Aquinas. Summa theologiae. Vol. 1. P. 3.
(обратно)123
Voragine. The Golden Legend. Vol. 2. P. 44.
(обратно)124
Aquinas. Summa tbeologiae. Vol. 43. P. 115.
(обратно)125
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1340; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 124.
(обратно)126
Цит. по: Baxandall. Painting. P. 26.
(обратно)127
Vasari on Technique. P. 222.
(обратно)128
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1344. Карло Педретти датирует это письмо из Атлантического кодекса (Vinci. Codex Atlanticus. Fol. 315 v) приблизительно 1495 г. См.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 296.
(обратно)129
Guicciardini. The History. P. 66.
(обратно)130
Цит. по: Setton. The Papacy. P. 456.
(обратно)131
Цит. по: Ibid. P. 477.
(обратно)132
Commines. The Memoirs. P. 149.
(обратно)133
Цит. по: Pastor. The History of the Popes. P. 454.
(обратно)134
Рассказ Леонардо об этом приобретении содержится в Атлантическом кодексе (Vinci. Codex Atlanticus. Fol. 104 r-a). Анализ см.: Pedretti. Studies. P. 137. Список книг Леонардо содержится в Атлантическом кодексе (Vinci. Codex Atlanticus. Fol. 210 r.).
(обратно)135
В Евангелиях о Тайной вечере рассказано: Мф. 26: 1–29; Мк. 14: 1–25; Лк. 22: 1–30; Ин. 13: 1–30.
(обратно)136
Eusebius. History of the Church. P. 153.
(обратно)137
Цит. по: Culpeper. John, the Son of Zebedee. P. 167.
(обратно)138
Galbraith. The Constitution of the Dominican Order. P. 118.
(обратно)139
The Rule of Saint Benedict / Trans. Patrick Barry // Wisdom from the Monastery. P. 59.
(обратно)140
Джованни Баттиста Джиральди, цит. по: Clayton. Leonardo da Vinci. P. 130.
(обратно)141
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 571; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 234.
(обратно)142
Vinci. Treatise on Painting. Vol. 1. P. 55.
(обратно)143
Цит. по: Trexler. Public Life. P. 461.
(обратно)144
Цит. по: Dean. The Towns of Italy. P. 123.
(обратно)145
За информацию о скамейках и посиделках на скамейках во Флоренции эпохи Возрождения я признателен следующему источнику: Elet. Seats of Power.
(обратно)146
Цит. по: Elet. Seats of Power. P. 451. Историю про Леонардо и скамеечников из палаццо Спини см.: Leonardo da Vinci by the Anonimo Gaddiano // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 32.
(обратно)147
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 594; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 234.
(обратно)148
Педретти полагает, что этот набросок отражает «первый замысел „Тайной вечери“ Леонардо». См.: Pedretti. Studies. P. 32.
(обратно)149
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 601, 602; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 334.
(обратно)150
Ibid. § 608; Там же. С. 292.
(обратно)151
Ibid. § 665, 666; Там же. С. 242.
(обратно)152
Vinci. Treatise on Painting. Vol. 1. § 248; Там же. С. 219.
(обратно)153
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 509; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 119.
(обратно)154
Цит. по: Ady. A History of Milan. P. 259.
(обратно)155
Цит. по: Galluzzi, ed. Leonardo da Vinci. P. 6.
(обратно)156
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 119.
(обратно)157
Vinci. Treatise on Painting. Vol. 1. § 37; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 94.
(обратно)158
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 267.
(обратно)159
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 494; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 119.
(обратно)160
Ibid. Vol. 2. § 1344.
(обратно)161
Ibid. § 1460.
(обратно)162
О Мазини см.: Ammirato. Opuscoli. P. 242; Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 377, 383; Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 141–145. О нелюбви Леонардо к алхимикам и некромантам см.: Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1207, 1208, 1213.
(обратно)163
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1459.
(обратно)164
Ibid. § 1461.
(обратно)165
См.: Brucker. The Society. P. 2.
(обратно)166
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1547.
(обратно)167
Ibid. § 1384.
(обратно)168
Ibid. § 1517.
(обратно)169
Ibid. § 1522.
(обратно)170
Цит. по: Bowd. Venice’s Most Loyal City. P. 135.
(обратно)171
Цит. по: Strocchia. Death Rites. P. 121.
(обратно)172
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 494; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 119.
(обратно)173
Goldthwaite. The Economy. P. 373.
(обратно)174
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1458; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 117.
(обратно)175
Ibid.; Там же.
(обратно)176
Ibid.; Там же.
(обратно)177
Педретти отмечает, что эти слова написаны не рукой Леонардо. См.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 342.
(обратно)178
Goldthwaite. The Economy. P. 371.
(обратно)179
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1458; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 118.
(обратно)180
Ibid. § 1516, 1534.
(обратно)181
Ibid. § 1525.
(обратно)182
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 265.
(обратно)183
См.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 217.
(обратно)184
Цит. по: Pedretti. A Study in Chronology. P. 141.
(обратно)185
Brucker. The Society. P. 190.
(обратно)186
Цит. по: Najemy. A History of Florence. P. 247.
(обратно)187
Villata, ed. Documenti. P. 7–8.
(обратно)188
Murray. The Art of the Renaissance. P. 230.
(обратно)189
Freud. Leonardo da Vinci. P. 71.
(обратно)190
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1383.
(обратно)191
Цит. по: Trexler. Public Life. P. 389.
(обратно)192
Письмо воспроизведено в: Villata, ed. Documenti. P. 11–12. Подробный рассказ о Паоло см.: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 131–32.
(обратно)193
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 256.
(обратно)194
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 680.
(обратно)195
Цит. по: Clayton. Leonardo da Vinci. P. 130.
(обратно)196
Cennini. The Book of the Art. P. 9, 11.
(обратно)197
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 614, 616, 617.
(обратно)198
О редком использовании этой техники см.: Popham. The Drawings. P. 7.
(обратно)199
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 368.
(обратно)200
См.: Tinagli. Women in Italian Renaissance Art. P. 48–49.
(обратно)201
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 380.
(обратно)202
Подробнее об этом листе см.: Kemp. Experience. P. 3–6.
(обратно)203
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 8.
(обратно)204
Cennini. The Book of the Art. P. 29.
(обратно)205
Цит. по: Bambach, ed. Leonardo, Left-handed Draftsman and Writer. P. 32.
(обратно)206
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 110; Popham. The Drawings. P. 10. Единственное свидетельство о том, что у Леонардо была покалечена правая рука, исходит от Антонио де Беатиса, секретаря кардинала Луиджи Арагонского; после визита Леонардо во Францию в октябре 1517 г. он написал, что «некий паралич изувечил его правую руку». Попэм отмечает этот факт, но потом добавляет, что нет никаких причин полагать, что Леонардо не был левшой от рождения.
(обратно)207
См.: Bambach, ed. Leonardo, Left-handed Draftsman and Writer. P. 51.
(обратно)208
Boyle. Senses of Touch. P. 212.
(обратно)209
Montelupo. Vita. P. 120–121. Именно Раффаэлло пишет о том, что Микеланджело был по рождению левшой, – единственный известный источник этого утверждения.
(обратно)210
Commines. The Memoirs. P. 153.
(обратно)211
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 257.
(обратно)212
Setton. The Papacy. P. 474.
(обратно)213
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 255.
(обратно)214
Commines. The Memoirs. P. 155.
(обратно)215
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 266.
(обратно)216
Guicciardini. The History. P. 86.
(обратно)217
Ibid. P. 88.
(обратно)218
Ibid. P. 108.
(обратно)219
Цит. по: Lane. A Course of Lectures on Syphilis. P. 220.
(обратно)220
Цит. по: Crawford. European Sexualities. P. 130.
(обратно)221
Фреска Монторфано датирована и подписана 1495 г. Рассуждения о том, что обе работы были начаты одновременно, см.: Gilbert. Last Suppers and their Refectories. P. 380.
(обратно)222
Burckhardt. Italian Renaissance Painting. P. 120.
(обратно)223
Цит. по: Gilbert. Last Suppers and their Refectories. P. 382.
(обратно)224
Vasari. Lives of the Most Eminent Painters. Vol. 3. P. 188–189.
(обратно)225
Welch. New Documents. P. 296.
(обратно)226
Commines. The Memoirs. P. 174.
(обратно)227
Ibid. P. 179.
(обратно)228
Ibid. P. 183.
(обратно)229
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 268.
(обратно)230
Цит. по: Setton. The Papacy. P. 490.
(обратно)231
Цит. по: Pastor. The History of the Popes. P. 472.
(обратно)232
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 270.
(обратно)233
Giovio Paolo. The Life of Leonardo da Vinci // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 29.
(обратно)234
Ibid.
(обратно)235
О спектакле см.: Kemp. The Marvellous Works. P. 153.
(обратно)236
Cartwright. Beatrice. P. 142.
(обратно)237
Цит. по: Kemp. The Marvellous Works. P. 154.
(обратно)238
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 259.
(обратно)239
Berenson. Italian Painters. P. 32.
(обратно)240
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1339; цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 127.
(обратно)241
Полный текст см.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 307–308.
(обратно)242
Conrad Joseph. Heart of Darkness / Ed. by Robert Hampson. London: Penguin, 1995. P. 20.
(обратно)243
McGrath. Lodovico il Moro. P. 71.
(обратно)244
Цит. по: Kemp. The Marvellous Works. P. 150.
(обратно)245
См.: Feinberg. Visual Puns. P. 38. Примеры ребусов Леонардо см.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 588–594.
(обратно)246
Commines. The Memoirs. P. 228.
(обратно)247
Ibid. P. 193.
(обратно)248
Ibid.
(обратно)249
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 271.
(обратно)250
Commines. The Memoirs. P. 198.
(обратно)251
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 272–273.
(обратно)252
Commines. The Memoirs. P. 201.
(обратно)253
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 284.
(обратно)254
Commines. The Memoirs. P. 214.
(обратно)255
Ibid. P. 216.
(обратно)256
Guicciardini. The History. P. 105.
(обратно)257
Цит. по: Merrifield. The Art of Fresco Painting. P. 70.
(обратно)258
Michelangelo. The Letters. § 208. О судьбе Барны см.: Vasari. Lives of the Most Eminent Painters. Vol. 2. P. 5.
(обратно)259
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 268.
(обратно)260
Цит. по: Merrifield. The Art of Fresco Painting. P. 53.
(обратно)261
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 21.
(обратно)262
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 409.
(обратно)263
Цит. по: Merrifield. The Art of Fresco Painting. P. 53.
(обратно)264
Цит. по: Ibid. P. 71.
(обратно)265
Цит. по: Ibid. P. 55.
(обратно)266
Цит. по: Ibid. P. 113.
(обратно)267
Об отпечатках см.: Bull. Two Portraits. P. 70, 81.
(обратно)268
Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 188.
(обратно)269
См.: Eastlake. Materials. P. 185. Об останках Хуберта см. с. 191–192. Про утверждение Вазари касательно масляной живописи см.: Vasari on Technique. P. 226.
(обратно)270
Kleinhenz. Medieval Italy. P. 834.
(обратно)271
Eastlake. Materials. P. 46.
(обратно)272
Цит. по: Ibid. P. 213.
(обратно)273
Vasari. Lives of the Most Eminent Painters. Vol. 3. P. 104.
(обратно)274
См.: Crowe, Cavalcaselle. The Early Flemish Painters. P. 211–212.
(обратно)275
Alberti. On the Art of Building. P. 177.
(обратно)276
См.: Reti. Two Unpublished Manuscripts. P. 81.
(обратно)277
Основным источником информации об этих произведениях является Вазари. Ему не всегда можно верить, однако Джон Спенсер считает, что он наверняка был достаточно хорошо знаком с росписями Кастаньо в церкви Санта-Мария Нуова, чтобы описать их в подробностях. См.: Spencer. Andrea del Castagno. P. 81–84. Кроме того, в расходной книге Санта-Марии Нуова значатся выплаты Венециано за льняное масло. См.: Wohl. Domenico Veneziano Studies. P. 636. Воль, однако, не уверен, что записи об этих расходах можно считать подтверждением слов Вазари.
(обратно)278
Saalman. Paolo Uccello. Doc. 7. P. 563.
(обратно)279
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». Карло Векке описывает технику смешивания темперы и масла как «революционную». См.: Vecce. Leonardo. P. 154.
(обратно)280
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 411.
(обратно)281
Matteini, Moles. A Preliminary Investigation. P. 125–133. См. также: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 336, 412.
(обратно)282
Vitruvius. Ten Books on Architecture. P. 246. Здесь и далее Цит. по: Витрувий. Десять книг об архитектуре. М.: изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1936.
(обратно)283
См.: Moffitt. Painters «Born Under Saturn». P. 195–216; Britton. «Mio malinchonico, o vero… mio pazzo». P. 653–675.
(обратно)284
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 413.
(обратно)285
Ibid. P. 412.
(обратно)286
Ibid. P. 416.
(обратно)287
Ibid.
(обратно)288
Цит. по: Merrifield. The Art of Fresco Painting. P. 49.
(обратно)289
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 264; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 166.
(обратно)290
Ibid. § 280; Там же. С. 168.
(обратно)291
Работа Шеврёля «О законе одновременного контраста цветов» (1839) была дополнена в 1867 г. Шарлем Бланом. Тогда же эти теории были популяризированы американским физиком Огденом Рудом; его трактат «Современная хроматика» (1879) был в 1881 г. переведен на французский. Судя по всему, ни Шеврёль, ни его последователи не были знакомы с работами Леонардо.
(обратно)292
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 264; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 174.
(обратно)293
Garland. Impressionism. P. 930.
(обратно)294
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 626.
(обратно)295
Ibid. Vol. 2. § 1540.
(обратно)296
Gage. Color and Culture. P. 131.
(обратно)297
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 621, 622, 626, 627; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. T. 2. С. 185, 186. О покупке в Сан-Джусто см.: Villata, ed. Documenti. P. 14.
(обратно)298
Цит. по: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 61. N. 1.
(обратно)299
Щит в люнете на восточной стене был уничтожен в 1943 г. во время бомбардировки Союзников.
(обратно)300
Condivi. The Life of Michelangelo. P. 58. Об ассистентах Микаленджело см.: Wallace. Michelangelo’s Assistants. P. 203–216.
(обратно)301
Цит. по: Baxandall. Painting. P. 23.
(обратно)302
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1466, 1467.
(обратно)303
Syson, et al. Leonardo da Vinci. P. 278.
(обратно)304
Commines. The Memoirs. P. 227.
(обратно)305
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 219.
(обратно)306
Nicolle. Fornovo 1495. P. 80.
(обратно)307
Commines. The Memoirs. P. 234.
(обратно)308
Ibid. P. 242.
(обратно)309
Ibid. P. 244.
(обратно)310
Cartwright. Beatrice. P. 279.
(обратно)311
Цит. по: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 55–56.
(обратно)312
См.: Ibid. P. 174. О ткацких станках Леонардо см.: Ponting, ed. Drawings of Textile Machines.
(обратно)313
Вазари рассказывает эту историю в жизнеописании Кронаки, а не Леонардо. См.: «Жизнеописание Симоне, прозванного Кронака». Vasari. Lives of the Most Eminent Painters. Vol. 4. P. 270. Векке полагает, что Савонарола мог пригласить Леонардо как консультанта. См.: Vecce. Leonardo. P. 152.
(обратно)314
Цит. по: Ibid. P. 208.
(обратно)315
Цит. по: Martines. Scourge and Fire. P. 126.
(обратно)316
Landucci. A Florentine Diary. P. 89.
(обратно)317
Цит. по: Pastor. The History of the Popes. P. 481.
(обратно)318
Savonarola. Selected Writings. P. 220.
(обратно)319
Landucci. A Florentine Diary. P. 101. См. также: Najemy. A History of Florence. P. 395–396. О нападках Савонаролы на классическое образование см.: Cronin. The Florentine Renaissance. P. 272–273.
(обратно)320
Commines. The Memoirs. P. 234.
(обратно)321
Ibid. P. 248, 251.
(обратно)322
Ibid. P. 254.
(обратно)323
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 503; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 194.
(обратно)324
Цит. по: Clayton. Leonardo da Vinci. P. 130.
(обратно)325
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 261.
(обратно)326
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1387, 1404; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 208.
(обратно)327
Цит. по: Clayton. Leonardo da Vinci. P. 13.
(обратно)328
Ibid. P. 138.
(обратно)329
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1387, 1404.
(обратно)330
Fiorio, ed. Le Chiese di Milano. P. 308–309.
(обратно)331
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1403.
(обратно)332
Один из членов этой семьи, Никколо Кариссими да Парма, возможно – отец Алессандро, служил посланником Франческо Сфорца во Флоренции во времена Козимо Медичи. См.: Hatfield. Some Unknown Descriptions. P. 232.
(обратно)333
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 667.
(обратно)334
Vecce. Leonardo. P. 156.
(обратно)335
Pastor. The History of the Popes. P. 285.
(обратно)336
См.: Vecce. Leonardo. P. 156.
(обратно)337
Антонио де Беатис, Цит. по: Pedretti. Studies. P. 145. Беатис и кардинал Луиджи Арагонский посетили Леонардо в Амбуазе, прежде чем увидеть «Тайную вечерю» в Милане в 1517 г.
(обратно)338
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 716, 717.
(обратно)339
Цит. по: Bruschi. Bramante. P. 177.
(обратно)340
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1427. Упомянутая книга Браманте – «Antiquarie prospettiche Romane», написанная около 1500 г. Автор ее поименован «Миланский художник перспектив», однако почти повсеместно считалось, что это Браманте, который часто читал свои стихи при дворе Сфорца. Доказательства его авторства см. в: Pedretti. Leonardo: Architect. P. 116.
(обратно)341
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1427.
(обратно)342
Robertson. Bramante. P. 105.
(обратно)343
На этом высказывании основано оскорбительное высказывание Микеланджело: когда ему показали изображение быка, выполненное художником, которого он не любил, Микеланджело отреагировал: «Каждый художник славно изображает себя».
(обратно)344
Vinci. Treatise on Painting. Vol. 1. P. 86; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 115.
(обратно)345
Подробный разговор об аутомимезисе см. в: Zöllner. Leonardo da Vinci. P. 134–155; Sohm. The Artist Grows Old. P. 41–43.
(обратно)346
Vinci. The Literary Works. Vol 1. § 587; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 115.
(обратно)347
Цит. по: Zöllner. Leonardo da Vinci. P. 134. Зольнер пишет: «Не может быть сомнений, что обвинения Висконти напрямую адресованы Леонардо». См. также анализ (и перевод) в: Kemp. Science and the Poetic Impulse. P. 97–98. Кемп также считает, что это «юмористически-критическое стихотворение» было написано в пику Леонардо (p. 95).
(обратно)348
См.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 377.
(обратно)349
Bramly. Leonardo. P. 24.
(обратно)350
Этот автопортрет был впервые продемонстрирован ученым и журналистом Пьеро Анджела в итальянской телепередаче «Улисс» 28 февраля 2009 г. С тех пор на ту же точку зрения встал ряд известных исследователей, в том числе и Карло Педретти.
(обратно)351
О датировке см.: Clayton. Leonardo da Vinci. P. 112.
(обратно)352
MacCurdy. Leonardo da Vinci. P. 35.
(обратно)353
Рисунки Леонардо и описания спектакля находятся на листе бумаги, хранящемся в нью-йоркском Метрополитен-музее (Аллегория (recto), Сцена (verso) (17.142.2)). Описание пьесы Такконе см.: Kemp. The Marvellous Works. P. 154.
(обратно)354
См.: Pedretti. Leonardo: Architect. P. 28–29. Педретти относит рисунки подводной лодки Леонардо к 1483–1485 гг.
(обратно)355
Laurenza. Leonardo’s Machines. P. 31.
(обратно)356
Ibid. P. 34.
(обратно)357
Анализ см. в: Kemp. The Marvellous Works. P. 105.
(обратно)358
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1123; цит по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 258.
(обратно)359
См. анализ в: Laurenza. Leonardo’s Machines. P. 46–53.
(обратно)360
См.: Ibid. P. 54–61.
(обратно)361
Пара крыльев изображена: Vinci. Codex Atlanticus. Fol. 844 r; см.: Laurenza. Leonardo’s Machines. P. 62–69. Планы Леонардо испытать летательную машину приведены в: Vinci. Codex Atlanticus. Fol. 361 v-b. Подробнее об этом см.: Ibid. Part 2. P. 232; Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 220–222; Kemp. The Marvellous Works. P. 105–106.
(обратно)362
Цит. по: White. Eilmer of Malmesbury. P. 98.
(обратно)363
Цит. по: Ibid. P. 103.
(обратно)364
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1484.
(обратно)365
Цит. по: Bramly. Leonardo. P. 286.
(обратно)366
Цит. по: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 221.
(обратно)367
Уайт отмечает (p. 103), что первое упоминание об этой истории появилось только в 1648 г. Если этот эпизод действительно имел место, он мог произойти в феврале 1498 г., так как якобы случился во время торжеств по поводу бракосочетания наемника Бартоломео д’Альвиано и Пантасилеи Бальони, сестры правителя Перуджи.
(обратно)368
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 220–221. Педретти пишет: «Нет никаких сомнений в том, что Леонардо предпринимал некие попытки взлететь» (p. 220).
(обратно)369
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1125.
(обратно)370
Ibid. § 1428. Подробнее об этих словах см. в: Laurenza. Leonardo: On Flight. P. 64.
(обратно)371
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 55; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 138.
(обратно)372
Vinci. «Paragone». P. 207; Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 52; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 133.
(обратно)373
Ibid. § 102; Там же. С. 92.
(обратно)374
Alberti. On the Art of Building. P. 305; Williams. Verrocchio’s Tombslab. P. 193–205.
(обратно)375
Brachert. A Musical Canon. P. 464.
(обратно)376
Ibid. См. также: Kemp. The Marvellous Works. P. 185.
(обратно)377
Цит. по: Kemp. Ibid. P. 166.
(обратно)378
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 262. О Борсо д’Эсте см.: Baxandall. Painting. P. 1.
(обратно)379
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 263.
(обратно)380
Ibid. P. 206.
(обратно)381
Цит. по: Heaton. Leonardo da Vinci and His Works. P. 32. Note 3.
(обратно)382
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 262. О реставрации см.: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 18.
(обратно)383
Moffitt. Painterly Perspective. P. 170.
(обратно)384
Об ультрамарине см.: Cennini. The Book of the Art. P. 47, 50; Merrifield. The Art of Fresco Painting. P. xxxvi. О ценах на аренду во Флоренции см.: Goldthwaite. The Economy. P. 462. Об использовании ультрамарина Леонардо см.: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 424, 426.
(обратно)385
Цит. по: Merrifield. The Art of Fresco Painting. P. 58. О технике, в которой Леонардо писал одежды Христа, см.: Matteini, Moles. A Preliminary Investigation. P. 129, 131.
(обратно)386
См.: Rhees. Christ in Art. P. 490–503.
(обратно)387
Augustine. Exposition on Psalm 133. § 6.
(обратно)388
Wolf. From Mandylion to Veronica. P. 153–179. Подробнее о лице Христа см.: Kemp. Christ to Coke. P. 13–43.
(обратно)389
Цит. по: Baxandall. Painting. P. 57.
(обратно)390
Valla. On the Donation of Constantine. P. 60.
(обратно)391
Eliot George. Romola / Ed. by Andrew Sanders. London: Penguin, 1980. P. 75; Lipton. Images of Intolerance. P. 20.
(обратно)392
Цит. по: Niccoli. Prophecy and People. P. 93–94. О бороде как признаке чужаков см.: Wisch. Vested Interest. P. 148. Об Аргиропуле см.: Geanakoplos. Constantinople and the West. P. 111.
(обратно)393
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 986, 987, 837; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 342.
(обратно)394
Montléon. Le cenacle. P. 70.
(обратно)395
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1305; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 396.
(обратно)396
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 384–385. Автор комментария Карло Педретти добавляет: «В архивах церкви такого документа не обнаружено» (p. 384).
(обратно)397
См.: Park. The Criminal and the Saintly Body. P. 1–33; Benivieni. De abditis nonnullus.
(обратно)398
Gould. Leonardo’s Mountain of Clams. P. 26, 28.
(обратно)399
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 910; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 297.
(обратно)400
Ibid. § 886.
(обратно)401
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 127.
(обратно)402
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 886; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 289.
(обратно)403
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 128.
(обратно)404
Личная переписка по электронной почте с Мартином Кемпом, 1 января 2012.
(обратно)405
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 270.
(обратно)406
Syson Luke. The Rewards of Service: Leonardo da Vinci and the Duke of Milan // Syson, et al. Leonardo da Vinci. P. 36.
(обратно)407
См.: Kemp. Dissection and Divinity. P. 211; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 368; T. 1. C. 44.
(обратно)408
Kemp. Dissection and Divinity. P. 212.
(обратно)409
Цит. по: Syson Luke. The Rewards of Service: Leonardo da Vinci and the Duke of Milan // Syson, et al. Leonardo da Vinci. P. 23.
(обратно)410
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1209; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 397.
(обратно)411
Ibid.; Там же.
(обратно)412
Цит. по: Griffiths. Leonardo Bruni. P. 133.
(обратно)413
См.: King, ed. The Fantasia of Leonardo da Vinci.
(обратно)414
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1284; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 366.
(обратно)415
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1434, 1444.
(обратно)416
Список слов содержится в Кодексе Тривульцио (Codex Trivulzianus), который хранится в библиотеке Кастелло Сфорцеско в Милане.
(обратно)417
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 10; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 62.
(обратно)418
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1448, 1488, 1496, 1501, 1448.
(обратно)419
Ibid. § 1469. На то же соотношение между научными и литературными трудами указывает и Мартин Кемп. См.: Kemp. Science and the Poetic Impulse. P. 95. Важно обратить внимание на следующие разъяснения Кемпа: список книг Леонардо далеко не обязательно является «полным и репрезентативным описанием его собрания», а также что «то, что он обладал этими книгами, далеко не обязательно означает, что он их читал» (Ibid.).
(обратно)420
Про второй список см.: Reti. Two Unpublished Manuscripts. P. 81–91.
(обратно)421
Эти приобретения зафиксированы в «Атлантическом кодексе» (Codex Atlanticus. Fol. 90 v).
(обратно)422
Об участии Леонардо в вызове Пачоли в Милан см.: Taylor. No Royal Road. P. 206.
(обратно)423
Цит. по: Bacon. The «Opus Majus». P. xxv.
(обратно)424
Цит. по: Taylor. No Royal Road. P. 321, 320, 283.
(обратно)425
Цит. по: Ginzburg. The Enigma of Piero. P. 89.
(обратно)426
Об этих прозвищах см.: Fischer. Luca Pacioli. P. 299.
(обратно)427
Clark, Pedretti, eds. The Drawings of Leonardo da Vinci. Vol. 3. P. 47; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 126.
(обратно)428
Vinci. Codex Madrid. P. 8.
(обратно)429
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1444.
(обратно)430
См. подробнее: Parzen. Please Play with Your Food. P. 26–27. «De viribus quantitatis» существует в виде единственного манускрипта в библиотеке Болонского университета.
(обратно)431
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 269.
(обратно)432
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 343; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 210.
(обратно)433
Vitruvius. Ten Books on Architecture. P. 73.
(обратно)434
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1471.
(обратно)435
Vitruvius. Ten Books on Architecture. P. 72.
(обратно)436
Упоминания о Треццо и Караваджо см.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 234, 236, 239, 244, 254.
(обратно)437
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 310, 324, 343; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 210.
(обратно)438
Vitruvius. Ten Books on Architecture. P. 72.
(обратно)439
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 396.
(обратно)440
Подробный разбор представлений Пачоли о божественной пропорции см. в: Pérez-Gómez. The Glass Architecture of Luca Pacioli. P. 245–286; Livio. The Golden Ratio. P. 128–137.
(обратно)441
Первая цитата из Пачоли – из посвящения к изданию «О божественной пропорции» 1509 г., вторая – из неопубликованной рукописи «De viribus quantitatis».
(обратно)442
The Timaeus of Plato / Ed. by R. D. Archer-Hind. London: Macmillan, 1888. P. 193, 197.
(обратно)443
Это можно сопоставить с утверждением некоторых наших современников, что ДНК является «почерком Бога», а бозон Хиггса, если он действительно существует, – «частицей Бога».
(обратно)444
Цит. по: Kemp. The Marvellous Works. P. 135.
(обратно)445
Описание иллюстраций Леонардо взято из предисловия Пачоли к изданию «О божественной пропорции», вышедшему в Венеции в 1509 г.
(обратно)446
Цит. по: Livio. The Golden Ratio. P. 131.
(обратно)447
См.: Markowsky. Misconceptions. P. 2–19; Livio. The Golden Ratio. P. 72–75; Devlin. The Myth That Will Not Go Away; электронная версия: .
(обратно)448
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1157; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 268.
(обратно)449
Ibid. § 1504; Там же.
(обратно)450
Bergamini. Mathematics. P. 96.
(обратно)451
Ghyka. The Geometry. P. 98. Подробный рассказ о золотом сечении – и его отсутствии – в произведениях Леонардо см.: Livio. The Golden Ratio. P. 162–166; Markowsky. Misconceptions. P. 10–11.
(обратно)452
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 827; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 375.
(обратно)453
Livio. The Golden Ratio. P. 134–135; Vitruvius. Ten Books on Architecture. P. 73.
(обратно)454
Machiavelli. The Prince. P. 49.
(обратно)455
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 237, 245.
(обратно)456
Villata, ed. Documenti. P. 93.
(обратно)457
См.: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 300–301. О годовых заработках см.: Brucker. The Society. P. 2.
(обратно)458
Baxandall. Painting. P. 8.
(обратно)459
Примеры цен на недвижимость во Флоренции см.: Rubin. Image and Identity. P. 6.
(обратно)460
О портрете Нани см.: Vinci. The Notebooks. P. 329. О планах Леонардо касательно алтарной росписи см.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 1. P. 387–388.
(обратно)461
Villata, ed. Documenti. P. 94.
(обратно)462
Commines. The Memoirs. P. 191.
(обратно)463
Guicciardini. The History. P. 113.
(обратно)464
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 295.
(обратно)465
Цит. по: Ibid. P. 302.
(обратно)466
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1560.
(обратно)467
Название картины пишут по-разному. В Лувре она пишется «Ferronniere», с двумя «n», почти во всех других местах – с одним «n».
(обратно)468
Zöllner. Leonardo da Vinci. P. 228.
(обратно)469
В XVIII в. существовало ошибочное мнение, что на портрете изображена супруга парижского торговца железом по имени Жан Ферон, – она была любовницей Франциска I, последнего покровителя Леонардо. Однако своим названием «Прекрасная Ферроньера» картина обязана не фамилии купца-рогоносца, а тому, что лицо модели украшает фероньерка, тонкий обруч с драгоценным камнем, который носили на лбу, – такие украшения были в Милане в 1490-е гг. в большой моде.
(обратно)470
Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 185.
(обратно)471
См.: Brewer. The American Leonardo.
(обратно)472
Brown. The Da Vinci Code. P. 243.
(обратно)473
Pauli. Vatican Appoints Official Da Vinci Code Debunker.
(обратно)474
О тексте Евангелия от Филиппа и других кодексах из Наг-Хаммади см.: Robinson, ed. The Nag Hammadi Library. А также более поздние перепечатки и переработки.
(обратно)475
Brown. The Da Vinci Code. P. 246.
(обратно)476
Voragine. The Golden Legend. Vol. 1. P. 376, 382.
(обратно)477
Цит. по: Jansen. Maria Magdalena. P. 57.
(обратно)478
Zagano, McGonigle. The Dominican Tradition. P. 2; Haskins. Mary Magdalen. P. 135.
(обратно)479
Jansen. Maria Magdalena. P. 57.
(обратно)480
Цит. по: Jansen. Like a Virgin. P. 133.
(обратно)481
Wilk. The Cult of Mary Magdalene. P. 685–698.
(обратно)482
Цитаты из Фомы Аквинского и о фреске Синьорелли см.: James. Signorelli and Fra Angelico. P. 57.
(обратно)483
Помимо других многочисленных источников, см.: Miller. The Last Word.
(обратно)484
Brown. The Da Vinci Code. P. 243.
(обратно)485
Цит. по: Turner. Inventing Leonardo. P. 110.
(обратно)486
Цит. по: Samuels. Bernard Berenson. P. 215.
(обратно)487
Squires. Mona Lisa «was a boy».
(обратно)488
Название работы Дюшана основано на игре слов. Если произнести по-французски вслух названия букв L. H. O. O.Q, получится приближение к «Elle a chaud au cul», что означает «В заднице у нее горячо».
(обратно)489
См.: La Farge. The Bearded Lady. P. 379–383.
(обратно)490
Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 469–470. Об истории этого наброска см.: Ibid. N. 26. P. 562.
(обратно)491
Pedretti. The «Angel in the Flesh». P. 35.
(обратно)492
См.: Ghiberti. I commentari. P. 55.
(обратно)493
Об этих вопросах см.: Maiorini. Leonardo da Vinci. P. 110.
(обратно)494
См.: Syson, et al. Leonardo da Vinci. P. 268.
(обратно)495
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 381.
(обратно)496
Schäferdiek Knut. The Acts of John // Schneemelcher, ed. New Testament Apocrypha. P. 156. Историю «послушных клопов» см. на p. 190.
(обратно)497
Ibid. P. 203.
(обратно)498
Цит. по: Bergeron. King James. P. 104. Слова Марло Цит. по: The Barnes Note. British Library, MS Harley 6848. F. 185–186.
(обратно)499
Tilborg. Imaginative Love. P. 247. См. также: Peart-Binns. Bishop Hugh Montefore. P. 127; Burkett, ed. The Blackwell Companion. P. 452.
(обратно)500
Ficino Marsilio. Commentarium in Platonis Convivium Initiation. Цит. по: Dall’Orto. «Socratic Love». P. 37–38. О «воспитательном гомосексуализме» в Древней Греции см.: Neil. The Origins and Role of Same-Sex Relations. P. 144–185.
(обратно)501
Цит. по: Crampton. Homosexuality. P. 265.
(обратно)502
Pseudo-Bonaventure. Meditations. P. 150.
(обратно)503
Цит. по: Jirousek. Christ and St. John the Evangelist. P. 19.
(обратно)504
Цит. по: Culpeper. John, the Son of Zebedee. P. 166.
(обратно)505
Цит. по: Jirousek. Christ and St. John the Evangelist. P. 17.
(обратно)506
См.: Boswell. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. P. 202; Jirousek. Christ and St. John the Evangelist. P. 6–27.
(обратно)507
Цит. по: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 42.
(обратно)508
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1521, 1519, 1555, 1544, 1545, 1397. Упоминание о кукурузном початке Рихтер датирует 1500 г.
(обратно)509
Ibid. § 1548.
(обратно)510
Ibid. § 1295, 845; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 150.
(обратно)511
Ibid. § 1295; Там же. Т. 2. С. 383.
(обратно)512
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 257.
(обратно)513
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 81.
(обратно)514
Ammirato. Opuscoli. P. 242.
(обратно)515
Tugwell, ed. Early Dominicans. P. 456.
(обратно)516
Goethe. Observations. P. 7–8; здесь и далее Цит. по: Гёте И. В. Джузеппе Босси о «Тайной вечере» Леонардо да Винчи / Собр. соч.: В 10 т. М., 1975–1980. Т. 10.
(обратно)517
Цит. по: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 50.
(обратно)518
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 262.
(обратно)519
Цит. по: Kattenberg. Andy Warhol. P. 5.
(обратно)520
Цит. по: Grazzini. Flemish Weavers. P. 131.
(обратно)521
Cartwright. Beatrice. P. 117.
(обратно)522
О фламандских ткачах в Милане см.: Smit. Flemish Tapestry Weavers. P. 121.
(обратно)523
См.: Varriano. At Supper with Leonardo. P. 75–79.
(обратно)524
Цит. по: Rapp. The Father of Western Gastronomy. P. 44.
(обратно)525
Цит. по: Licht. Elysium. P. 18.
(обратно)526
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 82.
(обратно)527
См.: Redon, Sabban, Serventi. The Medieval Kitchen. P. 119–121.
(обратно)528
Цит. по: Ibid. P. 121.
(обратно)529
Tugwell, ed. Early Dominicans. P. 128, 133–134. О потреблении хлеба см.: Goldthwaite. The Building. P. 346–347.
(обратно)530
Goldthwaite. The Building. P. 292; Pini. Vite e vino. P. 133–135.
(обратно)531
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1030, 1548, 1520.
(обратно)532
Цит. по: Murray. The New Wine. P. 152, 129.
(обратно)533
Aquinas. Summa theologiae. Vol. 43 (1968). P. 137, 139.
(обратно)534
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 382.
(обратно)535
Цит. по: Boyle. Senses of Touch. P. 65. Про вилку см.: Rebora. Culture of the Fork. P. 16–17.
(обратно)536
Strong. The Triumph of Mona Lisa. P. 255–278.
(обратно)537
Gilbert. Last Suppers and their Refectories. P. 392.
(обратно)538
Brown. The Da Vinci Code. P. 236.
(обратно)539
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 593; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 202.
(обратно)540
Подробнее см.: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 19. В приведенном далее обзоре я с благодарностью пользуюсь материалами Стейнберга (особенно из 1-й и 2-й главы).
(обратно)541
Goethe. Observations. P. 9.
(обратно)542
Цит. по: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 31.
(обратно)543
Цит. по: Ibid. P. 40.
(обратно)544
Цит. по: Ibid.
(обратно)545
О религиозных воззрениях Гёте см.: Tantillo. Goethe’s Modernisms. P. 87–88.
(обратно)546
Steinberg. Leonardo’s Last Supper. P. 297–410. В 2001 г. Стейнберг опубликовал исправленный и дополненный вариант этой работы: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper».
(обратно)547
Janson. A History of Art. P. 350.
(обратно)548
Gardener. Art through the Ages; Цит. по: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 46.
(обратно)549
Джек Вассерман, цит. по: Ibid. P. 48.
(обратно)550
См.: Rubin. Corpus Christi. P. 1–2, 9.
(обратно)551
Besta. Vera narratione. P. 30. Подробнее см.: Farago. Aesthetics. P. 55.
(обратно)552
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 266.
(обратно)553
Hartt. Leonardo and the Second Florentine Republic. P. 100.
(обратно)554
См.: Kemp, Cotte. La Bella Principessa; Alberge. Is this portrait a lost Leonardo?
(обратно)555
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 306; Ady. A History of Milan. P. 162.
(обратно)556
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 310.
(обратно)557
Цит. по: Levy. Framing Widows. P. 217. Подробнее об этом см.: Lansing. Passion and Order.
(обратно)558
Goethe. Observations. P. 9.
(обратно)559
См.: Slim. The Lutenist’s Hand. P. 32–34.
(обратно)560
Vinci. Treatise on Painting. Vol. 1. P. 105; Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 593, 653. О Леонардо и Кристофоро де Предисе см.: Mirzoeff. Silent Poetry. P. 13.
(обратно)561
Цит. по: Samuels. Bernard Berenson. P. 215.
(обратно)562
Goethe. Observations. P. 11. Обзор разнообразных трактовок образа Фаддея см.: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 84.
(обратно)563
Goethe. Observations. P. 9.
(обратно)564
Jorio. Gesture in Naples. P. 4.
(обратно)565
Ibid. P. 129, 291, 214.
(обратно)566
Эта ассоциация, по всей видимости, происходит из «Метаморфоз» Овидия, где Юнона, жена Юпитера, отправляет Люцину, богиню деторождения, помешать рождению ребенка Алкмены от Юпитера, однако Люцина (под видом дряхлой старухи) сидит, переплетя пальцы решеткой.
(обратно)567
Ibid. P. 215, 66.
(обратно)568
Quintilian. The Institutio Oratoria. Book 11. Chap. 3.
(обратно)569
Vinci. On Painting. P. 133; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 221.
(обратно)570
Villari. Life and Times of Girolamo Savonarola. Vol. 1. P. 71.
(обратно)571
Baxandall. Painting. P. 61; Trumble. The Finger. P. 85. Трамбл отмечает, что эта традиция зародилась в Клуни и распространилась по другим монастырям; таким образом возник «межмонастырский язык жестов» (Ibid.). Доминиканцы из монастыря Санта-Мария делле Грацие наверняка пользовались схожей жестикуляцией.
(обратно)572
См., напр.: Hedeman. Van der Weyden’s Escorial Crucifixion. P. 197; Hood. Saint Dominic’s Manners of Praying. P. 195–206.
(обратно)573
Vinci. On Painting. P. 54; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 197.
(обратно)574
Jorio. Gesture in Naples. P. 263.
(обратно)575
Тот факт, что нож Петра указывает на Варфоломея, отмечен и рассмотрен в: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 101.
(обратно)576
Цит. по: Cruttwell. Verrocchio. P. 161. О тосканских ратушах см.: Paoletti, Radke. Art in Renaissance Italy. P. 272.
(обратно)577
Цит. по: Kemp. The Marvellous Works. P. 111.
(обратно)578
Janson. A History of Art. P. 370.
(обратно)579
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 376.
(обратно)580
Борода Иакова Младшего, которую сложно рассмотреть на оригинальном изображении, отчетливо видна на копии Джампетрино.
(обратно)581
Ohly. The Damned and the Elect. P. 88.
(обратно)582
Цит. по: Boyle. Senses of Touch. P. 211. См. также: Barsley. The Left-Handed Book.
(обратно)583
Цит. по: Harris. Cultural Influences on Handedness. P. 198.
(обратно)584
Woods-Marsden. Portrait of the Lady. P. 69.
(обратно)585
Tal. Witches on Top. P. 110.
(обратно)586
Wasserman. Leonardo da Vinci’s Last Supper. P. 65–72.
(обратно)587
To Grosphus // Horace. The Odes; в русском переводе: «Просит тишины у богов в молитве…» Квинт Гораций Флакк. Оды. Книга 2. Ода 16. Про dirae см.: Anthon. A Classical Dictionary. P. 237. О королевских солонках см.: Kurlansky. Salt. P. 144–145.
(обратно)588
Gavitt. Charity and Children. P. 187–188.
(обратно)589
Bailey. The Disenchantment of Magic. P. 397; Waterman. Story of Superstition. P. 123.
(обратно)590
Campbell. Half-Belief. P. 153.
(обратно)591
См. напр.: Strickland. Saracens, Demons, and Jews. P. 108, 124, 141–143, 215, 221.
(обратно)592
Цит. по: Jeffrey, ed. A Dictionary of Biblical Tradition. P. 418.
(обратно)593
Цит. по: Todeschini. The Incivility of Judas. P. 34.
(обратно)594
Strickland. Saracens, Demons, and Jews. P. 142.
(обратно)595
Цит. по: Debby. Jews and Judaism. P. 186.
(обратно)596
Wisch. Vested Interest. P. 147.
(обратно)597
Цит. по: Debby. Jews and Judaism. P. 189.
(обратно)598
Цит. по: Tacconi. Cathedral and Civic Ritual. P. 165.
(обратно)599
Vasari. Lives of the Most Eminent Painters. Vol. 4. P. 269.
(обратно)600
Adelman. Review. P. 200.
(обратно)601
Cartwright. Beatrice. P. 128.
(обратно)602
Pedretti. Studies. P. 110.
(обратно)603
Цит. по: Blanckaert. On the Origins of French Ethnology. P. 35.
(обратно)604
Gombrich. The Grotesque Heads. P. 61.
(обратно)605
О гравюре см.: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 80. Стейнберг считает, что это несходство свидетельствует о том, что история Вазари является «чистым вымыслом», притом что несходство вполне можно объяснить различием в техниках, уровнем проработки и уровнем мастерства.
(обратно)606
Goethe. Observations. P. 37.
(обратно)607
О еврейской внешности Иуды на итальянских картинах см.: Monstadt. Judas beim Abendmahl. Мы признательны Стейнбергу за разбор тезисов Монштадт (с. 93, сн. 29). О рыжих волосах Иуды см.: Baum. Judas’s Red Hair. P. 520–529.
(обратно)608
Об одежде Иуды см.: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 382.
(обратно)609
Историю этой легенды, ведущую к Чэпмену, см.: Tucker. The Preacher as Storyteller. P. 196. Версию легенды в изложении Дэвиса см.: Davis. Commencement Parts. P. 475.
(обратно)610
Слова Саббы да Кастильоне, Цит. по: Pedretti. Leonardo: Architect. P. 80.
(обратно)611
Villata, ed. Documenti. P. 102.
(обратно)612
Ibid.
(обратно)613
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 316.
(обратно)614
О доходах Пероди см.: Setton. The Papacy. P. 403, 529. Рассказ Банделло см.: Bandello. Tutte le opere. Vol. 1. P. 646–650. Подробный разбор рассказа Банделло см.: Land. Leonardo da Vinci; в электронном виде: / 23i/land23ipf.htm.
(обратно)615
Об увлечении Леонардо этим проектом см.: Fusco, Corti. Lorenzo de’ Medici. P. 24.
(обратно)616
Pedretti. Leonardo: Architect. P. 72–74.
(обратно)617
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1523. О заработках см.: Goldthwaite. The Economy. P. 294.
(обратно)618
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 305.
(обратно)619
Цит. по: Setton. The Papacy. P. 503.
(обратно)620
Macey. Bonfire Songs. P. 75.
(обратно)621
Villari. Life and Times of Girolamo Savonarola. Vol. 2. P. 189.
(обратно)622
Цит. по: Pastor. The History of the Popes. Vol. 5. P. 523; Vol. 6. P. 16.
(обратно)623
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 295.
(обратно)624
Цит. по: Ibid. P. 331.
(обратно)625
Commines. The Memoirs. P. 267.
(обратно)626
Ibid. P. 482.
(обратно)627
Ibid. P. 281.
(обратно)628
Ibid. P. 283.
(обратно)629
Ibid. P. 284.
(обратно)630
Villata, ed. Documenti. P. 110. Леонардо в этом документе не упомянут.
(обратно)631
Цит. по: Pérez-Gómez. The Glass Architecture of Luca Pacioli. P. 262.
(обратно)632
Подробный рассказ об этом участке см. в: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 312–314. Николл уверенно датирует этот подарок августом 1497 г. – более ранней датой, чем было принято считать до того.
(обратно)633
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1566.
(обратно)634
Цит. по: Schwartz. The Staging of Leonardo’s Last Supper. P. 93.
(обратно)635
Goethe. Observations. P. 7.
(обратно)636
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 284.
(обратно)637
Подробный рассказ о перспективе в этой работе см.: Kemp. The Marvellous Works. P. 182–186; Kemp. «Fate come dico, non fate come faccio». P. 53–59.
(обратно)638
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 543, 544.
(обратно)639
Kemp. The Marvellous Works. P. 183–184.
(обратно)640
См.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 59.
(обратно)641
См.: Pedretti. Nec ense. P. 82–90; Kemp. The Marvellous Works. P. 167–176.
(обратно)642
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 680.
(обратно)643
Ibid. § 704.
(обратно)644
Pedretti. Leonardo: Architect. P. 105.
(обратно)645
Цит. по: Baumgartner. Louis II. P. 9.
(обратно)646
Цит. по: Ady. A History of Milan. P. 173
(обратно)647
Ibid. P. 175.
(обратно)648
Цит. по: Setton. The Papacy. P. 514.
(обратно)649
Цит. по: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 321.
(обратно)650
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 346.
(обратно)651
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1414; Цит. по: Да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. С. 52.
(обратно)652
Ibid. § 1371; Там же. С. 410.
(обратно)653
Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 11.
(обратно)654
Castiglione. Ricordi. P. xiv.
(обратно)655
Цит. по: Cartwright. Beatrice. P. 354.
(обратно)656
Giovio Paolo. The Life of Leonardo da Vinci // Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 29.
(обратно)657
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 263.
(обратно)658
Villata, ed. Documenti. P. 136.
(обратно)659
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1379.
(обратно)660
Ibid. § 1448. Подробный рассказ о Перреале см.: Kemp, Cotte. La Bella Principessa. P. 36.
(обратно)661
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1379. Подробнее см.: Vinci. The Literary Works with a commentary. Vol. 2. P. 326.
(обратно)662
Цит. по: Furlotti. The Art of Mantua. P. 92.
(обратно)663
Villata, ed. Documenti. P. 131–132.
(обратно)664
Oechsli. The History of Switzerland. P. 28.
(обратно)665
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 265. Подробности участия Леонардо в работе над алтарем в Сантиссима-Аннунциата, который в итоге дописали Филиппино Липпи и Пьетро Перуджино, остаются неизвестными. Детальный разбор этой истории см.: Nelson. The High Altar-piece. P. 84–94. О роли в ней сера Пьеро см.: Cecchi. New Light. P. 124.
(обратно)666
Villata, ed. Documenti. P. 136, 134.
(обратно)667
Vinci. Treatise on Painting. P. 266.
(обратно)668
Про мост см.: Nicholl. Leonardo da Vinci. P. 353–355. Про канал см.: Masters. Fortune is a River.
(обратно)669
Vasari. Lives of the Artists. P. 266.
(обратно)670
Goldscheider. Leonardo da Vinci. P. 29, 30, 32.
(обратно)671
Цит. по: Bramly. Leonardo. P. 353.
(обратно)672
Ibid. P. 346.
(обратно)673
Armenini. On the True Precepts. P. 53.
(обратно)674
Gilbert. How Era Angelica and Signorelli Saw the End of the World. P. 63; O’Malley. Pietro Perugino. P. 108.
(обратно)675
См.: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 39.
(обратно)676
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1074.
(обратно)677
Guicciardini. The History. P. 153.
(обратно)678
Ibid. P. 155.
(обратно)679
Ady. A History of Milan. P. 184.
(обратно)680
Vasari. Lives of the Artists. Vol. 1. P. 270.
(обратно)681
Vinci. The Literary Works. Vol. 2. § 1566.
(обратно)682
Цит. по: Bramly. Leonardo. P. 412.
(обратно)683
Vinci. The Literary Works. Vol. 1. § 651.
(обратно)684
Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 336.
(обратно)685
Goethe. Observations. P. 14.
(обратно)686
Pedretti. Studies. P. 145.
(обратно)687
Цит. по: Steinberg. Leonardo’s Incessant «Last Supper». P. 16.
(обратно)688
Goethe. Observations. P. 17.
(обратно)689
Ibid. P. vi.
(обратно)690
Church of England Quarterly Review 21 (1847). P. 500.
(обратно)691
Times. 11 March 1857.
(обратно)692
James Henry. Collected Travel Writing: The Continent. New York: Library of America, 1993. P. 372.
(обратно)693
Цит. по: Barcilon, Marani. Leonardo: «The Last Supper». P. 32.
(обратно)694
The Times. 31 May 1954.
(обратно)695
Высказывание Джеймса Бека см.: Valsecchi. It’s Art, but Is It Leonardo’s?
(обратно)696
О калифорнийских копиях см.: Eco. Faith in Fakes. P. 16–18. Об инсталляции Гринуэя см.: Kennedy. The Last Supper for the Laptop Generation. О репродукции на кухне в доме Уорхола см.: Dillenberger. The Religious Art of Andy Warhol. P. 80. Репродукцию с высоким разрешением можно посмотреть на сайте: . Что касается татуировок и гробов, они доступны – в виде описаний или фотографий – на таком количестве сайтов, что все не перечислишь.
(обратно)



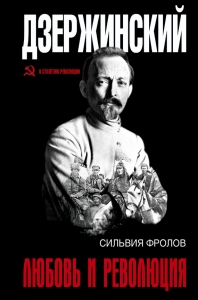
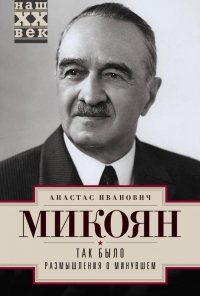



Комментарии к книге «Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря»», Росс Кинг
Всего 0 комментариев