Несколько слов о книге:
«Мне посчастливилось общаться и дружить с воистину легендарными людьми…» так начинает свое повествование Сати Спивакова. И среди них — Г. Вишневская и М. Ростропович, М. Плисецкая и Р. Щедрин, И. Менухин и Л. Бернстайн, Б. Окуджава и С. Параджанов, Г. Товстоногов и Е. Светланов, А. Шнитке и А. Собчак… О встречах и беседах с ними — первая книга автора и ведущей телепередачи «Сати», жены всемирно известного скрипача и дирижера Владимира Спивакова.
НЕ ВСЕ — НЕ ВСЁ
Это не мемуары. Хотя слово «мемуар» в переводе с французского означает «память». Сегодня мне исполнилось сорок лет. С детства я слышала одно и то же: «У Сати прекрасная память!» Удивительно, как я умудрялась и умудряюсь до сих пор обводить всех вокруг пальца: моя память, подобно шагреневой коже, все сжимается и сжимается, моя память точно нагруженная телега, которую несет вперед и с которой незаметно падают в пути детали встреч, обрывки фраз, лица, числа, звуки… Мне вдруг стало страшно и жалко терять подробности, в которых и заключена живость воспоминаний. Воспоминания — то, что ты получаешь от жизни, с чем живешь. Они принадлежат только тебе, и никто не может у тебя отнять или предъявить на них права.
Я — Козерог, родившийся в год Быка. Все гороскопы, однако, безбожно врут. Я жутко неорганизованный Козерог, а Быку в принципе невозможно так нестись по жизни. И вот наконец осознав, что мне всего лишь сорок, я заставляю себя, стиснув зубы, сделать то, о чем давно мечтаю: упорядочить события, встречи, наблюдения, все, что связывает меня с людьми, с которыми довелось общаться лишь несколько часов, или дней, или лет. А может быть, это необходимость разобраться в себе самой?
С самого начала этой работы стало ясно: всего, что узнала, поняла, увидела, сказать не могу, да и не надо, поскольку не считаю себя вправе ни «унижать» истиной, ни «возвышать» обманом. Многих имен умышленно не называю. И вот почему. В Италии, в Лигурии мне рассказали историю о женщине, жившей там до самой старости. Она умерла лет десять назад. По какому-то странному стечению обстоятельств все ее мужья, друзья и близкие родственники трагически умирали один за другим. Суеверные лигурийцы решили, что она — причина всех несчастий, за что ее прозвали «инномабиле» — «непроизносимая». Считалось, что, произнеся ее имя, накликаешь беду. Итальянцы при этом еще показывали пальцами чертовы рожки и делали жест, как бы отгоняющий злые силы. Я далека от суеверий, но в моей жизни, как и в любой другой, есть люди, имена которых лучше не произносить вслух. Но это частность.
Главное — мне посчастливилось общаться и дружить с воистину легендарными людьми. Если бы мне раньше сказали, что я просто буду сидеть с ними рядом, я бы не поверила. О многих из них написаны замечательные книги, но, как в капле воды отражается мир, так в маленьких бытовых деталях выявляется порой характер человека. Вот я и попыталась крошечными наблюдениями дополнить некоторые известные всем портреты. Надеюсь, как в акростихе, сквозь все эти главы проступит лицо человека, которого люблю и о котором, к счастью, еще слишком рано писать воспоминания.
Это моя первая книга. Не буду ни пугать, ни обнадеживать, но знаю — не последняя. Не воспоминания, не итог. В ней — НЕ ВСЁ… И НЕ ВСЕ…
7 января 2002 года
ЕРЕВАН — ВИДЕНИЕ
Слово «детство» рождает в каждом из нас четкий ряд ассоциаций, калейдоскоп простых образов, расцвеченных воображением ребенка, ставшего взрослым. Это вроде игрушки из далеких времен, той самой трубочки, которую мы иногда приставляем к глазу и осторожно начинаем вертеть, и цветные стеклышки каждый раз складываются в новые и новые узоры.
Мое детство — звук скрипки за стеной: я засыпаю, а в столовой папа вечером занимается… Днем скрипка становится фоном всех детских игр. Сейчас, когда прошло столько лет, муж часто удивляется моей способности заснуть в гостиничном номере, в то время как он играет в метре от меня. Отвечаю, что благодаря ему я снова и снова «впадаю в детство».
Еще детство — это елка, Новый год и следующий за ним день моего рождения. Елку наряжали всегда вместе — папа, мама и я. Осторожно вынимать из картонной коробки завернутые в газетную бумагу елочные игрушки — любимый ритуал моего детства. Когда мне было года три, папа смастерил Деда Мороза из старой куклы. Это был уникальный Дед Мороз — ватная борода на юном девичьем кареглазом лице. Я и теперь каждый Новый год кидаюсь наряжать елку сама, часто лишая своих детей этого удовольствия.
День своего рождения я не в силах отмечать уже много лет, с 1986 года. Так случилось, что папа умер накануне, и хоронили его именно в этот день, хотя тогда об этом совпадении никто не подумал.
Мое детство — это Армения, мой розовый город — Ереван, о котором не могу говорить спокойно, внутри что-то сжимается и шевелится, как маленький звереныш. Совсем не потому, что это какой-то особенный город, просто он некая квинтэссенция детства. Чудо, к которому все в Ереване привыкли, библейская гора Арарат. Ее видно из любой точки, она постоянно меняет облик, оставаясь при этом горделиво, девственно белой. Гора — женского рода, существо мягкое, теплое. Арарат — имя, в котором средоточие мужества, силы и гордости. В этом сочетании — весь армянский характер. Существует легенда, что Ноев ковчег вынесло на вершину этой горы, и когда вода всемирного потопа стала отступать, голубь принес ветку оливкового дерева и вдали показалась суша, Ной вскрикнул: «Еревац!» — что в переводе с армянского означает: «Виднеется, показалась земля!» Отсюда и название Ереван — «видение». И, невзирая на вынужденную разлуку Армении с Араратом (после заключения Брестского мира в 1919 году граница между Арменией и Турцией прошла по реке Аракс, а эта «подлая» река как раз огибает подножье Арарата со стороны нынешней Армении), ни один армянин не может отделаться от видения этой горы на самой глубине зрачков, как ни один турок не проникнется к ней нашей нежностью. Недавно мне рассказали, что с обратной стороны, с турецкой, Арарат вовсе не впечатляет, что там какие-то рвы и хребты, полностью ломающие его нерукотворную идеальную форму. Может, и так, как знать. Важно другое. У каждого человека есть корни, и чем дольше несемся мы по жизни, тем эти корни глубже и основательнее притягивают нас, как будто заставляя оглядываться назад.
Мое детство, как и вся жизнь, — это мама. Наверное, сложнее всего писать о маме. Меня восхищают люди, у которых это получается — написать о матери легко, точно, небанально.
Мама всегда была необыкновенно красива. Помню, в детстве я смотрела с родителями фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина». Конечно, я тогда ничего в нем не поняла, но до сих пор обожаю этот фильм: мама была очень похожа на игравшую в нем Анук Эме. Мама для меня загадка. Я до сих пор не всегда ее понимаю. Может быть, потому, что я — типичная папина дочка, похожая на него во всем? Она — «другое дерево», как в стихотворении Жака Превера.
Мама — удивительно цельный человек. Для нее не существует полутонов, только черное и белое. Она оценивает людей так: либо — «потрясающий человек», либо — «негодяй». Она всегда ставит очень высокую планку в общении, поэтому у нее мало друзей. Я же чаще иду на компромиссы, но в конечном итоге права оказывается она. С самого раннего возраста мне страшнее всего было ее огорчить, разочаровать. И так до сих пор. Я не встречала женщин, равных ей по верности и вере: они с отцом прожили без малого двадцать пять лет, в пятьдесят она осталась одна. Жизнь женщины для нее закончилась. Объясняет она это невозмутимо просто:
— Как я вообще могла соединить свою судьбу с кем-то, даже посмотреть на кого-то после папы? Второго такого нет и не будет. Всё.
Между родителями все двадцать пять лет было полнейшее взаимопонимание. Ни конфликтов, ни ссор. Главной в семье всегда была папина работа и все, что с ней связано: гастроли, концерты, репетиции. Мама с первых дней создания оркестра работала в нем как пианистка и первая в Армении села за клавесин. Друг с другом они общались, постоянно воркуя: Джана-Джана, Аинька (ласковый вариант маминого имени — Аида) — Заринька… И так всегда.
До сих пор она живет, скучая по нему, окруженная его портретами, читая его письма. Живет нашей жизнью, полностью уйдя в воспитание внучек, в мои заботы. Помогает Володе в наведении порядка в вечном нотном завале, каждый раз предупреждая, что делает это в последний раз! И все же — живет своей одинокой жизнью вдовы. И никакие мои усилия не смогли за эти шестнадцать лет приглушить ее вдовью тоску.
Они с папой в последние годы пристрастились к раскладыванию пасьянса. Теперь мама каждый вечер часами раскладывает один и тот же пасьянс. Она называет это «мое снотворное». Я смотрю на нее и часто хочу сильно-сильно ее обнять, но почему-то смущаюсь. Она — властная и беззащитная одновременно. Я не увидела своего отца стареющим — только поседевшим. Мама же в своем возрасте остается красавицей, не стремясь казаться моложе, а подчас и накидывая себе пару-тройку лет: «Мне уже семьдесят!» (Хотя до этого еще далеко.) Такое кокетство «наоборот»!
Моего отца нет уже шестнадцать лет. Я все время говорю с ним и все время ловлю его реакции, его движения, его привычки в себе. И вздрагиваю. Иногда мне кажется, что я — это он. Глупо, наверное. Но неизлечимо. Папа был человеком, способным дать ответ на любой вопрос. Понять все. Блестящий скрипач, чуть было не ставший радиоинженером, всю жизнь проповедовавший идеальный порядок и дисциплину. Когда его не стало, я вдруг поразилась — насколько мир человека в его отсутствии говорит о нем. После папы осталась его библиотека: черные стеллажи, книги, бесчисленное количество нот, в ящиках в идеальном порядке карандаши, ручки, ластики, записные книжки, струны, дирижерские палочки, еще небольшая коллекция трубок. Отец много курил, всю жизнь, в какое-то время, стараясь бросить, перешел на трубку. А еще на застекленном балконе, переоборудованном им под столярную мастерскую, стоял огромный старинный шкаф, в котором в маленьких коробочках и деревянных ящиках хранились шурупы, сверла, гвозди и всякая металлическая мелочь, способная когда-нибудь сгодиться: в редкое свободное время папа мастерил мебель. Многие годы, до самого окончания школы, я работала за столом, сделанным «от» и «до» его руками. Плотничал он так ловко, что практически ни разу не поранил рук, орудуя электропилой, молотком, дрелью. Но, конечно, его миром были концерты. С детства папин концерт являлся главным событием моей жизни. Бабушка учила меня, что надо зажимать кулачки, пока папа на сцене. (Так я до сих пор и сижу на концертах теперь уже моего мужа — с зажатыми кулачками.) Стремительной походкой, высокий, стройный, со смоляной бородкой и длинными волосами, папа выходил на сцену. Он был очень красивым мужчиной. Бороду отрастил, когда мне было шесть лет, став сразу похожим на героев картин Эль Греко.
В Ереване в те годы Зарэ Саакянц был очень популярен. Девчонкой я с гордостью произносила где надо и не надо: «Я — дочь Зарэ Саакянца». (Позже, когда я уже начала сниматься в кино, папа шутя говорил: «Скоро про меня станут вспоминать только в связи с тем, что я — отец Сатеник Саакянц».) Папа был моим самым большим другом, моей точкой отсчета, моей охранной грамотой. Лежа в больнице в последний месяц перед смертью, он как-то сказал:
— Мои инфаркты — это бомбы замедленного действия, я так и не смог оправиться от предательства.
Отец учился в Москве у Ю. И. Янкелевича, начинал работать в Камерном оркестре знаменитого тогда Баршая, но впоследствии вернулся в Ереван. Созданный им в 1962 году, в год моего рождения, первый в Армении Камерный оркестр был его главным и любимым детищем. Я, будучи единственной дочерью, подчас ощущала себя «вторым ребенком». Первым был оркестр. Спустя тринадцать лет в его оркестре начался раскол, и отец не мог ничего сделать потому, что, будучи человеком очень мягким, не умел обращаться с людьми, как они порой того заслуживали. Когда на одном из собраний ему бросили в лицо:
— Мы подняли тебя на небеса, ты сделал себе имя и карьеру благодаря нам, он положил на пульт дирижерскую палочку:
— Оставайтесь там, где вы есть, я спускаюсь на землю.
Они с мамой ушли из оркестра, которому отдали все свои силы, молодость, талант. Для меня, четырнадцатилетней, это было равносильно катастрофе. Отец до последнего дня работал: преподавал в консерватории, создал свой квартет, даже стал играть на альте. Но я понимала, что внутренне он сломлен. Во время его последнего концерта за месяц до смерти он неважно себя чувствовал. Зайдя к нему в антракте, я застала его в одиночестве, с вечной сигаретой.
— Пап, как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, правда хорошо — сцена лечит! — сказал он мне.
Когда я решила не поступать в консерваторию в Ереване, а ехать в Москву и пробоваться в театральный институт, отец меня сразу поддержал:
— Нельзя вариться в собственном соку, пусть попробует свои силы, не получится — вернется.
Мама тогда подчинилась, хотя я только теперь понимаю, чего ей это стоило отпустить единственную дочь в Москву.
Первое боевое крещение: папа привел меня к Ростиславу Яновичу Плятту, знакомому каких-то наших знакомых. Плятт, полулежа на диване, выслушал мои бесконечные стихи, отрывки и басни, и произнес решающую для меня тогда фразу неторопливым, глубоким голосом: «Бросать музыку, конечно, подло, но вам стоит попробовать, у вас может получиться!» Потом он посоветовал подготовиться получше и познакомил меня с замечательными артистами Театра имени Моссовета Владимиром Гордеевым и Людмилой Шапошниковой. Плятт считал, что В. Гордеев обладает талантом снайпера в подготовке молодых актеров, — он не ошибался. Гордеев и Шапошникова стали чем-то вроде моих московских родителей на первых порах. Она — потрясающая русская актриса, он — никому не известный гениальный педагог, и оба — истинные служители театра. Так я оказалась в ГИТИСе в 1979 году на курсе И. М. Туманова.
Со второго курса меня постоянно приглашали сниматься в кино на «Арменфильме», и хотя в институте на студентов, снимавшихся в кино, тогда смотрели косо и в основном это запрещалось, я всякий раз умудрялась совмещать занятия со съемками. Считалось, что священный процесс обучения нельзя мешать с вульгарным процессом кинопроизводства. Руководитель нашего курса Иосиф Михайлович Туманов отпустил меня на съемки первого моего фильма, где у меня была главная роль — случай совершенно беспрецедентный. Но этому предшествовала почти драматическая история.
Съемки начались летом, должны были завершиться в сентябре, а потом растянулись до конца декабря. В Москву приехал помощник режиссера, меня вызвали в деканат, Туманов грозно посмотрел и сказал:
— Берите академический отпуск. Вы приехали учиться, а не становиться киноартисткой. Вы пропускаете мастерство, поэтому уходите на следующий курс, к Ремезу.
Я ответила — чего мне потом не простили:
— Я поступала, Иосиф Михайлович, к вам на курс, чтобы учиться у вас. Я не хочу уходить из института, но платить неустойку киностудии тоже не могу.
Тогда Туманов взял календарь, обвел кружочками числа, в которые я должна быть на занятиях в институте (получалось через день, без выходных, но в советское время можно было спокойно сниматься в субботу-воскресенье), со словами:
— Если пропустишь хоть одно занятие по мастерству, считай, что ты отчислена.
В результате я летала только поздними вечерними рейсами в Ереван и Баку. Если бы получилась картина, подобная феллиниевской «Дороге», об этом можно было бы говорить с гордостью. Но поскольку картина получилась нулевой, гордиться особо нечем. Хотя для меня, восемнадцатилетней, это был важный этап становления.
Для меня не существовало ничего, кроме моей профессии. Никаких других чувств и интересов в жизни не было. Стиснув зубы, я сама себе доказывала, что я могу то, чего не могут другие, — и возникал тот кураж, которого мне не хватает сегодня. И мне везло. Мои самолеты ни разу не опоздали; даже когда были переполненные рейсы, я умудрялась выскакивать к пилотам на взлетную полосу, меня знали все экипажи армянских рейсов, брали в кабину, поили чаем. Я до сих пор храню подаренные карты полетов. Все летчики мечтали увидеть наконец эту картину. Я налетала тысячи километров, совершенно не уставая, и ощущала себя очень счастливым человеком. Прилетала в Москву семичасовым самолетом, добиралась до тети на Юго-Запад, вставала под душ в спящей квартире, выпивала крепчайший чай и мчалась в ГИТИС на метро. Думаю, что после съемок Туманов меня зауважал, потому что стал — единственную — называть по имени — Сато — и на «ты». И прибавлял «детка». (Обычно всех студентов Иосиф Михайлович называл исключительно по фамилии и на «вы».) После смерти Туманова за это мне досталось крепко, поскольку я значилась у него в любимчиках. Тогда-то я и ушла с курса в академический отпуск. Это совпало со съемками фильма «Ануш». Позже, вернувшись, я восстановилась, повторив третий курс, так что училась фактически лишний год.
Забавно сейчас вспоминать, но «главным» событием в моей коротенькой творческой биографии, конечно же, был этот фильм-опера по одноименной поэме классика армянской литературы Ованеса Туманяна. Для фильма пришлось выучить наизусть всю оперную партию. Помогло мое музыкальное образование.
Для любого армянина Ануш — это святое, своеобразное национальное достояние. Легенда о любви, наши армянские Ромео и Джульетта. Со стороны сюжет кажется наивным — как можно устроить эдакую драму на пустом месте? Но образ Ануш, единственной ГЕРОИНИ в национальной литературе, стал, как сейчас принято говорить, брэндом (причем это продолжается не одно десятилетие): силуэт девушки с длинными косами и кувшином на плече прочно утвердился на этикетках марочных вин, конфетных коробках, сувенирах, поздравительных открытках. Арии из «Ануш» народ распевает на свадьбах и похоронах даже в глухих горных деревнях.
Представьте, каково в двадцать лет стать экранным символом маленького народа? По правде сказать, я ничего сверхъестественного не испытывала. По окончании съемок меня угнетали три вещи: душевная пустота (чувство, что я выложилась полностью, что в фильме ничего не изменить и что это больше никогда не повторится), оглушающий шум горного водопада, на фоне которого снимали весь финальный эпизод (этот постоянный грохот падающей воды еще долго преследовал меня, как слуховая галлюцинация), и то, что на меня посыпались предложения ролей, похожих как две капли воды на девушку с косами и со слезами на глазах.
Счастье, что случилось это в 1981–1982 годах, папа успел увидеть при жизни мое имя на афишах и мое лицо на огромных экранах. Как же он был счастлив, как гордился! Сегодня, двадцать лет спустя, несмотря на все несовершенство этого фильма, на всю наивность режиссуры, могу сказать, что было в нем много побед. Главная победа — удалось после многих часов, проведенных перед зеркалом в сопровождении магнитофона, добиться абсолютно точного синхрона с певицей, гениальной армянской колоратурой Гоар Гаспарян. На экране полное впечатление, что я пою сама! Спасибо музыкальным генам и всему, что в меня с детства впихивали, водя в оперу и на концерты! Так что на долгие-долгие годы для всех моих соотечественников я была просто Ануш.
Не так давно со мной произошел забавный эпизод. В Париж приехал молодой армянский оркестр, нас с мамой пригласили на концерт. После концерта, оказавшись в окружении музыкантов, я столкнулась взглядом с одним из скрипачей — высоким мужчиной с красивой бородой. Он, несколько смущаясь, спросил:
— Ведь это вы Ануш?
Задрав кверху голову, приятно удивленная, состроив глазки, я ответила:
— Да.
— Мне так нравился фильм, каждый раз в конце, когда вы умирали, я сильно плакал, а мама меня успокаивала, объясняла, что это кино, но я все плакал и плакал. Мне было лет семь-восемь.
Можете представить, что стало с моей улыбкой! В голове прокрутился назад счетчик лет. Я впервые поняла все про возраст и время. И то, что с тех памятных съемок выросло целое поколение, хоть мне и кажется, что это было вчера!
Сейчас, оглядываясь назад, я счастлива, что удалось тогда посниматься: профессию в кино осваиваешь иначе, но не менее продуктивно, чем сидя в аудитории вуза в ожидании, что до тебя наконец дойдет очередь. Одним словом, съемки, кино научили меня не меньше, чем ГИТИС, а в плане проверки своих сил и формирования характера даже больше. Здорово, что пришлось совмещать «учение» с «боем». Тем более что студент не виноват, если на курсе наряду с совершенно потрясающими педагогами работают профнепригодные люди — к сожалению, это бывает, а ведь от них в дальнейшем зависит профессиональное будущее. Ведь педагоги тоже могут калечить, об этом не всегда удобно говорить, но, увы, это правда. В годы моего студенчества в ГИТИСе преподавали такие мастера, как Кнебель, Гончаров, Касаткина, Колосов, спектакли ставили Фоменко, Эфрос, Гинкас. Но были и другие, о которых даже вспоминать не хочется. А вообще институтские годы — это было прекрасное и трудное время надежд, мечтаний, самоутверждения. Как сказала Вирджиния Вульф: «Жизнь — это сон. Нас убивает пробуждение». Окончание института запомнилось мне ощущением такого пробуждения: я столкнулась с реальным цинизмом.
В мою жизнь ворвался Володя, уже тогда известный, блестящий музыкант. Мне был двадцать один год, и я поняла, что это — судьба. Все внешние атрибуты его славы не имели для меня тогда никакого значения, а скорее создавали сложности и проблемы. Жил он в то время с дамой, довольно известной в музыкальных кругах, старше его. Никогда не был на ней женат. Ушел сразу, познакомившись со мной. Угрызений совести я не испытывала, поскольку ничьей семьи не разбивала и ничьих детей не лишала отца. Но скандал на Москве разразился и стал расти, как пожар. Результат: на последнем выпускном курсе меня лишили вдруг всего — в дипломных спектаклях у меня вдруг не оказалось ролей. Ни одной! Казалось бы, какая связь? Когда я обратилась с просьбой ввести меня на какую-либо роль, хоть во второй состав, руководитель курса О. Я. Ремез, Царство ему Небесное, ехидно сказал:
— Саакянц, зачем вам роли? Роли нужны студенткам, которым необходимо показаться режиссерам, поступить в театр, а вас Спиваков по одному звонку устроит куда угодно!
Как говорят в Англии: «No comments!»
Выходило, что в течение четырех лет у меня не было продыха от работы на курсе, а тут вдруг я оказалась вроде прокаженной. У одной меня на выпуске не было ни-че-го! В результате мне все-таки дали роль, видимо, для очистки совести. Кама Гинкас ставил володинскую «Блондинку». В первом составе Блондинку блестяще играла Ира Розанова — высокая светловолосая красавица, во втором — маленькая брюнетка Таня Аугшкап. У меня в спектакле была роль последняя по списку — старая подслеповатая женщина. Самый короткий эпизод пьесы. Текст роли (всей!): «Читай-читай! Читай дальше!» Этими четырьмя словами я должна была, видимо, показать все то мастерство, которому меня учили за государственные деньги в течение пяти лет! Гинкас меня, кажется, понял и развил роль: моя героиня периодически появлялась в течение всего спектакля, молча бродя по сцене, олицетворяя собой то память, то совесть, то благородство, в общем, неся зрителю букет вечных ценностей и иллюстрируя немой укор.
Еще меня заняли в одном спектакле в качестве осветителя, а в «Борисе Годунове» Фоменко поставили на гардероб. От последнего я просто самоустранилась. Мне устроили разнос при всем курсе, на что я, обнаглев, ответила, что, во-первых, мечтала у Петра Наумовича играть хотя бы в массовке и «безмолвствовать», как весь остальной курс, во-вторых, что история про театр, начинающийся с вешалки, меня не трогает и что, в третьих, я не могу нести материальную ответственность за шарфы и шапки почтенной публики, а в последних, что если в знаменитом ГИТИСе за пять лет меня смогли обучить только на гардеробщика, то либо надо отчислить меня за профнепригодность, либо…
Но в общем-то профессионально я тогда была защищена: в Ереване меня ждали театр, киностудия — было ясно, что в Москве мне оставаться не надо, да и не хотелось. Судьба же распорядилась иначе. Она приняла очертания скрипки, ее голоса, знакомого с детства, а потом и черты пухленькой, курчавой сладкой моей дочурки — Кати. Недавние страсти по ГИТИСу показались мне чепухой в сравнении с этим. А потом, вначале незаметно, далее все более осознанно я стала отходить от своей профессии, сдавать позиции. А может, профессия стала отторгать меня. Наверное, у меня не хватало характера, упорства и таланта держать взятую высоту, двигаться дальше, доказывая себе и окружающим, что я сама по себе чего-то стою, а не только являюсь женой известного человека и поэтому могу выходить на сцену. Ведь сцена — одна из самых опасных вершин, ты на ней голый, без страховки, без лонжей. Однажды сойдя, восстанавливать форму, впрыгивать в бегущий поезд уже страшно, не хватает куража. При этом я ни о чем не жалею, потому что верю в судьбу и знаю, что пусть короткое время, но все-таки была актрисой. Правда, долго не могла ходить в театр: когда со сцены тянуло запахом грима вперемежку с пылью и гас свет, у меня, как у лошади на манеже, начинало щипать в носу. Теперь это прошло. Недавно Людмила Касаткина подарила мне свою фотографию с надписью «Гитисяночке Сати». Как окрылило меня это слово — гитисяночка!
СКРИПАЧ НА КРЫШЕ
За год до того, как мы с Володей познакомились, я летела в Ереван. Одна приятельница решила послать моему папе в подарок виниловую пластинку Спивакова 33 оборота. Тогда я понятия не имела о том, кто такой Спиваков. Она рассказала, что это такой модный скрипач, только что создавший камерный оркестр «Виртуозы Москвы». А когда ее коллеги-журналистки приходили брать у него интервью, он, прежде чем открыть дверь, брал в руки скрипку, приготовленную заранее в прихожей. Чтобы все думали, что он чуть ли не спит со скрипкой в руках. (Сейчас-то я знаю, что это правда — со скрипкой он не расстается.) Это так романтично — в Гнесинке, где он преподает, все по нему сохнут, бабник и донжуан со скрипкой. Но на меня ни фотография, ни рассказ должного впечатления не произвели.
Почему-то я везла еще какое-то блюдо. Я засунула пластинку и блюдо в один пакет, положила под сиденье и — надо знать наши самолеты советских времен, лишенные кондиционеров, — в конце пути в Ереван достала из-под сиденья пластинку, принявшую форму таза, то есть блюда. Папа очень меня ругал: дочь скрипача, а не умеет обращаться с пластинками!
Спустя полгода я прилетела на пробы фильма «Ануш» под Новый год и в двадцать лет умудрилась заболеть ветрянкой. Так что все яства, приготовленные мамой, для меня пропали. Ветрянку диагностировали 31 декабря. Сижу у телевизора вся в зеленке, скучно ем яблоко и творог (больше ничего нельзя) и смотрю «Голубой огонек» — первый, в котором показали «Виртуозов». Володя впервые играл тогда все свои «мульки» — «Сувенир» Полторацкого, «Скрипач на крыше» Д. Бука. Увидев его лицо крупным планом, я воскликнула:
— Ой, какой хорошенький!
В начале нашего знакомства Володя ездил на «шевроле», который ему подарили в Америке после истории с пластиковой бомбой, взорвавшейся на сцене во время концерта (об этом еще расскажу). Когда я в первый раз села в эту машину, нашла в боковом кармашке программку спектакля Большого театра «Итальянка в Алжире», на котором я была тоже. Вова, конечно, начал фантазировать, что он меня видел в фойе и уже тогда запомнил. В общем, привет вам от барона Мюнхгаузена!
ОТ «ВИРТУОЗОВ» ДО «ВИРТУОЗОВ»
В нашей с Володей жизни тема «Виртуозов Москвы» очень важна, от нее никуда не уйдешь. Вообще, «камерный оркестр» для меня понятие абсолютно естественное. Все проблемы, через которые в свое время прошел мой отец, прекрасно мне знакомы. Проблемы человеческих взаимоотношений, отношений между руководителем и оркестрантами (в таком коллективе человеческий фактор очень важен), соотношение творческого и личного… Мне снова и снова вспоминается папа, больничная койка, последний разговор:
— Не смог пережить предательство, когда мне пришлось уйти из своего коллектива. Так случилось, что я проиграл.
Я ему тогда по глупости, по молодости ответила:
— Ты, наверное, не сумел правильно выстроить свои отношения с музыкантами, не умел держать дистанцию и поставить себя с самого начала. Посмотри, как общается с музыкантами Володя, как они на него молятся, какое у них единение человеческое и творческое.
Так мне тогда казалось, но это был 1985 год, «Виртуозы Москвы» существовали всего пять лет. Никогда не забуду папиного взгляда. Он посмотрел на меня, прищурив глаз:
— Сколько твой муж руководит камерным оркестром? Пять лет? Вот если ты мне на четырнадцатый год (а я руководил оркестром тринадцать лет) скажешь, что все по-прежнему, тогда я соглашусь, что, пожалуй, он нашел тот путь, которого я не видел и не знал.
Как часто вспоминала я эти слова! Оркестр «Виртуозы Москвы» был создан Володей как реализация его необыкновенной потребности иметь вокруг себя музыкантов-единомышленников. Володя, в принципе, человек очень одинокий. Он сказал мне в нашем первом телефонном разговоре:
— Знаете, Сатенька, я — одинокий волк.
Конечно, в этом была и доля позерства. С одной стороны, он очень общителен, умеет находить общий язык с людьми. С другой — действительно человек очень одинокий. У него мало друзей, которым он всецело доверяет. А с каждым годом круг сужается. У него даже нет необходимости иметь вокруг много людей: он общается с музыкой, ему важнее побыть наедине с книгой, с пластинкой, со скрипкой, со мной, наконец, со своими мыслями. Он утомляется от общения или, наоборот, часто чувствует в нем фальшивые, лишние пассажи. Однако в работе стремится избавиться от этого одиночества и собрать вокруг себя единомышленников. Этот эксперимент удался. Вначале Володя отправился в поездку с квартетом Бородина, который некоторое время был невыездным, чтобы поддержать их, сел на место первой скрипки. Потом пригласил пару коллег, и они музицировали в маленьком составе. К нему потянулись музыканты из первоклассных симфонических оркестров, которым было интересно музицировать для души. Репетировали в какой-то котельной в перерывах между основными концертами и репетициями. Для всех это была отдушина.
Заслуга первого состава «Виртуозов Москвы» была в том, что они привлекли небывалый по тем временам интерес публики к классической камерной музыке. В концертные залы вдруг повалили люди, до этого ни разу там не бывавшие, которые априори считали, что Баха, Шостаковича, Моцарта слушать скучно.
Все сложилось: они выступили на «Новогоднем огоньке», Спиваков вдруг стал играть музыку, которую вроде бы не пристало играть музыкантам, относящимся к элите, за что его многие критиковали и критикуют до сих пор. Его упрекали в популизме, в дурновкусии. (Знаю, что в какой-то момент Валентин Александрович Берлинский сказал, что его сединам не пристало играть то, что собирается исполнять Спиваков. Речь шла об обработках гениальнейшего музыканта Полторацкого, не признанного и никому не известного, слишком рано умершего. Нарекания вызывали и так называемые «мульки» — легкие произведения, которые хорошо слушались в «Новогоднем огоньке» между эстрадными номерами. Я в связи с этим часто вспоминаю фразу Жана Кокто: «То, в чем тебя упрекают другие, культивируй — в этом твоя индивидуальность». Вопрос не в том, что делаешь, а в том — как. И легкая музыка может быть изумительной, и серьезная может быть непотребной. А создавались программы «Виртуозов», безусловно, со вкусом. И те, кто упрекал Спивакова в популизме, со временем стали делать то же самое, только в сто раз хуже — с шампанским и польками-вальсами, аккомпанирующими ужину. Но все равно непревзойденным шоуменом, «королем танцмейстеров», как пишут некоторые критики, в этой области остается мой муж.)
Тем не менее, использовав легкую музыку как приманку, он поймал на крючок публику, которая раньше вовсе не слушала классическую музыку. Они шли на концерты, поддавшись его харизме, обаянию, энергетике его личности. Иногда в надежде, что в финале концерта им, может быть, сыграют «Сувенир» Полторацкого. Но перед этим они слушали Баха, Вивальди, Шнитке, Стравинского. Репертуар у «Виртуозов Москвы» был чрезвычайно широким.
Молодой пианист Александр Гиндин, работающий с моим мужем, сказал мне недавно:
— Странно, Спиваков до сих пор такой романтик.
Действительно, он романтик, и это в нем непоколебимо. Он проповедовал в оркестре лицейское братство. И до 1988–1989 годов оно сохранялось, что сразу отметили на Западе. До такого эталонного качества исполнения, сыгранности, идеального вкуса, интонирования и отточенности никто так и не возвысился. Многие годы они были лучшими представителями российского искусства, пока интерес к России сохранялся на волне международного успеха Михаила Горбачева.
Помимо профессионального удалось на некоторое время создать и человеческое единение, когда в гастрольных поездках все между выступлениями забавлялись, как сумасшедшие. Оркестр был немножечко оркестром аристократов. Когда другие коллективы везли из заграничных турне чемоданы с колготками, газовыми косынками, кримпленом и мотками пряжи, в багаже «Виртуозов Москвы» были английский чай и пледы. Гонорары были другие, и спрос был другой. Помню, как мы справляли дни рождения музыкантов в ресторанах гостиниц «Националь» и «Интурист», все подъезжали на своих машинах — «москвичах» и «жигулях», и жены оркестрантов выходили в шубах. Вокруг шептались: «Виртуозы Москвы» приехали. Их всех знали в лицо, каждого в отдельности. Помню то время, когда концерты «Виртуозов» от первой до последней ноты транслировались в прямом эфире по первой программе телевидения. Владимир Иванович Попов, одно время заместитель министра культуры, очень любил и оркестр, и Володю и делал все, чтобы пропагандировать «Виртуозов Москвы» совершенно бескорыстно. Оркестр был настоящим элитным коллективом.
Спиваков создал уникальную модель масс-культуры в жанре камерного музицирования, в котором первым добился невероятных результатов. На Западе на оркестр был огромный спрос. Импресарио Спивакова обращались в министерство культуры с запросами, на которые и Госконцерт, и министерство отвечали: «Такого оркестра нет». Только после первого концерта в Большом зале Консерватории появилась статья в «Правде» «Есть такой оркестр».
Я знаю, что «Виртуозы Москвы» — это история и творческая биография самого Спивакова. С другой стороны, «Виртуозы Москвы» — это огромная жертва Спивакова. Затяжная пауза в его карьере скрипача произошла потому, что много сил, знаний, связей, энергии и энтузиазма мужчины, которому под сорок, он бросил на свой оркестр. Читая сейчас статьи о его сольных концертах тех лет и ожиданиях, которые на него возлагались на Западе, я понимаю, что, если бы не возникли «Виртуозы Москвы», которым он дал клятвенное обещание (и выполнил его!) меньше играть и гастролировать как солист, Спиваков-скрипач достиг бы гораздо больших вершин.
В силу его широкой натуры — он ничего не умеет делать вполовину — весь его накопленный к тому времени потенциал, энергия имени и славы — все было отдано на поддержку «Виртуозов Москвы». Впереди себя он проталкивал оркестр. Приглашали его — он предлагал «Виртуозов». И на это ушло добрых пятнадцать лет, прежде чем он понял, что можно самому еще что-то сделать и что, в общем, есть жизнь и без «Виртуозов Москвы».
Поначалу все были довольны, все было внове: первая поездка в Японию, Германию, Испанию, Штаты. Но человек ко всему привыкает. «Виртуозы» тоже привыкли к тому, что повсюду их встречают полные залы, и на лицах маститых музыкантов появилась усталость от успеха и ирония. Привычка к благополучию порождала стремление к чему-то большему. В каждом своем интервью Володя не забывал сказать, что любой музыкант его оркестра способен завтра сыграть соло. Они — высококлассные артисты, ученики Ойстраха, Янкелевича и Ростроповича. Это так и не так. Многие играли соло, но немногие способны были играть так, чтобы было видно: этот музыкант может быть солистом. Так играли феноменальный гобоист Алексей Уткин, Аркадий Футер, Михаил Мильман и ученик Спивакова Борис Гарлицкий. Остальные же были классной командой. Спиваков создал оркестр, который работал на «полупроводниках». Ему стоило пошевелить локтем, и они вместе играли пиццикато. Он уходил со сцены (были такие бисовые трюки), а они продолжали играть в унисон. Конечно, это нарабатывалось в процессе репетиций. Но не все были такие уж уникальные, встречались и средние музыканты, а то и просто профнепригодные. Кого-то держали из жалости к семье, кого-то — из сочувствия к годам. Тем не менее все «глядели в Наполеоны» и считали, что могут стать такими же, как Спиваков.
Постепенно начал наступать перелом. Поэтому я считаю период, прожитый с оркестром в Испании, черным в нашей жизни. На чужбине, в эмиграции (официальной или завуалированной — неважно) выявляются сразу все болячки. Эта перемена состояния подобна землетрясению, взрыву, катастрофе, которые все обнажают, выворачивают наизнанку. Люди проявляют себя не с лучшей стороны. Но главное — отъезд в Испанию обозначил то, что я называю началом конца «Виртуозов Москвы».
Почему старый состав оркестра уехал в Испанию? Во-первых, немножко устали от успеха. Во-вторых, когда исчез «железный занавес» и все стали спокойно ездить через границу и гастролировать, оркестр оказался в тупике. Съездили в турне, получили замечательные рецензии, заработали неплохие деньги — а дальше куда? Вернулись. В России — только успех, без особых денег. Снова съездили, вернулись довольные и благополучные. Жить стало скучно. К тому же экономические условия в России конца 80-х — начала 90-х годов были тяжелыми. Талоны на продукты, карточка жителя Москвы, бегающего за куском мяса. Но уверяю, ни один из «Виртуозов» не жил плохо: на те деньги, что они зарабатывали на Западе, можно было покупать продукты на рынке. Все были обуты-одеты, никто не нуждался, не жил в подвалах и коммуналках. В поездках стали встречать коллег, эмигрировавших в свое время, и начали сравнивать. Один уехал в Америку, сидит себе в Балтиморском оркестре — но у него уже свой дом, у другого ребенок поступил в Гарвард. Конечно, когда рядовой инструменталист, сидящий на последнем пульте в Бостон-симфони, получает зарплату в пять раз больше, чем виртуоз Москвы, считающий себя вторым Ойстрахом, однокурсник, живущий в Америке, приглашает в собственный дом и заезжает за тобой на огромном автомобиле, а по возвращении домой виртуоз не видит ничего, кроме двухкомнатной квартиры в новостройке, это вызывает раздражение. Словом, к отъезду «Виртуозов Москвы» побудили экономическая ситуация и усталость от успехов и славы. Никаких гонений и политических причин не было и в помине. Володя вообще не хотел уезжать. Он не мыслил себя без России, иначе бы он мог уехать очень давно, в начале 70-х годов — после первого успеха в Штатах, после победы на конкурсе в Монреале, после того, как спустя четыре невыездных года, он наконец стал вновь выступать и играл с Аббадо, Шолти, Бернстайном, Озавой. У него была масса возможностей — тогда он был еще неженат, руки у него были развязаны, ничто ему не мешало остаться на Западе. Он не уехал, потому что не мыслил себя без Москвы. Правда, нельзя отрицать, что его всенародная слава возникла с рождением «Виртуозов Москвы».
Когда был подписан контракт с Испанией и Володя сообщил мне об этом (мы сидели в аэропорту в Мадриде), я рыдала от охватившего меня ужаса. У меня бывают какие-то прозрения, вдруг в секунду привиделся весь тот кошмар, который на нас надвигался. Это было как вспышка: я ясно увидела начало конца прекрасной истории. Может быть, лучше было никуда не ехать и покончить тогда, распустив оркестр. Но Володя воспринимал эту авантюру как новую ступень и начало очередного интересного этапа в жизни. Меня же не оставлял дикий страх, что все будет иначе. Так и случилось.
Я помню первый побег из «Виртуозов». Все были шокированы. Первое предательство случилось в 1984 году, когда ближайший друг Володи с юности, скрипач Анатолий Шейнюк, не вернулся из поездки во Францию. Я была в Москве, до меня донеслись слухи от чужих музыкантов: «У ваших „Виртуозов“ случилось такое!» Даже вслух боялись говорить, что случилось. Мы поехали встречать ребят в похоронном настроении. Оказалось, Шейнюк решил бежать и так волновался накануне, что сказался больным. А поскольку он действительно был товарищем Володи, мой муж пришел навестить его, принес яблочный пирог с чаем, посидел у кровати в гостиничном номере. Шейнюка, белого от волнения, трясло, как в ознобе. Утром его не оказалось в гостинице. Это был такой удар, что на протяжении нескольких лет Володя продумывал «месть Шейнюку». Мы уже смеялись, когда он мечтал нанять человека с тем, чтобы тот раз в год приходил и избивал беглеца до полусмерти:
— Он трус, он не будет знать, когда появится этот человек. Но он будет ждать этого часа и бояться.
Володя не мог простить этого предательства. Трех немногочисленных членов партии из состава оркестра таскали на какие-то комиссии, над всеми повисла угроза стать невыездными.
А потом предательств было так много! Может быть, Володя о них забыл. Но я не могу забыть, когда предают такого человека, как мой муж. Он не выгнал из оркестра ни одного музыканта, не уволил никого. 99 процентов тех, кто ушел, сделали это некрасиво и непорядочно. Кто-то мерзко и по-хамски, кто-то просто плохо. Почти никто не ушел так, чтобы после этого ему можно было бы подать руку при встрече.
Юрий Гандельсман, игравший в альтовой группе, которого Володя очень поддерживал, устроил ему квартиру, много помогал профессионально, незадолго до отъезда в Испанию взбунтовался и заявил, что уходит. На здоровье. Но, уходя, он пытался поднять бунт в оркестре, и все потом выражали сочувствие Володе, однако никто не сказал Гандельсману, что тот плюет в колодец, из которого столько лет пил.
Я была тогда девчонкой и не умела себя поставить. В оркестре многие были однокурсниками моего отца, много старше Володи. Со мной не считались. Женой шефа я себя никогда не чувствовала, и никогда меня не тянуло дружить с женами оркестрантов — всегда старалась держаться особняком. Меня возмутило, что никто не встал и не защитил Володю. Гандельсман ушел и многие годы был первым альтистом в Тель-Авивской филармонии, недавно его пригласили в классный квартет в Нью-Йорк — Альбан-Берг-квартет, — он стал профессором консерватории, — в общем, жизнь удалась. Бог ему судья! Если бы вначале не было заискивания и холуйства, предательство так бы не ранило. Всегда думаешь: если человек был так искренне предан, как же можно измениться в один день?
Один из первых и самых многообещающих учеников Спивакова блестящий скрипач Борис Гарлицкий тоже повел себя непорядочно. У него были все данные, чтобы стать классным скрипачом, он был артистичен и обладал невероятными способностями к подражанию: он копировал (в лучшем смысле) исполнительскую манеру Спивакова. Володя возлагал на него огромные надежды. Перед отъездом в Испанию заболел концертмейстер оркестра Аркадий Футер, ему делали операцию по шунтированию сердца, и никто не знал, вернется ли он в оркестр, сможет ли дальше работать. Боря заменял его как концертмейстер и уже в скором будущем видел себя на этом месте. Когда решался вопрос об отъезде из Москвы, Гарлицкий буквально присягал учителю. Однако незадолго до получения виз его жена пришла к директору оркестра Бушкову и через порог протянула заявление об уходе. Сегодня Гарлицкий — первый скрипач в оркестре в Лионе и профессор Парижской консерватории. Володя говорит, что, по крайней мере, ему не приходится краснеть за тех, кто был «Виртуозами Москвы» — это хорошая визитная карточка. Но по-человечески приходится и краснеть, и белеть. До сих пор не могу простить Гарлицкому, что, будучи любимым учеником Спивакова, он не поднял телефонную трубку и не сообщил сам о своем уходе, не объяснился. Есть обстоятельства (например, жена считает его вторым Хейфецем, он стремится стать солистом или может уехать в Европу, сесть в классный оркестр и зарабатывать втрое больше), против которых, что называется, не попрешь. Все находили объяснения своим предательствам. Никто не признавал себя трусом. Они, дескать, боялись позвонить Спивакову, потому что представляли, каким голосом он им ответит, боялись прийти, потому что знали, как он сузит глаза, посмотрит — и они уже не смогут уйти! Спиваков еще был заведомо виноват своими реакциями! Поэтому ученик не нашел в себе мужества сказать: «Я ухожу». Он предпочел написать официальное заявление накануне отъезда в Испанию. Володю многие упрекали в том, что оркестр потерял Гарлицкого, что, если бы он не был так по-человечески мягок и посадил бы Бориса на место концертмейстера, тот бы остался. Но Спиваков не мог так поступить с Аркадием Футером, которому было далеко за пятьдесят и который выкарабкался после операции едва ли не только для того, чтобы продолжить играть в оркестре.
Или другой ученик, скрипач Сергей Тесля, который не верил своим ушам, когда узнал, что Спиваков хочет взять его в оркестр после Гнесинского института. Еще учеником он, парень из Сибири, ходил ко мне в дом, был чуть ли не нашим ребенком и молился на Володю. Я видела, сколько часов мой муж потратил на него. В Испании же он, играя с «Виртуозами» на концерте в Саламанке, придумывал какие-то мифические приработки в оркестре Ла Коруньи. У него был маленький ребенок, и Спиваков не возражал, чтобы Тесля подзаработал. После концерта мы взяли его с собой поужинать, я купила ему в дорогу йогуртов и сделала бутерброды — путь в Ла Корунью неблизкий, часов пять на машине. Оказалось, он ездил не на концерты, а играть конкурс в оркестр Ла Коруньи. Ужинать со своим учителем, который вывез тебя в Испанию, — и не найти в себе сил признаться!
Предательств было такое множество, до Испании и во время нее, что в какой-то момент я почувствовала — у моего мужа наступило что-то вроде апатии. Когда ушел Шейнюк, он не спал ночами и придумывал страшную месть. Когда потом стали уходить люди очень близкие, он перестал реагировать.
Первый концерт, который «Виртуозы Москвы» давали в Мадриде после приезда в Испанию, сопровождался каким-то «кровавым» собранием, где полился поток оскорблений в адрес моего мужа. Второй скрипач Борис Куньев, бывший всегда человеком желчным, завистливым, злобным — и при этом высоким профессионалом, рвавшимся в концертмейстеры, вдруг раскрылся во всей красе. Прямо перед презентацией оркестра он написал Володе письмо и подсунул под дверь: «Оглянись, с 80-го года прошло десять лет — посмотри, где мы и где ты? Ты ходишь чуть ли не под руку с королем, тебя наградили всеми регалиями и званиями, твое имя на всех афишах крупными буквами, во всех интервью — твои портреты. Мы тебя подняли на небеса. Ты стоишь на костях своих товарищей, труд которых ты эксплуатируешь». Спиваков после этого вышел играть концерт Моцарта, и я чувствовала, как у него от ярости дрожит смычок. Мне сразу вспомнились детство и мой отец, которому тоже говорили: «Ты существуешь только благодаря тому, что есть мы, музыканты, поднявшие тебя до небес». Папа тогда ответил: «Вот и оставайтесь на небесах, а я сойду на землю». Положил палочку и ушел. И спустя годы Володе бросали обвинение: ты на пьедестале только благодаря нам. Например, кто-то был недоволен, что на афише американских гастролей «Виртуозов Москвы» — портрет одного Спивакова. На что импресарио ответил, что продать он может только Спивакова, а оркестр без Спивакова — нет.
В Москве мы привыкли чувствовать себя в эпицентре событий. На вопрос, зачем мы уезжаем, Володя отвечал, что ему надо сохранить оркестр и полученный в Испании контракт — небывалая удача. Оркестр выезжает под патронаж Королевского дома Испании. Поэтому в Москве выливалось такое количество кипятка от зависти… Я помню наш приезд в Испанию: несколько автобусов со всеми членами семей оркестрантов, чадами и домочадцами. Астурия — маленькая провинция, оживающая на три дня в году, когда в столице — городе Овьедо вручается знаменитая на всю Испанию премия принца Астурийского. Остальные 362 дня там тихо, пусто и скучно. И все чужое. Когда мы приехали, нас ждал банкет с множеством детей испанской войны, которых в свое время приютил СССР. И профессор университета, говорящий по-русски, произнес тост со слезами на глазах: «Сегодня великий для меня день, потому что в 30-е годы Россия приютила нас, несчастных детей, бежавших от войны. Теперь мы отдаем ей долг, принимая гонимых музыкантов». Я почувствовала, что нас считают беженцами и политическими эмигрантами.
Мы уехали из своей маленькой, уютной, чудной квартиры на улице Неждановой и попали в городок Хихон, где надо было найти и снять казенную квартиру с чужой мебелью, чужими запахами. Я не понимала, во имя чего я приношу эту жертву. Каждое утро я выходила в красивый сад у нашего дома и мне казалось, что я — в чужом сне, который снится кому-то другому. Красивый, тихий, сытный кошмар с чистым воздухом. Северная Испания — это дикая сырость, в Хихоне сырело все — сумки и ботинки покрывались пятнами, простыни оставались постоянно волглыми. «Виртуозы» продолжали концертировать, а семьи поселились в двух городках на виду друг у друга. Я быстро выучила испанский язык. В Мадриде появилось несколько друзей. В Хихоне и Овьедо меня приглашали на какие-то женские чаепития, где я не понимала, о чем говорить с этими женщинами, смотрящими на меня с неким любопытством, как на диковинную птицу. Когда в России случился путч, но через два дня все обошлось и «слухи о нашей смерти оказались резко преувеличены», устроили концерт в поддержку демократической России. Приехали принц Астурийский Филипп и его сестра принцесса Елена. Испанские дамочки, заглядывая мне в лицо, спрашивали: «Ты счастлива?» А мне не было от чего испытывать счастье при исполнении коронационной мессы с не самым лучшим хором. Я понимала, что мой муж принес очередную жертву, сделал сальто-мортале и вывез из России целый самолет людей лишь ради того, чтобы не разлучать оркестр. Но все обернулось иначе.
Пожалуй, последним счастливым аккордом был 1000-й концерт «Виртуозов Москвы» в Большом зале Консерватории, когда все забавлялись и музицировали с удовольствием. Редкими островками единения и счастья были поездки в Россию. А работа в Астурии, когда я видела, как все рыщут в поисках вакансий в других оркестрах, разрушила все иллюзии. Я понимала, что музыканты воспринимают отъезд как трамплин к другой жизни, и только Спиваков продолжал верить в существование идеальной модели коллектива единомышленников.
Многие музыканты стали по одному уходить в испанские оркестры, где предлагались совершенно другие зарплаты. Каждого ушедшего нужно было заменять, вводить в репертуар новых музыкантов, от этого терялось качество, в чем тоже упрекали Спивакова. Работать без Спивакова, самостоятельно, новые люди не умели, они мгновенно забывали наработанное, и мой муж как творческая личность стал буксовать. Я увидела — он загибается!
В Испании дело не пошло еще и потому, что преданный коллективу и очень умный директор оркестра Роберт Бушков не мог спокойно пережить, что, когда в России начались финансовые и экономические преобразования, он остается в стороне. Он отличался недюжинным умом, его считали финансовым гением. И он страшно нервничал, считая, что пора зарабатывать деньги. В голове его что-то сместилось, и, вместо того чтобы зарабатывать для оркестра, он старался заработать для себя. Он вкладывал деньги в ларьки с цветами, в золотые прииски, появлялись статьи, что «Виртуозы Москвы» намывают золото. Концов найти было нельзя. Конфликт между директором и художественным руководителем разрастался, директор постоянно отсутствовал, сидя в Москве, денег не прибавлялось, и оркестр совершенно растерялся. Музыканты привыкли быть при Бушкове, человеке властном, как дети при строгом папеньке. Все распадалось, созданное годами здание на глазах стало рассыпаться — пропал общий интерес. Исчезло то единение, о котором Андрей Вознесенский написал: «Созвездье виртуозов». Все звезды стали падать с этого небосвода.
И я увидела, что и мой муж растерялся. Он поверил, что без «Виртуозов» он — ничто. Ему стало казаться, что, если он выйдет на сцену и за спиной будут сидеть другие музыканты, он не сможет ничего сделать. Это для меня было самым страшным. На это наслоился и кризис нашей семейной жизни. Мы были на виду, и все доброжелатели с увлечением обсуждали подробности и, потирая руки, ожидали развязки. Наш разлад обрастал сплетнями в духе мексиканских сериалов. (Для меня было большим ударом узнать, что ближайший друг моего отца, с которым папа спал на соседних койках в общежитии консерватории, Эрик Назаренко, работавший в оркестре благодаря мне, в какой-то поездке подошел к Володе и сказал: «Ты правильно делаешь. Это страшная семья». Всю жизнь он был для меня «дядей Эриком», учил меня фотографировать, знал меня с колыбели. Когда Володя хотел уволить его — он называл глуховатого Эрика «гнездом глухаря», — я умоляла памятью моего отца оставить его в оркестре.) Вдруг я увидела, что муж мой, как сталкер, находится в какой-то своей зоне, не слышит, не видит, не понимает, обрастает панцирем цинизма и черствости от неуверенности в себе, от зажима и несчастливости. Володя человек очень гармоничный, и даже когда он собой недоволен, он должен быть внутренне уверенным в правоте того, что он делает. А тут я понимала, что ощущение счастья оставило его. Он перестал получать отдачу во время общения с оркестром на сцене. Я поняла, что он больше не видит лиц музыкантов и, выходя на сцену, не может найти с ними контакта. Получилось как в финале Прощальной симфонии Гайдна, который он позволил себе придумать. В оригинале ведь, когда все музыканты уже ушли и осталось только двое оркестрантов, дирижер не играет. А ему хотелось самому доиграть эти последние ноты. Это стало чем-то провидческим: он оставался один, доигрывал последнюю ноту в гордом одиночестве, и свет гас.
Все работали в Испании, но стремились в Москву, к своей публике. Подышав «дымом отечества», возвращались в Испанию. К тому времени в Астурии собрали новый симфонический оркестр и пригласили всех музыкантов из «Виртуозов». Последнее предательство было уже групповым, но как бы подневольным, вынужденным. Когда их позвали в новый испанский оркестр вместе с женами, играющими хоть на чем-то, на хорошую зарплату в полторы тысячи долларов, им предстояло играть там всю ту музыку, которую когда-то они презирали. Они не могли ехать на гастроли, так как были заняты во время сарсуэлы, «елок», «капустников» и так далее.
Володя к этому моменту начинал как бы заново свою карьеру скрипача. Он стал пытаться выйти на новую дорогу, и я понимала, что должна помочь ему преодолеть кризис. Если не смогу — зачем же я тогда нужна? Значит, я проиграла. Выбрав между своей профессией и семьей в пользу семьи, понимая, что «в одной руке два арбуза не унесешь», я знала, что рядом со мной — великий музыкант. Что может в связи с этим значить средняя карьера артистки? Главное помочь ему не упасть, не сломаться. Когда Спивакова стали снова приглашать на сольные концерты и выступления с другими оркестрами, он уезжал от «Виртуозов» уже без угрызений совести. К 1994 году он сделал для них все, что мог. Никакой коллектив не может существовать вечно. Наконец я увезла его из Астурии, которая была не его местом — он задыхался там.
Большинству же музыкантов оно как раз очень подходило. Кто был чуточку амбициознее, сразу отправился в Америку, Францию, Германию. Оставшиеся стали там первыми парнями на деревне и прекрасно устроились. Для Спивакова же оставаться там было равносильно жизни на дне. Я понимала, что такой музыкант, как он, не может жить в этой дыре. Мы переехали в Париж, купив квартиру. Хотелось начать жизнь с нуля и без того, чтобы на каждом углу на тебя смотрели глаза, отмечающие, как ты начинаешь эту новую жизнь. Это было перед рождением Ани.
Параллельно начался этап возрождения «Виртуозов Москвы» и возвращения в Россию. Старый оркестр потерял позиции в России и перестал котироваться на Западе, так как не вызывал интереса, будучи не «Made in Russia», а «Made in Spain». Как раз в этот момент Юрий Лужков принял оркестр под патронаж мэрии и открылись новые вакансии. Возникли дирекция, бюро и инфраструктура. Оставалось реорганизовать оркестр. Очень недолго существовали две группы — «испанцев» и «москвичей». «Старики» стали балластом, нужно было постоянно ждать, когда они присоединятся к «Виртуозам» между выступлениями в составе испанского оркестра. Все по-настоящему творческие люди хотели вернуться в Россию. Я убеждала мужа:
— Ты будешь сидеть и ждать, пока они отыграют свою сарсуэлу? Создавай новый оркестр!
Он ужасно не любит перемен, боится новизны.
— Оркестр будет, пока есть ты, — сказала я. — Будут говорить: «Это не Футер, это не Мильман». И пусть! Оркестр называется «Виртуозы Москвы», но через тире подразумевается — Владимир Спиваков. А это значит, что пока за пультом стоишь ты, оркестр будет, пока ты этого хочешь. Собирай молодых, с горящими глазами, кто еще захочет побыть виртуозом Москвы. Если они уйдут через несколько лет — мы это переживем. И не страшны поношения журналистов, кричащих «Ату!». Пока есть спрос и имя — надо действовать.
Так и произошло, хотя взаимоотношения с новым составом оркестра уже другие. Новые «Виртуозы» — это в основном мальчики, годящиеся Спивакову в младшие, даже не в старшие, сыновья. Но они знают себе цену.
Я поняла, что ничто не вечно. Такого состава, как раньше, никогда уже не будет. Но та история завершилась. Старые «Виртуозы Москвы» собирали свой маленький музей-архив, где хранились реликвии: щепки от дверей, сломанных рвавшейся на концерт публикой в разных городах и странах, фальшивые билеты на их выступления, — все бесценная память. Раньше велась летопись их жизни. Надеюсь, кого-то это заинтересует и в будущем.
Конечно, оркестр, носящий сегодня имя «Виртуозы Москвы», уже не тот оркестр-легенда. Так же, как театр на Таганке или БДТ уже не те театры, с которыми связаны целые эпохи. Хорошо, что старый оркестр не раздавил Спивакова, как поезд. Володя мог бы почивать на лаврах, но он несется по миру с огромной скоростью. На нем огромная творческая ответственность и нагрузка. Пока он ее тянет, это дает ему силы оставаться в седле, чего нельзя сказать о многих музыкантах его поколения. Подводя итог, хочу ответить тем, кто утверждает, что Спиваков существовал благодаря тому, что были «Виртуозы Москвы». Все оказалось с точностью до наоборот: «Виртуозы Москвы» состоялись потому, что в момент их создания и взлета Спиваков был Спиваковым. Когда недавно возникла идея собрать в концерте всех музыкантов, когда-либо игравших в «Виртуозах Москвы», она не осуществилась не по техническим причинам, а по моральным. Просто мой муж не захотел выходить на сцену со многими из тех людей, кто некогда являл собой уникальное «Созвездье Виртуозов».
О НАСТОЯЩЕЙ КОРОЛЕВЕ, ПРИНЦАХ И ДРУГИХ
Впервые я увидела королеву Испании Софию, когда она приезжала в Москву с частным визитом в связи с возвращением Мстислава Ростроповича. Вообще, многое в нашей жизни связано с Ростроповичем. Тогда во время его приезда-возвращения в Москву в 1990 году мы были в числе тех пятнадцати человек, которых он пригласил в первый вечер на ужин в свою квартиру. В честь королевы и Ростроповича был устроен обед в Морозовском особняке, доме приемов МИДа. Шел снег, а мы все вырядились, и перебежать на тонких-тонких каблуках из машины в парадный подъезд было непросто. Меня потрясло это здание в центре Москвы такую красоту надо открывать раз в неделю, как музей, чтобы люди ходили на экскурсии. В нашем понятии, особенно тогда, королева должна была быть чуть ли не в короне. А она, чуть опоздав, вбежала в очень элегантном сером костюмчике, простая, со своей невероятно обаятельной улыбкой. У королевы и глаза серые, и вся она — мягко-пепельная. Подошла с Николаем Губенко, тогдашним министром культуры, к Володе и говорит:
— Мы знакомы. Я бывала на ваших концертах. Когда вы собираетесь в Испанию?
Она была в курсе, что заключен контракт, а в Москве еще никто не знал об этом. Мы собирались через несколько месяцев. Королева посмотрела на Володю лукаво и сказала Губенко:
— Maybe we'll keep him (Может быть, мы его задержим).
К моменту, когда королева Испании приехала в Москву и я впервые ее увидела, Володя уже был знаком с ней. Он дружил с родной сестрой короля принцессой Пилар и ее мужем, герцогом Луисом Бадахосом, которые часто бывали на концертах «Виртуозов Москвы» еще задолго до отъезда оркестра в Испанию. Володя как-то повез меня в Марбейю, сказав, что туда же прилетит принц Бадахос, с которым он должен встретиться и обсудить кое-какие планы. Мы провели ночь в Мадриде. Я предвкушала будущую встречу, так как слово «принц» действовало на меня магически. Я не была, конечно, в том возрасте, когда при его произнесении представляется «Лебединое озеро» и юноша в короне, но тем не менее… Мы летели в Марбейю в одном самолете. Когда Володя знакомил меня с ним, я увидела необыкновенно элегантного, худого, высокого человека с аристократическим лицом, мягкими карими глазами и обаятельной улыбкой. Два дня, что мы провели в Марбейе, они с Луисом обсуждали возможность переезда «Виртуозов Москвы» в Испанию целым коллективом. Володя поделился с Луисом своими опасениями по поводу того, что оркестр разваливается: все начинали роптать, некоторые разбегались, — и все-таки основной состав «Виртуозов» не хотел расставаться. Музыканты поставили перед Спиваковым задачу уехать вместе. Это случилось на концерте в Бельгии в тот день, когда Володе исполнилось 45 лет. После концерта в Брюсселе был праздничный ужин, плавно перешедший в «производственное совещание». Луис обещал подумать, можно ли найти пристанище для оркестра где-то в Испании.
В Марбейе мы жили в доме у его друзей, где он тоже останавливался — своего дома в Марбейе у Луиса не было. Любопытно: когда мы говорим «королевская семья», нам кажется, что это люди по определению очень богатые, как в Великобритании, например. В Испании не так, они отнюдь не богаты. Вообще, испанская монархия стоит особняком. Я не представляю, в какой еще стране королевская семья вызывает такое почтение и такую всенародную любовь. Испанцы действительно чувствуют себя детьми правящего короля. Вся семья достойная, здоровая, многие члены королевской семьи работают, живут очень скромно, и это тоже приближает их к своему народу. В этой стране — уникальная конституционная монархия, любовь народа к представителям которой абсолютно искренна.
Во время нашего пребывания в Марбейе прилетела Елена Образцова, очень дружившая с Луисом и его друзьями. Атмосфера была необыкновенная. Вечером Лена стала петь и какая-то испанская девушка, претендовавшая на то, что умеет играть на фортепиано, открыла ноты романса «Ямщик, не гони лошадей…» и не смогла с листа прочитать. Я предложила попробовать (тогда я еще не очень отдалилась от своих занятий в музыкальной школе, тем более что всю жизнь любила аккомпанировать). Но сев за рояль, осознала, для кого придется играть: рядом сидят мой муж и герцог Бадахос, поет Образцова. Вышла я из этого эксперимента почти с честью — Елена Васильевна умудрилась допеть про ямщика до конца. Володя же сидел с той стороны рояля, где хорошо видны колени пианиста. С тех пор он иногда вспоминает: «Моя бедная девочка, не могу забыть, как тряслись твои коленки». На педаль я попадала с трудом — не могла остановить дрожь.
Сам Луис потрясающе играл на рояле, знал музыку, пел. В те дни мы с ним лазили по горам и мечтали. Мечтали всем вместе сложиться и купить там землю (тогда Марбейя была отнюдь не популярным курортом), — эдакая космополитичная маниловщина. Друзьям Луиса, хозяевам дома, где все мы остановились, уже принадлежала часть горы. Там было плато под названием La Cantera, природный амфитеатр, откуда были видны Гибралтар и Марокко напротив. Мы строили планы организации музыкального фестиваля. Владельцы мечтали разделить землю на кусочки, назвать улицы именами Моцарта, Верди, Вагнера, Шопена, Чайковского. Хозяйка действительно организовала общество по продаже земли под названием Marbeya Sierra Blanca. По этой горе мы и лазили с Бадахосом. Он расспрашивал:
— У нас обращаются «сеньор» и «сеньора», а у вас?
— У нас говорят «товарищ», — отвечала я.
— Значит, это товарич Спиваков, а я кто?
— Ты — товарич Бадахос.
Он ужасно смеялся, когда я его так называла, этот принц крови. Володю он называл Маэстро, а меня — мадам Маэстро.
Володя знал, что Луис тяжело болел, много лет серьезно лечился в Хьюстоне, но он совсем был не похож на человека, больного раком. Однажды он сказал:
— Я так счастлив, что переборол рак, хоть и знаю, что это не навсегда. Моя любимая дочка Симонетта выходит замуж. Я — счастливый отец, у меня еще двое сыновей, скоро будут внуки. Когда я умру, а я, конечно, умру от рака, я хочу, чтобы на моей могиле было написано: «Этот человек умел дружить».
Когда мы вернулись из Марбейи, где провели два счастливых дня, в Мадрид, было десять часов вечера. В Москве в магазинах тогда не было ничего, у Володи, как и у всех москвичей, имелась карточка, по которой можно было купить сахар, а на обороте написано: «Женат, двое детей». Мы привыкли привозить детям подарки. Референт принца провожал нас в гостиницу и по дороге обещал завезти в один из круглосуточных магазинов сети VIPS. Я была совершенно потрясена этим огромным магазином, где было все, от хамона (испанской ветчины) и сыров до рубашек, газет, духов, игрушек. Что бы тебе не понадобилось среди ночи, ты найдешь там. Я набрала гору всего, а референт принца, потрясенный, не понимал:
— Вы же выдающийся маэстро, герцог Бадахос сказал, что вы один из первых скрипачей мира. У вас в стране что, нет сыра и памперсов?
Я не случайно рассказываю об этом так подробно. Впоследствии магазин VIPS имел в нашей жизни некоторое значение. Точнее, его владелец.
Луис Бадахос вскоре нашел, куда пристроить оркестр. Его племянник, сын короля Испании принц Астурийский возглавляет фонд, один из самых значительных в Испании. Ежегодно Фонд принца Астурийского присуждает премии в области искусства, литературы, спорта, науки, равноценные по престижу Нобелевской премии. Поскольку при фонде существует хор, родилась идея — иметь кроме хора еще и оркестр, но чтобы привезти его, надо было найти деньги.
Вообще-то раньше музыкальная культура в Астурии была на нуле. Во второй раз мы приехали в Марбейю уже на переговоры с президентом фонда, Пласидо Аранго — одним из самых крупных бизнесменов Испании. Только он и мог решить эту задачу. С тех пор мы дружим с этим человеком, он стал крестным отцом нашей младшей дочки Ани и ближайшим моим другом. Он-то и оказался владельцем и основателем всех этих магазинов VIPS. Пласидо часто шутит с Анечкой:
— Когда приедешь в Мадрид, иди в VIPS, скажи, что ты моя крестница, и получишь бесплатно всех кукол Барби.
Первый и последний фестиваль в Марбейе все-таки состоялся в 1990 году, но из-за того, что не смогли создать инфраструктуру, он не смог подняться на должный уровень. На открытие — два концерта на плато — пришли все владельцы домов в Марбейе: Шон Коннери с женой, вдова Артура Рубинштейна, Гунилла фон Бисмарк, принцесса Ирана Сорайя. Помню, когда Володя заиграл «Времена года» Вивальди, поднялся дикий ветер, и организаторы концерта ползали, подбирая нотные страницы и прикрепляя их к пюпитрам чуть ли не бельевыми прищепками. Но все очень впечатляло — темная дорога, феноменальное освещение. На первый концерт приехал наш друг герцог Бадахос, болезнь его опять обострилась, и он только что прошел курс химиотерапии. Луис появился с доньей Пилар. Меньше чем за полгода он изменился так, что, казалось, прожил десять лет жизни. Постаревший, осунувшийся, исхудавший, почти лысый, он бросился ко мне и обнял.
— Даже если бы мне сказали, что я умру этой ночью, я не смог бы пропустить концерт твоего мужа сегодня вечером, — сказал он мне. — Пусть бы потом он сыграл надо мной, умершим, какую-нибудь серенаду.
На другой день мы пришли на официальную встречу с господином Аранго, в дом друзей Луиса, чтобы «добить» идею контракта. Эта комичная история стала мне уроком на всю жизнь. Я поняла, что в любой ситуации надо оставаться естественным — это самый главный показатель элегантности. Главное соответствовать ситуации. В Марбейе стояла жара — сорок градусов в тени. Я надела легкомысленное платье на бретельках, и мой муж пришел в ужас:
— Ты сошла с ума, ты что, пойдешь в таком декольте? Ты понимаешь, кто эти люди? Она — сестра короля! Немедленно надень чулки и что-то поприличнее.
Сам он надел по такому случаю галстук. Первое, что я увидела в доме друзей Луиса, — его самого, сидящего в тени в льняной рубашке и шортах, а потом, выйдя к бассейну, обнаружила там лежащих дам, среди которых — сестру короля донью Пилар в купальнике с толстым слоем крема на лице, мокрыми волосами, затянутыми в узел. При виде нас они радостно начали звать меня купаться с ними. Я поняла, как нелепо выгляжу, и начала злобно шипеть на Спивакова, который заставил меня переодеться.
Потом донья Пилар принесла сумку, наполненную вещицами, завернутыми в бумагу. Оказалось, они с Луисом утром гуляли по броканту и решили купить мне подарок. Этот подарок путешествует со мною всюду — туалетный набор из старинного фарфора: маленький подносик, два подсвечника и две коробочки бледно-зеленые и розовые цветы на белом фоне.
Накануне нашего решающего разговора с доном Аранго одна дама преподала мне урок: нельзя ходить на встречу в темных очках, поскольку человек, с которым ты общаешься, должен видеть твои глаза. Это при испанском-то солнце. Мы с ним долго потом смеялись. От дона Аранго зависело будущее всего оркестра, не только мое. Я, запуганная, увидела человека, глаза которого излучали юмор. Он сам себя называл «мачо мексикано», не пропускал ни одной красивой женщины, на дух не принимал классической музыки, обладал одной из самых полных коллекций живописи XX века. Я сказала ему много времени спустя:
— Мне запретили надевать темные очки, а ты сидел в поло «Лакост» и плевал на то, что я слепла.
Он галантно отвечал:
— Конечно, если бы ты была в очках, я бы еще подумал, давать ли деньги вашему оркестру, но, увидев твои глаза, сразу понял, что я пропал.
— Почему ты все-таки дал деньги на оркестр, ты же не понимал классической музыки?
— Для меня классическая музыка всегда была как недостижимая женщина, которую даже в мечтах не можешь завоевать.
Когда условия контракта были обговорены окончательно, выезжать в Испанию собрались не только «Виртуозы Москвы», но и члены их семей. Под это дело многие прихватили братьев и сестер, детей от первого брака, свекровей, близких и дальних родственников, а кое-кто и домашних животных. Наш директор Роберт Бушков говорил, что по звонку из королевского дома испанское консульство в Москве молниеносно ставило резидентские визы в сотни паспортов. В 1990 году! Самолет людей! Три автобуса! В оркестре было двадцать восемь человек, каждый вывез в среднем по пять членов семьи. Володя посмотрел на выгружающееся из автобусов «племя» и спросил:
— А это кто?
Те, кто остались жить в Испании, наверное, сейчас не хотят вспоминать, благодаря кому и как они оказались там. Ведь Астурии в тот момент мы были не нужны. Потом уже ситуация изменилась.
Спустя год Луис выдавал дочь замуж. Он уже был вынужден носить парик:
— У меня голова как колено.
Когда он уже не мог прийти на концерт, Володя с квартетом сыграли для него камерный домашний концерт. Он держался, так как не мог умереть, пока не поведет к алтарю свою дочь. В день свадьбы Луис надел парадный наряд с лентой через плечо и был необыкновенно красив на церемонии бракосочетания своей дочери. Спустя два месяца он умер.
По испанскому обычаю человека сначала хоронят, потом спустя какое-то время устраивают поминальную мессу, во время которой играет орган. Донья Пилар решила нарушить протокол.
— Мой муж хотел, чтобы на его поминальной мессе играл Спиваков, — сказала она.
Наверху, где в католическом соборе располагается орган, поместили оркестр. Володя стоял лицом к алтарю. Играли музыку Баха, Вивальди, Альбинони, Моцарта — все, что любил Луис. На Володе была черная рубашка с широкими рукавами. Я оборачивалась на хоры, и меня не оставляло странное чувство, что он похож на черного ангела со скрипкой, парящего под сводами. На поминальной службе король с королевой, как и священник, сидели лицом к публике. Королева очень сосредоточенно слушала, плакала, а король засыпал. И она тихонечко подталкивала его локтем.
По окончании мессы все подошли к Пилар, а когда Володя спустился с хоров, она выбилась из окружающей ее толпы, кинулась к нему на шею, обняла.
Однажды Володя играл концерт во дворце специально для королевской семьи перед званым ужином. Донья Пилар чуть-чуть иронично шутила, что ее брату наступил медведь на ухо и это прогрессирует с годами. Не секрет, что король Хуан-Карлос абсолютно не любит и не понимает классическую музыку. Любимое занятие — сесть на мотоцикл и удрать от охраны, погонять ночью по Мадриду. Как-то у него кончился бензин, он остановился на заправке, но денег у него не было. Тогда король снял мотоциклетный шлем, и рабочий на бензоколонке упал на колени. Это рассказывал мне друг юности короля, проведший с ним детство в Сан-Себастьяне. Их отцы дружили. Хуана-Карлоса буквально заставляли по субботам слушать симфонический оркестр, и он тоскливо предлагал приятелю:
— Ну что, Хавьер, пойдем послушаем этих раскартрипос (по-испански «раскар» — чесать, «трипос» — кишки).
Хуан-Карлос известен всей Испании своей любовью к спорту. Его стихия морские регаты, лыжи, футбол. А вот королева в детстве пела в хоре, знает слова всех ораторий.
С принцем, патроном оркестра, мы стали видеться довольно часто. Любовь к нему в Астурии такая, что то и дело слышишь:
— Какой у нас красивый принчипе! Прямо как Карлос Мата.
А Карлос Мата — латиноамериканский артист, главный герой очень популярного сериала «Девушка розы», снискавший всенародную любовь.
Принц — изумительно обаятельный юноша. Но он не изображает из себя будущего короля, он просто есть — будущий король. У него было много романов, которые народ обсуждает. Ему все время стараются подсунуть принцессу из хорошего дома, а он выбирает потрясающе красивых девушек. У них все пытаются найти хоть каплю голубой крови, не находят, а, наоборот, обнаруживают, что в основном девушки — из «трудных» семей.
На всех фотографиях с ним мы с Володей стоим, задрав головы: принц очень высокого роста.
В 1990 году знаменитые ежегодные астурийские премии вручались Элизабет Тейлор, Нельсону Манделе, Сергею Бубке. На эти три дня Астурия оживает, Овьедо превращается в центр Испании. Гостиница «Реконкиста», бывшая резиденция королей, трещит от наплыва посетителей. На первом приеме в типичном мавританском дворе гостиницы к принцу и королеве может подойти любой человек из народа. Мужчины склоняют голову, женщины делают реверанс — и только потом разговаривают. Я волновалась, что не сумею. Хотя мне, как не испанской подданной, делать реверанс было необязательно. Я попыталась «упасть» в реверансе, принц бросился меня поднимать. Спросил, нравится ли мне астурийская музыка, я ответила по-испански, он изумился, что всего за два месяца я уже приобрела астурийский акцент. И сразу перешел на «ты». Повернулся спиной к очереди жаждущих с ним пообщаться и продолжал беседу со мной. Королева спросила:
— Где твой муж?
«Ты» они говорят не от пренебрежения, а от расположения. Ей хотелось послушать скрипку, а Володя, к сожалению, уехал на концерты. Но зато когда он все-таки сыграл для королевы и ее подруг, она прислала письмо с благодарностью. Мы привезли ей в подарок к Пасхе резное синее стеклянное яйцо из Петербурга. Королева София — женщина очаровательная, умная, тонкая, организованная, воплощение женского и королевского достоинства.
Донья Пилар и Луис подарили нам свои огромные фотографии в очень красивых рамках — так принято в семье. То же самое сделал принц. Королева прислала нам свою фотографию с Володей в изысканной палисандровой рамке с надписью. С тех пор я люблю дарить рамки, правда, без своих фотографий.
МИМИ
Мишель Глотц — личность уникальная. По паспорту ему 71 год, все говорят, что больше. Я так не думаю, мне кажется, просто он из тех людей, о ком говорят: «крепко пожил». Бывает, что люди физически быстро старятся, но внутренне остаются молодыми. Удивительно, но я помню Мишеля с первой минуты, когда увидела его. Хотя тогда нас никто не познакомил. Просто судьба подала легкий знак.
30 апреля 1989 года в Париже продавали ландыши. Во Франции один ландыш (буквально!) дарят 1 мая на счастье. Он стоит безумно дорого. На улицах накануне 1 мая через каждый метр стоят торговцы ландышами. В тот день Спиваков играл концерт Чайковского в зале «Плейель».
Тогда Володя ездил еще по линии Госконцерта и сотрудничал с продюсером Альбером Сарфати, занимавшимся в основном мюзиклами и эстрадными шоу. Человек он был широкий, щедрый, любивший красиво пожить, знал весь Париж. Альбер поселил нас в изумительной гостинице «Рафаэль» на авеню Клебер рядом с Триумфальной аркой. Элегантный отель, на стенах в холле — настоящий Тернер.
На концерте в зале «Плейель» мы сидели с Альбером за литерным рядом, и после первой части зал вдруг взорвался аплодисментами. Теперь я уже знаю, что нередко западная публика после первой части большого концерта аплодирует. Получается как бы отдельное произведение. А тогда безумно всполошилась. Почему хлопают? Альбер, всегда любивший розыгрыши, еще и подшутил:
— В «Плейель» сегодня все пришли впервые, концерта Чайковского никто не знает, поэтому решили, что это уже финал. Видишь, перед нами сидит седой человек? Это импресарио Караяна Мишель Глотц. Вот и он тоже не знает хлопает.
Мне это запало в душу — импресарио самого Караяна! Караян казался мне небожителем. В антракте я смотрела неотрывно на этого седого человека, который был даже чем-то похож на Караяна. К тому времени они дружили уже тридцать лет. Волосы у Мишеля стояли чубом, как у Караяна, носил он, как и Караян, водолазки. Он повернулся к Альберу и жестом показал: «Потрясающе!»
История имела продолжение. Прошло время, в 1992 году Альбер умер. Володя, человек верный и преданный, остался клиентом его бюро, которое возглавила жена Альбера Лили. Опыта она не имела никакого. Ее продюсерская деятельность началась с нашей легкой руки. Однажды Альбер в глухие восьмидесятые привез ее в Москву — элегантную женщину, в прошлом балерину, сходившую с ума от скуки, и мы повели ее на спектакль Бориса Эйфмана «Мастер и Маргарита». Альбер хотел, чтобы она попробовала привезти на Запад какой-нибудь балетный коллектив. С ней случился шок: «Пора пришла, она влюбилась». Думаю, это была ее последняя любовь и лебединая песня. Эйфман — обаятельный человек, такой мужчина-ребенок, которому нужно, чтобы его любили. Лили сошла от него с ума. Любой ее разговор с тех пор начинался с вопроса:
— Здравствуйте, вы видели спектакли Бориса Эйфмана?
Она стала привозить его спектакли в Париж каждый год, все тумбы были обклеены фотографиями Бориса с какой-нибудь абстрактной балериной. Но в Европе его так и не оценили, как в США, хотя Лили проникла всюду, даже на телевидение.
Когда Альбер умер, ей досталось готовое бюро, и она чувствовала себя полноценным продюсером. Наши отношения, однако, катились под откос. Лили набрала непрофессиональную команду, взяла на работу свою дочь и некую особу, которая раньше подвизалась при Спивакове. Мудрый Альбер работал с той дамой только по разовым контрактам, теперь она получила власть. Ситуация складывалась тупиковая. Будучи не в состоянии организовывать Спивакову концерты и заниматься на должном уровне его гастрольной деятельностью, будучи совершенно незаинтересованной в продолжении его карьеры, перед каждым концертом мадам Сарфати говорила: «У нас проблемы». После концерта все повторялось. Оказывается, Спивакова не любит пресса. Спивакова не любит публика. Он уже не играет на скрипке. Если же у него и есть какие-то концерты, то только благодаря им, благодаря тому, что они работают не покладая рук. Самое страшное, что он и сам стал в это верить. Это длилось года три огромный срок. Вдруг я увидела, что он теряет себя. Я увидела, что нет того Спивакова, который выходил на сцену, и скрипка начинала петь. Я вдруг услышала, что скрипка скрипит, что пальцы дрожат, что смычок — жесткий. И сам он стал чужим. Я понимала, что он переживает творческий кризис. Его кризис скрипача совпал с тем периодом, когда дела у «Виртуозов Москвы» в Испании стали идти откровенно плохо. Обвинял он во всем себя.
Он больше не мог работать с этим бюро, но боялся остаться без них. Я просила его уйти от этих баб, освободиться. Он отвечал:
— Кто будет мне делать концерты, кому я нужен?
Как-то перед выступлением он сказал мне фразу, от которой я буквально захлебнулась:
— Оставь меня, я на финишной прямой! Доигрываю последние пассажи.
Спивакову было пятьдесят лет. Он уже не играл больших концертов, его не приглашали. «Виртуозы» медленно чахли, раз от раза он играл маленькие сольные концертики. Лили оказалась в Европе беспомощной, но отпускать его не хотела. Все время прижимала к ногтю. В агентстве была своя политика. Платили очень нечестно и плохо, принося деньги в конверте и никогда не показывая контрактов. Все дошло до дикого конфликта. Я требовала от г-жи Сарфати, чтобы она работала с моим мужем, как он того заслуживает, либо не работала вовсе. На что она отвечала, что мое место — кухня, котлеты, пеленки и дети (Аня только родилась).
— Не учите меня моей профессии, — говорила она.
Наконец дошло до того, что Володя и сам убедился в их профессиональной беспомощности и жадности. Они увидели, что он склоняется на мою сторону, и стали откровенно хамить. Последней каплей, после чего Володя ушел из бюро, был следующий инцидент. Мадам Сарфати заявила, что с «Виртуозами Москвы» больше работать не станет, но со Спиваковым будет продолжать. После последнего концерта «Виртуозов» организовывался ужин, на который Володе пришел пригласительный факс: «Ты, конечно, приглашен, но без жены. Лили Сарфати».
Я понимала, что расчет сделан тонкий. Его не хотят там видеть, но если он откажется прийти без жены, мадам Сарфати соберет оркестр, как и случилось, и выступит:
— Я бы продолжала с вами работать, но Спиваков такой нехороший человек, а жена его такая мразь, что из-за этого мы с вами расстаемся.
Володя не пошел. Меня не удивило, что в оркестре многие восприняли ее версию как правдивую. Заключительный аккорд был такой: на концерте она прислала Володе в артистическую цветы — как назло, огромный букет лилий. Володя не выносит лилий, у него аллергия. Я сразу отправила букет за дверь. Когда Лили увидела свой букет где-то на стуле в коридоре, обиде не было предела.
Володя ушел из бюро. Вернулся домой и сказал:
— Я ушел, я свободен. Теперь у меня много времени. Есть импресарио в Америке, Германии и Италии, но концертов у меня будет гораздо меньше.
Я открыла «Желтые страницы». В памяти высветился тот концерт пять лет назад и имя: Мишель Глотц. Я знала, что его фирма называется «Musicaglotz». В Париже масса замечательных импресарио, у которых в активе гораздо больше звезд, чем у Глотца. Но я искала именно его.
— Здравствуйте, я жена господина Спивакова. Можно ли поговорить с господином Глотцем, — сказала я секретарше.
— Подождите минуту, — ответила она.
— Мой муж завтра уезжает в Соединенные Штаты, если возможно, назначьте мне встречу сегодня — либо через два месяца.
Через десять минут она перезвонила, чтобы сказать:
— Месье Глотц ждет вас немедленно.
Потом выяснилось, что в бюро происходило следующее: секретарша сказала, что звонит жена Спивакова и просит о встрече. Правая рука Глотца Тереза Дарас, вместе с которой тридцать пять лет назад они создали бюро, выронила чашку:
— Мишель, ну что вы молчите! Вы понимаете, кто вам звонит? Вы же этого всегда хотели и ждали!
Он принял нас мгновенно.
И Володя испугался этой встречи. Может быть, еще и потому, что голос Мишеля не всегда всем приятен, в особенности когда его не знаешь. В общем, мой муж побрился, надел белую рубашку, галстук и от волнения схватил какие-то статьи и биографии, чего никогда не делает.
Мишель тоже волновался. Он потом признался мне:
— Я никогда не мог забыть того концерта Чайковского. Господь знает, скольких скрипачей я слышал в своей жизни, но когда он начал играть, я подумал: что-то ненормальное, наверное, подзвученная скрипка. Так не бывает, наверное, сонаризированная. Я знаю акустику «Плейель», я слышал тут тысячу скрипачей. Я никогда не слышал такого звука. Не в моих правилах уводить артистов у коллег. Но как я тогда позавидовал Альберу! Он, который обычно возит цирки и мюзиклы, даже не понимал, что у него в руках.
Мишель потребовал, чтобы Володя все рассказал ему, как доктору, и испугал:
— Я возьму вас с одним условием: вы будете играть концерты как нормальный скрипач. Что вы мне говорите, будто не играете ничего, кроме Чайковского! Вы не играете Брамса, Прокофьева, Сибелиуса, Шостаковича? А из Моцарта — один концерт? Я знаю, вы все это играли. Куда это делось? Вы будете это играть. Ваши «Виртуозы Москвы» меня не интересуют, дирижерские концерты я вам буду доставать, но после того, как я снова по кирпичику восстановлю то здание, которое называется: скрипач Владимир Спиваков. После Каллас и Караяна меня меньше всего заботит реноме. Мне хочется работать с теми артистами, в которых я верю. В вас я верю.
Я по гроб жизни благодарна Мишелю за то, что он, фактически своим упорством, верой, тем посылом, который умеет передать артисту, вдохнул в Спивакова новые силы. Он дал ему возможность заиграть снова. Без Мишеля бы это не случилось. Перед каждым концертом он приходит и говорит Володе «toy-toy-toy», «merde» и по-итальянски «boca lupo» (буквально «в пасть волку») — эквиваленты нашего «ни пуха ни пера». Недавно Володя сказал:
— В те годы, когда другие скрипачи прекращают играть, я только начинаю. Это полностью заслуга Мишеля.
Он сразу нашел множество приглашений в замечательные оркестры. За пять лет Володя восстановил весь свой репертуар крупной формы, выучил несколько новых концертов. Получил контракт на запись цикла «Спиваков играет концерты XX века». Сделал несколько сольных программ. Началась работа, не шоу, — то есть то, к чему он имеет прямое призвание, а ведь до встречи с Мишелем Володю на Западе стали сбрасывать со счетов. Это дико и не дико. Чтобы там ни говорили, он в первую очередь скрипач. В России он играл и играет сольных концертов значительно меньше, чем за границей. Большой зал Консерватории действует на него как плаха. Он боится взойти на этот костер.
О Мишеле можно говорить бесконечно. Начинал как пианист. Брал уроки у Маргариты Лонг. Потом переквалифицировался и стал вести музыкальные передачи на радио, потом стал музыкальным продюсером в фирме звукозаписи. У него абсолютнейший слух. Он знает всю музыку мира. Он из последних могикан, из породы людей, какими были Сол Юрок, Сэмюэль Ниффельд, возивший впервые Володю в Америку. Лет десять назад Мишель написал очень интересную книгу «Как открывать богов. Профессия — импресарио». Практически, он выучился этой профессии с нуля, поставил на ноги созданное им бюро. В одной из передач о Марии Каллас я видела интервью с ним, молодым и самоуверенным. В том интервью он рассказывал о приезде Каллас в «Метрополитен». И я поняла, что имел в виду один из старых музыкальных агентов, когда говорил:
— Ты знаешь, почему мы ненавидим твоего Глотца? В то время когда он был правой рукой Караяна и властвовал над «Deutsche Gramophone» и на Зальцбургском фестивале, он достал всех организаторов концертов. Он диктовал, кто с кем будет играть и записываться.
На тех, кто мало знает Мишеля, он производит впечатление человека самоуверенного и не очень любезного. Когда он был молод, у него были силы и власть, которыми он пользовался. Сейчас он потерял такое безграничное влияние. Люди либо не принимают его, либо перед ним преклоняются.
Мишель — человек глубоко порядочный, он не способен на низменные интриги. Зато способен на вспышки гнева, не прощает предательства. В Мишеле покоряет (и Володя не исключение) его знание музыки. Для него небезразлично ощущение музыканта на сцене. На первом плане для него — артист, а потом уже товар-деньги-товар. Как-то госпожа Сарфати мне сказала:
— Для того чтобы быть импресарио, не важно знать музыку. Важно уметь продавать.
У Мишеля абсолютно другая психология, я понимаю, что она не вписывается в систему координат, поскольку на мировом рынке артиста большей частью используют как товар. Талант эксплуатируется и краеугольным камнем становится гонорар, престиж, шумиха. Для Мишеля главное — самочувствие артиста. Он может взбеситься, если артист отменяет концерт, не потому, что теряет на этом деньги, а потому, что артист не берет новую высоту или проявляет трусость. Когда бывают неудачный концерт или неважная критика, у Мишеля в запасе полный карман анекдотов и баек.
— Плохая критика? Тебя это волнует? Это должно волновать меня — я импресарио. Я его продаю. Его больше сюда не пригласят? А мне насрать! Ни на одного артиста не бывает только хорошей критики.
Одна из его любимых историй о том, как в Ла Скала освистали Марию Каллас. Она очень плохо видела, но, естественно, на сцену выходила без очков. Контактных линз тогда не было. Мария вышла на сцену, зал был забит поклонниками Ренаты Тибальди, и ей кинули пучок моркови. Думая, что это букет, она подняла его, кланяясь. Но, уже поняв, что это морковь, она понюхала пучок, как букет роз, и продолжала раскланиваться, как будто ничего не случилось.
Очень смешной эпизод касался какого-то критика, который получил ответ от Макса Регера на свою статью: «Дорогой господин, я пишу вам, чтобы сообщить, что сижу и читаю вашу статью в самом маленьком помещении моего дома, догадайтесь, в каком. Сейчас ваша статья перед моими глазами, но через минуту она будет под моей задницей». Этот анекдот Мишель мне всегда напоминает, а я посвящаю его нескольким московским критикам из разряда «инномабиле».
Его истории о годах, проведенных рядом с Караяном, с пианистом Алексисом Вайзенбергом (с которым у него был страстный роман и которого Мишель поднял на огромную высоту), удивительны. Он пережил с Алексисом драму. В какой-то момент волнение пианиста перед выходом на сцену переросло в паранойю. Он записал массу дисков, выступал с самыми известными дирижерами, но постепенно его самокритичность, граничащая с самоедством, дошла до того, что он стал бояться выходить на сцену и не мог найти в себе силы побороть волнение. Я была свидетелем, как Мишель с присущим ему умением вселять надежду и поддерживать огонь попытался совершить это с Алексисом, но проиграл. Года четыре назад в небольшом сборном концерте в Париже было объявлено возвращение великого Вайзенберга. Лет десять он не выступал, только занимался с утра до ночи. За кулисами я увидела картину: Алексис в теплом синем пальто, шарфе, перчатках, лицо — цвета мела, вокруг суетился Мишель, еще бледнее. Он кричал:
— Что такое! В этом зале нет горячей воды!
Прибежала ассистентка с горячим чайником. Оказалось, что нужно не заварить чаю, а согреть руки пианисту. Никогда не видела, чтобы руки грели чуть ли не крутым кипятком. Я сидела в ложе и видела между роялем и крышкой лицо артиста. Это было то состояние, когда пальцы музыканта не попадают на клавиши — такая его бьет дрожь. Когда колено мелко-мелко дрожит, стопа не может нажать на педаль. Когда человек в столбняке. А ведь лет пятнадцать назад это был великий пианист! Вскоре он уехал в турне в Японию и на генеральной репетиции упал в обморок.
Я знаю, у некоторых артистов боязнь сцены доходит до абсурда. У одного колоссального пианиста начинается безумная рвота, другая очень известная пианистка усвоила, что надо опрокинуть чуть-чуть коньячку и точно знает свою дозу. Каждый борется по-своему — с помощью гипнотизеров и психоаналитиков. Есть и те, кто не волнуется. Таким был Иегуди Менухин. Есть пример Ростроповича, о котором я думала, что он не волнуется никогда, пока не провела с ним день с утра и до концерта. Он объяснил мне тогда просто и честно причину своего волнения, чем полностью меня покорил.
Мишель, безусловно, невероятная поддержка и подспорье артистам, которых он любит. По-русски он знает пару фраз типа «большой русский бордель», которую употребляет, если я не могу найти вовремя нужную бумагу. Он очень трогателен в каких-то своих сентиментальных привязанностях. У него есть такая мужская сумочка с ручкой сбоку, которую ему в свое время подарил Караян, или кепка, подаренная Озавой, которую он очень любит, или браслет — подарок Каллас, который он не снимает с руки. Он весь обвешан мемориальными подарками. Как-то показал содержимое сумки. Там идеальный порядок: сигареты, зажигалка, блокнот, записная книжка, таблетки от головной боли, от расстройства желудка, для сна, беруши, духи, зубочистки, — в общем, вся жизнь. Аптека, косметический салон, офис-бюро. Под конец вытащил маленький пузыречек мужских диоровских духов:
— Если я сижу в опере или на концерте, а рядом от кого-то воняет, я втыкаю этот пузырек в ноздрю с той стороны, с которой пахнет…
Дома мы ласково называем его Мими, как назвала его Анька, когда ей было два года. Грозный Мишель Глотц превратился в тихого Мими. Для меня он как отец, как старший брат, я ему благодарна за все.
ДОЧЕНЬКИ-ДОЧЕНЬКИ
УСТРИЦЫ
Когда родилась наша младшая дочь Аня, Володя был в Италии. Позвонил мне в роддом, и первое, что сказал:
— Твою мать, опять девка!
Это, конечно, было приятно. Через пять дней я вышла из госпиталя, встречать меня приехали Лена Ростропович и подружки — Лена, Элиза. Дети приготовили всё дома, безумно расстроенные, что опять родилась сестра. Володя должен был в день моей выписки лететь из Италии в Амстердам. Дома все было чудно организовано — комнатка, кроватка, всякие мелочи. Я вернулась домой, как в сказке, — подруги продумали всё до мельчайших деталей: пеленки, распашонки, зайчики, мишки. Володя позвонил мне утром:
— Ну вы с Ленкой вечером дома?
— Нет, мы идем на дискотеку! Конечно, мы дома я только что из больницы.
— Я долечу до Амстердама и сам тебе позвоню.
Тогда у него не было мобильного телефона. Вдруг часов в одиннадцать раздается звонок снизу в домофон. На очень ломаном французском с португальским акцентом меня спрашивают:
— Это мадам Спиваков? Откройте, это флорист, вам прислали цветы.
Машинально нажимаю на кнопку, соображая, что все, кто хотел прислать цветы, давно сделали это, еще пока я была в роддоме. Какой флорист в одиннадцать часов вечера? Девочки выскочили в прихожую:
— Мама, кто это? Разбойники?
Смотрю в глазок, поднимается освещенный лифт, спиной появляется Спиваков в кепке и вытаскивает чемодан. У меня наступает эйфория, я открываю дверь и кричу детям:
— Папа, папа!
Он входит с огромным подносом устриц. Он знал, что в последнее время мне безумно хотелось устриц. Первая моя дурацкая реакция:
— У меня даже ужина нет.
— Я знал, — отвечает он.
Впервые за много лет Володя отменил концерт.
КАТЯ
Катюша родилась 17 ноября 1984 года в Москве. Накануне за неделю ко мне прилетела из Еревана мама, а Володя, волнуясь, что ему семнадцатого уезжать в Германию на гастроли, решил доверить меня квалифицированным докторам, которые, в свою очередь, перестраховываясь, решили упечь меня в больницу заранее. Но поскольку чувствовала я себя отлично, в больницу ложиться отказалась, пообещав, что лягу в день отъезда мужа и буду ждать сколько останется — дней пять по всем подсчетам. 16-го вечером я тихо говорила со своим огромным животом, не зная, кто там — он или она:
— Ну пожалуйста, родись побыстрее, чтобы мне не пришлось там валяться одной много дней!
И вот «оно» зашевелилось, вняв моим уговорам, 17-го рано-рано. Однако везти меня заранее в этот день Спивакову не хотелось, в его планы входили утренние занятия, сборы нот и только потом, часов в двенадцать — роддом перед аэропортом.
— Кончайте паниковать! — строго сказал он нам с мамой. — Мне говорили, что обычно схватки длятся долго, особенно у первородящих. Мне надо повторить концерт Баха, сложить ноты, найти сувениры для немцев!
Мама все-таки уговорила его не тянуть. Пожертвовав Бахом, наспех собрав ноты, он отвез меня в роддом, где его выпихнули из приемной палаты, вручив ему мои часы, обручальное кольцо и одежду:
— Заберите это все, вдруг с ней что случится, мы за золото ответственности не несем!
Учитывая, что я была абсолютно здорова, не понятно, что имелось в виду!!
О том, что родилась дочка, Спиваков узнал перед вылетом, позвонив из Шереметьева в роддом. Вернулся же в Москву, когда Катерине было сорок дней и вид у нее был уже весьма презентабельный.
Сейчас это кажется смешным, но тогда о знаменитых памперсах в Москве мало кто слышал, а учитывая, что советские граждане преследовались законом за покупки в магазинах «Березка», доступ к гениальному изобретению человечества — памперсам — был между сложным и абсолютно невозможным. Поэтому счастьем оказалось, что папа наш ездил за границу, и не один, а с оркестром! Закупив упаковок тридцать, мой муж рассовывал их всем «Виртуозам» — и на таможне складывалось впечатление, что весь оркестр состоит сплошь из отцов грудных детей.
ТАНЯ
Вторая наша дочь Татьяна родилась 19 апреля 1988 года на месяц раньше срока. Она и сейчас такая непоседа. Как всегда, вся жизнь у нас от концерта до концерта. Так и тогда, 18 апреля Володя прилетел в Москву, и я собиралась побыть с ним в блаженстве вдвоем неделю до очередных гастролей. Но поздно ночью ему пришлось везти меня в роддом. В дороге он взгрустнул: раньше срока, наверное, опять девка. Точно! Рано утром мне вручили маленький мой комок — вторую дочку, тихую, черноглазую и чернобровую, с тонкими чертами лица. Она была другая, не такая, как пышная белокожая Екатерина. Спиваков каждый день приходил к роддому и пытался языком мимики и жеста что-то мне объяснить, а я в окне пятого этажа ничего не понимала. В палате было человек двенадцать, потолок протекал, между кроватями сновала какая-то кошка, но оттуда, «с воли» запрещалось передавать что бы то ни было, даже носки — под страхом инфекции!
Как потом выяснилось, инфекция гуляла по роддому в виде всяческих «стафилококков» и без передач от родных, но — положено так положено. Как-то медсестра тихо мне сказала:
— Ой, нам так хочется на вашего мужа посмотреть, пусть придет в субботу, врачей после обеда не будет, мы вам устроим свидание на кухне. И девочку ему покажем.
В записке я назначила Володе свидание. Он пришел в субботу в белой рубашке, в длинном синем пальто, выбритый и надушенный. На больничной кухне пахло вареной капустой. Я предстала перед ним в стирано-латаном байковом больничном халате неопределенного цвета. Бледная, кое-как причесанная, в дырявых казенных тапочках и с завернутой в стручок методом жесткого пеленания Танькой на руках. По его взгляду я поняла, что такой он видит меня впервые и совершенно растерян. Настолько, что даже боится ко мне подойти. Свидание было недолгим. Писать письма и махать друг другу из окна романтичнее. По крайней мере, в тогдашних условиях наших роддомов. Но Бог любит троицу. И мне на роду, видимо, было написано иметь трех дочерей.
АНЯ
Как же я жалела, что в момент рождения третьей, Ани, Володя был на гастролях! Жалела на уровне чисто женского кокетства, потому что глубоко убеждена — есть минуты, в которые женщина должна быть одна. Роды — именно этот случай. Но зато после! Особенно в этот, третий раз. Аня родилась в Париже. Оказалось, что в роддом надо уходить со специальным чемоданчиком. Список его содержимого прилагается в женской консультации: две ночные рубашки, пеньюар, одежда для новорожденного, свои тапочки, белье, носки, туалетная вода, зеркальце, увлажняющий крем, мыло, шампунь, легкая косметика, крем для рук, расческа, заколка. Все это можно, нужно, необходимо брать с собой, чтобы чувствовать себя женщиной, а не животным. И инфекции вроде при этом не предвидится никакой! Так что, родив Аню, я часами могла заниматься своим туалетом. Но для кого? Только для любимых подруг, навещавших меня ежедневно. Также в палату забегали то фотограф, предлагавший снять новорожденную для первого фотоальбома, получаемого при выписке, то кинооператорша-частница, снимавшая на видео первый день жизни младенца под сладенькую музыку, то косметолог, готовая сделать маме маску, массаж, маникюр. Все это казалось мне сном и поражало грустным контрастом с моим предыдущим опытом деторождения в той далекой Москве восьмидесятых.
МОЙ РЕКВИЕМ
В тюрьму, в больницу или на необитаемый остров я возьму с собой томик стихов Анны Ахматовой. А лучше — полное собрание ее сочинений. А если можно, вообще все, что ею и о ней написано. Ахматова — это первое и самое сильное потрясение от поэзии. «Заболела» я ею лет в пятнадцать, и с тех пор болезнь эта приняла хроническую форму.
Еще в институте мечтала когда-нибудь прочитать ее «Реквием»: он тогда был опубликован полностью только на Западе. Мечта эта в общем-то сбылась, хотя не сразу и не в полной мере. Дело было так.
Созданный в 1986 году Фонд культуры СССР собрался организовать первый в истории современной России благотворительный концерт. Надо заметить, что понятие «благотворительность» было напрочь забыто в советские времена. Как тогда выяснил мой муж, даже слово «благотворительность» отсутствовало в толковых словарях. Программа первого благотворительного концерта рождалась на кухне за пирожками у Иветты Вороновой, секретаря Фонда культуры, основавшей впоследствии Фонд «Новые имена». Иветточка, как мы ее называли, обладает врожденным талантом PR-менеджера, способностью сводить нужных людей в нужное время. Итак, долгими вечерами Володя Васильев, Екатерина Максимова, Спиваков со мной и еще несколько человек продумывали, каким будет первый благотворительный концерт. Главная идея родилась сразу — «Премьера премьер», то есть все, что будет исполняться, — исполняется впервые в таком качестве.
Я предложила включить в программу концерта ахматовский «Реквием», только что опубликованный у нас. И для меня выбор актрисы был ясен с самого начала: Алла Демидова. Только она. Я подарила ей свою мечту от чистого сердца, хотя думаю, что Демидова до сих пор об этом не подозревает. Надо сказать, что у меня с ней никогда не складывалось дружеских отношений, порой даже казалось, что она меня избегает. В любом случае, мысли предложить себя в этот проект и возникнуть не могло. Будучи по натуре человеком очень в себе неуверенным, я бы в жизни не решилась на подобную наглость. К тому же в 1987 году моя актерская «карьера», начинавшаяся весьма стремительно в Армении еще до моего замужества, благополучно буксовала, и тогда уже я начинала задумываться, что писать в анкетной графе «профессия» — актриса или домохозяйка.
Итак, мы позвонили Демидовой, и она приняла идею «Реквиема» с восторгом. Композицию придумал Володя: это было очень удачное в смысловом и эмоциональном плане сочетание поэзии Ахматовой с кусками из Камерной симфонии Шостаковича (квартет «Памяти жертв фашизма и войны») и «Страстями по Матфею» Баха. В конце, когда Ахматова видит себя памятником: «И пусть с неподвижных и бронзовых век как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли», — вступала скрипка одиноким пронзительным голосом. Слезы у слушателей и музыкантов возникали как катарсис, как очищение.
«Реквием» стал одним из актерских триумфов Демидовой. Ее мощный драматический талант был оправлен, как дорогой камень, изумительным сопровождением оркестра и очень удачным костюмом — Василий Катанян подарил Алле костюм Лили Юрьевны Брик, сшитый Ивом Сен-Лораном. С «Реквиемом» Демидова потом часто выступала в концертах «Виртуозов» в России и на Западе.
Помню, через три месяца после землетрясения мы ездили с концертами в Ленинакан. Поездка эта врезалась в память настоящими, жизненными, а не театральными эмоциями. Знать о горе — одно, видеть его своими глазами совершенно другое. Когда-то «Виртуозы» выступали в Ленинакане, и об этом был снят очень красивый фильм: Володя на фаэтоне едет мимо фонтана, мальчик играет на зурне, сияет солнце. На этот раз режиссер с армянского телевидения придумала, что они смонтируют кадры современного приезда на развалины со счастливыми кадрами прошлого. По ее замыслу, Володя должен был выйти из автобуса со свечой и подойти к разрушенному фонтану. Как далек был этот постановочный эффект от реального накала страстей в тот момент! В разрушенный Ленинакан постоянно наведывались комиссии с членами правительства — приезжали, обещали и уезжали. Поэтому когда жители увидели черную «Волгу», на которой ехали Демидова, Образцова и Соткилава, они выскочили на площадь с камнями, крича: «Зачем вы приехали?» Кто-то объяснил, что это артисты и будет концерт. В ответ раздались крики: «Нам не нужно музыки, нам нужен хлеб, деньги и новые дома». Воинствующая, голодная толпа, живущая в вагонах…
Артистам приходилось буквально пробираться в единственное уцелевшее здание Театра драмы. Люди на площади настолько отчаялись, что им было все равно Спиваков, Образцова… На концерт собралась уцелевшая часть интеллигенции. Когда на сцену вышел армянский ребенок и стал играть на дудуке, я впервые увидела своего мужа плачущим на сцене. Зурна считается народным инструментом радости, а дудук — скорби. (Это сейчас, после фильма «Гладиатор», дудук стал модным инструментом.) Две девочки из Центра детского творчества подарили малюсенький синий коврик с красным клоуном — его соткала их погибшая подруга девяти лет. Алла Демидова тоже была потрясена, от волнения забыла половину текста, перескочив с середины сразу на финал. После концерта она спрашивала:
— А что за заминка была в середине в оркестре?
Оказалось, она совсем была не в силах вспомнить, что происходило на сцене.
В 1992 году Володя решил исполнить «Реквием» на фестивале в Кольмаре на французском и русском языках. И предложил выступить мне. Впервые! «Реквием» очень хорошо переведен, что случается редко, в издательстве «Minuit» («Полночь»). Я сама сделала композицию, соединив русский текст с французским (в финале — «Опять поминальный приблизился час», — например, перевод очень ритмичный и можно было чередовать русские и французские строки). Как известно, сапожник всегда без сапог. Для жены у Спивакова времени на репетицию все не находилось. На «Реквием» мне отвели полчаса за день до выступления. На сцене во время репетиции сидели те, старые «Виртуозы», вынужденные мне аккомпанировать. Когда я вышла читать на репетиции, спина не ощутила никакой поддержки, муж мой нервничал и торопился, параллельно настраивали звук, перешептывались, я ничего не успевала понять. «Виртуозы» — «зубры» — всем своим видом старались показать, насколько выступление со мной для них вроде обязаловки. «Подумаешь, жена шефа», — чувствовала я спиной их мысли.
Короче, месье Ламбер, который до сих пор работает на фестивале и отвечает за техническое оснащение собора Святого Мэтью, видя мое отчаяние, разрешил ночью после концерта прийти и поработать самой, разобраться с акустикой, с пространством. Получив огромный ключ от средневековой церкви, я действительно пришла ночью, нашла свои точки в зале, освоилась. На следующий день мне снова дали полчаса с оркестром на генеральную репетицию, и я, собравшись, уже не обращала внимания на шепотки сзади. Судя по реакции французов, выступила я достойно. Сразу после этого концерта у меня завязалась дружба с президентом Ассоциации музыкальных критиков Антуаном Ливио. Он тут же пригласил меня на интервью на радио, убеждал, что исполнение «Реквиема» надо обязательно повторить. Даже придумал проект, о котором я до сих пор мечтаю, но осуществить пока не могу из-за того, что он очень труден в реализации.
Готового костюма к «Реквиему» у меня не было. Я тогда была худенькой и щуплой, а хотела чувствовать себя грузной женщиной, окаменевшей от скорби. По физическому ощущению мне хотелось быть тяжелой. Помог Слава Зайцев. Я нашла у него не платье, а черный плащ из толстой суровой ткани. Сшитый трапецией, в пол, с большим рукавом реглан, он очень укрупнял сценический силуэт. Я немного с ним играла: поднимала воротник, убирала руки в карманы. Естественно, в жизни я этот плащ никогда не носила.
Хотя я поняла, что с исполнением «Реквиема» справилась, лица музыкантов за моей спиной на сохранившейся фотографии говорят о том, что стена принципиального неприятия там стояла повыше, чем знаменитая тюремная в «Крестах». Это было испытание. Еще огорчило странное ощущение, что с мужем мне на сцене неуютно. Конечно, это субъективно. Может быть, просто он в меня тогда не верил. Или еще сильнее, чем за себя самого, волновался. Но знаю и то, что насколько с ним комфортно солистам, настолько мне было некомфортно. Я решила, что вместе с ним больше не выйду на сцену никогда и если что-то и буду делать, то только сама.
…Правда, время часто изменяет даже твердые убеждения и клятвы, которые даешь сам себе. Сегодня, когда я дописываю эти главы, Володя неожиданно сказал мне:
— У нас с тобой в жизни случилось необыкновенное совпадение: наступила вторая зрелость. Мне за пятьдесят, а я вдруг начал учить концерт Берга, к которому в молодости даже не думал подступиться, и не просто учить — я практически закончил новую, свою редакцию этого концерта. А ты стала писать, и главы, которые ты мне прочитала, очень меня трогают.
Мы ехали в этот момент по ночному Парижу, и я чуть не заплакала. Может, если очень захотеть и много работать, мне доведется еще когда-нибудь выйти с ним на сцену?!
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» ОТ ПАРАДЖАНОВА
Однажды в Тбилиси я читала «Реквием» Ахматовой (правда, ничего не помню, так как жутко волновалась). Это было на открытии нового концертного зала, выступали «Виртуозы», Женя Кисин. Гия Канчели в единственный свободный вечер повел нас знакомиться с Параджановым. Потом мы должны были идти на спектакль Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.
Про Сергея Параджанова я много слышала. Один из моих фильмов снимал оператор Алик Явурян, мой очень близкий друг, работавший на его последнем фильме «Ашик-Кериб». Он был лучшим оператором Армении, внешне — просто родной брат Шона Коннери, красивый, умный, интеллигентный. Раньше я его боялась и на «Арменфильме» обходила стороной, мне казалось, что я ему как актриса не нравлюсь. На пробах меня колотило от ужаса. Я знала: Явурян во время проб смотрит в камеру три минуты, и, если актриса его не вдохновляет, ей не суждено сниматься в картине. Но у нас сложилось взаимопонимание. Фильм «Чужие игры» получился дрянной, но мне важно было работать: это происходило сразу после смерти моего отца, я искала в съемках возможность отвлечься от своих переживаний. Володя все время гастролировал, мама была в чудовищном состоянии, дочери Кате был год. Я взяла ребенка с собой и полгода снималась в Ереване. Явурян во время наших съемок несколько раз приезжал от Параджанова, с которым они придумывали последний фильм, и рассказывал невероятные вещи. Например, как он, проголодавшись с дороги, залез с разрешения «гостеприимного» хозяина в холодильник и не обнаружил там никакой еды — только круглую коробку, полную пузырьков валерьянки. Наслушавшись таких историй, я мечтала встретиться с этим человеком.
Мы оделись и при полном параде пришли в старый тбилисский дворик. Параджанов сидел на балконе на втором этаже, в халате, и приветствовал нас, глядя сверху:
— Какие красивые люди идут по лестнице! В воздухе запахло «Шанелью»!
Таковы были его первые слова. Дальше все напоминало действие параджановских фильмов. В открытые двери квартиры входили и выходили разные люди — молодой красавец Феб, игравший Ашик-Кериба, женщина Соня лет под шестьдесят, которую Параджанов хотел выдать замуж.
— Соня идет с тортами, она меня кормит. Посмотри, какая красавица! Найди ей жениха!
Это был сплошной поток сознания, фейерверк!
Смотрел попеременно на Вову и на меня, гладил его по руке и вопрошал:
— Ты знаешь, почему ты такой красивый, а я — нет? Потому что ты в костюме, а я в халате. Давай поменяемся?
Отвел Гию Канчели в сторонку и зашептал:
— Слушай, что ты со мной делаешь? Я не знаю, кто мне больше нравится — он или она.
Посмотрел на меня внимательно:
— Кто тебя снимал в том историческом фильме, в «Ануш»?
— Марат снимал, Варшапетян, — отвечаю.
А за спиной Параджанова как раз случайно стоит брат недавно умершего Марата (про него хозяин сказал: «Пусть этот подозрительный армянин поставит чайник»).
— Бедный, бедный Марат! Неталантливый был человек!
Параджанов мог быть разным — злым и несправедливым тоже. Василий Катанян в своей книжке «Прикосновение к идолам» как раз об этом написал. Марат ведь был талантливейшим человеком.
— Давай я тебя сниму, — продолжал Параджанов.
— Не бойся! Можно я ее сниму? — это уже к Вове, который тут же сидит.
— В следующей картине я тебя сниму. Как тебя там на «Арменфильме» серной кислотой до сих пор не облили? Эти армянские актрисы такие ревнивые! Потом опять к Гие: — Как она мне нравится, как нравится! И он мне тоже нравится. Давай его разденем, посмотрим, там мускулы или что?
Пришлось по настоянию хозяина раздевать Спивакова до пояса.
Рассказывает сон:
— Иду я в баню на Майдан, и мой банщик Сэрж ходит мне по спине. И вдруг у него нога проваливается и он спрашивает:
— Сэреж, что там у тебя?
Я отвечаю:
— Рак. (Параджанову недавно сделали операцию после того, как у него обнаружили рак легкого.)
Начинает причитать:
— Ах, я скоро умру! Посмотри, какой у меня шрам тут. Вообще я сейчас пойду лягу и буду умирать. Сначала только чаю попьем.
Потом стал показывать свои коллажи. А я слышала о них от своего друга, который работал у Сен-Лорана, и видела подарки Параджанова, фотографии. Реакция Параджанова была неожиданной:
— Сен Лоран? Жулик твой Сен-Лоран! Ты знаешь, что они со мной сделали? Приехали, отобрали у меня коллажи и говорят: мы тебе заплатим или хочешь пришлем вещами. Я дал. Мои коллажи стоят миллионы. Знаешь, что они прислали? Ящик. Открываю. Кто-то умер, они с него сняли все костюмы, даже не отдали в химчистку и прислали мне, чтобы я это носил. Подумаешь, Сен-Лоран!
И вот так весь вечер.
Показывает фотографии жены и сына, ковры, коллажи. Вова украдкой смотрит на часы, так как собирается в театр к Габриадзе. А я не хочу уходить, потому что не могу оторваться от Параджанова. Не хочу. У меня возникает предчувствие, что эта встреча — первая и последняя. Наверное, с тех пор я не хожу на спектакли Резо Габриадзе. Я и тот спектакль не помню, как будто я его не видела, так как вечер в театре лишил меня продолжения общения с Параджановым.
Он читал свои записки, мы пили чай.
— К сожалению, нам пора, — говорит Володя.
— Куда ты идешь? Везде скучно, оставайся здесь. Там неинтересно, посиди со мной.
Когда мы уходили, он спросил:
— Что мне тебе подарить? Что ты хочешь? В этом доме все старое!
Сначала разломил гранат и говорит:
— Ешь, давай с руки ешь!
А на мне — белое платье, главная задача — не закапать его. Побежал к серванту, вытащил какую-то гэдээрошную синюю пузатую сахарницу с реставрированной крышкой. Вся она была какой-то кособокой, видимо, из бракованной серии. Но Параджанов умел все превращать в, как бы сейчас сказали, перформанс, в факт искусства. Он взял сахарницу и, размочив в чае кусок сахара, приклеил его внутри на дно: «Чтобы твоя жизнь была сладкой». И вот уже спустя больше пятнадцати лет я держу эту сахарницу у себя на кухне среди дорогих сердцу подарков и никогда не мою ее — берегу кусочек сахара, приклеенный Параджановым. И еще он подарил мне фотографию: Параджанов стоит, вытянув руку так, как будто держит на ней белые домики на склоне горы на заднем плане. И улыбается.
НЕВСТРЕЧА С БУЛАТОМ
Булат Окуджава написал к Володиному пятидесятилетию стихи-посвящение. И спустя некоторое время Володя ему ответил. В его день рождения 12 сентября мы были в Париже, ожидая прибавления семейства: Анечка, наша младшая дочь, родилась 1 октября, буквально через две недели после юбилея. Володя не хотел отмечать его в Москве, так как вообще не любит пышных сборищ. Я сделала Володе сюрприз — заказала ужин в ресторане, который для него был символом Франции. Он всегда мечтал, «когда будут деньги», пригласить всех в «Максим». Приехали наши близкие и преданные друзья из Испании, Америки и Москвы и даже Ростропович, который успел прилететь в последнюю минуту. Накануне нам привезли несколько писем и поздравлений. Среди бумаг находился манускрипт, который написал Окуджава, — замечательные, очень грустные стихи, посвященные Володе. Из всех поздравлений они потрясли меня больше всего. И его тоже. Спустя буквально месяц Володя был в Зальцбурге, позвонил мне и попросил включить факс, по которому и переслал мне свои стихи-ответ: «Путешествие дилетанта из Зальцбурга в Вену». Володя очень редко пишет стихи. Они начинались так же, как у Булата, но каждая строчка как бы перекликалась с теми стихами. Мы нашли способ переслать ответ Окуджаве, и я знаю, стихи ему очень понравились.
К сожалению, Булат Окуджава в нашей жизни — это, как писала Ахматова, «невстреча». Или полувстреча. Они с Володей практически были незнакомы, то есть формально знакомы, конечно, были, но возможности общаться, делиться чем-то они не имели. Оглядываясь назад, понимаешь, что самое драгоценное время, проведенное вместе с очень интересным человеком. Как-то мы встретились с Булатом Окуджавой в Париже в доме Люси Каталя. Она — очень известная женщина, работающая в издательстве «Альбан Мишель». В ее дом нас привела Зоя Богуславская. Жена Окуджавы Ольга очень торопилась в тот вечер его увести, общение не складывалось, Володя хотел с ним поговорить, я тоже надеялась услышать что-то необыкновенное. Но не получилось.
Булат умер в июне, и за полгода до этого в Москве был концерт, на котором «Виртуозы Москвы» впервые исполняли «Раек» Шостаковича. Так сложилось, что в Большом зале сошлось множество официальных лиц — в партере одновременно сидели Наина Иосифовна Ельцина, Чубайс, Лужков со всей своей командой из мэрии. Это было незадолго до выборов 1996 года, уже разразился скандал с Коржаковым, стенка шла на стенку. (Спивакова часто обвиняют в том, что на его концертах появляются лица, взаимоисключающие друг друга. Я же не могу закрыть дверь ни перед кем и всегда в меру своих сил достаю билеты всем без исключения. Например, Бари Алибасов со всей «На-на» однажды тоже появился у нас. Накануне мы познакомились на концерте Пендерецкого, выяснилось, что Алибасов его обожает и понимает его музыку как никто. Для него Пендерецкий или Шенберг космос, великая музыка. Я не видела ничего криминального в том, что он захотел, чтобы его «мальчики» послушали Моцарта. Правда, потом появились статейки, что «Спиваков и „На-на“ — одной крови».)
Я считаю, что музыка — идеальное средство соединить и примирить всех. Референт Наины Иосифовны передал мне ее пожелание увидеться с Владимиром Теодоровичем после концерта и просьбу организовать чай в правительственной ложе. Я, естественно, позвала туда всех — и Лужкова с его «хлопцами», и Чубайса с его пленительной, тургеневского типа женой Машей. Зная привычку Спивакова «отходить» от концерта очень долго, сначала стоя в мокром фраке и принимая поздравления, потом медленно переодеваться, когда уже остались только свои, на что уходит минут сорок пять, я понадеялась занять и развлечь гостей в правительственной ложе, но это было невозможно — все сидели по углам и молчали. Официанты отчаялись — гости отказывались пить и есть. В воздухе как будто «повис топор». Мне стало ясно — положение может спасти только Спиваков.
Я рванула в артистическую, крича сразу всей очереди:
— Ради Бога, извините, он сегодня не сможет ни с кем говорить.
Быстро переодела Володю в свитер на голое тело, и мы побежали. В тот момент, когда я выхватила его из артистической, я увидела, что в середине очереди стоит Булат. Эта встреча в канун Нового года, после концерта в консерватории, как вспышка в памяти, которая никогда не угаснет: он — в толпе, Володя к нему кинулся, они обнялись, крепко, быстро, в последний раз. Если бы знать, что в последний…
Мы убежали с обещанием позвонить. Даже не сообразили пригласить его с собой. Потом я так ругала себя, думала, а что, собственно говоря, дороже? У меня на сердце это осталось каким-то грузом вины. Остались два стихотворения, свидетельствующие о перекличке между их душами. Они прекрасно почувствовали друг друга. Муж всегда возит эти стихи в футляре скрипки.
Я безумно жалею, что мне не довелось знать Булата Шалвовича ближе. Ведь вся моя юность связана с его поэзией. Окуджава для меня равноценен Пастернаку или Мандельштаму. С пятнадцати лет у меня была его пластинка 33 оборота, на конверте — портрет с сигаретой, такой коричневый дагерротип. Как только закрою глаза и вижу эту пластинку, вспоминается очень дорогой мне отрезок жизни конец школы, начало института, наши поездки в колхоз, в деревню Княжево под Волоколамском, когда мы, студенты ГИТИСа, согревались у костра и пели «Виноградную косточку». Все его песни — «О московском муравье», «Прощание с новогодней елкой», «Опустите, пожалуйста, синие шторы»… — великая поэзия. Он пел ее под музыку, и второго такого трубадура эпохи не было — философа, поэта, музыканта. Наверное, я не одинока в этой любви. И я безмерно горжусь стихами Окуджавы, посвященными Спивакову. Володя сам — человек щедрый, но в то же время он совсем не избалован вниманием и щедрым отношением к себе. Ему мало посвящено произведений, но то, что ему посвящено — дорогого стоит. И стихотворение Булата в этом ряду. Для меня эти стихи очень важны.
ОТЪЕЗД
Владимиру Спивакову С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга. Бричка вместительна. Лошади в масть. Жизнь моя, как перезревшее яблоко, Тянется к теплой землице припасть. Ну а попутчик мой этот молоденький Радостных слез не стирает с лица: Он и не знает, что век-то коротенький, Он все про музыку, чтоб до конца. Времени не остается на проводы… Что ж, они больше уже не нужны Слезы, что были недаром ведь пролиты, Крылья, которые Богом даны? Ну а попутчик мой только и верует Жару души и фортуне своей, Нотку одну лишь нащупает верную И заливается как соловей. Руки мои на коленях покоятся, Горестный вздох угасает в груди… Там, позади — «До свиданья, околица!»… И ничего, ничего впереди. Ну а попутчик божественной выпечки, Не покладая усилий своих, То он на флейточке, то он на скрипочке, То на валторне поет за двоих. 1994 г. Булат ОкуджаваПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТА
Булату Окуджаве С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга, Бричка вместительна, лошади в масть. Сердце мое — недозрелое яблоко К Вашему сердцу стремится припасть. Молодость наша — безумная молния, Вдруг обнажившая Землю на миг. Мы приближаемся к царству безмолвия, Влево и вправо, а там — напрямик. Вместе мы в бричке, умело запряженной, Вместе грустим мы под звон бубенца, Смотрим на мир, так нелепо наряженный, Праздник, который с тобой до конца. Медленней пусть еще долгие годы Бричка нас катит дорогой крутой, Пусть Вас минуют печаль и невзгоды, Друг мой далекий и близкий такой! Музыка в Вашей поэзии бьется, Слово стремится взлететь в облака, Пусть оно плачет, но лучше — смеется. И над строкою не дрогнет рука… В. Спиваков. По пути из Зальцбурга в Вену. 7 октября 1995 г.КУРЬЕЗ
Самый смешной, необыкновенный да и абсурдный отпуск — наше незабываемое первое лето в Ялте в 1983 году. Мы с Володей знакомы еще только четыре месяца, безумно влюблены, и он приглашает меня на месяц в Ялту. Мы неженаты, счастливы, свободны! Родительское осуждение (ехать отдыхать с мужчиной, будучи незамужем!) не остановило меня.
И вот мы приезжаем в гостиницу, с нами — любимые старые Володины друзья Гриша и Аня Ковалевские. Володе заказан «люкс», Ковалевские в обычном номере. В гостинице «Ялта» «люксы» располагались справа от лифта, остальные номера — слева, а в центре, естественно, денно и нощно несла вахту дежурная по этажу! Абсурд ситуации заключался в том, что в те годы запрещалось ночевать и вообще проживать в одном номере разнополым персонам, не связанным узами брака, а точнее — без штампа в паспорте. То есть мужчина с мужчиной имели право спать в двуспальной кровати без всякого «штампа», женщина с женщиной — тоже, а вот мужчина с женщиной — ни за что!
Итак, в «люксе» официально значились Спиваков и Ковалевский, а в обычном номере Ковалевская и Саакянц. В общем, все по закону. Меня мало волновала вся эта чепуха, хотя нас предупредили, что по ночам регулярно устраивают проверки подозрительных номеров. Сразу по прибытии я вышла на балкон, вокруг волшебное море, вдали — Аю-Даг, в душе — счастье, рядом — любимый… Через несколько минут созерцательного блаженства в номер влетел Ковалевский с лукавыми огоньками в глазах:
— Ребята, я все устроил, этажная дама «заряжена», сегодня живите спокойно.
Ключевой фигурой нашей жизни в гостинице, от которой зависел наш покой, была дежурная по этажу. Но дежурные менялись практически ежедневно! Так что, договорившись с первой посредством флакона духов, Гриша не осознал, что ему придется проделывать сие каждый день. Надо сказать, Григорий, по природе талантливый артист, комедиант, присматривался к каждой следующей дежурной и всякий раз разрабатывал новый подход. Одну можно было подкупить косынкой, чтобы не настучала, что заслуженный артист РСФСР спит в одной постели с невестой, а не с другом детства, другая любила шоколад, третья мечтала об автографе проживающего в той же гостинице эстрадного венгерского певца и т. д. И вот в один «прекрасный» день Григорий появился на пороге с кислой миной:
— В общем, меня послали. Сегодняшняя — старая мымра, ничего ей не надо, короче, ребята, я — пас, сегодня спим по «прописке».
В результате пришлось провести ночь как полагалось по правилам гостиницы. Не знаю, как уж там устроились Спиваков с Ковалевским, мы с Аней всю ночь просидели в шезлонгах на балконе, болтая и давясь от хохота. Самое необыкновенное, что к мужикам нашим и вправду часа в три ночи пришли блюстители порядка, постучали, прошлись по номеру, проверили документы и ушли ни с чем.
Когда же спустя неделю приближалось дежурство нашей «любимой» мымры, Гриша разузнал, уж не знаю как, что она обожает пить чай! Солидная коробка английского чая — и наши с Аней планы снова провести ночь на террасе с сигаретой, семечками и девчоночьим шушуканьем рухнули навсегда!
НАШ БДТ
Дружба оркестра «Виртуозы Москвы» с Большим драматическим театром началась, когда Володя познакомился сразу со всей труппой на гастролях в Ялте. Мы дружили со всем БДТ, с его ядром. Наш БДТ — это прежде всего Георгий Александрович Товстоногов, Евгений Алексеевич Лебедев, Владислав Игнатьевич Стржельчик. Помню, тем летом после концерта «Виртуозов Москвы» в Ялте, куда я не поехала, потому что недавно родилась Катька, Володя позвонил мне безумно воодушевленный:
— Тут такая компания, весь театр БДТ на гастролях. Я со всеми перезнакомился.
Эта удивительная дружба длилась годы.
Когда музыканты приезжали в Ленинград, в БДТ часто изменяли репертуар, чтобы в свободный день «Виртуозы» посмотрели тот спектакль, который они еще не видели. А после спектакля весь театр оставался и «Виртуозы» играли на малой, верхней сцене БДТ сжатый концерт в одном отделении из нового репертуара.
У нас была особая дружба с секретаршей Товстоногова Ириной Шимбаревич Шимбой, как все ее называли. Она любила всех «Виртуозов Москвы» вместе и Володю отдельно. Шимба, когда «Виртуозы» отправлялись обратно в Москву, провожала нас на вокзале и бежала за поездом, пока перрон не кончался. Володя кричал из окна:
— Остановись, сумасшедшая!
Завязалась огромная дружба с семьей Товстоногова и Лебедева. Лебедев был женат на сестре Георгия Александровича Натэлле, и в доме у них царил матриархат. Соединенная из двух, квартира управлялась ею. До сих пор у ее изголовья стоят рядом две фотографии — брата и мужа. Злые языки утверждают, что Георгий Александрович так и не обзавелся семьей из-за сестры. Не знаю, правда ли это. В семье, в быту он был счастлив и самодостаточен. Натэлла обладала потрясающим качеством — она сумела полностью обеспечить бытовой комфорт для этих двух мужчин, создать очаг и уют. У них на кухне было особое пространство, которое так и называлось — очаг. Там все было выложено камнем, висел рисунок под Пиросмани, стояли грузинские кувшины. У нас до сих пор хранится рог, подаренный мне Георгием Александровичем в Париже. Другой же, в серебре, висел у них над очагом. У Натэллы всегда был накрыт стол — вечером, после репетиции, спектакля. Главным в этой семье был театр, а не дети и семейные отношения. Это была именно театральная семья.
Мое знакомство с Евгением Алексеевичем Лебедевым произошло еще раньше, в 1981 году. Я впервые снималась на «Арменфильме» в картине «Лирический марш» совершенно безумной, с диким количеством актеров. На эпизод пригласили Лебедева. Зачем? Не знаю. Зато потом уже, познакомившись поближе с самим Лебедевым, я поняла, зачем ему нужно было сниматься на «Арменфильме». Он обожал работать, к тому же любил Кавказ, Грузию, Армению. Приехать на двое суток в Ереван, отработать и уехать с двумя огромными корзинами зелени, помидоров, перцев, абрикосов было в его духе.
Так вот, во время тех знаменательных съемок я «прилепилась» к Лебедеву и засыпала его вопросами. Никогда не забуду, как он сказал мне, что сыграть можно все. «Хочешь, я тебе сейчас сыграю солнце?» И он тут же показал этюд: солнце просыпалось (открывался один глаз, потом другой), потом проснулось, потом солнце вышло погулять (взлетали брови), потом солнце влюбилось, полетело, потом пошло на вечернюю прогулку, потом чего-то выпило и его немножко сморило, а потом солнце подумало, что пора бы уже лечь соснуть (и у него опускалась одна бровь за другой). Этот этюд стоил многих занятий по мастерству актера.
Когда дружба в бэдэтэвцами окрепла, мы каждое лето встречались в Крыму: Товстоногов, Лебедев и Натэлла отдыхали в Ялте в пансионате «Актер», а мы — в гостинице «Ялта». (Володя обожает Ялту, чеховские места, для меня с Ялтой связаны самые светлые воспоминания о первых годах нашей совместной жизни, о первых совместных каникулах.) Они приходили к нам в гостиницу, мы ужинали на террасе, а потом шли их провожать. Доходили до «Актера», я обычно — с Евгением Алексеевичем, который мне что-то рассказывал. Его любимая хохма была:
— Ты знаешь, как я разбудил Натэллу среди ночи: «Натуся, я должен тебе сказать очень важную вещь, которая меня мучает».
— Ну что, Женя? Я спать хочу!
— Наш сын Лешка — не от тебя!
За разговорами мы доходили до пансионата «Актер». Теперь они провожали нас. Мы ходили туда-обратно бесконечно. Помню, как-то Натэлла с Лебедевым ушли спать, Товстоногов со Спиваковым проводили меня в «Ялту» и Володя пошел в последний раз провожать Товстоногова. Я ждала мужа до начала второго ночи, заволновалась, пошла к пансионату, там все уже было заперто, темно. Подошла к номеру Товстоногова с окнами к морю, на первом этаже, заглянула со стороны балкона и увидела: сидит Гога в семейных трусах до колен и с традиционной сигаретой и рассуждает с моим мужем о Мейерхольде, Таирове, Михаиле Чехове, Прокофьеве, Шостаковиче. Оттащить Володю от Гоги было невозможно.
Володя с Георгием Александровичем были в чем-то очень похожи. Все время друг друга доставали вопросами, проверяли друг на друге свои методы. Товстоногов спрашивал:
— Как вы достигаете того, чтобы музыканты как один брали пиццикато, и даже на них не смотрите?
Володя отвечал, что нужно быть правдивым на сцене — тогда тебе верят. Гога тоже говорил своим актерам:
— Мы в жизни все время врем. Хотя бы на сцене нужно говорить правду.
Товстоногов очень любил фразу: «Это такая мэтафора». В нем была высокородная грузинская элегантность. Он и Натэлла всегда говорили с характерным акцентом. Конечно, они — пиросманиевские персонажи. Он — с огромным агатовым перстнем, с вечно дымящейся сигаретой с мундштуком, пепел с которой стряхивается на брюки соседа, стол, всё вокруг. Любимый анекдот Товстоногова звучал так: «Чем отличается Париж от мужчины?» Далее следовала пауза, он стряхивал пепел направо на соседа, потом налево и говорил удовлетворенно: «Париж — всегда Париж».
Последняя моя встреча с ним произошла в 1988 году. Я летела из Рима одна и встретила в аэропорту Георгия Александровича, который возвращался из какой-то поездки с артистами БДТ без Натэллы и Лебедева. Меня потрясло, как сильно он постарел. Не помню, о чем мы говорили, я вела его к самолету, так как все артисты были нагружены своим хозяйством. Гога переживал, что потеряли его чемоданы с подарками, немножко заговаривался. Я увидела вдруг действительно совсем старого человека. А ведь еще несколько месяцев назад он был мужественным, интересным.
Товстоногов великолепно чувствовал форму, темпоритм. Помню спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Партитура постановки была прописана вся, от первого звука, каждый такт музыки, каждая пауза. Мне не хватает во многих режиссерах того, что было в нем. Кажется, он мог бы быть гениальным дирижером большого симфонического оркестра. Когда персонаж Лебедева, геморроидальный старик, бесконечно долго усаживался в кресло, все бились в истерике от смеха, и зал облегченно вздыхал, когда скетч заканчивался тем, что Евгений Алексеевич наконец в это кресло усаживался. Пробуксовок в спектакле у него не было, все режиссерские трюки прятались за актерской работой. Средние актеры, не солисты, играли замечательно. Научить среднего актера играть — это дорогого стоит. Фрейндлих, Лебедев — недосягаемы, но сложить мозаику из актеров разной степени дарования мог только Товстоногов. Он делал все так, как надо, попадая «в масть». Как Пушкин стихи писал. Его спектакли становились квартирой, в которую хотелось войти и жить.
Спектакли же с Лебедевым — все потрясения. «История лошади», «На всякого мудреца…», «Вишневый сад» у Льва Додина в Малом драматическом театре. Сам додинский спектакль мне не нравился категорически, но Лебедев в роли Фирса совершенством своего рисунка, своей гениальностью настолько наэлектризовывал, намагничивал его, что не откликнуться было невозможно. Ну а «Холстомер» — это шедевр шедевров, все в нем гениально.
Мы очень дружили и со Стржельчиками. Они жили в том же доме, что и Товстоноговы. Сейчас остались две вдовы — Людмила и Натэлла, и они держатся друг за друга. Лебедев и Стржельчик были диаметрально противоположными натурами. Говорят, между ними существовала подспудная ревность. Поскольку Лебедев был членом семьи Георгия Александровича, казалось, ему достаются лучшие роли и все лавры. Но это не так. Для Товстоногова главное было искусство: если бы Лебедев не был гением, будь он мужем сестры, сватом, братом, это бы ничего не решило.
Стржельчик с Лебедевым очень разные по своей актерской натуре, по индивидуальности. Владислав Игнатьевич был артистом во всем и всегда. Он и в жизни был необыкновенно ярок и артистичен. Мы отдыхали как-то раз вместе в Ялте, провели фантастическое лето. Стржельчик ходил на пляж в оригинальном, коротком, до колена, японском кимоно — огромные, красные с золотом разводы на ярко-синем фоне. Был галантен, дам всегда пропускал вперед. Вечером, когда мы расходились, пел: «Доброй ночи вам, сеньоры, доброй ночи, доброй ночи». Его жена Людмила, женщина пленительной красоты, носила длинные свободные платья из тонкого белого батиста, на голове — чалму. Пара выглядела очень артистично.
По театру о нем ходили всякие сплетни, шушукались, что он не пропускает ни одной хорошенькой женщины. Но Людмилу он обожал. У Стржельчиков царили уют и педантичный порядок. Накрахмаленные салфеточки, шикарный фарфор, все подобрано по цветам… Им было дано, что называется, искусство жить — art de vivre. Они умели жить красиво. Владислав Игнатьевич любил, чтобы нигде не было ни пылинки, и Людмила была фантастической хозяйкой: стекла блестели так, как будто их нет, зеркала сияли, в них можно было войти. В Петербурге было много красивых домов, но дом Стржельчиков отличался тем, что там все было изысканно. Старинные вещи — все неслучайные, никакого хлама.
В работе Стржельчик был педант, как и в жизни. Он не мог позволить себе опоздать на репетицию, ужасно гневался, когда кто-то приходил с недоученной ролью, забывал реплики, неточно следовал режиссерскому рисунку. Отношение к делу, для него священному, неизменно оставалось скрупулезно-педантичным. Он всегда был в форме, всегда в голосе (профессионал не может позволить себе посадить голос, выпить накануне спектакля).
Однажды он вдруг забыл на сцене кусок текста и даже не понял, что забыл. Это был четкий симптом болезни. Страшный диагноз-приговор — рак мозга. Он не знал, но, может быть, догадывался. Сгорел Владислав Игнатьевич очень быстро. Детей у них никогда не было. Для Людмилы он составлял смысл ее жизни, в которой все подчинялось его интересам. И так до сих пор.
В свое время Стржельчик с Володей решили сделать композицию по новелле Стефана Цвейга «Воскресение Георга Фридриха Генделя» из цикла «Звездные часы человечества». Он ее исполнил в Москве совершенно блестяще. После Володя работал с французским и итальянским актерами, но когда читал Стржельчик, было ощущение, что новелла написана про него. По фактуре он очень подходил к образу Генделя. Вначале огромный человек, исполин, которого инсульт приковал к кровати, силой воли и жизненной энергией побеждающий болезнь. Проявив чудовищную волю, продиктованную желанием творить, композитор создал великую ораторию «Мессия» и после этого погрузился в глубочайший сон. Вызванный доктор решил, что это снова инсульт, но, когда подбегал к дому, слуга крикнул с балкона:
— Он встал, а теперь ест. И аппетит у него как у полдюжины крючников!
Помню, как Гендель Стржельчика сочинял «Аллилуйю», нанизывая каждую ноту, как бусы. Как оратория вырастала на глазах зрителей. Стржельчик работал в непривычном для него жанре. Но к выступлению, длящемуся от силы двадцать пять — тридцать минут, относился так же серьезно, как к спектаклю. Он мечтал играть Генделя снова, но так и не успел.
Еще у нас была мечта — сделать «Ромео и Джульетту» Шекспира. Я была совсем молоденькой, неопытной, но он успокаивал: «Ты не бойся, я тебе все поставлю». Нам виделась сценическая композиция с музыкой либо Чайковского, либо Прокофьева. Я больше склонялась к Чайковскому, Володя — к Прокофьеву. Стржельчик должен был читать за всех, кроме Ромео, — за автора, за отца Лоренцо, за других персонажей. Мы начинали, пробовали, но не успели довести идею до конца.
Думаю, с ним было невероятно легко коллегам на сцене. Он из тех актеров, кто строго подчинялся логике. Ольга Андровская говорила, что артисты должны на сцене взаимодействовать по принципу «петелька-крючочек». Есть артисты, играющие блестяще, но они не видят, не чувствуют партнера вообще. Они вроде бы смотрят партнеру в глаза, но между ними — стена, которую ничем не пробьешь. Владислав Игнатьевич был фантастическим партнером, чувствовал партнера, шел от него. В их спектакле с Алисой Фрейндлих «Этот пылко влюбленный» все строилось на блистательном партнерстве, хотя они — очень разные индивидуальности. Они дружили, Стржельчик был крестным Алисиного внука. Что они выделывали на сцене! Этот спектакль Владислава Игнатьевича я видела последним и не могу забыть его.
Красивый, крупный человек, Стржельчик одевался безупречно. Всегда выглядел подчеркнуто элегантно. В то же время от этого аристократа всегда шло невероятное человеческое тепло. Например, Товстоногов был безумно интересным, притягивал к себе. А со Стржельчиком я всегда чувствовала теплоту: он открыт, он готов слушать, искренне интересуется всем, что ты ему скажешь.
Стржельчика отличала бурная, кипящая общительность. Помню, в Ялте мы с ним устраивали сумасшедшие, далекие заплывы вдвоем. Я словно и сейчас его вижу. Он все время носил перстень, на котором были выгравированы его инициалы «ВС». Перстень теперь у нас, Люля недавно в память о нашей дружбе подарила его Володе после концерта, поскольку их инициалы совпадают.
Недавно мы ездили с ней на кладбище. Там стоит очень благородный, красивый памятник — белая мраморная плита и на ней профиль Владислава Игнатьевича. Зимой было много снега, но потеплело и начало подтаивать. Мы приехали, положили цветы и, когда уже уходили, увидели, что кусочек тающей льдинки стал стекать по щеке барельефа, как слеза. И Люля подошла, рукой вытерла, сказала:
— Плачет, мой родной.
Я застала годы такой любви Людмилы и Владислава Игнатьевича, что хотелось спеть «Голубок и горлица никогда не ссорятся, дружно живут» и сыграть на арфе. Он всегда смотрел на нее горящими глазами и всем приходящим в дом гостям тут же бежал показывать ее портрет:
— Посмотрите, это Люля, когда я ее встретил. Моя Люлечка, когда я женихался.
В Москве у меня стоит портрет, сделанный фотографом Валерием Плотниковым. Алиса Фрейндлих сидит в резном кресле, а Стржельчик стоит, наклонившись над ней, — шикарный мужик вне возраста, красоты необыкновенной.
Не обошлось и без внутренних «трещин». Порой ему казалось, что его не всегда ценят, что он не работает полноценно, может больше играть. Я думаю, это было не так. Таковы естественное недовольство артиста самим собой либо разновидность кокетства. Невзирая ни на что, он оставался верным Большому драматическому театру и Товстоногову до последнего дня. В любом театре есть интриги, фавориты, подводные течения, но БДТ был уникален. При Товстоногове это был живой театр. Товстоногов оставался в суждениях человеком и резким, и жестким. Например, не нашел в себе сил признать в Сергее Юрском ученика. Говорил: «С уходом Юрского БДТ потерял выдающегося актера, а Москва приобрела плохого режиссера».
Понимаю, люди по-разному переживают уход близких. Натэлла — натура реалистичная и мужественная, мне кажется, она не живет прошлым. Человек очень верующий, она хранит это прошлое в себе. Из комнаты Лебедева она сделала маленький музей, где выставила все его скульптурные работы — он делал клоунов, целую коллекцию театральных персонажей. Дом Товстоноговых-Лебедева — настоящий музей. А Людмила, по-моему, живет только прошлым. Она все время возвращается мыслями и чувствами к годам совместной жизни с Владиславом Игнатьевичем. Поскольку нет детей и внуков, ей остаются только воспоминания.
Казалось, БДТ будет существовать вечно. Теперь я приезжаю в Петербург и встречаю только этих двух пожилых женщин — Натэллу и Людмилу. Они теперь, как две щепочки, прибитые друг к другу потоком. Мне сложно назвать их старушками, потому что для меня они — подруги.
Наша дружба с бэдэтэвцами продолжалась и после смерти Георгия Александровича. Помню, как Лебедев прилетел на тысячный концерт «Виртуозов». Ирина Шимбаревич позвонила с Ленинградского вокзала: «Мы едем». И в нашу квартиру на улице Неждановой вошел Евгений Алексеевич Лебедев с доской, на которой был отлитый из бронзы барельеф Товстоногова — нам в подарок. Евгений Александрович — художник-самородок. Он потрясающе лепил, делал фигуры из глины, из бронзы, рисовал…
После смерти Георгия Александровича я не могу ходить в этот театр. Как в родной дом, где теперь живут другие люди. Второго Товстоногова не будет. Я болела БДТ. Помню посиделки в его кабинете после спектаклей с бесконечным кофе, продолжавшиеся до двух-трех часов ночи у них дома. К сожалению, ничего не записывала тогда, жила в каком-то своем коконе. Вроде бы, если так любишь театр и стремишься им жить, — иди и живи. Но я тогда смущалась. Мне казалось, я там лишняя без Володи. Мы общались много, но не так много, как мне бы хотелось.
Есть фотография, где мы все хохочем — Володя, Гога и я, совсем девчонка, дорогая мне часть прошлого.
«Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ ГОРОД…»
Анатолий Александрович Собчак — тот человек, которого мне очень не хватает. После моего отца такого чувства утраты, пожалуй, еще не было. Я поняла, насколько я его любила, насколько глубоко мы были связаны, только когда его не стало. Мы познакомились давно, он не был мэром, только депутатом Верховного Совета. Чуть позже, в 1992 году, я познакомилась и сразу же подружилась с Людмилой. Я тогда училась в Сорбонне, а она как-то прилетела в Париж. В то время мы со Спиваковым купили маленькую квартиру в Париже, в кредит, ее нужно было срочно ремонтировать. Оставив детей на свою святую мать, я отправилась присматривать за ремонтом квартиры и совершенствовать свой французский, который знала с детства. Курсы, созданные специально для иностранцев, уже имеющих некоторое знание языка, назывались «Язык и цивилизация Франции». Я, тридцатилетняя, окунулась в студенческую среду. Пребывать в этой атмосфере было очень интересно. Жизнь в ремонтируемой квартире тоже напоминала студенческую — с раскладушкой и табуреткой вместо мебели. В Сорбонну может прийти любой человек в любом возрасте. Хочешь просто слушай лекции, хочешь — защищай диплом. За эти несколько месяцев я по-настоящему узнала Париж. Я без конца моталась в Испанию к детям, виделась с Володей между его поездками, но в основном жила в Париже одна. Исходила его пешком весь. Тогда я поняла, что это мой город — единственный, где я не ощущаю ностальгии по Москве. В Париже каждый может найти себе любимое место, квартал, угол и будет чувствовать себя так, как будто там родился.
В 1992 году открывалась выставка Бернара Бюффе, посвященная Санкт-Петербургу, и на вернисаж как раз приехала Людмила. Мой друг, советник Бернара Бюффе, попросил сопровождать его в аэропорт, чтобы встретить жену Собчака. Мы встретились с ней во второй раз и как-то сразу друг к другу «прикипели». Началась дружба семьями. Когда мы приезжали в Петербург на концерты, в семь утра на вокзале стоял мэр города, хватал и нес чемоданы.
Собчак был мужчина великолепный, блестящий, импозантный, обладающий необыкновенным умом, умением красиво говорить… настоящий харизматичный трибун. Понимаю, почему он всех так раздражал. Он резко отличался от серой массы депутатов-политиков. Дело было даже не в высоком росте и голубых глазах, а в бесконечном обаянии. Собчак был не мужиком, а именно мужчиной. Это огромная разница.
Среди депутатов он всегда оставался белой вороной. Анатолий Александрович был гораздо больше, чем просто политик, чем мэр. Ведь по существу его очень любили в городе. Когда он умер, это стало понятно. Не ценили, не понимали при жизни, но любили. Народ — это масса, поддающаяся влиянию. В 1996 году все были уверены в том, что он победит на выборах. И если бы многие его сторонники не поленились приехать в день выборов с дачи, если бы они только представили себе, что может получиться, Яковлев никогда бы не победил. Никто не мог представить, что Собчака обойдет его безликий зам.
С того момента Петербург для меня лично потерял свое лицо. Почему при Собчаке туда так вдруг хлынули иностранцы? Питер с его магией Эрмитажа, Павловска, каналов, дворцов всегда привлекал Европу. Если Горбачев вернул человеческое лицо Советскому Союзу, Собчак вернул городу, мэром которого являлся, европейское лицо и его настоящее имя — Санкт-Петербург. И сам стал его символом. Его упрекали за то, что он носит фрак, ходит на балы, знает иностранные языки, за то, что он обаятелен и красив, что его обожают Маргарет Тэтчер и Жак Ширак. Когда Собчака не стало, я видела, как реагировали на это люди на Западе.
Я знала, как он жил. Семья занимала маленькую трехкомнатную квартиру на Мойке. Вся эта раздутая история, когда его унизили и приписали злоупотребления, омерзительна. Его квартира: гостиная, выходящая на Мойку, заставленная мебелью, спальня, в которой стояли кровать и письменный стол, а все пространство между ними было завалено книгами (Собчак работал там же, где и спал), маленькая комната-пенал дочки Ксюши. Еще была небольшая кухня, заставленная гжелью, — всё! Это была квартира мэра Петербурга. Когда ему удалось обменять по всем правилам (не получить, не построить) квартиру за стенкой, в результате чего образовалась квартира не в 60 кв. м, а в 120, из этого раздули Бог весть что! А ведь даже после «расширения» любой мэр любого цивилизованного города, попади он в эту квартиру, был бы удивлен скромными ее размерами. И когда Собчака начали унижать и травить, для меня самым ценным было то, что он ни на секунду не потерял достоинства. Он ничего не оспаривал, ни перед кем не оправдывался, не пытался себя обелить. И никуда уезжать при новом мэре не собирался, продолжая ходить по этому городу с высоко поднятой головой. Правда, люди уже не расступались, как раньше.
Незадолго до выборов 1996 года Собчак написал книгу «Жила-была коммунистическая партия». Ее презентация была назначена в Париже через два дня после выборов. Выборы он проиграл. Когда они с Людмилой прибыли в Париж, мы первым делом побежали к ним в гостиницу, пытаясь его успокоить.
— Я не считаю это катастрофой. Я же боролся за демократию — вот и результат.
Презентация книги происходила в Русском центре на рю де Буасьер. Я приехала к Ростроповичам, не знавшим о презентации, и мы пришли вместе. Был Миша Шемякин. Тогда в Париже еще не было ощущения крушения.
Собчак стойко переносил поражение. Что же творилось в душе — известно только близким друзьям. Особенно обидно, что после поражения многие двери для него закрылись, многие телефоны перестали отвечать, люди, стоявшие в очереди, чтобы подойти к нему, когда он был у власти, вдруг оказались очень заняты, чтобы просто посмотреть в его сторону. Это было гадко и стыдно.
Помню, спустя несколько месяцев после того, как Собчак проиграл выборы, мы ехали на 70-летие Галины Павловны в тот дом, который был куплен Ростроповичем и Вишневской в Питере в эпоху Собчака. Из Москвы прилетело высокое начальство. Естественно, на праздник был приглашен и новый губернатор. Мы остановились в Питере у Собчаков, поэтому ехали на торжество вчетвером. За лето острота выборных страстей притупилась. Но я понимала, как ему трудно «держать спину». Торжественный, в смокинге, когда все расселись, он вскочил и произнес блистательный первый тост — красивый, длинный, качественный, с цитатами из Мандельштама и Маяковского. Никто не давал никакого знака. Но наперекор всему ему нужно было встать первым. В этом была его наивность и вызов. Не мэр, но хозяин в городе, Собчак запомнился очень ярко в тот момент. Только когда началась открытая страшная травля, он принял решение уехать. Не надо забывать, что если бы в момент путча 1991 года Питер скатился на сторону ГКЧП, как бы все могло обернуться для всей страны. Собчак повел себя так мудро, что в Петербурге не пролилось ни кровинки, никто не пострадал. Питер стоял насмерть, поддерживая Ельцина и демократию. Когда в Москву в октябре 1993 года ввели танки, я была в Петербурге. Мы сидели с Людмилой на кухне, у нее всегда чисто, уютно и очень вкусно.
— Видишь, мои именины — а муж даже не вспомнил, — пожаловалась она.
В час ночи вошел Толя — бледный как полотно. На завтра был назначен митинг, его вынуждали вызвать ОМОН. Люда умоляла его не поддаваться на провокации:
— Пусть коммунисты кричат «Долой Собчака!» — ты не должен отвечать. Отмени свое решение, не вызывай ОМОН. Завтра мы все пойдем на концерт.
И он все отменил. На другой день на концерте он сказал:
— Эти две женщины остановили меня от одного из самых необдуманных шагов, который я мог бы совершить.
Людмила его безумно любила.
Как-то раз в Питер приезжали «Виртуозы», на концерт которых Толя прибежал после какого-то заседания. «Как, ты без букета?» — изумилась Людмила. Послали за букетом.
— Ланичка, тебе нравится? — он всегда называл ее Ланей.
— Жуткий букет, я не понесу такой.
Тогда Анатолий пошел вручать букет сам. Тем временем привезли второй букет, но и его Ланичка забраковала. Мэр сам вынес и второй букет. Тогда уже на «бисах» Володя посадил Собчака прямо в оркестр и сказал в зал:
— Я хочу сыграть венский вальс, потому что с таким мэром, как Собчак, Петербург «обречен» по культурному уровню превзойти Вену.
Анатолий сидел в этот момент в оркестре и светился от радости.
Он не раз приезжал к нам на фестиваль в Кольмар, просто как гость. Относился к Володе как к другу. Володя очень это ценил и любил его. На фестивале он уже освобождался от груза всех своих забот, ходил в шикарных шелковых рубашках, в светлых бежевых штанах, у них с Людмилой просто был медовый месяц. Когда началась травля, она со свойственными ей энергией и здравым смыслом (многие обвиняют ее априори, как жену известного человека, осмелившуюся самой быть личностью) привезла его в Париж. Тогда фактически она спасла его. И оказалось, что в Париже в качестве беглеца он никому не нужен, кроме близкого друга Володи Рейна, еще нескольких человек и нас.
31 декабря 1997 года Людмила позвонила и сказала:
— Мы с Толей в Париже, хотим поздравить вас.
— Где вы встречаете Новый год? — поинтересовалась я.
— Мы посидим вдвоем.
— Никаких посидим. Немедленно к нам.
Они жили буквально напротив в квартире друга. Неженатый друг иногда заезжал туда со своей невестой, и тогда Анатолий Александрович надевал кепку, шел гулять по Парижу и заходил ко мне. Случалось это еженедельно. Три года, проведенные им в Париже в вынужденной ссылке, мы общались довольно часто. Итак, первый его Новый год в изгнании они оказались у нас. Я даже не ожидала, что для него это будет таким счастьем, не отдавала себе отчета, насколько они в Париже одиноки, насколько им вдруг некуда идти. Последние три Новых года в жизни Собчака мы встретили вместе.
Когда мы переезжали с одной квартиры на другую, он пытался мне помочь, потаскать вещи. Я говорила, что для этого есть грузчики. Тогда он очень забавно сторожил вещи, приглядывал за грузчиками, за детьми, за коробками. У него была, что называется, «зеленая рука» — очень любил растения, занимался садом на даче под Питером. У меня, как ни странно, ничего не растет дома, хоть я очень люблю цветы в горшках. Наверное, я не умею за ними ухаживать. Увидев длинный балкон в новой квартире, Толя точно решил, что нужно делать — посадить карликовые елочки. И каждый раз, приходя в гости, он появлялся на пороге с очередной туей в горшке.
Когда ему бывало одиноко, он звонил мне:
— Добрый вечер!
До сих пор я как будто слышу его голос с хрипотцой в телефонной трубке. Я приглашала его посмотреть русские программы по телевизору, поесть гречневой каши. Очень любил моих девочек, особенно Таню.
— Татьяна у тебя будет действительно смерть мужикам.
Катьку считал красивой, но «слишком умной и несколько надменной». Просто она держалась с ним серьезнее.
Он садился на кухне, долго рассуждал: его мучил вопрос, в чем же он неправ, в чем ошибся. Все разговоры сводились к России. Я называла его «отцом русской демократии».
— Какая вы, сударыня, недобрая, — смотрел он на меня.
Иногда мы ходили с ним в театр. Раньше всегда было ощущение, что он куда-то несется — стремительный, нетерпеливый, в полете. А после, в его опальные годы в Париже, я понимала, что времени у него навалом. Он старался загрузить себя делами, гулял пешком километры. Мне казалось, что ему самому обидно от того, что время проходит попусту. Ощущение невостребованности было мучительно.
Помню, как летом 1999-го он сообщил, что уезжает в Россию:
— Мне можно возвращаться.
И был необыкновенно счастлив, был уверен, что его ждет новый взлет. Свеженький экземпляр последней книжки «Двенадцать ножей в спину» он подарил мне в Москве. А потом был Новый год, с 1999 на 2000, когда Ельцин объявил о своей отставке. Анатолий Александрович позвонил:
— Мы с Ланичкой прилетели в Париж, потому что наша дочка с друзьями решила встречать Новый год здесь и сагитировала нас.
У Людмилы традиция: заранее готовит записочку, карандаш, спички, бокал шампанского. Надо в полночь написать желание, сжечь, кинуть в шампанское и выпить залпом. Они пришли оба сияющие, блестящие в прямом смысле. На нем были серый с блеском пиджак и серебряная бабочка, на Людмиле — неимоверно блестящая блузка. Сообщили, что идет год железного Дракона, надо быть во всем серебряно-металлическом. Все были счастливы, Собчак не отрываясь сидел у телевизора. В тот момент ему подарено было второе дыхание в его политической судьбе. Это стало для него — человека, чувствовавшего себя невинно ошельмованным, — главным, хотелось взять реванш. Собчак в тот вечер буквально светился от гордости за Путина: «Володя никогда, ни в чем меня не предал. Я в него верю». Никто не подозревал, что ему оставалось меньше двух месяцев жизни.
Смерть Собчака была страшным шоком, хотя многие быстро оправились. В том числе город. Разве можно забыть всенародное покаяние на похоронах, речи, специально выпущенный в день его смерти номер газеты «Петербуржец» с его портретом. И это море людей на панихиде на кладбище.
Осталось много вещей и воспоминаний, с ним связанных. Даже маленький шрамик на лбу моей Таньки, которая однажды от восторга по поводу его прихода так скакала в кровати, что упала и разбила себе лоб. Иконка, с которой он не расставался в Париже, — мне ее отдала Людмила. И последний подарок на Новый год — очаровательная шкатулочка из тисненой кожи для украшений. И календарь, который он повесил на стенку, так и провисел у меня весь 2000 год. Мы с ним выпили на брудершафт в новогоднюю ночь, но он все равно продолжал церемонно называть меня на «вы». У меня тоже язык не поворачивался сказать ему «ты».
Смерть Собчака — естественная и неестественная, в чем-то я воспринимаю ее как убийство. И мысль эта меня не покидает. Он похоронен рядом с Галиной Старовойтовой. Когда случилась трагедия с ней, Анатолий сходил с ума — они очень дружили. В тот момент у него в Париже брали бесконечные интервью, он оказался очень востребованным. По возвращении в Петербург Толя отказался сразу ехать домой из аэропорта.
— Сначала я поеду к другой даме, — сказал он Людмиле, пояснив: — Мы едем к Галине.
Он стоял над могилой Старовойтовой, глядел в пространство и вдруг произнес:
— Какое чудное место!
Людмила одернула его:
— Толя, что ты говоришь, что здесь может быть чудного — это же кладбище!
Но он, будто не слыша, опять повторил:
— Какое место!
Как будто сам себе его выбрал.
«УЧИСЬ КРАСОТЕ»
Валентина Голод была очень большим моим другом, несмотря на огромную разницу в возрасте. По силе и самобытности характера эту женщину можно сравнить с Лилей Брик или Мурой Будберг, «железной женщиной». В ней удивительно сочетались эксцентричность, аристократизм, тонкость, широта, энергия и авантюризм. Если прибавить к этому собственные ее фантастические рассказы о прожитой жизни, получился бы увлекательнейший роман. Она была одним из самых известных коллекционеров в Ленинграде, своеобразным питерским достоянием. В свое время у городских властей даже родилась идея сделать из ее квартиры музей быта Петербурга XVIII века. Идея не осуществилась, и это, по-моему, к лучшему, ибо главной достопримечательностью квартиры была сама хозяйка, без нее все показалось бы лишь жалкой декорацией.
Хотя о светской жизни в советские годы речи быть не могло, по сути своей Валентина была именно светской женщиной. Происходила она из боярского рода Сомовых, с детства свободно говорила по-французски, по-немецки. Родственники ее жили и живут во Франции. Она так много придумывала о своей юности, что ее образ был окружен мифами. В паспорте стоял год рождения 1905-й, но мне она рассказывала:
— Ты же понимаешь, ребенок, что меня специально папа состарил, чтобы меня не забрали в лицей.
Многие считали, что лет ей гораздо больше. Но по мне даже 1905 года было вполне достаточно. Когда Валентина родилась — никому точно не известно, умерла в 1999 году. Факты ее биографии путаются: в рассказах ее присутствовали и Железноводск, и Баку, и Ленинград, и Париж. После ее смерти в бумагах была найдена фотография малышки с надписью: «Вале — 1 годик. 1899 годик». А на Серафимовском кладбище обнаружили удивительную деталь: рядом с памятником мужа — плита, на которой выбито: «Валентина Голод. Родилась в 1916 году, умерла — …». Плиту Валя заготовила заранее. Валюша вообще обожала мистификации, густо опутывая ими всю свою биографию.
Володя знал ее задолго до нашего знакомства и, приезжая в Питер, часто к ней заходил. В частности, всегда советовался с ней, прежде чем купить какую-нибудь антикварную вещь. Особенно хорошо она разбиралась в бронзе, стекле, меньше — в живописи. Когда мы познакомились с Володей, он пригласил меня на свой концерт в Ленинград, предупредив, что накануне концерта мы пойдем в гости к одной его подруге. «Ты увидишь, какой это дом». Привел меня в дом на углу Некрасова и Восстания, в совершенно разбитый ленинградский двор, где полностью сохранилось ощущение, что бомбежки были вчера. По обваливающейся лестнице поднялись на второй этаж. Дверь открыла женщина. Мне даже не пришло в голову тогда гадать о ее возрасте. Прямая, как струна, высокая, с очень короткой стрижкой (волосы рыжие), на высоких каблуках, в длинном бордовом платье марокканского силуэта. Когда мы вошли в прихожую, она приблизилась ко мне, чтобы рассмотреть. Лукаво взглянула на Володю:
— Боже мой, какой «угод», — она очень смешно картавила. В этой интонации слово «урод» было взято в очень жирные кавычки.
Я совершенно обомлела от убранства гостиной. Павловская мебель красного дерева, коллекция изумительных миниатюр на стене, бесподобная дворцовая люстра рубинового стекла с перьями из жемчужного бисера. Много позже я знала квартиру наизусть и могла сама водить по ней экскурсии. У Вали было две комнаты, коридор, тамбур перед спальней, который она называла «переходик», и кухня. Все сделано ею «от» и «до»: цвет стен, обоев, шторы, подбор ткани. Как она умела создавать нечто из ничего — отдельная история. Она стала накрывать на стол: красное богемское стекло, нарядная скатерть, серебряные приборы. Володя сказал:
— Смотри и учись красоте.
Мне был 21 год.
Хозяйка дала мне разложить вилки, и когда они вдвоем с Володей удалились на кухню, я услышала ее заговорщицкий шепот: «Немедленно женись, говорю тебе». Тут я поняла, что меня привезли на смотрины. Я потом шутила, что Володя привел меня на экспертизу, как раньше, прежде чем купить, приносил скульптуру или вазочку, чтобы Валентина сказала — стоит брать или нет. Так это и происходило: ей приносили вещь, она внимательно ее рассматривала и говорила: «Берем».
Мы сразу подружились. Настолько, что в день нашей свадьбы Володина мама, верная себе, не присутствовала на бракосочетании, но Валентина прилетела из Петербурга в юбке выше колена, на очень высоких каблуках, в идеальных капроновых чулках. На свадьбу она привезла мне шесть бокалов рубинового стекла. К сожалению, все уже давно разбились — она сама учила меня, что вещами надо обязательно пользоваться. Тетка-регистраторша в ЗАГСе решила, что одна мама — моя (мы очень похожи), а Валентина — мать Спивакова. Все к ней кинулись с восторгом и криками: «Какой у вас сын! Спасибо вам за вашего сына!» И она согласилась считать нас своими детьми. Мы так и называли ее — нашей петербургской мамой.
Валентина была трижды замужем, часто говорила мне:
— Ребенок, у меня было три мужа и куча любовников.
Еще она говорила, что долгие годы нанизывала мужчин, как бусы на нитку. Произносила это легко, так что звучало не вульгарно! Я никогда не задумывалась, сколько ей было лет, потому что она казалась моложе многих моих подруг — по образу мышления, по взглядам на жизнь. У нас была одна знакомая, юная женщина замужем за пожилым человеком. Она была так внешне старомодна и придерживалась настолько устаревшего стиля, что Валя, старше ее лет на тридцать, безуспешно призывала:
— Ниночка, душечка, да срежьте вы наконец эти букли к чертовой матери.
Незадолго до ее кончины друг Валентины Сергей Осинцев устроил в ее честь бал в Юсуповском дворце. Мы как раз оказались в Питере, но на бал не попали в тот вечер у Володи был концерт. Валюша же сообщила мне по телефону:
— Доча, представляешь, какая чушь! Чтоб устроить побольше шуму, по городу распространили слух, что мне 100 лет и бал — в честь этой даты. Чушь какая! К тому же там будет показ мехов, и я должна пройтись в шубе. Неудобно отказать, но предлагают демонстрировать шиншиллу, а я всю жизнь ненавижу этот мех!
Валентина учила меня, как накрывать стол, как одеваться. У нее были невероятные украшения — все считали, что это драгоценности от Фаберже, а они были сделаны по ее собственным эскизам. Часто к старому бриллиантовому кольцу она подбирала гарнитуры из фианитов или к старинному натуральному сапфиру сапфиры, искусственно выращенные. Все на ней смотрелось будто из Эрмитажа.
Последний муж Валентины Наум Голод был знаменитым художником Театра Ленинского комсомола. Говорят, у него были золотые руки. Она находила остов от люстры, рисовала ему эскиз, а он подбирал детали — и люстра готова. Сама она чем только не занималась: во время блокады снимала кинохронику, работала художником-оформителем витрин в Гостином дворе.
Часто Валюша хитрила. Она была настолько креативна, что отрыв на какой-то барахолке перламутровую коробочку на ножках без крышки, она вначале обтягивала ее изнутри голубым шелком, затем находила в своих запасах (у нее было множество запасов — накладочек, пуговиц, вышивок) накладочку, расчихвостив перламутровый кошелечек, делала из него крышку, которую мастера в Эрмитаже обрамляли бронзой с тем же рисунком, какой был на ножках, из какой-то запонки делала замок. И в итальянскую книгу о ее коллекции эта шкатулка попала как подлинная вещь XVIII века. А создавался раритет при мне. И был не единственным «воссозданным» шедевром. У нее была пара каменных зверушек от Фаберже. Потом она накупала к ним явного новодела. Чтобы подколоть, кто-нибудь спрашивал ее, старинные ли это вещи.
— Какая разница, — отвечала Валентина, — главное, чтобы было красиво.
Она всегда покупала по принципу «нравится — не нравится». Коллекция миниатюр, развешенная по стенам, у нее была самая крупная, совершенно фантастическая. Она была председателем Общества ленинградских коллекционеров.
Я думала: неужели ей не страшно жить в одиночестве? А она перед сном подходила к камину и гладила, целовала мраморного пупса на каминной полке. В этих предметах заключалась ее душа. Она всегда учила меня определять вещи. Например: как узнать, хорошая бронза или плохая? Погладить ладонью: если мягкая, ласковая — хороша, если колется — гадость!
При Валиной любви к старине она открыла немало молодых художников, ходила по мастерским, откапывала таланты, начинала их пропагандировать. Она первой увлеклась стеклянными яйцами, которые делали петербургские мастера. У меня благодаря ей собралась немалая коллекция. Представители аукциона «Сотбис» как-то приехали в Ленин-град и увидели в ее квартире эти яйца всех цветов (а она еще умела все расставить так, что каждая вещь выглядела уникально, коллекционно). Валя открыла прекрасного резчика камей Петра Зальцмана. Сейчас он живет в Лондоне, и у него покупают изделия королева и фирма «Cartier». Тогда он был никому не известен и Валя, взяв его камею «Летний сад», побежала к Б. Б. Пиотровскому в Эрмитаж и убедила, что надо немедленно купить у художника его уникальную работу. Ее слушались. Она была авторитетным нештатным консультантом самых солидных музеев.
Дружба ее была властной и ревностной. Иногда меня это тяготило. Однажды Валентина не на шутку обиделась на меня, узнав, что я собираюсь родить второго ребенка. Как же так, терять свою жизнь ради детей. Для нее детей не существовало — это был здоровый эгоизм. Сама была счастлива, что у нее нет детей! Хотя меня всегда называла дочкой.
У нее на кухне на ярко-красных стенах были развешены картины современных художников — Овчинникова, Белкина. От одной работы Белкина, «Маскарад», я сходила с ума. Увидев написанный им портрет одной своей приятельницы, я стала специально приезжать из Москвы позировать. Помню, как происходили сеансы: Валя не оставляла нас ни на секунду. Как заказчик, она восседала рядом с мольбертом, первой смотрела на холст. Дыма она не выносила, и художнику каждые десять минут приходилось выбегать покурить на лестничную клетку. Она диктовала все: глаз не такой, нос не этот. Портрет получился именно таким, каким должен был быть, поскольку художника все время отвлекали. Мне вообще не везет с портретами. Очень хороший армянский художник рисовал мой портрет, и в ночь перед тем, как он должен был его закончить (оставалось нарисовать только глаза), мой папа получил первый инфаркт. Я так и не пошла больше в мастерскую, мне было страшно: на мольберте стоял портрет, где было все мое — волосы, овал лица, брови, красное платье, а вместо глаз — провалы.
Валентина относилась ко мне с ревнивым вниманием:
— Что ты наденешь? А что я надену? Накрась мне глаза, научи, как это делается.
Когда долго не выезжала за рубеж, говорила:
— Ребенок, что-то я поизносилась, мне пора в Париж.
Когда кончались духи «Опиум», начиналась трагедия.
От нее исходил поразительный заряд молодой энергии. С ней можно было говорить обо всем. Однажды мы с ней находились вдвоем в нашей парижской квартире, когда один поклонник прислал мне огромный букет, штук пятьдесят, темно-вишневых роз. Я довольно холодно отреагировала — ну прислал и прислал. Но что творилось с Валей! Она ликовала, расценивала это как свою собственную победу. Расставляла цветы по вазам, восхищалась:
— Посмотри, какая красота! Как я люблю, когда ЗА НАМИ ухаживают!
Как-то раз в Ленинград приехал Морис Дрюон с женой. Получилось, что два дня я была их гидом. Обаяла я его рассказом о тех килограммах макулатуры, трудов Брежнева и Ленина, которые я сдала, чтобы прочитать его «Проклятых королей». Валя Голод устраивала у себя прием в его честь и пригласила Собчака, который сказал, что, если будет Сати, он обязательно приедет. К тому моменту мы уже подружились и питали друг к другу нежные чувства. После спектакля в Мариинском театре мы отправились к Валентине, а он появился со своими заместителями после какого-то телеэфира. Все ели блины с икрой, я переводила, и Анатолий Александрович вдруг сказал Валентине:
— Правда, Сати прелесть?
И Валя, обычно мной восхищавшаяся, промолчала. Когда Собчак уехал, я поняла, в чем дело:
— Тебе не кажется, что это хамство, когда за столом сидят три женщины, делать комплименты одной?
В этом была вся Валя.
Валентина умирала несколько раз, и каждый раз воскресала, как птица Феникс. Однажды пришли ее грабить. Она никому не открывала, а тут вдруг открыла какой-то юной девочке, которая якобы производила перепись населения, пережившего блокаду. А за дверью кроме девушки был еще молодой человек, ударивший Валю по голове. Неопытные грабители не учли, что в дальней комнате находилась домработница, а Валя, падая, схватилась за кнопку сигнализации, связанную с милицией. Их взяли сразу.
Лет за десять до смерти у нее обнаружили раковую опухоль, она лежала в больнице, где к ней пришел врач с «предложением»:
— Вы смертельно больны. Хотите умереть без боли и мучений? Завещайте мне картину Рокотова — и я сделаю для вас все.
У нее действительно был уникальный Рокотов. Валентина обещала:
— Я подумаю, голубчик.
Сама же быстро умудрилась связаться с другом, созвонившимся с ее родственниками во Франции, сделала — в те годы, лежа в больнице! — себе визу, ее на носилках довезли до самолета, вывезли в Париж, прооперировали, и оказалось, что огромная опухоль была доброкачественной. Она прожила еще десять лет. Врач в Петербурге намеревался ее просто убить.
Что касается наследства, Валентина немножко сама себя перехитрила. Вокруг нее ходили хороводом все музеи — Павловск, Петергоф, Гатчина, Эрмитаж. Все надеялись, что она завещает коллекцию одному из музеев. Она же без конца переписывала завещание. На ее вопрос: «Ведь мое последнее завещание действительно, а предпоследнее нет?» — ее нотариус отвечал: «Валентина Михайловна, в вашем случае я бы ставил на документах час». Как-то я приехала в Питер, ей было так плохо, что мне казалось, я с ней прощаюсь.
— Ребенок, принеси мне верхний ящик моего комода, — попросила она.
Там хранились все ее драгоценности. Тяжеленный ящик красного дерева лежал у нее на коленях, и Валя, взяв в постель зеркало, примеряла серьги. Обсуждала, с чем сочетается то или иное колье, как надо бы подправить третье. Мне показалось, что и на этот раз она выкарабкается. Потом она позвонила мне в Москву с просьбой забрать ее портрет в овальной раме. На этом портрете она изображена молодой с голыми плечами и недописанной рукой. Художник умер, не закончив портрета. Она всегда говорила, что хочет завещать нам этот портрет, потому что знала, что коллекцию растащат, а портрет за ненадобностью выкинут. В результате она умерла, когда нас не было в России. Несмотря на то что все знали о нашей ближайшей дружбе с Валентиной Михайловной, о ее кончине нам никто не сообщил. Может, боялись, что на правах ближайших друзей мы станем претендовать на что-то из ее коллекции. Кроме пары мелочей, подаренных при жизни, у меня не осталось ничего. Жаль только тот портрет.
Ленинградские чиновники предлагали устроить аукцион из тех вещей, которые не являлись музейной ценностью — стилизованных драгоценностей, безделушек, то есть оценить их в комиссионном магазине и выставить на продажу. Тот, кому это дорого, пусть покупает. Но я отказалась покупать вещи Валентины Михайловны за ту цену, которую назначит комиссионный магазин. Кому досталась вся ее уникальная коллекция — неважно. Говорят, что все по описи сдано в хранилище.
Теперь, когда ее не стало, Петербург без Валентины для меня опустел. Я приезжаю и понимаю, что нет больше моей маленькой квартиры на Восстания.
Для меня так странно, что я больше не наберу ее телефон и не услышу:
— Доча, ты где, когда ты приедешь?
В последние годы она очень сдала, но по-прежнему держалась. Плохо видела, поэтому пудрила нос в три раза больше, чем надо, все равно оставаясь женщиной.
— Говорят, что жемчуг оживает на коже молодых девушек. Какая чушь. Посмотри, у меня за два месяца он уже сияет, — говорила она, встречая меня в ночной рубашке с ниткой жемчуга на шее.
Я так и вижу ее сидящей у стола красного дерева, раскладывающей свой пасьянс.
В последний раз, когда я позвонила ей, трубку поднял участковый, охранявший квартиру:
— Валентина Михайловна в больнице.
Я позвонила в больницу, она говорила очень слабым голосом. На вопрос, что ей привезти, ответила:
— Клубнику. — И добавила: — Со сливками.
Прощаясь в больнице, я понимала, что больше мы с ней не увидимся.
В Париже Валя жила у меня в комнате с белыми стенами. Мы вечерами, выпив красного вина, читали друг другу стихи. Причем у Вали была масса стихов собственного сочинения. Когда она уезжала, я проводила ее до машины, а потом, вернувшись, нашла на кухне записку с ее стихами:
Вы забыли, вы, верно, не помните, Мы вчера еще были на «ты», В нашей маленькой беленькой комнате Не боялись вдвоем темноты. А теперь мне так скучно под золотом Бесконечного яркого дня. Мы на две половины расколоты: Я без вас, но и вы без меня.ПЕЧАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ СВАДЬБА, КОТОРУЮ Я НЕ ПОМНЮ
Первое свидание мой будущий муж назначил мне 19 апреля у памятника Пушкину (Спиваков тоже не всегда оригинален). С тех пор мы всегда празднуем эту дату, а не день свадьбы, который не заслуживает того, чтобы заострять на нем внимание. Недавно вспомнили, что из тех, кто был на нашей свадьбе, кроме моей мамы и моей двоюродной сестры, осталось совсем немного друзей. Как говорят: «Иных уж нет, а те далече». С нами до сегодняшнего дня только Гриша и Аня Ковалевские. Моя двоюродная сестра Таня больше чем сестра, чем подруга. Мне повезло — нечасто люди имеют такую родную сестру, как моя Татьяна. С годами Танино присутствие стало мне необходимо, как воздух.
Даже моего папы на свадьбе не было. Мы с Володей решили пожениться срочно, я была на третьем месяце беременности Катей. До этого Спиваков все медлил. Он бы рад был жениться, но его мама считала, что артист должен быть свободен и вообще не родилась еще та, которая достойна ее гениального сына. В этом случае мама неоригинальна, и я была не первой в такой роли. Незадолго до своей смерти моя свекровь передала мне фотографии свадьбы Володи с первой женой. Раньше она мне боялась их показать, не зная, как я отреагирую. А мне они безумно дороги. На одной из них на обороте написано: «Вовочка женился в 20 лет в отсутствии родителей». Это весьма характерно.
На нашей свадьбе Володина мама все-таки присутствовала — не в загсе, а уже дома. Предложение Володя сделал мне по телефону: он позвонил из Сибири с гастролей, и я сказала ему, что в ГИТИСе у меня прошло предварительное распределение, на меня пришел запрос из Ереванского театра русской драмы, куда я и собиралась отправиться работать. Через два месяца я заканчивала институт, оставаться в Москве не могла из-за прописки. Я ненавидела это слово, так как одним из доводов людей, меня не принимавших, было то, что я, дескать, как каждая вторая провинциалка, любой ценой хочу выскочить замуж за москвича. А я не хотела, так как знала, что в Ереване, имея багаж московского театрального образования и четыре главные роли в кино, буду одной из первых актрис своего поколения. Я была уверена в себе, понимая, что в Армении у меня будет все: театр, телевидение и киностудия «Арменфильм».
— Никуда ты не поедешь. Ты останешься в Москве, я хочу, чтобы у нас была нормальная семья, — сказал Спиваков по телефону. — Детали обсудим.
Мы выбрали майский день, когда Володя оказался проездом в Москве. Мой папа был на гастролях в Югославии.
— Подумаешь, свадьба — это формальность. Приедет твой папа, мы все вместе посидим, — убеждал меня Володя.
Теперь уже я думаю, может, действительно свадьба — это формальность, особенно когда вслед за пышной свадьбой люди с годами отдаляются и нередко еще «пышнее» разводятся. Но теоретически, имея такую возможность, надеюсь «отыграться» на свадьбах своих дочерей. Чтобы было все как положено: кольца, фата, длинные платья. Разве что маршем Мендельсона могу пожертвовать.
Вообще свадьба наша получилась скомканная. Директор «Виртуозов Москвы» Роберт Бушков, в те годы руководивший всей творческой и личной жизнью Спивакова, имевший генеральную доверенность на все, в том числе на женитьбу и развод, сказал мне при подаче заявления:
— Нечего тебе менять фамилию.
Видимо, он был уверен, что этот брак продлится недолго. Но я очень любила Роберта Бушкова и верила ему. Он был моим взрослым другом, мне обидно, что в жизни мы разошлись. Он называл меня «Сатисфакция». Единственный тост, который произнес на свадьбе этот солидный, сильный человек, не нашедший других слов, звучал так:
— Ну, будем все здоровы.
Вообще, все сидели притихшие, боясь вспышки гнева родственниц жениха.
Перед свадьбой мы с Володей поехали в лесочек рядом с нашим домом на Юго-Западе и фотограф Гена Андреев сделал несколько снимков: получилось черно-белое фото, по жанру — что-то в стиле «Рабы любви».
Еще от свадьбы у меня осталось воспоминание: когда открывали шампанское, пробка рванула так, что облило картину Григорьева, висевшую на стене. Ее пришлось реставрировать, а пятна на потолке сохранились до нашего переезда.
ЛИЗА
Когда мы только стали встречаться, Володя познакомил меня со своей мамой. Помню первый ужин у нее и как она внимательно на меня смотрела. И, гладя меня по руке, говорила:
— Я счастлива, что Вовочка встретил такую девочку. Какие у тебя красивые руки…
В общем, ощущение мгновенной, легкой победы, блестяще сданного экзамена не покидало меня весь путь назад домой. Мы ехали по ночной Москве, светила огромная круглая луна, хотелось, чтобы так было всегда. Горько это сознавать, но очень скоро все изменилось.
Володя будто бы стеснялся своих чувств и на мои вопросы отвечал уклончиво:
— Не думай, что маму так легко покорить. У меня еще есть сестра — это совсем другое. Она скоро вернется с дачи… Это очень непросто…
— Да что непросто? — недоумевала я.
А он знал. И не мог, не хотел меня огорчать. С возвращением Володиной сестры Лизы все действительно «скисло»: мама очень сухо говорила со мной по телефону, Лиза вообще наотрез отказывалась со мной общаться. Я сделала попытку, шаг навстречу: приехала к ней, попросив выслушать меня, уверенная, что при желании все можно понять. Но у Лизы желания слушать меня не было. Дверь захлопнулась. Я словно проснулась после недолгого счастливого сна.
Папа всегда учил меня: прежде, чем осуждать, попытаться встать на позицию оппонента, «влезть в его шкуру» и понять мотивы его действий. Короче, представить, что ты — это он. Суть Лизиного неприятия самого факта моего существования — в обстоятельствах ее жизни. Долгие годы она была не замужем, Володя — не женат. Если прибавить к этому, что с детства они были обожающие друг друга брат и сестра, что Володя называл ее в письмах «любимая кукла моего детства», что многие годы в его жизни не было женщины важнее и ближе, ей показалось, что я отнимаю у нее брата. Ей было тридцать, Володе — тридцать восемь. Никакие доводы, что брат влюблен и хочет наконец попытаться во второй раз создать семью, ее не убеждали. А моя наивная уверенность, что она может, не теряя брата, обрести во мне сестру, — тем более. Горько, но весь этот конфликт, принимавший подчас уродливые, экстремальные формы, длился восемнадцать лет с небольшими паузами. Например, когда Лиза вышла замуж и ждала ребенка, мы вдруг начали общаться. Я тоже ждала вторую дочку. Лизина Саша родилась 18 января, моя Таня — 19 апреля. Помню, как держала на руках ее трехмесячную Сашеньку за пару дней до Танечкиного рождения…
Перескачу через все эти годы, многие из которых сейчас больно вспоминать, потому что ничего нельзя исправить. Потому что ее больше нет. Лизы нет. Она умерла 24 июля прошлого года. Умирала долго, мучительно… Мы вновь начали общаться только в последние месяцы ее жизни, когда я знала, что она уходит. А она чувствовала, но, конечно, не хотела до конца верить и боролась, как могла.
Мы общались в эти месяцы как с чистого листа, никогда не вспоминая прошлого, не говоря о серьезном, скользя над обидами, уклоняясь от объяснений… Но бывают несказанные слова, которые врезаются в память, оставляя там метки. Всякий раз в это жаркое, сумасшедше красивое парижское лето, проделывая путь до ее больницы за рулем автомобиля, я мысленно говорила с Лизой, понимая, что никогда не произнесу этих слов вслух. Я сожалела о тех невозвратимых годах, испорченных враждой, глупыми амбициями, сожалела об издерганных нервах единственного любимого человека — моего мужа и ее брата. Я мысленно утешала ее, умоляя быть сильной. И еще, поднимаясь на лифте в госпитале и подходя к дверям ее палаты, старалась «сделать лицо», чтобы она не прочла в моих глазах все, что я уже знала от врачей. Мне хотелось кричать от бессилия, хотелось даже, чтобы снова воцарилась вражда — пусть она меня ненавидит, но только не надо умирать, не сейчас, не так! Мне хотелось говорить всем вокруг, как надо беречь друг друга. Ведь все мы — сильные, смелые, решительные, полные убеждений, гнева, веры, нашей правды, — в сущности, такие ранимые и крошечные перед лицом смерти. Лиза, как же так случилось, что мы прожили восемнадцать лет, так и не узнав друг друга?! Когда-нибудь, может быть, я смогу написать обо всем поподробней. Сейчас еще рано, все это слишком свежо и очень больно. Лизино лицо все время стоит у меня перед глазами…
Ее Сашке четырнадцать лет, как и моей Татьяне. Может, Господь дал мне возможность восполнить пробел длиной в восемнадцать лет через Сашу, через мое с ней общение? Не знаю. Но когда в день Лизиной кончины Саша, которую я не видела семь лет, спросила, буравя меня серыми Лизиными глазами:
— А ты будешь любить меня, как мама?
я почувствовала, что теперь у меня четыре дочки, что она — мой ребенок и люблю я ее так же, как и моих дочерей. Знаю, когда-нибудь Сашенька все это поймет. «Времени надо дать время» — как говорит французская пословица.
МУЗЫКА, ВИТАМИНЫ И НИ КАПЕЛЬКИ НЕФТИ
Иегуди Менухин всегда был для меня мифом. Дело в том, что у папы было два бога — Хейфец и Менухин. C детства помню их фотографии у нас в книжном шкафу за стеклом. Знакомство с Менухиным было для меня равноценно знакомству с живым Пикассо или Лоуренсом Оливье. Впервые я увидела его в Москве, когда Менухин приезжал на концерты в 1987 году. Помню, как они вдвоем с Викторией Постниковой вышли на сцену — он такой маленький, сухонький, а она — пышная и крупная, с длинными волосами. Она вела его под руку (он тогда неважно ходил, хотя всю жизнь был по натуре живчик, занимался йогой, стоял на голове, прыгал). В зале тогда кто-то сострил: «Пукирев. „Неравный брак“». Потом, когда Менухин играл концерт Баха для трех скрипок с Игорем Ойстрахом и Валерием Ойстрахом, придумали еще одну ужасно злую шутку. Менухин тогда выступал после инсульта, из-за которого вскоре перестал играть вовсе: тряслась правая рука, и он не мог ровно вести смычок. «Шутка» звучала так: «Концерт для отца, сына и Святого духа».
А спустя год мы, приехав в Мюнхен, остановились в отеле «Four Seasons», где жил и Менухин. Папы моего тогда уже не было в живых, а его кумир ужинал с нами в ресторане отеля. Я помню это невероятное ощущение, что сам Менухин сидит рядом со мной. Я совершенно потерялась. Нам подали черный рис — такой длинный, неочищенный. Я впервые его видела и к блюду даже не прикоснулась. Иегуди говорил на всех языках — немецком, английском, польском, французском и даже русском, поскольку у него были русские корни. И он меня по-русски спрашивает:
— Ты это не ешь? Можно я его возьму? Обожаю черный рис.
Когда я увидела Менухина, который «клевал», наклонившись набок, черный рис из моей тарелки, помню, у меня перехватило горло от ощущения, какая я счастливая: сам Менухин ест из моей тарелки черный рис!
Пути Спивакова и Менухина часто пересекались. Первая встреча произошла очень давно, когда Спиваков играл концерты в пользу школы Менухина. Концерт этот запомнился тем, что Володя накануне сломал палец на ноге (счастье для скрипача — сломанный палец на ноге, а не на руке), потому весь концерт он играл, стоя в одном ботинке, другая же нога была забинтована. Потом они оказались вместе в жюри конкурса Паганини в Генуе. Менухин, будучи председателем жюри, прилетел ко второму туру. После утреннего прослушивания он позвал Спивакова и предложил пройтись:
— Пойдем погуляем, покушаем, а заодно ты мне расскажешь, что тут происходит, кто интригует. Тебе я доверяю.
Во время той прогулки он то и дело заходил в магазинчики в поисках фляжки для виски, как потом выяснилось, для любимой жены.
В 1992 году Иегуди приехал и выступил на фестивале Спивакова в Кольмаре. И сразу же Володя объявил, что следующий фестиваль в 1993 году будет в честь Менухина. Накануне они с Башметом играли в Страсбурге «Симфонию-концертанте» Моцарта, Менухин дирижировал. Юрий Рост сделал потрясающие фотографии, и перед тем, как он начал снимать, Иегуди закричал:
— Подождите, я должен причесаться, моя Дайана не любит, когда я непричесан.
Его любовь с Дайаной была необыкновенной. Она написала о нем блестящую книгу «Подруга скрипки», одни из лучших мемуаров, которые я читала. В этой паре роли распределялись так: она — больная, он — здоровый. У нее были проблемы с бедром, легкими, сердцем, позвоночником. В отелях Дайана либо спала, либо выходила со своей неизменной фляжкой виски, опираясь на трость. Дайана в молодости была балериной, еще во времена Нижинского танцевала в Дягилевских балетах. Стройная, сухая, с ярко накрашенными губками, несколько резкая, но в то же время — ужасно правдивая. Когда я говорила ей комплименты по поводу ее книги, она ответила так:
— Я написала ее, чтобы читать было забавно. Надо писать легко. Что вспоминать о том, как у меня умер ребенок, которого я родила? Кому это интересно, кроме меня? Не хочу, чтобы меня жалели.
Она вспоминала, как Менухин всегда говорил, что его первая жена была его первой ошибкой. И заключала:
— Надеюсь, что я не стала второй.
Он ее обожал, бегал за ней, семеня. Когда она приехала на фестиваль в Кольмар, он, до того ласково общавшийся со всеми, охотно раздававший автографы, агрессивно реагировал на любые попытки остановить его, если он шел с Дайаной.
Есть замечательная история о том, как они однажды проходили паспортный контроль и она написала в графе «профессия» — «раба». На вопрос пограничника:
— Мадам, что вы написали, как это понимать? — она гордо и недобро ответила:
— Раба! Вот мой муж. Разве можно быть женой этого человека, женой скрипача, и не быть рабой?
В финале кольмарского фестиваля Спиваков придумал сюрприз: они с Менухиным сыграют пьесу Гершвина. Иегуди сказал Володе:
— Я не могу играть, я давно не занимался, у меня дрожит рука.
Но Спиваков был непреклонен, он достал Менухину скрипку, ноты, и они начали репетировать. Каждый день они приходили в наш номер, садились в ванной, плотно закрывали двери, надевали сурдины и, чтобы никто не услышал, начинали готовить свой сюрприз. Наконец на третий день, достигнув определенного совершенства, они перешли в маленькую комнату, где Володя располагался на кровати, Иегуди — на стуле. И вдвоем они продолжали колдовать над партитурой.
Концерт, в котором Менухин в последний раз играл на скрипке, к счастью, снимало наше телевидение. Пьеса Гершвина называлась «Somebody Loves Me» «Кто-то любит меня».
Что безумно подкупало в нем — Иегуди был способен открыто, щедро, откровенно восхищаться чужим талантом. Он сознавал свое величие и понимал, что он был за скрипач. Когда ему что-то не нравилось, был жесток, мог сказать, что это отвратительно. Но когда видел талант, пусть даже небольшой, то не скупился на похвалы. Когда Менухин говорил: «Marvelous! Fantastic!», он дарил человеку крылья. То же сейчас я вижу в моем муже, и меня это восхищает.
Я вышла замуж за молодого, яркого, блестящего скрипача, представителя своего поколения и героя своего времени, но вот на последнем фестивале в Кольмаре Лоран Корсиа, новая французская звезда, сказал:
— Так уже никто не играет.
Мне было приятно, но и взгрустнулось — Спивакова уже ассоциируют с другим временем. Молодые дышат в спину, а он этого в принципе не боится. Володя внутренне человек абсолютно свободный и поэтому великодушный. Он, например, не боится выйти на сцену дирижировать Вадиму Репину — первому скрипачу нового поколения, глубокому, стильному, тонкому, виртуозному, с идеальным вкусом.
Иегуди был великодушным, широким, простым. Да, он знал, что он гениальный скрипач и плохой дирижер.
— Я не дирижер, — говорил он, — я просто не могу жить без музыки. Я выхожу на сцену, потому что мне необходимо общаться с музыкой.
Мне же было очень обидно, когда я замечала в оркестрантах, даже в «Виртуозах Москвы», которых Володя старался правильно настроить, пренебрежение к Иегуди как к дирижеру. К примеру, ни один из оркестров, приглашенных на юбилей Ростроповича, не хотел играть с Менухиным. А ведь когда этот человек выходил на сцену, от него исходил свет. И какое счастье было присутствовать при этом! Он действительно был как Святой дух — что-то вроде голубя, которого изображают на чаше.
Я помню, как Менухин всегда восхищался постановкой рук Спивакова. У Володи действительно уникальная постановка правой руки, об этом все говорят. Как-то в Москве Спиваков играл Пятый концерт Моцарта, дирижировал Менухин. И вот в каденции, помню, Володя тянет ноту — он может тянуть сколько угодно, — но даже у него смычок «кончается», а Иегуди стоит за пультом, смотрит завороженно и никак не дает вступления оркестру. Потом он сказал Володе:
— Ты меня прости, я засмотрелся — как это ты так ведешь смычок, что он получается у тебя таким длинным? Я так не могу.
В Кольмаре на фестивале солисты готовятся к выступлению в часовне за собором Святого Мэтью, где проходят концерты. Как-то раз Менухин меня сильно напугал — зайдя перед концертом в часовню, я увидела, что он лежит на полу прямо у подножия распятия. Оказалось, он расслаблялся по-йоговски. В другой раз я застала его скачущим — это была разминка. Иегуди вообще очень следил за своим здоровьем и всегда пил витамины — В12, B6, С, Е. Специальные, швейцарские. Как-то за ужином он ужаснулся:
— Володя, ты не пьешь витамины? Подумай о себе и своих детях.
На следующее утро Менухин уехал и оставил нам в рецепции письмо, сохранившееся у меня, и пакет со всеми своими витаминами, которые нельзя нигде купить, кроме Швейцарии и Лондона. Он всегда писал первую фразу по-немецки: «Lieber Volodya», затем следовал текст по-английски или по-французски, а заканчивал по-русски: «Целую, твой Иегуди». В письме были подробные пояснения, какой витамин, когда и сколько надо принимать — до обеда, после обеда и так далее. У меня сохранилось еще одно его письмо, которое он написал Бернадетте Ширак с просьбой помочь семье Спивакова с французскими документами. Это было еще до нашего отъезда в Испанию. Я не отправила его, а после смерти Иегуди нашла в бумагах. То, как он написал о Володе, говорит об их удивительном взаимопонимании.
Вообще, Менухин был человеком парадоксальным. Он мог быть глубоким и игривым, реалистом и мечтателем, философом, поэтом, только не ханжой и не занудой. С ним никогда не бывало скучно. Помню, его однажды спросили:
— О чем вы мечтаете?
Он ответил:
— Я мечтаю, чтобы на планете не осталось ни капли нефти, человечество платит за нее слишком дорого.
Последний раз мы встретились в круизе, организованном Андре Борошем, основателем фестиваля в Ментоне. Володя участвовали в нем семь раз. «Музыкальный круиз» по Средиземному морю проходил на корабле «Мермоз». На сорок первом круизе, после смерти Андре, все прекратилось. Публика там собиралась очень богатая, любящая классическую музыку, в возрасте от пятидесяти до ста двух лет. На каждой второй дамочке там была надета «Оружейная палата», и за те деньги, которые публика платила за круиз, «артистов подавали в меню». Сначала недолгий, неутомительный концерт, потом ужин по всем правилам французской гастрономии, потом снова концерт и вечерняя тусовка на палубе. Днем, если артист рискнул выйти к бассейну, его облепляли старушки. Но этот круиз дал нам множество друзей на последующие годы жизни, а также мы посетили много стран, куда просто так поехать нет времени. Марокко, например, куда я с тех пор очень хочу вернуться. Но корабль был такой старый, что сейчас его отогнали в какой-то порт и переделали в казино. Все испытывают по этому круизу сильную ностальгию.
И с Менухиным в последний раз мы виделись именно там. Дайана болела, он приехал один. На стоянке в Греции в античном амфитеатре концерт Мендельсона играл французский скрипач Давид Грималь. Был ветер, ноты куда-то уносились, в первом ряду на стуле перед всеми сидел Менухин. Играл скрипач средне, а потом подошел к маэстро и спросил его мнение. Менухин пригласил его к себе в каюту и разнес в пух и прах. Давид вышел красный и возмущенный. Но если сам Менухин говорит: «Здесь плохо, а здесь катастрофа», — скрипач должен быть счастлив — у него есть к чему стремиться. Как можно было этого не ценить?
На другой день Менухин дирижировал, а Володя играл концерт, который состоялся во время остановки корабля в Венеции в знаменитой церкви Скуола Сан-Рокко, где все фрески написаны Тинторетто. Менухин сказал в тот день:
— Володечка, ты играешь как ангел!
Это был мистический день: жара, туман как молоко, так что ничего не видно в двух шагах, и при этом льет горячий дождь. Менухин всегда отправлялся на концерт уже одетым, в лакированных туфлях с репсовыми бантиками, в темном или светло-голубом смокинге, белой рубашке и бабочке. Нам подогнали вапоретто, мы с Иегуди сели позади, а Володя — впереди, так как он всегда волнуется и его лучше не отвлекать. Темная вода, дождь, туман — и мы вдвоем с Менухиным на сиденье в закрытой гондоле. Спрашиваю:
— Иегуди, ты волновался когда-нибудь, только правда?
— Ни-ког-да, — отвечает мне Менухин. — Я жил нетерпением наконец выйти на сцену, вынести скрипку, начать играть и чувствовать это единение с музыкой и публикой. Я никогда не волновался, у меня всегда было ощущение счастья, что я доживу до той секунды, когда смогу выйти и начать играть.
Его тонкий резной профиль словно светился на фоне темной плещущейся воды. Таким я и храню его в памяти. И очень по нему скучаю.
«ПОТОМУ ЧТО Я — БЕРНСТАЙН!»
Впервые Володя играл с Бернстайном в начале восьмидесятых годов в Зальцбурге. В день рождения Моцарта они играли его концерт. Сначала Спивакова долго не выпускали на фестиваль, не давали визу. Помню, он просидел в министерстве культуры до часа ночи в ожидании паспорта. Пил чай то с вахтером, то со сторожем. Паспорт привезли только ночью после звонка от Бернстайна. В конце концов Володя все же уехал.
Вернулся он безумно воодушевленный, привез аудиокассету с записью и рассказывал, что его потрясло, как репетировал Бернстайн. Сначала пришел послушать Володину репетицию с пианистом. Старого концертмейстера Бернстайн останавливал во вступлении несколько раз. Пианист робко заметил, что он же не оркестр и не ему играть на концерте. Но Бернстайн заявил, что он не может слышать такого вступления, поскольку это его раздражает. Володя жутко перенервничал, ожидая, что же будет, когда начнет играть он сам. Но Бернстайн слушал его внимательно, закрыв глаза, практически не останавливая. Волнение отступило, потому что он почувствовал: Бернстайну понравилось.
Они стали разбирать темпы, началась первая репетиция с оркестром. В одном месте Бернстайн спросил, почему Володя так тихо играет тему. Володя ответил, что хотел бы слышать гобои. «Интересная мысль, надо записать (а при нем всегда сидела куча ассистентов, один с полотенцем, другой с партитурой, третий с карандашом), выделите, пожалуйста, пианиссимо».
Потом в финале Бернстайн попросил солиста сыграть какие-то безумные штрихи — всё наоборот. В перерыве Володя спросил маэстро, почему. Тот ответил: «Because I am old and my name is Leonard Bernstein». Володя знал, что он-то сыграет, но что оркестр может не потянуть. И действительно, когда дело дошло до финала, в оркестре началась полная неразбериха. Бернстайн заявил:
— У меня все получается, у солиста — тоже, значит, у вас тоже должно было получиться, господа.
Возражений никаких не возникло.
Концерт, видимо, был редкий и незабываемый. Когда я дала послушать запись своему папе, он, слушая, плакал и сказал:
— У тебя гениальный муж, я только боюсь, что он все разменивает себя.
Мой отец считал, что Володе нужно больше выступать соло, нежели придумывать всякие смешные штучки с «Виртуозами Москвы». Он, конечно, был прав.
Володя с Бернстайном очень подружились, никогда в жизни он не чувствовал себя на сцене с дирижером так комфортно. «У меня было ощущение, что расправились крылья и я парю, как птица. То есть я набрал высоту и просто лечу. Так звучал оркестр, такие были аккомпанемент, атмосфера и настроение, что я не играл, а парил. Меня посетило такое ощущение счастья и одновременно отчаяния, что я прибежал в артистическую, заперся и плакал. Когда я немножко успокоился и закончилось второе отделение, пришел Бернстайн. Он сказал мне слова, которые я даже сам себе не могу повторить — мне неловко повторять то, как он охарактеризовал мою игру».
Володя попросил Бернстайна подарить ему что-нибудь на память. Маэстро стоял с дирижерской палочкой. И он отдал ее Володе:
— Может быть, пригодится.
Это обыкновенная палочка, с нее облезает белый лак, пробковую ручку Володя, вовсе не мастеровитый человек, много раз подклеивал. Ей уже 17 лет. И Володя с тех пор всегда дирижирует палочкой Бернстайна.
Потом они встречались неоднократно, музицировали. Когда «Виртуозы Москвы» в конце восьмидесятых гастролировали в Израиле, Бернстайн, бывший там же, пришел на репетицию и обещал, что они обязательно сделают что-нибудь вместе с Володиным оркестром.
Я же познакомилась с Бернстайном совсем незадолго до его смерти в 1989 году. Мы были в Нью-Йорке с маленькой Катей, которая, как водится, заболела. У нее поднялась высоченная температура. Вечером Бернстайн дирижировал в Линкольн-центре оркестром Нью-Йоркской филармонии, и нам оставили билеты. Мы в последние минуты бежали под дождем на концерт, благо было недалеко.
Не могу забыть того ощущения электричества, которое исходило от Бернстайна-дирижера — какое-то свечение, электрический ток от кончика палочки, от спины, от жеста. Я такого никогда не встречала, мне даже казалось, это плод моей фантазии. Мне доводилось видеть многих мастеров, каждый из которых был по-своему уникален: Лорин Маазель, Клаудио Аббадо, Евгений Светланов, Юрий Темирканов. Но в Бернстайне было что-то магическое. Казалось, что спина гуттаперчевая, без позвонков. Любой жест был самой музыкой, которая исходила из кончиков пальцев, палочки, спины. В программе были «Ромео и Джульетта» Прокофьева и Чайковского, «Франческа да Римини» Чайковского.
Мы пошли за кулисы. К Бернстайну стояла длинная-длинная очередь. Я выглянула из-за чужих спин и увидела человека в майке, с полотенцем на шее, в ковбойских сапогах, с бокалом виски. С каждым он обстоятельно разговаривал. Сразу пахнуло родным Большим залом Консерватории. Он — из тех артистов, которому приятно общение после концерта. Видно было, что не все визитеры знакомые. На Западе такое нечасто встретишь, даже считается неприличным. Максимум — придет парочка своих людей. Когда наши иностранные знакомые стесняются зайти к Володе после концерта, я порой даже настаиваю: если к артисту после концерта никто не зашел, это очень тяжело пережить.
Подошла наша очередь. Бернстайн не знал, что Володя женат. Поэтому на меня даже не взглянул поначалу. Притянул к себе Вову, стал его обнимать, потом схватил за руку, целуя тыльную сторону ладони, приговаривал: «Gold hands». Я стояла и думала, как жаль, что нет фотоаппарата. Тут Володя представил меня:
— Ленни, познакомься, это моя жена.
Бернстайн скривил мину, посмотрел оценивающе, разочарованно спросил:
— Ты разве женат?
Володя предложил ему сыграть большой концерт. Тот отказался:
— Видишь, какая у меня подагра на руках?
Действительно, суставы были изуродованы болезнью. Он стал покусывать эти шишки, приговаривая:
— Видишь, какая гадость? Давай так: в первом отделении я дирижирую — ты играешь Моцарта, во втором — наоборот. И еще что-нибудь придумаем.
Хотели сделать это в Вене, в Зальцбурге. Но вскоре Бернстайн умер.
Мы вышли из зала, перешли под дождем площадь и отправились в китайский ресторан. Я помню то ощущение блаженства и счастья, когда ты понимаешь, что этот момент с тобой останется навсегда. Что это не просто посиделки, дружеский ужин, а что-то особенное. Разговор, естественно, шел о музыке. Бернстайн говорил только о музыке — его ничего больше не интересовало. «Моя религия это музыка», — говорил он о себе. Теперь эта площадь в Нью-Йорке, этот квадрат, который мы пересекали практически под одним зонтом, носит его имя. Он присматривался ко мне (я тогда еще очень неважно говорила по-английски):
— Как тебя зовут?
— Сати.
— Что такое Сати, это связано с Эриком Сатэ?
— Нет, сокращенное от армянского имени Сатеник.
— А что такое Сатеник?
— В переводе означает янтарь.
— Володечка, ты не зря на ней женился.
Ведь Бернстайн — в переводе янтарь.
Для меня эта встреча незабываема. Для Володи же, я знаю, из всех музыкальных встреч эта была номер один по значимости и по полученному заряду. Володя вовсе не фетишист, это мне больше свойственно привязываться к дорогим мне предметам и возить их за собой. Но палочка Бернстайна, палочка с патиной времени для Володи талисман. Если он не может ее найти, начинается дикая паника. Намоленная палочка.
ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Знакомство наше происходило постепенно. Володя много исполнял произведений Родиона Щедрина, они дружат и любят друг друга давно. В начале восьмидесятых «Виртуозы Москвы» в увеличенном составе сыграли «Кармен-сюиту». Потом они исполняли в концертном варианте «Даму с собачкой» во Франции на фестивале. «Виртуозы» играли, Майя танцевала. В спектакле всегда присутствовала собака (шпиц), и с ней на сцене было немало хлопот. Собака постоянно убегала и однажды рванула за кулисы. Майя, пританцовывая, пошла за ней, поймала собаку и стала гулять с ней между музыкантами, как между кустами.
Кто-то может позволить себе называть ее «Умирающего лебедя» вечно живым лебедем — люди любят низвергать богов, смеяться над бывшими кумирами. Меня же всегда восхищают талант и то, как человек умудряется побеждать время. Плисецкой вообще дано связывать воедино прошлое и настоящее. Рядом с нами существуют еще проводники былого. Если вспомнить, когда Майя начинала танцевать и уже была королевой, — это же совершенно другая эпоха. Есть фотографии Плисецкой с Шагалом, Спесивцевой.
Я схожу от нее с ума, когда ее вижу. Я знаю, сколько ей лет, но не могу осознать этого, когда с ней общаюсь. Она настолько женщина, женщина во всем нежная, вздорная, сексуальная, скандальная — разная. Я понимаю, как она кружила головы, как в нее влюблялись. На фотографиях Ричарда Аведона она настолько хороша, что, кажется, с такой улыбкой она могла бы и не танцевать вовсе. Необыкновенная ее шея, осанка, стать создают поразительный контраст с какой-то сермяжной правдой, присущей ее натуре. Для меня она — существо эпохи Ренессанса. В ней заключена необыкновенная гармония. Как и для человека Ренессанса, для нее важны физическое здоровье, любовь, красота. Ни в одной балерине нет такого эротизма, как в Майе. Французы называют это «чувственным эротизмом».
Майя может быть резкой и в то же время очень нежной и трогательной. Она редчайший бриллиант, которому место в Алмазном фонде. Заработав для России немало славы и денег, Майя никогда не была меркантильной. Многие годы они живут в Мюнхене в съемной квартире. Скромная обстановка, масса книг и нот, на кухне — клееночка в желтую клетку. Быт Майю, в принципе, никогда не волновал. Как-то к ее дню рождения я купила картинку Эрте, понравившуюся мне в Дрюо, балеринку в розовом платье. Майя отреагировала своеобразно:
— Начну наконец собирать живопись. У меня нет никаких коллекций.
Майя — человек абсолютно не от мира сего. Они с Щедриным обожают свой дом на хуторе в Литве, в Тракае. Там она ходит в сапогах по грибы, сама их солит. А в Москве — квартира, о которой я все время вспоминаю, когда слышу сюиту, написанную Щедриным для «Виртуозов». Одна часть в ней называется «Тараканы по Москве». Он писал, наверняка думая об этом доме на Тверской напротив гостиницы «Минск». Дом роскошный, но насквозь весь прогнивший, с теми самыми тараканами.
Всю жизнь Майя живет только своим делом. Вне балета ее ничего не интересует. Лет двенадцать назад мне довелось стоять в кулисе, когда она танцевала «Лебедя». В принципе я знаю, что балет — искусство, которое смотрят издали. Вблизи, по идее, смотреть нельзя. Видишь не красоту, а работу тяжелое дыхание, пот, слышишь стук пуантов. Так вот, на выступлении Майи в Париже в театре Пьера Кардена «Espace Cardin» я стояла буквально в пяти метрах от нее. Меня потрясло, что вблизи я не увидела швов. Линии плавно перетекали одна в другую, один жест предварял другой. Все казалось просто, движения были рассчитаны, не было ничего лишнего. Ее танец настолько чист, что его можно смотреть с любого расстояния.
Потом мы стали чаще видеться. Она прилетала с Щедриным на исполнение «Музыки для города Кетена». В этот период она вдруг оказалась не звездой Майей Плисецкой, а женой композитора Щедрина, чем очень гордилась. Не знаю, какова была их семейная жизнь на протяжении многих лет, но все те годы, что я их наблюдаю, мне кажется, они абсолютно дополняют друг друга. Щедрин — отдельная история. Это мудрая, взвешенная личность. Майя — пламя, а он, наверное, вода. Вода сильнее всего, она точит камень и тушит пламя. Мне кажется, у Майи есть какой-то комплекс по поводу того, что в России Щедрина слишком часто называли мужем Плисецкой. Ее восхищение Родионом, как она называет его Родей, безгранично. За мужа она готова перегрызть глотку. Он действительно неординарный. Его партитуры можно вставить в рамку и повесить на стенку такой красоты и стройности написанное им от руки. Это даже не почерк, а каллиграфия. Щедрин настолько красиво укладывает музыку на бумаге, что этим любуешься.
С Майей у меня была неделя близкой-близкой дружбы. Бежар пригласил ее в Париж в 1995 году танцевать в балете по японской легенде «Курасука». Майя выступала с его труппой и Патриком Дюпоном. Приехав, она сразу позвонила. Только что вышла ее книжка по-французски. Майя не говорит ни на одном языке, кроме русского. Была очень возмущена тем, как в «Галлимаре» издали книгу весь тираж был плохо сброшюрован. К ее приезду приурочили презентацию книги, а она переругалась со всеми — не так перевели, не так склеили, не ту фотографию поставили. Она просила меня прочесть на французском. Я всю ночь сверяла, переведено было шикарно. Тут она успокоилась.
Я стала ходить к ней на репетиции. Понимая, что мне с ней безумно интересно, она тоже не хотела со мной расставаться. Родион в Париж еще не прилетел. По окончании репетиции мне надо было идти в школу за старшими дочерьми, и Майя вызвалась пойти со мной.
— Майечка, вы устали.
— Нет, а что мне делать, я в Париже одна, знаю весь Париж, но никуда не хожу, потому что не говорю по-французски.
И я иду с ней в школу и думаю: «Надо же, Майя Плисецкая идет со мной забирать детей из школы». В осеннем пальто, в ботиночках, ноги наверняка болят. Встретив девочек, возвращаемся домой. Майя говорит:
— Танька — моя, ноги шикарные, отдавай в балет.
Катьку же, старшую, наоборот, сразу отбраковала. Забегая вперед, скажу, что у старшей сейчас ножки хоть куда! Потом ей понадобилось зайти в косметический магазин за ночным кремом. У меня неподалеку маленькая парфюмерная лавка. Куча народу, на нас никто не обращает внимания. Майя, потеряв терпение:
— Ты им скажи, пожалуйста. Я этого никогда не делаю, но ты скажи, что обо мне написано в сегодняшнем номере «Фигаро». А я пока сяду.
Они страшно засуетились — пришел большой клиент. Мы вышли с огромной сумкой. Майя взяла все предложенные кремы Эсте Лаудер. Меня тронуло, что эта женщина, которая, по идее, может позволить себе все, что душа пожелает, смутившись, предупредила меня:
— Ни слова мужикам о том, сколько все это стоило. Договорились?
Вернулись домой довольные, она попросила меня подписать на коробках по-русски, что когда мазать — утром, вечером, под грим, смывать и так далее. Наутро, обсуждая давешние покупки:
— Майя Михайловна, по-моему, мы все славно купили?
— Да, крем потрясающий.
— Вы думаете, они все-таки действуют?
И тут она сказала:
— Знаешь, лицо как газон. Бывает старый, но ухоженный, а бывает старый и неухоженный. Вот и думай, что лучше.
Она — богиня. Но в работе — ученица. Жалуется:
— Мне так неудобно в этом парике, да еще с золотой пудрой на лице.
Предлагаю:
— Скажите Бежару, что вам неудобно в парике, хотя пудра — очень эффектна.
— Чтобы я Бежару сказала, что ты, он же постановщик! Думаешь, сказать? А может, не надо? Пойдем к нему, переведешь? Но, с другой стороны, говорить Бежару, что мне что-то не нравится в его постановке, не могу. Не буду говорить.
Придя ко мне в тот вечер, мы славно поужинали: отбивные, салат, красное вино. Позвонил Родион: любовное объяснение на час, сетования на парик, жалобы, опять любовь. Майя, разговаривая, прилегла на мою кровать. Я отошла вымыть посуду, а когда вернулась, обнаружила, что она спит. Сложила ножки в ботиночках и спит. От самого сознания, что великая Плисецкая спит на моей кровати, подступили слезы. Я осторожно накрыла ее пледом. Потом она проснулась и говорит:
— Как мне твоя Танька нравится. Дай-ка я ей подарю свои пуанты.
И вытащила из сумки, а у нее всегда с собой куча ее балетных туфель, тапочки, в которых она танцевала «Чайку». И надписала их. Теперь они у нас в семье хранятся.
Ту неделю мы с ней не расставались. Я пошла с ней к Кардену. В молодости он, видимо, был страстно в нее влюблен. И вот мы сидим у него в ресторане, Карден осыпает Майю комплиментами: «Divine! Magnifique!» А она только улыбается:
— Что он мне сказал? Переведи!
Элегантность в ней потрясающая, врожденная. Что бы она ни надела — черный свитер и черные брюки, все будет хорошо.
— Зачем мне парикмахерская, я сама покрашу волосы.
В другой раз прихожу к ней в гостиницу, а у нее фотокорреспондент из «Фигаро» — молоденькая девочка в клеенчатых штанах, которая хочет снять ее в свитере с широкими рукавами в движении. Майя кружится, взмахивает руками, а та снимает. А Майя все кружится и, улыбаясь, говорит мне:
— Ты представляешь, как у нее жопа вспотела в этих штанах. Ну можно в таких ходить?
В один из вечеров Карден пригласил нас в «Максим». Майя обязательно хотела, чтобы я пошла с ней, поскольку приехал русский продюсер, который собирался снимать фильм о царе Федоре Иоанновиче, и ей хотели предложить роль царицы. И вот Майя после генеральной репетиции, быстро собравшись, как гимназистка, побежала со мной в «Максим». К счастью, Карден сразу раскусил, что эти «известные артисты» и «продюсеры» были обыкновенными русскими проходимцами. Но ужинать все-таки пришлось. Я не знала, как Майю оттуда увести, когда напившиеся продюсеры нависли над ней: «Пиши автограф: Петру Ивановичу». Она оказалась такой беззащитной.
К счастью, на другой день приехал Родион: приближалась премьера балета Бежара. Перед спектаклем она говорила:
— Конечно, там будет весь Париж. Всем же интересно посмотреть, что я в свои годы еще могу!
Когда надо сыграть звезду, тут Майе нет равных! Она входит и делает свой неповторимый жест!
А тот замечательный эпизод, когда Володя с ней танцевал на концерте в консерватории! Никто ни о чем не догадывался. Щедрин просто позвонил сказать, что они будут на концерте. И Володя поинтересовался, где они сидят. Их места оказались в шестом ряду. Когда он объявил бис — «Прогулку» Гершвина — и спрыгнул в партер, я перепугалась. Он любит иногда найти в зале знакомого и начать свою игру. Я этого жутко боюсь. (Однажды он пошутил со мной, так я чуть не лишилась сознания. Я сразу столбенею, становлюсь тупой, неостроумной. Мы как-то опаздывали на поезд, а он играл на бис польку Штрауса «Тик-так», в ней есть такая пауза, где как будто тикают часы. И вдруг в этой паузе Спиваков обращается ко мне со сцены: «Сатюш, уже пора? Мы что, опаздываем на поезд?») Когда он свернул в проход не в мою сторону, а направо, у меня от сердца отлегло, и я услышала, как он говорит: «Майечка, потанцуем?» Но как она нашлась! Встала, не спеша, царственно, поплыла и даже продирижировала финалом.
Она выходила на своем творческом вечере в Большом театре в платье от Кардена с зеленым поясом, которому, как она потом мне призналась не без гордости, тридцать лет. Представляете, тридцать лет в одном весе! Что меня в Майе покоряет — она живет в режиме балерины, оставаясь абсолютно нормальным человеком. Сказала мне как-то поразительную вещь:
— Я всю жизнь была лентяйкой, очень мало танцевала. Может быть, поэтому я себя и не износила. Молодые балерины затаскивают свое тело до изнеможения. Я не докручивала фуэте, ну и что? И балетов я могла станцевать гораздо больше. В молодости я себя страшно за это ругала.
Еще она колоссальная актриса. Ее Бетси в «Анне Карениной» — потрясающая. И в фильме «Вешние воды» Эфроса, и в фильме «Чайковский» у нее отличные роли. В чем заслуга Майи? Она всегда стремилась расширить свои возможности, понимая, что не дотанцевала свое, а биологический, эмоциональный возраст ее был гораздо моложе физического. Благодаря союзу Плисецкой и Щедрина в XX веке родились «Кармен-сюита», «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» — целый балетный репертуар!
А еще Майя открыла мне один из своих маленьких женских секретов: редкие духи «Бандит». Когда-то эти духи ей подарила Эльза Триоле. С тех пор Плисецкая душится только ими. Теперь «Бандит» нельзя найти практически нигде, кроме нескольких магазинов в мире. Но у меня до сих пор хранится флакончик, подаренный Майей. Аромат их столь же неповторим и незабываем, как и она сама.
ТРИ СКОРЛУПКИ УМЕНЬЯ, ПЯТЬ ЛАДОШЕК ВДОХНОВЕНЬЯ
Когда мы только начали совместную жизнь с Володей, по Москве пошел шум. Моя свекровь — человек словоохотливый интенсивно обсуждала свои радости и печали с подругами и знакомыми. Главной темой было (помимо того, что я «актерка из Армении») то, что я не умею готовить. «Вы представляете, она же актриса, студентка! У Вовочки недавно была язва, Света (имелась в виду Светлана Безродная, с которой Спиваков перед этим жил лет семь в гражданском союзе) — изумительный кулинар. Я была спокойна! А теперь он попадет в Боткинскую, она же ему устроит заворот кишок. Она ведь ничего не умеет готовить!»
Это была правда. Мои бабушки никогда не подпускали меня к плите. Я могла плюхнуть на сковородку яичницу-глазунью — и только. Но надо было пытаться, и первое свое блюдо не забуду никогда. Я решила сварить мужу бульон. Что может быть проще, казалось мне. Купила курицу, запихала в кастрюлю, залила водой. Когда Володя пришел домой, к ужину был подан густой бульон синего цвета. Я не выпотрошила курицу! Следующий опыт — приготовление котлет. Навертела мяса, слепила котлеты и пожарила. А он взял их с собой в поезд. Представляю, как потешались музыканты: снаружи котлеты были жесткие и пригорелые, а изнутри сырые.
Помогать мне по хозяйству приходила старушка Нюра, которую в свое время нашел еще отец Володи Теодор Владимирович. Маленькая сухонькая Нюра в молодости работала такелажницей, поэтому даже в старости таскала ящики, переставляла мебель. Она шикарно готовила, и первые кулинарные уроки я получила у нее. У Нюры не было рецептов — все приблизительно, на глаз, я так и готовлю до сих пор.
— Значить так, — говорила она, — берешь три скорлупки воды, щепоть соли, пять ладошек муки.
Она научила меня печь блины. Сейчас все, включая детей, стонут: «Когда ты испечешь блинчики?» Она научила меня готовить котлеты по-настоящему, взбивая фарш. Затем были еще освоены щи-борщи, рагу, оладьи, кулебяки и тефтели. Я была уверена, что научусь готовить лучше всех, даже… Светланы Безродной. Видимо, в генах моих это сидело. Обе бабушки готовили великолепно, толкаясь и покрикивая друг на друга на узкой ереванской кухне.
Постепенно я изучила пристрастия Володи и довольно быстро это все освоила. Похоже, что на свою голову, ибо теперь он отказывается ходить в рестораны. В поездках вынужден это делать, но зато во время отпуска отыгрывается. Обычно на юге Франции, где мы отдыхаем последние годы, все живут так: днем закусывают на пляже, а ужинают в приморском ресторане. Я даже представить себе этого не могу. Допустим, пойдем куда-нибудь, а Володя вместо довольного причмокивания заявляет: «Рыбу ты готовишь в тысячу раз лучше, а картошка эта с твоей не сравнится». Мне, конечно, приятно. Но весь отпуск стоять у плиты…
Во Франции не принято, чтобы хозяйка готовила сама: когда гостя приглашают на обед домой, это означает совершенно исключительное к нему отношение; а я действительно все делаю сама. За восемнадцать лет пришли навыки быстрой готовки. Единственное, чего не умею, — печь пироги и торты (Спиваков их и не ест). Впрочем, может быть, научусь.
У меня есть свое меню, которое я варьирую. Вообще-то, главное — не четкое соблюдение по бумажке всех позиций, а импровизация и вдохновение. Когда-то мне предлагали сделать книгу рецептов. Но для этого надо точно знать, сколько граммов чего класть, а я не знаю. Валю на глаз. Я свободно «общаюсь» с армянской кухней, русской, мексиканской, средиземноморской — французской, итальянской, испанской. Люблю смешение стилей. Честное слово, получается очень вкусно.
СУХОЙ ПОРОХ
Есть люди, наделенные даром превращать в праздник каждую проведенную рядом с ними минуту. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская — из их числа. Знаю, эти два необыкновенных человека достойны отдельной главы каждый — и все же не могу даже мысленно их разделить, представить одного без другого. Слава и Галина — целая планета, и мне посчастливилось на ней бывать.
Оглядываясь назад, поражаюсь, как много в нашей с Володей жизни связано с этими людьми!
Несмотря на резко негативное отношение Мстислава Леопольдовича к любому упоминанию его имени в российской прессе и на телевидении в последние несколько лет, я все же осмелилась сделать о нем передачу, свою маленькую телезарисовку на канале «Культура». Кроме всего прочего, я решила, что коль скоро появилась такая возможность, я выскажусь относительно хамства и вседозволенности нашей «великой музыкальной критики». После чего немного получила от Славы по мозгам в телефонном разговоре, но, как писала великая Цветаева, «от тебя и хула — похвала». На Славу невозможно обижаться. Ведь знать, просто знать, что он есть и что можно ему позвонить и, если повезет, застать его дома, услышать в трубке: «А-а-а, Сатишенька, привет!» — уже великое счастье.
Слава и Галина сыграли в моей жизни важную роль, особенно когда у меня с Володей сложились трудные взаимоотношения, как это, наверное, бывает в любой семье: каждая супружеская пара в определенный момент проходит через кризис. Часто рядом не бывает людей, которые могут дать настоящий совет, напутствие и, исходя из личного опыта, не принимая ни одну сторону, увидеть главное. Как ни странно, такими людьми оказались именно Ростропович и Вишневская, а ведь, на первый взгляд, наши проблемы не должны были их волновать. Но когда слухи понеслись быстрее событий, первыми, кто отреагировал, были Слава и Галина. Это, видимо, их свойство — мгновенный, реактивный ответ на события, будь то мир или отдельная семья. Так же он вскочил и улетел в Москву во время путча, не задумываясь о последствиях, о том, что будут говорить, о том, нужно ли его появление в Белом доме, о том, как перенесет это его семья. Он действовал, повинуясь интуиции. Обостренная интуиция — одна из характерных черт гениальности, она исходит от высшего разума. Так же и тут: в период нашего разлада многие близкие мне люди отстранились, праздно наблюдая, вычисляя будущие события. А Ростроповичи появились сразу, звонили нам обоим: Слава пытался по-мужски, по-отечески советовать Володе и переживал, Галина сразу приняла сторону женщины. Она как-то сразу меня встряхнула. А с Володей долгие годы была на ножах: с ее точки зрения, он вел себя не по-мужски. И высказала это, как только она может высказать, Галина Павловна орала по телефону так, что Слава часто потом со смехом говорил, когда впоследствии она звала нас в гости:
— Что ж ты их зовешь? Ты так на него наорала, я не представляю, как он после этого придет.
В этом вся Галина. Она очень конкретная, у нее четкие позиции по отношению к людям.
Если Ростропович в силу чувствительности натуры способен поддаться влиянию или хотя бы внешне пойти на компромисс, чтобы не обидеть кого-то (не знаю, случается ли ему действовать по принципу лжи во спасение, но он может попытаться обойти острый угол, чтобы смягчить какую-то ситуацию), то Галина прямая. Она не поддается никакому влиянию.
За это многие ее не любят. Она может быть резкой. Но знаю, когда трудно, первой, как ни странно, рядом будет Галина Павловна. Без лишних слов.
Раньше, когда я оказывалась в Париже в одиночестве, Галина часто приглашала меня к себе, мы долго сидели вечерами, говорили, и каждый раз я выходила от нее с необыкновенным зарядом энергии, интереса к жизни, ощущением соприкосновения с огромным миром. Как личность Галина Павловна — гигант.
Не было бы Вишневской, не было бы, наверное, сегодня того Ростроповича, который есть. Не надо забывать, что у нее была в России блестящая карьера. Думаю, она была единственной настоящей примадонной в советском Большом театре. Никогда не забуду, как она однажды обронила:
— Что хотела моя левая нога — то в Большом театре и делали. Хотела я поменять цвет костюмов, потому что мне не нравилось, как они сочетались с обивкой мебели в спектакле «Травиата», — меняли.
Когда они пришли расписываться в загс, все знали, что она — Вишневская, а фамилию Ростропович никак не могли правильно записать.
Помню, как-то раз, придя к ней вечером, я застала Галину в очень приподнятом настроении. Она усадила меня в маленьком кабинете на диван и сказала:
— Хочу дать тебе послушать запись со спектакля «Аида» в Большом театре мне это раздобыли в архивах Радиофонда.
Это была запись 50-х годов спектакля с блестящим составом: Мелик-Пашаев, Лисициан, Вишневская, Анджапаридзе. Галина надела на меня наушники и удалилась. Я просидела почти два часа как завороженная. Особенно меня потрясло то, что запись была живая, не для диска, без купюр. Как она пела! Надо это услышать, чтобы понять. Когда, прослушав, мы с Галиной сели ужинать, как обычно, погруженные в мягкую тишину и приглушенный свет ее парижской столовой, она посмотрела на меня лукаво и как-то грустно:
— Ну?! Обалдела? Кто сейчас так поет в Большом? Я сама не представляла даже, что могла так петь! Славе тут сказала: «Сядь, пожалуйста, найди полчаса, сядь и послушай певицу, которую ты раньше часто слушал и очень редко слышал!»
Я понимаю, насколько ей было сложно принять решение об отъезде. Она поступила, как может поступить только великая женщина, не думая о том, что приносит жертву. Она не высчитывала. Просто видела, что ее гениальный муж находится в России в творческой резервации, становится жалким, лишен элементарной работы. Видела, как его не пускают на сцену, отчуждают от музыки, от оркестра, начинают травить. Она поняла — надо действовать.
Вишневская оставила сцену в самом расцвете: «Никто никогда не вспомнит моего творческого заката». На Западе многие иностранцы, не видевшие ее в Большом театре, воспринимали первым делом его — как гения, жертву тоталитарного режима и борца за права человека. А она стала просто «мадам Ростропович». Для такой артистки и певицы, как Вишневская, это было непросто, но она выдержала все с огромным достоинством. Мало кто знает, что первые контракты на Западе и первые заработанные там деньги были ее. Уже потом развернулась его грандиозная концертная и дирижерская деятельность. У меня к Галине Павловне необыкновенная любовь, почитание и в чем-то преклонение. Она человек вовсе не княжеских кровей. Но у нее железная воля, и в ней есть то, что называется «порода». Она невозможно, царственно красива. Глаза изумрудные.
С Ростроповичем у меня связан замечательный эпизод. Он наконец решился приехать к нам на фестиваль в Кольмар, причем выступил там совершенно бесплатно. Помню, после «Хованщины», которой он дирижировал в Большом театре, на приеме он расчувствовался, обнял нас и говорит:
— Ребятки, я вас так люблю. Черт с вами, приеду я в этот ваш Кольмар.
Мы думали, сгоряча пообещал и забыл. А он никогда ничего не забывает. Через неделю мы встретились в Париже:
— Я вас жду завтра в восемь утра. Посмотрим планы, поймем, какой день у меня свободен.
Энергия у него совершенно необыкновенная. Недавно признался:
— Стал стареть, мне теперь для того, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно хотя бы часа три ночью поспать. Раньше я мог вообще не спать ночами. Я ловлю кайф, когда наступает утро, солнце вот-вот взойдет, а у меня постель неразобранная — это значит, что пока все спали, я прожил эти часы — успел позаниматься, почитать, что-то написать.
Росторопович может до трех ночи пребывать в обществе, а в восемь утра встретить вас — свежий, в рубашечке с жилеточкой, дающий интервью. Его жизнь рассчитана по минутам. В голове — компьютер. В кабинете — полнейший бардак, в котором он один может разобраться. В эту святая святых он никого не пускает. И чемоданы свои он собирает только сам. На специальных подставках стоят три раскрытых чемодана — в Америку, Японию и, предположим, Лондон. Во время разговора с вами он встает, вспоминает что-то, бежит, достает пару галстуков, партитуры, закидывает это все в один из чемоданов. Потом возвращается. Вскоре снова вспоминает, что надо добавить в другой чемодан.
Итак, Ростропович приехал в Кольмар на двое суток. Все настолько перед ним благоговели, что боялись к нему подойти. Ехал он на машине с тогдашним послом России во Франции Юрием Алексеевичем Рыжовым, замечательным нашим другом. Торжественно вернул мне билет, который мы ему выслали:
— Видишь, я вам сэкономил на билете.
Позвонила Лена — отцу срочно нужно для страховки сделать анализ крови. В семь утра я, договорившись в лаборатории, поехала с ним. Хозяин медицинской лаборатории приоделся, привел жену в полном макияже, детей, дымились горячие булочки и кофе. Медсестра на нервной почве никак не могла попасть в вену.
— Лапуля, ты меня коли, не бойся.
Они попросили его прислать диск, Ростропович взял адрес и прислал! Он не забывает мелочей. И дарит такое тепло, что люди сразу начинают считать его своим другом и называть Славой. После концерта, когда спрашивают, где найти Славу, Галина часто шутит: «Идите на звук поцелуев».
После анализа крови он попросил меня отвезти его куда-нибудь постричься. Молоденькая заспанная парикмахерша его не узнала. Я сидела рядом, наслаждаясь историями, которыми он фонтанирует. К сожалению, ни одну не могу припомнить, осталось только ощущение неземного счастья. Она быстро его постригла, взяла с нас 78 франков, денег у Славы не было, заплатила я, но он потом всунул мне их со словами:
— Еще не хватало, чтобы я за твой счет стригся. Ты меня, пожалуйста, не унижай.
А девушка до сих пор так и не знает, кого она стригла!
По мере приближения концерта Ростропович становился все серьезнее и серьезнее. Днем у него была репетиция, потом мы вернулись в гостиницу за какими-то бумагами. У него в номере у кровати лежал целый иконостас маленькие иконки, которые он повсюду возит с собой.
— Ты знаешь, как играл на виолончели мой отец? Некоторые вещи, которые я помню, я никогда не смог сыграть так, как он!
Часа за полтора до начала я отвезла его на концерт. Ему принесли подиум, он отметил, где вставлять шпиль. Потом сел разыгрываться в часовне за собором, где проходят концерты. Принесли чай.
— Не уходи, посиди еще, — попросил он.
— Почему вы такой бледный? Вам нехорошо?
— Нет-нет, я просто волнуюсь.
— Вы волнуетесь? Не может быть! Вы что, боитесь?
— Да, я очень боюсь. Чем дальше, тем больше и больше. Я боюсь плохо играть.
— Вы не можете плохо играть!
— Могу, и к сожалению, иногда приходится этим пользоваться. А я не хочу этим пользоваться, давать себе спуску.
— Отчего же вы волнуетесь?
— С каждым годом все труднее отстаивать свое имя, и мне стыдно перед композитором, даже пусть это будет Гайдн.
Это было сказано так искренне, без грамма позерства, без пафоса, без всякого наигрыша. Я понимала, что в этот момент где-то между ключицами у него клокотал страх выйти на сцену и сыграть не так и что он не хочет себе этого позволять. В момент выхода на сцену гений подобен простому смертному. Мне кажется, как бы он не играл сейчас, суть не в том, чтобы сыграть пассаж блестяще, как двадцать лет назад. У него бывают такие вспышки и откровения, что понимаешь: человек говорит в этот момент с Богом. Никому не удастся так играть на виолончели, заставить ее так звучать, что ты чувствуешь, как погружаешься в нирвану. Когда он играет Баха, он как бы выстраивает вокруг себя невидимую стену, и эта стена отделяет его от зрителей. Он играет «Сарабанду», а мне кажется, что из его темечка выходит луч прямо в небо. За одно его выражение лица, за звук, которым он играет Баха, можно все отдать.
После концерта в Кольмаре, часа в три ночи после ужина, он сказал Володе фразу, которая показалась мне очень важной, поскольку ее сказал его старший друг Слава:
— Старик, оркестр, «Виртуозы» — это замечательно. Но прежде всего ты скрипач. Я хочу посоветовать тебе: держи порох сухим. Чтобы в «кармане» всегда было несколько готовых концертов. И что бы ни случилось, разбегутся твои оркестранты или нет, ты мог бы играть концерты. Взял в руки скрипку — и поехал. И тебе никто не нужен.
Это был главный совет Ростроповича — Спивакову.
С тех пор я заходила к нему после концертов со словами:
— Мстислав Леопольдович, а порох-то сухой.
— Сегодня подсушил, — отвечал Слава.
Наутро, очень рано я зашла за ним перед завтраком и застала его моющим ванну в номере.
— Ты хочешь, чтобы пришли горничные и сказали, что Слава Ростропович русская свинья? — парировал он мои аргументы, что скоро горничная все приберет.
Еще помню, как в 1991 году он приехал на Первый Сахаровский конгресс в Москву. И сразу с самолета — в Большой зал на репетицию. Это было его первое выступление с «Виртуозами». Сверху из окна артистической было видно, как он бежит от памятника Чайковскому и катит виолончель. В пристройку Большого зала, где проходила репетиция, набилось очень много народу. Слава был в ударе. Шел процесс репетиционного кипения. Он что-то пел, дирижировал. В перерыве сказал мне:
— Сбегай принеси мне чего-нибудь пожрать, иначе мне некогда — нам с Вовцом еще пахать и пахать, а заодно (тут он вынул из сумки абсолютно скомканный фрак и рубашку) — отгладь.
Мне не привыкать гладить фрак. Одним больше, одним меньше. Дома были приготовлены котлеты и грибной суп. Я побежала домой (благо мы жили тогда напротив БЗК на улице Неждановой). Отгладив моим дорогим артистам фраки, брюки и рубашки (всё в двух экземплярах) и обвесившись сумками с термосом, кастрюльками и элементарной посудой, мы с моей подругой Леной понеслись назад в зал. В артистической толпились фотографы и телевизионщики. Спиваков нервно брился, Слава схватил банку с супом, не обращая внимания на мои попытки сервировки:
— Лапуля, не разводи мне тут ресторан — тарелочки, салфеточки…
У меня сохранилась фотография: Спиваков бреется, Ростропович рубает суп из банки, а я в середине — молоденькая, расфуфыренная, но совершенно обалдевшая.
Забавных эпизодов со Славой связано множество. Одна история произошла во время знаменитого музыкального круиза. Был концерт в Греции, в амфитеатре в Дельфе. Играл польский оркестр, очень слабый, с венгерским дирижером — просто никаким. Слава шел на репетицию очень печальный. Комментировал:
— Он меня сейчас будет втягивать в себя, делать клизму по-йоговски. Ты не знаешь, что такое клизма по-йоговски? Йог садится голой жопой в лужу и усилием воли втягивает в себя воду.
Тогда родилась идея в этот слабейший оркестр внедрить музыкантов-солистов. Это был уникальный случай. Все артисты, присутствовавшие на корабле, дружно сели в оркестр поддержать Славу. Эксперимент удался. Оркестр зазвучал колоссально! На третьем пульте первых скрипок сидел Спиваков, на втором пульте альтов сидел Башмет, на втором у флейт — Рампаль, Стерн и Аккардо сидели на вторых скрипках, гобоист Бург тоже на третьем пульте… С такой «группой поддержки» Слава сыграл в тот раз концерт Дворжака.
Ростропович не может играть хорошо или плохо. Ростропович — гений. К таким, как он, должны быть применимы иные мерки. Это счастье — быть современником гения. Почему мне так и обидно за все, что произошло в Москве, когда его стали унижать статьями после премьеры в Самаре оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного», в которую он вложил столько сил и энтузиазма. Он говорит, что не обиделся. Но, конечно, это не так. Когда какая-то гнида выползает и поднимает голос на самого Ростроповича, это напоминает мне басню «Слон и моська». В таком тоне возмутительно писать о ком бы то ни было. Эти молодые люди ходили пешком под стол, а он уже гениально играл. Ведь жизнь в стране могла сложиться иначе. Не будь Горбачева, наши журналисты никогда не получили бы той свободы слова, которой так цинично стали пользоваться. Возвращение Ростроповича в феврале 1990 года объединило всех. Не было события более важного в Москве. И вместо того чтобы ходить за ним и записывать каждое слово, снова устроили безобразную травлю. Понятно, что он больше не хочет выступать с концертами в России. Возможно, нельзя было реагировать — не «царское» это дело. Но, может быть, он и прав. Ростропович дорожит своим здоровьем и временем и едет туда, где его ждут. А мы снова отбросили себя на много лет назад, лишившись его.
На примере Ростроповича можно говорить уже о тенденции последних десяти лет во взаимоотношениях музыкантов и людей, получивших право называться «музыкальными критиками». Чем ярче и популярнее музыкант, тем непреодолимей желание его «обгадить». За некоторые статьи, за изощренный издевательский тон надо просто бить морду, поскольку цивилизованные методы воздействия на этих псевдопрофессионалов не подействуют. Главным же редакторам газет определенно импонирует такой тон: чем скандальнее статья, чем больнее «ударили под дых» артиста, тем лучше газета продается.
Музыка ведь вообще искусство субъективное, так что поди знай, как кто играет. Понятно одно: критики наши играют без правил. Единственный выход старая народная мудрость: «Собака лает — караван идет!» Но это — легко сказать. Мне как мало кому известно, насколько ранимы и беззащитны артисты. При этом замечу: критик — профессия зависимая. Артист без критика как-нибудь проживет, а критик без артиста? Если не будет ни скрипача, ни концерта, ни билетов для журналистов (бесплатных, конечно), на каком материале вечером после концерта и сытного ужина критику оттачивать свой «неповторимый стиль»? Музыкальные критики, молитесь на артистов, берегите их, они вам необходимы и для славы, и для хлеба насущного. Нет, правда, стоит лишь вспомнить имена музыкантов, на которых регулярно спускали и спускают собак разъяренные критики: Караян, Каллас, Маазель, Горовиц, Мути, Кисин… Неплохая компания!
Не думайте, что я отвлеклась. Пишу и все думаю о Мстиславе Леопольдовиче. Мой великий, дорогой друг, если вы когда-нибудь прочтете этот «опус», вспомните, как однажды показали мне листок бумаги, хранящийся в футляре вашей виолончели. На нем твердым Галининым почерком переписано стихотворение Пушкина: «Поэт, не дорожи любовию народной…» Помните? «Ты сам — свой высший суд». Все остальное — суета. А о том, как тяжело уснуть после концерта, как не успокоить ни руки, ни биение собственного сердца, как звуки не хотят умолкать в воспаленном мозгу, как музыка не отпускает вас, раба своего, писать не буду — оттого что знаю все это слишком глубоко, не понаслышке — и поэтому вряд ли смогу подобрать нужные слова…
ДРАКА В ПАРИЖЕ
Это случилось вечером того дня, когда на концерте в Париже я впервые увидела издалека Мишеля Глотца, еще не зная, какую важную роль сыграет этот человек в нашей с Володей жизни. Был канун Пасхи, апрель 1989 года. После концерта Юрий Темирканов, который дирижировал концертом, с женой и мы с Володей поехали к Ростроповичу. Они были на службе в церкви на рю Дарю, а потом ждали нас. Слава тогда собирался в Россию, но как дирижер Вашингтонского оркестра. Галина же заявила:
— Ноги моей там не будет! Чтобы я поехала? Никогда!
В этом вся она. Вообще, Слава — человек экспансивный, когда волнуется, становится совершенно белого, землистого цвета, а стоит понервничать Галине, как кровь приливает к лицу и она начинает пылать. Кажется, если прикоснешься можно ошпариться.
Я была совершенно очарована их домом и оказанным нам приемом. Будучи человеком сентиментальным, я лишь с годами научилась скрывать свои переживания. К трогательным моментам начинаешь относиться с осторожностью.
— Галина Павловна, сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни, сказала я.
О, если бы я знала, что ждет нас потом!
Как водится у Ростроповичей, если сидишь, то сидишь допоздна. Наутро мы улетали в Москву часов в семь. И Галина Павловна приговаривала:
— Ну, уже надо досидеть.
Мы вышли часа в два, Слава отговорил нас вызывать такси, потому что наш отель «Рафаэль» находился на авеню Клебер, совсем близко от их дома. Сейчас, зная парижские расстояния, я это прекрасно понимаю.
Слава пошел нас провожать в рубашке и жилеточке. Когда до отеля уже оставалось метров двести, он подмерз. Мы поцеловались, обнялись, распрощались, и Слава побежал домой, а мы перешли улицу и тихо двинулись по направлению к отелю. Концерт в Париже завершал Володино турне по Европе, уже были получены деньги, которые наличными нужно было везти в Госконцерт. Естественно, в те годы, как все артисты, он возил деньги с собой. На плече у него висела скрипка, я несла концертный костюм, вдвоем мы еще волочили портплед. Шли не спеша, и Володя рассуждал, какое это хорошее состояние, когда сыграешь удачный концерт. У нас было блаженное чувство: идем ночью по Парижу, я — на высоченных каблуках, он в — бежевом плаще.
Я вдруг увидела, что на углу стоят трое — негр и два араба. Стоят и курят. Когда мы поравнялись с ними, я боковым зрением заметила их резкое перемещение. Они подали друг другу сигнал тихим свистом и в секунду преградили нам дорогу. Негр, очень высокий, спортивный молодой парень, стоял в центре, арабы — по бокам. Он спросил Володю:
— Do you have money?
Володя ответил по-русски:
— Я не понимаю, я — русский артист.
Тот переводит вопрос на французский, спрашивает меня:
— Ты тоже русская?
Вова снова «не понимает». Они обступили нас и оттеснили к какой-то запаркованной машине. Все произошло в считанные доли секунды. Один из арабов тряс каким-то удостоверением, пытаясь запугать нас тем, что он якобы из полиции. Володя прижал к груди скрипку. Негр размахивается, и я вижу, как в лицо моего мужа летит огромный кулак. Поскольку боксерские навыки у Володи сохранились, хоть он и занимался боксом в восемнадцать лет, он уходит от удара. Но, отскочив назад, спотыкается о бордюр тротуара и падает на спину. Скрипка летит дугой в сторону. Я инстинктивно упала на асфальт, прикрывая собой скрипку. Лежа, вижу, как негр насел на Володю и бьет его, мне даже показалось, что я увидела мелькнувший нож. Я чувствовала себя как в кошмарном сне, когда все настолько явно, что хочешь проснуться и не можешь. Мелькнула мысль: «Его сейчас убьют!» И тут же я начала дико орать. Теперь, шутя, он рассказывает:
— Моя жена орала, как сто армянских женщин.
Я же слышала свой крик словно со стороны. Потом этот кошмар преследовал меня долго.
Они там дерутся, причем негр бьет Володю ногами, один араб пытается заткнуть мне рот, второй — на шухере. Вдруг вижу, что Володя, улучив момент, когда противник подустал, неожиданно вскакивает и, размахнувшись, сильно бьет негра прямо в середину морды, и уже тот отпрыгивает, схватившись за нос. А мой муж, как Евгений Леонов в фильме «Джентльмены удачи», идет на него на полусогнутых, только что не кричит: «Пасть порву, моргалы выколю!» Спиваков не пользовался в тот момент такими литературными выражениями. Он орал выразительным русским матом. Это было так страшно, я никогда его таким не видела: артист, только что отыгравший концерт Чайковского, побывавший в гостях у Ростроповича, шел на бандита, как настоящий урка. Слава Богу, они были не вооружены. Им, похоже, просто не хватало на наркотики. Они не представляли, сколько могли бы поиметь. Володя сказал потом, что у него возникла мысль отдать им все деньги, чтобы они от нас отстали. Но вторая мысль была: «Что же завтра будет в Госконцерте? Поди рассказывай, что негры деньги отняли». Негр, заливаясь кровью, отозвал своих свистом, они всё побросали и скрылись. За все время драки не проехало ни одной машины субботняя ночь, очень респектабельный район. У меня зуб на зуб не попадал от страха, а Вова вошел в роль, схватил меня за загривок:
— Что ты орешь, дура! Мы победили, Сачок, вставай!
Он иногда называет меня Сачок, потому что, когда мы только начали встречаться, я как-то раз прогуляла в институте пару лекций, чего обычно не делала.
Ноги у меня были совершенно ватные, каблук сломан. Спиваков шел в азарте:
— Они разбежались! Я его избил! Я выбил ему зуб!
Мы появились на пороге шикарного отеля «Рафаэль»; открыл изумленный швейцар: Володя в разорванном плаще, с расцарапанным виском, окровавленными руками.
— Месье Спиваков, что случилось?
— На нас напали.
— Давайте вызовем полицию.
— К черту полицию. Что я буду им доказывать!
Мы пошли в номер. Володя стал умываться.
— У тебя кровь, — говорю я ему.
— Это не моя, это негритянская кровь, — отвечает.
Средний палец у него распух от удара. Володя умылся, переоделся в белую маечку, спокойненько улегся в огромную кровать, взяв, как он любит перед сном, кусочек яблочка, и открыл как ни в чем не бывало газету. А я стала курить одну сигарету за другой, не могла остановиться. Он посмотрел:
— Ты знаешь, во сколько нам вставать?
А я представляла себе, что полчаса назад его могли убить. Троих сразу, одним ударом!
— Вова, я тобой горжусь! — это было мною сказано очень искренне.
— Я же специально это все организовал, неужели ты не поняла, что это подставные люди, что Слава знал, когда мы туда придем? — дразнил меня Спиваков.
Кстати, надо было позвонить Ростроповичу.
— Да-да, алло, — отвечает низким голосом Галина Павловна.
— Слава нормально дошел?
— Всё в порядке.
— А вот нас чуть не убили.
Ее голос сразу взлетает на колоратуру. Слава хватает трубку и со свойственным ему чувством юмора резюмирует:
— А, Сатишка, так это ты орала? А я решил, какие-то французские проститутки беснуются.
Наутро, когда мы улетали в Москву, Володя с трудом дышал. Из аэропорта мы поехали в Институт Склифософского. Оказалось, что у него сломано два ребра. Володя еще месяц ходил в корсете.
ПОЧТИ ОБИДНО
С Юрием Хатуевичем Темиркановым отношения всегда складывались очень странно. Для меня это — старая рана, которая зажила, но иногда дает о себе знать. Быть без вины виноватыми перед людьми, с которыми, казалось, контакт и взаимопонимание были полными, обидно. Так случилось с Темиркановым.
Володя дружил с ним давно, много лет они играли вместе. Записали концерт Чайковского, концерт Брамса, двойной концерт Брамса и концерт Прокофьева одну из лучших Володиных записей и вообще одно из лучших исполнений этого произведения.
Темирканов — человек необыкновенно яркий, артистичный. С ним всегда приятно находиться в компании, общаться, наблюдать за ним. Дирижер он фантастический. У Темирканова чувственная манера, от него исходит нервный заряд. Под влияние, под магию этого человека попадают все — оркестр, солист, публика.
Как часто бывает в жизни многих больших артистов, на каждого крупного художника, как правило, приходится своя «инномабиле». У Юрия Хатуевича, к сожалению, тоже существует такая «инномабиле», которая полностью подчиняет его волю и разум.
Однажды произошел странный инцидент, который, к счастью, был замят. Но тогда еще была жива покойная супруга Темирканова Ирина. Она очень любила Володю, отношения были невероятно теплыми еще с самой юности. Когда оркестр «Виртуозы Москвы» жил в Испании, должен был состояться концерт в Питере. И вдруг нам сообщили, что Юрий Хатуевич выступил по радио и объявил, что своей волей художественного руководителя Ленинградской филармонии он отменяет концерт «Виртуозов Москвы», потому что «Спиваков со своими музыкантами, гуляя по Мадридам и Парижам, несколько оторвался от нашей действительности и забыл, сколько получают музыканты в России». Для точности надо сказать, что Спиваков в России за концерты либо ничего не получает, либо его гонорар составляет сумму, в несколько раз меньшую, чем на Западе. Но, как говорил Шаляпин, бесплатно только птицы поют, нет ничего зазорного в том, что артист за свои выступления получает деньги.
Когда Володя услышал об этом заявлении, то пораженный несправедливостью обвинения, решил: «Хорошо, я не поеду». Начались перезвоны. Звонила Ирина, говорила, что Юрия захлестнуло, он не то хотел сказать, его спровоцировали. Пришла телеграмма: «Прошу сделать все возможное, чтобы концерт состоялся. С ув. Темирканов». Но Володя не поехал, и года два они не общались.
В 1997 году в Риме планировалось выступление Темирканова, солистом пригласили Спивакова. Желание творческого общения у них, несмотря ни на что, сохранилось. Мы приехали, все происходило замечательно: они вместе ужинали, обедали, сыграли несколько концертов. В результате Спиваков пригласил Темирканова на фестиваль в Кольмар. Вскоре умерла его жена Ирина. Пока фестиваль готовился от «инномабиле» поступали противоречивые сведения: то Темирканов не хочет выступать с тем оркестром, который ему предлагался, то он нездоров, то она не знает о его планах. Офис Кольмара забрасывал их факсами. Наступила осень. Подошла пора печатать программы фестиваля, а ответа от Юрия Хатуевича не было. В конце концов «инномабиле» сообщила по телефону, что Темирканов вообще не расположен выступать будущим летом в Кольмаре, он нездоров, отменил все концерты. Тогда мы пригласили другого дирижера.
Случайно мы встретились в Мадриде весной, жили в одной гостинице. Володя совсем недавно получил Страдивари, сразу пригласил Темирканова в номер, стал показывать возможности скрипки. Юрий Хатуевич охал, восторгался звучанием. Сели пить кофе.
— Ну, когда же вас можно будет затащить к нам на фестиваль, почему же вы всё не едете? — спросила я.
— Как, я же приеду через два месяца, — ответил он.
Для тех, кто вращается в музыкальном мире, очевидно, что за два месяца до начала фестиваля невозможно внести изменения в программу, напечатать новые афиши. «Инномабиле» в тот момент улыбалась улыбкой, средней между улыбкой Джоконды и анаконды. Володя начал убеждать Темирканова, что тот перепутал — он всегда желанный гость на фестивале, но сам же и отказался от участия. Все — в изумлении. И тут вступила эта дама:
— Юрий Хатуевич не отказывался. Разве он говорил вам лично, что не хочет выступать с тем оркестром? Разве у вас есть его письменный отказ? И учтите, пока нет официального факса с отказом — пока это не зафиксировано на бумаге, ничего не решено.
Меня это научило на всю жизнь: в деловых отношениях — даже с близкими людьми — всегда нужны официальные документы. И ещё — я поняла: не зря в мировой литературе существуют персонажи, подобные Яго. Действительно есть люди, которые сильно и негативно воздействуют на других. В сухом остатке получается зло.
Зачем ей надо было нас ссорить — это другой разговор. Но ей это мастерски удалось. Темирканову, который не заглядывает в свои гастрольные планы, она говорила, что он едет на фестиваль к Спивакову. Сама же выставила нас в невыгоднейшем свете, как будто мы сначала пригласили его, а потом кинули.
Дальше — больше. Не успели мы доехать до Парижа, пришел возмущенный факс на имя Спивакова от английского импресарио Юрия Хатуевича (с которым нас просили не связываться, дабы все переговоры шли напрямую), требовавшего объяснить изменения в расписании Темирканова. Уже год, дескать, как в его планах стоит выступление на фестивале у Спивакова, и вдруг они узнают от его личного секретаря, что Спиваков отказывается от присутствия Темирканова. Я понимала, что ситуация тупиковая. Даже позвонила ей, но на том конце повесили трубку.
На осень были запланированы концерты в честь шестидесятилетия Темирканова. В рамках этого празднества стояли концерт «Виртуозов Москвы» и сольный концерт Спивакова. Я знала, что в день его выступления Юрий Хатуевич был в Питере. Позвонила ему сама. Он всегда держался со мной чрезвычайно мило:
— Здравствуйте, моя красавица.
— Я так счастлива, что весь Питер вас чествует. Надеюсь, вы придете на Володин концерт.
— Ты знаешь, сегодня дети из школы при консерватории играют концерт в Малом зале, мне неудобно не пойти туда.
— Неужели вы можете отказать женщине? — спросила я.
— Такой, как ты, не могу.
— Тогда пообещайте мне подойти хотя бы к бисам, а если не успеете приходите ужинать с нами в «Европейской». Я очень вас прошу. Мне очень надо вас видеть.
Мне казалось, я смогу объяснить ему все недоразумения. Наивная, я все еще думала, что можно что-то объяснить словами. Он обещал прийти. Когда заканчивался концерт Володи, все дети-школьники, отыгравшие свой вечер в Малом зале, толпились за кулисами. Они не хотели упустить шанс послушать Спивакова. Но Темирканов так и не пришел… Мне показалось, это трусость, непростительная для столь большого артиста.
ДИАГНОЗ СЕЛЬСКОГО ЭСКУЛАПА
Как-то раз Володю пригласили играть сольный концерт под Бордо. Жить он должен был в частном доме, точнее — в старинном замке у человека, организующего выступление. Нельзя сказать, что концерт был левый, но полуофициальный. Володя приболел перед концертом, принимал антибиотик. Позвонил мне уже оттуда (я должна была прилететь на другой день), рассказал, как все забавно в этом замке. Голос был какой-то странный; вдруг, прощаясь, Володя произнес:
— Ты помолись за меня.
Я очень удивилась и призадумалась.
На следующий день я приехала; хозяин встречает меня.
— Как себя чувствует мой муж?
— Слава Богу, сегодня намного лучше. Вчера мы вовремя вызвали врача и выиграли один день лечения. До концерта еще день, так что, надеюсь, стоять он сможет. А вчера с трудом ходил.
У меня начинает колотиться сердце.
— Врач осмотрел его ноги и определил болезнь. Это подагра.
— Какая подагра?
— Это так страшно! Эти распухшие ноги. Но у вашего мужа прекрасный эксклюзивный массажист — моя жена.
Чувствую, как мне становится дурно.
— И еще я скажу вам — вы будете ревновать. У него подружка, она сегодня спала в его кровати. Ее зовут Мадлен. Больше я вам ничего не скажу.
Я понимаю, что потихоньку схожу с ума. Приезжаю в огромный замок — старый, малоухоженный. Встречает мадам Кер — изношенная жизнью тощая француженка со злобным выражением лица. С утра до вечера у нее на глазах были намалеваны стрелочки, а все остальное в доме — в полном беспорядке. Пианист Сергей Безродный встречает меня в полном ужасе:
— Мы летим в самолете, и Володя нахваливает мне туфли, купленные в Испании, — шикарная мягкая кожа, дешевые. Перед посадкой попытался надеть туфли — не может, ноги, видно, отекли. А вечером в замке вообще стоять не мог — ноги так распухли.
Я бегу к Володе на второй этаж, невзирая на предостережения мадам Кер, что он, дескать, отдыхает. И застаю такую картину: в огромной высоченной кровати под балдахином весь в подушках лежит Спиваков. Ноги его — огромные, красные возвышаются над подушками. Рядом с ним лежит кошка Мадлен, на плече сидит попугай, а рядом стоит какая-то баланда, называемая супом из овощей. Он смотрит на меня очень жалостливо.
Я ничего не понимаю. Замок имеет зловещий, доисторический вид, все ходят чуть ли не со свечами. Он рассказывает мне эту историю — про самолет, про распухшие ноги, — и добавляет:
— Такой смешной случай: я лег в эту кровать на втором этаже, пришел сельский доктор, а я не могу встать с кровати и спуститься к нему на первый этаж. Месье Кер сообщает это доктору, а доктор не может подняться на второй этаж — у него астма.
Ну просто чистый Мольер! Спивакова взяли на руки и снесли вниз к сельскому эскулапу. Тот осмотрел ноги и поставил диагноз: подагра. А подагры, оказывается, не может быть на двух ногах одновременно у человека моложе пятидесяти лет, который никогда не пил вина. В один день ей взяться неоткуда. Доктор же прописал лекарство от подагры, говорили, что очень эффективное, правда, с побочным действием: тошнотой и головокружением.
Мадам Кер, ревностно ухаживавшая за моим мужем, поставила раскладушку в гардеробной в его спальне, сказав:
— Вы будете спать тут.
Я не понимала, что делать: в замке комнат восемьдесят, царит полное запустение. Я решила позвонить в Париж, отменить концерт к чертовой матери, вызвать «скорую помощь».
— Нет, я буду играть, как Перельман, — меня вынесут и посадят.
— Но ведь Перельман болен полиомиелитом с детства. А у тебя — отек, аллергия или, самое страшное, почки. Зачем тебе нужен этот концерт?
— Мне хочется послушать Бетховена.
Спивакова рвет, он с трудом сползает с кровати, прыгает, как Маугли, на четвереньках, на плече сидит отвратительный попугай, по кровати ползает кошка, периодически приходит мадам, начинающая мять ему пятки.
Я понимаю: ситуация фантасмагорическая, я не в силах что-либо изменить. Пытаюсь дозвониться до Парижа под замечания окружающих, что в буржуазные дома после девяти не звонят, а время уже к одиннадцати. Ложусь спать на узкой кроватке в полной темноте. Рядом — свечка и спички. Просыпаюсь от того, что кто-то гладит меня по руке. Володя сидит у меня на кровати, гладит мою руку и что-то мычит. С трудом я понимаю, что это означает «надо ехать». Показывает на распухший язык, и я понимаю, что он задыхается. Натыкаюсь в темноте, пытаясь запалить свечу, на его руку — она вся отекла. Я несусь по замку, нахожу хозяина, вытаскиваю его, раздетого, из кровати, заставляю ехать в ближайший госпиталь. Там боятся что-либо предпринимать, так как не могут диагностировать болезнь.
Слава Богу, я дозвонилась до Парижа и организовала карету «скорой помощи». Их «ситроен» домчал нас из деревушки округа Бордо в Париж. Оказалось тяжелейший приступ аллергии с отеком Квинке. Володя попал в больницу на неделю. Несчастье заключалось в том, что аллергия потом возвращалась каждые десять дней в течение лет пяти. Врачи говорили, что это могло быть следствием самолечения антибиотиком. Мы много лет жили под страхом, потому что приступы разной степени тяжести повторялись. При этом Спиваков ни разу не отменил ни одного концерта!
НЕВСТРЕЧА С АЛЬФРЕДОМ
3 августа 1998 года в парижском аэропорту я увидела в газете «Liberation» некролог. Статья называлась «Реквием по Шнитке». У меня опустились руки. Я испытала что-то сродни тем чувствам, которые не давали мне покоя после смерти Булата Окуджавы. Еще одна невстреча нашей жизни. Этот гениальнейший человек отразил сегодняшний день, он его чувствовал, видел ядро, суть вещей. Он ощущал дисгармонию, какофонию этого общества, уродство души под маской. Прочитав заголовок некролога, я подумала: Шнитке сам мог бы написать «Реквием» по нашему веку, который был на исходе в момент его смерти. Он оказался композитором, вобравшим в себя весь двадцатый век.
Я знала, что Шнитке давно болел. Но все же пока был жив, в глубине моей души таилась надежда, что когда-нибудь они сойдутся — Шнитке и Спиваков. Володя очень любит современную музыку. Не всех авторов. Но к Шнитке он прикасался трепетно, и это всегда было блестяще.
Часто у жены бывает гораздо больше обид за мужа, чем у него самого. Володя был знаком со Шнитке, но никогда не ходил к нему «пить чай» и никогда не принадлежал к клану людей, называвших себя «кругом Шнитке». Есть музыканты, в числе которых Гидон Кремер и Юрий Башмет, для которых Альфред Шнитке действительно много написал. Мстислав Леопольдович Ростропович или Геннадий Николаевич Рождественский, с которым Шнитке связывала большая личная дружба, также были первыми исполнителями многих его произведений. Отчасти этой дружбой я объясняла причину нашего необщения (Рождественский женат на первой жене Володи, пианистке Виктории Постниковой, и разрыв этот происходил небескровно). Ощущение было такое, что Шнитке сторонится Спивакова.
Моя единственная встреча со Шнитке произошла в начале 1990 года во время того самого обеда в честь королевы Испании в Морозовском особняке.
За столом мы сидели напротив Шнитке и его жены Ирины. Весь обед мы общались и переглядывались с ней, не зная, когда можно будет закурить. Начать первыми было неловко, но как только королева достала портсигар, мы с облегчением вздохнули и вытащили свои зажигалки. Помню, тогда Володя подошел к Шнитке и спросил:
— Альфред, может быть, когда-нибудь вы что-то напишете если не для меня, то для моего оркестра?
Тот ответил:
— Я подумаю.
До этого Володя исполнял его «Сюиту в старинном стиле» для скрипки и фортепиано и прелюдию «Памяти Д. Д. Шостаковича». Впоследствии Володя переложил эту сюиту для камерного оркестра. Спиваков попросил однажды у Шнитке разрешения добавить в одном месте аккорд клавесина, повторив его еще три раза. Шнитке долго думал, и Володя на свой страх и риск прибавил эти два такта. Когда вышла запись, Шнитке сказал:
— Вы были правы, этого действительно не хватало.
Впоследствии из этого невинного диалога и истории с двумя тактами клавесина выросла обида. Как-то раз Шнитке позвонил очень обиженный:
— Мне передали, что вы давали интервью по радио, в котором говорили, что я попросил вас переложить и исполнить мою «Сюиту в старинном стиле». Я никогда никого ни о чем не просил!
Володя сказал:
— Альфред, вы меня неправильно поняли. Единственное, что я мог сказать, что я исполнил с оркестром сюиту, а у вас попросил разрешения дописать три аккорда.
Шнитке, кажется, не очень поверил. Было ясно, что его кто-то хорошо «накрутил». В этой ситуации с интервью Володя не стал оправдываться и переубеждать Альфреда. Отношения их совсем сошли на нет, тем не менее Володя часто исполнял в концертах его сочинения.
Потом мы уехали на Запад, Альфред жил в Германии и в то время уже очень сильно болел. На одном из концертов фестиваля Шлезвиг-Гольштейн, транслировавшемся по всей Германии, Володя исполнял сонату для скрипки и камерного оркестра, написанную Шнитке еще в 1963 году. Спивакова вдруг позвали в антракте к телефону. Звонил Шнитке из Гамбурга:
— Я хотел вам сказать: я только что слушал свою сонату в вашем исполнении — это воплощенная мечта композитора!
Альфред говорил медленно, затрудненно произнося слова. Володя был потрясен. Шел 1993 год. А в 1994 году на фестиваль в Кольмар пришел запрос Спивакову от какого-то камерного английского оркестра с просьбой разрешить первое исполнение только что написанного произведения Шнитке, посвященного ему. Они хотели исполнить его на фестивале в Великобритании, посвященном шестидесятилетию композитора. Но поскольку право «первой ночи» принадлежит Спивакову и «Виртуозам», которые этот опус еще не исполняли, они обращались к нему с этой просьбой. На что Володя сказал:
— Я знаю эту путаницу — «Виртуозов Москвы» всю жизнь на Западе путают с «Солистами Москвы». Наверняка это что-то, написанное для Башмета. Ответьте, что Шнитке мне никогда ничего не посвящал, поэтому ни разрешать, ни запрещать я ничего не могу.
Мы встретились с Башметом на музыкальном круизе на корабле «Мермоз», это был очередной период нашего примирения. Я всегда старалась их соединить, сделать так, чтобы они общались. Необязательно дружить и пить водку с утра до ночи, играть в бильярд и вместе гоняться за бабами. Можно просто выходить вместе на сцену.
Как-то мы с Юрой сидели на палубе, и я попросила телефон Ирины Шнитке, чтобы узнать, как Альфред, и прояснить себе немного эту историю с английским оркестром. Вдруг Шнитке действительно что-то написал? Юра поднял меня на смех:
— Не звони, не позорься, не унижайся. Мне не хочется, чтобы ты подставляла Вовку. Во-первых, Альфред никогда в жизни ничего для него не писал. Поверь мне, уж я-то знаю. Как ты не понимаешь, Спиваков — это не музыкант Шнитке, не герой его романа. Это два разных полюса. Володя — популист, он работает на массы. Альфреду это противно. Идеал скрипача для него — это Гидон. А Гидона и Володю невозможно поставить на одну доску, они разные во всем. Я знаю, как работает Альфред. Если он пишет что-то для кого-то, он много раз звонит, советуется, контактирует с музыкантом. Когда он заканчивает, присылает первый вариант произведения со своей надписью сверху на титульном листе. Мне же посвящено столько сочинений, я знаю, что говорю. Альфред пишет только для тех, кто ему действительно дорог. Мы и так все стоим у него в очереди годами — и Гидон, и я, и Слава Ростропович. Мой тебе совет, выкинь это из головы, зачем Вову травмировать.
Хоть меня эти пассажи и резанули, больше к этой теме я не возвращалась.
Вскоре после смерти Шнитке в 1998 году я получила в Париже очередные бумаги от Издательства Сикорского, где издано несколько Володиных переложений. Они очень скрупулезно, по-немецки, годами перечисляют скромные авторские гонорары на счет. Что меня вдруг дернуло? Зная, что они издатели музыки Альфреда Шнитке, я позвонила директору Издательства Сикорского и спросила, существует ли какое-нибудь произведение этого композитора, посвященное Спивакову или «Виртуозам Москвы»?
— Конечно, существует посвященное Владимиру Спивакову, изданное в 1994 году, произведение для скрипки, тромбона, тенора, ударных инструментов и камерного оркестра. Оно есть в нашем каталоге, называется «Пять фрагментов по картинам Иеронима Босха». Мы только удивлялись, почему ваш муж никогда его не исполнял.
— Дело в том, что мой муж не знал о существовании этого произведения.
Директор издательства немедленно прислал нам запись исполнения с того английского фестиваля и ноты. Когда в Париж вернулся Володя, он увидел пакет на столе. В ответ на его вопросительный взгляд я сказала:
— Это тебе привет с того света — от Альфреда.
Он открыл партитуру, изданную Сикорским, на которой черным по белому было написано: «Владимиру Спивакову».
Произведение — совершенно удивительное. Для меня — шок, потрясение. Не концерт, не соната. Скрипка в нем — ведущий голос, а тенор — как музыкальный инструмент, которому отдана функция слова. Шнитке использовал стихи Эсхила и Райзнера. Во втором фрагменте тенор поет о том, что лягушка рождается весной, а умирает зимой и век ее короток, живет она в болоте. А человек приходит на эту землю, и когда он уходит, то воспаряет к Богу. Сам триптих Иеронима Босха называется «Сад наслаждений» — там совершеннейшее смешение: рай, ад. Я бы многое отдала, чтобы понять, что побудило композитора обратиться к этим источникам и написать такое произведение. И почему именно его Шнитке посвятил Спивакову? Почему мы не знали о нем четыре года? Володя считает — между звонком Шнитке после его исполнения сонаты тогда в Германии и этим посвящением есть прямая связь. Иногда музыканты могут понять друг друга без слов, без объяснений. И даже подавать друг другу знаки из разных, несоприкасающихся миров.
СОЮЗ СКРИПКИ И АЛЬТА
Я давно хотела написать о Башмете. Точнее, написать Башмету. Часто после очередной обиды — а их было немало, после очередной сплетни, раздутой до неимоверных масштабов, я хваталась за карандаш, чтобы выплеснуть все, что душило, не давало покоя, накатывало, как волна.
Взаимоотношения Спивакова и Башмета давно превратились в музыкальном мире Москвы в некий фельетон с бесконечным продолжением, их конфликт был на протяжении более десяти лет предметом нездорового любопытства и всяческих спекуляций.
Тень этого конфликта следовала за нами повсюду, став неким обязательным атрибутом. И только очень узкому кругу людей было известно, как тяжело оба переживают эту глупую размолвку, возникшую из ничего. И как оба боятся, не решаются, медлят сделать шаг навстречу, будто по инерции продолжая играть роли, написанные для них кем-то третьим.
Думаю, все дело в огромном взаимном притяжении Башмета и Спивакова. Ведь недаром говорят: от любви до ненависти… Володя старше Юры на десять лет. Башмет вспоминает, как был потрясен, когда, играя еще студентом в консерваторском оркестре на панихиде по Ю. И. Янкелевичу, слушал Спивакова, исполняющего концерт Гайдна. Как заплаканный Спиваков, справившись с волнением, вел звук так, что рука даже не дрогнула, как Юре тогда открылось очевидное — вот так должен звучать струнный инструмент! Потом очень скоро они стали выступать вместе: становление Юры совпало с самым началом взлета «Виртуозов Москвы». Как-то, немного выпив, Юра сказал мне:
— Как я должен чувствовать себя, если по телевидению до сих пор показывают запись концерта, где я сижу в оркестре у Вовы, а я уже давно шеф своего собственного оркестра?
Ему всегда казалось, что, признанный всем миром, он не снискал признания у старого друга, что Спиваков не ценит его, не сознает его истинной значимости. Могу сказать, что Володя считал Башмета гениальным альтистом, первым в мире еще задолго до того, как об этом заговорили везде. Может, просто не умел этого высказать. Всё комплексы, комплексы… Ведь это только с виду большие артисты — люди, уверенные в себе. В душе они все — большие дети, большие маленькие мальчики!
Тогда, давно, когда только возникли «Виртуозы Москвы», Спиваков с Башметом играли «Концертную симфонию» Моцарта для скрипки и альта, уникальное произведение с умопомрачительной по красоте второй частью. Их дуэт считался лучшим во всем мире. Да это так и было. Где только не переиграли они «Симфонию-концертанте»! Никому не удавалось достичь в ней такого полного единения двух инструментов. Помните, как у Цветаевой: «Мы спаяны блаженно и тепло, как правое и левое крыло». Часто, шутя, они играли, отвернувшись, стоя спиной друг к другу: все равно возникало впечатление, будто звучит один двухголосый инструмент.
Так продолжалось многие годы. Кто, когда и в какой момент начал вбивать клинья в этот союз? Что послужило поводом, что стало причиной их взаимоотдаления? Трудно сказать. Поводов было много, а людей вокруг, словно получавших наслаждение от ухудшения взаимоотношений между Володей и Юрой, еще больше. Вокруг обоих вились те самые «инномабиле», норовя внести свою лепту, сыграть свою «неоценимую» роль в разжигании войны. Хотя порой казалось, что дружба между двумя большими артистами по-прежнему незыблема.
Помню, в 1990 году, когда пала Берлинская стена, Мстислав Ростропович пригласил на два новогодних концерта в Берлин Юру и Володю. Эти концерты транслировались по телевидению, записывались на видео. Ростропович играл сам, а также дирижировал солировавшим Спивакову и Башмету. 30 декабря в Берлине царила совершеннейшая эйфория — первый Новый год после падения стены. Люди гуляли, пьяные от счастья, с воздушными шарами. 31-го концерт был пораньше, и Слава пригласил нас справить Новый год у себя в отеле «Кемпинский». После концерта мы вернулись в нашу гостиницу, имея час в запасе, и я предложила:
— Вовочка, давай погуляем вдвоем, смотри — на улицах огни, тепло.
Город был похож на освещенную квартиру без стен, где празднуется какая-то невероятная свадьба: все в легких пальто и туфлях гуляли по улицам, засыпанным обломками стены. Но Володя сказал:
— Я должен позаниматься, у меня через два дня концерт.
Я умоляла:
— Через три часа — Новый год, какие занятия?
Пришлось пойти гулять одной. По молодости лет я даже чуть-чуть обиделась, хотя и знала уже, что человек не умеет отдыхать, получать удовольствие от жизни вне музыки. Вернувшись, застала его завязывающим перед зеркалом галстук.
— Ты только Славе и Юре не говори, что я занимался сейчас, — попросил он. — Они же меня поднимут на смех.
— Ладно, не скажу, — пообещала я.
Я помню тот Новый год, когда Слава сам накрыл праздничный стол: грибочки, селедочка, семга, водочка. Он не позволил Галине ничем заниматься, с утра сбегал все купил. На столе стоял фарфоровый домик с красной крышей, засыпанной снегом, с горевшей внутри свечкой. Мы были вшестером — Галя со Славой, Юра с Наташей, мы с Володей. И такая атмосфера возникла среди нас, что казалось: самое главное происходит сейчас, в эти минуты, что мы — одни на свете, что узы эти никогда не разбить, что этот маленький горящий на столе игрушечный домик центр вселенной, начало начал.
Но таких эпизодов было крайне мало. В основном же, заняв стратегические позиции во главе своих оркестров, каждый из них все эти годы старался как будто доказать другому свою самодостаточность. Окружающие подыгрывали, аплодировали, перемывали кости, очень преуспевая в последнем. В общем нашем кругу возникло некое негласное правило: куда приглашали Башмета, туда не звали Спивакова — и наоборот. Я сильно это переживала, понимая, как это все нелепо, как они оба себя обкрадывают, но все мои попытки их помирить оканчивались тотальными провалами. Так же страдала от их необщения пара очень близких друзей, особенно Гриша Ковалевский, не раз получавший и от Юры, и от Вовы за свои миротворческие демарши. В основном же ситуация дошла до точки невозврата.
И вот, недавно встретив меня в ресторане «Пушкинъ» (дело было в конце марта 2001 года, 1 апреля начинался фестиваль, посвященный столетию Большого зала Консерватории), Юра предложил Володе выступить с ним на открытии фестиваля, конечно же, с «Симфонией-концертанте». К счастью, Спиваков был на гастролях. К счастью, потому что уровень того фестиваля настолько не соответствовал престижу зала и солистов, принимавших в нем участие, что многие из них не могли потом скрыть своего разочарования. Володя же, узнав о предложении Башмета, сделал ответный шаг: пригласил Юру сыграть вместе, 2 октября 2001 года, то же произведение в том же зале в один из вечеров фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».
По мере приближения этой даты все друзья крестились, стучали по дереву, дули на воду, плевали через плечо по три раза! Сенсация с пол-оборота была в общем-то прогнозируема: билеты на 2 октября разошлись задолго до начала сезона. Обидно только, что в основном шли не на Моцарта, не на Башмета со Спиваковым, а на объявленное перемирие. В «лучших» традициях жанра, была одна предконцертная репетиция, прерывавшаяся установлением телекамер, журналистами, чаем, перекуром. Но встретились Юра с Володей так, будто расстались вчера, хотя и не виделись несколько лет. Я вдруг поняла, почему их даже иногда путают: при полной внешней и внутренней несхожести, эти двое очень похожи. Сочетание хулиганства и серьезности, азарта и собранности, легкости и глубины…
Когда оркестр уже сидел на сцене, а публика, затаив дыхание, готовилась увидеть, наконец, «любимцев», последние очень долго не выходили — то ли разыгрывались, то ли просто решили пошутить. Народ же в зале и на сцене, особенно те, кто был в курсе ситуации, пребывал минут семь в предобморочном состоянии: вдруг эти двое опять поругались и концерта не будет?
Наконец они вышли на сцену, уже не те, что двенадцать лет назад, — вышли два не очень молодых «мальчика», два мудрых человека, у каждого из которых за плечами уже не одна потеря, не одно переживание. И стало ясно, что главное отличие больших музыкантов от остальной части человечества заключается в том, что им доступно возвышаться над суетой. Оказалось, эти двое могут сказать друг другу все, что захотят, звуками, не произнеся ни слова, спросить, ответить, упрекнуть, обнять, понять, простить. Так это и случилось. Спиваков и Башмет играли в тот вечер так, как будто были одни в этом зале, в этом мире.
В тот момент в мыслях своих я жгла все те письма, что в свое время не смогла или не успела написать Башмету. Потому что знаю, как легко сломать человеческие отношения и как трудно их построить. Еще труднее — сохранить. Когда закончился долгий ужин после концерта, отзвучали тосты, разошлись гости, далеко за полночь я наблюдала забавную идиллическую картину: за огромным опустевшим столом сидели, прижавшись головами друг к другу, Володя и Юра и о чем-то шептались долго-долго. Надеюсь, что не в последний раз. Война окончилась, господа!
МАЭСТРО ИЗ ДАВЫДКОВА
Помню, во время гастрольного тура «Виртуозов Москвы» по Германии, кажется, это было в конце 80-х годов, мы с Володей сидели в холле одного из очередных отелей. И вдруг к входу подъехал лимузин, из которого вышел человек в странном наряде: на нем была вязаная лыжная шапочка, старый-старый синий тренировочный костюм, как из «Военторга». Все это дополнялось обувью, похожей на голландские сабо. Он стал вытаскивать из багажника сначала чемодан, а потом — рыбацкие снасти.
— Смотри, это Светланов, — сказал мне Володя.
В то время я еще не была с ним знакома, а посему не могла знать, что Светланов — заправский рыбак. Это его вторая страсть — после музыки.
Отношения Светланова с Володей проходили разные этапы. Одно время он был очень обижен, потому что несколько музыкантов из Госоркестра ушли к Спивакову в момент создания «Виртуозов Москвы». Но человек он не злопамятный, хотя обидчивый. И очень поддается чужому влиянию. К сожалению, временами это влияние бывает не самым позитивным. Может быть, в молодости было иначе, но с годами, как это часто случается с талантливыми людьми, он оказался беспомощным и совершенно неприспособленным к жизни. Весь груз принятия решений лежит на его жене, Нине Александровне. Мы стали общаться со Светлановым в тот период, когда напрямую с ним говорить уже было нельзя. Нужно было общаться с Ниной Александровной, а она, так и быть, передавала ему то, что сочтет нужным. Если она вас допустит до Евгения Федоровича — это большое достижение. Подойти к нему можно, но говорить — только в ее присутствии. Нина — человек, мягко говоря, непростой, довольно субъективный в своих оценках и рабски преданный Светланову. Но из-за этой своей преданности она часто неспособна отличить правду от неправды, разумное от неразумного. Отношения у меня с ней никогда не складывались, да я и не стремилась, чтобы сложились, хотя это мешало моему общению с выдающимся музыкантом. К Светланову у меня всегда было чувство нежности, смешанной с восхищением, чего я выразить никогда не могла, поскольку не имела такой возможности. Однажды я пришла за кулисы после концерта в Москве. Когда мы с Володей подошли к дверям артистической, появилась Нина Александровна и сказала:
— Проходи, Володечка. А вам нельзя — он голый, — и пихнула меня в грудь.
Поскольку это был период, когда Володя очень много и тесно сотрудничал со Светлановым, мне показалось, с ее стороны не совсем прилично выталкивать из артистической не случайную поклонницу, а жену коллеги. Тем более что видеть полуголого артиста после концерта мне доводилось не раз: ничего принципиально нового! Это была моя первая и последняя попытка подойти к Евгению Федоровичу и выразить ему все, что я чувствую.
А чувствовала я всегда после его концертов необыкновенное душевное обновление. Когда он дирижирует — это такая мощь, что не задаешь себе вопроса, как это происходит, просто следуешь за этим огромным потоком, сметающим все на своем пути. У него всегда очень четко вырастают кульминации в музыке. В его исполнении «Поэма экстаза» Скрябина — ни с чем не сравнима. Или когда он дирижирует симфонии Малера… Кстати, на Западе ему не давали дирижировать Малера, там бытует мнение, что русский дирижер должен дирижировать русскую музыку — Чайковского, Мусоргского, но не западных композиторов. Впервые во Франции Светланов продирижировал Малера на фестивале в Кольмаре. Володя дал ему карт-бланш, приехали импресарио, продюсеры, все увидели этот фейерверк. Когда оркестр стал впоследствии пинать Светланова, я вспомнила, как ко мне подошла на том концерте одна виолончелистка, раскрасневшаяся от восторга, и сказала:
— Все-таки какой же у нас шеф! Замечательный!
Похвала от самих оркестрантов дорогого стоит. Оркестрантов вообще ничем нельзя удивить. Те, кто, к примеру, изо дня в день видели перед собой Караяна, Аббадо, привыкают, им кажется — это нормально.
Наша встреча в Кольмаре была связана с очень забавной историей. Когда наконец мы получили согласие на приезд Светланова на фестиваль, надо было выполнить множество мелких и крупных условий агентов маэстро. Комната в гостинице должна была быть с абсолютно светонепроницаемыми шторами, окна надо было чуть ли не заклеить черной бумагой, чтоб ни один луч света не проникал, так как он не переносит дневного света. Комната Нины Александровны должна быть точно под его, чтобы, проснувшись, он мог постучать палкой и она бы тут же явилась на зов. По меню были требования, сильно отличающиеся от французских правил и распорядков. Хозяйка нашей гостиницы, этакая Мирандолина, лично следящая за каждым номером, суетилась изо всех сил. В этом отеле каждый номер носит имя композитора, кто-то живет в «Бахе», кто-то в «Генделе», в «Вагнере». Хозяйкой продумано все до крючка и мыльницы, она — немка, обожающая порядок. Светланов приехал уставший и тут же удалился к себе. Стояло жаркое лето. И в речушке, текущей под окнами гостиницы и называемой Маленькой Венецией, дико квакали лягушки. У них был какой-то брачный месяц, пора любви, в которой они объяснялись друг другу. Крики раздавались душераздирающие, нечеловеческие. Вова сказал:
— Ты увидишь, в каком настроении он встанет завтра. Я знаю его характер может развернуться и уехать.
Всю ночь хозяйка гостиницы бегала по берегу с огромным сачком, пытаясь поймать лягушек и гоняя их. Всю ночь мы не спали, с ужасом прислушиваясь к лягушачьим серенадам.
Наутро Светланов спустился к завтраку в благодушнейшем настроении, в сиреневой шелковой рубашечке, тихо попросил себе чаю. На осторожный вопрос, как он спал, отвечал:
— Замечательно.
Тогда я задала прямой вопрос:
— Неужели вам не мешали лягушки?
— Ну что вы! Сатенька, я обожаю эти звуки. Вы знаете, у меня с лягушками связаны ностальгические воспоминания. — И, нежно посмотрев на свою супругу, добавил:
— Дело в том, что, когда я сбежал к своей Ниночке, она жила в селе Давыдково, где протекала река Сетунька. Так там всю ночь квакали лягушки.
Мы не успели придумать, что специально заказали ему лягушек.
Очень скоро у них со Спиваковым сложился потрясающий творческий союз, такой тесный, что Светланов часто отдавал Володе оркестр — и слушал, как Володя дирижировал. Тогда он впервые услышал переложение для оркестра «Детского альбома» Чайковского, и, едва отзвучала последняя пьеса «Вечерняя молитва», в тишине раздался скрипучий, надтреснутый голос Светланова:
— Браво!
Когда он приезжал на фестиваль и втягивался в фестивальную жизнь, вел себя как свой, родной. Музыканты все равны: кто генерал, кто солдат — не разбирают. Однажды в кольмарской синагоге была специальная акция, всех попросили надеть кипу. Видели бы некоторые злопыхатели, упрекавшие Светланова в антисемитизме, как он покорно надел кипу, сел в первый ряд зрителей и прослушал весь концерт.
Евгений Федорович приезжал на Кольмарский фестиваль с оркестром четыре года подряд. К сожалению, мы начали получать прямые упреки от корпораций, дающих деньги, в прессе стали подниматься недовольные голоса, синдикат французских артистов написал петицию о том, что летом Францию заполоняют музыканты из Восточной Европы, в то время как многие французские дирижеры и музыканты сидят без работы. Светлановскому Госоркестру не повезло — он был выбран в качестве примера, хотя никто не отрицал его профессиональных преимуществ. Мы же не являемся хозяевами фестиваля, поэтому по окончании последнего концерта фестиваля Володя подошел к Евгению Федоровичу в артистической. Тот сидел, накинув полотенце, с вопросом в глазах. Конфликт Спивакова с офисом Сарфати уже назрел, они, конечно, напели Светланову, что мы выгоняем его с фестиваля, что мы «выжали его, как лимон», что «Спиваков на имени Светланова поднял престиж фестиваля, а теперь, максимально использовав его, хочет выкинуть оркестр и Светланова». Володя объяснял, что обязан хотя бы раз пригласить французский оркестр и сделать паузу, и казалось, Светланов воспринял это нормально. Но, как выяснилось, дико надулся. Началась обида, которую невозможно было никак нейтрализовать — вместо общения со Светлановым пришлось бы вступать в объяснения с Ниной, но с ней часто кажется, что говоришь на разных языках. К тому же, настроенный против нас «инномабиле», Светланов не хотел даже подходить к телефону, когда звонил Володя. Спиваков переживал разрыв очень болезненно, но, в конце концов, он не тот человек, который выясняет отношения, тем более что его совесть была чиста. Несколько лет мы не общались. Ситуация усугубилась еще тем, что директор Госоркестра Георгий Агеев захотел уйти от Светланова. Мы с ним учились вместе в институте, и однажды в разговоре Георгий сказал, что уходит, поскольку не имеет возможности обсуждать планы напрямую с художественным руководителем оркестра и устал быть мальчиком на побегушках. Ему предложили сразу несколько мест, но моя «вина» в том, что я посчитала: лучшего директора «Виртуозам Москвы» не найти.
Наши взаимоотношения со Светлановым полностью разладились — до того момента, когда 28 декабря 1999 года им с Володей вместе вручали в Кремле ордена «За заслуги перед Отечеством». Светланов приехал один, опоздав. Вручение было историческое, так как два дня спустя Ельцин сообщил о своей отставке. Все было очень забавно. Борис Николаевич вышел к микрофону и сразу стал шутить.
— Мне тут написали спич — видите, толстый. — Потом хитро подмигнул: — Мы сейчас его побоку, и я скажу своими словами, потом всех награжу. Сегодня только Президент без награды. Обычно как было: вас награждали — и нас награждали. Вот в этом замечательном зале. Вы помните, на что он был раньше похож? Он был похож на кишку. Сначала награды, потом выпьем по фужеру шампанского. — Тут опять хитро подмигнул: — Потому что протокол говорит: только по одному фужеру, а больше мне — ни-ни. Потом все разойдемся по интересам. Сейчас я надену очки, для журналистов. — Он начал позировать — так лучше (сделал гримасу) или так (сделал другую). — Сняли? Ну, с Богом! Уходите, — бросил Ельцин журналистам и телевизионщикам.
Мы все смеялись, видя, что он в ударе. После награждения, когда все стали чокаться, мы с Володей развернулись, чтобы подойти к Евгению Федоровичу. Видимо, эта мысль возникла у нас параллельно, потому что он сам уже шел нам навстречу. Прижав Володю к сердцу, со слезами на глазах Светланов сказал:
— Давай поклянемся друг другу, здесь, в этом святом зале, что мы никогда друг друга не покинем, никогда не сделаем ничего дурного. Я за тобой слежу, ты держись. Ты — большой музыкант, запомни. Фотографа сюда!
Он обнял нас, и два орденоносца стали фотографироваться.
После того как Евгений Федорович ушел из своего оркестра из-за назревшего конфликта, первое, что сделал Володя, поднял трубку и позвонил Светланову:
— Евгений Федорович, Российский национальный оркестр в вашем распоряжении.
Правда, опять пришлось говорить это не ему лично, а сперва Нине Александровне.
— Не говорите, — возражала она, — нам сказали, что ни одного русского оркестра Светланову больше не предоставят.
Володя выдержал паузу:
— Во-первых, Нина Александровна, я бы мечтал поговорить с Евгением Федоровичем лично, а во-вторых, я могу отвечать за тот оркестр, которым руковожу я. Так вот, до тех пор, пока им руковожу я, он всегда в распоряжении Евгения Федоровича.
Мы получили очень трогательный факс от Светланова. В прошлом году они уже планировали поездку Светланова с РНО в Японию, но тот заболел. Я очень надеюсь, что все получится. В конфликте с Госоркестром, на мой взгляд, вина не дирижера, а его окружения, влиявшего на него самым негативным образом, не понимая, к чему это приведет.
Конечно, он был очень обижен тем, что ему не дали возможности ответить и высказаться. В любом конфликте между коллективом и лидером виноваты обе стороны. Нельзя обвинять оркестр, взбунтовавшийся против нищенского существования, и нельзя обвинять большого художника, наивно доверившегося недобросовестным людям. За последние годы его убедили в том, что «оркестр подождет». Он отказывался от поездок, отказывался приглашать талантливых дирижеров. И великий оркестр очутился в вакууме, потерял возможность выступать. Светланов был за них в ответе, потому что без него оркестр не был востребован. Музыканты играли на похоронах, разгружали вагоны, жили в нищете. Коллектив взорвало изнутри, потому что все равно быт определяет сознание. Когда ты голоден, никакой авторитет не поможет. Когда Евгений Федорович спохватился, было поздно уже обращаться к оркестру напрямую. Они переступили грань взаимопонимания.
Светланов — музыкант-гигант, вписавший отдельную страницу в историю русской музыки! Он записал всю русскую музыку, создал ее звучащую энциклопедию. И все равно мне кажется, что его до конца не оценили, не использовали весь его потенциал. Ни у нас в России, ни в мировых масштабах.
Мое первое впечатление от него: задолго до личной встречи, в юности, я увидела Светланова на экране телевизора. Отлично помню этого человека в водолазке. Он вдруг протянул руку к экрану и сказал, обращаясь ко всем:
— Не спешите выключать телевизор.
И я погрузилась в его рассказ. Меня потрясло, что можно так просто и точно говорить о классической музыке.
«СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО…»
У каждого скрипача особые отношения со скрипкой. Мой папа говорил: «Моя первая жена — это скрипка». Многие музыканты воспринимают скрипку как любовницу. По-французски скрипка — существительное мужского рода. Но мне кажется, скрипка — женщина, и отношения с ней если не эротические, то чувственные. Недаром некоторые части инструмента называются голова, грудь (верхняя дека). Когда необходим ремонт, вставка, говорят, что у скрипки инфаркт. У скрипки бывает свой характер, свои болезни, настроения, она обижается, бывает счастлива, реагирует на эмоции скрипача, может быть капризной или послушной, в зависимости от того, как к ней относятся.
Володя говорит, что, если в его отсутствие кто-то прикоснется к его скрипке, в ней нарушается молекулярный состав. Поэтому никто никогда ее не трогает.
Я убеждена, что скрипка — существо одушевленное. Со скрипками происходят мистические истории и загадочные приключения. Скрипка — это загадка. Когда создают скрипку (пусть даже современные мастера), непонятно, как из какого-то кусочка дерева получается инструмент с таким голосом. Володя всю свою скрипичную карьеру сделал на итальянской скрипке мастера Гобетти из Венеции. У Володиной Гобетти был «инфаркт» — вставка из современного дерева на верхней деке. Замечательный французский скрипичный мастер Этьен Ватло говорил, осматривая ее со всех сторон:
— Она не должна звучать, не понимаю, почему она вообще звучит.
А она звучала в руках Володи фантастически. Один старый питерский мастер как-то сказал:
— Вовочка, с тобой хорошо продавать скрипки — любая кастрюля через три минуты начинает звучать.
Это правда — у Спивакова уникальный звук, и не я это придумала; редкий дар владения звуком, способность извлекать свой особенный звук. Думаю, из-за Гобетти он отчасти перестал в свое время обращаться к концертам крупной формы. Когда его спрашивали, почему он прекратил играть Брамса, он отвечал, что не может добиться на ней того, что хотел бы услышать. Она не могла дать тот звук, к которому он стремился. Допустим, у балерины есть определенные физические возможности — в силу природных данных она что-то может станцевать, а что-то нет. Так и скрипка. Володя как-то «химичил», используя свои профессиональные секреты, скрипка задыхалась и, что странно, хуже всего чувствовала себя именно в Венеции, у себя на родине. Она кашляла, скрипела, шамкала, как будто у нее начинался дикий ларингит и катар. Вела она себя там омерзительно.
Володя всегда говорил, что денег купить Страдивари у него не будет никогда и что свою жизнь скрипача он уже прожил. Иметь Страдивари — это мечта любого скрипача. Он считал, что она неосуществима — и Бог с ней. Брать из государственной коллекции он не хотел, хотя ему предлагали. Считал, что скрипка должна жить с музыкантом, принадлежать ему. Он вообще в чем-то собственник: не любит снимать квартиры, предпочитает купить, не любит брать вещи напрокат — предпочитает иметь свои.
У меня всегда была мечта, что появится кто-то, который или купит, или подарит, или даст Спивакову в пожизненное пользование настоящую скрипку. Но мечта оставалась мечтой. Однажды он готовил концерт Брамса в Мюнхене. Приехал очень известный коллекционер скрипок со странным именем Модерн, позвонил Володе, попросил разрешения показать инструменты из своей коллекции. Приехал и — выложил у нас на кровати пять-шесть уникальных скрипок: Гварнери, дель Джезу, Страдивари. Одну из Страдивари Володя взял, заиграл на ней первую фразу концерта Брамса — помню, я вышла из номера, потому что у меня перехватило горло от острого чувства несправедливости. Я подумала о том, что скрипка стоит таких денег, каких у нас никогда не было и не будет, купить эту скрипку нам некому. И она будет храниться в каком-то банке или попадет в руки какому-нибудь японцу, который станет выводить на ней пассажики один быстрее другого. Еще я думала о том, что эти драгоценные скрипки были сделаны для того, чтобы звучать, соприкасаться с руками великих исполнителей, вибрировать вместе с кровью, текущей по жилам скрипача. В скрипке заводится жучок. Скрипки стареют и сыреют, если на них долго не играют. Как жемчуг, который умирает, если не соприкасается с женской кожей. Только скрипки умирают значительно быстрее, чем жемчуг, который мертвеет спустя 300 лет. А скрипку, если на ней не поиграют лет тридцать, надо восстанавливать и восстанавливать.
Настоящая скрипка — такой раритет, что становится наилучшим вложением денег. Если Давид Федорович Ойстрах в свое время мог себе позволить купить Страдивари, то для поколения Володи (из сорока лет карьеры тридцать приходились на работу на Советский Союз и Госконцерт) это было недоступно. Так что коллекционер собрал скрипки и исчез.
Порой случалось, что Володя брал у кого-то шикарный инструмент — и откладывал. Один итальянский скрипач имел аж две превосходные скрипки, но у него была очень богатая жена. В этом Спивакову не повезло. Я часто плакалась нашему импресарио Мишелю Глотцу, что, мол, вот бы купить Володе скрипку!
Однажды, три года назад, он играл в Париже концерт Чайковского с «Оркестром де Пари». И на концерт пришел Володин старший сын Саша, которому сейчас 31 год. Он скрипач, очень дружит с Вадимом Репиным и многими музыкантами. С ним был знакомый, с которым они зашли за кулисы. Знакомый звали его Эдуард — оказался милым человеком, музыкантом, давно эмигрировавшим из Латвии, и одним из самых крупных торговцев скрипками на сегодняшний день. Вместе с неким американцем, который скупает отличные инструменты, он создал фонд и продает скрипки. Через его руки проходит все лучшее. Конечно, такие скрипки должны иметь сертификат. На аукцион они выходят только при наличии двух сертификатов авторитетнейших экспертов (если имеется в виду Страдивари, то это либо лондонский скрипичный мастер Бир, либо парижский — Этьен Ватло, живая легенда).
Эдуард говорит:
— Маэстро, я потрясен вашей игрой, но скрипка у вас — дерьмо.
Я даже как-то замялась.
— Хотите, завтра я принесу вам показать настоящий инструмент?
Назавтра он привозит три инструмента, каждый из которых звучит превосходно, но один — феноменально. И тут меня начинает колотить, мои мозги мучительно напрягаются. Как же так, надо же что-то придумать! Володя поиграл, потом всех усадил пить чай:
— Вы очень славный парень, вы мне нравитесь, но у меня нет таких денег. Мне негде взять двух с половиной миллионов долларов.
На другой день Володя уехал, а я позвонила Эдуарду:
— Эдик, прошу вас, не продавайте эту скрипку. Я буду искать деньги.
Он ответил:
— Я сразу понял, что с вами можно иметь дело.
Я попросила, прежде чем начну обращаться к людям, заручиться сертификатом Этьена Ватло. Эдуард согласился поехать к Ватло. Ватло — снайпер. Он уникально чувствует, как и что наладить — как чуть-чуть подвинуть душку, чтобы скрипка зазвучала божественно. У него в мастерской — коллекция фотографий всех великих скрипачей, начиная от Жинет Неве и заканчивая Анн-Софи Муттер, которая называет его «мой доктор». Он трогательно носится с каждым инструментом, сейчас, правда, уже меньше. Определяет он скрипку так: сидя в одном углу комнаты, он по появившемуся фрагменту угадывает все — мастера, дату, место создания. Руки Ватло затряслись, он сказал:
— Это «Страд», 1712 или 13-й год. Дайте сюда. В это время он сделал две скрипки, одну из которых я держал в руках. Видимо, это вторая.
Как он это делает? Непонятно! Эдуард был потрясен. Он действительно принес Страдивари 1712 года. Причем в дате на этикете 2 переправлено на 3 — видимо, мастер делал скрипку два года. Дата пишется внутри, это видно в прорези эфы под подставкой. Называется пергамент или бумажка, на которой чернилами пишется дата, — «этикет», она наклеивается изнутри на нижнюю деку. Столько было фальшивых этикетов — несметное количество. Скрипка оказалась в идеальном состоянии. Она называлась «Хримали» (или «Гржимали») и, наверное, принадлежала скрипачу, написавшему для скрипки «Этюды Гржимали». Он выступал в России, и возможно, скрипка эта тоже когда-то побывала в России. Но это доподлинно не известно. Она долго лежала в каком-то банке, кто на ней играл — неясно.
Мы вышли от Ватло, сели с Эдиком курить на rue de Rome, где располагаются все скрипичные мастера в Париже.
— Ну что, теперь надо искать два с половиной миллиона, — сказал он.
— Ты понимаешь, что, когда на ней поиграет Спиваков, она будет стоить три?
Но у меня и двух с половиной не было. Тогда я позвонила своему дорогому Пласидо в Испанию, человеку очень богатому, который, я знала, хотел бы попробовать вложить деньги в скрипки. Как известно, эти вклады только растут, тем более что скрипка застрахована. Он ответил, что с двух миллионов бы не начинал.
— Нельзя ли что-нибудь за миллион?
— За миллион нельзя, — ответила я. — Спиваков всю жизнь играет на такой скрипке, что сейчас ему нужна либо эта, либо никакая другая.
Он вполне резонно возразил, что если вложить два миллиона в бизнес, они принесут не три миллиона, как скрипка, а десять. Я повесила трубку.
Потом я позвонила Мишелю Глотцу, у которого есть друзья, очень любящие музыку и Спивакова.
— Пожалуй, полтора миллиона они дадут, — ответил Мишель.
Я перезвонила испанцу:
— Ты согласен дать миллион?
— Ты что, за пятнадцать минут нашла недостающие полтора?
— Нашла, — сказала я.
Я торговалась, мне было стыдно, меня ломало, все болело внутри. «Господи, — думала я, — ну почему это так недоступно для моего мужа — человека, которому сам Бог велел играть на Страдивари?»
Тем временем Мишель договорился с французами, а когда испанский друг услышал, что они дают больше, его заело:
— В конце концов, я крестный твоей дочери, давай пополам, — заявил он.
Договорились пополам. Володя ничего не знал, в течение лета формальности были улажены. Глотц нашел адвокатов, которые оформили так называемое «soсiety» — общество, в которое входят обе семьи. По условиям контракта они имеют равное количество своих долей. Скрипка предоставлена Спивакову в пожизненное пользование. А когда она вернется к владельцам, их наследники делят по равным долям ту цену, которую она будет иметь на тот момент. Думаю, они не прогадали. Мишель приехал со всеми бумагами к нам на юг, где мы отдыхали в конце августа. Вышел к Володе, сидевшему у бассейна, посмотрел на него своими ярко-голубыми глазами (он очень похож, когда летом загорелый, на худого египетского кота с острыми ушами), обнял его за плечи и сказал:
— Послушай, когда мы вернемся в Париж, с 10 сентября ты будешь играть на Страдивари. Я привез все бумаги.
Володя получил скрипку за неделю до сольного концерта в театре «Champs Elysees».
Я помню ту сцену, когда Эдик привез к нам домой эту скрипку. Володя занимался на своей Гобетти. Странное ощущение — он играл на ней не отрываясь, как бы прощаясь, все время оборачиваясь, не звонят ли в дверь. Я стояла на балконе и увидела такси, откуда вышел Эдуард со скрипкой. Раздался звонок, Володя положил Гобетти на стол, встретил Эдика и взял Страдивари. Начал ее обыгрывать, а у Гобетти был такой потерянный вид, как у брошенной старой женщины, которой предпочли молодую красотку. Красотку с норовом, надо сказать, но в решающий момент умеющую выдать все, на что она способна. Гобетти так и лежала, обсыпанная чуть-чуть канифольной пылью, как пеплом. Я смотрела и думала: «Теперь она отдохнет». Надо сказать, что Володя ни разу к ней больше не притронулся.
Это была любовь с первого взгляда. Как-то давно один американский коллекционер предложил Спивакову скрипку с условием, что он может брать ее в любой момент. Володя поиграл на ней дня три и вернул с запиской: «Я понял разницу между любовью и страстью». Любовь была к Гобетти, а к той он испытывал временную страсть. Чувство, возникшее у него к Страдивари, похоже, затянулось. У музыкантов странные отношения с инструментами. Ростропович, сделавший всю карьеру на Сториони, купил знаменитого раненого Страдивариуса (по легенде, Наполеон задел его своей шпорой — поди проверь, действительно ли на ней след от шпоры Наполеона). Но в последнее время все чаще опять берется за Сториони.
Спиваков играет на Страдивари последние четыре года благодаря тем людям, которые не пожалели денег, рискнули, поверили, которые настаивают на том, чтобы нигде не упоминалось, кому эта скрипка принадлежит. Они не хотят делать себе рекламу. Старые инструменты, на которых играли великие, называются «экс-Менухин» или «экс-Ойстрах». Наверное, когда-нибудь эта скрипка будет называться «экс-Спиваков»…
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Как-то Женю Кисина спросили, давно ли он знаком со Спиваковым. Женя ответил, прищурив глаза и как бы считая про себя, с присущей ему уверенностью:
— Больше половины моей жизни.
Это правда. Сейчас ему тридцать, а знаем мы его с 1984 года, когда ему было двенадцать, а на вид — лет восемь.
Впервые Володя пригласил его выступать с «Виртуозами Москвы» в Ереване. До этого у Жени был первый сольный концерт в консерватории и выступление с оркестром под управлением Дмитрия Китаенко. Мы знали о существовании этого чудо-мальчика, Спиваков слышал его игру. И вот они выступили вместе на фестивале «„Виртуозы Москвы“ — трудящимся Армении». За две недели прошло двенадцать концертов, там же отметили сорокалетие Спивакова. Женя тогда был маленьким, щупленьким, с тоненькой шейкой и впалой грудью, с копной курчавых каштановых волос, нереально объемных. Как я потом выяснила, проведя с Женей много времени в поездках, он моет голову чуть ли не каждый день. Эти летящие кудри обстричь коротко невозможно — за пару дней все снова обретает объем, как куст. Он выходил в те годы на сцену в белой рубашечке и пионерском галстуке.
Не могу сказать, как он играл. Это даже была не игра на инструменте, а разговор с Господом. Это невозможно было слушать без слез. Невозможно было думать о чем-то другом. Даже самый выдающийся музыкант не может забрать всего внимания публики, бывает только какая-то вспышка, которая переносит вас в другое измерение. А Женя играл так, что в каждой ноте открывался какой-то космос: все обычное, сиюминутное забывалось, обесценивалось и меркло. Ничего подобного в своей жизни я не слышала и, наверное, не услышу. В его исполнении уже тогда поражала не виртуозность, не техника, а необыкновенная глубина мудрость, зрелость не по возрасту. Ребенок словно был пришельцем.
Историческая заслуга Жени Кисина как пианиста XX века в том, что он раздвинул рамки возможностей владения инструментом. Он поднял планку пианизма. Поколение, пришедшее через десять лет после него, даже страдает от этого. Последние годы я часто слышала суждения: «Такой-то играет, как молодой Кисин». Или: «Это шикарный пианист, но не Кисин». Он стал эталонной величиной на многие годы вперед.
В общении Женя был странным. Всегда с ним ездили мама и педагог Анна Павловна. Ему и сейчас с ними хорошо, удобно, они — его среда. Анна Павловна его неотъемлемая часть. Существует знаменитый роман «Трильби», откуда пошел термин «цвингализм», о педагоге Цвингали, внушившем певице, что она гениальна. Когда та выходила на сцену, он всегда сидел в зале. В день его смерти она перестала петь. Женин случай далек от романного, но Анна Павловна на ранней стадии «сделала» Кисина и до сих пор, как играющий тренер, все время с ним занимается. Она живет в одной квартире с Кисиными и является членом их семьи. Может быть, кого-то раздражает необходимость всегда и всюду приглашать их вместе, платить за их перемещения, но приходится мириться. Для Жени она талисман. И обе эти женщины — его команда. Сам факт, что человеку тридцать лет, а он не расстается с педагогом, — нетипичен. Не надо думать, что Женя просто инфантилен, что он — мальчик, которым управляют. Он упрям, у него свои принципы, переубедить его крайне сложно. Он знает, чего он хочет, и живет так, как ему удобно. Эти люди — его родители и его педагог — создали для него кокон, в котором он существует, и ничто не мешает ему заниматься главным.
В детстве он был мальчиком интравертным, малоразговорчивым, с недетским поведением. Представить его веселящимся без удержу было невозможно, поэтому, если Женя шел куда-то играть в футбол или рассказывал анекдот, это воспринималось как невероятное событие. Помню нашу с ним смешную первую поездку за границу. Осенью 1985 года были «Дни культуры СССР» в Венгрии. Пригласили Ленком, «Виртуозов Москвы» и другие творческие коллективы. Володя хотел взять с собой Кисина. А замминистра культуры Георгий Александрович Иванов сказал:
— Кисин никуда не поедет. Это ребенок не очень здоровый (почему-то считалось, что если Женя не такой, как все, он нездоров), он должен проходить школьную программу, на гастроли ему еще ездить рано. Я как замминистра культуры говорю: он никуда не поедет.
На что Спиваков ответил:
— А я как Владимир Спиваков говорю, что он поедет.
Хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка, и пошел прямо к Демичеву. Надо сознаться, что Петр Нилович Демичев очень Володю любил.
— Петр Нилыч, я ручаюсь вам за него как за себя. Он должен поехать со мной. Либо не поеду я, — сказал Спиваков Демичеву.
И Кисина выпустили с нами. Он выступил с «Виртуозами Москвы» и сыграл сольный концерт. Его игра произвела в Будапеште эффект разорвавшейся бомбы.
Тогда ему было тринадцать лет и он собирал плюшевых мышек. Эти мышки рядком располагались у него на тумбочке. Каждый вечер перед сном он укладывал их спать в кроватки с одеялками. Я пошла гулять по Будапешту и увидела огромную плюшевую мышь-бабушку в фартуке и очках. Купила, поднялась в номер, постучала, никто не отзывается. Взрослые были внизу, в холле гостиницы, Женя оставался один. Вхожу, а он стоит за дверью и поглядывает исподлобья.
Я сажаю мышь на стол и говорю:
— Я принесла твоим мышкам няню.
Он подошел и долго смотрел на мышь.
Я и сейчас продолжаю воспринимать его как ребенка, Володя же всегда общался с ним на равных, как с другом.
Меня всегда покоряла Женина неутомимость. Он может выйти играть бисы один, два, пять, восемь раз. Когда был маленьким, мама с Анной Павловной махали ему из зала: «Женя, довольно!» У него были какие-то внутренние алгоритмы поведения. Никогда не забуду, как он играл с «Виртуозами» в Питере в зале филармонии. Анна Павловна сидела во второй от сцены ложе, а Женя всегда отдавал цветы в зал учительнице. И тогда ему тоже подарили букет и он полез, карабкаясь по белым балясинам, обхватывая колонну, чуть ли не с букетом в зубах. Весь зал замер.
Это сейчас Женя Кисин стал тем пианистом, который переиграл со всеми выдающимися дирижерами мира, последним сыграл с Караяном. Конечно, кто, как не он, этого достоин. Принимать его у себя все почитают за честь — и это правильно. И слава Богу, что его не заперли надолго под замок как «не очень здорового мальчика». Родись он на двадцать лет раньше — не знаю, как сложилась бы его судьба. Тогда, в начале восьмидесятых, крестными отцами его первых концертов на Западе были «Виртуозы Москвы». Они были его первооткрывателями. Потом его стали приглашать с сольными выступлениями. И первые импресарио появились у Жени с легкой руки моего мужа. И к Караяну впервые Женя пошел с Володей.
Эта встреча была знаменательной. Таких скрипачей, как Володя, — мало. Караян согласился послушать Женю, а когда узнал, что он гастролирует с «Виртуозами Москвы», пригласил их вместе с Володей. И сказал Спивакову:
— В свое время я очень долго вас ждал, очень много раз приглашал вас, раза три. Все три раза мне говорили, что вы заняты.
Это было в 70-е годы, и я даже знаю, кто в Госконцерте так отвечал на запросы Караяна. Мой муж не работал в определенных органах, а главное — не возил подарков чиновникам и дамочкам из Госконцерта. Соответственно, приглашения от Караяна клались под сукно. Это было нормой. Тот импресарио, который привозил подарки лучше, получал тех артистов, которых хотел. Артист, знавший, кому, когда и какой нужно сделать подарок, без проблем получал визу и лучшие концерты. Откуда об этом мог знать приглашавший Спивакова Караян, когда ему отвечали, что артист болен или в поездке по Сибири? Вместо него ехали другие скрипачи. Помню, как в начале горбачевской эры звонила пожилая особа, занимавшаяся паспортами, признававшаяся в любви «Володечке», называвшая меня «Сатенькой», и просила, чтобы он привез ей мохеровую кофточку. Все жили этим!
Мой муж — человек безумно щедрый и любящий делать подарки (по большей части он делает их тем, кто ему ничего не должен и ничего для него не сделал, просто по велению сердца. Я называю его Санта-Клаусом, когда он достает из чемоданов подарки, — он всегда помнит, кому и что хотел подарить), но одно дело подарки, другое — взятки. Взяток он давать никогда не умел. Не знаю, жалеет ли он, что не сыграл с Караяном. Я жалею очень.
Так вот… Спустя много лет он пришел к Караяну с Кисиным и переводил Жене с немецкого, поскольку тот еще не владел языками. Теперь у Кисина нет подобных проблем, он настолько способный, что может выучить любой язык, даже японский. Когда Женя сыграл с Караяном, состоялось его мировое боевое крещение.
Помню, мы впервые приехали в Италию. Женя был тогда своего рода «сын полка» в оркестре. «Виртуозы Москвы» взяли над ним шефство, купили первый концертный смокинг и бабочку, у него появилась первая видеокамера. Во Флоренции, в галерее Уффици, где можно фотографировать картины, он в задумчивости стоял у окна и снимал воды реки Арно. Эмилия Ароновна и Анна Павловна записывали комментарий: «Женя снимает реку Арно». В Милане в концертном зале выход на сцену — через стеклянную дверь. Когда Женя, отыграв в первом отделении, встал за ней, чтобы послушать второе, экспансивные итальянцы кинулись к этой двери за автографами.
Он очень красив на сцене. Он и в жизни красив, только немного угловат, как внезапно вымахавший ребенок, а огромные руки всегда напоминали мне руки Ван Клиберна. Вне сцены он всегда как будто скучает, не знает, чем себя занять. Например, во время одного затянувшегося застолья подошел к Анне Павловне и начал у нее на спине отрабатывать какие-то три ноты. Женя безумно остроумен. Одна из влюбленных в него девушек решила блеснуть эрудицией и написала письмо: «Я, конечно, не Татьяна Ларская». На что Женька ответил: «Простите, да и я не Лунский».
Женя Кисин — очень педантичный и точный человек в том, что касается цифр. У него феноменальная память: он помнит день и час, когда впервые встретил вас. И неважно, случайное это знакомство или близкая дружба. Он вспомнит даже, в каком платье вы были в тот день. Тут же добавив, кто из великих родился в этот же день. Или под каким знаком Зодиака. Он мог бы быть фантастическим шахматистом или астрологом. Его мозг как уникальный совершенный компьютер, хранящий сведения, которые могут пригодиться или никогда не пригодятся.
Маленьким Женя писал замечательные, ироничные стихи. Однажды, на гастролях в Тель-Авиве, он преподнес Спивакову поздравление с днем рождения на бланке отеля с характерными ивритскими закорючками:
…Весь иудейский народ Встречает сейчас Новый год! По «счастливому» совпадению У Вас сегодня День Рождения! Примите же сердечные поздравления От комсомольца Кисина Евгения! Желаю провести его счастливо Под ярким, знойным солнцем Тель-Авива! Здоровья, счастья Вам и оптимизма! Желаю Вам дожить до коммунизма!!!.. 12.09.88 г. Тель-Авив. Женя КисинПриближались его 16 лет, Володя был с Женей в Японии. Когда японцы спросили Спивакова на пресс-конференции, кого он считает первым пианистом на сегодняшний день, Спиваков ответил: «Выдающийся русский пианист конца XX века — Евгений Кисин». Японцы засмеялись. Володя приехал возмущенный: он просил представителей фирмы «Ямаха» подарить Жене рояль. Казалось бы, что им стоило! Но они ограничились какой-то электронной клавиатурой.
— Я должен купить ему рояль.
— Почему ты?
— Если не я — никто не купит. Мальчик должен заниматься на рояле.
И мы стали искать маленький рояль.
Здесь оказалась как нельзя более кстати наша страсть к живописи. Когда родилась Катя, Володя купил «Ночной Париж» Константина Коровина за 1500 рублей. По тем временам — семнадцать лет назад — большие деньги. Человек, разбудивший в нас страсть к коллекционированию, говорил:
— Володечка, я все покупаю по ценам завтрашнего дня.
И еще:
— Вещь подлинная, хотя и подписная.
Мы продали какую-то картину, добавили еще отложенные для других целей деньги — и собрали нужную сумму. Уезжал на Запад наш большой друг, пианист Борис Бехтерев, с которым Володя много лет играл вместе. Его отъезд был для моего мужа большой драмой. У Бори был малюсенький старинный «Стейнвей»-миньон. Мы купили его, отполировали, настроили. Для Спивакова было наслаждением преподнести этот подарок именно так, как он срежиссировал: в день шестнадцатилетия грузчики привезли Жене рояль с запиской от Спивакова на пюпитре. Папа его рассказывал, что, когда Женя пришел, увидел рояль, прочитал записку, он даже крышку в первый момент не смог открыть — настолько был потрясен.
Женя много выступал с «Виртуозами», даже пару раз играл с Володей сольные концерты, когда стал постарше. К сожалению, в то же бюро Сарфати мы привели и Женю. Когда Володя ушел со скандалом, наша «инномабиле», чтобы отомстить нам, стала накручивать Кисина против Спивакова. Буквально напрямую. Ему внушали, что Володя не хочет его больше приглашать. И хотя Эмилия Ароновна как-то сказала мне: «Не думайте, что, если мне что-то говорят, я в это верю, — каждый имеет свое мнение», — возникла какая-то многолетняя синкопа, пауза. Женя исчез, перестал даже вспоминать о Спивакове. Показалось, что Спиваков не нужен, что это — пройденный этап.
Мы встретились с ним на ужине у общих друзей много лет спустя по счастливой случайности. Я спросила прямо:
— Ты вспомнил, что знаешь Спивакова половину своей жизни? Как же можно так обижать его, не отвечать на его приглашения, отказываться? Ты что, стал «великим», Женя? Обижать Володю — грех.
У Жени был шок, он подавился омаром. Но я знаю, что иногда так и надо воздействовать — шоковой терапией. Мне не хотелось портить восхитительный званый ужин в доме очень милых людей, у которых крестным внука стал Спиваков, а внучки — Кисин. Но я воспользовалась моментом:
— Если ты считаешь Володю своим другом, докажи: приезжай играть в Москву или в Кольмар — куда угодно. Докажи, что ты все тот же. Что ты не зазнался и не вознесся к небесам. Слава проходит, а человеческие отношения остаются.
Он обещал приехать.
После восстановления наших отношений он сразу прислал свое расписание концерт 11 июля 2001 года. На наш официальный запрос бюро Сарфати ответило:
— Забудьте о Кисине, это слишком дорого для вас.
Я закусила удила и спросила:
— Дорого — это сколько?
Мне помогла сориентироваться Лена Ростропович, у которой Кисин играл в прошлом году на фестивале в Эвиане. Нам дали цену процентов на десять дороже. Хорошо. Я велела нашему директору, который торгуется всегда, и правильно делает — иначе фестиваль не выживет, — на этот раз не торговаться. «Деньги достанем», — решила я. И потребовала немедленно выслать контракт, чтобы им не к чему было придраться. Мы соглашались на все их условия. Кисин должен был вернуться в Кольмар. Ведь дамы из бюро Сарфати поклялись, что Кисина Володя не увидит. Такова была их месть: двух человек, которых он привел в это бюро, Кисина и Светланова, от Володи отрезали — манипуляциями, интригами, наветами. Когда свалилась цифра и я схватилась за голову, мне помог наш большой друг Валентин Строяковский. Он — бизнесмен с «чистыми руками», что бывает редко. На его вопрос: «Что случилось?» — я объяснила, что фактически теперь надо Кисина выкупать. Он сказал:
— Забудь. Я буду спонсором этого концерта. Путь это будет твоя последняя проблема.
Спустя пару месяцев позвонил Кисин:
— Владимир Теодорович, я, наверное, не смогу приехать, поскольку мне говорят в агентстве, что на эти же числа я приглашен в Эвиан. Так как они пригласили меня первыми (что было неправдой, первым пригласил его Кольмар) и я играл у них в прошлом году, я должен поехать.
Я перезвонила Лене Ростропович с единственным вопросом:
— Ты опять приглашаешь Кисина?
На что получила ответ:
— Фестиваль в Эвиане заканчивается раньше, Кисин второй раз не приглашен.
Володя созвонился с Женей и дал тому «вещдок», подтверждающий, что ему беззастенчиво врут, — а именно отпечатанную программу фестиваля в Эвиане, в которой выступление Кисина не значилось. Бюро Сарфати пришлось смириться.
Надо сказать, что, когда Володя только организовал фестиваль в Кольмаре, Альбер Сарфати отнесся к начинанию очень скептически и даже отказался от своих комиссионных импресарио:
— Я знаю прекрасно, что такое создать фестиваль во Франции. Первый же год станет последним. Разобьешь себе морду.
Он не воспринимал это серьезно. Как-то на пресс-конференции Володю спросили:
— Во Франции фестивалей — как сортов сыра. Что вы собираетесь создать?
Он ответил:
— Новый сорт сыра.
Госпожа Сарфати приехала в Кольмар с Кисиным и была потрясена — собор отремонтирован, народу полно, фестиваль процветает. И она сдалась. По крайней мере, мы помирились. Я от чистого сердца пригласила ее ужинать после концерта Кисина, подняла за нее бокал, Володя тоже. Прежде всего как за жену Альбера, с которым нас при его жизни связывало многое…
Природные возможности Кисина плюс его темперамент и труд перевернули с ног на голову все законы постановки рук, пределов темпов, в которых можно играть. Имея в виду Горовица, он сказал как-то, что «техника должна быть эффектной, это ее функциональное, стилистическое назначение». Его игра не вызывает сейчас ощущения оторопи и мыслей о мгновении вечности — «memento mori». Шопена теперь он играет иначе, чем в пятнадцать лет. Похоже, ему скучно, потому что Шопен в плане техники не представляет для него ничего сложного. Он азартен в овладении новыми вершинами, для него это сродни рекорду в спорте. После Кисина многим пианистам сложно играть как прежде. Думаю, Женя еще проявит себя невероятно. Он рано начал и к тридцати годам прожил уже половину творческой жизни нормального музыканта.
Кисин — гигантский музыкант. У меня есть все его диски. Я слушаю их в одиночестве, когда мне очень хорошо или очень плохо. Я хожу на его концерты. Особо любимые произведения — Рахманинов, 23-й концерт Моцарта, Лист. Конечно, Кисин — гений и ему некого расталкивать локтями, ибо там, где он плывет, нет никого. В тридцать лет у него начисто отсутствует карьеризм. Он талант не изломанный, а гармоничный. Дай Бог, чтобы гармония окружала его всегда, чтобы его охраняли любящие руки, крылья его ангела. Никогда не забуду, как в одном из своих первых интервью Женя Кисин ответил на вопрос, что такое счастье: «Счастье — это мгновение и вечность».
ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТАЛАНТЫ
Среди молодых скрипачей нового времени двое самых знаменитых — Вадим Репин и Максим Венгеров — олицетворяют для меня два полюса в отношении к творчеству, к карьере. Для Володиного поколения музыкантов деньги никогда не стояли на первом месте. Молодые сейчас гораздо более «зубастые», они рано начинают, знают себе цену и вывешивают «таксу», «прайс-лист». Когда-то совсем юный Максим Венгеров приезжал на Володины концерты. Я впервые увидела его в Питере, куда мама привезла Максима специально на концерт Спивакова. Максим еще в детстве слушал его пластинки, Володя в свою очередь всегда восхищался его талантом. Когда Максим стал очень известен, мы встречались в одной и той же компании на Западе.
По словам мамы Максима, он был бы счастлив приехать сыграть у Спивакова на фестивале. И мы пригласили его года три назад. Связались с импресарио и получили ответ: «Господин Венгеров может приехать. Условия: гонорар 30 тысяч долларов, четыре билета на самолет в первом классе и два номера „люкс“ в отеле». Мы ответили, что таких гонораров у нас на фестивале никто не получает. Не секрет, что на многих фестивалях «делают цену»: артисты для проектов коллег соглашаются играть за меньшую цену. Ростропович как-то сказал мне: «У меня принцип — я не снижаю гонорара. Либо выступаю за свой гонорар, либо благотворительно. Но играю, и часто…» В Кольмаре он сыграл благотворительный концерт: «Старики, если я возьму свой гонорар, вы разоритесь». Но для этого надо быть Ростроповичем. А Максиму нет еще тридцати.
Володя набрал его телефон:
— Здравствуй, Максим.
— Здравствуйте, маэстро.
— Твой импресарио прислал предложения, но у меня на фестивале нет таких денег. Не мог бы ты поговорить с ним, чтобы согласиться на меньшую сумму?
— Вы знаете, маэстро, у нас с импресарио такой договор: он не вмешивается в мою интерпретацию, а я — в финансовые вопросы. Если он столько просит, значит, я столько стою.
— Я не говорю, что ты не стоишь тридцати тысяч, я счастлив, что ты получаешь такие деньги. Но бывают случаи… Все-таки мы коллеги, мы — русские музыканты, ты должен меня понять.
— Я не могу с ним говорить на эти темы, — ответил Максим.
— За меня тоже Мишель Глотц просит большие деньги, но, когда предлагают маленькие, он всегда спрашивает, поеду ли я. И я часто соглашаюсь. Тем более, знаешь, на фестивале в Кольмаре можно сыграть и благотворительный концерт. Как это сделал Ростропович.
— Вы знаете, маэстро, сколько я сыграл в прошлом году благотворительных концертов? Семь!
Спиваков ответил:
— Я сыграл значительно больше, не буду говорить сколько — я их не считаю.
— Попробуйте напишите моему импресарио, может быть, я и сыграю благотворительно.
Спиваков повесил трубку и подвел итог:
— Для меня этого мальчика больше не существует.
Володя не обиделся. Он уже ни на кого не обижается. Просто он закрыл для себя тему Максима Венгерова. И думаю, что потерял больше Максим, нежели Спиваков.
Мы пересказали этот сюжет Славе Ростроповичу и другим людям. Думаю, что Максим кое-что понял. Через некоторое время Спиваков готовился к концерту в Нью-Йорке в Avery Fisher Hall, а у Венгерова накануне должен был состояться концерт в Карнеги-холл. Недалеко от Линкольн-центра они встретились, поздоровались.
— Я видел, у вас концерт. У меня тоже, завтра. Вы придете? — спросил Максим с надеждой.
— Нет, — ответил Володя. — И не потому, что я занят, а потому, что ты меня очень надолго разочаровал. Я не хочу тебя слушать, я просто желаю тебе успеха.
— Маэстро, я готов приехать к вам в Кольмар и сыграть благотворительный концерт.
— Но я уже не готов тебя приглашать, — ответил Спиваков.
На этом они расстались.
Зачастую молодые музыканты думают: слава, деньги и сопутствующая суета и есть путь артиста. Это происходит еще и от недостатка культуры. Независимо от того, из какой ты семьи, процесс самообразования очень важен — тогда человек становится достойным, тогда с ним интересно общаться и выступать на сцене. Что такое культура? Я обожаю фразу писательницы Сельмы Лагерлёф: «Культура — это то, что остается, когда все забыто».
Я очень люблю Вадима Репина — и как личность, и как музыканта. Из современных русских скрипачей он мне импонирует больше всех. А он именно русский скрипач, несмотря на то что живет то в Монако, то в Германии — как все молодые востребованные артисты, которые на самом деле живут в самолетах.
Вадим Репин тоже начал выступать очень рано. Как-то давно он играл с «Виртуозами Москвы» концерт в Кремле. Он был похож на такой толстый шар, выкатывающийся на сцену. Подростком он признавался в интервью, что выходит на сцену, как на футбол, и совсем не волнуется. Помню эти пухлые щеки, за которые его неудержимо хотелось потрепать. Тогда невозможно было представить, что из него вырастет красивый мужчина. А сейчас я при нем робею, подтягиваюсь, будто мне не сорок, а двадцать пять.
У Вадима широкая натура, он очень добрый. Я слышала от его приятелей, как он умеет дружить, как любит всех пригласить, угостить. Я знаю многих его друзей из старшего поколения, поскольку он тянется к людям старше себя. Вадим умеет красиво жить, красиво ухаживать за женщинами. Недавно он женился на своей подруге — красавице Кэролайн. Он галантен, любезен, очень элегантно одевается — с богемным, западным шиком (в стиле Средиземноморья, в лён и фланель) — и курит сигары, что мне тоже нравится. Выходя в Кольмаре по утрам к завтраку в отеле «Марешаль», я видела его, молодого человека с чуть седеющими висками, сидящего за чашечкой кофе и сигарой, и не могла никак свести воедино в своем сознании этот облик с обликом пухленького сибирского паренька.
Спиваков с удовольствием дирижировал, когда Вадим играл концерт Бетховена на Кольмарском фестивале. Интересно выступать с равным. Интересно, когда рядом стоит достойный музыкант. Ведь в музыке все идет от сложного к простому, с годами приходят глубина и мудрость, форма и мысль концентрируются и упрощаются. Либо исполнение становится простым и гениальным, либо — плоским и скучным.
Репин стал колоссальным скрипачом. Он обязательный и четкий человек… Он полон сил и не исчерпал и половины своих творческих возможностей. Вадим очень умен, образован и для мальчика из Сибири — космополитичен. И все это чувствуется в его игре. Он глубок, в его исполнении нет внешних дешевых эффектов, нет игры на публику, нет виртуозности ради виртуозности, ради эпатажа. В нынешней точке своей карьеры скрипач Вадим Репин — совершенство. И вот теперь он уже волнуется перед концертом.
БАЯРА
В жизни моей семьи есть история, которая, попади она в руки талантливого писателя, могла бы превратиться в большой увлекательный роман.
У моей бабушки была шкатулка, где хранились старые фотографии. Я с детства обожала их рассматривать, особенно любила обитый бархатом альбом с серебряными уголками, куда были вставлены толстые, овальные и квадратные, дагерротипы.
Мой дед по отцовской линии вырос в Ростове, куда его забрал из глухой армянской деревеньки дядя, вырастивший его вместо отца. Дед был сыном священника, одним из самых талантливых в этой семье. Там же в Ростове дед познакомился с моей бабушкой, которая была намного моложе его и по воскресеньям пела в церковном хоре. Он пришел на службу в армянскую церковь и заинтересовался, кто там так сладко поет. Увидев хрупкую женщину с ангельским лицом и волосами, как теперь у моей старшей дочери Кати — бесконечно вьющимися, пышными, — он немедленно на ней женился. Первый их сын умер от брюшного тифа, а спустя несколько месяцев родился мой папа.
Я особенно любила фотографии Ростова 20-30-х годов. На одной из них девочка лет четырнадцати с белым бантом и в белых носочках, держащая на коленях моего отца — в то время трехлетнего мальчика. Я знала, что девочку звали Баяра. Это старинное армянское имя всегда вызывало во мне ассоциации с другой жизнью.
Она была дочерью дяди Арутюна, воспитавшего моего деда, и приходилась моему отцу двоюродной тетей. После бабушкиной смерти, однажды, когда мы с папой листали альбом, он обронил, что Баяра, кажется, в Америке и что он очень хотел бы ее увидеть.
Когда мы с Володей в 1987 году впервые поехали в Штаты, я в шутку сказала, что у меня есть в Америке родственники. Искать в Америке Баяру не имело смысла — папа к тому времени уже умер, я не знала даже ее фамилии. В апреле 1988 года родилась Таня, летом Володя поехал на фестиваль в Танглвуд недалеко от Бостона. Я провела все лето на даче у друзей, мы переписывались, так как тогда еще не было ни мобильной связи, ни возможности звонить по коду.
За неделю до возвращения Володи кто-то привез письмо. «Самое невероятное из всей поездки — я нашел твою Баяру», — писал он.
А дело было так: в его гостиничном номере раздался звонок. Очень интеллигентный голос произнес:
— Не знаю, с чего начать, мое имя вам ничего не скажет, меня зовут Баяра Манусевич.
У Володи феноменальная память, и еще он любит приукрасить действительность.
— Как это ничего не скажет? Я видел вашу фотографию.
— Как, обо мне еще кто-то помнит? Можно, я сейчас приеду?
Приехала очаровательная пожилая женщина, с порога кинулась ему на шею. «Мы обнялись и плакали непонятно от чего», — вспоминал потом Володя.
История же такова. В 1937 году отец Баяры Арутюн, главный инженер крупного завода, был арестован. То ли за анекдот, то ли за то, что у его жены были родственники за границей, то ли потому, что сам обучался за границей. Его жена была подругой Александры Экстер, эскизы которой у них дома искусством не считались, а посему выкидывались. Люди они были очень прогрессивные, за что и поплатились. Когда его уводили, он сказал с порога, обернувшись к дочери: «Ты только учись». Баяре было шестнадцать лет.
Позже, когда мы встретились, она рассказала, что сразу после ареста отца они с матерью пошли к моему деду, но он даже не вышел к ним из комнаты. С ними разговаривала лишь моя бабушка. Баяра не обвиняла: у деда умер первый сын, он понимал, что Зарик — его последний ребенок. В 1937 году ему было за пятьдесят. Он очень боялся за своих близких.
Баяра рано, в семнадцать лет, вышла замуж за своего учителя литературы, которого тоже забрали. Посадили и мать Баяры, но каким-то образом ей удалось списаться с родственниками в Америке, и по ходатайству жены президента Эйзенхауэра, боровшейся за освобождение жен политических заключенных, ее выпустили. Когда же немцы во время Второй мировой войны отступали, мать и дочь ушли с ними как пленные. Родственники в Германии выдавали двух женщин за наемных работниц, а по окончании войны Баяра уехала в США, закончила Бостонский университет. Теперь она — блестящий славист, профессор Гарварда.
В Америке Баяра вышла замуж за скрипача Виктора Манусевича, который был концертмейстером Бостонского филармонического оркестра. Когда оркестр впервые приехал на гастроли в СССР, Виктор навел справки и выяснил, что родственники Баяры живут в Ереване. В те годы мой отец уже стал руководителем камерного оркестра Армении.
Баяра послала письмо на имя Зарэ Саакянца в филармонию. Естественно, оно было вскрыто до того, как попало ему в руки. Его ответное письмо Баяра мне показала. Это почерк отца и не его письмо — конспиративное, закодированное. Трусом отец никогда не был, но его, известнейшего музыканта, чей оркестр знали не только во всей стране, он гастролировал и за рубежом, вызвали в первый отдел и «посоветовали» аккуратно ответить родственнице в Америку, чтобы она оставила его в покое.
«Живу я очень хорошо, у меня подрастает дочь, мама здорова, пополнела, очень довольна пенсией. У меня замечательный оркестр, любимая жена, жизнь прекрасна и удивительна, я богат, счастлив, молод и верю в светлое будущее. Дорогая Баярочка, если Вы когда-нибудь захотите со мной связаться, постарайтесь найти другую оказию».
Больше всего ее потрясло обращение на «Вы». Баяра поняла, что с ней не хотят видеться, и больше никогда не писала отцу.
После наступления горбачевских времен из Ереванского университета приехала группа в Гарвард. От них Баяра узнала, что Зарэ Саакянц умер год назад. В глазах у нее потемнело, потому что Зарик всегда оставался для нее тем мальчиком с глазами цвета темной вишни со старой фотографии. Но тот же человек сообщил ей, что дочь Зарэ стала актрисой, снялась во многих фильмах и вышла замуж за Владимира Спивакова — одного из самых знаменитых в России музыкантов. Баяра пришла домой и, листая программу фестиваля в Танглвуде, обнаружила концерт Владимира Спивакова. Все совпало, замкнулось. Теперь мы очень дружим, держимся друг друга.
Баяра вызывает у меня восхищение. Испытав в юности такие потрясения, она смогла подняться, не озлобиться и жить ради жизни. Написала книгу о Зинаиде Волконской, очень дружит с Вячеславом Ивановым, водила знакомство с Бродским. Сохранила блестящий русский язык, постоянно сыплет цитатам и из Ахматовой, Пастернака, Гиппиус. Она заметная фигура Гарвардского пейзажа. За последние годы Баяра перенесла четыре операции, но не сдается, до сих пор водит машину. Только вот в Россию не хочет приезжать. Недавно ее подруга Мариэтта Чудакова привезла ей все архивы, связанные с арестом ее отца. Баяра понимала, что должна их прочитать, но долго не могла притронуться. Прочтя, выяснила, что отца расстреляли буквально в день ареста в кабинете следователя, узнала, как умер ее первый муж, кто писал доносы. Стало ли ей легче?
…До сих пор не могу прийти в себя оттого, что именно мой муж нашел Баяру. А когда встречаюсь с ней, всякий раз чувствую толчок в сердце — потому что в чертах ее лица узнаю своего отца.
ПИНКАС И «ВТОРНИК»
Еще в те годы, когда было очень сложно приглашать западных звезд в Москву, Спиваков старался, чтобы «Виртуозы Москвы» выступали в концертах со знаменитостями. Гонорары этих артистов, естественно, не соответствовали возможностям приглашающей стороны в лице Госконцерта. Спонсорских денег тогда не водилось, пятизвездочных отелей, где можно было достойно разместить «звезд», — тоже. И тем не менее Володя решил пригласить в Москву скрипача и альтиста Пинкаса Цукермана. Пинкас колебался — он ведь совсем не знал России, Володя его успокаивал и рассказывал, какая у нас замечательная публика. В общем, в конце концов тот согласился приехать, выступить с «Виртуозами» и дать еще сольные концерты в Ленинграде и Москве.
История его визита запомнилась мне надолго. Впервые мне было ужасно обидно за мужа, и я понимала, что он не по своей вине выглядит смешно и жалко.
Познакомившись с Цукерманом поближе, я поняла, что музыкант он безусловно одаренный, но капель крови на сцене не роняющий, нормальный, профессиональный скрипач. Родился и вырос в Израиле, его рано заметили, карьера складывалась славно. Человек абсолютно благополучный, умеренный во всем. Меня его игра оставляла равнодушной.
Гастроли начинались в Ленинграде. Цукерман приезжает с женой Тьюздей (у нее смешное имя, Tuesday по-английски — вторник). Гостиница «Европейская» на ремонте. Мы привыкли к старой «Европейской» — уютной, домашней, «своей» гостинице, где Спивакова встречали со словами: «Володечка, мы приготовили ваши любимые вареники». В этот раз нас поселили в «Прибалтийской» на Васильевском острове, которая считалась интуристовской гостиницей. Цукерман ехал по линии Госконцерта, поэтому о валюте, естественно, не могло быть и речи. Ему выписали невероятный гонорар в рублях, превышающий гонорар всего оркестра. Хотя в переводе на доллары это, конечно, было для него немного.
Бюджет на гостиничные номера у Госконцерта был ограничен, в соответствии с ним иностранцу номер «люкс» не полагался (пришлось бы платить валютой), а Спивакову — полагался. Нам сняли огромный двухэтажный «люкс», а им — крошечный однокомнатный номер. Увидев это, Володя немедленно под свою личную ответственность устроил обмен.
Мы встречали Цукермана с женой в аэропорту, я знала, что она голливудская актриса. Потом до меня дошло, что это она играла в фильме «Однажды в Америке» с Робертом де Ниро. Там Тьюздей — худенькая сексапильная блондинка, в Ленинград же приехала солидная дама. Она уже давно не снималась, поскольку выиграла на бирже большие деньги и завершила свою актерскую карьеру. У Тьюздей, безумно толстой женщины с очень красивым лицом и довольно вздорным характером, постоянно болела спина, поэтому Пинкас нес в одной руке скрипку, в другой альт (Страдивари и Гварнери — не меньше), а под мышкой — какое-то «седло», которое его жена подкладывала под свою громадную филейную часть, садясь в кресла.
Мы повели их ужинать — «кавиар, водка, блины» — все как положено. Первым вечером все остались довольны. Наутро в наш крошечный номер постучал Пинкас:
— Тьюздей спит, можно, я у тебя поиграю?
Володя играл в ванной, он — между столом и кроватью. Вскоре Пинкас ушел. Вечером спросил, что мы делали весь день. Володя ответил, что занимался.
— Зачем ты столько занимаешься, ты же уже все знаешь! — недоумевал он.
Я пыталась организовать для Тьюздей экскурсии в Эрмитаж, но жену Цукермана ничего не волновало — она спала.
Они замечательно сыграли концерт. Пинкас был потрясен тем, как ленинградская публика принимала Спивакова. Западные артисты не привыкли к цветам, а зрители несли их и несли, и Володя стоял, весь обвешанный букетами.
Катастрофа разразилась чуть позже. Мы в те годы ездили из Ленинграда в Москву «Стрелой»: вагоны СВ, чай, накрахмаленное белье — символ романтического путешествия. Я спросила директора оркестра, когда мы уезжаем, и он назвал мне время, подозрительно не похожее на время отхода «Стрелы». Когда мы подъехали на вокзал, оркестранты уже были в поезде. Один из них вышел и сказал:
— Ребята, в этот туалет их пускать нельзя.
Оказалось, у нас билеты на один из ночных пассажирских поездов. А мы-то, когда гости спрашивали, почему не летим самолетом, расписывали прелести нашего знаменитого поезда! Естественно, за просчет дирекции пришлось отвечать Спивакову. Когда я увидела купе на четверых, где Пинкас пытался подсадить свою даму на верхнюю полку, а она оттуда все время сваливалась, перевешиваемая пятой точкой, мне стало страшно. В коридоре тускло горела единственная лампочка Ильича, и я молилась, чтобы эта ночь поскорее прошла.
Дальше — больше. Приехали в заснеженную Москву, на дворе — декабрь. Машина Госконцерта отвезла наших невыспавшихся и несколько надутых гостей в отель. В то время я еще не «руководила процессом» и не контролировала, все ли в порядке у гостей «Виртуозов Москвы», всем занимался наш директор. Гостей отвезли в гостиницу «Советская», которую из-за нищеты Госконцерт только и мог себе позволить. Как бы сейчас мы ни ругали новых русских, многим из них надо поставить памятник. Сжалившись над участью бедных артистов, они иногда дают деньги под конкретную звезду, и только тогда можно принимать гостей с шиком. И многие из них уезжают в счастливой уверенности, что вся Москва — это отель «Националь» и ресторан «Пушкинъ». А тогда мы, влюбленные в нашу публику и чудесный Большой зал Консерватории, не понимали, что для артистов, привыкших к комфорту, гостиница «Советская» — это чудовищно. Не успели мы приехать домой, зазвонил телефон. Разъяренный Пинкас кричал:
— Что делает твой муж? Занимается? Пусть приезжает немедленно! Я в гостинице «Савой»!
Оказалось, что его жена-кинозвезда, увидев здание «Советской» и обнаружив, что там нет room-service и буфета с горячим чаем, заявила:
— Куда ты меня привез? Я тут не останусь!
В администрации они узнали, что есть шикарный отель «Савой». Они бросились туда, а их не селят, потому что они иностранцы, а в интуристовском отеле не принимают валюту, а про кредитные карточки вообще не знают. Мы понеслись в «Савой» и застали такую сцену (одну из самых унизительных в моей жизни): «в седле» в кресле сидит Тьюздей, в холле стоит Пинкас. Он хватает толстенную пачку рублей, на которые оркестр мог бы существовать месяц, трясет ею перед носом Спивакова и кричит:
— Что это такое? Это деньги? Да? Куда ты меня привез? Ты говорил, что можешь здесь все! Сделай немедленно!
Пачка рублей летит чуть ли не в лицо Володе, который стоит и молчит, а я пытаюсь встрять и объяснить, что виноват не мой муж, а Госконцерт и порядки в нашей стране. Кое-как Спиваков договорился, их поселили в «Савое», записав номер на Володю. В этот первый вечер Пинкас играл сольный концерт в Москве, где его не знал никто, так что зал рисковал оказаться полупустым. У «Виртуозов» была объявлена тотальная мобилизация, чтобы все пришли и каждый третий — с букетом, дабы изобразить неподдельный интерес к творчеству Цукермана. На следующий день — концерт с «Виртуозами». И опять то же самое, что в северной столице: играет Спиваков — про Цукермана все забывают. Первые дни в Питере, когда Пинкас с женой были очарованы снегом, двухэтажным номером (если бы они знали, что и он предназначался не им), взаимным общением, шармом, икрой, водкой, балалайками, — все рухнуло в тартарары. Я ничего исправить не могла. Даже замечательно сыгранный концерт не имел для Пинкаса никакого значения. Жена его пренебрегла Кремлем так же, как и Эрмитажем. Спала даже во время концерта за кулисами, где стоял диванчик. Если она и была больна, то острой формой равнодушия ко всему, кроме своей собственной персоны.
Я пыталась все сгладить тем, что после концерта пригласила их домой, напекла гору блинов. Пинкас был очень суров, лед так и не сломался. Уходя, он довольно официально и сухо попрощался с Володей. Меня обнял, наверное, за блины:
— Послушай, — сказал он мне на прощанье, — когда приедешь в Нью-Йорк, позвони мне. Там я могу все. Но действительно могу, не так, как твой муж здесь.
Для меня это было унизительнее всего. С тех пор мы не общались. История с Цукерманом послужила мне большим уроком. Кто бы потом ни приезжал по нашему приглашению — звезда, не звезда, молодой, прославленный, — я всеми занимаюсь лично. Даже если нужно заплатить свои деньги, я делаю все, чтобы у артистов от приезда в Россию по приглашению Спивакова оставались только приятные воспоминания.
АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ
Певец Томас Квастхоф — явление уникальное. Само существование этого человека, вся его жизнь — действительно пример того, как человек живет, а не выживает. На его долю Богом ниспослано тяжелейшее испытание, но он не проклинает судьбу, а благодарит ее за то, что жизнь просто дарована
Томас Квастхоф — жертва болезни, фактически созданной человечеством, точнее — научной ошибкой человечества. Болезни этой, к счастью, больше не существует, потому что прекращено производство жуткого лекарства, провоцирующего ее, — «таледомида». Этот препарат, созданный в 50-х годах в Германии, назначался женщинам для понижения нервного фона во время беременности. Очень скоро было обнаружено чудовищное побочное действие «лекарство» пагубно влияло на те нервные центры позвоночника, которые отвечают за нормальное развитие рук и ног ребенка. Родители Томаса — здоровые люди, с братом тоже все в порядке. Думаю, и сам Томас мог быть высоким красивым мужиком — у него прекрасной лепки голова, выразительные черты лица, высокий лоб и невероятно умные и лукавые глаза, но…
У каждого из нас есть свои детские обиды, но когда думаешь о том, что мог испытать в детстве этот человек, понимаешь, что наши обиды… ничто. Томаса сразу же отдали в школу для психически больных — считалось, что такой ребенок, как он, не должен находиться в школе с другими «полноценными» детьми. Как-то раз он сказал мне:
— Я ужасно боюсь собак. Они меня не любят, они меня боятся.
Я удивилась:
— Почему?
— Потому что я не похож на человека и походка моя напоминает скорее походку не человека, а существа, по разумению собаки, в чем-то ей подобного.
Его взаимная неприязнь с собаками — с детства. В школе-пансионате, куда его определили учиться, — и это была уже школа для нормальных детей — была странная воспитательница (видимо, с садистскими наклонностями). Детей выводят на прогулку — и она специально выпускает собаку во двор. Здоровенная псина бросается на мальчика с короткими ручками и ножками, а ему и убежать-то от нее сложно.
У отца Томаса был совершенно изумительный бас-баритон, и сын его унаследовал. Он учился музыке в небольшом городке, еще юношей стал работать на радио — вначале диктором, потом пробовал что-то петь. Никто не видел, какой он, но все слышали его голос. А потом Томас выиграл радиоконкурс.
Как-то раз ему пришлось выступить в открытом концерте. Когда он впервые появился и спел перед большой аудиторией с абсолютно невообразимым успехом, он сказал себе:
— Мне аплодируют только за то, что человек с моей внешностью может петь.
…Может быть, сначала Томасу подспудно хотелось доказать, что и человеку с физическими недостатками есть место в мире артистов. И это его даже подстегивало, стимулируя двигаться вперед. Но постепенно его «образ» и его голос стали неотделимы для слушателей, в этом таился секрет его уникальности. И теперь, думаю, у него уже нет необходимости что-либо доказывать. Он победил свой недуг силой своего таланта. Он победил судьбу.
Я помню тот день, когда Томас впервые приехал к нам на фестиваль в Кольмар. Моя старшая дочь Катя (тогда ей было девять лет, гораздо меньше, чем теперь) смотрела на него совершенно завороженно. А он, ехидно улыбаясь, спросил:
— Я, наверное, тебя жутко напугал, я такой страшный.
— Ну что вы, вы такой красивый, такой замечательный. Вообще, сегодня был лучший концерт в моей жизни.
И после этого между ними возникла невероятная любовь. Он все время говорил, что Катя — его главная невеста. Кстати, по части женского пола Томас вообще-то большой охотник. Он влюбляется быстро, легко, начинает ухаживать за дамами, причем безумно влюбляется в дам очень высокого роста. Смотрит на даму, произносит что-то вроде: «О!» — и тут же любовь.
Никто никогда не сможет заглянуть в душу к Томасу и понять, что в ней происходит. Он так ценит красоту мира. Когда Томас видит красивую женщину, в его глазах отражается бесконечная гамма чувств, которую трудно описать. Нормальный здоровый мужчина может и не заметить красавицу, будет занят чем-то другим. А Томас видит все обостренно, он не оброс толстой кожей, у него глаза распахнуты и сердце открыто на все прекрасное, происходящее вокруг.
По натуре он человек не пафосный. Очень земной. Может растрогать вас до слез каким-то нюансом или жестом, только ему одному присущим. Он говорит просто, не любит метафор, высокопарных высказываний о вечности, о судьбе артиста. Томас — просто милый парень невероятного жизнелюбия.
Выпив пару бокалов вина после концерта, он, например, может исполнить романсы. И «Очи черные» споет, и что-нибудь из Фрэнка Синатры — так что просто слезы катятся. И шутки Томаса, и то, как он способен заводить окружающих, неподражаемо. Наверное, из него мог бы получиться замечательный лирический или трагикомический артист.
Понятно, что Томас из-за своего недуга — человек, очень неприспособленный к быту. Он вынужден везде ездить с кем-то — близким другом, братом или матерью. Какие-то элементарные физические действия, которые мы выполняем тысячу раз в день не задумываясь, — сесть на стул, открыть дверь, подняться по лестнице — ему даются с невероятным усилием. Но он никогда не позволяет себе фиксировать внимание окружающих на своих проблемах, наоборот, покоряет всех своим обаянием.
У многих возникает вопрос: а что было бы, если бы этим голосом обладал певец с обычным ростом? Возникало бы тогда это чувство мистики, чуда? Может, не будь этого испытания в его жизни, Томас просто не стал бы певцом, не было бы потребности так фиксироваться на своих вокальных возможностях, проявилось бы что-то другое.
В Томасе, безусловно, заключена невероятная внутренняя сила. Все, что вложила в него природа, сконцентрировано в той невидимой материи, которая именуется талантом. От этого человека идет мощнейшая энергия, и я думаю, что это, наверное, таинство Божье.
Слава — это терпение, талант, труд и жизнь скитальца. Сейчас жизнь Томаса расписана на пять лет вперед по дням и часам, он постепенно приспособился к постоянным перемещениям и даже получает от них наслаждение. Странствуя, везде находит себе друзей, а когда удается некоторое время побыть дома в Германии, в Ольденбурге, преподает вокал каким-то очаровательным юным леди (у него собственная небольшая школа). Как они поют, мне слышать не доводилось (по-моему, на этих уроках большей частью поет для них он, а они, открыв рот, слушают), но они чаще всего недурны собой, смотрят на него абсолютно влюбленными глазами, ходят за ним, как гусыни, очень гордые. И он их всегда представляет: вот, знакомьтесь, такая-то, моя ученица.
Как любую вокальную звезду, Томаса часто окружают поклонники, имеющие к музыке весьма косвенное отношение. За ним, особенно последнее время, перемещается небольшая свита. В основном это люди, обладающие временем и средствами, которым очень хочется искупаться в лучах его славы, сказать при случае: «Я друг Томаса Квастхофа».
Томас всегда рассказывает о своем заболевании абсолютно без горечи, с легкой иронией и в то же самое время с невероятным чувством грусти и нежности по отношению к своей маме, пожилой скромной немке, у которой в глазах можно прочитать всю ее жизнь: что она чувствовала, ожидая ребенка, какое смятение ощутила, поняв, что ее вина в том, что сын родился таким. Томас говорит:
— Вы можете себе представить, что испытывает моя мать все эти сорок пять лет? Как она корит себя за то, что принимала те лекарства, которые, возможно, могла бы и не принимать? Я всегда безумно жалел маму и страдал из-за того, что она страдала. И мне хочется думать, что, когда я выхожу на величайшие сцены мира и мне аплодируют восторженные зрители, она все-таки испытывает что-то вроде счастья.
С таким баритоном, как у Томаса, конечно, нужно петь и в «Евгении Онегине», и в «Дон Карлосе». Петь — да, спеть он мог бы все, однако Томас по понятным причинам не решается выйти на оперную сцену в ролях Дона Филиппа или Онегина. Я знаю, ему предлагают спеть Риголетто. Он пока сомневается, потому что понимает: ему не придется ничего играть в этой роли.
Он поет оратории и кантаты, реквиемы, очень хочет спеть «Песни об умерших детях» Малера. На его век хватит. Шуберт в исполнении Квастхофа — это что-то необыкновенное, именно там голос попадает в «десятку». Когда он поет Шуберта это боль его души, неизлечимая, которую каждый раз он приоткрывает больше и больше, так что не плакать невозможно. Мне кажется, о таком исполнении Шуберт и мечтал.
Вот он поет — и все затихает. Будто ангел пролетел…
О ЧЕРНОМ СВИТЕРЕ И ЯРКИХ ВСТРЕЧАХ
Великая Габриэль Шанель говорила: «Мода — это то, что выходит из моды». Точно подмечено, правда? Кстати, касается это не только моды на одежду, но всего искусства в целом. Есть феномены-однодневки, а есть вечные ценности, будь то явления в музыке, живописи или моде. Так что трепета при слове «мода» я не испытываю. Думаю, главное — это стиль, великое, непреходящее понятие. Стиль — это ключ к разрешению любой проблемы, страховка от любой ошибки. Стоит его ощутить — и наступает избавление от модных диктатов. Мне кажется, что стильный человек тот, кто не боится быть самим собой, тот, кому с собой комфортно. Только и всего.
Первая женщина, которой хотелось подражать, конечно, была моя мама. В годы моего детства в Армении одевались так же, как и во всем Союзе. То есть кто как мог. У мамы были прекрасный вкус и замечательная портниха. Мама умела носить вещи. Выступая с папой в концертах, мамочка часто позволяла себе «вольность» по тем временам: выходила к роялю с совершенно оголенными плечами и глубоким вырезом на спине. Надо признать, что плечи и руки были точно мраморные, спина — восхитительная, но в целом эти появления считались в 60-е годы более чем смелыми. Помню, попав в Париж в 1970 году, родители на жалкие суточные умудрились привезти всем подарки. Мне был куплен волшебный красный костюм с брюками, расклешенными от колена. Но толстопопая армянская девочка в него не поместилась! Пожалуй, это было первое чувство большого «женского» унижения, которое до сих пор хранит память: ощущение не сходящейся на бедре застежки молнии. Маме же была куплена шубка из искусственного меха: черного в белую крапинку, что-то вроде лошадки, но она с таким шиком носила эту шубу, что все были убеждены: Саакянц позволил себе невиданную роскошь!
Еще помню маму в белом кожаном пальто и белых брюках. Так и вижу ее, стройную, в белом пальто, затянутом по талии поясом с большой металлической пряжкой.
Так сложилось, что мне довелось встречаться, а порой и дружить с многочисленными творцами моды, ставшими уже легендой. Их имена: Ив Сен-Лоран, Ирэн Голицына, Джон Гальяно, Кристиан Лакруа, Слава Зайцев, Валентин Юдашкин. Характерно, что все они, кому подвластно несколькими росчерками карандаша устанавливать или отменять диктат моды, укорачивать или удлинять юбки, изменять силуэты, в общем, баламутить играючи умы модниц, сами остаются всегда постоянны и верны себе, больше обращая внимание на аллюр проходящих мимо женщин, нежели на «упаковку».
Первый модельер, с которым мне довелось познакомиться, был экзотический дядя из Филиппин, личный портной Имельды Маркос. Большой меломан, он посетил Володин концерт в Маниле и пришел в восторг. Приехав вскоре в Москву, он разыскал Спивакова и «напросился» на ужин. Было это незадолго до нашей свадьбы в 1984 году. Я постаралась, как могла, принять его в нашей крошечной квартирке на Юго-Западе. Маленький, средних лет человек по имени Аурео Алонсо. Весь вечер они говорили с Володей, уже не вспомню о чем. Напоследок мой будущий муж попросил его сшить мне свадебный наряд. Аурео извлек из кармана маленькую рулетку и, ловко орудуя пальцами, сплошь усеянными колечками с драгоценными камнями, принялся обмерять меня с головы до пят. Спустя месяц, уж не помню, с какой оказией, мне привезли загадочную огромную коробку. Не знаю, то ли Спиваков плохо объяснил, к какому событию требовался наряд, то ли Аурео «оплакивал» решение его русского друга жениться, но в коробке, утопая в цветной шелковой бумаге, лежали пленительное платье и длиннющий, широченный шелковый шарф черного цвета. До сих пор не удалось выяснить, может, на Филиппинах выходят замуж в черном? Платьице, впрочем, было настолько уникальным, сделанным вручную до мельчайшей кнопочки, что я с великим удовольствием надевала его множество раз. До сих пор оно переезжает со мной из страны в страну, живет то в Испании, то во Франции. И думаю, будет еще носиться одной из моих дочек (или внучек!). Еще на дне коробки от Алонсо лежала бледно-желтая мужская рубашка для Володи, с виду обычная, но когда мы ее развернули, оказалось, что во всю спину вышита на ней огромная цветная бабочка! Вот так наш филиппинский «Диор» увидел русского скрипача. К сожалению, больше мы не встречались, и я даже не знаю, где он теперь.
В 80-х годах у меня был в Париже друг, работавший советником у Ива Сен-Лорана. Саша (француз с очень интернациональным именем Александр) был тем, кто в 1986 году привез в Москву выставку Сен-Лорана. Благодаря ему я впервые попала в волшебную страну моды со стороны кулис. Как-то Саша привел меня в ателье, где сам Сен-Лоран готовил очередную коллекцию к показу. Это было сеансом магии: почти неподвижно стоящая манекенщица-мулатка, вокруг которой в напряженной звенящей тишине передвигался движениями пантеры великий мастер. В огромных очках, в черном костюме, нервно закуривая и всякий раз не докуривая, он то подкалывал булавками, то подрезал длинное платье из ярко-синего крепа. Тишина нарушалась изредка лишь храпом его любимого бульдога по кличке Мужик и шепотом закройщиц-ассистенток. Но на моих глазах из бесформенно висящей материи буквально рождался структурно четкий силуэт без единой лишней, случайной складки! Потом мы пили чай, и Сен-Лоран, говоря о парижских показах, как-то лениво и тихо заметил:
— Я ни за кем не слежу и ничего не вижу. К чему? Всё, что делают сегодня, я придумал уже давно.
Я же обожаю его знаменитую формулу:
— Элегантная женщина — это женщина в черной юбке и черном свитере, идущая под руку с влюбленным в нее мужчиной.
Правда, где-то он хитро добавил:
— Но, конечно, аксессуары не возбраняются!
Мне нравится мода с точки зрения творческих идей. Я хорошо знаю Кристиана Лакруа. Его талант настолько шире и глубже моды как таковой, что его вещи плохо продаются. Кроме актрис, которые любят появляться в его вечерних платьях на пышных церемониях «Сезара» и «Оскара», кроме богатых невест, которые могут позволить себе заказать у него свадебный туалет, его мало покупают. Глядя на свадебные платья от Лакруа, я понимаю, что они ко многому обязывают: либо прожить долгую счастливую жизнь с одним человеком, либо сбежать в этом платье из-под венца в последнюю секунду. Это платье героини. Все, что шьет Кристиан, рассчитано на сильную индивидуальность. Его вещи настолько ярки, что заслоняют женщину, если у нее недостаточно сильный характер. Их надо уметь носить.
Лакруа — ужасно смешной, лопоухий мишка, которому, говорят, мама в детстве приклеивала уши скотчем. Женат на Франсуазе, которая его и «сделала», — типичной парижанке, очень космополитичной, интересной журналистке. Он встретил ее у друзей на чаепитии, и с тех пор они не расстаются вот уже тридцать лет. Его мама сказала, что в детстве он всегда описывал женщину, на которой женится, — белокожую, рыжую, маленькую. Это портрет Франсуазы. Лакруа приехал в Париж и собирался стать музейным работником, изучал историю костюма XVIII века. Она резко переориентировала его, как только увидела рисунки костюмов и декораций, которые делал Кристиан. Франсуаза работала пресс-агентом. Она и пристроила его сначала стилистом в Дом «Hermes», потом в «Jean Patou», ныне исчезнувший. А потом они встретились с Бернаром Арно, который поверил в него. И в 1983 году возник Дом моды Кристиана Лакруа, практически единственный за последние годы, созданный «с нуля». То есть он не пришел молодым дизайнером для обновления крови в старый Дом, а создал свой собственный. Несчастье (а может, наоборот, счастье?) Лакруа в том, что он — артист, не задумывающийся о том, чтобы сделать что-то коммерчески успешное.
Мы провели с Лакруа безумно интересных два дня, когда я снимала о нем передачу. Он заявил, что интервью будет давать только в своем любимом ресторане «Петрель» в IX районе Парижа. Хозяин Жан-Люк — добряк, специально открывший свое заведение в понедельник утром для нашей съемочной группы. Мы поменяли скатерти, переставили всю мебель, подсвечники, аксессуары. Он все снес кротко. Ресторанчик смешной, стены обиты тканью эпохи Наполеона III, старинные вещи смешаны с имитациями. На одном столе лежат три книжки и несколько орешков, на другом — розовые лепестки и гравюрки, прямо как у кого-нибудь дома. Очень вкусно. Мы снимали утром, до обеда, как раз когда привезли продукты на вечер. И в ресторане стояли корзины с рынка — с лисичками, малиной, овощами. Это было так живописно!
Кристиан приехал, одетый как бомж, в бежевом свитере и потертой джинсовой куртке. Перед съемкой я купила в его магазине кофточку — черненькую, но с большой аппликацией. Они меня потом очень ругали за самодеятельность предлагали дать напрокат или сделать скидку, но было уже поздно. Гримироваться перед съемкой Лакруа отказался. Каждый мой вопрос он брал, как резиновый круг, и плыл с ним в открытое море.
Самым интересным для меня оказалось присутствие на примерках его последней коллекции, показанной на летней Неделе высокой моды в Париже. Кристиан притащил меня в мастерскую, где я увидела что-то фантастическое. На манекенщице — платье из холстинки, то есть сделана только форма, силуэт из холста. А все стены в студии обвешаны образцами тканей, тесьмы, кружева. Он смотрит, хватает со стены кусок, прикалывает, обсуждает с ассистентами. В результате девушка обвешана тесьмой, галуном, кисточками, к юбке приколото сразу три образца. Лакруа прикладывает четвертый и начинает смеяться: «Нет, это даже для меня too much». Многие потрясающие ткани он делает на заказ.
Его Дому 10 лет, все эти годы при нем секретарша Лора. Атмосфера удивительная. Кристиан сам признается, что он плохой коммерсант. Лакруа не начальник, ему близки идеи артели, цехового братства. Мне всегда хотелось носить его вещи, но я как-то робела. После нашего знакомства я эту свою робость преодолела.
Мне очень нравится его театральность. Кстати, из всех полученных им премий («Золотой наперсток», «Золотая игла», «Бриллиантовые ножницы») больше всего Кристиан гордится премией «Мольер» за лучшие театральные костюмы сезона 1995 года к «Федре» Расина в «Комеди Франсез». А сейчас он сделал костюмы к спектаклю «Береника», в которой играла Кристин Скотт-Томас на Авиньонском фестивале. Лакруа — человек театра, но и в кино он великолепно работает. Недавно прошел фильм «Дети века» с любимой мною актрисой Жюльетт Бинош о Жорж Санд и Альфреде де Мюссе. Придуманное Лакруа вишневое платье героини изумительно. После моей передачи о Лакруа мы часто видимся. А в Новый год Кристиан прислал мне неправдоподобно огромный букет свежих пионов и маленькое серебряное сердце на счастье. Теперь все время вожу его с собой.
Из русских модельеров я общалась со Славой Зайцевым, который шил мне крепдешиновые платьишки, когда я была беременной. Он сделал наряд из черного крепдешина в белый горошек с тремя разными воротничками. Под низ надевалась еще юбка, но можно было носить его и отдельно, как короткое. Оно трансформировалось бесконечно. Слава — чудный, добрый, светлый человек. В отечественной моде он — наш ледокол «Ленин». Как он пытался из жутких материалов создавать стиль и одевать советских женщин! Слава — герой. На летние концерты Володя часто надевает его рубашки со стоечкой. Помню, мы пришли на примерку: рубашки, которые должны были быть готовы через неделю, сшили за день.
В последние годы мы подружились с Валентином Юдашкиным. Его я обожаю не только как артиста, но и как друга. Пару лет назад в Париже была выставка импрессионистов «От Курбе до Матисса». После вернисажа все отправились на ужин при свечах на корабле «Mediterrane», плывшем по Сене. Володя, как всегда, был в отъезде, и мне пришлось тащиться одной. Но было чрезвычайно интересно актеры, журналисты, писатели. Я надела широченные штаны от Юдашкина и топ, вышитый бисером и стеклярусом по черному тюлю. Джон Гальяно вдруг подошел, остановился, стал щупать:
— Что это?
— Не вы, — ответила я.
— Вижу, что не я, но что это?!
Вышивка — самое дорогое в высокой моде, так что мой наряд от Юдашкина был неотразим. Меня же распирала гордость за Валечку и за отчизну.
Совсем недавно я встретилась в Генуе с человеком лет шестидесяти, совершенно неизвестным широкому рынку, но прекрасно известным узкому кругу посвященных. Его имя — Андреа Одиччини. Он одевал еще Марлен Дитрих и знаменитых итальянских актрис. Он кутюрье, «поток» его никогда не интересовал. Давным-давно у него был магазин на Fabourg St. Honore в Париже, который он закрыл. В основном он шьет на заказ. В Генуе, рядом с отелем, где мы жили, когда Володя дирижировал премьерой оперы «Пуритане», у Одиччини огромное палаццо. Нас познакомили на премьере, и на следующий день я пошла на встречу с Одиччини. В зимней Генуе выпал такой снег, что все кривые, вымощенные булыжником улочки стали сразу напоминать рождественскую сказку. В палаццо с расписными потолками прошлого века — ателье и show-room. В год он шьет моделей шестьдесят — уникальных, созданных в единственном экземпляре. Дефиле он не устраивает, клиентки приезжают к нему сами. Его безумно оригинальные вещи любит, например, Джулия Робертс. Он модный классик.
В прошлом году мы встретились с Джоном Гальяно в доме наших очаровательных друзей Бернара Арно и Элен Мерсье. Мне казалось, что нет ничего более противоположного, чем мой муж и Гальяно, а они, как ни странно, сошлись! Сидели и разговаривали бесконечно. В жизни Джон Гальяно — человек очень эпатажный, должен все время разыгрывать шоу. Каждый день он появляется в чем-то новом — то в майке, напоминающей разодранный американский флаг, то в парике с золотыми буклями, то в других немыслимых одежках. Во время нашей первой встречи он сидел в камуфляжной маечке — последнем писке моды — и в женских прозрачно-золотых очках.
При этом Гальяно оказался человеком невероятной застенчивости. Он испанец с Гибралтара с нереально смуглой от природы кожей и белоснежными зубами, как у породистой лошади, — таких я ни у кого не видела. Володя спросил его, как приходят идеи.
Гальяно рассказал:
— Ты знаешь, к примеру, я люблю ходить по рынку и смотреть, как разложены овощи и фрукты, как сочетаются по цвету перцы с зеленью, апельсины с дынями.
Володя, в свою очередь, вспоминал, что как-то раз он услышал колокола в церкви, которые помогли ему понять темпы в первой сонате Брамса. Так они обменивались профессиональными «секретами».
Мы многократно уговаривали Джона приехать в Россию. И вот пару месяцев назад он позвонил мне и сообщил, что находится в Санкт-Петербурге! Удивительное совпадение: в тот же вечер я улетала в Питер на съемки. Вдобавок оба мы остановились в «Европейской». Вечером мы тихо сидели за чашкой чая и он восторженно делился со мной впечатлениями: ему дико нравилось, что приехал он тайно, что может часами гулять, просиживать в музеях, не вылезать из Вагановского училища, где учился его «Бог» — Вацлав Нижинский. «В следующей жизни я буду русским и поселюсь в Санкт-Петербурге». Снег — «романтика», дворцы — «сказка», картины, музеи, Мариинский театр — у Гальяно горели глаза, я впервые видела его таким восторженным. На прощанье он мне сказал:
— Ведь это вы с Володей «виноваты», что я вырвался сюда. К тому же твой муж дал мне замечательную идею к музыкальному оформлению моего показа. Так что следующая коллекция 2002 посвящена России и немного вам двоим.
ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ
Накануне Володиного сольного концерта в Карнеги-холл 13 мая 2000 года мы были в Нью-Йорке. Это событие — исключительное для всех музыкантов. Для него оно к тому же связано с особой историей.
В 1977 году он тоже играл сольный концерт в Карнеги-холл. Отношения между Россией и Америкой накануне холодной войны были очень напряженные, многих людей, подавших на выезд, не выпускали из страны, и в Америке очень активизировалась Лига защиты евреев, устраивавшая всевозможные акции при появлении представителей СССР. Перед выступлением Спивакова у входа в концертный зал стояли пикеты, призывавшие публику бойкотировать концерт советского скрипача, «засланного в США КГБ». Это к тому же было накануне наших ноябрьских праздников. Но тем не менее зал был полон. Историю, случившуюся со Спиваковым на этом концерте, мне рассказывала женщина, с которой я теперь очень дружу, — пианистка Элен Арно.
В момент, когда Володя играл «Чакону» Баха, в проход выбежал человек, метнулся к авансцене и швырнул в него предмет, разорвавшийся с диким звуком бомбы. Его ударило прямо в солнечное сплетение. Он согнулся в три погибели, первая мысль была: «Меня убили». Перед глазами — красные потеки: кровь! Володя услышал единый вскрик зала и почувствовал запах краски, химии. Как потом выяснилось, это была пластиковая бомба. Увидев, что скрипка и смычок залиты краской, поняв, что он жив, Спиваков подумал: «Суки, так просто вы меня не возьмете». Стал распрямляться и, остановившись лишь на долю секунды, продолжал играть «Чакону». В зале поднялась суета, ворвались какие-то охранники (полицейских в Карнеги-холл нет), повязали «террориста». Когда Володя доиграл, весь зал на последних нотах встал. В антракте прибежали представители Карнеги-холла, предложили поменять рубашку, но он отказался, предпочтя остаться в испачканной. Событие получило огромный резонанс, на другой день в каждом выпуске новостей Генри Киссинджер, бывший тогда премьер-министром, извинялся перед советским артистом. В Москве Володя по возвращении получил звание заслуженного артиста, по поводу которого пошутил: «Лучше бы дали заслуженного мастера спорта».
Это событие наложило на него сильный отпечаток. С тех пор «Чакона» Баха ассоциируется у Спивакова с угрозой. Поэтому, когда в программу сольного концерта 2000 года поставили это произведение, журналисты тут же решили, что это красивый пиаровский ход. Надо сказать, что Спиваков, как и все советские артисты, не ездил в Штаты на протяжении десяти лет, пока длилась холодная война, а вернулся уже с «Виртуозами Москвы».
Все годы, что мы женаты, мне мечталось присутствовать именно на сольном концерте мужа в Карнеги-холл. Я приложила немало усилий, чтобы концерт состоялся.
Прилетев в Нью-Йорк, я помчалась к залу и увидела, что афиша, анонсирующая концерт, заклеена полосой с надписью: «Все билеты проданы». Я готова была запрыгать от счастья! Даже сделала фотографию, но потом потеряла пленку.
Но вот наступает день концерта, надо уже выходить на репетицию, а мой муж не может встать с постели — читает Акунина, «Пелагею и белого бульдога»! Я тоже не нервничаю, так как читаю «Коронацию» того же Акунина. Он говорит:
— Дочитаем и поедем. Мне осталось пятнадцать минут. Я уже утром репетировал, а вот акустику надо попробовать.
Вели себя, конечно, как два маньяка, но я безумно благодарна Акунину, который в этот момент помог нам преодолеть стресс и справиться с эмоциями. Мы приехали в Карнеги-холл, обмениваясь впечатлениями о прочитанных романах.
В Карнеги-холл работает замечательная тетка Дейби — талисман зала толстая негритянка с глубоким «мясистым» голосом. Она ответственная за главную артистическую ложу. Существует целый церемониал: ложу открыть, принести туда воды, чаю, полотенец. Дейби очаровательна — со своей очень большой попой, прелестным лицом и бархатным голосом. Когда я ее вижу, сразу расслабляюсь. Володя принадлежит к числу ее любимых артистов. Встречая его, она сразу начинает кричать: «Hello, sweet heart!» И настроение тут же поднимается.
Не успели мы приехать, прибежал служитель со словами:
— Там какой-то месье Глотц бьется в истерике у кассы.
Мишель, организовавший этот концерт на свой страх и риск, не собирался лично приезжать в Нью-Йорк. А потом решил сделать сюрприз и прилетел из Парижа за несколько часов до концерта. Спускаюсь и вижу, как несчастный Мишель за десять минут до начала концерта взывает:
— Я организовал этот концерт! Я специально прилетел! Позовите директора, откройте мне ложу!
Конечно, все устроилось.
«Чакону» Спиваков не играл. За две недели до этого концерта наши друзья Элен и Бернар Арно пришли к нам в гости в Париже и Володя, усадив их, предложил сыграть «Чакону». Это было незабываемо! А дней за десять до концерта он вдруг сказал мне:
— У меня такое чувство, что я начну ее играть и остановлюсь. Мне покажется, кто-то побежит по проходу.
Накануне концерта в Карнеги-холл было одно светское событие, на котором мы встретились с Шарон Стоун. Фирма Бернара Арно LVMH — Louis Vuitton-Moet-Hennessy — купила аукцион Philips, который все эти годы был третьим аукционом после Кристи и Сотби. Происходили первые торги при новых владельцах. Чем эта продажа была уникальна — впервые на аукционе продавалось гигантское полотно Малевича. Я лишь умозрительно осознаю его ценность, хотя и понимаю, что в искусстве это — другая дверь. Может быть, мои интеллект или эстетическое восприятие еще не доросли до него, но этот художник не вызывает во мне трепета. Не могу не согласиться с Ильей Сергеевичем Глазуновым, который спрашивает: «Вам бы хотелось, чтобы вас изобразили в виде черного квадрата?» Честно говоря, нет. Так вот, на аукционе была представлена огромная работа Малевича в виде черно-красного креста. Уровень выставленной на торги живописи вообще был замечательный — Сезанн, Пикассо, Дюфи, несколько совершенно феерических импрессионистов.
И чтобы событие состоялось, «крестной матерью» аукциона пригласили быть Шарон Стоун. Она возглавляет Фонд, субсидирующий исследования по созданию лекарства от СПИДа. В день аукциона часть вырученных средств, согласно договору, шла в ее Фонд. Вот она и пришла, как потом сама выразилась, «поторговать лицом». Несмотря на высокий уровень затраченных средств, на аукционе была пара накладок. Нью-йоркские критики абсолютно необъективно написали, что аукцион — яркий пример того, как недостаточно иметь много денег, неплохо бы иметь и немножко вкуса. Лишний раз я убедилась в том, что пресса во всем мире одинакова.
До начала аукциона мы с Володей были приглашены в помещение, откуда можно наблюдать по мониторам за процессом продажи. Мы стояли с Элен и ее супругом, и в этот момент из лифта вышла Шарон Стоун с двумя секретаршами и охранниками. Я как-то засмущалась и отошла со своим стаканом сока. Наблюдаю: Шарон знакомят с Володей, и она говорит:
— Hello! I'm Sharon.
Он отвечает:
— I'm Vladimir Spivakov.
Она смотрит вопросительно. Он конкретизирует:
— I'm Russian artist.
— Hello, Russian artist!
Ее глаз «играет». Потом она очень прямо подошла ко мне, протянула руку со словами:
— Hello! I'm Sharon.
Узнав, что меня зовут Сати, искренне заинтересовалась именем.
В близком общении Шарон произвела на меня совершенно феноменальное впечатление. Есть такое понятие — «присутствие», так вот в ней чувствуется необыкновенное присутствие. Масса знаменитостей, потрясающих актрис и певиц не излучают этого в реальной жизни, а в ней есть ощущение того, что это она и только она — такая… Даже в коротком разговоре сразу ощущаются ее сильная индивидуальность, характер, ум.
Разговорившись с Шарон Стоун, я попыталась понять, сама ли она такая необыкновенная или это «сделано в Голливуде». Она отлично знает, как войти, как заполнить вокруг себя все пространство.
Когда она узнала, что я была актрисой, тут же сравнила меня с какой-то американской звездой из сериала «Друзья», заметив, что я очень на нее похожа. Ее секретарша, заискивая, сказала:
— Как, вы не знаете? Это очень красивая женщина. Если Шарон говорит, что вы на нее похожи…
Она и одета была необыкновенно. Если бы кто-нибудь другой напялил на себя все это, сказали бы — сумасшедшая. А на ней все смотрелось феерически. Вишневое шифоновое платье в мелких оборочках, немножко цыганское, рыжие ковбойские сапоги и сверху огромная рыжая кашемировая шаль. На шее коралловые бусы величиной со сливу, никогда таких не видела, на пальце громадная «шайба» из целого коралла. Сама она — не тощая спирохета, а женщина с широкими бедрами и широкими плечами, потрясающим цветом кожи и фарфоровыми голубыми глазами. В ней нет ничего неестественного, она не молодится и не ведет себя нарочито.
Когда мы вышли в зал продаж, мне ее стало немного жаль. Шарон очень достойно рассказала про свой Фонд, пытаясь объяснить богатым толстосумам и их агентам, как важно давать деньги на исследования, чтобы дети не болели СПИДом. Потом начался аукцион и она перемещалась по рядам, пытаясь подогреть интерес к лотам. В первом ряду сидел почтенный отец семейства со всеми домочадцами, перед которым она присела на пол во время продажи бюста работы Генри Мура, играя и провоцируя его азарт.
Полотно Малевича тем временем стояло на подрамнике под бархатным покрывалом. Думаю, что организаторы аукциона в этом эпизоде «дали маху». Им хотелось эффектно преподнести «явление Малевича», обставить его, как в театре. Но эффект неожиданно возымел обратное действие. Когда аукцион близился к своей кульминации, к подрамнику подошла Шарон и стала очень медленно стаскивать с полотна бархатную тряпку. Этот медленный «стриптиз» вовсе не соответствовал значительности момента, тем более что Шарон не знала совершенно, куда эту тряпку девать. По этому поводу и разрезвились на следующий день критики из «Нью-Йорк Таймс». Тем не менее на цену в 15 миллионов долларов, за которую ушло полотно, это не подействовало.
Шарон показалась мне более убедительной, когда она сидела перед началом торгов и пила свой апельсиновый сок, чем когда стала «играть Шарон Стоун».
…Уже потом, в Москве я попала на закрытое дефиле в бутике «Donna Karan» и меня потрясло, как Инна Чурикова по просьбе устроителей демонстрировала модную одежду — в чалме, с необходимой долей иронии, заводного фола. Как она ходила, выставляя бедро! Во всем этом было столько артистизма и темперамента, что мне вдруг пришло в голову: Инна Чурикова обыграла бы «явление Малевича» в сто раз интереснее! У нас почему-то считается зазорным, если известная актриса участвует в подобном шоу, на Западе — нет. Но это так, к слову.
«Я В ТВОЮ СЕДИНУ ВЛЮБЛЕНА…»
Спиваков с молодости был жгучим брюнетом. Но когда у него появились на виске первые седые пряди (еще до нашего знакомства), его американский импресарио, влюбленный по уши гомосексуалист, произнес фразу, которая стала для Володи своеобразным кредо:
— Ты артист, и твоя публика должна видеть тебя всегда молодым.
Он отвел его в парикмахерскую, где ему подкрасили висок. Но Володя потихоньку привык к своей не меняющейся с годами черной шевелюре. Что было совершенно невинно и натурально для человека тридцати-сорока лет, к пятидесяти годам стало обузой. От краски невозможно было отказаться, особенно если человек постоянно на виду. «Канонизированный» образ вылился в то, что он стал постоянно к себе приглядываться, волноваться, искать в других подтверждение своему пристрастию: и этот красится, и тот… В Володе есть естественный шарм, элегантность, и я вдруг поняла, что крашеные волосы превратились в его комплекс, стали чем-то вроде секрета Полишинеля или Голого короля. Все знают — и молчат.
— Если бы у тебя не было ни одного седого волоса, тебя можно было бы занести в Книгу рекордов Гиннесса. Все знают, что ты отметил пятидесятилетие, — говорила я, предлагая ему перестать краситься. Он все тормозил, все никак не решался. То концерт подпирал, то еще что-нибудь.
В тот год, когда появился контракт с РНО, первая репетиция с которым была назначена на сентябрь, я решила начать отпуск в августе с эксперимента:
— Краска закончилась, кисточка потерялась, — сказала я. — К новому оркестру с новым обликом. У тебя на это есть месяц. Время пошло.
Володя сопротивлялся, но ему пришлось поддаться, и поначалу он безумно страдал. Сначала парикмахерша сделала ему коротенькую стрижечку ежиком. Я смотрела на него со стороны, представляла, как это будет в идеале, и понимала, что это колоссальный пиаровский ход. Вся Москва и так пребывает в возбуждении перед его первым выходом на сцену с РНО, а тут вдруг такое: ни один имиджмейкер специально не придумает — появление седого человека с молодым, загорелым лицом.
Главную поддержку Спиваков получил от детей. Оценка дочерей решила в пользу смены облика. Они стали кричать:
— Папа, это так sexy! Тебе так идет, ты такой стильный, молодой!
Он даже имидж поменял — надел джинсы, короткую футболку. Я помню шок операторов телевидения, приехавших на первую репетицию с РНО, при виде Спивакова, вышедшего из машины. Помню и тот шорох, который пронесся по Большому залу Консерватории, когда он вышел дирижировать. Были диаметрально противоположные мнения. Например один из московских музыкальных критиков, которому в острословии не откажешь, написал, что Спиваков «превратился из крашеного красавца в убеленного сединами мэтра». Мне же по сердцу то, что написал Вознесенский: «Остриженный наголо, как юный Керенский, но только красивей. Меж нас, оборзевших, лети над Россией». Каждый увидел и воздал в соответствии со своей фантазией и степенью благородства. Для Володи, вглядывавшегося в себя по-новому, наступило дикое облегчение. У него появилось другое лицо, обозначился высокий лоб, и, мне кажется, он сразу приобрел иное качество — стал моложе, красивее, современнее. Я вдруг заново влюбилась в своего мужа. И даже волосы стали какими-то мягкими, с очень красивым оттенком. А самое невероятное — спустя год он вдруг понял, что ни разу не повторились приступы страшной аллергии. Он сам себя вылечил.
По поводу смены имиджа Спивакова происходило много смешных историй. Все его поклонницы от пятидесяти до шестидесяти, для которых Володя ассоциировался с их юностью и помогал им ощущать себя моложе, были настроены негативно. Когда он был брюнетом, им казалось, что они по-прежнему молоды, а теперь что же делать? Как будто у них украли мечту. Увы, быть вечно хорошеньким и молодым невозможно. И вообще мне кажется, биологический возраст — это одно, а возраст души — другое. Я даже хотела написать стихи: «Я в твою седину влюблена…», но дальше первой строчки не продвинулась. Одностишие получилось. Ростропович, увидев его седым, сказал:
— Старик, я думал, у меня испортился телевизор, смотрю, а там ты — в негативе!
КАК МОЖНО СЪЕСТЬ СЛОНА?
Спиваков с Плетневым знакомы очень давно, с тех пор, как Миша учился у Флиера, с которым Володя был дружен и в юности даже жил у него дома. Потом Михаил Васильевич, как теперь принято его называть, играл с «Виртуозами Москвы» концерт Гайдна. В 1999 году мы были на гастролях в Америке, Володя выступал с дирижером Полянским. Дико длинное турне чередовало концерты для скрипки Чайковского и Моцарта через день. И вот в один из свободных дней в Бостоне в нашу маленькую гостиницу пришел факс из Москвы. «Господин Плетнев просит господина Спивакова срочно связаться с ним по таким-то телефонам». Мы перезваниваем. Володя берет трубку, и у него вытягивается лицо, он замолкает и смотрит на меня совершенно обезумевшими глазами. Я тихо говорю ему:
— Что? Хочет позвать тебя продирижировать?
Мотает головой — нет.
— Хочет с тобой сыграть?
— Нет.
Володя шепчет:
— Зовет меня в оркестр.
— В качестве кого? — спрашиваю я.
Володя показывает мне один палец. Я ничего не понимаю. Короче, позвонил Плетнев и телеграфно, как он умеет, сообщил, что собирается уходить из Российского национального оркестра, полностью переключиться на сольную карьеру и посвятить себя занятиям композиторской деятельностью. Российский национальный оркестр — его детище, он долго думал и пришел к выводу, что может передать его только в руки Спивакова. Просит его над этим предложением подумать. Об этом никто пока не знает, директор готов прилететь на переговоры в любую точку мира.
Володя никак не мог понять — надо делать этот шаг или нет. Хоть беги к гадалке, так это было неожиданно. Ясно, что предложение непростое. Непонятно, принесет оно пользу или пойдет во вред. Мы не спали много ночей. Я высказала свое мнение:
— Это все равно, что дать человеку порулить большой машиной. Ничего по существу, кардинально в жизни не изменится. Ты давно дирижируешь, но нерегулярно. Большого симфонического оркестра как творческой лаборатории у тебя не было. Это не принесет больших денег, может быть, и большой карьеры не принесет. (Как потом ему пророчили некоторые коллеги: «Ты сразу разобьешь морду, тебя размажут по стене критики, доброго имени не восстановишь».) Но у тебя есть пристань, к которой ты привязан. У тебя есть скрипка — твой порох, который всегда будет сухим. Не понравится дирижировать большим оркестром, не сможешь, почувствуешь, что сил нет, ты уйдешь. В твоем случае всегда есть, куда вернуться. Когда видишь берег, до которого стремишься доплыть, нельзя понять сразу, — доплывешь ли. Просто надо плыть. Есть такая детская загадка. Ребенок спрашивает: «Мама, как можно съесть слона?» И сам же отвечает: «По маленьким кусочкам». Надо начать, попробовать.
Так было принято это решение. Я предвидела, какой шум начнется в нашем маленьком «датском» королевстве — в музыкальной Москве, однако шум и спекуляции превзошли все мои ожидания. Володя только приступил к первым репетициям, а у меня было ощущение, что одновременно готовится бочка с дерьмом, чтобы в нужный день вылить ее содержимое ему на голову. Столичные критики заранее наточили перья, и думаю, статьи о первом концерте Спивакова с РНО были готовы задолго до самого концерта. Но мне их искренне жаль. Они не учли одного обстоятельства: Спивакова можно согнуть, но не сломать. Он настолько сильный человек, защищенный силой своего духа и своей семьей, что поток оскорбительной грязи, который полился в связи с его приходом в РНО, только еще больше закалил его.
Единение с оркестром возникало постепенно, от концерта к концерту дирижер с оркестром учились понимать друг друга. По крайней мере, теперь Спивакова в РНО воспринимают как своего. Были люди, которые верили ему сразу, кто-то делал вид, а кто-то и вида никакого не делал и не верил. Но всю эту массу людей нужно было приучать заново — к новому жесту, к новым музыкальным идеям. Помню, придя на первую репетицию, Володя сказал:
— Дорогие друзья. Нам суждено пройти какую-то часть дороги вместе. Я постараюсь сделать все, чтобы эта дорога была для вас и для меня легкой, взаимообогащающей и приятной. И вас прошу о том же.
Но это получалось не сразу.
Первый концерт 30 сентября 1999 года был очень сложным по многим обстоятельствам. Почему я вспоминаю этот концерт? Володя часто на сцене испытывает сопротивление оркестра или сопротивление себя самого — своих рук, нервов. Но он очень любит публику, она никогда ему не мешает. А тут вдруг ночью после концерта он сказал:
— У меня было ощущение, когда я встал спиной к залу, что сейчас в меня полетит нож или начнут кричать «долой!». В Большом зале сегодня была такая отрицательная энергия и в таком количестве, что я ее ощущал позвоночником.
Мне стало страшно. Я подумала, надо было его отговорить. Теперь я так не считаю. Хотя ему в РНО непросто.
Володя за годы работы с «Виртуозами Москвы» привык быть в каком-то смысле хозяином в оркестре, по крайней мере, принимать основные решения самостоятельно. Учитывая специфику РНО как частного коллектива, главный дирижер — фигура отнюдь не самостоятельная. Для Спивакова же важнее всего в работе в любом коллективе — фактор доверия. За прошедшие сезоны полного доверия с руководством, доставшимся в наследство от Плетнева, так и не возникло. Жаль… Но музыканты Спивакова приняли, и он их полюбил, сумел увлечь. Это главное. Российский национальный оркестр — новая покоренная Володей вершина. Знаю, не последняя…
ДИВА
На сегодняшний день Джесси Норман — единственная оперная дива в мире в полном смысле этого слова. Она из тех немногих, кто, являясь знаменитостью и неким эталоном, продолжает оставаться в той форме и поддерживать тот уровень мастерства, которые многие ее знаменитые коллеги (Паваротти или Кабалье) уже начинают терять. За их именем уже нет того вокала, который был десять лет назад. Что меня потрясает в Джесси: слушаешь записи двадцатилетней давности и нет никакой разницы с тем, как она поет сейчас. Непонятно, как ей удается поддерживать такой высокий уровень. Видимо, за счет невероятной дисциплины, профессионализма. Она позволяет себе петь все: джаз и спиричуэлз, вокальные циклы, оперные арии, — и все это с необыкновенным достоинством настоящей королевы.
Наше знакомство произошло не так, как было описано одной особой, считающей себя музыкальным критиком: «Спиваков добивался знакомства с Джесси Норман через свою соседку по парижской квартире». Сразу представляешь себе Спивакова, выходящего в майке, с примусом в руках на кухню коммуналки, и некую соседку, выползающую в халате и папильотках, приглашающую свою подружку-певицу на перекур и тут же решающую глобальные проблемы.
На самом деле, добиться, чтобы Джесси Норман согласилась выступать с кем-то, кого она раньше не знала и не слышала, — практически невозможно. В роли «соседки» выступала наша большая подруга, дама в Париже известная, Ариана Дандуа, русская по происхождению (со стороны матери у нее русско-грузинские корни). Ариана — женщина необыкновенной красоты, культуры и большого энтузиазма. Она сохранила в себе русскую стихию, подлинность чувств, авантюризм и поэтому способна на определенного рода безумства и спонтанность, которых нет во французах. Положение ее во французском высшем свете очень высоко. Владелица одной из самых известных антикварных галерей, она — душа и организатор многих вечеров классической музыки. Неоднократно она организовывала в Париже благотворительные вечера в помощь Библиотеке нотных рукописей имени Густава Малера. К ней тянутся артисты, с ней всегда уютно и интересно, многие любят быть под ее опекой. Ариана — подруга Анук Эме, Эммануэля Унгаро, Джесси Норман, Томаса Хемпсона, Сейджио Озавы и многих других выдающихся артистов.
Она приезжала в Геную на премьеру оперы Беллини «Пуритане», когда Спиваков впервые дирижировал оперой. За ужином после спектакля Володя поделился с ней планами предстоящего фестиваля в Москве:
— Знаешь, у меня есть мечта — я хочу пригласить Джесси Норман.
Выяснилось, что Ариана не просто знает Джесси очень хорошо, но и дружит с ней. Так сложилось, что Ариана тут же набрала номер в Америке, и Джесси сняла трубку (что бывает крайне редко — она почти никогда не подходит сама к телефону).
— У меня есть ближайший друг, прекрасный музыкант Владимир Спиваков, который мечтает, чтобы ты приехала к нему в Россию. Я передам ему трубку если ты можешь, договоритесь о встрече — скоро у него концерт в Нью-Йорке.
Через две недели у Володи был концерт в Карнеги-холл. И оказалось, вскоре после этого там же должен был состояться концерт Норман. Джесси сдержала слово: она репетировала в тот день и просто осталась послушать Спивакова. Уже перед концертом у Володи в артистической стояли от нее цветы — корзина белых орхидей. Я оставила ей ложу, во время концерта мы не виделись, а по окончании я нашла ее уже за кулисами. Джесси тогда сказала Спивакову:
— Мне очень понравилось, у вас ясный, четкий жест — я согласна.
Они сразу же договорились о программе. Поначалу она собиралась исполнить другие песни Малера, не те, что в конечном итоге исполнялись в Москве. Сразу же были определены «Смерть Изольды» и бисы. И госпожа Норман царственно удалилась.
Она была какая-то совершенно необыкновенная. Нереальная. И это запомнилось навсегда.
Нереально в ней все. При своих больших размерах она пластична, органична, женственна. В последнее время Джесси носит балахоны, скрывающие полноту.
В начале сентября 2001 года Джесси должна была выступать с композицией по циклу Шуберта «Зимний путь», которую поставил ей Боб Уилсон. Они договорились встретиться со Спиваковым в Париже, чтобы пройти программу. Театр Шатле любезно предоставил нам помещение для одной-единственной репетиции. Секретарша сначала не могла найти мисс Норман, очень уставшую от переезда (Джесси всю ночь ехала на машине из Германии), репетиция откладывалась. Потом выяснилось, что мисс Норман уже подъезжает к театру — секретарша что-то напутала. Мы рисковали опоздать. Нервы, помноженные на сборы, гонку на такси, на разговоры о ее дурном характере, о плохом расположении духа. Она должна была исполнять «Зимний путь» с дирижером Чунгом, порепетировав с которым накануне, заявила, что петь с ним не будет.
Сейчас я понимаю: это не капризы. В ней настолько сильна ответственность перед своим именем, репутацией, самой собой, она настолько перфекционистка, что именно это заставляет ее быть порой безжалостной. Я наблюдала за Джесси: если у нее не получаются хотя бы две ноты так, как ей бы хотелось, резко портится настроение, малейший сбой и несоответствие приводят ее в отчаяние. А все вокруг воспринимают это как вздорность примадонны. Мы много с ней говорили на эту тему, и Норман повторила слова Марии Каллас, которая однажды, обрушившись на журналистов, заявила в ответ на высказывание «Вы же богиня»:
— А что вы делаете с богами? Вы же низвергаете их. Сначала возводите на пьедестал, а потом сбрасываете. Я живой человек, а на меня все смотрят как на машину по производству чудес. Я же не могу каждый день творить чудеса.
Джесси сказала приблизительно так же:
— Я знаю, что не имею права на ошибку. На той высоте, где я нахожусь, я не имею права ошибиться ни на йоту, ни на волосок. Меня это изнуряет. Я не могу не петь и в то же время становлюсь рабой самой себя.
Думаю, в этих высоких требованиях к себе и стоит искать источник слухов о невыносимом характере звезды.
Несмотря на то что мы опоздали на репетицию в театр Шатле минут на двадцать, она встретила нас очень весело, сидела распевалась. Я умоляла Володю не делать никаких замечаний — пусть поет как поет.
— Ну ладно, если мне что-то не понравится в темпах, могу я хотя бы это сказать? — упирался он.
Я спросила, могу ли остаться послушать, получила любезный ответ: «Да, конечно». Володя устроился с партитурой в одном конце зала, она с пианистом в другом. Эта репетиция запомнилась мне тем, как они сразу открыли объятья навстречу друг другу. Джесси пела так легко, что казалось, при своих солидных объемах она буквально порхает по этому огромному репетиционному залу. Отпев очередной фрагмент, она говорила: «Какая чудная музыка!» И так, перепархивая с одной страницы на другую, хохоча, устремляясь от рояля к стулу, где сидел Спиваков, и обратно, Джесси репетировала около часа. Под конец, когда она уже спела бисы, Володя вдруг открыл скрипку:
— Знаешь, Джесси, «Morgen» Штрауса я тебе сам подыграю.
Она была рада, как ребенок. Когда он заиграл первые ноты, Джесси посмотрела на меня, на него, и я увидела, что у нее слезы в глазах стоят. Когда она запела, а он заиграл, я, сидя рядом, подумала: «Это, наверное, рай. Так будет в раю».
И тут прибежала секретарша театра Шатле с искаженным лицом, покрытым красными пятнами. Она кричала мне в ухо ужасным шепотом:
— Надо ей сказать!.. Это ее страна!.. Нью-Йорка нет!.. Террористы! Исламисты! Самолет! Только что передали — начинается третья мировая война!
Я ничего не поняла из похожих на бред обрывков ее фраз.
— Ну дайте ей хотя бы допеть до конца, еще две-три минуты!
Джесси и Володя повернулись к нам с абсолютно блаженными выражениями лиц и по нашему виду поняли: что-то случилось. Это было 11 сентября. Мне показалось, что мир, в котором мы живем, раскололся. Показалось, так нелепо и странно. Что вся эта красота: ее голос, его скрипка — все, что казалось минуту назад самым важным, — не имеет никакой силы, никакого значения. Джесси стала дико кричать. Мы поднялись в офис, где по телевидению бесчисленное количество раз повторялась трансляция этих кадров Апокалипсиса. Джесси рыдала, как раненое животное. На вопрос, хочет ли она кому-нибудь позвонить, она ответила: «Не знаю». Я поняла, что ей даже, может быть, некому звонить. У одной из ее близких подруг офис находился в World Trade Center, но, к счастью, в это утро она оказалась не на работе. Джесси никак нас не отпускала, держа Володю за руку. А в этот день нам прислали фотографию иконы, написанной по заказу Володи детьми-инвалидами из Центра, которому помогает его Фонд. Они написали богоматерь с черным лицом и руками. Эта икона высотой почти в два метра ожидала ее в Москве. Перед репетицией 11 сентября Джесси поставила фотографию на рояль со словами:
— Она будет охранять меня.
Через неделю, вернувшись в Париж, я пошла на ее «Зимний путь». Впечатление было необыкновенное. Когда она поет, забываешь обо всем. Она настолько захватывает, невозможно думать больше ни о чем. Любой музыкант во время концерта на какое-то время отпускает внимание зрителя, и ты думаешь о своих планах на завтра или обращаешь внимание на прическу соседки. А когда на сцене Джесси Норман, меня не оставляет ощущение, что ее голос поднимает меня над землей. Такого количества оттенков, нюансов и красок в голосе я ни у кого не встречала. А у нее из легчайшего воздушного сопрано образуется вдруг такая тонна звука — и тут же переходит в шепот, вздох. В этом голосе — шум моря, крик, ножевая рана — всё. Я даже не могу назвать ее певицей. Джесси Норман больше чем певица. Ей подвластны тайны.
Она такая красивая, в ней столько обаяния, кокетства, грации, юмора! Когда она рассказывает анекдоты или смеется — это надо видеть. Как маленькая девчонка! Я знала, что во Франции ее Шуберта приняли прохладно. Увы, критика везде бывает не на высоте. «А судьи кто?» На «Зимний путь» была неважная критика, так что она была в плохом настроении. Ариана приложила массу усилий, чтобы Москва не сорвалась. Накануне отъезда у Джесси еще не было визы.
— А без визы нельзя? Ну хорошо, тогда я, может быть, не поеду, — Джесси было немного страшно лететь, она понимала, что здесь очень взыскательная публика и ее так ждут!
Она не пошла фотографироваться на визу — пришлось вырезать карточку из буклета и нести переснимать в фотоателье! Слава Богу, мы позвонили консулу в Париж, и ей сделали визу в последний момент. Все висело на волоске до последней минуты. Когда я поехала встречать Джесси Норман в аэропорт, опять позвонила добрый ангел Ариана и сказала:
— Желаю удачи. Пока можно успокоиться — она уже в самолете. А дальше вручаю ее тебе.
Подготовка к ее встрече была такой, будто встречали президента страны. Количество охранников превышало все допустимые нормы. А они так усердствовали, что готовы были не пускать к ней и Спивакова.
Я проводила ее в отель «Националь», куда попросила доставить ту икону с черной Мадонной. Джесси вошла в номер. Заплакала. А на следующий день приехала на репетицию в дурном настроении, потому что плохо спала. Дисциплина ее меня потрясла. Вечером на фестивале был один из самых привлекательных концертов Спиваков и Башмет играли вместе спустя пятнадцать лет, а в Большом театре Риккардо Мути, ее давний друг, дирижировал «Реквием» Верди с оркестром Ла Скала. Она собралась было пойти на Мути, мы достали билеты. В результате не пошла ни на Мути, ни на Башмета со Спиваковым. Осталась в отеле — работать и отдыхать.
Человек Джесси бесконечно одинокий, с явно не удавшейся личной судьбой, поэтому очень скрытный. Ни в одном таблоиде нельзя прочитать о подробностях ее личной жизни. Как выяснилось, даже ближайшие подруги ничего не знают.
Она — женщина, настолько обладающая чувством достоинства, что не позволит, чтобы ее жалели. Я знаю от близких ей людей, что она неоднократно пыталась садиться на диету. Будучи с ней рядом, я убедилась, что ест она, как малая птичка: ни масла, ни мяса, ни сладкого, только рыбу и овощи, все отварное и диетическое. Ей, как и любой женщине, мешает лишний вес, она жалуется, ходит к врачам-эндокринологам. Но она такая.
Джесси — будто бы человек без прошлого. Известно лишь, что, небогатая в молодости, она брала уроки вокала в Бостоне и подрабатывала бэби-ситтером. Сейчас Джесси очень помогает своей старенькой учительнице пения и школе, в которой училась. Но это информация закрытая. Норман очень сентиментальна, в своих спонтанных проявлениях она настоящая женщина. В единственный свободный вечер в Москве, перед тем как замолчать на сутки перед концертом, как раз после генеральной репетиции (это случилось после пресс-конференции, приведшей ее в бешенство, и только нежность ее к Спивакову и мое умение снять напряжение спасли положение), мы пошли все вместе ужинать в «Пушкинъ». Слава Богу, хозяин, мой друг Андрей Деллос, превратил банкетный зал в отдельный некурящий зал. В условиях ее контракта оговаривалось все, вплоть до качеств матраса и подушки, и в особенности проблема курения окружающих. Все это так называемые атрибуты жизни звезды. (Она говорит, что сделала список своих условий для того, чтобы люди не мучились, а могли заранее подготовиться к встрече и четко все знали. Даже шеф-повара в ресторане предупреждают заранее, чтобы она не ждала свое блюдо больше десяти минут. Не все соблюдается беспрекословно, и она сама уже не все помнит. Хотя курящая публика в Большом зале у нас намучилась. Я сама, спускаясь после концерта по лестнице, чтобы ехать на банкет, срывала надписи «Не курить!» — Джесси уехала перед нами, и я решила похулиганить. Во время ее пребывания в БЗК всех выгоняли курить на улицу под дождь. Один Спиваков курил в своей артистической: «Она не выносит дыма, а я не могу не покурить перед концертом!») За ужином в «Пушкине» мы обсудили ужасную переводчицу, низкий уровень музыкальной журналистики в Москве, хамские вопросы. Джесси немножко расслабилась, стала пародировать акцент Атланты, где она родилась. Потом ее подруга достала два очень оригинальных янтарных ожерелья, купленных в каком-то московском салоне, с тем чтобы Джесси выбрала, какое ей больше понравится. Она приложила одно, второе и решила:
— Думаю, я оставлю себе оба. Пойди завтра купи себе еще!
Женщина! До мозга костей.
Мы как-то остались с ней наедине.
— Мне очень интересно узнать, как ты с ним познакомилась. Расскажи мне все в деталях.
Когда меня журналисты спрашивают о знакомстве со Спиваковым, я говорю «нет», потому что невозможно снова и снова повторять одно и то же, но как я могла отказать Джесси Норман? Во время рассказа ее глаза моментально наполнялись слезами. В ней это сочетается — простота и осознание своего высокого предназначения. Как Жанна д'Арк, наверное, слыша голоса, всегда знала, что ей суждено спасти Францию, так и Джесси всегда понимала, что ее предназначение — петь. Сложись ее личная жизнь иначе — может быть, другой была бы и ее карьера. Но пока это настолько покрыто мраком тайны, что если когда-то она напишет воспоминания — это будет бестселлер.
После ее пения я словно заболела. Не могу никого слушать. Наверное, глупо. Но пока не могу. Недавно я была на концерте одного знаменитого певца, у которого есть все — слава, голос, опыт. Он пел Малера и не тронул ничего, кроме моих ушей. Благополучный счастливчик. Для того чтобы петь так, как Джесси Норман, надо, мне кажется, столько выстрадать, обладать такой внутренней красотой!
Мне показалось, что за всей этой массой тряпок, тела, кожи прячется душа маленькой негритянской девчушки, открывшей в себе Божий дар и несущей его в ладонях, словно боясь уронить. Некоторые вещи она поет так, что не веришь, что это голос живого человека.
Приехав в Москву, Джесси Норман выполнила свое обещание — дала открытую репетицию, которая в чем-то, может быть, даже была лучше концерта. Публика собралась другая. На концерте Джесси запретила фотографировать. И вот когда отзвучали последние звуки бисов, я вдруг поняла, что этот момент останется незапечатленным. Пока они со Спиваковым кланялись, я бросилась в ложу, где были спрятаны консерваторские фотографы, протащила их сквозь толпу. Охранник бросился ко мне со словами:
— Госпожа Спивакова, нельзя!
— Можно, теперь можно, она уже ничего не может отменить!
Я встала рядом с ними, чтобы она поняла, что фотографы — не чужие. После концерта она сначала не сказала, будет ли давать автографы. Потом минут сорок переодевалась, отдыхала. А когда решила: «О'кей, давайте, фотографы, автографы» — осталось человек пять, остальные разошлись.
— Как, это уже все? — она была явно разочарована, что поклонники с программками так быстро иссякли.
— Извини, Джесси, но полторы тысячи, которые томились у дверей твоей артистической, не дождались.
Во время званого ужина в ресторане «Кумир» она, которая все понимает, произнесла короткую речь:
— Будучи американкой, дочерью той страны, в которой множество людей делают свой выбор — финансово поддерживать искусство, — я очень приветствую, что в России появился этот фестиваль. Это значит, что есть люди, поддерживающие искусство, и я благодарю вас за это и особенно за то, что вы поддерживаете этого человека, — тут Джесси погладила Спивакова по голове. — Я надеюсь, что у этого фестиваля будет продолжение. Лично я себя уже на него снова пригласила.
На ужине она была очаровательна, разрешала себя фотографировать, болтала. А перед отъездом сказала мне:
— Твой муж — необыкновенный человек. Он так отличается от всего нашего музыкального мира, от псевдовеликих дирижеров, считающих себя гениями. Его отношение к музыке, понимание музыки, его тонкость меня так покорили, что я готова приехать когда угодно, чтобы выступать с ним. Я его полюбила.
Теперь мы перезваниваемся. Мы с Володей действительно не можем забыть тот концерт. Все знают, что у Джесси Норман необыкновенно высокий гонорар. Но по сути: как и чем измеряется гениальная певица Джесси Норман и соразмерно ли вообще наслаждение от ее искусства с денежными знаками?
ПИСЬМО МОЕМУ МУЖУ
Володенька!
«Когда-нибудь я начну наконец писать о тебе!» Сколько раз я уже говорила это, сколько раз суета, неумение собраться, донести до бумаги все, что заполняет душу, мысли, быт, усталость и лень отдаляли меня от этой минуты. Записать, не откладывая.
Нет, потом, не сейчас.
А иногда, ты знаешь, я просто боюсь начать писать о тебе.
Боюсь, потому что мне кажется, если начну писать, задохнусь от слез, от слов, от нежности и вдруг покажется, что это — итог, что дальше — ничего.
Передо мною сейчас две фотографии: ты в день нашей свадьбы и ты — сегодня. Я помню и не помню, вернее, уже не знаю (и знала ли вообще?) тебя тогдашнего, а сегодня… С тех пор как твое сегодняшнее лицо водрузилось моей собственной рукой (в виде фотографии в серебряной рамке) на письменный стол — пришел покой.
Говорят, когда уходит молодость, человек обретает то лицо, которое заслужил своей жизнью. Какое прекрасное у тебя лицо сегодня. В нем — все, что я так люблю в тебе: глубина, нежность, мудрость, дурачество, сила, незащищенность. У тебя высокий лоб, такие молодые, ласковые глаза и совсем белые волосы. Я, закрыв глаза, могу на ощупь скользить пальцем по носу, зная расстояние от переносицы до бровей, могу гладить еле видные веснушки, дотронуться до твоих губ — даже когда ты где-то там, в Кельне, в Челябинске или в Токио.
Я знаю на ощупь каждую мозоль на кончиках пальцев твоей левой руки — эти мозоли, необходимые скрипачу, натертые тысячами прикосновений к струнам, тысячами попыток снова и снова доказать самому себе… Кажется, что еще доказывать?
Никто не знает этого мученического, тревожного взгляда, порой мелькающего между ресниц, когда ты открываешь футляр со скрипкой.
Тысячеразовый, каждодневный ритуал.
Сколько раз я слышала эту фразу:
— Два дня не играл, уже руки как ноги, пальцы деревянные, я все завалю…
И как нечасто ты зовешь меня счастливым, нетерпеливым голосом:
— Послушай, правда хорошо звучит?
И я лечу, и сажусь рядом, и могу слушать всегда и еще столько же!
Уже нельзя посчитать, сколько вообще ты сыграл концертов: можно, наверное, заполнить этой непрерывной музыкой недели, месяцы, годы.
Как я знаю температуру твоих рук минут за десять перед концертом — эти десять влажных ледышек вместо пальцев. И нервно прикуриваемая сигарета, и невозможность с первого раза попасть запонкой в манжет…
Я хочу для тебя только одного — дороги, которой не видно конца, которая идет вверх и дальше, дальше, и чтобы время тебя не подгоняло…
Я благодарю тебя за счастье сопричастности ко всему, что есть — ты.
Я часто подшучиваю над твоей привычкой оснащать цитатами из классиков каждый твой рассказ, но не могу сейчас не прервать сама себя словами из любимого твоего Булата Окуджавы:
Не оставляйте стараний, маэстро,
Не убирайте ладони со лба…




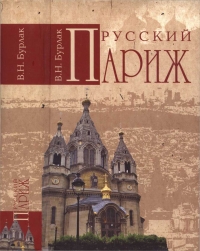

Комментарии к книге «Не всё», Сати Спивакова
Всего 0 комментариев