Ндаба Мандела Восхождение в горы. Уроки жизни от моего деда, Нельсона Манделы
Ndaba Mandela
GOING TO THE MOUNTAIN
© 2018 by Ndaba Mandela
© Малышева А., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
«Борьба с апартеидом – это отчаянная попытка не забыть… это стремление помнить наших предков, наши легенды, наши ценности и наши мечты».
Нельсон МанделаПролог
Одна из последних известных фотографий моего дедушки Нельсона Манделы была сделана у него дома в Йоханнесбурге субботним утром 2013 года, всего за несколько недель до его смерти. На этом снимке мой трехлетний сын Леваника сидит на подлокотнике кресла Старика и с огромным интересом смотрит на «Деду». Дед загадочно улыбается, сжимая ладошку Леваники – точно так же, как когда-то сжимал мою, когда я в первый раз встретился с ним в тюрьме «Виктор Верстер», мне тогда было семь лет. Я невольно улыбаюсь, замечая, насколько они похожи: та же странная прическа, те же уши-ракушки, даже морщинки в уголках глаз, когда они, смеясь, смотрят друг на друга!
В то субботнее утро Старик был непривычно молчалив. Ему уже исполнилось девяносто пять, он отчаянно боролся с медленно прогрессирующей респираторной инфекцией, но в его манере поведения все еще чувствовалась невероятная сила духа, которая проявлялась даже в том, как он держал на руках Леванику. Мой дед всегда любил детей. Стоило Старику войти в комнату с младенцем или маленьким ребенком, и весь остальной мир переставал для него существовать. Этот великий человек – революционер, президент, реформатор – внезапно становился добрым и смешным, как любой дедушка. Все его внимание целиком и полностью было отдано малышам.
В детстве, когда мы с дедом вдвоем сидели за длинным обеденным столом, он не раз говорил мне: «За долгие годы, проведенные в тюрьме, я ни разу не слышал детских голосов, и именно этого мне недоставало больше всего».
Трудно было представить себе двух более непохожих людей за одним, даже самым длинным, обеденным столом. Он родился в южноафриканской деревушке в 1918 году, я – в квартале большого города Соуэто в 1982-м. ОН БЫЛ ГИГАНТОМ, НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ, Я ЖЕ – ОДНИМ ИЗ ТЫСЯЧ ОБОРВАНЦЕВ, ГОНЯВШИХ ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ ПО УЛИЦЕ. Меня легко было не замечать, что многие и делали; но не обращать внимания на ребенка, каким бы бедным, грязным и незначительным он ни казался, было совершенно не в характере Мадибы[1]. Он упустил период взросления своих детей и внуков и всегда испытывал по этому поводу огромную тоску и сожаление. Всю мою жизнь и бóльшую часть жизни моего отца Макгато Леваники Манделы, своего второго сына от первой жены Эвелин Нтоко Масе, Старик провел в тюрьме. Теперь же он, казалось, старался наверстать упущенное, взяв меня под свое крыло и став мне отцом – в прямом смысле этого слова. Как часто случается с благими намерениями, в этой ситуации были и отрицательные моменты, к которым он не был готов. И все же нам с дедом удалось преодолеть те бескрайние долины, что нас разделяли.
Дети Мадибы, его внуки и правнуки дарили ему неиссякаемую надежду, но рука об руку с ней шла огромная ответственность и почитание древних традиций. Глядя на нас, он видел прошлое и будущее – своих предков, стоящих рядом с потомками. Я не осознавал этого до тех пор, пока не появился Леваника, а за ним – его сестренка Неема. Лишь потом, когда Старику исполнилось восемьдесят, а потом и девяносто лет, я стал понимать все больше, и мы потихоньку начали меняться ролями. В детстве дед заботился обо мне и оберегал, теперь пришел мой черед. В последние годы своей жизни он не любил, когда вокруг него сновали чужие люди, а предпочитал, чтобы мы со старшим братом помогали ему подниматься по лестнице, а его жена Граса – справляться с личными нуждами. Отправляясь куда-либо, он доверял мне все вопросы безопасности. Лежа в постели, он просил меня принести ему свежие газеты.
Бывало, он говорил:
– Ндаба, я тут решил поехать в Восточно-Капскую провинцию и провести там остаток своих дней. Поедешь со мной?
– Да, дедушка, конечно, – неизменно отвечал я.
– Вот и хорошо.
Он так и не вернулся туда, где прошло его детство. Должно быть, мы оба не могли смириться с этими его словами про «остаток дней». Мне хотелось думать, что у него впереди еще долгие годы жизни, и его уход стал для меня страшной неожиданностью.
Даже когда ему перевалило за девяносто, он не утратил жажды жизни. Но в последние годы очень ослаб, и это угнетало его. Временами он становился агрессивным, кричал на медсестер и сиделок; однажды даже ударил одного медбрата кулаком в нос – к всеобщему потрясению и страху. Словно сидевший внутри него боксер внезапно взбесился от всей этой чепухи, и – бац! – исполнил удивительно мощный левый апперкот, прежде чем кто-то успел опомниться.
– Убирайся! – орал он вслед бедняге. – Проваливай, а не то мой внук тебе покажет! Ндаба! Где моя палка?
– Эй-эй-эй, дедушка! – Я всегда старался успеть его успокоить, но иногда это было бесполезно. Его мощный, глубокий голос эхом прокатывался по крыше, повергая в шок тех, кто к нему не привык, а для меня он был ужасным напоминанием того, что Старик и в самом деле старел. Я запрещал себе думать о том, что за этим стоит: в нашей семье у мужчин не принято поддаваться ностальгии и сентиментальности. За пять поколений до моего рождения, в эпоху апартеида, членам нашей семьи пришлось вынести все формы нужды, унижений и жестокости. Такие испытания закаляют характер. Мы идем только вперед. Мы не сдаемся.
«Ndiyindoda!» – кричим мы в самый важный момент уквалука, древнего ритуала обрезания, когда мальчик из народа коса становится совершеннолетним. Это означает «Я – мужчина!», и именно эти слова определяют всю нашу дальнейшую судьбу. Уквалука – «восхождение в горы» – так называется сам ритуал, но прежде абакхвета (инициируемому, обычно юноше девятнадцати-двадцати лет, предстоит месяц суровых физических и психологических испытаний). По мнению деда, уквалука – «акт храбрости и стоицизма». «Ndiyindoda!» – кричит посвященный, когда ингсиби, специалист по обрезанию, делает резкий взмах ножом, и это не просто слова. Нет никакой анестезии, значит, и страху здесь не место. Любое неточное движение может привести к катастрофическим последствиям. Любая инфекция может стать смертельной. Этот обряд всегда вызывал множество споров и противоречий и на протяжении многих поколений был окутан тайной. Судите сами: знай вы все подробности, согласились бы пройти через это?
Не стану лукавить: подростком я и сам испытывал определенный страх, зная, что рано или поздно мне самому предстоит «восхождение в горы». Я знал, что после обряда обрезания нужно будет взять себе второе имя и занять подобающее место в мире, стать мужчиной в полном смысле этого слова. По правде говоря, тогда это казалось мне непростой задачей, а дед ясно дал понять, что не ждет от меня меньшего. Но его призыв «Будь мужчиной!» не был пустыми словами. Все те годы, что я жил вместе с ним, и тогда, когда мы жили порознь, он был для меня примером, который нельзя было игнорировать. Благодаря ему я понял: ни один ритуал не сможет сделать из мальчика мужчину. Уквалука – лишь внешнее проявление внутреннего перевоплощения, которое уже произошло, и именно это перевоплощение было для меня самым сложным.
Мой дед прошел столь долгий путь, столько мне дал и столькому научил, а я только недавно осознал, что самое прекрасное скрывалось в мелочах. Ласковое прикосновение руки, когда мне было одиноко или страшно. Суровый взгляд, когда он делился со мной мудростью за обеденным столом. Раскатистый смех и театральная манера рассказывать истории – уж это он любил! – особенно африканские притчи и легенды, на которых вырос. Он даже написал книгу для детей «Любимые африканские притчи Нельсона Манделы», предисловие которой гласило: «История есть история: вы можете пересказать ее так, как диктуют вам ваше воображение, окружающая среда и образ жизни, но если у вашей истории вырастут крылья и она станет достоянием общественности, удерживать ее нельзя». Он искренне желал, чтобы голоса африканских сказителей никогда не умолкали, полагая, что для этого сами истории должны развиваться и подстраиваться под каждого нового слушателя.
Мне бы хотелось, чтобы именно этим духом были пронизаны истории в этой книге – книге, в которой я рассказываю о жизни с моим дедом, а также делюсь старинными притчами и поговорками народа коса. Я хочу поделиться с вами величайшими уроками жизни, усвоенными от Мадибы. Повзрослев, я по-новому взглянул на эти события и теперь понимаю, почему другие их участники могут иметь о них свое мнение. Человеческая память куда более переменчива и загадочна, чем любое сказание о волшебных чудовищах и говорящих пауках, о реках, имеющих собственную душу. Но любая история неизменно обнажает сердце рассказчика, и даже в самых невероятных легендах кроется истина. Начиная работу над этой книгой, я невольно робею при мысли, что ее прочтет весь мир – и даже мои собственные дети! – и вспоминаю кенийскую молитву духу истины: «Пусть боги избавят меня от трусости, мешающей встретиться лицом к лицу с правдой, от лени, которая довольствуется полуправдой, от дерзости, полагающей, что знает всю правду».
Легенды народа коса тесно связаны с проблемами, которые волновали Мадибу и до сих пор находят горячий отклик в моей душе: справедливость и ее отсутствие; поиски истины и исправление ошибок; невероятные преображения и загадочные происшествия. Легендарный рассказчик Нонгениле Маситату Зенани, хранитель преданий коса, считает, что сила рассказчика в ihlabathi kunye negama – «мире и слове». Мой дед знал, что человеку под силу изменить свою собственную историю, а эта история изменит мир. Когда я был маленьким, моя история – мой маленький мир – сводилась к двум вещам: бедности и апартеиду. С одиннадцати лет я жил с дедом, который помог мне по-новому взглянуть на мир и на мое место в нем. Раннее мое детство порой было ужасным; отрочество – сложным. Школьные годы были сплошной борьбой. Я проводил все свое время на вечеринках, чтобы заглушить боль от разлуки с родителями. Некоторые мои решения разбивали деду сердце, и не все его поступки были мне по душе. Но с годами наша вера друг в друга не ослабевала. Он видел то хорошее, что было во мне, и не отступал, пока я сам не осознавал это. Я же видел, каким великим человеком он был, и изо всех сил старался стать хоть чуточку на него похожим.
Я верю, что слова Мадибы изменят и ваш мир, точнее оба – внутренний и тот, что вас окружает, и помогут вам раскрыть свои собственные возможности. Я верю в то, что мудрость Мадибы, которую мы вместе преумножим и воплотим в жизнь, еще сможет сделать лучше мир, где мы живем и где будут жить наши дети.
1 IDOLOPHU EGQIBELELEYO IYAKUSOLOKO IMGAMA «Идеальный город всегда далеко»
Когда я впервые встретился с дедом, мне было семь лет, а ему – семьдесят один. В моих глазах, как и в глазах всего мира, он уже был старым человеком. Разумеется, я много слышал о Старике, но, поскольку сам был ребенком, эти истории были для меня такими же фантастичными, как и легенды коса, которые рассказывали мне двоюродные дяди, тети и другие пожилые люди нашего квартала. «Сказка о ребенке со звездой во лбу», «Сказка о дереве, которое нельзя было обхватить», «Легенда о Нельсоне Манделе, которого пленили белые люди», «Легенда о бойне в Шарпевиле». Легенды и сказания переполняли пыльные улицы вперемешку с новостями, доносящимися из автомагнитол. Притчи и поговорки сквозили даже в библейских историях в Храме – «Притча о работниках в винограднике», «Притча об Иове много выстрадавшем».
Моего отца воспитали улицы Соуэто, и плохо это или хорошо, но нигде так не учишься рассказывать истории, как там. «История о том, где я был вчера вечером» или «История о том, каким богатым я стану в один прекрасный день». Взрослые вокруг меня, каждый в свойственной ему манере и в меру своего воображения, все время рассказывали истории, покуривая сигары, прихлебывая пиво и покачивая головами. Все говорили, говорили, говорили. Ребенком я постоянно слышал их разговоры, но по-настоящему не вслушивался в них. Я не замечал, как эти истории мало-помалу проникают под мою кожу и словно впитываются в кости.
Я был сообразительным мальчиком с богатым воображением, но не осознавал, что моя семья находилась в эпицентре глобального политического пожара. Я не понимал, почему мы все время переезжаем и почему люди принимают меня в свою стаю или, наоборот, отвергают меня. Они либо любят, либо ненавидят – только за то, что я Мандела. Я смутно догадывался о том, что отец моего отца был очень важным человеком, о котором постоянно говорили по радио и ТВ, но я и не подозревал, какую важную роль он сыграет в моей жизни и как много я сам буду значить для него.
Мне говорили, что он любил отца и меня и всех своих детей и внуков, но я не видел тому никаких подтверждений и уж точно не осознавал, что есть люди, готовые сыграть на чувствах Мадибы к нам, чтобы сломить его дух и уничтожить его. Они думали, что груз этой любви станет для него тяжелее, чем работа на каменоломне под палящим южноафриканским солнцем. Они ошибались и все же предпринимали все новые и новые попытки. Сначала они разрешили совершить визит большой группе родственников в честь его семьдесят первого дня рождения, в июле 1989 года. Должно быть, для него это было как капля воды для человека, который двадцать семь лет умирал от жажды в пустыне, и все же Мадиба не отступил от своих политических суждений. Спустя полгода, под самый новый 1990 год, ему вновь разрешили свидание. Это произошло всего через несколько недель после моего седьмого дня рождения.
Отец сообщил мне об этом без лишнего драматизма, просто сказал: «Мы поедем к дедушке в тюрьму». До этого момента подобное заявление звучало бы для меня так, как если бы он вдруг сообщил, что мы едем на встречу с Майклом Джексоном или Иисусом Христом. Впрочем, для людей в телевизоре мой дед, кажется, был чем-то вроде них: звездой и божеством в одном лице. Для меня такой поворот событий был довольно неожиданным, но в африканских семьях дети не задают вопросов. Отец и бабушка сказали: «Мы едем» – и мы поехали.
Больше мне никто ничего не объяснил, да я и не ждал объяснений, но внутри весь сгорал от любопытства. Какая она – эта тюрьма? Может быть, мы вместе с бабушкой Эвелин пройдем за железный забор, а потом по бетонному коридору и выйдем во двор, оцепленный колючей проволокой? А возможно ли, что железные двери с лязгом захлопнутся за нами? Вспомнит ли кто-нибудь, что нужно прийти и выпустить нас? Будут ли вокруг нас одни убийцы и головорезы? А тетям придется отбиваться от них своими огромными сумками?
Я был готов даже драться, если понадобится, чтобы защитить себя и свою семью. Я хорошо дрался на палках – годы непрерывных боев с друзьями на грязных улицах и в пыльных дворах не прошли даром. В мыслях с наслаждением представлял себя героем великого сражения, тем более что времени для этого было предостаточно: целых тринадцать часов мы ехали от Йоханнесбурга до тюрьмы «Виктор Верстер» вереницей из пяти забрызганных грязью машин с женами Манделы, его детьми, сестрами, братьями, кузенами, тетями и дядями, младенцами и стариками. Дорога была дальняя.
Мне показался вечностью этот путь, лежащий через крутые холмы и просторные саванны к горам Хавека. Когда мы свернули к югу от Паарла, маленького городка, застроенного белеными домами в голландском стиле, я на своем заднем сиденье придвинулся к окну, чтобы вдохнуть свежий воздух, пахнущий виноградными листьями и свежевскопанной землей. На протяжении тысячи лет, до того как в 1650 году на эту землю приплыла голландская Ост-Индская компания, здесь жили люди народа кхойкхой. Они пасли скот и ни в чем не нуждались. Теперь эти бескрайние просторы были засажены виноградниками, а горы, которые кхойкхой назвали Черепашьими, голландцы переименовали в Жемчужные. Сами горы, конечно, ничего об этом не знали, как и я в свои семь лет. Я видел лишь девственно-зеленые виноградники, выстроенные аккуратными рядами, и, не задумываясь, принял это как данность и не подвергал сомнению. КАК ИСТИННЫЙ АФРИКАНСКИЙ РЕБЕНОК, Я ПРИВЫК НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСОВ. Но теперь, став мужчиной – мужчиной коса, как отец, сын и внук, я задаюсь вопросом: в какой момент корни винограда прорастают так глубоко, что становятся на этой земле «исконнее» пяти столетий скотоводства?
Этот вопрос звучит в моей голове голосом моего деда даже сейчас, когда со дня его смерти прошло уже несколько лет и еще больше минуло с тех пор, как я перебрался к нему, и в этом бешено вращающемся мире мы полностью изменили представление друг друга о том, что есть настоящий мужчина. Его голос все еще отдается внутри меня, перемешиваясь с древними легендами. Этот голос словно проник в костный мозг, и, повзрослев, я слышу, как он исходит из моего собственного горла. Все говорят, что у меня его голос, и, зная об этом, я стараюсь тщательнее подбирать слова, особенно в публичных выступлениях.
У входа в тюрьму стояла маленькая будка охраны с раздвижными воротами в белой прямоугольной арке. Вывеска желтыми буквами на ярко-зеленом фоне гласила: «ВИКТОР ВЕРСТЕР. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ». Под ней – слоган: Ons dien met trots («Мы служим с гордостью»). Вероятно, мои тетки обменялись ироничными взглядами, но если и так, я этого не заметил, во все глаза уставившись на возвышающиеся над нами горы. Взрослые принялись беседовать с охранниками, высунувшимися из будки. Поговорили о том о сем. Затем охрана пересадила две дюжины человек из семейства Мандела из пяти машин в один большой белый фургон. Мы плотно уселись на жесткие сиденья и снова тронулись в путь, но не на территорию тюрьмы с ее высокими стенами, оцепленными колючей проволокой. Вместо этого мы свернули на длинную грунтовую дорогу – две изъезженных полосы от шин, ведущие к самому дальнему углу тюремного комплекса.
У арочных ворот гаража фургон остановился, и мы выбрались из него. Перед нами было симпатичное бунгало лососевого цвета в тени елей и пальм. Бабушка и двоюродные тетки были одеты так, будто собрались в церковь или на какое-то важное мероприятие. Яркие, как экзотические птицы в причудливых узорах, выстроились они у этих бледно-розовых стен. Отец и другие мужчины были в нарядных рубашках и галстуках, и, прежде чем подойти к воротам, они встряхнули аккуратно свернутые пиджаки и надели их.
Дом был окружен декоративной садовой стенкой, которая, впрочем, была не выше моего отца. Двое вооруженных охранников стояли перед маленькой калиткой из кованого железа – эта симпатичная дверца была совсем не похожа на тяжелые лязгающие двери, которые рисовало мое воображение. Они поприветствовали нас и махнули рукой, чтобы мы проходили. За воротами стоял дедушка. Я едва успел разглядеть его широкую улыбку, как на него обрушилась волна эмоций. Женщины плакали и обнимали его со словами «Tata! Tata!», что означало «отец». Мужчины держались сурово, с неподвижными лицами они ждали своей очереди, чтобы крепко обнять Старика, пожать ему руку и сжать плечо. Никаких слез. Только плотно стиснутые зубы и крепкие рукопожатия.
Дети, в том числе мой брат Мандла, кузен Квеку и я, стояли поодаль, не зная, чего ждать. Для нас этот Старик был незнакомцем, и он, похоже, сам это понимал, улыбаясь поверх голов наших родителей и двоюродных дедов, терпеливо ожидая, когда подойдет наша очередь и он сможет обнять каждого из нас по отдельности. Дойдя до меня, он взял мою ладошку в свою огромную руку и тепло сжал.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Ндаба, – ответил я.
– Да! Ндаба! Славно, славно! – Он оживленно кивнул, словно узнав меня. – Сколько же тебе лет, Ндаба?
– Семь.
– Славно. А в каком ты классе? Хорошо учишься?
Я пожал плечами, уставившись в пол.
– Кем хочешь стать, когда вырастешь? – снова спросил он.
На этот вопрос я не мог ответить – все мое детство меня перебрасывали из стороны в сторону. Кроме бедности и многочисленных препятствий, окружавших нас повсюду в гетто, я мало что видел и не хотел опозориться, ответив какую-нибудь глупость, вроде «борца на палках».
Старик погладил меня по голове своей ручищей и произнес:
– Ндаба. Славно.
Он вновь пожал мою ладошку, очень официально и вежливо, и поздоровался со следующим ребенком в очереди. Должен вам признаться, что тот момент меня не слишком впечатлил. Теперь изо всех сил пытаюсь вспомнить, что я чувствовал тогда, когда он прикоснулся к моей голове, пожал руку своей мощной ладонью, когда его нога в штанине возвышалась надо мной, когда он наклонился, чтобы услышать мои робкие ответы на его вопросы, а от него исходил запах льна и кофе, – и ничего. Я не почувствовал ничего. На меня это не произвело совершенно никакого эффекта. Я читал, что об этом писал дед в «Долгой дороге к свободе». Он всегда с неохотой пишет о делах семейных и личных, но дом в «Виктор Верстер» он описывает как «коттедж», который был обставлен «скромно, но уютно». Когда я прочел это, то от души посмеялся: в детстве, после Соуэто, это место показалось мне настоящим особняком.
Мягкий диван и легкие кресла из того же гарнитура были как розовые облака. Безупречно чистая ванная комната не уступала размерами спальне, которую я делил с двоюродными братьями. Из кухни то и дело выходил белый человек, чьей обязанностью было готовить и следить за домом. Он принес тарелки, чашки и корзины с обедом. На заднем дворе был бассейн с кристально-чистой водой, и мне показалось, что кожа у меня зачесалась – так мне хотелось туда нырнуть. По краям бассейна стояли цветы в кадках в окружении садовой изгороди. Позже дед рассказал, что по верху изгороди шел слой колючей проволоки, но я был либо слишком мал, либо слишком занят невозможно зеленой травой. Даже если бы тюрьмой Старика был «Отель Ритц», на меня он и то не произвел бы такого впечатления. Теперь, КОГДА КТО-НИБУДЬ СПРАШИВАЛ МЕНЯ: «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, КОГДА ВЫРАСТЕШЬ?», Я ОТВЕЧАЛ: «Я ХОЧУ В ТЮРЬМУ!»
Разумеется, я ожидал увидеть что-то вроде тюрьмы на острове Роббен – адской бездны, где мой дед провел большую часть своей жизни. С распространением движения против апартеида по всему свету новое правительство распорядилось о переводе Мадибы в дом в «Виктор Верстере», пытаясь разлучить его с друзьями и членами Африканского национального конгресса. Его политические враги надеялись, что, оказавшись в комфортных стенах этого уютного домика, после обещания встречи с семьей – женой, попавшей в тюрьму и подвергнувшейся пыткам; детьми, которых он в последний раз видел, когда они были совсем маленькими; внуками, которых не видел вовсе, – он станет более сговорчивым. Но враги недооценили его. Целых два года он держал оборону и не сдавал своих позиций в бесконечных и ожесточенных переговорах, в которых решалась судьба Южной Африки. Прошло немало времени, прежде чем я осознал: в тот день мы с братьями сидели в тех самых креслах, где мой дед и могущественные главы государств вели политические и идеологические дебаты, которым вскоре суждено было изменить ход истории.
Вечером взрослые собрались на кухне и в столовой, как это обычно бывает, а мы, дети, расселись на ковре в гостиной и включили кассету с фильмом «Бесконечная история». Я смутно помню голоса взрослых: они делались то тише, то громче, сквозь смех и оживленную беседу звучал дедушкин зычный бас. Но нам их разговор был неинтересен.
По правде говоря, этот день и первую встречу с дедом я вообще помню весьма смутно. Как он выглядел, помню в основном потому, что провел с ним тысячу других дней, пока он старел, а я – взрослел. Однако для восстановления деталей мне пришлось обратиться к недавно увиденному и прочитанному о месте, которое теперь называется «Исправительный центр Дракенштейн». Зелено-желтая табличка все еще там, но теперь люди видят ее, лишь когда приезжают к памятнику моему деду – бронзовой статуе перед «Виктор Верстером», воздвигнутой в честь его освобождения 11 февраля 1990 года. Воспоминания о том дне превратились для меня в коллаж из фотографий, газетных вырезок и бесконечных разговоров с дедом, бабушкой, матушкой Винни и другими людьми, которые там были. Но одно я помню отчетливо – «Бесконечную историю».
Наверное, рассказчик коса назвал бы ее «История о мальчике, который спас мир от пустоты». Герой этой истории (если вдруг вы не видели фильм и не читали книгу Михаэля Энде) отправляется в опасное путешествие, чтобы победить невидимую угрозу – ничто, медленно и неотвратимо пожирающее волшебный мир. Мальчик должен найти способ остановить эту невидимую угрозу, но сначала ему нужно убедить других в том, что она на самом деле существует. Его цель – сделать так, чтобы люди поняли, что все, кто исчез, были важны, а мир, который теперь воспринимается как нечто «нормальное», не должен быть таким, и, чтобы его возродить, нужны перемены.
Эта история во всех отношениях – история моего деда Нельсона Манделы. Думаю, это и моя история, и надеюсь, мне удастся убедить вас в том, что это касается и вас.
Мадиба и его коллеги по Африканскому национальному конгрессу, Ганди и его последователи, доктор Мартин Лютер Кинг-младший и все, кто пошел за ним, – все эти люди сумели разорвать оковы, существовавшие в период апартеида в Южной Африке, британского правления в Индии и законов о расовой сегрегации Джима Кроу в США. То, что апартеид и сегрегация были чудовищной ошибкой и злом – бесспорно. В ту пору черным говорили: «Нет, вы не можете жить в таком-то районе или в таком-то доме потому, что рядом живут белые. Нет, вы не можете ездить этим автобусом, открывать этот кран или ходить в этот туалет». Эти законы были несправедливыми, и судьи, полиция и тюремные надзиратели совершали огромную ошибку, поддерживая их. Если они действительно «служили с гордостью», то должны стыдиться, вспоминая те времена. Любые законы, нарушающие гражданские или общечеловеческие права, должны оскорблять наше чувство социальной справедливости одним своим существованием, скрести нашу совесть как наждачная бумага. Думаю, так и происходит, просто мы научились не обращать на это внимания.
«Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, – говорил мой дед, – но жить, уважая и приумножая свободу других».
Когда мой дед и многие другие активно боролись за гражданские права людей всего мира, против оков апартеида и сегрегации, было ясно, кто враг. Но в современном мире молодым африканцам и многим другим молодым людям по всему миру приходится вновь вступать в бой, чтобы разрушить оковы, которые до сих пор существуют. А сделать это куда сложнее, ведь они неосязаемы – их нельзя ни потрогать, ни указать на них пальцем. Но, несмотря на всю свою невидимость, оковы эти прочнее железа. Каждое звено их выковано из несправедливости, большой или малой. Некоторые из них навязывает нам окружающий мир, в другие мы заключаем себя сами. Именно об этих оковах поет в своей песне «Redemption Song» («Гимн искупления») Боб Марли, напоминая слушателю, что единственный человек, способный освободить его, – это он сам.
Путешествуя по миру, я повсюду слышу, как молодежь рассуждает об «американской мечте» – большом доме с бассейном, шикарной мебелью и прислугой, а для меня это тюрьма. В рекламных роликах и реалити-шоу я слышу бесконечные разговоры, в которых представление о благополучии и благосостоянии сводится к этой ограниченной картинке, и не могу отделаться от мыслей о молодом африканце из Монровии, который просто мечтает о библиотеке или о ребенке из Сирии, который хочет ходить в школу с крышей, или о чернокожем американце, которого избивают просто за то, что он посмел сказать: «Моя жизнь важна!» В них, в вас – и в самом себе, поскольку мой дед открыл мне на это глаза, – я вижу новое поколение, которое изменит этот мир.
«Иногда поколению приходится стать великим, – говорил Мадиба. – Этим поколением можете стать вы. Позвольте расцвести своему величию».
* * *
Я родился в Соуэто в декабре 1982 года. Брак моих родителей трудно назвать безмятежным: они были хорошими людьми, сильными личностями, но им стоило огромных усилий поддерживать семью на плаву, когда все вокруг было против них. Когда мне было два года, родители уехали из Соуэто – из-за постоянных притеснений со стороны полиции и бесконечных акций протеста в черных кварталах жизнь там стала совершенно невыносимой. Мы перебрались к бабушке Эвелин – матери отца – в Кофимвабу, крошечный городок в Восточном Кейпе, где она держала продуктовый магазин. Это была сельская местность, вокруг раскинулись огромные фермерские угодья. Коровы и куры то и дело перебегали дорогу, когда мы шли в школу.
Бабушка Эвелин была Свидетелем Иеговы, поэтому каждое утро и каждый вечер в доме обязательно читали Библию: десять минут перед завтраком и сорок пять перед ужином. По субботам и воскресеньям бабушка Эвелин посещала службы в храме. После одной особенно долгой службы – целых три часа! – я заявил:
– Никогда больше сюда не приду!
Бабушка Эвелин посмеялась и сказала:
– Ничего страшного.
Она знала, что мне хватает этого и дома.
Жизнь у бабушки текла размеренно и спокойно. Она была хозяйкой, но и мои родители помогали ей в повседневной жизни. Отец работал в бабушкином магазине и всегда разрешал мне приходить и угощаться чипсами, конфетами, шоколадками – в общем, чем угодно. Иногда он посылал меня за сигаретами, и я чувствовал себя совсем взрослым. На мой седьмой день рожденья отец купил барана, мы забили его и зажарили на барбекю. В жизни не ел ничего вкуснее. Родители, наконец, жили в мире; они были вместе, молодые и здоровые, и в целом у нас была счастливая семья. По праздникам к нам приезжала сестра отца Маказиве (для меня – тетя Маки) вместе с моими двоюродными братьями, Думани и Квеку. Хотя Квеку был на три года младше меня, нам было ужасно весело вместе.
Все говорили на языке коса. Для меня этот язык стал первым, и я до сих пор люблю его. В фильме «Черная пантера» народ вымышленной страны Ваканда тоже говорил на языке коса – истинном языке моего деда и моем. Выход фильма в мировой прокат в некоторой степени способствовал интересу к этому языку. Я был так рад этому – теперь люди узнают, как прекрасна Африка, и мой язык услышат во всем мире. Язык этот очень красочный, в его фонетике множество щелкающих и рыкающих звуков, а его музыкальная интонация не похожа ни на какой другой язык мира. Чтобы на нем говорить, недостаточно просто шевелить языком – на коса говорят всем телом.
В 1960-е народная песня коса «Qongqothwane», которую поют на свадьбах, чтобы пожелать молодым счастливой совместной жизни, прославилась на весь мир благодаря Мириам Макеба. Европейцы назвали ее «The Click Song» – «Щелкающая песня», потому что в европейских языках нет тех звонких смычных согласных, которые существуют в языке коса. Это тонический язык, поэтому один и тот же слог, произнесенный тихо или громко, может полностью изменить смысл слова. При написании разница не ощущается – чтобы понять этот язык по-настоящему, нужно услышать его в живой речи.
Я начал учить английский в семь лет, когда переехал вместе с отцом в Дурбан. Не знаю, почему мама не поехала с нами. Помню только, что ее там не было, а когда я начинал приставать с вопросами, то получал затрещину. Мы с отцом поселились в семье Уолтера Сисулу, активиста Африканского национального конгресса (АНК), заключенного вместе с моим дедом. Его жена Альбертина Сисулу, медсестра и борец за свободу АНК, была кузиной бабушки Эвелин и ее лучшей подругой. Ее называли «Матерью нации», но для меня она всегда была «матушкой Альбертиной». Матушка Альбертина взяла меня под свое крыло. Она была одновременно ласковой, как настоящая бабушка, и энергичной – она заправляла домом, где жили семеро детей и несколько взрослых. Нам приходилось делиться всем, и в доме постоянно была толпа народу, но все были очень хорошими, и всегда была еда. Эту последнюю деталь я научился ценить лишь спустя время. Все взрослые были членами АНК, поэтому дети постоянно жили в особенной атмосфере – слышали эту риторику, их страсть, видели их целеустремленность и неизбежно перенимали все это. Ежедневно мы чувствовали на себе удушающую хватку апартеида и думали о таких вещах, как свобода и ответственность, на таком уровне, о котором дети в столь раннем возрасте еще и не задумываются.
В Дурбане жили множество южноафриканцев с индийскими корнями. Индийцев здесь было больше, чем в любом другом городе за пределами Индии, а все потому, что по закону о групповых областях «азиаты» и «небелые» во время апартеида должны были жить в определенных районах. Так и получилось, что в Дурбане я ходил в мусульманскую школу, где учились в основном индийцы. В своем классе я был единственным черным ребенком, и мне приходилось нелегко. Все, что мне оставалось, – это быть сильнее, чем те, кто меня унижал. Жаловаться и ябедничать было бессмысленно – у взрослых были свои проблемы.
Поэтому я испытал облегчение, когда приехала мама и забрала меня в относительно спокойный район Соуэто, где мы стали жить вместе с ее братом. Дом был маленьким, но зато там были водопровод и плита с двумя конфорками, но самое главное – там была мама. Я скучал по отцу, но мне нравилась католическая школа в Йоханнесбурге. Поэтому я стал жить с мамой, иногда навещая семью отца. Я попеременно жил то с матерью, то с отцом, да и сами родители то сходились, то расходились – в их отношениях теперь появилась жестокость. ИНОГДА МНЕ БЫЛО СТРАШНО, ИНОГДА ХОТЕЛОСЬ ЕСТЬ. ПОМНЮ, КАК-ТО МЕНЯ ПОСЛАЛИ К СОСЕДЯМ СПРОСИТЬ, НЕ ДАДУТ ЛИ ОНИ МНЕ ЧЕГО-НИБУДЬ ПОЕСТЬ НА УЖИН.
Потом на какое-то время меня отправили к матушке Винни и ее семье, у которых дела шли получше, и они могли себе позволить прокормить и меня. Винни Манделу в Южной Африке знали все – она была второй женой моего деда и ярой активисткой АНК. Правительство внимательно следило за ней. Пока Мадиба сидел в тюрьме, ее арестовали и пытали. Думаю, таким образом они хотели воздействовать на деда, который, находясь на острове Роббен, ничем не мог ей помочь. Но пытки не сломили ее дух, напротив, после них и она, и весь АНК еще больше уверились в правильности своих действий. Все, кто носил фамилию Мандела, были объектом тщательного контроля и давления со стороны правительства, поэтому взрослым приходилось создавать своего рода убежища для себя и своих детей. Мы, дети, почти всегда ходили только туда, куда было разрешено, и старались вести себя тише воды, ниже травы.
Матушка Винни жила в Соуэто на углу улиц Вилакази и Нгакане, всего через улицу от архиепископа Десмонда Туту. Теперь на этом месте находится музей «Дом Манделы», который в 1999 году был провозглашен объектом национального наследия. Я давно там не был, и мне очень странно представлять туристов, которые ходят по тем комнатушкам, где мы когда-то ютились, заглядывают в туалет, где мы смывали из ведра. Сам я вспоминаю этот дом как место, где был особенно несчастен, но тогда я не жаловался. Я был благодарен уже за то, что у меня есть крыша над головой, но ужасно скучал по родителям и отчетливо ощущал, что в этом вечно переполненном доме мне не очень-то рады. Я то и дело убегал к отцу – он жил рядом, за холмом, и в конце концов он забрал меня к себе. Позже к нам вернулась и мама, но родители постоянно дрались. Когда родился мой брат Мбусо, они едва сводили концы с концами.
К десяти годам я успел уже свыкнуться с состоянием дискомфорта, наполнявшего всю мою жизнь, но в то же время знал, что на свете есть люди, которые меня любят. Тетя Маки на несколько лет уехала жить в Штаты, где получила докторскую степень по антропологии Массачусетского университета, и Квеку уехал вместе с ней. Мне не хватало наших игр, но к тому времени в Йоханнесбурге у меня появились новые друзья. После восстания в Соуэто 16 июня 1976 года я перешел в католическую школу Колледж Святого Сердца, двери которого были открыты для чернокожих детей, да и вообще для детей любой расы. Поводом к восстанию с участием чернокожих южноафриканских старшеклассников послужило введение африкаанса как языка, на котором должно было вестись обучение в школах по всему региону. Власти отреагировали на акцию протеста с ужасающей жестокостью. По сообщениям полиции, открывшей огонь по детям из полуавтоматов, количество убитых составило 176 человек, но на самом деле их было намного больше: ходили слухи о шести-семи сотнях погибших и более тысячи раненых. Точных цифр мы никогда не узнаем, потому что полиция велела врачам докладывать о всех пациентах, поступавших с пулевыми ранениями, чтобы потом расстрелять раненых детей, и врачам пришлось регистрировать «абсцессы» и «контузии» вместо огнестрельных ранений и следов от ударов дубинками.
Уровень жестокости возрастал, как цунами, и всю ночь броневики «Хиппо» бороздили улицы города. Эти машины были обычным зрелищем в черных кварталах Соуэто и Йоханнесбурга. Их массивный кузов – ярко-желтый с синей полосой – был рассчитан на езду по минному полю, и им, конечно же, ничего не стоило расправиться с протестующими. Внутри помещалось целых десять стрелков, которые при необходимости могли выпрыгнуть через заднюю дверь, но сам вид пушки «Хиппо» был настолько устрашающим, что такая необходимость возникала редко. На другой день после восстания прибыл отряд из полутора тысяч полицейских, вооруженных электрошокерами и автоматическими винтовками. За ними стояла вся мощь южноафриканской армии, готовой их поддержать, если потребуется. Восстание было подавлено, но с того момента жизнь круто изменилась.
В ответ на акции протестующих Колледж Святого Сердца распахнул свои двери ученикам всех рас. Они сделали это одними из первых, поэтому многие члены АНК отправили туда своих детей. В те годы АНК был одной большой семьей. Мы, дети, не понимали степени нависшей над нами угрозы, но наши мамы были умными и бдительными и считали своим первым долгом поддерживать и защищать друг друга. Внуки Уолтера Сисулу и Джейкоба Зумы, членов АНК, отбывавших наказание вместе с моим дедом на острове Роббен, были моими друзьями, и все мы учились в Колледже Святого Сердца, расположенном в Обсерватории, пригородном районе минутах в десяти от нашего дома.
Мы с друзьями слышали о восстании в Соуэто и других ожесточенных боях между протестующими и полицией. Мы дрались на палках – только вместо «полицейских» и «воров» у нас были «полицейские» и «протестующие» – и разыгрывали во дворах жестокие сцены, которые каждый день видели по телевизору. Мы хвастались, что сможем победить целую армию, если она только приблизится к нашему дому.
Однажды осенним днем 1992 года (лето у нас заканчивается в апреле, то есть это был, наверное, май), играя с друзьями в футбол, мы увидели, как прямо на нашей улице собирается марш протеста. Мы стали думать, не присоединиться ли к ним. Сами мы тогда учились в начальной школе – нам было лет по десять, – и мы все еще боялись своих мам, бабушек и теток. Нам не хотелось попасть в какую-нибудь неприятность и тем самым вызвать их гнев. Но потом мы подумали: «Да ведь мы же уже взрослые! Мы – воины!» И побежали по улице.
Марш был не очень многолюдным – всего лишь небольшая группка, человек восемьдесят – сто лет двадцати, они распевали песни, размахивали знаменами и что-то хором скандировали. Мы подстроились под их шаг и стали маршировать вместе с ними, подпевая и подхватывая их лозунги. Так мы прошли два или три квартала, как вдруг увидели огромный желтый «Хиппо», вывернувший из-за угла прямо на нас. Тут пушка его резко крутанулась: «Пах! Пах! Пах!» Над нашими головами зашипели канистры со слезоточивым газом, и в следующий момент воцарился хаос. Люди с криками бросились врассыпную, ослепленные газом, в отчаянии пытаясь скрыться от «Хиппо». Кто-то спотыкался и падал, другие помогали им подняться.
Мы с друзьями, как стайка перепуганных птенцов, сгрудились и припустили к дому. Мы были всего в нескольких кварталах от того места, где играли все утро. «Хиппо» взревел и рыкнул, чуть замедляясь на перекрестке, но мы не останавливались, лишь изредка бросая беглые взгляды через плечо. Мы все бежали и бежали вперед, из глаз текли слезы, в горле першило, нос, казалось, был забит раскаленной лавой. Добежав до двери нашего дома, откашлявшись, отплевавшись и изрыгнув из себя содержимое желудка, мы заверили друг друга: «Нет-нет, я вовсе не плачу! Это просто слезоточивый газ!» Нам было не страшно – наоборот! Мы были в восторге – теперь-то мы стали настоящими солдатами! Теперь мы знали, что такое слезоточивый газ.
Все это случилось в считаные минуты, и самым примечательным во всей этой истории было то, что она была совершенно непримечательной в мировом масштабе. Я сомневаюсь, что об этом происшествии рассказали хотя бы в вечерних новостях. Всего лишь незначительная стычка, одна из многих в череде ежедневных беспорядков, рейдов и жестоких столкновений. В моей памяти она занимает особое место лишь потому, что это «История о том, как я в первый раз вдохнул слезоточивый газ». В первый – но не в последний.
ТАКОВА БЫЛА ЖИЗНЬ ПРИ АПАРТЕИДЕ. ПОЛИЦИЯ МОГЛА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВОРВАТЬСЯ В ЧЕРНЫЙ КВАРТАЛ И ПРОЧЕСАТЬ ВСЕ ДОМА, А ЕСЛИ КТО-ТО ВОЗРАЖАЛ, ИХ ИЗБИВАЛИ И АРЕСТОВЫВАЛИ. Единственным способом, каким белое меньшинство могло контролировать черное большинство, было держать их в постоянном страхе, бедности, унижать, десятилетие за десятилетием убеждая их в собственной неполноценности. Были среди белых и те, кто ненавидел апартеид и знал, что происходящее неправильно. И, разумеется, если взглянуть с точки зрения логистики и экономики, апартеид невыгоден. Те, в чьих руках была власть, знали, что рано или поздно это закончится, только не знали как. Для них единственным способом положить этому конец была чудовищная жестокость – только так можно было его поддерживать.
А между тем в мире зародилось такое явление, как культурная революция. Моего деда арестовали в августе 1962 года (по обвинению в организации забастовки рабочих и выезде из страны без паспорта), а освободили в 1990 году. За те долгие годы, что он провел в тюрьме, мир изменился. Чтобы понять масштаб перемен, представьте себе разницу между программой «Кукольный театр» по черно-белому телевизору и шоу «Рена и Стимпи» на компьютере. Или между твистом Чабби Чекера и альбомом Dr. Dre «The Chronic». «Битлз» и Вьетнамская война остались в прошлом. В США и Европе приняли закон об интеграции. Появился MTV. Во всех клубах от Соуэто до Швеции крутили Майкла Джексона и Принца. Пали железный занавес и Берлинская стена, развалился Советский Союз. Мир изменился до неузнаваемости: художники и музыканты, поэты и «Club Kids», панки и «Iron Blood Orphans» – целое поколение, рожденное вихрем современных технологий.
К концу рокочущих восьмидесятых уже почти весь мир открыто осуждал южноафриканское правительство. Прогресс неумолимо наступал, они это знали, но боялись перемен. Что случится, если белое правительство прекратит наступать на горло чернокожему населению, чья численность к тому моменту в десять раз превышала число белых? Могли ли люди ответить на подобные унижения и притеснения иначе, кроме как праведным гневом? Они знали об огромном влиянии Манделы, который постоянно призывал к примирению и прощению, но станет ли кто-то слушать его разговоры о мире, когда, наконец, представилась возможность отомстить? Для того чтобы поверить, что способность прощать может победить жестокость, нужно быть либо истово верующим, либо глупцом.
Старинная поговорка коса гласит: «Idolophu egqibeleleyo iyakusoloko imgama», что в вольном переводе означает, что Бакуба, так у нас называют идеальный город – Утопию, всегда далеко. Никому еще не удавалось туда добраться. Но это не значит, что его нет или что его нельзя построить. Возможно, для того чтобы туда попасть, придется побороться и приложить немало усилий, и все же нужно идти вперед, к высокому идеалу мира и равенства.
Когда я познакомился со своим дедом, он был ближе к концу своей жизни, чем к ее началу. У него отняли двадцать семь лет воспоминаний, опыта и возможностей, но его идеалы остались незыблемыми, как и его решимость и врожденное жизнелюбие. Он знал: грядут перемены. В своем интервью каналу BBC он сказал: «Не важно, вижу я это или нет, но перемены рядом, и это дает мне силы двигаться вперед».
* * *
Деда освободили в 1990 году, и это был великий момент. Почти вся семья приехала его встречать, но они едва успели пожать друг другу руки. Его тут же обступила толпа доброжелателей, куда бы он ни направлялся, люди поздравляли его. Тысячи людей любили его и ждали хоть мимолетной возможности прикоснуться к нему, хоть мельком увидеть его машину, проезжающую мимо. Южную Африку охватила волна восторга и радости – но за одну ночь невозможно изменить мир.
Дед как-то рассказывал легенду о великом воине. У этой истории есть несколько версий, но вот что рассказывал мне он: «Давным-давно жил да был храбрый бушмен, который боролся с африканерами. Сражался он долго и отчаянно, хотя у них были ружья, а у него – только лук да стрелы. Он видел, как погибают один за другим его товарищи, пока, наконец, не остался совсем один. И все же он не сдавался до тех пор, пока не оказался на краю пропасти, а в колчане его осталась лишь одна стрела. Увидели это африканеры и восхитились: как это он сражается, даже оставшись совсем один! Они выкинули белый флаг и крикнули ему: «Эй, мы больше не будем воевать! Мы победили твоих людей, и тебе ничего не остается, как только сложить оружие и сдаться! Иди сюда, мы дадим тебе еды и покончим с этим!» Тогда воин-бушмен поднял лук, выпустил последнюю стрелу и спрыгнул с утеса».
Даже в детстве я понимал, что эта легенда о том моменте, когда приходится выбирать между собственной жизнью и верностью великой цели. На суде 1964 года Мадиба сказал:
– Я боролся как против господства белых, так и против господства черных. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому стремлюсь. Но если нужно, то ради этого идеала я готов умереть.
И это были не просто красивые слова, не бравада и не преувеличение, ведь он был уверен в том, что его и его соратников повесят как террористов. Это был тот самый прыжок в пропасть – и они считали, что им повезло: им дали всего лишь пожизненное заключение.
Итак, они прыгнули, готовые умереть, и провели двадцать семь лет в падении. Но потом случилось невероятное – кто-то поймал их! Они оказались в объятьях миллионов людей, веривших в идеалы свободной и демократической Южной Африки, о которой мечтали члены АНК. Они были готовы умереть за эти идеалы, но что важнее – жить ради них. Готовы были встать стеной и заявить об этом во весь голос, не сдаваться даже ценой собственной жизни.
– Наши люди требуют демократии, – сказал Мадиба на объединенной сессии Конгресса США в 1990 году. – Наша страна, истекающая кровью и стонущая от боли, нуждается в демократии.
2 UMTHI OMDE UFUNYANWA YIMIMOYA ENZIMA «Высокое дерево ветер гнет сильнее»
Четыре года, последовавших за выходом Мадибы из тюрьмы, были одними из самых неспокойных в истории моей страны и моей семьи. Ему нужно было сплотить вокруг себя людей и приложить немало усилий, для того чтобы добиться честных выборов и мирного ухода от апартеида, а времени на восстановление пошатнувшихся за годы его заключения отношений с семьей почти не оставалось. Дед не раз говорил мне, что, пока он был в тюрьме, его семья страдала больше его самого. Он писал об этом и в своей автобиографии «Долгая дорога к свободе»: сначала он превратился из человека в легенду, «а потом вернулся домой, и оказалось, что он всего лишь человек». Выступая как отец невесты на свадьбе моей тети Зиндзи, он сказал, что его дети знали, что у них есть отец, они верили, что однажды он вернется к ним – и он вернулся, но теперь снова оставил их, потому что стал отцом нации.
– Быть отцом нации – большая честь, – сказал тогда Мадиба, – но быть отцом семейства приносит больше радости. А этой радости было так мало в моей жизни.
После того дня, когда мы навестили его в тюрьме «Виктор Верстер», я не видел его до 1993 года, когда мне исполнилось уже одиннадцать. Однажды вечером в бедный квартал Соуэто, где я жил, въехал черный «БМВ» и остановился перед домом по улице Вилакази. Из машины вышел водитель и велел мне сесть внутрь. Я никогда не встречался с ним прежде – это был Майк Мапонья, он давно работал у Мадибы, был его доверенным лицом и другом. Потом я узнал, что моего деда после освобождения сначала возил дядя Майка, но плотный график Мадибы был для него слишком утомителен, и он передал эстафету Майку. Мадибе он понравился и впоследствии проработал у него водителем больше двадцати лет. В этот день ему было поручено забрать меня. Вот только мне об этом никто не сказал.
– Я от твоего дедушки, – объяснил мне Майк. – Он велел мне забрать тебя.
А я такой: что, правда? Или вы разыгрываете меня? Неизвестно откуда приезжает незнакомец и говорит маленькому ребенку садиться к нему в тачку. Ну уж нет!
– Твой дедушка, – повторил Майк. – Ты ведь знаешь, кто твой дедушка?
Я подумал: «Дедушку-то я знаю, а вот тебя – нет, чувак». Родители еще не вернулись домой с работы, а деда я не видел с тех пор, как он вышел из тюрьмы три года назад. Я не собирался никуда ехать с первым встречным, но меня учили уважать старших, поэтому я сказал:
– Простите, сэр, но я не могу с вами поехать.
– Что? Ты что, серьезно? С ума сошел? – Майк открыл дверь и настойчиво повторил: – Давай, малец, садись!
Я стоял на тротуаре, пытаясь придать себе грозный вид. Тут он не выдержал и заорал:
– Хочешь, чтобы я потерял работу? Ты этого хочешь?
– Нет.
– Тогда садись в машину! Я не собираюсь торчать тут весь день!
– Нет.
Так мы препирались довольно долго, пока он не понял, что в машину я не сяду, а запихнуть меня туда против воли не выйдет. В конце концов он сел в машину, хлопнул дверью и укатил, подняв клубы желтой пыли на глазах у соседей.
Когда отец вернулся домой, я рассказал ему о случившемся. Он выслушал меня, нисколько не удивившись, а потом сказал:
– Если этот человек вернется, поезжай вместе с ним.
В голове у меня был миллион вопросов: Поезжать – куда? В прошлый раз, когда я видел деда, он был в тюрьме в сотнях миль от дома. Я знал, что он уже вышел, но где он теперь живет? Сколько я там пробуду? Вернусь ли обратно домой? Теперь он был президентом АНК, и я решил, что дом у него тоже должен быть красивым. Интересно, есть ли там бассейн? А видеомагнитофон? А приставка «Нинтендо»? Конечно же, там будет «Нинтендо», и я решил, что при наличии всех этих вещей согласен пожить у него какое-то время, даже если придется остаться на неделю или две.
Через несколько дней Майк снова приехал на своем большом черном «БМВ». Никаких прощаний – дома никого не было. Я схватил рюкзак и сел в машину. Я решил, что если останусь там ночевать, то мне нужны будут мои учебники, чистые носки и еще пара вещей. Когда мы уже выезжали из нашего квартала, мои друзья прервали свою игру и с восторженными криками стали показывать пальцами на машину, в которой мы ехали. В тот момент я чувствовал себя важной шишкой. Мой район был самой настоящей трущобой, а на подъезде к Хьютону пейзажи вокруг стали намного приятнее. Майк подъехал к большому белому дому, чьи ворота на электронном управлении раздвинулись, пропуская нас внутрь. Он припарковался рядом с гаражом, а я выбрался из машины и не знал, что делать дальше.
– Есть хочешь? – спросил Майк.
Я кивнул.
– Входи. – Он махнул в сторону двери и проводил меня на кухню, где суетились какие-то женщины. Одна из них замерла и оглядела меня с ног до головы.
– Это матушка Ксоли и матушка Глория. – Майк слегка подтолкнул меня вперед. – Это его внук, – сказал он женщинам.
– А имя у тебя есть? – спросила матушка Ксоли.
– Ндаба.
Она кивнула и усадила меня за стол, поставив передо мной тарелку с ужином. Не помню, что это была за еда, но чувствовал себя так, будто бы у меня самый главный праздник в жизни. Я привык питаться сравнительно скромно, в основном рисом с кетчупом, а тут передо мной была целая гора всего. На большой дедушкиной кухне было полно свежих фруктов и овощей, а на плите в кастрюле кипело что-то очень ароматное. Думаю, у каждого члена нашей семьи с этой кухней связаны сладкие и пряные воспоминания, многие из которых собраны в поваренной книге матушки Ксоли «Ukutya Kwasekhaya: Вкус кухни Нельсона Манделы» («ukutya kwasekhaya» значит «домашняя еда»).
Матушка Ксоли была настоящей африканской женщиной, крепко сложенной и добродушной. В ширину она была размером с бегемота, но это не мешало ей всегда пританцовывать, перемещаясь по кухне, чтобы помешать еду в кастрюле или нашинковать овощи на деревянной разделочной доске. Ее полное имя было Ксолисава Ндойия. Она выросла в Восточно-Капской провинции, а готовить научилась у мамы и бабушки и непревзойденно делала традиционные блюда, которые так любил мой дед. Где она только не работала – сначала в разных семьях, потом в еврейском доме престарелых – и теперь могла приготовить все, что угодно, от кошерных картофельных оладий до вкуснейшей рассыпчатой кукурузной каши – умпхококво.
– Вместе с рецептом умпхококво моя бабушка передала мне свои надежды и мечты, – сказала она, ставя передо мной тарелку. – Тата Мандела говорит, что каждый раз, когда я готовлю умпхококво, он вспоминает, как ее с любовью готовила его мама.
Думаю, любовь была главным секретным ингредиентом и в блюдах матушки Ксоли. Все, что она готовила для меня и моей семьи, – от самого маленького сандвича до рождественского ужина, – было наполнено любовью. У каждого ее блюда была своя история.
– Когда у меня появились дети, мама велела мне десять дней подряд есть исидуду, – рассказывала она, раскладывая по тарелкам ароматную кашу из тыквы, капусту карри и тушеную печень. – И с каждой ложкой я чувствовала, как в меня по капле вливаются сила и мудрость всех женщин моего рода.
Она была вечно занята, но всегда находила время, чтобы, проходя мимо, ободряюще сжать мое плечо или проникновенно заглянуть в глаза. И я знал, что могу ей довериться. Что бы ни случилось, она самоотверженно заботилась о Старике и считала своим священным долгом следить за тем, чтобы он был сыт и здоров, для того чтобы взвалить на свои плечи судьбу Южной Африки.
– Тата очень-очень занят, – повторяла она. – И ты не беспокой его, понял?
Я кивнул с набитым ртом.
– Ты ведь знаешь – он очень важный человек. Теперь он президент АНК и готовится к выборам. Вот увидишь, в следующем году он станет президентом Южной Африки, а это очень важный пост. К нему вечно приходят ненормальные люди, недовольные то тем, то этим, и лишние хлопоты с маленькими мальчиками ему не нужны.
– А почему они недовольны? – спросил я.
Она села за стол и принялась чистить горох и ссыпать его в миску.
– Кто-то недоволен тем, что с апартеидом покончено. Кто-то – тем, что с ним не покончили раньше. Кто-то думает, что мир можно изменить за одну ночь, а кто-то – что ничего не нужно менять. Они боятся и обвиняют во всем Мадибу.
– Вот зачем вам ворота.
– Да, – резко ответила она и сурово посмотрела на меня. Потом добавила, уже мягче: – Мой отец говорил: «Высокое дерево ветер гнет сильнее».
– А что это значит? – спросил я.
– Это значит, что ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ РАССТРАИВАЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ЕСЛИ НИКТО НА ТЕБЯ НЕ ЗЛИТСЯ, ТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ ТЫ НЕ ПРОЯВИЛ НАСТОЯЩЕЙ ХРАБРОСТИ И НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО ВАЖНОГО.
Матушка Ксоли ссыпала горох в раковину и открыла воду.
– Большинство людей – и белые, и черные – любят Мадибу. Они знают, что мир изменить нелегко, но сделать это необходимо. Так же как детям нужно ходить в школу и хорошо учиться, – добавила она. – И есть овощи, даже если их не любишь.
Накормив меня до отвала вкуснейшей едой, матушка Ксоли отвела меня наверх и показала мою комнату.
– Я буду жить здесь? – спросил я.
– Тата тебе все объяснит, – ответила она.
Тогда она не сказала мне, что парой дней раньше Старик пришел к ней с матушкой Глорией и спросил, готовы ли они перебраться к нему, чтобы заботиться о его внуке. Она знала, что это не временное решение, но полагала, что он сам должен мне это объяснить. Я понял, что останусь там на несколько дней, и это меня вполне устраивало: никогда прежде у меня не было такой шикарной комнаты. Что уж там – у меня вообще никогда не было своей комнаты, не говоря уж об огромной кровати с мягкими подушками и одеялами! Еще там был телевизор, который стоял на комоде, и огромный, как пещера, стенной шкаф. Из окна открывался вид на цветники и деревья, посаженные вдоль высокой стены вокруг дома. Я плюхнулся перед телевизором: должно быть, я умер и попал в рай! Не знал, надолго ли это, но собирался оторваться на полную катушку.
Когда чуть позже в дверях моей комнаты появился дедушка, я все еще лежал и смотрел телевизор.
– Ндаба! Добро пожаловать!
Я вскочил и вытянулся перед ним, чувствуя себя очень маленьким. Я и забыл, какой он высокий: все эти годы, с того дня, как мы познакомились в тюрьме, видел его только по телевизору. Сейчас же он возвышался надо мной, как высокое дерево из поговорки матушки Ксоли, но вид у него был вовсе не устрашающий и не властный. С его приходом комнату будто бы окутало умиротворение и уверенность в том, что все будет хорошо. То впечатление, которое производил на меня дед, во многом было схожим с тем, как его видел остальной мир – от него исходило отеческое спокойствие, великодушие и тепло. Глубокие морщины в уголках глаз свидетельствовали о том, как он любил смеяться. Держался он всегда прямо и с достоинством, одинаково вежливо и с маленькими детьми, и с главами государств.
– Как у тебя дела?
– Хорошо, спасибо.
Он обратился ко мне по-английски, и я тоже ответил ему по-английски.
– Хорошо, хорошо, – произнес он. – Устроился? У тебя есть все, что нужно?
На этот вопрос я ответить не мог, потому что до сих пор не знал, сколько пробуду у него, но, не желая его беспокоить, сказал:
– Да, дедушка.
– Вот и славно. Вот и хорошо. Мне сказали, ты очень хорошо говоришь по-английски.
Я кивнул: мне не хотелось дать неправильный ответ.
– А африкаанс?
– Нет! – замотал я головой. Большинство моих знакомых считали африкаанс ужасно некрасивым и называли его языком голландских империалистов. Зачем кому-то говорить на африкаансе, а не на коса?
– Выучишь, – ответил дед. – Это очень важно.
Его слова удивили меня.
– Но почему? – начал было я, но умолк, не желая показаться невежливым.
– Я учил африкаанс в школе, – сказал Мадиба. – И когда был на острове, то мог писать и читать на нем лучше, чем мои белые тюремщики. Они стали обращаться ко мне за помощью – перевести письма, разобрать документы. Начальнику тюрьмы приходилось менять охранников каждые полгода, чтобы они не подружились со мной. Он все спрашивал: «Кто охраняет Манделу? Этот? Нет, этот слишком близок к нему. Назначьте того, кто считает его своим врагом».
Дед умолк и вгляделся в мое лицо, чтобы понять, улавливаю ли я ход его мыслей. Но я все еще не понимал.
– Они должны были быть моими врагами, – объяснил он. – Но если ты знаешь язык врага, он в твоей власти. Чтобы победить врага, нужно сотрудничать с ним. Тогда он станет твоим партнером, может быть, даже другом. Этим ты и займешься в школе: будешь учить африкаанс. Договорились, Ндаба?
– Да, дедушка.
Он спросил меня о друзьях. Держался он тепло и вежливо, как всегда, но для меня пока он был абсолютно чужим, и вся эта ситуация казалась мне странной и волнительной, поэтому на его вопросы я отвечал нехотя.
– Ну хорошо, – наконец произнес он. – Со временем мы во всем разберемся. В десять часов – спать.
– Да, дедушка.
Он повернулся к двери, но прежде чем уйти критически, оглядел комнату и кивнул на мой рюкзак на полу у кровати:
– Надеюсь, ты будешь поддерживать в комнате порядок, Ндаба.
– Да, дедушка.
– В богатстве ты живешь или в скромности, порядок – это дань уважения к себе самому.
– Да, дедушка.
– Вот и славно. Спокойной ночи, Ндаба.
– Спокойной ночи, дедушка.
– Тебе точно больше ничего не нужно?
– Ну…
Он улыбнулся и сказал:
– Если будет что-то нужно, скажи.
Я улыбнулся в ответ и сказал:
– «Нинтендо».
3 UMNTANA NGOWOLUNTU «Ни один ребенок не принадлежит одному дому»
Чтобы лучше понять «Историю Ндабы и его дедушки», необходимо понять сам принцип устройства африканских семей (а также плюсы и минусы этого устройства) как обширной, многокомпонентной группы. Моногамия в культуре коса – относительно новое явление, как и «традиционная» семья, состоящая из мужа, жены, двух детей и собаки. Все это пришло к нам с миссионерами и колониализмом. ПОЛИГАМИЯ И ДОГОВОРНЫЕ БРАКИ БЫЛИ НАМ ГОРАЗДО ПРИВЫЧНЕЕ И ПОНЯТНЕЕ – ТАК УЖ У НАС ПОВЕЛОСЬ ИСПОКОН ВЕКОВ. У моего прадедушки Нкоси Мпхаканисвы Гадла Манделы, главного советника короля племени Тембу, было четыре жены и тринадцать детей, но мой дед принял осознанное решение не брать несколько жен, и все его браки были по любви.
Первой женой Мадибы была моя бабушка Эвелин. Они поженились в 1944 году и развелись в 1958-м когда его деятельность в АНК стала представлять для семьи все бóльшую и бóльшую угрозу. Их первый сын, мой дядя Темби, у которого было двое детей, Ндилека и Нанди, трагически погиб в автомобильной катастрофе в первые годы заключения деда. Второму сыну, моему отцу Макгато, было двенадцать лет, когда Мадиба оказался в тюрьме, а тете Маказиве – десять. В 1958 году Мадиба женился во второй раз на матушке Винни, и у них родились двое дочерей: Зенани и Зиндзи, которые еще даже не ходили в школу, когда их отца арестовали. Мой старший брат Мандла – сын первой жены отца Роуз. Когда отец с Роуз развелись, он женился на моей матери Зонди, из народа зулусов, и у них родились я и мои младшие братья, Мбусо и Андиле. Мой двоюродный брат Квеку, сын моей тети Маки, мне все равно что родной брат, а уж всех двоюродных бабушек и дедушек, кузенов, троюродных братьев, зятьев и невесток, бывших и нынешних жен, мужей и их детей – и не перечислить. Но главное: мы все одна семья. Все до единого.
Африканские семьи всегда шумные и суетные, в наших домах звучит музыка, а атмосфера наполнена любовью и преданностью друг другу, хотя мы нередко до хрипоты спорим обо всем на свете. Женщины народов коса и зулусов славятся своей силой и красотой, они готовы защищать своих детей до последней капли крови. Все члены семьи самоотверженно заботятся о стариках. В наших семьях считается обычным делом принимать гостей и рассчитывать на ответное гостеприимство: ты желанный гость за моим столом, а я – за твоим; твои дети могут спать под крышей моего дома и делить комнату с моими детьми. Разумеется, время от времени и у нас бывают разногласия, вспышки ревности и зависти, но что бы ни случилось, семья превыше всего.
Современная молодежь думает, что «любовь есть любовь» – это какая-то принципиально новая мысль. «Нет четкого определения семьи, – утверждают они, – во всяком случае такого, с которым согласились бы люди во всем мире. Нужно отбросить все, что мы знали до этого о семье, и сделать все возможное для создания в своем доме здоровой, душевной атмосферы, наполненной любовью и заботой, для нас самих и наших детей». Но ведь именно так в африканских семьях было заведено испокон веков! Как хорошо, что остальной мир, наконец, нас догнал.
Уклад большой семьи во многом продиктован традициями, но помимо этого семье Мандела и другим членам АНК на протяжении многих десятков лет приходилось постоянно помнить о нависшей над ними опасности и неопределенности. Поэтому, несмотря на всю необычность ситуации, свой переезд к дедушке я воспринял как нечто само собой разумеющееся. Я решил, что поживу у него некоторое время – несколько дней, недель или даже месяцев, но потом за мной все-таки приедет отец и заберет обратно к себе, и жизнь снова вернется в привычное русло. Отец и в самом деле приехал в дом Мадибы всего несколько дней спустя. Не помню, чем я занимался в тот момент, может быть, играл на приставке «Сега».
В 1994 году «Нинтендо» все еще был недосягаем, как Святой Грааль, но «Сега» была полностью в моем распоряжении. «Просите, и дано вам будет», – говаривала бабушка Эвелин. В первую неделю я почти не видел деда, он был очень занят – баллотировался на пост президента страны на грани гражданской войны. Но я уже понял, что он был добрым и щедрым и делал все, чтобы я чувствовал себя как дома. Через пару дней меня обеспечили одеждой, обувью, носками и нижним бельем – все это было новым и пахло магазином, а не старшим братом или кузенами, за которыми раньше мне приходилось донашивать вещи. Теперь у меня был собственный платяной шкаф, и если за обедом мне случалось посадить пятно на футболку, я мог бросить ее в корзину с грязным бельем, а потом, как по волшебству, она появлялась на полке чистая и выглаженная, совсем как в «Сказке о зулусской женщине и щедрой реке». Героиня этой сказки бросила в волшебную реку пригоршню земли со словами: «Река-река, дай мне глиняный горшок». «Хлоп!» – и река выбросила на берег красивый глиняный горшок.
Поэтому, когда спустя несколько дней после моего переезда к деду в Хьютон на пороге его дома появился отец, я подумал: «Ну что ж, хорошего понемножку!» Единственное, о чем я переживал, – разрешат ли мне взять «Сегу» с собой? Отец прошел в дедов кабинет и закрыл за собой дверь. Пока они разговаривали, я поднялся к себе в комнату и принялся собирать вещи в рюкзак. Мне было жаль оставлять это чудесное место, и я знал, что буду скучать по стряпне матушки Ксоли, но все же я был рад, что вернусь домой к маме и маленькому брату. Конечно, я уже был большой – целых одиннадцать лет! – и все же было непривычно не слышать маминого голоса по утрам. Я чувствовал, что должен быть рядом и заботиться о ней: иногда родители дрались, и ей приходилось нелегко. Мне нужно было заботиться и о Мбусо – родители иногда выпивали слишком много, и от его плача мне становилось плохо. От одной мысли о том, что он будет плакать, а меня не будет рядом, на душе скребли кошки.
Когда в комнату вошел отец и присел ко мне на кровать, я уже был готов. А он сказал:
– Мадиба – великий человек и заслуживает великой семьи. Еще не поздно, и я могу исправиться и стать адвокатом. Мне нужно сосредоточиться на своем образовании.
Он сказал, что Мадиба отправляет его учиться на факультет юриспруденции в Университете Квазулу-Натал. Должно быть, на моем лице отразилось непонимание, и он сказал прямо:
– Теперь ты будешь жить здесь.
Может быть, он даже обнял меня на прощание – я не помню. Но эмоциональным этот разговор назвать было сложно. У нас так не заведено. Я не задавал вопросов. Я не плакал. Просто распаковал вещи и аккуратно сложил их на прежнее место – так в моей комнате снова будет порядок, когда дедушка придет пожелать мне спокойной ночи.
С матерью мы долго не общались. Она не звонила мне и не писала, и, хотя мне никто прямо не говорил об этом, я понимал, что мне не стоит ждать ее. Потом дед рассказал, что она где-то учится на курсах социальных работников. «Где-то» означало «подальше от меня и моего отца». Никто не говорил мне, что и она, и отец боролись с алкоголизмом. По мнению старшего поколения, подобные темы были неподходящим предметом для обсуждения, тем более с детьми.
Следующие несколько лет родители не принимали никакого участия в моей жизни. С последствиями этой ситуации мне пришлось бороться значительно позже. Лишь повзрослев, я смог понять, как эта разлука отразилась на их отношениях, а узнав, какую роль в этом сыграл мой дед, я приложил немало усилий, чтобы его простить. Я знал, как глубоко его ранило осознание того, что за тюремные годы он пропустил целую жизнь собственных детей, и это частично смягчало его вину в моих глазах. Теперь, вернув себе власть и благосостояние, он, разумеется, хотел помочь им. Я знаю, что он действовал из добрых побуждений, и все же разлучить их было ошибкой с его стороны. Если уж говорить откровенно, о матери и вовсе все позабыли. Для меня в тот момент она словно исчезла – совсем как та зулусская женщина из сказки о реке.
В той сказке река кажется бездонной, и женщина приходила к ней, с каждым разом прося все больше и больше, а река взамен требовала от нее все бóльших жертв. Горшок в уплату за лодку. Лодку – за дом. Наконец женщина говорит: «Река-река, верни мне ребенка, которого я давно потеряла», а река отвечает: «Вырежи свое сердце и отдай его мне».
Мораль этой сказки схожа с известной западной поговоркой «Опасайтесь своих желаний!». Но теперь, когда у меня появились собственные дети, я понял эту историю совсем на другом уровне: она – об огромной роли детей в африканской семье. Героиня сказки, не раздумывая, вырезает сердце из груди, чтобы вернуть ребенка, и я уверен, что моя мать любила меня так же сильно. Думаю, отправляя меня к Мадибе, она верила, что поступает правильно, и, как ни больно мне было это осознавать, так оно и было. Иногда нелегко сделать для своего ребенка то, что нужно сделать, – словно вырвать сердце из груди. Но если бы мама приехала и забрала меня у деда, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому и, скорее всего, не была бы лучше.
Спустя долгие годы я понял это в полной мере: когда сам поступил в колледж, чтобы изучать политологию в Претории. Только тогда я увидел тесную связь между разбитым сердцем моей матери и более глобальной картиной апартеида – политической системы, по вине которой черные семьи оказались в подобной ситуации. Когда Мадиба стал президентом ЮАР, законы изменились, но лишь на бумаге. Он понимал, что жители Южной Африки терпели лишения в образовательной, социальной, политической и экономической сферах на протяжении многих поколений и столько же времени потребуется, чтобы это наследие притеснений по-настоящему осталось в прошлом.
Его собственная семья была ярчайшим примером: отец Мадибы умер, когда он был совсем маленьким, а потом его и самого лишили возможности быть со своими детьми. В свою очередь, мой отец, который никогда не видел деда, потерял и отца – уже во втором поколении. И это случилось не от недостатка любви, ума или таланта. Все эти мужчины были готовы на все ради блага своей семьи, но у них раз за разом отнимали возможность иметь отца и самим быть отцами. Поэтому нынешнее поколение – я и мой сын – должно наверстать упущенное и за всех них. Я уверен на сто процентов, что, если понадобится, вырву собственное сердце за моего маленького Леванику. Но также знаю по собственному опыту, что этого мало, ведь ему нужен я сам. Мой голос, мои сильные руки, мой смех. Мой пример. Ему нужно, чтобы я занимал четкую позицию в своей жизни и принимал постоянное участие в его. Только так он поймет, что и сам важен: для своей семьи, для общества, для нации и для всего мира. Это нелегко, потому что он и его сестра живут с матерью, моей бывшей девушкой. Со своей стороны я должен принять осознанное и целенаправленное решение проводить много времени со своими детьми – это должно стать моим приоритетом. Я понимаю, что это может быть непросто, но подхожу к этой задаче со всей серьезностью и ответственностью.
Нынешнему поколению африканских мужчин – моему поколению – вполне по силам изменить курс этой непреклонной реки. Как отцы мы можем в буквальном смысле воссоздать культуру всего континента. Я ни в коем случае не хочу преуменьшать роль матерей, лишь призываю своих братьев, исходя из своего опыта, подумать о том, что значит быть хорошим отцом, иметь хорошего отца и вырастить хорошим отцом своего сына. Нам необходимо создать такую культуру, в которой роль отца занимает центральное место, и такую социально-экономическую систему, которая ни за что не допустит, чтобы отдельные ее члены оказались беспомощными.
Я признаю, что в жизни мне удивительно повезло. Знаю, что мой дед был уверен: я, мои братья, кузены и все дети Африки должны иметь перед глазами пример уважающих себя взрослых на фоне выросшего в глазах международной общественности уважения к Африке как к стране. Я и сам в это верю, но считаю, что для достижения этой высокой цели необязательно забывать о собственной семье, и мне жаль, что дед не смог помочь родителям быть вместе.
* * *
Может быть, вы слышали поговорку «Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня». Так вот, у народа коса говорят Akukho mntwana ungowendlu enye – «Ни один ребенок не принадлежит одному дому». Это означает, что не бывает чужих детей, все дети общие, мы несем ответственность за то, чтобы дети всего мира были сыты и ни в чем не нуждались.
Я СКУЧАЛ ПО МАМЕ И ОТЦУ, НО ВСЕ ХОРОШЕЕ В МОЕМ ДЕТСТВЕ НАЧАЛОСЬ, ТОЛЬКО КОГДА Я НАЧАЛ ЖИТЬ СО СТАРИКОМ. Матушка Ксоли носилась со мной, как наседка. Потом из Штатов вернулась тетя Маки, я стал проводить каникулы у нее, и нам с Квеку было весело, как в детстве. Жизнь с дедом текла в упорядоченном ритме. Я должен был быть послушным, хорошо учиться и содержать комнату в чистоте. Мадиба был человеком невероятной силы воли, который почти тридцать лет вынужден был соблюдать очень строгий режим, и самодисциплина в его доме была чем-то вроде религии. Для меня же такие порядки были в новинку. Бабушка Эвелин вела хозяйство уверенной и твердой рукой, но никогда не скупилась на тепло и ласку. Что же до деда, то не помню, чтобы в первые пару лет мы с ним часто обнимались. Думаю, нам обоим нужно было время, чтобы притереться друг к другу.
И все же мне было грех жаловаться. Впервые в жизни у меня была своя комната и куча других вещей, которым мои друзья отчаянно завидовали. В школу я приезжал на частной машине, а не на такси. Надо сказать, что у африканских такси в отличие от классических желтых машин с шашечками одно название. На самом деле это микроавтобус, куда битком набиваются пятнадцать-шестнадцать человек. За рулем частной машины был Бхут (это имя означает что-то вроде «чувак», только покруче). Моим друзьям тоже иногда разрешалось прокатиться в моей машине и вместе со мной поиграть дома в компьютерные игры, посмотреть кино или поплавать в бассейне.
В то время с нами жила и моя кузина Рошелль, но ей уже было за двадцать, и у нее была своя жизнь. Я никогда не спрашивал, почему матушка Винни не живет с нами. Из разговоров взрослых я подслушал достаточно, чтобы понять, что теперь они со Стариком живут порознь. К тому моменту они еще не развелись, но теперь обязанности первой леди исполняли тетя Зенани и тетя Зиндзи. Они приходили в кабинет Мадибы, когда нужно было сопровождать его на разных светских мероприятиях и встречах на государственном уровне. Все, кто работал у деда в доме, любили его и почитали эту работу за честь – и не раз напоминали, что это честь и для меня.
Женщины, работавшие на кухне, с огромной гордостью готовили для него свои лучшие блюда. Свои предпочтения он выражал предельно ясно, и кухонный персонал с удовольствием их удовлетворял. Дед обожал рубец, куриные окорочка и нечто под названием амаси (по-зулусски), или маас (на африкаансе). Матушка Ксоли готовила его так: ставила банку с коровьим молоком на подоконник, давала ему скиснуть до тех пор, пока не получался густой белый амаси со слоем водянистого умлаза сверху. Это было нечто среднее между творогом и натуральным йогуртом. Амаси можно было есть ложкой прямо из банки или же заправлять им кукурузную кашу. Дед любил, когда он был очень кислым: чем кислее – тем лучше. Бывало, попробует, задумается – и покачает головой, и женщины снова ставили банку на подоконник, чтобы стало еще кислее.
Завтракал и обедал я на кухне с матушкой Глорией и матушкой Ксоли, но чаще всего по вечерам мы с дедом садились вдвоем, ровно в семь, за длинный стол в столовой и ужинали. Сам он, разумеется, всегда сидел во главе стола, а я – сбоку на соседнем стуле. В первый год диалоги наши были сдержанными и всегда на английском. Он говорил:
– Добрый вечер, Ндаба. Как дела в школе?
– Хорошо, – отвечал я.
– Вот и славно.
Когда он был готов к приему пищи, то звонил в маленький колокольчик – не повелительно, но так, чтобы было понятно, что мы готовы. В один из первых дней он заметил, с каким любопытством я разглядываю этот блестящий серебряный колокольчик, и однажды вечером, подмигнув, спросил:
– Хочешь сам позвонить?
Я кивнул.
Он пододвинул мне колокольчик, и я уверенно позвонил. Вошел шеф-повар с нашим ужином, и я почему-то почувствовал огромное удовлетворение – как будто был организатором какого-то праздника. Мадиба рассмеялся, похлопал меня по плечу и поблагодарил всех за ужин, который мы съели молча. Это не было напряженное молчание. Мы были вместе, и это было хорошо. Дед был счастлив оттого, что делит этот ужин с членом своей семьи. Я был счастлив оттого, что сыт. Все было здорово.
Иногда за стол приносили телефон. Звонящий непременно был очень важным человеком и звонил оттуда, где рабочий день еще не закончился. Мадиба откладывал вилку, вытирал рот салфеткой и брал трубку.
– Здравствуйте! Как поживаете? – неизменно спрашивал он, широко улыбаясь, несмотря на то что по телефону улыбки не было видно. Но ее можно было услышать и почувствовать – в этом не было никаких сомнений. Тогда я не слушал – мне было одиннадцать, и все мои мысли были заняты футболом, компьютерными играми и MTV. А даже если бы и слушал, все равно мало что понял бы. Насколько жаркими были эти дискуссии, я понял спустя много лет, когда стал изучать историю того периода. Иногда звонящие были рассержены, язвительны или напуганы. И теперь при мысли об этом я восхищаюсь тем, с каким неизменным уважением и теплотой он приветствовал каждого из них.
В апреле 1994 года Мадиба впервые в жизни принял участие в голосовании и 10 мая стал первым чернокожим президентом ЮАР.
– Пусть будет справедливость для всех, – заявил он в своем инаугурационном обращении. – Пусть будет мир для всех. Пусть будет работа, хлеб, вода и соль для всех.
Чернокожие южноафриканцы наконец обрели свободу, а моего деда назвали Отцом нации, но, как сказала Коретта Скотт Кинг: «Свободу нельзя получить раз и навсегда – ее нужно завоевывать снова и снова, для каждого поколения». Тяжелое наследие апартеида глубоко пустило свои корни: расизм, жестокость и бедность проникли в самые недра сознания, а эпидемия СПИДа и растущее политическое давление со всех сторон только усугубляли ситуацию. Взгляды всего мира были устремлены на нас в ожидании великих перемен – к лучшему или к худшему. Тогда я не осознавал этого в полной мере, но сам Мадиба находился под колоссальным давлением и при этом умудрялся сохранять невозмутимость и спокойствие даже наедине с собой, как бы ни изматывала его вся эта ситуация.
Но уж если он срывался на меня, то вселял настоящий ужас. Его зычный бас рокотал надо мной, как раскаты грома. Это было хуже, чем если бы он просто злился на меня, тогда он был разочарован. Бывало, развалившись безмятежно у телевизора в гостиной, я вдруг слышал сверху его рык:
– Ндаба! Приберись у себя в комнате.
Это означало, что нужно немедленно подняться и убрать, одновременно выслушав проповедь о личной ответственности. Он заставлял меня содержать комнату в чистоте и порядке, так же как он содержал свою: сам застилал постель и все такое, несмотря на то что прислуга была бы счастлива сделать это за него. Со мной он держался строго, и это было причиной некоторого напряжения между нами в течение нескольких лет.
Об одном случае я буду помнить всю жизнь и обязательно как-нибудь расскажу своим детям. Началось все с того, что я потерял школьный пиджак и мне нужны были деньги на новый. Я мог спокойно попросить его о чем угодно – о компьютерных играх, книгах, новом плеере. Он соглашался или говорил: «Нет, по-моему, тебе хватает игр». В общем, я не боялся просить, дело было в другом: мне нужно было заменить вещь, которую я потерял по собственной небрежности. Поэтому сначала я пошел к своей кузине Рошелль.
– Рошелль, ты не могла бы одолжить мне сорок рэндов?
В ответ она только закатила глаза:
– Пф-ф-ф! Нетушки. Если что-то нужно, попроси у дедушки.
– Не могу.
– Почему?
– Потому что… Ладно, забей.
Потом я пошел на кухню.
– Матушка Ксоли, ты не могла бы купить мне новый школьный пиджак?
– Зачем?
– Ну, чтобы…
– Ты вырос из старого? – Она оглядела меня с ног до головы. – Непохоже, чтобы ты сильно вырос со вчерашнего дня.
Я принялся перебирать в голове версии. Порвал, перелезая через забор? Украли, пока я играл в футбол? Съела собака? Но я знал, что она вмиг меня раскусит.
– Я его потерял, – ответил я наконец.
– Ага. Так иди и скажи ему.
Я вернулся в холл и подошел к двери кабинета Мадибы – он сидел в кресле и читал.
– Дедушка?
– Ндаба. – Он улыбнулся и жестом подозвал меня к себе. – Как дела? Как учеба?
– Нормально. Только… Деда, я потерял свой пиджак, и мне нужен новый.
– Ох, Ндаба…
– Прости, дедушка.
После очередной строгой отповеди о личной ответственности, в которой он говорил о том, как много людей на свете не имеют ничего и им не к кому обратиться даже за самым необходимым, дед наконец сказал:
– Я велю Рошелль поехать с тобой завтра и купить новый. Надеюсь, впредь ты будешь аккуратнее.
– Обещаю. Прости, дедушка, – ответил я, понурив голову от стыда.
– Ничего страшного, иди спать.
Я отправился к себе, думая о том, что все прошло не самым худшим образом – как говорится, без дыма и кровопролития, все остались живы. Но спустя несколько недель я снова потерял пиджак. Отправляясь к нему, я трясся с ног до головы, пытаясь на всякий случай судорожно придумать «План Б». Убежать из дома? Сменить школу? Найти кого-нибудь, на кого можно было бы свалить вину? Принять самый несчастный вид, чтобы вызвать у него жалость?
– Дедушка?
– Ндаба… – должно быть, он с первого взгляда понял, что сердце у меня вот-вот выскочит из груди.
– Прости, – сказал я убитым голосом. – Я опять потерял пиджак.
Вызвать жалость не получилось: он пришел в ярость. Разговор о личной ответственности перешел на другой уровень, и на этот раз он не собирался отправлять меня с Рошелль, чтобы купить еще один пиджак.
– Вижу, ты не придал значения моим словам, когда я велел тебе быть аккуратнее. Вот как ты ценишь свой дом и свои вещи – одежду, игры, комнату. Настолько, что мне каждый день приходится повторять: «Ндаба, уберись в комнате! Ндаба, собери одежду!» Знаешь, что? Сегодня будешь спать на улице.
Я стоял, ошарашенный сказанным.
– Живо! – пророкотал он. – Сегодня ночью тебе нет места в этом доме.
Что мне оставалось делать? Я медленно прошел через холл на улицу. Уже собирались сумерки, становилось темно, скоро совсем стемнеет. Двор был обнесен высоким забором. Я решил, что, если какие-нибудь злоумышленники попытаются перелезть через него, охрана их остановит. Теоретически. Я нашел удобное место под раскидистым деревом, надеясь, что в траве и пруду не водятся змеи. Стемнело, и дневная жара спала. Я сидел под деревом и дрожал, обхватив руками колени. Меня колотило так сильно, что я уже готов был выпрыгнуть из кожи, как вдруг услышал, как с порога кухни меня зовет матушка Ксоли.
– Ндаба?
Испытывая смесь испуга и облегчения, я побежал к ней навстречу. Наверное, она пришла позвать меня на ужин? Но нет.
– Мадиба велел передать тебе вот это. – Она протянула мне одеяло.
Я хотел было поблагодарить ее, но слова застряли в горле. ДЕД НЕ ШУТИЛ – ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАМЕРЕН БЫЛ ОСТАВИТЬ МЕНЯ НА ВСЮ НОЧЬ НА УЛИЦЕ, БЕЗ ЕДЫ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ МОГУТ ВОДИТЬСЯ ЗМЕИ, а через забор того и гляди проберутся воры и убийцы. Матушка Ксоли вернулась в дом, и я сглотнул комок в горле. Глаза жгло, но слезами горю не поможешь. Да я и не привык плакать, даже в детстве. Если только от каких-то внешних причин – как тогда, когда мы с друзьями попали под обстрел слезоточивым газом. Но теперь было во сто крат хуже: я был один, а дед ужасно зол на меня, и рано или поздно мне снова предстоял разговор с ним. Ну и пусть. Что бы ни случилось, я не стану плакать. Народ коса привык терпеть. Мы говорим об этом, даже когда приветствуем друг друга:
– Привет, как дела? – спрашивают.
– Ndi nya mezela, – в ответ. Что означает «Держусь».
Я устроился поудобнее на земле, завернувшись в одеяло. В ветвях деревьев щебетали птицы, шелестел ветер. Спустя некоторое время я увидел в окне кухни матушку Глорию – она мыла посуду и вешала на крючки горшки и кастрюли. Ужин закончился. В животе урчало от голода. Сейчас я обрадовался бы даже тарелке риса с кетчупом из моей прежней жизни. В живой изгороди стрекотали жуки. Где-то далеко лаяла собака, просясь в дом. Я уже засыпал, как вдруг услышал рядом тяжелые шаги и резко проснулся. Вскочив, я увидел, как по газону мне навстречу идет Старик.
– Ндаба?
– Да, дедушка.
– Если ты еще раз потеряешь пиджак, будешь спать на улице в следующий раз по-настоящему. Понял?
– Да, дедушка.
– Идем в дом.
Он повернулся и направился в сторону дома, а я засеменил рядом, пытаясь поспеть за его широкими шагами.
– Мой отец любил и уважал всех своих детей, но не давал нам слабины и всегда держал дисциплину.
Он открыл дверь кухни и подтолкнул меня внутрь.
– Ешь – и спать.
Никогда еще я так не радовался, что сижу за кухонным столом. И никогда больше я не терял свой пиджак. С тех пор как родились Леваника и Неема, я не раз повторял им слова моего деда. Недавно мать Леваники позвонила мне и сказала:
– Не знаю, как так вышло, но твой сын умудрился потерять школьный пиджак.
Я рассмеялся: учебный год только начался – и когда он успел?
– Чего ты смеешься? – спросила она.
– Так, ничего. Скажи ему: если это повторится – он будет спать на улице.
4 KUHLANGENE ISANGA NENKOHLA «Иногда чудесное и невозможное встречаются»
Легенда народа коса о дереве, которое нельзя было обхватить, похожа на европейскую сказку о Золушке. Это сходство двух сюжетов совершенно разных культур невольно заставляет меня задуматься: был ли один из них источником вдохновения для другого или же в наших культурах есть нечто общее, что делает такие истории близкими и понятными каждому? Наверное, из-за врожденного чувства справедливости подобные темы находят отклик в обществе.
В сказке коса мать главной героини, прекрасной Батандвы, умирает, и девушка вынуждена прислуживать мачехе и двум злым сводным сестрам. Дерево, в котором поселяется дух матери, растет на берегу реки. Однажды из него вылетает птица и говорит королю: «Ты должен устроить состязание: кто обхватит это прекрасное дерево, того ты осыплешь золотом, а если это будет девушка, она выйдет замуж за твоего сына». Королю эта мысль понравилась, и он устроил турнир, в котором приняли участие все жители королевства, в том числе злая мачеха и сестры Батандвы. Должно быть, они были не очень сообразительными, потому что не узнали ее на турнире. (Договоримся, что она переоделась или что-то вроде того, потому что именно такие детали и отличают сказку от бессмыслицы – вот почему для африканских версий характерно долгое и подробное объяснение всех деталей.) И вот все участники – от самых сильных мужчин до самых проворных женщин – по очереди обхватывают дерево, но оно отклоняется, не позволяя никому, кроме Батандвы, обнять себя – ведь в дереве обитает дух любящей матери этой девушки, живущей в постоянных унижениях.
Мне нравится африканский колорит этой старой сказки. Моя маленькая дочь Неема – очень энергичный ребенок с богатым воображением, и я лучше расскажу ей сказку о девушке, несущейся во главе стада диких быков, чем о принцессе в золотой тыкве. Думаю, роль феи-крестной в африканской версии играет дух матери девушки, поселившийся в дереве, которое является воплощением силы. Разумеется, этот образ больше подходит моей матери и бабушкам. В отличие от сказки о Золушке, в конце которой все «живут долго и счастливо», финал версии коса представляет собой запутанный клубок из магии и убийств, а также (в зависимости от рассказчика) некоторых взрослых подробностей. Но в обеих историях, в конце концов, торжествует справедливость. Злая мачеха и сводные сестры остаются ни с чем. В этом, пожалуй, состоит еще одно различие между двумя культурами: ОТ АФРИКАНСКИХ ДЕТЕЙ НЕ СКРЫВАЛИ СТРАШНОЙ ПРАВДЫ, О ЖИЗНИ И СМЕРТИ НАМ РАССКАЗЫВАЛИ КАК ЕСТЬ, БЕЗ УТАЙКИ. По-другому и быть не могло, учитывая место и время, в которые мы росли.
Когда мои друзья увидели, как я уезжаю из трущоб Соуэто на черном «БМВ», они, должно быть, решили, что я сам попал в сказку о Золушке. Вне всякого сомнения, жилось мне теперь намного лучше, а в их представлении я и вовсе как сыр в масле катался. Наверное, так весь остальной мир представлял себе конец апартеида. В Европе и обеих Америках его категорически осуждали. Деятели культуры и музыканты всеми силами пытались пробудить сознание общественности, и весь мир праздновал победу, когда Мадиба стал президентом ЮАР. Думаю, для многих это была сказка со счастливым концом, но в действительности мы до сих пор испытываем огромные экономические трудности, такие, например, как передел земли.
Это явление отлично показано в американском фильме «Непокорённый», о Кубке мира 1995 года, который получила Южная Африка. Мне тогда было двенадцать. В фильме об этом рассказывается так. Большинство чернокожих людей считали, что правительство должно упразднить все организации и прочие элементы, оставшиеся от эры апартеида, но Мадибе хватило мудрости, чтобы понять, что, пойдя на компромисс, будет легче договориться с белым меньшинством. Одним из таких компромиссов стал национальный гимн «Die Stem van Suid-Afrika» («Зов Южной Африки») – торжественный марш, прославляющий колонизацию Южной Африки. Другой компромисс – «Спрингбокс», сборная ЮАР по регби, в которой за всю ее столетнюю историю был лишь один цветной игрок. В фильме «Спрингбокс» выигрывают кубок, черным остается только смириться, а белые выходят просто отличными ребятами. Во время решающего матча по регби черные и белые телохранители Манделы становятся друзьями, белая леди и ее чернокожий домработник обнимаются на трибунах, а дружелюбные белые таксисты сажают на плечи чернокожего мальчика в знак новообретенной гармонии между расами. И все живут долго и счастливо – так что зрителям сразу понятно, что это сказка. В реальности все было совсем не так.
На языке коса слово «ненависть» – inzondo, но есть и другое слово – ngcikivo, заключающее в себе дополнительную коннотацию. Наиболее точным его значением будет «презрение» – глубоко укоренившийся отказ признавать право другого человека называть себя человеком, самовнушение, что те, другие, не имеют равных прав. Расизм такого масштаба – на юридическом, организационном, культурном или личном уровне – не искоренишь ни за один матч по регби, ни за сезон, ни за целое поколение. Не думаю, что от него вообще можно избавиться окончательно. Может быть, самое большее, на что мы можем рассчитывать, – добиться того, чтобы это явление признали неприемлемым на общественном и экономическом уровне. Но в одном я совершенно уверен: нужно попытаться. Нельзя закрывать глаза на расизм, даже когда он живет в нас самих.
Ответом Мадибы на презрение стало сострадание. Неустанное сострадание. Это сострадание проехалось по их ненависти, как броневик «Хиппо». Не раз он повторял: «Наша стратегия – ненасилие», имея в виду философию Ганди – отказ от сотрудничества при мирном, но непреклонном сопротивлении. Он не был святым, который всех любил и не обидел бы и мухи. Но он был здравомыслящим лидером, который понимал: нужно изо всех сил бороться за правое дело до тех пор, пока добро не одержит победу над злом. Процесс преодоления расизма через любовь и взаимоуважение в ЮАР еще не завершен, как и в США, Европе и во всем мире. Мировому сообществу предстоит проделать на этом поприще долгий путь.
Я иногда слышу об очередной вспышке расизма – когда белый человек делает что-то плохое чернокожему в ЮАР или когда полицейские в США унижают афроамериканцев – и мне становится горько. Люди, разумеется, возмущаются, но представьте, каково было десять лет назад: соцсетей не существовало, и подобные происшествия замалчивались как недостойные внимания. То, что подобное происходит до сих пор, ужасно, но теперь мы, по крайней мере, знаем об этом. Я усматриваю довольно четкую параллель между южноафриканским освободительным движением и тем, что сейчас происходит в США, а именно деятельностью движения Black Lives Matter и мирным публичным протестом, когда футболисты вставали на колени. Весь мир будто бы просыпается, осознавая, что такое расизм, сексизм, ксенофобия, словно переходя из режима «так заведено» в режим «это недопустимо». Это уже начало. Мартин Лютер Кинг и Барак Обама часто цитировали высказывание Теодора Паркера, министра и сторонника трансцендентальной философии, который боролся за освобождение рабов в Америке XIX века: «Дуга морали высока, но тяготеет к справедливости». Полагаю, так и есть, но я не так терпелив, как мой Старик. Иногда мне кажется, что для достижения справедливости все мы могли бы приложить чуть больше усилий.
Когда я учился в третьем классе, один из восьми моих чернокожих одноклассников, мой хороший друг Селема, собрал вокруг себя банду под названием «Bendoda» («Джентльмены»). У нас были одинаковые ручки и одинаковые значки на отворотах. Селема был нашим маленьким Наполеоном. Был он невысокого роста, но коренастый. В то время Майкл Джексон был всеобщим кумиром, и мы представляли себя ловкими парнями из клипа на песню «Bad». На каникулах и после занятий мы дрались с бандой белых мальчишек и почти всегда побеждали их. Мы загоняли их на деревья, а они только и могли, что плевать на нас сверху, потому что боялись спускаться. За это нас частенько вызывали в кабинет директора, но потом приходили родители и вытаскивали нас.
Матерью Селемы была Барбара Масекела. До того, как занять пост главы Департамента АНК по искусству и культуре, она преподавала английскую литературу в Ратгерском университете (и еще она была младшей сестрой знаменитого джазиста Хью Масекелы, а когда мой дед стал президентом, она заняла пост начальника штаба). Итак, нашу банду приводили к директору, где уже бушевали родители белых ребят, а потом появлялась тетя Барбара – и всё. Она затыкала им рты, просто замечая, как нелегко приходится восьми чернокожим ребятам, которые просто пытались защищаться.
Помню, как в тот же год я написал в школьном сочинении что-то вроде: «Я хочу хорошую машину и хороший дом, но я не хочу быть богатым – богатые все белые». Именно так я думал в то время. Мне хотелось иметь то, что было у белых, но я не желал быть одним из них – а регби считается игрой белых. Мы с друзьями играли в футбол с самого детства, но к регби были совершенно равнодушны. Все свое детство мы слышали поговорку: «Регби – игра для хулиганов, в которую играют джентльмены. Футбол – игра для джентльменов, в которую играют хулиганы». Согласно этой логике, мы были хулиганами и нам как раз и хотелось быть бунтарями. Все детство мы слышали истории о наших родителях и их соратниках по освободительному движению АНК, и для нас это было пределом крутизны – быть бунтарем, выступать против системы.
В нашем сознании, формировавшемся в суровое время апартеида, противостояние белых и черных было нормой. Мадиба же видел в этом борьбу справедливости с несправедливостью, правого с неправым, щедрости с жадностью, единства с разобщенностью. Эти темы были гораздо более щекотливыми. Простых ответов не было, хотя пропасть между людьми понемногу начинала сокращаться.
В 1995 году на чемпионате мира я впервые увидел матч по регби – как, наверное, большинство черных. Не на стадионе – мы с друзьями и кузенами смотрели его по телевизору. Лично для меня этот день стал значимым еще и потому, что к нам приехал мой отец и смотрел этот матч вместе с нами. Тогда я этого не знал, но он проходил реабилитацию – с переменным успехом. Отец изо всех сил старался наладить учебу и личную жизнь. Одно точно: с ним этот матч был для меня гораздо важнее, чем без него. Он считал знаковым уже то, что Южная Африка выступала на таком уровне.
– Представляешь, всего год независимости – и мы уже в финале чемпионата мира! – радовался он.
И еще было классно видеть Мадибу по телевизору, с улыбкой и в форме «Спрингбоксов». Большинство черных смотрели матч именно из-за него, и именно поэтому это событие стало важным. Когда он занял президентский пост, то показал себя лидером, заботящимся о своем народе, в том числе о белом меньшинстве, с твердым намерением сделать нас единой страной. Это было самым настоящим подвигом Геракла и многим казалось невозможным, пока на поле не вышел Мадиба и не сказал: Kuhlangene isanga nenkohla («Иногда чудесное и невозможное встречаются»).
Дети для Мадибы были на первом месте – как по гуманитарным, так и по стратегическим причинам. Спустя всего несколько недель после победы на выборах он учредил Президентский трастовый фонд, на базе которого впоследствии был сформирован Детский фонд Нельсона Манделы, куда он ежегодно направлял 150 000 рэндов (12 000 долларов США) – треть своей президентской зарплаты. Объявляя об учреждении фонда, он сказал членам парламента: «Качественное образование – путь к избавлению людей от бедности и лишений».
На протяжении многих поколений подавляющее большинство чернокожих людей были лишены шансов на лучшую жизнь, и это один из глубочайших шрамов, оставленных апартеидом на теле африканского народа, который не так-то легко залечить и с окончанием этой эпохи. Эти воспоминания укоренились в нас с самого раннего детства. Вокруг были лишь постоянные народные волнения, недовольство, ужасающая нищета и ощущение безнадеги, тяжким грузом лежавшее на плечах наших родителей. В этих условиях СТАРИК ВИДЕЛ В ОБРАЗОВАНИИ ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ЧЕРНОГО НАРОДА, ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ОБРЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО. А я был для него одним из элементов этой мозаики.
Дед с самого начала предупредил меня: я должен учиться на «отлично», чем застал меня врасплох. До сих пор я перебивался с «двойки» на «тройку», лишь изредка получая «четверки». Он не стоял надо мной ежедневно с кнутом, следя, чтобы я прилежно делал уроки, но требовал результатов. Всякий раз, показывая ему оценки за контрольные и доклады, я дрожал всем телом.
– Ты намного умнее, Ндаба, – говорил он. – Нужно стараться. Ты же Мандела – народ ждет, что ты станешь лидером. Ты должен учиться лучше всех в классе.
– Да, дедушка.
Разумеется, я отвечал так, как ответил бы любой ребенок, но про себя думал: «Вот еще! Кому какое дело?» Быть лидером мне совсем не хотелось – напротив, я гордился своей репутацией хулигана. К тому времени я вытянулся и считал, что умею неплохо выкручиваться из передряг. Учеба была мне совершенно неинтересна, я прекрасно чувствовал себя на «галерке», где можно было расслабиться и спокойно списать домашнюю работу у других. Мозгов у меня хватало, чтобы дотягивать до проходного балла на контрольных, а большего мне было и не нужно. Но Мадибе этого было недостаточно. Он приходил в ярость, видя, что кто-то работает спустя рукава, а особенно оттого, что ему никак не удавалось пробудить во мне ответственность и интерес к учебе. Он был чрезвычайно занятым человеком с чрезмерно высокой планкой, и, разумеется, ему некогда было постоянно следить за упрямым третьеклассником, и в то же время мое образование было для него очень важно.
Однажды за ужином он сообщил мне, что отныне я буду учиться в «Ридж-скул», частной средней школе для мальчиков, на полном пансионе. Это было ударом ниже пояса. К тому времени я уже освоился в новом доме, и меня все вполне устраивало, но Старик был в постоянных разъездах, а я был на попечении у Рошелль и матушки Ксоли и охраны. Оглядываясь назад, я понимаю, почему он решил, что в «Ридже» мне будет лучше: должно быть, ему казалось, что мне одиноко без него. Так оно и было, но для меня было гораздо лучше одиночество в собственной комнате, чем в толпе совершенно незнакомых мальчишек.
– Это недалеко, – успокоил меня Старик. – На выходные будешь приезжать домой.
Я кивнул, ощущая странную пустоту в животе.
– Будь внимателен со своей школьной формой, – продолжал он. – Следи, чтобы она всегда была чистой и выглаженной. И старайся учиться хорошо, Ндаба. Ты очень умный мальчик и можешь учиться на «отлично» – меньшего я от тебя не жду.
– Да, дедушка.
Он сжал мою руку.
– Не куксись. Тебе там понравится. Будешь играть в теннис и регби.
Регби! Внутри меня все сжалось. Потрясающе…. В следующий понедельник утром меня отвезли не в Колледж Святого Сердца, как обычно, а в школу «Ридж». Пока мы ехали по загруженной дороге, я все думал о своих друзьях – вот придут они в школу и будут гадать, куда я подевался. Водитель подъехал к массивным железным воротам в длинной каменной стене, въехал на территорию школы, а затем мне предстояло пройти долгую процедуру регистрации и ориентации. Мне выдали форму: светло-голубую рубашку с ярко-синим галстуком, серые шорты, серый жилет и серый пиджак. На хрустящем лацкане колючего пиджака красовался герб школы – тонкий контур щита с буквами «R» и «S». Буквы так тесно сплелись, будто пытались задушить друг друга. В спальне я переоделся в форму и отправился в класс, уже считая часы до того момента, когда вернусь домой.
Школа «Ридж» была основана в 1919 году. Старинное здание было окружено раскидистым зеленым массивом площадью почти восемьдесят тысяч квадратных метров на утесе Вестклифф Ридж, откуда открывался вид на респектабельные районы к северу от Йоханнесбурга. Величественные каменные здания с лепниной – образец голландской архитектуры. Там был бассейн и теннисные корты, а между каменных террас простиралось огромное поле, где мальчики играли в регби и крикет. Я расположился за огромным столом директора, который, сидя напротив и широко улыбаясь, рассказывал о намерении школы воспитать целеустремленных молодых людей, свободно мыслящих, не боящихся высказывать собственное мнение, с хорошей спортивной подготовкой и отличными итоговыми оценками. Учеба в «Ридже» длилась семь лет, и в соответствии с их градацией я был приблизительно посередине. За всю свою долгую историю это уважаемое учебное заведение приняло в свои стены всего несколько чернокожих ребят. Это изменение в правилах ввели всего за несколько лет до моего поступления, так что я был представителем абсолютного меньшинства, а из-за своей известной фамилии был еще более изолирован от остальных. Не сомневаюсь, что «Ридж» – отличная школа, но мне там было невыносимо одиноко, и я ненавидел это место. Однажды в воскресенье за ужином я сказал Мадибе:
– Дедушка, я не хочу туда возвращаться.
– Ндаба, это одна из лучших средних школ ЮАР, – ответил он. – Потерпи еще немного. Ты привыкнешь и подружишься с ребятами, вот увидишь.
– Но у меня уже были друзья в моей школе.
– Разве друзей бывает слишком много? – Он улыбнулся, широко разведя руками. – Ндаба, ты получишь отличное образование. Всего несколько лет – до седьмого класса осталось не так уж и много.
– Дедушка, я ненавижу ее! – объяснить, что я чувствую, по-английски было гораздо сложнее. На языке коса это звучало бы намного мужественнее, а вышло так, будто бы я испугался и вот-вот расплачусь. – Если что-то ломается – наверное, это черный сломал. Если что-то пропало – наверное, это черный украл.
Мадиба лишь хмуро слушал.
ПОВЗРОСЛЕВ, Я ПЫТАЛСЯ ПЕРЕНЯТЬ ЭТУ ЕГО МАНЕРУ СЛУШАТЬ: БЕЗ ЭМОЦИЙ, СОСРЕДОТОЧЕННО, СЛОВНО ИЗУЧАЯ КАЖДОЕ СЛОВО ПОД МИКРОСКОПОМ. Он не говорил, что я не прав или что мои слова не имеют значения, потому что я еще маленький, но не стал заставлять меня вернуться в «Ридж». В качестве компромисса он предложил мне перейти в школу «Хьютон Праймери», где учились мальчики и девочки и было несколько чернокожих ребят. Я попробовал там учиться, но все равно скучал по своим друзьям и кузенам, оставшимся в Колледже Святого Сердца. Снова и снова я подходил со своей просьбой к Мадибе: Колледж Святого Сердца был всего несколькими дворами дальше, я могу сам подать документы и стану лучше учиться, я буду стараться и заслужу его доверие. В конце концов, он сдался.
Интересная деталь: в расширенной версии клипа «Bad», снятого Мартином Скорсезе, показана история чернокожего паренька, поступившего в школу, где почти все ученики были белыми, и со временем утратившего связь со своей старой «бандой». Когда я вернулся в Колледж Святого Сердца, друзья обрадовались мне, но в последующие несколько лет что-то в наших отношениях изменилось: теперь в своей старой компании я продолжал чувствовать себя ужасно одиноко.
– Ты же Мандела, – пожав плечами, объяснила тетя Маказиве.
– Моим друзьям на это наплевать, – ответил я. Я ведь знал этих ребят почти всю жизнь.
– В своей жизни ты встретишь немало людей, – сказала она на это. – И если, дожив до моего возраста, все еще сможешь назвать их настоящими друзьями, вот это будет настоящая удача.
– Я не неудачник какой-нибудь! У меня друзей человек десять!
– Ага, – кивнула она с легкой улыбкой. Ей вовсе не нужно было убеждать меня в своей правоте – она знала, что когда я вырасту, то сам это пойму.
Вернувшись, я еще сильнее ощутил, как мне не хватало моей комнаты, приставки «Сега» и стряпни матушки Ксоли – жареной курицы, лососёвых фрикаделек и соленой трески с картошкой. Думаю, матушка Ксоли и сама была рада моему возвращению – как радуется художник, когда видит, что его работу ценят. Ей никогда не приходилось уговаривать меня поесть. У них с матушкой Глорией были и свои дети, иногда мы все вместе садились за большой кухонный стол – эти посиделки были гораздо более шумными, чем когда мы с Мадибой ужинали вдвоем, в суровом молчании.
В то время он был в постоянных разъездах, ежедневно пытаясь справиться с огромным объемом работы, решая самые разные задачи – от достаточно незначительных, вроде того какую песню выбрать национальным гимном, до глобальных, таких как собственная роль на мировой политической арене. Возможно, кто-то из американцев удивится, узнав, что Старик числился в государственном списке лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, вплоть до 2008 года. Свое самое первое интервью телевидению Мадиба дал в 1961 году, когда согласился встретиться с Брайаном Уидлейком с независимого канала ITN в доме, где прятался от полиции. Тогда Уидлейк спросил его:
– Вы считаете, что африканцы смогут построить процветающую страну, не вытеснив европейцев?
– В своей политике мы даем четкий ответ на этот вопрос: ЮАР – многорасовое государство. Наша страна открыта для людей любой расы.
Затем он предельно ясно заявил, что единственной целью АНК является демократия: один человек – один голос. Он ни разу не изменил этим своим убеждениям и всегда выступал за мир и ненасилие, однако спустя год после этого интервью его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Теперь, когда он пришел к власти и мог поступать так, как пожелает, людям было непросто принять его позицию: сохранять спокойствие. Мне и самому тяжело с ней смириться – я знаю, что ни за что не смог бы, проведя почти тридцать лет в тюрьме и выйдя из нее, простить тех, кто меня туда засадил. Тогда подобная позиция казалась мне сверхчеловеческой, и, хотя теперь я яснее понимаю сложившуюся ситуацию, на мое восхищение им это никак не повлияло.
Во время того интервью в 1961 году Мадиба был всего лет на пять старше меня теперешнего, но уже тогда ему было присуще это характерное умение слушать, которое я запомнил в поздние годы его жизни. Выражение его лица непроницаемо, как у Сфинкса, но возникает один момент – всего лишь доля секунды, когда в его глазах мелькает некая эмоция. Запись этого интервью есть на YouTube – посмотрите, и вы поймете, что я имею в виду. Уидлейк задает вопрос о том, смогут ли африканцы «построить страну» без европейцев, и лишь на долю секунды в его взгляде мелькает нечто вроде «да ладно?». Разумеется, вопрос этот продиктован страхом – Уидлейк просто озвучил мысль, которая тревожила всех остальных. Но ведь африканцы уже занимались этим «строительством» – на протяжении тысячелетий до того, как приплыли европейцы. В Африке была своя богатая культура, крепкие общественные и семейные узы, богатые природные ресурсы до появления европейцев, захвата континента и распространения болезней (ничего не напоминает, Америка?).
Поэтому даже малейшее сомнение в том, смогут ли африканцы что-то «построить», прогнав европейцев, не может вызвать ничего, кроме иронии. Мадиба мог бы возмутиться, выйти из себя, взорваться, заткнуть ему рот. Но его сверхспособность проявилась именно в том, что он не стал этого делать. В тот момент – как и в сотне других случаев, когда он оказывался лицом к лицу с человеком, который попросту не понимал ситуацию, – он предпочел просто идти вперед. Он решил прийти к компромиссу, вместо того чтобы вновь вступить в борьбу, которую его предки уже проиграли. Вместо того чтобы вновь ввязаться в конфликт, который завел бы страну в тупик, он предпочел обсудить условия мирного соглашения. Как знать, насколько изменилась бы культура поведения в интернете, если бы люди чаще умели вовремя удержаться от того, чтобы доказывать собственную правоту по любому поводу. Что произойдет, если желание поступить правильно пересилит стремление доказать, что кто-то другой ошибается?
Мадиба очень любил рассказывать «Историю о женщине в телефонной трубке». Однажды во время избирательной кампании он должен был решить какую-то проблему и позвонил по телефону. Трубку сняла женщина, и он спросил:
– С кем я разговариваю?
– Вы разговариваете со мной! – сердито ответила она.
Он спросил, как ее зовут, но тут она совершенно вышла из себя:
– Кто вы такой, чтобы спрашивать, как меня зовут? А вас-то как зовут?
– Ну, вы сначала скажите мне свое имя, а потом я скажу вам свое, – отвечает он.
Они начали препираться. Наконец, не понимая, что он из природной скромности просто пытается избавить ее от неловкой ситуации, она говорит:
– Вы, похоже, очень недалекий человек. Хоть школу-то закончили?
На что он отвечает:
– Повежливее. Если для того, чтобы поговорить с вами, нужен аттестат зрелости, я стану учиться усерднее, чтобы получить его и оказаться на одном уровне с вами.
Для нее такой ответ был немыслим.
– Вы никогда не будете на одном уровне со мной! – с этими словами она бросила трубку.
Мадиба всегда заканчивал эту историю с лукавой улыбкой: «Вот бы она сейчас была здесь!»
Эта история всегда вызывала всеобщий смех, но я не думаю, что он рассказывал ее лишь с этой целью. Суть ее в том, что, если бы она думала, что разговаривает с белым, то ни за что не позволила бы себе подобной грубости. На самом деле, она никогда не упоминала своего цвета кожи, да и история эта не о нем; она – о предрассудках и о том, как глупо мы можем выглядеть, когда делаем выводы, основываясь на собственных предубеждениях. Быть может, сообщив ей свое имя и заставив ее устыдиться собственных слов, он испытал бы некоторое удовлетворение, но оно не шло бы ни в какое сравнение с тем удовольствием, с которым он рассказывал эту историю и слышал, как люди смеются над глупым и слепым расизмом.
Вернувшись из очередной командировки, Старик неизменно заходил ко мне в комнату, даже если десятичасовой «комендантский час» уже миновал. Я всегда радовался его шагам на лестнице, хотя никогда не выбегал к нему навстречу и не повисал на шее – даже сама мысль никогда не приходила мне в голову. Мы приветствовали друг друга рукопожатием, по-мужски сдержанно. По вечерам он почти всегда был очень уставшим, и я старался не приставать к нему с разговорами. Я знал, что утром ему рано вставать, и, если я и сам рано встану, мы сможем вместе сделать зарядку.
Утренние прогулки были для Мадибы обязательным ритуалом, а кроме того, он каждый день прыгал через скакалку, отжимался и поднимал гири. Он показал мне медицинский мяч и научил своим любимым упражнениям с ним.
– Подпрыгни вот так. Хорошо. А теперь отожмись. Выше, выше! Прямо над головой. Вот так. Отлично! Теперь в бок. Держи его над головой, Ндаба, на уровне плеч.
Сейчас я с теплотой вспоминаю те утренние часы, когда мы занимались вместе с дедом, хотя тогда мне было нелегко поспевать за ним. Ему было почти восемьдесят, но он всегда серьезно относился к здоровому образу жизни и физическим упражнениям, даже когда был в тюрьме.
– Когда на острове зашла речь о том, чтобы объявить голодовку, – рассказывал он, – я сказал: «Мы и так боремся здесь за выживание – зачем нам самим лишать себя еды?» Нет-нет. Нужно было съедать все мясо и овощи, что нам давали. Нужно было заботиться о себе, быть сильными, чтобы выстоять. Если мы хотим сделать хуже им, лучше медленнее работать или отказываться от работы.
Суровые условия тюремного содержания резко контрастировали с тем, как привольно ему жилось в Куну. Пока мы отжимались и выполняли упражнения с медицинским мячом, он рассказал о том, как, взобравшись на спину старого быка, объезжал поля вокруг хижины своей матери.
– Когда-нибудь мы туда поедем, Ндаба. Я покажу тебе места, где родился твой дед, – говорил он. – Ты ведь хочешь поехать, правда?
– Да, дедушка, – отвечал я, про себя думая: «Каково это – оседлать быка?»
– Я родился в деревне Мвезо, главой которой был мой отец, но именно в Куну прошли самые счастливые годы моего детства. Конечно, я должен был слушаться отца, и все мы должны были подчиняться обычаям племени, но в остальном я был волен делать, что захочу. С рождения нужно было бороться за свободу, но когда вырастаешь – становишься абсолютно свободным человеком. В детстве я делал все, что вздумается, – плавал, бегал, ходил куда захочется, а потом повзрослел. Я СТАЛ МУЖЧИНОЙ, ВОШЕЛ В БОЛЬШОЙ МИР И УВИДЕЛ, ЧТО СВОБОДА, КОТОРОЙ Я НАСЛАЖДАЛСЯ, БУДУЧИ РЕБЕНКОМ, БЫЛА ИЛЛЮЗИЕЙ.
Мы занимались до тех пор, пока я не начинал чувствовать, что руки у меня отваливаются, тогда он хлопал меня по плечу и говорил:
– Продолжай в том же духе! – и отправлял меня в душ и готовиться к школе.
Так начинался новый день, и я почти не задумывался о наших беседах, не понимал, как через его рассказы начинаю лучше понимать, как устроен мир вокруг, другими словами, как пробуждалось мое «политическое сознание».
Я был осведомлен о политической обстановке с раннего детства: знал, что такое апартеид и что с ним нужно бороться, но в то время мое понимание ограничивалось противостоянием «черные против белых». В своей книге «Долгая дорога к свободе» Мадиба написал: «Свобода неделима […] Угнетающий должен стать таким же свободным, как и угнетаемый. Человек, забирающий свободу у другого [человека], является пленником ненависти, упрятанным за решетками собственных предрассудков… Их обоих лишают человечности».
Именно здесь кроются корни сострадания Мадибы к белому населению Южной Африки, каким бы непостижимым это ни казалось его соратникам в борьбе за независимость. Возненавидеть их означало бы сменить одну тюрьму на другую. Вот почему он вместе с ними радовался победе «Спрингбоксов» и позволил использовать этот бессмысленный марш в качестве национального гимна, хоть и ненадолго. А потом с неизменным терпением, через собственные каналы, комитеты и процедуры постепенно ввел новый гимн, сочетающий в себе элементы «Die Stem van Suid-Afrika» («Голос Южной Африки») со старинным гимном «Nkosi Sikelel’ iAfrika» («Боже, храни Африку»).
Во время судебного процесса 1963 года в Ривонии, на котором Мадибу и шестерых его коллег по АНК, в том числе и Уолтера Сисулу, приговорили к пожизненному заключению, Альбертина Сисулу была в зале суда. Ей не разрешили поговорить с мужем, но она выбежала на улицу, чтобы посмотреть, быть может в последний раз, на него и Мадибу, который тоже был ей как семья. Когда их увели, Альбертина и другие члены Лиги женщин АНК сформировали почетную охрану Церковной площади Претории. В детстве, слушая гимн «Nkosi Sikelel’ iAfrika», я чувствовал, как разрываются их сердца. Начинается он мрачно, но затем звучит возвышенно, и голоса певцов наполнены верой в будущее, которое пришлось так долго ждать, но все же Альбертина его застала. И свершилось это потому, что она и подобные ей сделали для этого все возможное. Они не стали ждать, пока спустится Господь и сделает все за них. Их вера в это будущее была столь же сильной и непоколебимой, как и вера в собственные силы.
На языке коса этот гимн звучит так:
Nkosi sikelel’ iAfrika Maluphakanyisw’ uhondo lwayoНа африкаансе:
Hou u hand, o Heer, oor Afrika Lei ons tot by eenheid en begripНа английском:
Lord, bless Africa May her spirit rise high up[2]Мадиба всегда пел его с чувством на любом языке, и теперь я понимаю, почему он хотел, чтобы я свободно изъяснялся на всех трех языках. Красивый язык коса – это моя родина. Африкаанс позволил мне общаться на равных с моими белыми соотечественниками. А благодаря английскому для меня распахнулись двери в остальные страны нашего континента и в мир за его пределами.
5 UZAWUBONA UBA UMOYA UBHEKA NGAPHI «Слушай, куда дует ветер»
Как и миллионы моих сверстников, я мог безупречно начитать рэп из заглавной темы сериала «Принц из Беверли-Хиллз» о чернокожем пареньке из трущоб, жизнь которого круто меняется благодаря родственным связям. Из бедного квартала большого города он попадает в роскошный пригородный район – в совершенно новую обстановку – и решает «оторваться по полной». Нельзя не заметить сходство с моей историей. Самым примечательным в этом сюжете, пусть я в то время об этом даже не задумывался, было противопоставление ролей ученика и учителя. Понять, насколько улучшилась жизнь главного героя, можно и без объяснений диджея Джаззи Джеффа, но главное в этой истории то, как сам парень изменил к лучшему жизнь своего богатого дяди и заставил его по-другому взглянуть на мир.
Мой дед прекрасно понимал, как много он пропустил за те двадцать семь лет, что провел в тюрьме, и страстно желал наверстать упущенное, для начала просто установить контакт с младшим поколением своей семьи. Вернувшись из-за решетки, он ничего не хотел так сильно, как снова быть со своими близкими и работать в АНК. Некоторое время он жил у своего друга Десмонда Туту, а потом отправился в Куну, потому что «человек должен жить там, где родился». Он построил дом – почти такой же, как тот, в котором он жил в тюрьме «Виктор Верстер», где мы встретились в первый раз. Я был не единственным, кому эта затея казалась странной, но Старик лишь отмахивался.
– Я привык к тому дому, – объяснял он. – Мне не хотелось заблудиться ночью в поисках кухни.
Думаю, больше всего ему хотелось жить в тишине и покое, писать книги, выступать и сохранять влияние, будучи частным лицом. Когда ему предложили выдвинуть свою кандидатуру от АНК на пост президента ЮАР в первые демократические выборы, он был против. По его мнению, кандидат должен был быть моложе, жить внутри этой культуры, а не в изоляции от нее и идти в ногу со стремительно развивающимися технологиями, от которых зависело будущее всего мира.
В период, предшествующий выборам, между Партией свободы Инката, члены которой были преимущественно из народа зулу, и АНК, чье руководство (на тот момент) в основном осуществлялось представителями коса (хотя состав ее был менее однородным), велась ожесточенная борьба. Это было на руку белому правительству, которое воспользовалось этой междоусобицей, чтобы доказать, что черные никогда не смогут договориться и найти цивилизованный способ управления страной. Широкое освещение в прессе получил варварский обряд «ожерелье», когда на шею жертве надевали автомобильную шину, пропитанную бензином, и поджигали, а также беспрецедентные уличные беспорядки, во время которых белые полицейские просто стояли рядом и смотрели.
МАДИБА призывал людей к примирению, и теперь стало еще более очевидно, что он БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО МОГ СПЛОТИТЬ НАРОД И ПОВЕСТИ СТРАНУ ВПЕРЕД, ПУСТЬ ПОКА К НЕКОЕМУ ПОДОБИЮ ЕДИНЕНИЯ. Проведя много лет в изоляции от общества, он получил в качестве компенсации возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны. У него появилась возможность, к которой стремится каждый лидер: видеть картину в целом, не отвлекаясь на повседневные проблемы. И все же, заняв пост, он понимал, что ему нужен более свежий взгляд на вещи – молодая кровь. Думаю, что я обладал нужными качествами, но роль «Принца из Беверли-Хиллз» в доме на Хьютоне сыграл не я, а мой старший брат Мандла.
Мать Мандлы была первой женой моего отца. Они развелись, когда мой брат был совсем маленьким, и она забрала его с собой в Лондон задолго до того, как отец познакомился с моей мамой и женился на ней.
Я жил у Старика чуть больше года, когда вернулся Мандла, и никогда в жизни не радовался кому-то больше, чем ему. Став президентом, дед постоянно отсутствовал и работал почти круглосуточно, семь дней в неделю. Жилось мне у него хорошо, но иногда становилось ужасно одиноко. Мандла был связующим звеном между мной и отцом, когда отец казался мне слишком далеким. Он вырос с матерью в Лондоне и благодаря этому был практичным и уверенным в себе. Некоторое время он учился в школе «Уотерфорд Камлаба» в Свазиленде, куда в свое время ходили и тетя Зиндзи с тетей Зинани. Теперь он поступил в университет, и, похоже, учиться ему нравилось куда больше, чем мне в седьмом классе.
Я боготворил Мандлу. Для меня он был самым крутым на свете. Моим кумиром. Мне тогда только исполнилось тринадцать, Мандла был на девять лет старше, а значит, уже прошел «восхождение в горы» и жил взрослой жизнью – посещал клубы, встречался с женщинами и водил крутую тачку. Он был высоким, как наш Старик, но более крепкого телосложения, совсем как Мадиба в молодости, до того, как тюрьма сделала его поджарым и научила самодисциплине. Шел 1996 год – период гранжа в европейской и американской музыке и моде, но Мандла был на шаг впереди. Он сделал гигантский скачок из курток из кожзама восьмидесятых в стиль хип-хоп с кепкой набекрень и дутой курткой.
Мандла был начинающим диджеем, поэтому у него уже накопилась внушительная коллекция дисков и энциклопедические знания о мировом рэпе и хип-хопе. Я привык возвращаться в тихий дом и сразу идти на кухню, где матушка Ксоли слушала госпелы. Не поймите меня неправильно, южноафриканское хоровое пение – это прекрасно, но глухие басы, доносящиеся из комнаты Мандлы, были медом для моих ушей. Вскоре я стал самым настоящим фанатом хип-хопа. Мне хотелось знать все о музыке, которую слушал мой брат, а слушал он тогда почти исключительно рэп, хип-хоп, ну, может быть, иногда немного регги.
До этого мы с друзьями увлекались квейто – разновидностью хауса, в которой посредством последних компьютерных технологий смешивались тяжелые басы, перкуссионные петли и традиционный африканский вокал. Это была наша версия хип-хопа задолго до того, как хип-хоп приобрел настоящую популярность в Южной Африке. Квейто зародился в гетто Йоханнесбурга в начале 90-х годов ХХ века. Его название образовалось от слов kwaai, что в переводе с африкаанса означает «злой, сердитый», и amakwaito – названия банды гангстеров 50-х годов. Этот стиль в равных пропорциях сочетал элементы африканской музыки предыдущих семи десятилетий, вплоть до записей 20-х годов и современной британской и американской клубной музыки. Мадиба обожал квейто. Он то и дело повторял характерное танцевальное движение – мелкие шажки вперед и назад с согнутыми под прямым углом локтями – так часто, что в конце концов его стали называть «шаффл Мадибы». Во многих аспектах квейто являл собой воплощение его желания – дать дорогу молодым голосам, оживить вековые традиции и дух африканской культуры. Дед не умел даже пользоваться электронной почтой, но чувствовал, что грядет научно-техническая революция, и хотел, чтобы она пришла и в Южную Африку.
Для меня же эта музыка была самым настоящим наркотиком. В свою очередь, регги освещало вопросы политики и историю мировых движений сопротивления под принципиально новым углом. Благодаря альбому Бёрнинг Спир «Marcus Garvey» я узнал об основателе ямайского панафриканизма. Таппа Зуки пел о Стивене Бико, возглавившем движение «Черное самосознание» ЮАР и умершем за свои идеи. Я начал расспрашивать деда, и он с удовольствием рассказывал мне о людях и проблемах, о которых я узнавал из песен Боба Марли и Ли «Скрэтча» Перри.
– Дед, я тут слушал песню о Роберте Собукве. В ней поется и об острове Роббен.
– Да, – отвечал Старик. – Он был там одновременно со мной, но почти всегда изолированно от всех. Он был наставником. Мыслителем. Великолепным оратором. Знал, как воплотить идею в жизнь. А эти идеи – ты ведь понимаешь? – Он постучал пальцем по виску. – Эти идеи считались очень опасными. Я не всегда с ним соглашался, но все же любил наши беседы. Сначала нам разрешали общаться, но потом подумали: «Эти двое – Мандела и Собукве – если они сговорятся, жди беды» – и развели нас по разным концам коридора. Когда его трехлетний срок подошел к концу, они придумали новое правило, так называемый прецедент Собукве, согласно которому политического заключенного могли лишить свободы на неопределенный срок даже без предъявления ему конкретных обвинений. Так он просидел в тюрьме еще шесть лет. Однажды в 1969 году надзиратель включил трансляцию ежедневных новостей. Разумеется, в новостях только и говорили о том, как замечательно идут дела у правительства и как плохо у тех, кто осмеливается выступать против него. Самой первой новостью была смерть Роберта Собукве. А теперь о нем поют песни, и это хорошо.
Когда появился Мандла и возвел все это на другой уровень, я будто сошел с ума. Квейто отличался своим политическим уклоном, но основными его идеями были гордость, радость и свобода духа, которую нельзя было задушить апартеидом. Но то, что слушал Мандла, как будто приходило к нам прямиком из Комптона, через Ливерпуль, и было наполнено гневом и революционными настроениями. Эти агрессивные, энергичные вещи заставляли тебя гордиться тем, что ты черный, гордиться местом, где ты родился. Основными темами в хип-хопе тех времен были социально-экономические условия и проблемы, невероятно тяжелая реальность, с которой людям приходилось сталкиваться каждый день. Мощный эффект этой музыки заключался в пробуждении политического сознания, облечении мыслей в слова. Невозможно было не проникнуться уважением к этой культуре.
– С самого первого дня приходилось требовать уважения к себе, – рассказывал Мадиба о своих первых годах на острове Роббен. Именно эта тема красной нитью проходила через все направление хип-хоп-музыки. Что-то вроде: «Да, мы знаем, кем вы себя считаете, а это о нас». Благодаря ему выросло и наше уважение к самим себе, и теперь мы смотрели на остальных как на равных себе. Больше невозможно было игнорировать этот голос или беспокойную почву, в которой он зарождался.
С приездом Мандлы беседы за обеденным столом стали гораздо оживленнее. Он уже прошел «восхождение в горы», и они со Стариком беседовали как мужчина с мужчиной. К тому времени мы с Мадибой сблизились, но с ним он общался иначе, на другом уровне. Я уже был достаточно взрослым, чтобы это понимать, и часто ощущал уколы зависти. Сам я был вовсе не в восторге от мысли о «восхождении в горы», но в то же время думал, как было бы здорово участвовать в их разговорах о политике, актуальных событиях в мире и даже о девушках. Я испытывал огромный интерес ко всем этим вещам, но до сих пор знал о них лишь в теории, только размышляя о том, как перейти к практике, особенно по части девушек. В этой области у меня не было совершенно никакого опыта. В школе моим любимым предметом была история, но я еще не научился проводить параллели между событиями прошлого и настоящего, между мировой политикой и современными культурными тенденциями. А вот у Мандлы была собственная четкая позиция в отношении политики и культуры, да и среди девушек он определенно пользовался успехом. ВСКОРЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА К МАДИБЕ МАНДЛА РЕШИЛ НАВЕСТИТЬ МАТЬ В ГОНКОНГЕ И ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ МЕНЯ С СОБОЙ. ЭТО БЫЛО САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ, ЧТО КОГДА-ЛИБО МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ. Я, затаив дыхание, ждал ответа Старика. Он выслушал соображения Мандлы о том, как это было бы полезно для моего общего развития, и кивнул.
– Да, думаю, было бы неплохо. Молодым людям полезно расширять кругозор, – ответил он, и мы с Мандлой согласились с этим, хотя, полагаю, каждый из нас понимал «пользу» по-своему.
Мы приехали в Гонконг, и Мандла показал мне город. С обязанностями гида он справлялся на «ура», так как уже бывал здесь. Однажды вечером он решил провести меня по клубам, но, когда мы пришли в первый из них, мне стало не по себе. Хотя я и был высоким для своего возраста, мне было всего тринадцать.
– А как я туда попаду? – спросил я Мандлу.
– Просто иди вперед, – ответил он, и не успел я возразить, как он уверенно прошел мимо вышибалы. Я двинулся было за ним, но замешкался, чем вызвал подозрение охранника.
– Погоди-ка, приятель. – Он преградил проход мускулистой рукой. – Сколько тебе лет?
– Э-э-э… – протянул я. – Восемнадцать?
Тот лишь хмыкнул:
– Не сегодня, братец.
Мандла оглянулся, чтобы убедиться, что я следую за ним, и, заметив, что меня нет, со вздохом вернулся. Мы были на ярко освещенной улице, где один за другим выстроились ночные клубы – и мы отправились в следующий.
– Ну же, держись увереннее! – подбодрил он меня. – Просто иди вперед, и все.
Подойдя к двери, я вытянулся насколько мог, стараясь идти в ногу с Мандлой, и расправил плечи, подражая ему. Он опять уверенно прошел мимо вышибалы, я – вслед за ним. Охранник не сказал ни слова, а я старался не смотреть ему в глаза. Не знаю, принял ли он меня за восемнадцатилетнего или же просто решил закрыть на нас глаза. Как бы то ни было, мы вошли в клуб и подошли к барной стойке. В клубе мне понравилось: отличная музыка, красивые девушки, и вдобавок ко всему я разговорился с двумя американцами из военной базы Гонконга. По возвращении в Йоханнесбург кругозор у меня определенно расширился.
– Тебе надо бы съездить к матери, – сказал Мандла, когда мы вернулись в Хьютон. Я не был уверен, что это хорошая идея, но при виде Мандлы с его матерью невольно подумал, каково было бы и мне встретиться с мамой?
– Я не знаю, где она живет, – ответил я.
– Старик купил ей дом в Восточном Ранде, – сказал Мандла. – У нее ведь родился ребенок.
– Что? – Эта новость застала меня врасплох.
– Ага. У нас появился еще один брат, – продолжал он. – Его зовут Андиле. Классный карапуз. Скажи Старику, что ты хочешь к ним съездить.
Я хорошенько все обдумал, собрался с духом и наконец пошел к деду. Мне ведь никто не запрещал говорить о матери, да и никто ни разу не сказал о ней дурного слова. Я просто чувствовал, что что-то странное витает в воздухе и что многого я не знаю. Когда я обратился с этой просьбой к Старику, он тяжело вздохнул, и лицо его сделалось грустным.
– Она покинула дом, который я купил ей в Восточном Ранде, – ответил он. – Уволилась с работы, куда я ее устроил. Вернулась к своим родным в Соуэто. Ребенком занимается ее тетка.
– А Бхут может меня отвезти?
Он задумался, глядя на меня так, будто бы только сейчас заметил, как я вытянулся с того момента, как переехал к нему.
– Да, – ответил он наконец. – Поезжай.
Итак, я поехал. Как бы мне хотелось сказать, что все прошло замечательно – но нет. Я был счастлив повидаться с мамой, а она все повторяла, как гордится мной; но она всегда была вспыльчивой, а теперь, пропустив пару стаканчиков, выходила из себя и набрасывалась на любого, кто попадется под горячую руку.
– Какой у меня высокий, красивый сын! О да, у меня есть сын!
Она сказала, что с моим отцом они окончательно расстались и теперь она встречалась с кем-то другим, и хотела меня с ним познакомить. Подтащив меня к его дому, она громко постучала в дверь.
– О да! У меня есть сын!
Сказать честно? Это было ужасно и очень странно. И страшно. Меньше всего мне хотелось, чтобы эту дверь открыл какой-нибудь громила. Но, к счастью, его не было, а вскоре за мной заехал Бхут, чтобы отвезти домой.
Долгое время я ничего не слышал о матери. Во время моей учебы в старших классах мы виделись от силы пару раз. Я радовался этим встречам, но в то же время был счастлив вернуться домой, к матушке Ксоли, которая, если уж быть до конца откровенным, по-настоящему заменила мне мать. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь описать, что она значила для меня.
Когда я рассказал Мандле о своей поездке в Соуэто, он сказал:
– Нужно забрать Мбусо и Андиле к нам.
Дед не был в восторге от этой затеи. Он любил этих мальчишек, как любил всех своих внуков и правнуков, но Мбусо тогда было всего пять, а Андиле и вовсе был младенцем, что означало бы, что забот у матушки Ксоли и матушки Глории многократно прибавится, ведь маленьким детям требовалось гораздо больше внимания, чем нам. Но Мандла был непреклонен:
– Мы братья и должны жить вместе.
Не сразу нам удалось уговорить Старика, но все же спустя год после переезда Мандлы Мбусо стал жить с нами, а еще через год пришел черед и двухлетнего Андиле. Малышами в основном занимались матушка Ксоли, матушка Глория и другие женщины, работавшие в доме. Вскоре Мандла напомнил мне, что теперь я стал старшим братом, честно говоря, эта роль мне очень нравилась. Андиле и Мбусо были нитью, связывавшей меня с мамой, и теперь я думаю, что, когда вся наша шумная компания собиралась за обеденным столом, дед сильнее ощущал свою связь с моим отцом и семьей, которую у него когда-то отняли.
* * *
В 1992 году Мадиба объявил прессе о том, что они с матушкой Винни расстались, но официальный развод состоялся лишь в 1996 году. В своих выступлениях и книгах он почти не затрагивал эту тему – Старик вообще был очень суеверным, когда речь заходила о делах семейных, и старался охранять личное пространство. Его книги были посвящены политике и истории, а о своей роли он говорил сдержанно и скромно. Он любил рассказывать о Куну – месте, где прошло его детство. Ему нравилось упоминать о нем в своих интервью, но когда его спрашивали о личных и семейных делах, лицо его принимало непроницаемое выражение, и он с улыбкой, вежливо, но непреклонно уклонялся от ответа.
– Господин Мандела, теперь, когда вы официально развелись…
– Я сказал, что не стану отвечать на вопросы о личной жизни.
– Господин Мандела, ваши отношения с Грасой Машел, бывшей первой леди Мозамбика…
– Я не буду отвечать на этот вопрос.
– А, ясно. Ну хорошо. А как же…
– Пожалуйста, напомните своему редактору, что я отказался отвечать на вопросы о личной жизни.
Граса Машел овдовела в 1986 году, когда ее супруг, президент Мозамбика Самора Машел, погиб в авиакатастрофе. Это была необыкновенная женщина, и за ее плечами также была многолетняя борьба с колониальным режимом в своей стране. Граса была грациозной и дипломатичной, но я где-то читал, что она могла за несколько минут собрать и разобрать автоматическую винтовку. Она одна могла стать Мадибе достойной спутницей в его нелегкой судьбе. Много лет спустя в одном из интервью каналу BBС она сказала, что это были «очень зрелые отношения двух людей, прошедших через нелегкие испытания».
– После потери самой большой любви всей своей жизни – Винни – он решил, что все кончено, – говорила Граса. – Когда он осознал, что молодость прошла, то собирался целиком посвятить себя политической жизни, своим детям и внукам.
Сама Граса все еще принимала участие в политике, была международным защитником прав детей и женщин. Так они познакомились с Мадибой, стали друзьями и, наконец, самыми близкими людьми друг для друга.
К тому времени, как Мандла стал жить с нами, мы уже начали подтрунивать над Стариком и его любовными отношениями. В конце концов, один из членов семьи удовлетворил любопытство прессы:
– Меня уполномочили подтвердить, что президент и миссис Граса Машел в самом деле состоят в отношениях, они – близкие друзья. Это продолжается уже довольно давно, и президенту в этих отношениях комфортно.
Мадиба и Граса поженились в его восьмидесятый день рождения. Это была скромная церемония, на которой присутствовали лишь члены семьи и близкие друзья. Нам пришлось пойти на некоторые ухищрения, чтобы отвлечь внимание прессы. Это было нетрудно, поскольку свадьба была одним из самых тихих событий в водовороте пышных празднеств по случаю его дня рождения. Все началось в четверг вечером в Национальном парке Крюгера, где собралась тысяча детей-сирот, с которыми Старик разделил 118-килограммовый праздничный торт. В воскресенье состоялся торжественный гала-концерт с целью сбора средств на благотворительность посредством Фонда Тысячелетия. Среди гостей были такие звезды, как Стиви Уандер, Дэнни Гловер и Майкл Джексон.
Одного присутствия Короля поп-музыки было достаточно, чтобы перетянуть на себя внимание прессы, да и для детей нашей семьи оно было гораздо важнее свадьбы двух стариков.
Вся семья собралась у друзей в Йоханнесбурге, где остановился и Майкл. Самые маленькие члены нашей семьи устроились на диване, подпрыгивая от волнения. Я стоял поодаль с Мандлой, нашим кузеном Квеку и другими старшими детьми, всеми силами стараясь сохранять спокойствие. Поверить в такую удачу было трудно: мы здесь празднуем и едим торт с Майклом Джексоном. Пересматривая видеозапись праздника, я вижу себя и Мандлу в толпе других гостей, нарочито небрежных и спокойных.
В те годы я многому научился у Мандлы – нашего «Принца из Беверли-Хиллз», который умел всех нас рассмешить и в то же время пристально следил, чтобы мы не совершали глупостей. Нужно отдать ему должное, он отлично справлялся с ролью старшего брата. Мы были очень близки, он делил со мной свои музыкальные увлечения и учил быть настоящим мужчиной. Сейчас мне больно об этом думать, потому что прежней близости между мной и Мандлой больше нет. Разумеется, если одному из нас что-то нужно, второй брат всегда готов прийти на помощь, но во всех аспектах нашей жизни – идеологическом, личном, эмоциональном – между нами теперь пропасть. Я СОВЕРШИЛ САМОЕ ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КАКОЕ ТОЛЬКО МОГ СОВЕРШИТЬ МЛАДШИЙ БРАТ, – ПОВЗРОСЛЕЛ. А МАНДЛА СДЕЛАЛ ХУДШЕЕ, НА ЧТО СПОСОБЕН СТАРШИЙ, – РАЗОЧАРОВАЛ МЕНЯ.
Если у вас есть братья и сестры, значит, вы знаете, как и почему, повзрослев, они отдаляются друг от друга, в особенности когда главы семейств угасают или вовсе уходят. Учитывая положение нашей семьи, этот эффект усиливается десятикратно, поэтому нашу ситуацию можно считать уникальной, но, уверяю вас, динамика отношений во многом схожа с любой другой семьей.
Все мы принимаем решения, которые могут не нравиться нашим братьям и сестрам. Кто-то чего-то хочет. У кого-то что-то есть. Кто-то что-то делает. Кто-то что-то говорит. В этот момент это «что-то» может казаться вам невероятно важным. Со временем взаимные претензии накапливаются, а время пролетает гораздо быстрее, чем можно себе представить. И вы невольно задаете себе грустный вопрос: возможно ли примирение? А стоит ли? Стоит ли жертвовать ради этого моей гордостью и чувством собственного достоинства моего брата? Примирение – в семье, в стране или в сердце отдельно взятого человека – это сложный процесс. Прощение – это не малодушие. Иногда нужно найти в себе немалые силы, чтобы простить.
В апреле 1996 года в соответствии с Соглашением о национальном единстве и примирении Комиссия правды и примирения (КПП) ЮАР под руководством архиепископа Десмонда Туту начала серию судебных процессов в Кейптауне. В течение последующих двух лет на этих процессах, широко освещавшихся национальным телевидением и радио, слушались дела жертв жестокости и насилия в период апартеида (с 1960 по 1994 г.). Целью их было восстановление чести и достоинства пострадавших от несправедливости, облегчение реабилитации, а в некоторых случаях и выплата компенсаций, а также возможная амнистия для тех, кто готов был взять на себя ответственность за совершенные ошибки.
Это было грандиозное мероприятие и тяжелый момент для всего населения ЮАР, но результатом его стало сострадание, очищение и начало исцеления, основанного на принятии реальности (в противоположность той сказочке о матче по регби, во время которого все чудесным образом подружились). Расизм – это раковая опухоль общества, а КПП стала первым этапом химиотерапии Южной Африки – болезненной, тяжелой, но необходимой. Нам еще многое предстоит сделать, но я считаю, что благодаря Мадибе мы на несколько световых лет впереди мощных держав, которые до сих пор отрицают существование этой злокачественной опухоли, разъедающей их культуру. Мадиба создал несовершенную, но прогрессивную структуру, в которой прощение стало возможным, и она нашла отклик в людях отчасти потому, что они знали: немалая часть ответственности за произошедшее лежала и на них самих.
В 1997 году одной из участниц процессов, проводимых Комитетом по вопросам нарушений прав человека при КПП, стала матушка Винни. Она проходила не как жертва, а как обвиняемая. Комитет уже заслушал свидетельство по делу, в котором был замешан Объединенный футбольный клуб Манделы. Его члены, служившие личными телохранителями матушки Винни, обвинялись в серии убийств и нападений в жестокую эпоху апартеида. В 1986 году, за четыре года до освобождения Мадибы, матушка Винни выступила перед толпой, которая собралась в Мунсивилле, с пламенной речью о злодеяниях апартеида, о несправедливости и нестерпимой жестокости и в самый разгар выступления произнесла такие слова: «Вместе, рука об руку, вооружившись спичками и ожерельями, мы освободим эту страну!» Толпа пришла в неистовство. СМИ стояли на ушах. АНК запаниковал. «Ожерельями» назывался ужасный вид казни, который неизбежно закрепил бы за черными южноафриканцами эпитет «дикие». Бросаться такими словами нельзя, простить подобное невозможно. Но это ведь была матушка Винни, народная любимица. После всего, что она сделала и через что прошла в ходе этой борьбы, АНК не мог просто так от нее избавиться.
После стольких лет, полных безумных, непостижимых и печальных событий, матушка Винни сидела перед КПП и с грустью и достоинством рассказывала о всех этих ужасах, унижениях, тюрьме и пытках. По настоянию Туту она признала собственные ошибки и в том числе избиение до смерти четырнадцатилетнего подростка. Она попросила прощения у семей жертв. Не знаю, просил ли кто-то прощения у нее самой.
Сердце Мадибы было разбито. Он любил эту невероятную женщину и знал, сколько ей пришлось вынести. Наша семья и весь АНК переживали очень напряженный период, и мне было очень тяжело слышать ненависть и боль в любимых голосах. Как мне хотелось, чтобы дом снова наполнился смехом и музыкой! Чтобы все любили друг друга, чтобы мои младшие братья не видели той жестокости и вечного противостояния, которые пришлось пережить мне в их возрасте. Было нелегко, но Мадиба стоически прошел через эти испытания. Он ничего не рассказывал мне о слушаниях, а я не спрашивал, но иногда бремя печали, тяготевшее над ним, невозможно было скрыть. Они с матушкой Винни расстались. На многие вещи они имели совершенно разные взгляды, но при этом все эти годы неизменно любили и уважали друг друга.
В 2001 году в День молодежи, посвященный двадцатипятилетней годовщине восстания в Соуэто, произошел странный инцидент. Матушка Винни прибыла с опозданием и не сразу смогла подняться на подиум: ее окружила приветствовавшая ее толпа. Когда же она подошла к тогдашнему президенту Табо Мбеки и наклонилась к нему, чтобы поцеловать в щеку в знак приветствия, он агрессивно оттолкнул ее, отчего с ее головы упала бейсболка. Ей не было больно, но ситуация вышла очень неприятная. СМИ обезумели – впрочем, как обычно. Но самым удивительным было то, как рассердился Мадиба, увидев видеозапись этого момента.
– Как он мог? – грозил он пальцем в сторону экрана. – Разве так можно обращаться с женщиной? С любой женщиной! А особенно – с бабушкой, коллегой, принесшей невероятные жертвы на алтарь свободы? Нет! Это недопустимо!
Тем же вечером Мбеки пытался дозвониться до него, но когда секретарь принесла трубку в столовую, Мадиба заявил:
– Унесите! Я не собираюсь с ним разговаривать.
Он хотел, чтобы мы с Мандлой усвоили урок: никакие обстоятельства не могут служить оправданием унижения или насилия над женщиной. Это та черта, которую нельзя переступать, что бы ни произошло. Тем не менее Старик в целом был высокого мнения о Мбеки и был готов к примирению. Не знаю, как состоялось их примирение, но дед никогда не позволял людям унижаться и пресмыкаться перед собой. Он не скрывал разочарования и раздражения, но всегда ждал, что люди сами сделают вывод из своих ошибок, поднимутся над ними и искупят свою вину, в особенности если это были родственники или друзья.
Может быть, иногда даже проще помириться с чужим человеком, чем с хорошим другом или даже братом. Ведь с чужаком вас не связывают общее прошлое, общие переживания, общая история. В отношениях братьев гораздо выше уровень уязвимости, вероятность ранить и быть раненым. Поэтому мы пытаемся подавить свой гнев и надеемся, что и другие будут вести себя по отношению к нам сдержаннее. Забыть и простить?
Но я усвоил еще один урок своего деда: даже в добром сердце есть место гневу. ГНЕВ – ЭТО ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЩЕНИЯ; ОТРИЦАЯ СВОЙ ГНЕВ, МЫ ДЕРЖИМ ПРОЩЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ И НЕ МОЖЕМ ДО НЕГО ДОТЯНУТЬСЯ.
Мадиба призывал своих чернокожих сограждан к прощению, но не просил их забыть. Он сделал все, чтобы ошибки и злодеяния, совершенные в период апартеида, стали частью нашей общей документированной истории, даже если речь шла об ошибках, совершенных дорогими ему людьми, теми самыми, которые боролись за его свободу. Говорю за себя: если бы я вышел из тюрьмы после почти тридцати лет заключения, я не смог бы призывать своих родных к тому, чтобы они выбросили оружие в море. В лексиконе обычных людей нет для этого подходящих слов. Мадиба, думая лишь о высшем благе, указал нам нужный путь, но заплатил за это огромную цену.
– Для меня, – говорил Мадиба, – ненасилие было не моральным принципом, а стратегией.
Старинная поговорка гласит: Uzawubona uba umoya ubheka ngaphi («Слушай, куда дует ветер»). Все эти годы в тюрьме Старик слушал. Он наблюдал за тем, что творилось вокруг нас – в Уганде, Зимбабве и Нигерии. Там образовывались свои движения по борьбе за независимость, и белое население изгоняли из страны. В Конго было приказано уехать всем белым и индийцам – и это привело к краху экономики, которая долго не желала воскресать. Никакого прогресса. Изгнав своих врагов, люди ополчились друг на друга, ведомые ненавистью на почве страха, религиозных или идеологических разногласий. Этой обстановкой умело воспользовались те, кто пытался захватить власть над населением, те, кто понимал, что людьми легче управлять, когда они разобщены. В обстановке бедности и отчаяния рождаются самые чудовищные формы авторитарных режимов и приходят к власти диктаторы вроде Иди Амина, или проходимцы, только и мечтающие о президентском посте, или мелкие чиновники, всю жизнь терпевшие унижения и готовые на все, лишь бы заполучить власть в свои руки.
Мадиба твердо решил: в Южной Африке этому не бывать. Он верил, что наш народ способен на большее, чем сеять хаос и мстить обидчикам. Для обдумывания детального плана действий в его распоряжении было десять тысяч дней. Он разработал стратегию, в основе которой лежал нерушимый принцип всеобщего единения (много рас – одна страна), но он не просил людей простить своих обидчиков, чтобы оказать милость последним; они должны были простить ради самих себя и своих детей.
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». – Бабушка Эвелин постоянно повторяла эту цитату из Ветхого Завета.
В этих словах заключена идеальная картина прекрасного мира, но ничего не сказано о том, как этого добиться. Мадиба подготовил четкую программу. Он установил новую парадигму прощения, которое не могло быть ничем иным, а только даром Божьим. Но теперь я понимаю, что этот дар заключался не в какой-нибудь способности прощать и забывать. Божьим даром Мадибе была мудрость, позволившая ему понять, что прощение – это часть стратегии лидерства. Экономический принцип. Ключевой элемент примирения и единственный путь, благодаря которому общество или семья могут двигаться вперед. Другим обязательным элементом является справедливость, и ее нельзя добиться, постоянно оглядываясь назад; необходимо смотреть все время вперед.
В соответствии с законом о перераспределении земли 1994 года правительство выкупило участки у белых владельцев и вернуло их черным, которые возделывали эту землю на протяжении веков до прихода апартеида. В 1998 году Мадиба отправился в Квазулу-Натал на церемонию вручения 600 000 гектаров земли восьмидесяти пяти чернокожим семьям. Во время выступления он сказал: «Наша земельная реформа поможет исправить ошибки апартеида. Ее цель – национальное примирение и стабильность». В то же самое время президент Зимбабве заявил, что белые землевладельцы будут выдворены без всякой компенсации. «Я не собираюсь покупать часы «Ролекс» у карманника, который их украл», – так он говорил. Кто-то считал, что Мадиба должен был проявить строгость и изгнать белых, но он выбрал тактику терпения и мира. Спустя двадцать лет оба этих условия соблюдаются все с большим трудом. Существует путь к распределению земли, в основе которого лежат сострадание и равенство, и, найдя путь к успешному осуществлению этой эффективной бизнес-модели, мы добьемся всеобщего мира и равенства, но пока этого не произошло.
В 2018 году ЮАР заняла последнее место из 149 стран по коэффициенту Джини Всемирного банка, стандартному инструменту для измерения уровня экономического неравенства. Последнее место! Согласно последнему отчету, всего одному проценту населения Южно-Африканской Республики (преимущественно белым) принадлежит 70,9 % богатства страны. 60 % (преимущественно черные) владеют всего 7 % материальных благ. Это очевидное наследие колониального режима и апартеида. Мои черные братья и сестры не могут спокойно жить в постоянной ненависти или делать вид, что она снимает с них ответственность за их собственные жизни, но и мои белые братья и сестры не могут отрицать, что они и по сей день пользуются плодами апартеида. Нужно сделать все, чтобы однажды мы, дети апартеида, черные и белые, могли сказать друг другу: «Знаешь, мои предки плохо поступили с твоими предками. Мои родители были неправы по отношению к твоим родителям. Но я хочу вести себя с тобой достойно». Мы должны стать тем поколением, которое поймет, что расизм, сексизм, гомофобия, религиозный фанатизм – неравенство во всех его ужасных проявлениях – мешают нам обрести самое важное, что есть у человечества: единство.
6 ULWAZI ALUKHULELWA «Крича о собственном величии, великим не станешь»
Среди любимых притч Старика было несколько, где главным героем был заяц, которому постоянно удавалось обхитрить более крупных и сильных животных.
– Думай, как этот заяц, – наставлял меня Мадиба. – Он был хитрецом. – За этими словами обычно следовала история о приключениях Зайца. Например, о том, как однажды Бык позвал его с собой в дальнюю дорогу. Бык мог лишь одним своим видом заставить других животных исполнять его прихоти, и Заяц решил, что не будет с ним ссориться. Но вот однажды Бык сказал: «Раз уж ты пошел со мной, Заяц, понеси-ка мой матрас», – и взвалил тяжелый тюк на спину бедного Зайца. Шли они день или два, Заяц уж и устал тащить тюк, да боялся сказать Быку – он может рассердиться и прихлопнуть его, как букашку.
– Бык-бык, – говорит, наконец, Заяц, – ты, должно быть, голоден. Ступай дальше один, а я соберу тебе фруктов и догоню.
Бык знал, что Заяц не осмелится убежать, и потому согласился. Заяц же шмыгнул в лес, собрал яблок, а на самом деле искал медовое дерево. Найдя его, он развернул матрас Быка, обмазал его медом, заманил туда пчёл и завернул обратно. Когда Заяц и Бык дошли до хижины, то остановились на ночлег. Тут Бык и говорит:
– Ты, Заяц, будешь спать на улице – это моя хижина.
А Заяц ему отвечает:
– Ничего-ничего. Я закрою за тобой дверь, чтобы тебя никто не тревожил. Не забудь матрас.
Можете догадаться, что случилось, когда Бык развернул матрас, полный пчел. Мадиба так живо изображал эту картину, что мы каждый раз покатывались со смеху. С появлением Мбусо и Андиле он стал еще более искусным сказочником – они как раз были в том возрасте, когда верят в волшебные реки и говорящие деревья. Он любил смешить их, рассказывая сказки на разные голоса и размахивая руками. За то время, что прошло после моего приезда, Старик несколько смягчился и даже баловал малышей. Я по-прежнему должен был держать себя в рамках жесткой дисциплины, но, когда речь заходила о Мбусо и Андиле, суровые правила и безупречный порядок в комнате отходили на второй план.
Мбусо и Андиле «родились свободными» – они не знали ужасов апартеида. Мадибе нравилось представлять, как это новое поколение, узнав об апартеиде из учебников, будет чесать затылок и говорить «Обалдеть!» или какие там слова будут в ходу в ближайшем будущем. Но в наше время, а надо сказать, что в конце 90-х мы постоянно смотрели сериал «В ярких красках», самым употребляемым выражением было «Не думаю!» или «Хоми так не играет!», после чего следовало хлопнуть человека диванной подушкой.
Но вернемся к нашим Зайцу и Быку.
– Видишь ли, все дело в стратегии, – говорил Старик. – Как в боксе. НА ПОЛЕ БОЯ БЫК ПОБЕЖДАЕТ, ПОТОМУ ЧТО НАДЕЛЕН НЕДЮЖИННОЙ СИЛОЙ. НО НА РИНГЕ У ЗАЙЦА БОЛЬШЕ ШАНСОВ, потому что бокс – это наука. Бокс – это искусство, построенное на принципах физики и геометрии.
В 1996 году мы с Мадибой смотрели бой между Тайсоном и Холифилдом. Была полночь, и глаза у меня были мутными от усталости, в то же время я был взволнован и возбужден оттого, что в такой час нахожусь не в постели, а в самом центре событий. Бой уже подходил к довольно спорному финалу – Холифилд удержал свой титул, а Тайсон громко возмущался тем, что рефери посчитал удар головой случайным. Повторный матч в июне 1997 года можно было увидеть только за предварительную плату. Он назывался «Шум и ярость» – и того, и другого в нем было предостаточно. В нашем доме он стал очень важным событием.
– Ндаба, вставай! – Мандла вытащил меня с постели посреди ночи. – Идем в гостиную! Сейчас начнется!
Матч стартовал в субботу, в шесть часов вечера по лас-вегасскому времени, то есть в Йоханнесбурге была несусветная рань – около трех утра. Обычно Старик рано ложился и рано вставал, а для меня все еще действовал «комендантский час» в 10 вечера (хотя на самом деле никто уже не проверял его соблюдения), но ни он, ни я не собирались пропускать этот бой. Вместе с ним и с Мандлой мы устроились в гостиной, заранее приготовив чипсы с соусом, и стали ждать начала «великого события», слушая философские размышления деда о принципе равенства в боксе. Для него была важна любая ситуация, в которой раса, общественное положение и деньги отходили на второй план, а на первом оставалась лишь личность человека.
– На ринге ты думаешь только о стратегии, – говорил он. – О том, как защититься и в то же время побороть соперника. Вы кружите друг напротив друга, изучая сильные и слабые стороны, обращая внимание не только на физическую форму соперника, но и на его взгляд.
Любовь Мадибы к боксу общеизвестна и имеет множество письменных подтверждений. В молодости он и сам неплохо боксировал и теперь, наблюдая бой по телевизору, невольно принимал своеобразную позу в своем кресле с высокой спинкой – сжимал руки в кулаки и прижимал локти к грудной клетке.
– На ринге видна истинная натура человека, – говорил он. – Во время своего первого приезда в США я встречался с Холифилдом. Это настоящий чемпион. Многие американцы говорили мне слова поддержки. Но только он знал, что одних слов недостаточно – необходимы ресурсы, для того чтобы свобода наконец победила.
Начался первый раунд. Холифилд и Тайсон вышли на ринг, и сразу стало ясно, что предстоит долгий и трудный бой. Второй раунд прервался из-за случайного удара головой, от которого у Тайсона изо лба над бровью брызнула кровь.
– Устрашающий маневр против Тайсона, – объявил комментатор. – Холифилд не желает уступать.
– Да-да! – Мадиба вскочил на ноги. – Такие моменты требуют огромной силы воли! Только тогда они начинают чувствовать боль.
Прозвенел гонг. Миновало два раунда, и казалось, что Холифилд вот-вот выбьет всю душу из Тайсона. Но в третьем раунде Тайсон внезапно ожил. Мы с Мандлой только и могли, что обмениваться междометиями «Ох!», «Ого!» и все в таком духе.
А Старик, похоже, вел оживленную беседу с комментатором.
– У Тайсона открылось второе дыхание! – вещал комментатор. – Сейчас он покажет свою истинную натуру.
– Да-да! Натура – вот ключ ко всему. Гляди, Ндаба. Видишь? Смотри, как он двигается! Вот как… Ох!.. Что?.. Что это еще такое?!
Мы с Мандлой подбежали к телевизору, встали рядом со Стариком и все втроем закричали:
– Только не это!
Холифилд вырвался из хватки Тайсона, отскочил в сторону, прижимая руки к виску, сквозь его пальцы сочилась кровь.
– Он его укусил! Укусил!
Толпа в комплексе MGM Grand обезумела, на ринг вышел рефери. Холифилд вернулся в свой угол, а Тайсон наподдал ему сзади.
– Так нельзя! – воскликнул Мадиба. – Это против правил Квинсберри!
– Тут дело серьезное, – вещал между тем комментатор. – Похоже на укус!
Что значит «похоже»? В этот момент бой показали снова в замедленной съемке, и стало отчетливо видно, как Тайсон выплюнул на пол кусок уха Холифилда.
Бой прервался на несколько минут – пытались обработать ухо Холифилда, поливая его водой из бутылки.
– Дед, как думаешь, они продолжат? – спросил я.
– Сложно сказать, – покачал головой Мадиба. – В этот бой вложено немало денег. Давление колоссальное!
Комментатор иронично заметил, что жена Холифилда – анестезиолог. В этот момент снова прозвенел гонг. К всеобщему удивлению, бой продолжался.
– А вот теперь – настоящий реванш, – сказал комментатор, и не прошло и минуты, как Тайсон подтвердил его слова. Оскалившись, он бросился к другому уху Холифилда. Мы снова повскакали со своих мест, перекрикивая друг друга на пяти языках.
– Hayi-bo! Yho!
– Возмутительно! – воскликнул Мадиба. – Это же не петушиные бои, веди себя достойно! Будь мужчиной, играй по правилам!
Но бой уже совершенно вышел из-под контроля. Десятки людей выбежали на ринг, потрясая кулаками и что-то выкрикивая, или пытались устроиться так, чтобы было лучше видно. Нам с Мандлой все это казалось ужасно интересным, но Мадиба тихо сидел в своем кресле и наблюдал за воцарившимся хаосом.
– Его надо дисквалифицировать, – сказал он с неподдельной грустью. – Не знаю, случалось ли такое хоть раз в боях за звание чемпиона в тяжелом весе, но его надо дисквалифицировать. И не важно, сколько денег на это потрачено, подобное не должно повториться!
Комментатор тем временем заметил, что с рассеченной правой бровью Тайсон все равно не сможет больше драться.
– Должно быть, он запаниковал, – добавил он.
– А ты как думаешь, дед? – спросил я Мадибу. – Запаниковал ли он? А может, это был такой стратегический ход? Типа он проиграл, но люди все равно будут думать, что он круче.
Старик покачал головой.
– ЧУЖАЯ ДУША – ПОТЕМКИ, НДАБА. НО ОДНО Я ЗНАЮ ТОЧНО: НЕОБУЗДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО НИ С КРУТИЗНОЙ, НИ СО СТРАТЕГИЕЙ.
Это событие вошло в историю бокса как «Кусачий бой». Позже Тайсон заявил, что откусил ухо Холифилда в отместку за удар головой – он не верил, что удар был нечаянным. Он получил изрядную долю внимания, но чемпионом все же стал Холифилд. Вскоре после боя «Шум и ярость» Холифилд приехал к нам в гости, чтобы снова встретиться с Мадибой.
– Чемпион! Как жизнь? – Мадиба вышел поприветствовать его на крыльцо. – Рад тебя видеть!
При виде множества камер я всегда старался спрятаться, но тут вытянул шею, чтобы получше разглядеть надкушенное ухо: действительно, у него недоставало изрядной части хряща.
* * *
Закончив колледж, отец начал работать в сфере юриспруденции. Кажется, что-то связанное со страхованием. Старик купил ему дом в приличном еврейском районе Норвуда, меньше пяти минут от Хьютона. Очень хороший и красивый дом с тремя спальнями и бассейном. Мы с братьями остались с Мадибой и Грасой. Не помню, чтобы нам когда-нибудь предлагалась альтернатива. К тому времени я прожил с Мадибой дольше, чем с кем-либо из родителей. За все это время я видел мать всего пару раз, а отца – только на семейных торжествах, когда собиралась вся семья, да еще на Рождество, Пасху и на день рождения. По сути, в повседневной жизни моим отцом был Мадиба – он обеспечивал мое безбедное существование, следил за моей безопасностью, был всем для меня и делал все, что обычно делают отцы для своих детей.
Иногда мне было нелегко соответствовать высоким стандартам, установленным дедом, и следовать его жестким правилам, может быть, еще и потому, что в раннем отрочестве я был совершенно неуправляемым. Мадиба структурировал мою жизнь и обозначил границы, которых я не знал в раннем детстве. Иногда, когда он заставлял меня усерднее заниматься или отчитывал за то, что я огрызаюсь, мне хотелось сказать в ответ какую-нибудь глупость, но я тут же ловил себя на мысли, что не променяю эту жизнь ни на что на свете. Мне несказанно повезло, и я знал это. Нам обоим было нелегко, но впервые в жизни я чувствовал твердую почву под ногами. Оглядываясь назад и вспоминая эти годы, я преисполняюсь благодарности.
После свадьбы Грасы и Мадибы мы переехали в дом побольше, через улицу от прежнего – там для нашей разросшейся семьи было больше места. Иногда на каникулах мы все отправлялись в президентскую резиденцию в Претории. В период апартеида это место, по иронии судьбы, носило название Либертас – в честь римской богини свободы. Когда президентом стал Мадиба, он переименовал его в Маламба Ндлопфу, что в переводе с языка тсонга дословно означает «купание слонов», но на самом деле это идиоматическое выражение со смыслом «новая заря» (то есть то самое время, когда пора купать слонов).
И в Претории, и дома, в Хьютоне, Граса всегда настаивала на том, чтобы все мы обедали вместе, за большим столом. Если Мадиба был в отъезде, мы могли устроиться на кухне перед телевизором, но когда он был дома, то вся семья садилась за стол – вовремя и все вместе. Эти семейные ужины были совсем не похожи на те тихие трапезы с Мадибой, когда я учился в начальной школе. Мы болтали обо всем подряд и смеялись, шутили друг над другом и даже подтрунивали над Стариком, но только когда он был в подходящем настроении. Праздники и дни рождения отмечались шумными застольями, но и в обычные дни в доме постоянно кипела жизнь.
Первым делом Граса упразднила традицию звонить в колокольчик за обеденным столом. Это было совершенно не в ее стиле, и я был этому рад. Когда я только приехал, мне казалось, что это очень круто, но повзрослев, стал слышать в его звоне отголоски колониальных традиций, и мне было не по себе. Теперь я понимаю, что это тоже было частью наследия долгих лет заключения Мадибы: он не знал некоторых вещей о современных традициях, потому что пропустил огромный кусок жизни.
– Должно быть, многие удивились бы, узнав о том, насколько я невежествен во многих вещах, привычных обычному человеку, – часто говорил он.
Он вырос в деревне, потом попал в самое пекло апартеида, затем была тюрьма. У него были прекрасные манеры и отличное знание этикета, но, лишившись свободы до того, как этикет изменился, он до сих пор придерживался нескольких старомодных правил.
Однажды за обедом матушка Ксоли принесла телефон в столовую и протянула ему:
– Ее величество королева Елизавета желает с вами переговорить.
– Соедините, – ответил дед. Потом взял трубку: – Алло? Здравствуй, Елизавета! Как поживаешь? Хорошо, хорошо. Да, у меня все отлично, спасибо!
Мы с Грасой ошарашенно переглянулись, шокированные тем, как запросто он с ней общается. А они все болтали, совершенно непринужденно. Когда он повесил трубку и матушка Ксоли унесла телефон, Граса сказала:
– Мадиба, ты не можешь называть ее просто Елизавета! Надо говорить: «Ваше Величество», соблюдать протокол!
– Да о чем ты! Она ведь называет меня Нельсоном. Мы всегда зовем друг друга по имени. Не забывай, во мне тоже течет королевская кровь. – И он хитро улыбнулся мне. – Я ведь принц Тембу.
Граса расхохоталась и сказала:
– Ты совершенно неуправляем!
Мадиба любил рассказывать о знакомстве со своей подругой Елизаветой в Букингемском дворце много лет назад.
– Мы пообедали, потом долго гуляли, потом пили чай. Целый день общались.
Наконец он сказал:
– Ну, мне пора в свою гостиницу, отдыхать.
– Где же вы остановились? – спросила она.
– В Дорчестере, – ответил он.
– Сегодня никакого Дорчестера, – объявила она. – Вы останетесь здесь.
– А, ну ладно, – только и сказал он.
Он рассказывал эту историю с явным удовольствием.
– Но ведь ты на самом деле не принц? – спросил я.
– Еще какой! – серьезно ответил он. – Из королевского дома Тембу. Дети короля от первой жены – это великий дом. От второй – дом правой руки. От третьей – дом левой руки и так далее. Сколько жен, столько и домов. Первенец от первой жены – наследник, но у каждого дома – своя миссия. Задача второго дома – поддерживать и делать все, с чем не справляется первый дом, исполнять все его поручения. Третьему дому иногда приходится становиться между ними, потому что, когда мужчины пробуют власть на вкус, всегда есть риск междоусобиц – так было во все времена.
Мы – потомки четвертого дома. Наша роль – усмирять споры и быть советниками короля. К этой роли меня и готовили с самой юности.
– Во время войны и всякого такого?
– Помимо урегулирования конфликтов там много всего – знание экономики, инфраструктуры, общего положения дел. Для прежних королей наличие такого советника означало, что споры будут улаживаться со знанием дела. Но я сбежал в Йоханнесбург. Даже невесту мне подобрали, но как же я не хотел жениться на той девушке! Видишь ли, мы с моим кузеном Джастисом ухаживали за двумя девушками, но король не знал об этом и на переговорах о свадьбе поменял их местами. И так вышло, что мы женились каждый на чужой невесте. Ситуация не из простых.
– Так, значит, ты ослушался своего старика, – заключил я. – Выходит, он не всегда знал, что для тебя лучше.
Мадиба сразу понял, к чему я клоню.
– Я был уже взрослым мужчиной, – ответил он. – КОГДА ПОДНИМЕШЬСЯ В ГОРЫ И СТАНЕШЬ МУЖЧИНОЙ, БУДЕШЬ САМ РЕШАТЬ, ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЛУЧШЕ. А ДО ТЕХ ПОР – СЛУШАЙСЯ СТАРШИХ.
В июне 1999 года, когда мне было шестнадцать, Мадиба ушел с поста президента, всецело поддержав своего преемника Табо Мбеки. Он с самого начала говорил, что не собирается занимать пост дольше одного срока (пяти лет), и сдержал слово. В своей прощальной речи парламенту он говорил о новой эре в ЮАР. Он бесконечно гордился достижениями страны, но считал преобразования главным образом заслугой народа, который выбрал «воистину законный путь революции».
– Я сам – дитя Африки и ее заветной мечты о возрождении, которая, наконец, воплотилась, и теперь все ее дети могут играть вместе под одним солнцем.
Старик испытывал огромную радость и волнение по поводу нового этапа своей жизни, а когда он произнес следующую фразу, зал взорвался от хохота:
– Мы снова повысили пенсии по старости, и я этому очень рад. Когда я был в Швейцарии, в Давосе, на пленарном заседании, я сказал, что через несколько месяцев буду стоять у дороги и просить: «Помогите! Я безработный, без денег и недавно женился!»
Он не покинул политику и нашел себе новое место на мировой арене, но теперь его дети и внуки были для него на первом месте. По-прежнему каждый день ему звонили множество людей, а посетители приходили по самым разным вопросам, но теперь он мог себе позволить выбирать, какие из этих вопросов действительно его интересовали, что невозможно было себе позволить во времена, когда он был президентом, тем более первым чернокожим президентом. Для меня главным плюсом было то, что он теперь больше времени проводил дома. Но был и минус – теперь от него ничего нельзя было скрыть. Мне стало все сложнее оправдывать высокие ожидания Мадибы, ложиться спать ровно в десять, выдерживать его жесткие нравоучения. Я знал, что, по его мнению, путешествия – важная часть всестороннего образования, поэтому на следующий год после его ухода с поста президента мы с Квеку убедили его, что должны вместе с нашим кузеном Зондвой впервые отправиться в Америку.
Я уже был в Гонконге с Мандлой, когда мне было тринадцать, и еще шесть недель провел в Париже с Селемой, своим старым другом из школьной банды. Его мать находилась там в качестве посла ЮАР и зорко следила за тем, чтобы наша поездка была сбалансирована между качественным досугом и образованием. Я считал себя космополитом, хорошо ориентирующимся за границей. Мадиба был не так уверен на сей счет, поэтому, когда мы закинули удочку, он ответил:
– Хорошо, но Мандла поедет с вами и будет за вами приглядывать.
Мы с Квеку переглянулись. Это было все равно что попросить койота приглядеть за луговыми собачками. Но зато мы покатаемся на американских горках в «Диснейленде» – остальное не так важно.
– Отлично, – отозвались мы. – Мы согласны.
– И возьмите с собой Мбусо и Андиле, – добавил Старик. – Тогда и вам будет за кем приглядывать.
С этим мы тоже согласились. Мбусо было девять – он не доставит много хлопот и будет делать то, что скажут, а семилетний Андиле будет повторять все за Мбусо. А мы с Квеку и Зондвой будем как три мушкетера. Что до Мандлы, то он наверняка будет больше занят своими делами, так что мы будем свободны, предоставлены сами себе и должны будем лишь следить за младшими. И вот мы все отправились в Америку.
В некоторой степени мы оказались правы насчет Мандлы. У него были свои дела, и постоянный контроль за тремя несовершеннолетними балбесами в них явно не входил. В наше Большое братское путешествие он взял свою девушку, что для нас было полной неожиданностью и должно было уже тогда навести на мысль, что эта поездка затевалась вовсе не ради нас. Мы проглотили это и лишь потом поняли, что все деньги у него. А в Америке денег нужно много. Он не желал давать нам ни копейки, и даже на мороженое приходилось каждый раз чуть ли не подавать прошение, как будто он был королем. Предполагалось, что мы купим себе одежду, но когда зашла об этом речь, Мандла сказал Квеку:
– Вы уже потратили свое на диски.
Заметив, сколько он тратит на свою девушку, мы поняли, что нас жестоко обманули. Путешествие шло совсем не так, как мы ожидали. Это было начало конца моих отношений с Мандлой – и не из-за бюджета поездки, просто именно тогда я увидел его в истинном свете и понял, что он никакой не Принц из Беверли-Хиллз, который был моим кумиром столько лет.
Но в остальном мы, три мушкетера, отлично провели время и даже побывали в «Диснейленде». Это было главным событием поездки. Мбусо и Андиле были в самом подходящем возрасте для этого парка развлечений, а главный плюс похода с малышами в такие места – это то, что можно самому вести себя как ребенок. Мы испробовали все горки, ели всякую всячину и фотографировались с диснеевскими принцессами. Было очень весело.
Под вечер мы стояли в очереди на «Космическую гору». Очередь туда была практически бесконечной, но команда «Дисней» сделала все, чтобы никто в ней не заскучал, выстроив ряды экранов с информацией о космосе и его освоении. Мы с Квеку и Зондвой с огромным удовольствием изучали их. Вдруг парень, стоявший перед нами, повернулся и спрашивает:
– Ребят, а вы откуда?
Наверное, он услышал, что мы разговариваем по-английски, но при этом речь наша отличается от американской.
– Из ЮАР, – ответил я, думая, что он хочет познакомиться.
– Ух ты! И как, большие там львы?
– Что? – не поняли мы с Квеку.
– Я говорю, львы в Африке. Они большие?
– Чувак, я же не в зоопарке работаю, – ответил я. – Откуда я знаю, какие там львы?
Он отвернулся, не ответив на вопрос, но я уже знал ответ. Мы были черные. Из Африки. Естественно, мы выросли в джунглях. Как бы вы представляли себе Африку, если бы знали о ней только из диснеевских мультфильмов начала 2000-х годов. Нечто среднее между «Книгой джунглей» и «Королем Львом». Балу и Маугли. Обезьяны-джазмены, которые говорят: «Я хочу быть таким, как ты», – и Король-лев, поднимающий маленького Симбу, перед которым преклоняются все остальные животные и поют «Circle of life». Я искренне верю в то, что тот парень хотел быть вежливым, показать интерес и преодолеть культурный барьер. А когда его спросят: «Ты расист?» – он обиженно и потрясенно ответит: «Нет, конечно! Смотри, я болтаю с чернокожими парнями в очереди. Разве не видно, что я не расист?»
Не стану даже притворяться, что в том возрасте я в полной мере осознал, что в этой ситуации имели место пассивная микроагрессия и пример системного расизма, но в той очереди и позже, когда я летел по «Солнечной системе» к «Космической горе», внутри меня начало формироваться какое-то странное чувство. Я вдруг осознал, какой видит Африку остальной мир. Я уже сталкивался с этим в Гонконге и Париже, но тогда не мог четко описать свои ощущения. Теперь же, в Америке, до меня наконец дошло, и в моих подростковых мозгах сложилось простейшее уравнение. На обратном пути я сказал Квеку:
– В глазах остального мира «Африка» значит «львы».
– А «Йоханнесбург» равно «насилие», – ответил он. – Черт, когда я говорю, откуда я, они сразу такие: «О боже, там ведь так опасно! Такой уровень преступности. Наверное, это ужасно!» КРУГОМ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО О САФАРИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В АФРИКЕ. ВОТ И ВСЕ, ЧТО ОНИ ЗНАЮТ.
Мы сошлись во мнении, что объяснять что-то кому-то, стоя в очереди на «Космическую гору», – бесполезная трата времени. Даже если ты храбрый, как Бык из сказки, это не спасет тебя от пчелиных жал. И, откусив ухо своего противника, ты не станешь чемпионом. Слова о том, что кто-то ошибается, еще никогда в истории человечества никого не убедили в том, что ты – прав.
Ulwazi alukhulelwa – гласит древняя поговорка. «Крича о собственном величии, великим не станешь». Мы с Квеку знали, что нужно нечто большее, но лишь спустя много лет поняли, что именно.
7 ISIKHUNI SIBUYA NOMKHWEZELI «Огонь обжигает того, кто его ворошит»
Не поймите меня неправильно – мне нравился «Король Лев», а Мбусо и Андиле и вовсе могли смотреть его сто раз подряд и знали все песни наизусть. То же самое и с «Книгой джунглей», хотя и в меньшей степени. Так что без обид, Дисней. Особенно мне нравился момент из «Короля Льва», где Симба, уже будучи подростком (к слову, озвучивал его Мэттью Бродерик – наверное, все черные актеры в тот день болели) просит совета у Рафики, мудрого старого мандрила (который говорил голосом Роберта Гийома).
– Я знаю, что должен сделать, – говорит Симба. – Но вернуться – значит снова встретиться лицом к лицу с прошлым, а я так долго от него убегал.
Хрясь! – Рафики бьет его большой палкой по голове.
– Ой! – кричит Симба. – Ты что, дурак? За что?
– Это не важно, – говорит Рафики. – Это ведь уже в прошлом.
– В прошлом, да, – соглашается Симба. – Но все равно больно!
– Да, – отвечает Рафики. – ПРОШЛОЕ ИНОГДА ПРИЧИНЯЕТ БОЛЬ. НО ТЕБЕ РЕШАТЬ, БЕГАТЬ ОТ НЕГО ИЛИ ПРИНЯТЬ И ИЗВЛЕЧЬ ИЗ НЕГО УРОК.
В какой-то степени эти слова – диснеевская интерпретация высказывания американского философа испанского происхождения Джорджа Сантаяны: «Те, кто не помнит прошлого, обречены повторять его». Разумеется, это же можно сказать и о колониальном режиме в целом и апартеиде в частности. На более личном уровне, думаю, суть в том, что человек либо таскает за собой багаж прошлого на протяжении всей жизни, либо садится и разбирает чемоданы.
В течение всего периода моего взросления в нашей семье было не принято подолгу говорить о чувствах. Мы делали то, что нужно, потому что то, что происходило вокруг, всегда было намного важнее каких-то личных переживаний. А ведь этот период – самый опасный и деликатный в жизни человека. Я со страхом жду того дня, когда Леваника и Неема начнут брать без спроса мою машину, огрызаться и всерьез думать, что они знают все на свете. Но в то же время я понимаю, что, если они не пройдут через это, значит, с ними что-то не так. Все, что мне остается, – пройти этот путь вместе с ними, не забывая о том, что и мне самому взрослые делали поблажки и многое спускали с рук, когда я был в их возрасте.
Отец жил неподалеку от нас, но первое время мы виделись не слишком часто. Мама все еще где-то дрейфовала, так и не справившись с алкогольной и наркозависимостью и страдая от множества личных проблем. Став старше, я мало-помалу начал обрабатывать все то, что слышал и видел в детстве. В то время я ничего из этого не понимал, потому что был слишком маленьким. Но теперь я чувствовал себя так, будто мне заново сломали кость, которая плохо срослась. В этом недостаток общества, в котором детям запрещено задавать вопросы: в конце концов, повзрослев, они обнаруживают, что у них нет ответов.
Мадиба знал о всех этих сложностях и переменах, происходивших во мне в подростковом возрасте (хотя и не проявлял явного сочувствия к ним), и предпринял попытку помочь мне. Когда я повзрослел, он стал чаще брать меня с собой в поездки, и всегда они несли в себе некую образовательную нагрузку. Я стеснялся камер, но всегда с готовностью соглашался поехать куда угодно, и, как правило, это «куда угодно» было фантастическим местом. Помню, как в конце 90-х мы вместе отправились на футбольный матч, кажется, ЮАР – Нидерланды, и чем ближе мы подъезжали к стадиону, тем сильнее я волновался оттого, что вот-вот увижу знаменитых футболистов. Когда машина остановилась, я рывком открыл свою дверь – чуть раньше, чем следовало. Выскочив из машины, я едва не оглох от рева толпы, который внезапно стих, когда люди поняли, что я не Мадиба. Они словно спрашивали: «А это еще кто? Хотим Манделу!» Тут из машины вышел Майк, наш водитель, и подошел к двери Мадибы, готовясь ее открыть и глядя на меня с немым вопросом: «Чувак, ты чего?»
– Прости, дружище, – сказал я. – Ты забыл сказать мне, что надо подождать.
Майк открыл дверь Старика, и на этот раз толпа обезумела по-настоящему. Я физически ощутил исходящие к Мадибе волны любви. Он улыбнулся мне и пожал плечами, как бы говоря «Да, мы крутые!», и мы направились к веренице знаменитых футболистов. Я в благоговении стоял перед этими ребятами, но потом дед сам представил меня, с огромной гордостью.
– Здравствуйте! Как поживаете? Это мой внук, Ндаба. В следующем году он заканчивает школу.
Разумеется, в школе нас обязывали носить форму, но в свободное время я мог одеваться, как пожелаю. Мадиба же был одет непринужденно и вместе с тем оригинально. В поездках он обычно покупал штук двадцать рубашек понравившегося фасона разных цветов. Футболок он никогда не носил, как и мы с братьями, – разве что дома. После того как в 1995 году Старик показался на матче «Спрингбокс» в майке с их символикой, все стали дарить ему спортивные майки с эмблемами всех команд, куда бы он ни отправился: «Янки», «Чикаго Беарз», а во время чемпионата мира и американцы, и португальцы подарили ему свои фирменные майки. Разумеется, это были специальные майки, на спине которых красовалось имя «МАНДЕЛА». Когда мне стукнуло восемнадцать-девятнадцать, я вытянулся, и они стали мне впору. Эти футболки превратились в ключевой элемент моего персонального стиля: нечто среднее между «Def Jam» и символом человечности.
Я все еще оттачивал свои навыки по части отношений с девушками, и хотя Мадиба был не совсем тем человеком, к которому я обратился бы в первую очередь с этим вопросом, все же он дал несколько ценных советов. Во-первых, нельзя было приводить девушку домой, когда стемнеет.
– Только после уквалука – «восхождения в горы», – сказал он. – Тогда ты будешь готов стать мужчиной и сможешь пригласить девушку на ужин и так далее.
Во-вторых, он надеялся, что я буду разборчив в своих предпочтениях.
– Ты должен встречаться с девушкой своего уровня, – сказал он.
Сначала я воспринял эти слова буквально – решил, что он имеет в виду, что я должен встречаться с одноклассницей. Но, подумав хорошенько, понял, что он говорил о девушках со схожим прошлым. Тогда я попытался представить девушку, у которой была бы такая же жизненная история и которая при этом не была бы моей двоюродной сестрой. Это значительно сужало круг поиска. Со временем, когда я уже имел за плечами опыт отношений с несколькими девушками и стал лучше понимать, как устроен мир, окончательно понял: дед хотел, чтобы я встречался с девушкой, которую искренне уважаю.
– Послушай, – сказал Старик. – Ты – это ты. Некоторые женщины в ЮАР будут видеть в тебе «джекпот». Но тебе нужна та, которая поймет, через что ты прошел, та, которая разделит твои ценности, чьи стремления будут такими же, как у тебя. Которая станет твоей единомышленницей и партнером.
Мне вдруг пришло в голову, что эти же самые слова отец слышал от него, наверное, тысячу раз. Я набил полный рот еды и ответил:
– Я думал, ты против браков по сговору.
– Нет, я лишь сказал, что не хотел жениться на той конкретной девушке, – при этих словах голос его стал скрипучим и резким, так случалось всякий раз, когда во время интервью ему не нравился вопрос или тема. – Браки по сговору имеют свои плюсы, и, по статистике, они более удачны, ведь ты женишься не на одном человеке, ты становишься членом целой семьи. Именно так в нашей культуре рассматривается брак. Сначала отцы жениха и невесты встречаются, беседуют, а потом – бум! – и тебе сообщают, что ты скоро женишься. Я сбежал потому, что они поменяли девушек местами.
– Может быть, она тоже не хотела за тебя выходить.
– Может, и так, – пожал он плечами. – Ндаба, никто не пытается указать тебе, на ком жениться. Никто не говорит тебе, что делать.
Вот тут я рассмеялся:
– Дед, да ведь ты всегда говоришь мне, что делать.
– Нет, я лишь хочу, чтобы ты старался поступать как можно лучше. И если вижу, что ты совершаешь глупость, тогда говорю «Не делай этого!».
Такие беседы становились все более частыми. Мы садились смотреть футбольный матч или бокс, и каким-то образом все его премудрости потихоньку начали меня раздражать. Так, в пятнадцать лет я получил в подарок щенка от водителя, который отвозил меня в школу и улаживал разные повседневные дела. Это был пудель – прелестное маленькое создание. Он пробыл у меня всего пару дней, но за это время я к нему очень привязался, и не только потому, что «все девочки тают от милых щеночков». Старик, проходя мимо моей комнаты, заметил меня со щенком и решил немедленно положить этому конец.
– Собака, Ндаба? Кто тебе разрешил завести собаку? Нет-нет-нет. Ей здесь не место. Немедленно избавься от нее.
Я взмолился:
– Ну, дедушка, пожалуйста! Я никогда не просил у тебя собаку, но я очень-очень хочу его оставить! Я буду заботиться о нем, от него не будет ни шума, ни беспорядка!
– Ндаба, – ответил он. – Видишь этого пса? Когда он заболеет, его надо будет возить к ветеринару. Когда проголодается, надо будет покупать ему еду. У многих людей нет такой роскоши, Ндаба, а ты хочешь отдать ее собаке? Многие люди обращаются со своими питомцами лучше, чем с другими людьми. В нашем доме собак не будет.
На это мне нечего было возразить. Он заставил меня вернуть собаку водителю, который нашел ей новый дом, но я был подавлен. Я знал, что дед ничего не имеет против владельцев собак с моральной точки зрения. У него было множество знакомых-собаководов – да хотя бы та же королева Елизавета, с которой он был дружен! – и никогда он никого за это не осуждал. Другие могли держать сколько угодно собак, но не я! Я был страшно зол. Сейчас я даже не помню, как назвал того пса. Мне пришлось с ним расстаться, и это меня ужасно бесило.
В ПОСЛЕДНЕМ КЛАССЕ ШКОЛЫ Я ИСПЫТЫВАЛ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ СПОРОВ СО СТАРИКОМ, А ОН НЕ ЛЮБИЛ, КОГДА С НИМ СПОРЯТ. ДУМАЮ, ЗА СВОЮ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ ОН ПРОСТО УСТАЛ СПОРИТЬ. Иногда мне казалось, что мы как Тайсон и Холифилд: кружим друг напротив друга, ища слабые и сильные точки и испытывая характер. Иногда мы заводились не на шутку, и я отправлялся спать с тяжелым сердцем, но, когда наутро мы вставали, всегда было mahlamba ndlopfu – «время купать слонов» – новая заря. А затем снова появлялся очередной повод для ссор.
Когда мы переехали в новый дом в Хьютоне, Граса согласилась с тем, что старшим детям нужны отдельные комнаты. Поэтому, пока в доме шли работы по их обустройству, мы с Мандлой жили в старом доме. Это был отличный повод для того, чтобы пригласить в дом какую-нибудь девчонку тайком от деда, как будто это мой собственный дом. Разумеется, в подобных ситуациях каждый желает, надеется (и молится), чтобы никто ни о чем не узнал. Однажды на выходных, когда Мандла был дома, он все-таки застукал меня с симпатичной американочкой. Разумеется, ему не хотелось из-за меня получить нагоняй от Старика и лишиться возможности жить отдельно, поэтому он вышел из себя. Я пытался его успокоить, как мог.
– Да ладно тебе, братишка! Ты что, прикалываешься? Не надо все портить!
– Уведи ее отсюда! – повторял он каждые пять минут, в конце концов я сдался и отправил девушку домой. Вскоре после этого я без спросу взял машину Мандлы. На выходные он всегда уезжал, и я не смог удержаться. Это была серебристая «Тойота Тазз», которую Старик купил ему за границей. Она была выполнена по индивидуальному заказу, с шестнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, колесами BBS, тонированными окнами и четырьмя двенадцатидюймовыми динамиками Rockford Fosgate. Первоклассное качество. Фактически он превратил салон автомобиля в один гигантский динамик. Так что, оказавшись внутри, я пришел в неописуемый восторг. К несчастью, меня заметил один из друзей Мандлы и позвонил ему. Попался!
Когда Мандла вернулся, я смотрел телевизор с приятелем. Он был настолько зол, что избил меня прямо на глазах у своей девушки. Мой друг был так напуган, что сбежал, оставив меня наедине с моими проблемами. Мандла ударил меня по лицу, поставив под глаз синяк, который не проходил целую неделю. Разумеется, я не мог рассказать Старику предысторию, так что пришлось выдумывать оправдания на ходу. Врать ему у меня никогда не получалось, он всегда видел меня насквозь, поэтому я просто сидел под его испепеляющим взглядом.
Я устал от всего этого. И дело не только в случае с собакой. Много всего накопилось. Я задумался о том, чтобы перебраться к отцу, который жил всего в пяти минутах от нас. Там я мог бы уходить из дома и приходить когда вздумается, и никому не было бы до меня дела. На заднем дворе был маленький домик, где я мог уединиться с девушкой, когда отец был с друзьями. Отца я не спрашивал – просто поставил перед фактом: «Эй, я тут приеду поживу у тебя». Но со Стариком так нельзя – у него надо спрашивать. И вот я пошел к нему в кабинет.
– Дедушка, ничего, если я немного поживу у отца? – спросил я сразу с порога.
Он оторвался от книги, которую читал. Во взгляде его не было удивления. Он не спросил, почему я хочу уехать, и не стал уговаривать меня остаться, а просто сказал:
– Мне всегда не давало покоя то, что мы с твоим отцом так и не сблизились.
– Но, может быть, – ответил я, – для нас с ним еще не все потеряно.
Он кивнул:
– Что бы ты ни решил, Ндаба, знай: это твой дом.
– Я знаю, дед. Это ненадолго.
Я вышел из его кабинета, наконец-то получив свободу. Никто больше не будет дышать мне в затылок, говорить, что я что-то недостаточно хорошо делаю или что я должен постоянно убираться в своей комнате. В отцовском доме была горничная, и вообще мне там жилось привольно. Я мог делать только то, что захочу, и развлекаться, сколько угодно. «Бедный Квеку, – думал я. – Тетя Маки заставляет его работать, учиться и выполнять разные поручения, а мы с отцом тут отмокаем в бассейне». Отец возвращался с работы, включал джаз на магнитофоне, снимал штаны и футболку и надевал шорты или пижаму. У него была подруга – кажется, теперь это называется «интимная подруга», которая приходила время от времени и удовлетворяла его потребности. Она не была красавицей, но казалась безобидной, к тому же мне было все равно, чем они занимаются.
Три раза в неделю приходила женщина, которая готовила для нас. В остальное время мы заказывали еду на дом. У деда я ни разу не заказывал доставку – Старик не желал размениваться на подобное, предпочитая каждый день старую добрую кухню. Матушка Ксоли и матушка Глория были на высоте – как бы поздно он ни засиживался за работой и сколько бы человек ни собралось за столом к завтраку, обеду или ужину. В отцовском же доме были только я и он, иногда мои братья, пара друзей, которые устраивались у бассейна. Никто не читал лекций по политике и истории. Мы вообще почти не разговаривали.
– Чувак, я подсел на южноафриканское пиво, – говорил отец. – Светлое, прозрачное, без горчинки. Как хорошая женщина.
Он рассмеялся, а я подумал: «О да, тут дела пойдут на лад!»
Я не пил вместе с отцом, но он знал, что я тоже могу выпить. Однажды мы с Квеку отправились развлекаться и вернулись на заплетающихся ногах около 4.30 утра. Отец не спал, смотрел боксерский матч Майка Тайсона. Мы предприняли безуспешную попытку скрыть свою нетрезвость – отец сделал вид, что не заметил. Я смутно помню, как они с Квеку обсуждали матч, я уже почти засыпал. Потом далекий отцовский голос сказал: «Пора спать, дружище». Я, шатаясь, отправился к себе в комнату и отключился.
Отец с пониманием отнесся к нашим разногласиям с Мандлой.
– Я уже потерял всякую надежду – он совсем вышел из-под контроля. Твой брат слышит только себя. Я пытался повлиять на него, но ничего не вышло. Он никого не желает слушать.
Мандла решил жениться, а отец и Старик в один голос твердили ему одно и то же: «Не торопись, сначала закончи университет». Но Мандла был глух к их советам. В конце концов, он все же настоял на своем и женился, хотя из всех родственников на его свадьбу пришел только я. Потом все приставали ко мне с расспросами, как все прошло, а я рассказывал малоубедительную историю о том, что они куда-то уехали или вроде того. Когда я попытался обсудить эту тему с отцом, он сказал:
– Ты, главное, думай об учебе. Теперь у тебя есть шансы закончить раньше Мандлы.
Сначала меня утешала мысль о том, что он на моей стороне, но потом мне стало не по себе. Я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы у бассейна мы лежали все втроем.
Отец убеждал меня в необходимости хорошо учиться, но не стоял надо мной с палкой. Если я отправлялся тусить допоздна, он не ждал, что я встану ни свет ни заря, сделаю зарядку, застелю постель и приду в школу вовремя. Беспорядок в комнате был моим личным делом, так же как его делом был беспорядок в его комнате. Казалось, он был все таким же добрым и снисходительным, как в детстве, когда все мы жили у бабушки Эвелин в Восточно-Капской провинции, и я заходил к нему в магазин за шоколадками, чипсами и всякой всячиной. По вечерам мы с друзьями частенько зависали в бассейне и напивались до бесчувственности. Каждые выходные устраивали вечеринки. На учебу я почти забил, часто прогуливал уроки, что привело к совершенно плачевным оценкам. Когда опубликовали отчеты об успеваемости, я про себя порадовался, что Старик их не видит. Я ожидал, что отец воспримет это спокойно, но ошибся.
– Ндаба, тебе нужно взяться за ум, – предупредил он меня. – Я столько выслушал за годы собственной учебы – не хватало еще, чтобы Старик отчитывал меня за тебя.
Я знал, что он говорит всерьез, но знал и то, что он не станет чинить мне препоны, так что пока все было нормально. Тетя Маки была рада нашим с отцом попыткам наладить отношения. Она все время просила его рассказать мне о своем детстве, которое нельзя было назвать безмятежным. Мадиба с бабушкой Эвелин развелись, когда отцу было восемь, в основном потому, что бабушка с головой ушла в религию, став Свидетелем Иеговы, и не проявляла никакого участия в деятельности АНК. Она считала, что Бог, а не Мадиба, должен исправить все несовершенства этого мира, и не желала жить в непрекращающемся страхе. Ей претила сама мысль о постоянной необходимости жить в бегах и прятаться от властей. С самой начальной школы отец, его старший брат Темби и младшая сестра Маки были вынуждены взять себе фальшивые имена, зная, что никогда никому не смогут рассказать, кто они на самом деле.
Даже когда Мадиба женился на матушке Винни, полиция не оставила в покое Эвелин и продолжала угрожать ей, ведь она была его первой женой и матерью его старших детей. Мадиба был врагом общества номер один, и они во что бы то ни стало старались выманить его из укрытия. В конце концов бабушка Эвелин бежала вместе со своими детьми в Свазиленд, где они жили как беженцы до тех пор, пока Мадибу не нашли и не арестовали. Отцу было двенадцать, когда Мадибу посадили, а когда убили Темби – девятнадцать.
– Когда погиб Темби, – рассказывал отец, – я получил письмо от твоего дедушки. Он писал: «Ненавижу читать морали, Кгато, но твоего старшего брата больше нет, и теперь тебе придется взяться за ум!»
Я едва не рассмеялся, представив, как Старик с трудом удерживается от того, чтобы не прочитать проповедь, но, зная отца, пришел к неутешительному выводу: наши с ним проблемы были схожи с его собственными со Стариком. Совсем недавно я нашел письмо. Оно приведено в книге Мадибы «Разговоры с самим собой». На мой взгляд, оно совершенно потрясающее по многим причинам: тон, содержание и время – всего через пару недель после смерти дяди Темби, – а еще и предзнаменование. В то время шансы Мадибы на будущее за пределами острова Роббен были ничтожны, но он сам выражал надежду и оптимистичный взгляд на будущее и был твердо настроен сделать все, чтобы мой отец нашел себе в нем место.
28 июля 1969 года
Кгато, я ненавижу читать морали, даже собственным детям, и предпочитаю вести разговоры на равных, высказывая свое мнение в форме совета, который человек может принять либо отказаться от него. Но я не выполню свой долг, если не отмечу, что после смерти Темби на твои плечи ложится огромная ответственность. Теперь ты старший сын и именно ты должен поддерживать семейные узы и подавать хороший пример своим сестрам, быть гордостью своих родителей и всех родственников. Теперь тебе придется старательнее заниматься, никогда не пасовать перед трудностями и не оставлять поле боя – даже в самый темный час.
Никакого давления, значит?
Помни, что мы живем в век научного прорыва, каждый день происходят невероятные события, такие как высадка человека на Луну. Благодаря этому событию человек сможет больше узнать о Вселенной и, возможно, даже изменить фундаментальные основы многих областей знания. Молодое поколение должно заниматься собственным образованием и всесторонней подготовкой, чтобы суметь понять, к чему могут привести исследования космоса в долгосрочной перспективе. Это эпоха напряженной и жесткой конкуренции, где главный приз ожидает того, кто прошел тщательную подготовку и получил наивысшую академическую квалификацию в своей области. Темы, волнующие человечество в настоящий момент, требуют должной тренировки ума, и человек, не прошедший ее, неполноценен, поскольку не обладает всеми необходимыми инструментами и оборудованием для достижения успеха и победы на службе стране и людям. Упорядоченная и размеренная жизнь, упорная и систематическая учеба в течение всего года, в конце концов, принесут свои плоды и глубокое личное удовлетворение. Кроме того, они вдохновят твоих сестер, и они последуют примеру своего любимого брата, в свою очередь извлекая немалую пользу из твоих научных знаний, разностороннего опыта, усердия и достижений. Люди всегда тянутся к трудолюбивым, дисциплинированным и успешным личностям, и если ты приложишь усилия, чтобы развить в себе эти качества, то у тебя будет много друзей.
Самое странное в этом письме: в нем я вижу человека, который не смог дать нормальное воспитание моему отцу, но в то же время дал его мне. Я знаю, что смерть Темби сильно повлияла на моего деда. Знаю, что он испытал невообразимую боль. Но вместе с тем он наверняка догадывался, что и для отца его гибель была страшным ударом. Неужели он не мог найти хоть слово утешения? Или он боялся, что, произнеся его, разрушит дамбу, сдерживавшую его собственное горе, и оно вырвется наружу, захлестнув его с головой? Может быть, он всеми силами старался сохранить внешнее ледяное спокойствие и сосредоточиться на будущем, чтобы продолжать борьбу? Если так, то, сам того не подозревая, Мадиба сражался вовсе не за моего отца, а за меня.
Апартеид неохотно отпускал последнее поколение людей, заставших его. Они вырывались из его тисков свободными, но израненными. Нельзя сломать человеку руки, а потом сказать: «Ну, ведь у тебя еще остались пальцы на ногах, верно? Так что, если постараешься, ты еще можешь стать пианистом». Возможности, что были у меня в первые тридцать лет моей жизни, не идут ни в какое сравнение с тем, что мог себе позволить в этом же возрасте мой отец. Я усвоил много важных уроков от своего деда, но одну очень важную вещь понял только благодаря отцу: ЛЮДЯМ, С РОЖДЕНИЯ ИМЕЮЩИМ МЕНЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧЕМ ТЫ, НЕ НУЖНЫ НИ ТВОЯ ЖАЛОСТЬ, НИ ТВОИ ПОДАЧКИ. ВСЕ, ЧТО ИМ НУЖНО, – ЭТО УВАЖЕНИЕ, ИСКРЕННЕЕ ПРИЗНАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ И УСИЛИЙ, направленных лишь на то, чтобы выжить.
Все мы нуждаемся в одном: в равных возможностях для раскрытия собственного потенциала. Если и существует истина, что все люди рождаются равными, то мировой порядок все равно быстро разрушает это равенство. Двое боксеров не могут быть в равных условиях, если у одного к ногам привязан камень. Если его единственный шанс на выживание – это поднять камень и использовать в качестве оружия, то почему кого-то удивляет, что он это делает? Учреждение Комиссии правды и примирения было огромным шагом вперед для народа ЮАР. Мы взяли на себя ответственность за моральный аспект апартеида, но, на мой взгляд, нужно еще разобраться с экономической стороной проблемы.
Закон об образовании населения банту 1953 года был выдвинут на заседании парламента министром по делам коренных народов Хендриком Ф. Фервурдом как христианский акт милосердия: «[Цветным людям] нет места в Европейском сообществе, за исключением отдельных видов работ…. До сих пор они подчинялись системе образования, которая отдалила их от их сообщества и ввела в заблуждение, поманив более зелеными пастбищами Европейского общества, где им запрещено пастись».
Вся политика в отношении банту пропагандировала образ чернокожего африканца как неотесанного дикаря, которого белые благодетели должны приручить и христианизировать, строго, но с любовью – многие до сих пор согласны с этой точкой зрения. Совсем недавно, в январе 2018 года, Дональд Трамп, действующий президент США, назвал ряд африканских стран «задницей мира», заявив, что нигерийцы, «увидев США, никогда не вернутся в свои хижины». Поздние передачи просто невозможно смотреть: каждые пятнадцать минут на экране появляются фотографии африканских детей с выпученными глазами, распухшими животами и призывами помочь. Таким образом пропагандируется мысль о том, что помочь им можно, просто направив денежные средства, а не исправив серьезные политические и социально-экономические ошибки, в результате которых происходит непрерывное расхищение богатейшей части света и вывоз ее алмазов, золота и нефти.
Отцу выпала уникальная возможность изменить свою жизнь, пусть даже когда он уже был немолод. Но сотни тысяч людей, получивших образование по системе банту, сутью которой было воспитание из черных рабов белых, до сих пор играют роль рабочей силы и делают то, на что запрограммировала их эта система, и видят себя такими, как им внушили. И если вы думаете, что законодательное упразднение системы банту или сегрегации в целом волшебным образом устранит ее долгосрочные токсичные последствия, то я задам вам лишь один вопрос: «В вашем районе большие львы?»
От прошлого можно убежать, но лучше – извлечь из него урок. То недолгое время, что я прожил вместе с отцом, я только и делал, что убегал от прошлого. Но, видимо, недостаточно быстро…
Чтобы вы в полной мере ощутили весь масштаб катастрофы под названием «Эпическое фиаско Ндабы», поясню, что мой дед не пропускал ни одной утренней газеты. Все восемь региональных изданий. От корки до корки. Каждый день. После завтрака он садился в гостиной в свое любимое кресло с высокой спинкой. Он был рад, если я присоединялся к нему, но при этом я не мог читать только новости спорта или колонку юмора – нужно было прочесть всю целиком, а когда он закончит читать свою, поменяться газетами. Иногда он указывал конкретную статью, с которой, по его мнению, мне следовало ознакомиться, или же вслух комментировал то, что читал, с энтузиазмом кивая или категорически не соглашаясь. Еще он каждый вечер смотрел местные новости, и эта привычка сохранилась у меня и по сей день. До сих пор, несмотря на исчерпывающий поток новостей в смартфоне, я не успокоюсь, пока не посмотрю вечерний выпуск по телевизору.
Но именно газеты – ключевая деталь в этой истории. Однажды вечером я наслаждался хорошей погодой, раскуривая косячок с друзьями в нескольких кварталах от школы. Вдруг подъехали какие-то парни, и в одном из них я узнал старшеклассника, с которым Зондва был в постоянном конфликте. Мы хотели было спрятаться, но потом вспомнили, что совсем недавно видели его на дискотеке в доме его сестры – с бонгами, пивными воронками, когда тебя держат вверх ногами, и всяким таким. Кто-то сказал: «Он ведь не настучит на нас после той тусы?» И все согласились: «Конечно, нет!» И ошиблись. Должно быть, они подумали, что драться с нами слишком хлопотно и вряд ли закончится для них добром. А вот если они расскажут, что видели, как я курю марихуану всего в нескольких кварталах от школы, у меня будут крупные неприятности. На другой день меня вызвали прямо с урока истории и допросили о случившемся. Я молчал, но пара моих приятелей раскололись на месте, как куриные яйца, и всем нам настал конец. Нас «временно исключили», то есть отправили домой на неделю, а после возвращения малейший промах означал автоматическое немедленное исключение из школы.
Я все еще жил с отцом, а он и сам был почти что беспризорником, вырос на улице и испытал все на своей шкуре. Он не рассердился на меня. Разумеется, он был раздосадован сложившейся ситуацией, но не зол по-настоящему. И может быть, не так уж удивлен.
– Ндаба, ну ты чего? – закатил он глаза. – Ну, ладно, бывает. Переживем. Я пойду в школу и все улажу. Ничего страшного. Главное, чтобы твой дед не узнал.
В те же выходные в газете Йоханнесбурга написали, что внука экс-президента Нельсона Манделы застали за употреблением наркотиков и исключили из школы. Мое имя не упоминалось, в одной школе со мной учились и несколько моих кузенов, но именно я то и дело попадал в разные передряги, так что бомба уже была заведена. Отец попытался вмешаться – он отправился к секретарю деда и стал просить за меня: «Зельда, прошу вас! Он хороший парень – ну оступился, с кем не бывает! Давайте не будем расстраивать Старика». Отец сделал все, что мог, чтобы эта газета не попала в руки Мадибы, но я знал, что рано или поздно он все равно ее увидит. Он ведь каждый день читал все газеты от корки до корки… Я знал, что должен сам ему признаться. В каком-то смысле был рад этому: пытаясь скрыть от него правду, я чувствовал себя ужасно. Единственным способом положить конец этой истории было рассказать все как есть, а мне отчаянно хотелось покончить с ней.
– Ох, Ндаба. – Он сидел в своем кресле со свернутой газетой в руках. – Это правда?
– Да, дедушка.
Мне было нелегко подобрать слова и объяснить ситуацию так, чтобы это не звучало как отмазка – Старик терпеть не мог, когда перед ним оправдываются. Он лишь молча сидел и слушал в своей характерной манере, пока я, перескакивая с пятого на десятое, пытался рассказать ему эту грязную историю.
– Дед, мне так жаль!
– Ох, Ндаба. Я не верю своим ушам! Я потрясен. Это совсем на тебя не похоже.
– Знаю, дед, прости.
– Поверить не могу, что ты это сделал. Твоя жизнь хоть что-нибудь для тебя значит? Ты понимаешь, какие возможности открыты перед тобой благодаря твоей фамилии? Ты можешь помогать людям, совершать великие поступки и с тем же успехом можешь сам все разрушить. Унизить тех, кто тебя любит и волнуется за тебя. Твое имя – это твое имя, но кто ты сам? У тебя есть выбор. Каждую минуту, каждый день ты делаешь этот выбор.
Он был рассержен, но что хуже всего – он был глубоко разочарован. Спустя некоторое время он отпустил меня. Выходя из его кабинета, оставив деда с застывшим выражением грусти на лице, я чувствовал себя так, как будто бы получил кулаком в кадык. Но я был твердо намерен исправить ситуацию. Для начала я сдам выпускной экзамен. Потом пройду «восхождение в горы», чтобы стать мужчиной в его глазах. Хочу, чтобы он мной гордился. Я оправдаю себя. А пока нужно быть тише воды, ниже травы. Не высовываться. Стараться не усугублять ситуацию.
Выпускной экзамен прошел не так, как я планировал, но я кое-как наскреб на проходной балл и решил: будь что будет! Общий балл у меня был недостаточно высоким для поступления в Университет Кейптауна, о котором я думал в первую очередь. Я понятия не имел, что делать в резервной школе, поэтому попытался подкатить к деду с идеей о «годе каникул», но он и слушать не захотел.
– Нет-нет-нет, – ответил он. – Учиться и еще раз учиться. Никаких развлечений.
– Ну, дедушка, все мои друзья делают перерыв – кто-то уезжает за границу, кто-то работает, кто-то ходит в походы.
– Ну, наверное, они могут себе это позволить.
– Если бы ты разрешил мне найти работу, я мог бы сам оплатить каникулы!
– Я имел в виду, что они могут себе позволить отдохнуть от учебы. А ты – нет.
Я нехотя подал документы в Университет Рэнд Африкаанс и без всякого энтузиазма поступил на факультет психологии. Потом решил, что это не мое, и перевелся на математику и бухучет. И это тоже было не для меня. Я начал изучать политологию – это было уже поинтереснее, но не так интересно, как тусить в клубах, ночевать на «вписках» и клеить хорошеньких девчонок, которые были не против сделать за меня домашнюю работу. Я редко бывал на лекциях и ни разу не сделал домашнее задание, но зато обзавелся кучей друзей, а потом и познакомился с друзьями друзей, в том числе с Тревором Ноем, который вел передачу на радио и снимался в сериалах. «Вот это круто!» – думал я, но все же не чувствовал сильной мотивации. Я решил: раз Старик не согласился дать мне «отпуск» на год, я сам его возьму.
В будние дни я жил в общежитии, а на выходных отправлялся в гости к друзьям, так что дома почти не появлялся, но когда все же возвращался, то останавливался в Хьютоне. Отец почти всегда проводил выходные с друзьями и совершенно не возражал против моего возвращения в дом Мадибы и Грасы. Матушка Ксоли, как всегда, была рада меня видеть. Старик купил мне машину – самый дешевый маленький хетчбек на рынке, но и его отобрал, увидев мои оценки за семестр.
– Больше никаких привилегий, – заявил он. – Ндаба, я этого не потерплю!
Из шести предметов я сдал лишь один. Из-за низкого общего балла я не мог продолжать учебу. Оказывается, нужно было набрать минимальное количество зачетных единиц, а я даже об этом не знал – настолько мне было все равно. Оттянуться и отдохнуть для меня было гораздо важнее. Когда мне позвонила секретарь деда Зельда, я беззаботно развлекался со своим другом Селемой. Мадиба велел ей организовать встречу с деканом. Я должен был явиться, обратиться к нему как подобает и поклясться, что возьмусь за ум. Встреча прошла так, как и было задумано. Я скрепя сердце вернулся, чтобы продолжить учебу во втором семестре, а он издалека контролировал меня:
«Где твой отчет? Ты написал тест по математическому анализу? Когда ты покажешь мне свои оценки? Это недопустимо, Ндаба! Ты способен на большее!» И так далее, и тому подобное. Я, в свою очередь, пытался его перехитрить, показывая только сносные оценки. Когда же он меня раскусил, я спросил:
– Да почему я всегда должен делать то, что велено? Где бы мы все сейчас были, если бы ты всегда делал то, что тебе говорят?
Когда я так говорил, Старик обычно молча сидел и слушал, не указывая мне на разницу между своим противостоянием и моим бунтом. Может быть, он знал, что со временем я пойму: ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ДОЛЖНОЙ МАНЕРЕ, В СВОЕ ВРЕМЯ И ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ, В ТО ВРЕМЯ КАК МЕЛОЧНОЕ, ЭГОИСТИЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРОТЕСТОВАТЬ, ДВИЖИМОЕ ЛИШЬ ГНЕВОМ, ТОЛЬКО ОСЛАБЛЯЕТ. Тогда я еще не понимал, что, если в результате мнимой борьбы за свободу ты и те, кто тебя любит, оказываются в плену беспокойства и хаоса, скорее всего, ты что-то делаешь не так.
Перед самым моим восемнадцатилетием отец пришел к Мадибе, чтобы обсудить «восхождение в горы». Я в их разговоре не участвовал. Я просто сидел и смотрел телевизор, когда вошел Мадиба и объявил:
– Мы с твоим отцом решили, что пора тебе пройти «восхождение в горы». На следующей неделе.
И все. Вот так они распоряжаются твоей судьбой. Им не нужно, чтобы ты долго думал об обрезании – сама эта мысль вызывает отторжение и ужас. Разумеется, я вовсе не горел желанием это сделать. Мой день рождения в декабре. Большинство моих друзей были из племен зулу и сото, которые уже отказались от этого обряда. И вот они собирались на каникулы, а я готовился к тому, что мне обрежут пенис. Как и всякий молодой человек в подобной ситуации, я испытывал двойственные чувства, но знал, что это не обсуждается. Если мужчины моей семьи решили, что пришло мое время, значит, так тому и быть.
Отец вошел в кабинет Мадибы и долго оттуда не выходил. Достаточно долго, чтобы я успел это заметить. Я знал, что это означало для деда и какое огромное значение это имело для всей семьи. Вообще-то не так уж это и плохо. Зато можно будет приводить девушек на обед. Приходить и уходить, когда вздумается. Старик, отец и Мандла будут относиться ко мне как к равному. Так что можно и потерпеть. Зато меня будут уважать. Я решил, что уважение – это главное.
Отец вышел из кабинета Мадибы, и вид у него был несчастный.
– Дед решил, что ты никуда не пойдешь, – сказал он.
– Что?
– Он сказал, нет. «Парень не готов», – говорит. Как-то так.
Вот так. Старик не собирался менять своего решения. Отец с Мандлой не могли просто взять и отвезти меня – дед все равно узнал бы, и было бы только хуже.
Поэтому я сказал:
– Ну ладно. Раз Старик так решил, мы должны уважать его решение.
Не стану лукавить: моей первой реакцией было «Ура-а-а-а-а! Спасибо тебе, Господи!» Я испытал огромное облегчение. Но на каникулах, самых лучших каникулах в моей жизни (мне исполнилось восемнадцать, и никто больше не грозил отрезать мне член острым инструментом), я вдруг ощутил странный прилив разочарования. Я знал, что мои кузены-ровесники и все люди Куну будут ждать меня и гадать, почему я не приехал, и не знал, как это объяснить. Я подумал о посвящаемых, которые соберутся в сумерках на волнистых равнинах. Мне даже казалось, что я слышу их музыку.
8 INTYATYAMBO ENGAYI KUFA AYIBONAKALI «Цветок, что не увядает, невидим»
В школьные годы я не очень-то любил читать. Кроме учебников я читал разве что комиксы. Первой книгой, которую я по-настоящему проглотил, был «Алхимик» Пауло Коэльо. Ее дала мне тетя Маки, когда я учился в старших классах – в тот самый период, когда моя жизнь летела под откос и мои близкие были всерьез обеспокоены моим состоянием.
– Это книга о пастухе, который ищет сокровище, увиденное во сне, – сказала она.
Но, разумеется, если вы читали ее, то знаете – эта книга гораздо глубже. Миссия пастуха заинтриговала меня, но по-настоящему меня поразил и зацепил скрытый смысл истории. В то время я редко дочитывал книги до конца, но эту дочитал: мне нравилась манера повествования и рассуждения автора об отношениях между людьми, о толковании снов и стремлений, от которых порой бывает так легко отказаться. Путь этого пастуха словно отражал мою собственную судьбу – уже тогда я видел эту связь.
В самом начале «Алхимика» молодой Сантьяго засыпает в заброшенной церкви, и ему снится сон о сокровище, спрятанном где-то рядом с египетскими пирамидами. Он решает отыскать его. Старый друг рассказывает ему о Персональной легенде, то есть о том, в чем заключается личное благословение, путь и страсть человека. По его словам, все дети знают свою Персональную легенду, но по мере взросления мы постоянно слышим от взрослых, что задуманное нами – глупо, непрактично или недостижимо. Постепенно сомнения в нас накапливаются, образуя «слои предрассудков, страха и вины», до тех пор пока Легенда не забивается в самый дальний и темный угол нашей души. Туда, где ее никто не видит и не слышит. И все же – она есть и ее можно почувствовать.
После своего провального «года паузы» я вновь вернулся к деду и принялся перебирать в голове возможные варианты развития событий. Он советовал мне вернуться в школу, к точке отсчета, к тому моменту, когда я сделал неверный шаг. Мне эта затея не очень нравилась, и я признался тете Маки:
– Я чувствую себя идиотом, который собирается пересдавать выпускной экзамен.
– Но в этот раз все будет по-другому. Если, конечно, ты умный мальчик.
– Пожалуй, я мог бы пересдать экзамен, – сказал я. – Я знаю, что могу сдать лучше. А потом поеду в Кейптаун, как хотел с самого начала.
Мы вместе решили, что лучше всего будет, если я поступлю в колледж Деймлин и заново пройду программу выпускного класса. Эта мысль пришлась мне по душе, потому что Деймлин не был типичной южноафриканской школой «строгого режима», где надо было носить форму и соблюдать кучу школьных правил в зависимости от идеологии школы. В Деймлине можно было выбрать школьную программу или программу колледжа, или вовсе совместить их. Можно было носить все, что душе угодно, и даже курить в школьном дворе на переменах. Туда отправляли многих «проблемных» ребят. Пожалуй, «проблемный» звучит не так обидно, как «плохой парень» или «неудачник». На мой взгляд, не каждый, кому не везет, обязательно плохой, более того, многие так называемые плохиши проходят школу без сучка и задоринки, ни разу не попавшись.
Как бы то ни было, Деймлин был для меня оптимальным решением, а со второй попытки я и в самом деле сдал выпускной экзамен гораздо лучше. Моих баллов хватило для поступления в Университет Претории, знаменитый своим факультетом политологии и международных отношений. Я испытывал все больший интерес к мировой политике благодаря постоянным беседам с дедушкой за чтением газет, во время которых он высказывал свое мнение о растущей нестабильности мировых отношений.
В конце 2002 года президент США Джордж Буш, наплевав на Совет Безопасности ООН, заявил, что Ирак занимается разработкой оружия массового поражения (ОМП), и использовал это как предлог для полномасштабного вторжения на территорию Ирака, даже когда инспектора ООН не обнаружили там никаких следов ОМП. Генеральным секретарем ООН в то время был Кофи Атта Аннан, дипломат из Ганы, и мой Старик воспринял всю эту ситуацию как личную обиду.
– Мне интересно вот что: БУШ РЕШИЛ ОТМАХНУТЬСЯ ОТ ООН ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – АФРИКАНЕЦ?
– Дед, а если они все-таки вторгнутся, это значит, что США и Великобритания тоже, ведь Блэр их поддержал, – больше не союзники Африки?
– США – великая страна. И там, и в Великобритании у нас много друзей. Но, будем откровенными, США и в прошлом совершали ужасные вещи без всякого зазрения совести. Вспомни бомбежку Хиросимы и Нагасаки. Как ты думаешь, Ндаба, кто по-настоящему был целью этих бомб?
– Советский Союз.
– Именно! Этим они как бы хотели сказать: «Получите! Вот что бывает с теми, кто встает у нас на пути!» Они такие наглые и беспринципные – не народ, а их правители, – готовы убить невинных людей, чтобы продемонстрировать всему миру свою мощь.
В январе 2003 года в рамках Международного женского форума Мадиба произнес пламенную речь, которую транслировали на национальном телевидении и радио. Он был в гневе и не скрывал этого. Пересматривая это выступление на YouTube, я увидел, как из него буквально рвется наружу профессиональный боксер. Человек, прошедший каменоломню. Борец за свободу.
– Джордж Буш и Тони Блэр своими руками душат идеалы, за которые боролись их предки, – сказал он. – Им все равно. Это потому, что действующий генеральный секретарь ООН – черный?
Публика ответила восторженными криками.
– Они никогда не позволяли вести себя подобным образом, когда ООН возглавлял белый человек. Так что они хотят сказать этим своим неуважением к ООН? Что любая страна, если она не уверена в том, что ООН поддержит ее решение, имеет право выйти из ООН и не считаться с ее мнением? Или же мы должны понимать это так: «Мы, Соединенные Штаты Америки, единственная в мире сверхдержава и можем творить что хотим»? Значит, и мы можем последовать их примеру? Или они говорят: «Мы особенные. Что позволено нам, не позволено никому больше»?
Он высказал и свое предположение о Хиросиме и Нагасаки и довольно нелестно отзывался о политике Джорджа Буша.
– Кем они себя возомнили – полицейскими мира? Я возмущен тем, что одна-единственная страна, во главе которой стоит недальновидный президент, неспособный как следует подумать о последствиях, готова устроить во всем остальном мире холокост! И я счастлив, что люди всей Земли, в особенности сами американцы, не согласны с решением своего лидера! Я надеюсь, что в один прекрасный день оппозиция поможет ему понять, что он совершил величайшую ошибку всей своей жизни, пытаясь развязать кровопролитие и навести собственные порядки в мире, не будучи уполномоченным на это ни одной международной организацией. Все мировое сообщество должно, вне всякого сомнения, осудить эти действия.
На следующий день в интернете только и говорили, что об этой речи. Заголовки пестрели самыми резкими его высказываниями, но Старику только того и надо было. Он не жалел ни о едином сказанном слове. Потом он рассказал, что в тот вечер ему звонил Джордж Буш-старший – экс-президент и отец нынешнего президента.
– И что он сказал? – спросил я.
– Он очень вежливо попросил меня: «Господин Мандела, пожалуйста, не говорите больше плохо о моем сыне».
– А ты что сказал?
– А я говорю: «Не беспокойтесь. Я сказал то, что думал, больше мне нечего добавить».
Я отлично знал, каков Старик в гневе, и мне даже стало жаль обоих Бушей – и старшего, и младшего.
* * *
Весь первый курс университета – по сути, самый важный год – я был в основном сосредоточен на учебе, но, кроме того, предпринял немало попыток, чтобы наладить отношения с матерью, которая к тому времени, можно сказать, остепенилась. За время учебы в старшей школе я видел ее всего несколько раз, но жизнь с отцом на многое открыла мне глаза, и я понял, как ей было непросто.
Отец рассказывал мне: «Старик помог ей обустроиться в Восточном Рэнде – купил дом, нашел работу. Но при этом поселил далеко от меня. Я мужчина. Чего ты от меня хочешь? Она все время злилась на меня, хотела быть со своей семьей. В конце концов, она вернулась в Соуэто. Старик тогда сказал: «Она что, не ценит того, что я для нее делаю?» Возможно, так оно и было. Наверное, ей не нравилось, когда ей указывают, куда ходить и что говорить. Видишь, Ндаба, в чем проблема: Старик – великий человек, а таких вещей не понимает. Управлять страной для него гораздо проще, чем управлять семьей».
Однажды я зашел к маме, и она была рада меня видеть. Приготовила мне поесть, рассказала, что теперь работает социальным работником, спросила меня об учебе и о девушках. В общем, вышла своего рода светская беседа. Нам не хотелось ворошить прошлое и задаваться вопросом: почему все вышло так, как вышло? Мы просто болтали, ужинали, смотрели телевизор, восстанавливали, будучи уже взрослыми, ту связь, которая была между нами, когда я был еще мальчишкой. Она позволила мне быть таким, как есть, а я ей – остаться собой. Мы много смеялись. Я и забыл, какой забавной и легкой она может быть, когда счастлива. Она подтрунивала надо мной и рассказывала смешные истории о людях и местах, что ей довелось повидать. Наверное, решил я, мы еще успеем наладить нормальные отношения.
Спустя несколько недель я снова зашел к ней и с тех пор периодически бывал у нее – примерно раз в месяц. Однажды я пришел к маме и увидел, как тетя Люси заплетает ей волосы. Зрелище было странным. Тетя Люси расчесывала ее, а с ее головы все сыпалась и сыпалась белая пудра, похожая на перхоть, – очень странная картина. Когда я зашел в следующий раз, то заметил, что она похудела. Она не говорила мне, что больна, ни разу даже словом не обмолвилась, что чем-то напугана или расстроена или у нее что-то болит. Но однажды тетя Люси позвонила мне и сказала:
– Ох, Ндаба, маме нехорошо. Она целую неделю пробыла в больнице, но потом ей дали таблетки и отпустили домой. Сказали, больше ничего не могут для нее сделать.
– Скажи ей, что я еду, – ответил я.
Я подумал, что это туберкулез. Или пневмония. Приехав к ней в Соуэто, я увидел, что она явно нездорова: ее душил непрекращающийся, изматывающий кашель. На висках и на лбу выступила странная белая сыпь.
– Я беспокоюсь за нее, – признался я Мандле. – Дела у нее совсем плохи.
– В бесплатной больнице Соуэто ее нормально не вылечат, – ответил он. – Надо отвезти ее в частную.
Мне эта мысль понравилась, и я тут же принялся искать подходящую больницу.
Мандла помог договориться, и мы перевезли ее в частную больницу недалеко от Хьютона, надеясь, что таким образом решим проблему. Я думал, что скоро она поправится и вернется домой, а пока я смогу навещать ее через день. Такой был у меня план.
Однажды в коридоре у палаты матери я спросил нового врача:
– Как вы думаете, как скоро она поправится?
Она непонимающе посмотрела на меня:
– Поправится? Ндаба, ты знаешь, что у твоей матери ВИЧ?
– Нет, – ответил я, и в тот момент в моей голове звучало одно только слово: «Нет, нет, нет!»
– Пневмоцистная пневмония спровоцирована грибком, – пояснила врач. – Это заболевание очень распространено – в возрасте трех-четырех лет ему подвержен практически каждый. Человек со здоровой иммунной системой даже не замечает, что грибок живет в его организме. Но люди с ВИЧ, как твоя мать…
ОНА ВСЕ ГОВОРИЛА И ГОВОРИЛА, НО ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ СЛИЛОСЬ В ОДНОРОДНЫЙ ШУМ ИЗ СЛОВ, ЦИФР И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, И Я ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЛСЯ ДЕРЖАТЬСЯ НА ПОДКАШИВАЮЩИХСЯ НОГАХ. В какой-то момент я просто отвернулся от нее и разрыдался. Потом вернулся в палату к матери и напустился на нее:
– Как ты могла не сказать мне об этом? Почему ты скрыла?
Она сидела на краешке стула, потупив глаза. Я видел, как ей стыдно и неловко и как вся эта ситуация тяжким грузом лежит на ее хрупких плечах. Пожалуй, это был один из самых печальных моментов в моей жизни.
Мама вернулась в Соуэто, но ей становилось все хуже. Я снова отвез ее в частную больницу, чтобы она была поближе к дому. Каждый раз, когда мне удавалось ее навестить, я сидел у ее постели, а позже вечером напивался, чтобы заснуть. Даже травка не помогала заглушить эту боль. Долгими часами мы просто сидели рядом молча – говорить было не о чем. Я мог лишь быть с ней, держать ее за руку; так шли недели за неделями. 13 июля 2003 года мамы не стало. Мне нелегко говорить об этом. Я лучше расскажу вам, чем закончилась сказка о зулусской женщине и щедрой реке.
Помните, как женщина попросила: «Река-река, верни мне ребенка, которого я давно потеряла», а река ответила: «Вырви свое сердце из груди и отдай мне». Так она и сделала: вырвала сердце и бросила в реку – и с той поры могла жить лишь в реке, там, где было ее сердце, а ее сын стал жить со своими тетками на берегу. Каждую ночь, когда бог реки засыпал, тетушки входили в реку вместе с ребенком, чтобы мать могла поиграть с ним, а став взрослым, он придумал, как ее спасти. Ребенок зулусской женщины, став мальчиком, а затем – мужчиной, собрал людей из деревни и вместе с ними пришел к реке. Он обвязал один конец веревки вокруг дерева, а второй – вокруг своей талии. Потом сказал друзьям: «Когда я обниму свою мать, тяните что есть силы!» Но речной бог услышал его и приревновал. Едва руки юноши сомкнулись вокруг матери, она обернулась серебристой форелью, выскользнула из его объятий и исчезла в бурном потоке.
Смерть матери потрясла меня до глубины души. Я испытывал всепоглощающую, опустошающую печаль. И еще гнев: в голове не укладывалось, что она утаила от меня что-то настолько важное. Другие, скорее всего, знали – врачи и медсестры в больнице Соуэто, мои тетки и друзья, – и никто не соизволил рассказать мне. Неужели они думали, что для меня будет лучше оставаться в неведении? Или надеялись, что я никогда не узнаю? В то время о ВИЧ и СПИДе говорили неохотно. Я невидящими глазами смотрел и смотрел на газетные статьи о смерти матери. В официальном пресс-релизе семьи говорилось, что она умерла от пневмонии. Неделю спустя мы с тетей Маки ужасно повздорили – она настаивала на том, чтобы отвезти Мбусо и Андиле на празднование Дня рождения деда. Мне это казалось неправильным, о чем я ей и сказал:
– Эти дети неделю назад потеряли мать! Какой может быть праздник?
– Но ведь все там будут, – ответила она. – Кто за ними присмотрит?
Она считала, что им это пойдет на пользу. Там будут Роберт де Ниро, куча журналистов. Люди не поймут, если детей не будет на Дне рождения Мадибы. В общем, мы препирались довольно долго, и в конце концов я проиграл. Она велела Мбусо и Андиле садиться в машину, и они послушались. Вся эта ситуация еще больше разозлила меня – я был в гневе на тетю Маки, на весь мир и на жизнь.
– Моя мать умерла, пока я был в тюрьме, – сказал дед, когда я помогал ему выйти из дома, чтобы устроиться в саду. – Однажды я вернулся с карьера, и мне вручили телеграмму от твоего отца. Мать умерла от сердечного приступа. Ее похоронами должен был заниматься я – единственный сын и ее старший ребенок. Но, конечно, мне не разрешили. Тогда я впервые усомнился в правильности выбранного пути и задумался о том, как непросто сложилась ее жизнь в результате моих решений.
На это мне нечего было ответить. По правде говоря, его слова совсем мне не помогли – уж лучше бы мы сидели молча. Тогда мне и в голову не пришло, что, возможно, он пытался сказать мне, что понимает, каким беспомощным я себя чувствую – ведь аура стыда и позора, окружающая ВИЧ и СПИД, так же непреодолима, как каменные стены и железные решетки. Мать умерла в 2003 году – спустя двадцать лет после того, как вирус иммунодефицита человека был впервые обнаружен, а мы – наша семья, страна и все мировое сообщество – не могли открыто говорить об обстоятельствах ее смерти. Эта аура позора была сильнее здравого смысла, сильнее правил приличия, сильнее любви. А я своими глазами видел, что она может убить человека не хуже, чем сама болезнь.
– Когда у человека умирает мать, он невольно переосмысливает всю свою жизнь, – сказал Старик.
И со временем – не сразу, но в течение следующего года – я понял, что он был прав. Каким-то образом среди всей этой неразберихи я вновь обрел свою Легенду. Словно собрались воедино кусочки мозаики: тот момент в «Диснейленде»; время, проведенное с отцом, на многое открывшее мне глаза; все, что я увидел и услышал за годы жизни с дедом. Тогда же мы с Квеку начали детально обсуждать структуру будущей организации Africa Rising[3] – двигателя нового поколения на базе культурного и социально-политического прогресса, запущенного Мадибой и его поколением.
– Мы хотим рассказать о росте значения Африки на мировой арене, – сказал я деду. – И поднять вопрос СПИДа. Мы должны туда поехать.
– Это непростая задача, – ответил он. – Против нас – все консервативное сообщество. Вспомни женщину, убитую несколько лет назад в Квазулу-Натал, – ее забили камнями собственные соседи, когда она призналась, что у нее ВИЧ.
– Я знаю. Я помню. И это не единичный случай. Я понимаю, почему люди боятся об этом говорить. И именно это мы должны изменить в первую очередь.
– Ндаба, я уже пытался. Весь 1991 год я ездил в Мпумалангу и общался с людьми. Я говорил родителям: «У нас эпидемия. Вы должны говорить со своими детьми о безопасном сексе, рассказывать им о контрацепции». Я говорил им, что их правительство и общество должны работать сообща, на благо собственных детей. Но по их лицам я видел: мои слова вызывают у них отвращение. Они были рассержены: «Как вы можете такое говорить? Вы пропагандируете детскую проституцию!» Директор школы в Блумфонтейне, человек с высшим образованием, сказала мне: «Мадиба, нельзя такое говорить! Так вы не победите на выборах!» – и я знал, что она права. А победить мне хотелось. Поэтому пришлось отступить, Ндаба. Но в 1999 году в своем последнем президентском обращении я сказал, что должны быть предприняты срочные меры. Повышение грамотности населения, снижение цен на АЗТ[4] – все это дорогостоящие мероприятия. Не стоит ждать их немедленного воплощения.
Я понимал, о чем говорит мой дед, и знал, что он сделал в этой области больше, чем кто-либо до него. Но этого было недостаточно.
– Ничего не изменится до тех пор, пока об этом запрещено говорить, дедушка. ЕСЛИ ЖЕНЩИНА НЕ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ СОСЕДЯМ О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ ИЗ СТРАХА ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ МАТЬ НЕ МОЖЕТ ПРИЗНАТЬСЯ СОБСТВЕННОМУ СЫНУ – НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. И я не могу с этим смириться.
Он слушал и кивал. Я продолжил учебу, поставив перед собой цель получить диплом. Я знал, что это – первый шаг ко всему остальному. И еще я знал, что Старик решился на борьбу с всеобщей политикой замалчивания и стигматизации, обеспечивающей столь благодатную почву для ВИЧ и СПИДа в Южной Африке.
В лето, последовавшее за смертью моей матери, случилось еще одно важное событие. Всего за несколько месяцев до этого внезапно скончался фронтмен группы The Clash Джо Страммер. Одним из последних его проектов стала работа с вокалистом U2 Боно над совместной записью песни «46664 («Долгая дорогая к свободе»)», посвященной моему деду. Эта композиция стала центральной в эпической серии концертов «46664», организованных для сбора средств и привлечения внимания мировой общественности к проблеме ВИЧ и СПИДа. Именно этот порядковый номер носил мой дед, когда отбывал заключение на острове Роббен: он стал 466-м заключенным 1964 года. Присвоив ему этот номер, его тюремщики решили, что он в их власти, но в 2003 году он вернул его себе, чтобы напомнить людям, что реальная власть в наших руках.
Отвечая на вопрос, связанный с организацией концертов, он сказал: «Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что мировое сообщество приняло достаточные меры для того, чтобы справиться с волной эпидемии».
Первый концерт цикла «46664» должен был состояться 29 ноября 2003 года в Кейптауне – за неделю до моего двадцать первого дня рождения. Все лето беспокойство во мне росло, а от состава участников все сильнее кружилась голова: Питер Гэбриел, Роберт Плант, Бейонсе, Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen, Анжелика Киджо, Ladysmith Black Mambazo, The Who, Ивонн Чака Чака и даже Госпел-хор Соуэто – специально для матушки Ксоли. Да о чем я говорю? Бейонсе! Я познакомлюсь с Бейонсе!
В день открытия Старик поднялся на сцену стадиона Кейптауна и выступил перед 18 000 зрителей и многомиллионной аудиторией, прильнувшей к экранам по всему миру.
– Когда напишут историю нашего времени, запомнят ли нас как поколение, игнорирующее мировую угрозу, или же как поколение, сделавшее правильный выбор? – сказал он. – Нам нужно забыть о разногласиях и объединить усилия, чтобы спасти наших людей.
Это был великий момент. И Бейонсе была там. А я – нет. Все потому, что всего за несколько недель до этого, перед моим двадцать первым днем рождения, отец снова поднял вопрос о моем «восхождении в горы». И на этот раз Старик ответил: «Да. Он готов». И я поехал.
9 UKWALUKA «Восхождение в горы»
От побережья Восточно-Капской провинции до Куну дорога занимает около часа. Это было любимое место Мадибы, с которым были связаны его самые светлые детские воспоминания. Мы ездили туда каждый декабрь, в дом, который был точной копией того, в котором он жил, будучи заключенным, и с годами я тоже к нему привязался. Крутые холмы весной зарастали изумрудно-зеленой травой, которая становилась ярко-янтарной и коричневой под палящим летним солнцем. На горизонте, от деревни до далеких гор, простирались долины из обнаженной горной породы, булыжников и крутых каменистых выступов. Сама деревня представляла собой живописную россыпь маленьких кирпичных домиков и рондавелей – практичных круглых хижин с соломенной или металлической крышей. (Я с нетерпением жду моду на рондавели – уверен, что скоро они сменят «микродома».) На самой окраине деревни находится кладбище, где похоронены мои прадед и прабабушка и другие члены семьи.
Всю нашу живописную поездку дед показывал свои любимые «достопримечательности»:
– Видишь вон те плоские скалы? В детстве мы скатывались по ним. Катались до тех пор, пока ягодицы не покрывались ссадинами, и мы больше не могли подняться. А вон там все пространство занимали пашни.
Далее виднелось поле, где осел сбросил его прямо в терновый куст, а еще дальше – ручей, где они с друзьями плавали и ловили рыбу. Это была сельская местность, повсюду, куда хватало глаз, лежали фермы и молочные хозяйства, и нам то и дело приходилось останавливаться, чтобы пропустить стадо коров. В эти моменты Старик рассказывал нам о том, как пил теплое молоко прямо из-под вымени, и о тесной связи народа коса со скотоводством, лежавшим в основе его экономики и кормившим его в течение многих поколений. В детстве он серьезно относился к своей обязанности ухаживать за домашним скотом, но, как и пастух Сантьяго из «Алхимика», знал, что однажды ему придется их покинуть.
В Куну до сих пор рассказывают историю о белом парне, у которого заглох мотоцикл, как раз когда он проезжал мимо деревни по бескрайним крутым холмам. В деревне это было самое настоящие событие, и все дети сбежались посмотреть. Один мальчик вышел из толпы и спросил:
– Вам помочь?
– Ты говоришь по-английски?! – удивленно и обрадованно воскликнул мотоциклист. Вскоре мотоцикл починили. Мотоциклист поблагодарил мальчика и дал ему три пенни.
– Спасибо, – ответил мальчик. – Я дам по одной монетке своим сестрам и одну отдам на школьные сборы.
– Как тебя зовут?
– Нельсон.
Проще говоря, он назвался мотоциклисту тем именем, которое ему дали в школе, но при рождении его назвали Ролихлахла, что означает «проказник», а дословно – «срывающий ветки дерева». Мне нравится это имя – оно идеально подходит моему деду, как и его «мужское» имя – Далибхунга («тот, кто начинает диалог»). Это имя дали ему при обрезании.
Я С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛ, КОГДА ПОЛУЧУ СВОЕ «МУЖСКОЕ» ИМЯ – ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЛО БЫ, ЧТО САМОЕ СТРАШНОЕ ПОЗАДИ. Я был благодарен Мадибе за его слова о том, что я готов к «восхождению в горы», но должен признать, что по дороге туда снова начал волноваться. Уквалука – серьезное испытание храбрости и весьма противоречивый обряд. Каждый год мы слышим о все новых несчастных случаях, в результате которых посвящаемые остаются калеками, лишаются гениталий или даже умирают от осложнений и инфекции. Был период, когда правительство пыталось вмешаться в процесс обрезания и даже назначило зарплату людям, обладавшим необходимыми навыками для проведения этой процедуры. Однако это развязало руки шарлатанам – людям, не имевшим должной подготовки, но получившим государственный сертификат и занимавшимся этим ради денег, без всякого уважения к традиции. Это привело к новой череде несчастных случаев, в результате которых умерли сотни посвящаемых, а многие остались калеками и покончили жизнь самоубийством.
Даже при соблюдении всех мер предосторожности ситуация может выйти из-под контроля, а посвящаемые находятся в сельской местности, без возможности оказания медицинской помощи. У одного из посвящаемых из группы Мбусо через несколько дней после обрезания началась дыхательная недостаточность. Я был на машине, и меня попросили немедленно отвезти мальчика в больницу. Я гнал на полной скорости, но было уже поздно. Пока я добрался до клиники в Идутвайя, он умер на заднем сиденье моей машины. Мне было ужасно жаль его семью. Этот случай потряс меня до глубины души. В тот момент я понял: дед притормозил мое посвящение не чтобы меня наказать, а чтобы уберечь. Такие вещи не терпят легкомысленного и бездумного подхода. Посвящаемый должен быть готов к тому, что его ждет, и его должны сопровождать его ханки – защитники, которые будут вместе с ним на протяжении всего обряда. В течение всего ритуала, который длится месяц, посвящаемый (по-другому его называют «абахватха») проходит суровые физические и психологические испытания.
В конце ноября я сдал экзамены и вместе с отцом и Мандлой отправился в местность, которая находилась в 30 километрах от нашего дома в Куну, рядом с Идутвайей. Кроме отца и Мандлы со мной был двоюродный брат деда, Зуко Дани, – во время ритуала должен присутствовать пожилой человек, который знаком с его подробностями и будет направлять тебя на каждой стадии. Мадиба снабдил нас ритуальным покрывалом, двумя бутылками бренди и деньгами для ингсиби – человека, который проводит обрезание. Я уже был у врача, который осмотрел мой половой орган и заключил, что я здоров и готов к «восхождению в горы». Разумеется, горы эти не настоящие, а просто метафора. Моя группа – около двадцати посвящаемых – собралась в глухой деревне на склоне холма. Я был рад, что мои кузены отправились со мной. Если вы член королевского рода, по традиции вас должны сопровождать двоюродные братья – юноши примерно вашего возраста, чье присутствие необходимо для создания атмосферы товарищества, придания храбрости и силы, а также для моральной поддержки.
Итак, на рассвете мы выходим из Куну и идем в место, где должен проводиться ритуал обрезания. Там нам предстоит провести три недели, а после – вернуться в деревню уже мужчинами. Мы подходим к краалю, где нас уже ждет ингсиби, который будет проводить ритуал. Лишь в этот момент я понимаю: сейчас начнется самое страшное!
– Раздевайтесь.
Ладно. Мы скидываем одежду, как змеи – шкуру, превращаясь в нечто первобытное и первозданное. Мне велено сесть на камень, пока мудрый старец, который будет с нами на протяжении всего ритуала, расскажет, что нас ждет и чего ждут от нас. Он ведет нас в крааль (это помещение, куда на ночь загоняют скот). Я вхожу босиком по полу из земли и коровьего навоза и сажусь на камень, изо всех сил стараясь сохранять ледяное спокойствие и слушая, как старец идет вдоль ряда посвящаемых ко мне, вместе со своим помощником, который несет ассегаи – заостренные копья, используемые в ритуале. Их несколько – свежее лезвие для каждого посвящаемого. Сердце бешено колотится в моей груди. Я пытаюсь умерить дыхание, как учил меня Старик, развожу в стороны колени, согнутые под прямым углом.
Ингсиби становится в ритуальную позу.
– Смотри на восток!
Я поворачиваюсь к востоку. Чувствую обжигающее прикосновение лезвия. Холодный озноб пробегает по спине, за ним – волна жара и адреналина. Я невольно закашливаюсь, а потом, повернувшись к западу, кричу:
– Ndiyindoda! Ndiyindoda! Ndiyindoda!
Ингсиби переходит к следующему посвящаемому, оставив меня в ослепляющем облаке боли, какой я никогда не испытывал прежде и к какой совершенно не был готов.
Я – мужчина.
В краале царит удушающая жара, но меня бьет озноб – естественная реакция тела на шок.
Я – мужчина.
Я как канатоходец – не смею смотреть вниз, но должен. Наконец я вижу, как с моего мужского достоинства капает кровь.
Я – мужчина.
Закончив ритуал с последним парнем, ингсиби моет руки. Потом подходит ко мне с каким-то растением и клочком козлиной шкуры. Он обматывает шкуру вокруг раны, наподобие бинта. Кто-то кладет мне на плечи покрывало. Хижина с конусовидной крышей под названием «ибома» специально предназначена для проживания посвященных во время оставшейся части ритуала. Весь участок вокруг нее выложен тернистыми ветками, кроме узкой тропинки, ведущей к входной двери. Кто-то ведет меня к ибоме, и я робко сажусь, пытаясь успокоить дыхание. Кроме повязки на члене и вокруг талии, на мне ничего нет. В этот переходный период я не юноша и не мужчина; я – животное. Мы все животные. И Бог – животное.
В первый день говорим мы мало, лишь ходим по комнате и представляемся, называя клановое имя и место, откуда приехали. Когда приходит мой черед, я говорю:
– Madiba. Yem-Yem uSpicho, Vele-bam-bestele. Igama lam lesfana ngu-Ndaba (Меня зовут Ндаба). Ndisuka eQunu (Я из Куну.) Inkosiyam ngu-Nokwanele (Моего вождя зовут Нокванеле.)
Я внимательно слушаю, пытаясь запомнить имена всех парней, собравшихся в круг. Ближайшие семь дней я проведу вместе с остальными посвященными в ибоме. По понятным причинам нам не дают ни воды, ни какой-либо другой жидкости – только жесткую кашу из вареной кукурузы. Спим прямо на земле, подстелив одеяло, при этом нельзя ложиться ни на бок, ни на спину с выпрямленными ногами – только с согнутыми в коленях. Мне снятся странные сны, и я часто просыпаюсь, потому что любое движение отдается жуткой болью в животе. Я лежу на земле и думаю: «Это ад. Отец, должно быть, ненавидит меня, если подверг этой пытке. Как они смеют проделывать такое со мной? Это же безумие!»
На второй день кто-то приходит и показывает нам, как обернуть рану свежими листьями под названием «исикве». Их обратная сторона покрыта мелким ворсом, который прилипает к ране, так что можете себе представить, что отодрать и заменить новыми – задача не из легких. Каждый дюйм – агония, а через несколько минут нужно накладывать новый лист. Жуть! К тому же нам говорят, что мы должны проводить эту процедуру несколько раз в день, как бы ни было больно, а это просто невероятно больно. Так продолжается несколько недель, пока рана полностью не затягивается.
На следующий день мы обмазываем лица и тела глиной и сидим в ибоме, как призраки. Живот уже ноет от голода. Я радуюсь, увидев, что в кукурузную кашу добавили немного амаси, но меня мучает жажда, и рот как будто превратился в старый башмак. Жажда сводит меня с ума, но я говорю себе: «Не думай о воде. Не думай о воде. Не думай о Бейонсе. Не думай о надкусанном ухе Холифилда, или о танцевальных движениях Пи Дидди, или о красивой попке мисс Динамит из Лондона».
На седьмой день я так ослаб от голода и жажды, что едва нахожу в себе силы, чтобы обмазаться глиной, которая защитит мою кожу, когда я выйду наружу, и в то же время я уже готов вырваться из этой хижины. Я чувствую запах жареной козлятины. Ничего мне так не хочется, как съесть хотя бы кусочек. И попить. В этом первом глотке холодной воды заключено все – благодать, жизнь, смелость, Бог, но нам говорят: «Не пейте слишком много! Помните, что вода должна выходить, а вы знаете, что это означает. Боль!»
На вторую неделю нам разрешают выпить алкоголь и немного покурить, что приносит огромное облегчение. За это нужно платить, поэтому ханки – старейшины, присматривающие за посвященными, – приносят деньги.
В течение следующих недель мы обмазываемся белой глиной каждое утро перед выходом из ибомы. Это здорово – гулять в зарослях, дышать свежим воздухом, срезать хворост мачете. Еще мы собираем листья, чтобы накладывать их на раны – делать это нужно регулярно, но уже не так часто, потому что раны затягиваются удивительно быстро. Мы гуляем, разговариваем о доме, о школе, о женщинах. Наступает момент, когда нас должен «ударить ветер», то есть мы должны раздеться, а ветер… Впрочем, эта информация вам ни к чему. Это своего рода терапия, скажем так.
Со стороны может показаться, что парни, выросшие на компьютерных играх, умрут со скуки, сидя днями напролет в хижине, но это не так, во всяком случае для меня. Недели сменяют друг друга, и мы слышим песни о мужестве, о жизни, о женщинах. Среди этих песен есть одна о письме возлюбленному, которая называется «Isipringi Sebhedi» («Пружины кровати») – о женщинах и девушках, в которой такие слова: «Эта женщина меня погубит, я люблю ее, она так прекрасна» и так далее. Мы учим своего рода тайный язык – по-другому называем стул, еду, воду и все остальное – и слушаем легенды о предках. ПРОХОДЯТ ДНИ, И ВОЗДУХ В ХИЖИНЕ УЖЕ НЕ ПОДДАЕТСЯ НИКАКОМУ ОПИСАНИЮ, ПОТОМУ ЧТО В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ НАХОДЯТСЯ ДВАДЦАТЬ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПОМЫТЬСЯ.
Через три недели мы идем к реке, чтобы искупаться, все вместе, завернувшись в покрывала, с палками, мылом и известняком. Мы трем известняк о речные камни, пока не образуется вязкая белая паста, которой мы обмазываемся с головы до ног, покрывая темную кожу. В таком виде мы проводим последние три дня, а затем ритуал переходит на новый уровень. Мы возвращаемся в свою деревню – я и еще двое парней из моего клана – и на следующий вечер танцуем со своими сестрами. Представьте себе: ты совершенно голый, не считая простынки, обмотанной вокруг талии, и при этом тебе нужно танцевать, держа палку над головой. Сестры, братья и кузены приходят с иголками и периодически тычут в тебя. Понятия не имею, зачем это нужно. Если как следует напрячься, можно усмотреть во всем этом какой-то символизм, но в тот момент ты думаешь лишь о том, как увернуться от иголок. Танцуешь, пока не выбьешься из сил и весь не вспотеешь, а когда устают девушки, то они уходят.
В последнюю ночь – грандиозное празднество с множеством яств, бренди и традиционным пивом, которое мы готовим сами и пьем из глиняных или оловянных кружек. Нужно сделать глоток и передать дальше. К тому моменту обо мне уже знали все парни деревни, и я то и дело слышал: «Эй, смотрите, вон те парни вернулись, и один из них – Мандела!» Разумеется, всем хочется увидеть рану своими глазами, чтобы убедиться, что все было по-настоящему. Порезы бывают разные – маленькие, средние и «величиной с мешок» (вольный перевод традиционных названий) – и им хочется посмотреть, какой у тебя. А что еще делать? Приходится показывать, и они приходят в восторг. Один парень так воодушевляется, что показывает мне свою рану.
– Да, у тебя хорошая, – говорит он. – Видишь, я прошел обряд семь лет назад, и она не затянулась как следует.
Теперь к тебе относятся с уважением: ты заслужил право называться мужчиной. Ты чувствуешь себя мужчиной. Железным человеком! Неприкосновенным. Богом. Ты заставил семью гордиться собой. Передай кружку! В первое время ощущается такой невероятный прилив силы, что некоторые парни совершенно перестают слушать родителей и становятся настоящей проблемой для своей семьи. Вот почему так важно проводить долгие беседы в конце ритуала. Наши старшие родственники – главы семейств, дядья, старшие братья и кузены – приходят нас навестить. Они делятся с нами мудростью и учат традициям и обычаям, напоминая о том, что наш долг – передать эти знания своим детям. Они говорят, что мы должны уважать матерей и теток, потому что настоящий мужчина уважает свою мать. Настоящий мужчина помогает по дому и делает все, чтобы его семья была счастливой. Настоящий мужчина приносит пользу в доме и в обществе. Он обладает силой и использует ее, чтобы сделать мир вокруг лучше.
– Теперь ты мужчина, – говорит Мадиба. Он сидит в своем кресле, всем своим видом выражая радость и волнение. – Ты должен понимать, что стал одним из мужчин нашего дома. Твоя обязанность – заботиться о доме, женщинах и детях. Делать все, чтобы семья тобой гордилась. Мы из королевского дома Тембу. Мы – четвертый дом. Наша роль – советники.
Он долго наставляет меня, говорит, что я не должен забывать о предках и знать свои корни. Уважать место, где я родился. Признать свою природу. Он рассказывает о том, как сам проходил «восхождение в горы», и мы обмениваемся впечатлениями.
– В то время, – говорит Старик, – часть ритуала заключалась в том, чтобы украсть свинью, забить ее и съесть за ночь до входа в хижину. Эта свинья принадлежала одному из жителей деревни, но мы делали то, что было велено и как велел ритуал. Я выманил свинью из крааля, положив немного еды в банку из-под пива. Когда она вышла поесть, мы схватили ее. Потом вырыли яму рядом с ибомой и зажарили ее. Съев свинью, мы готовы были поститься целую неделю.
Последний этап уквалука называется «переход через реку». Нужно войти в воду и соскрести с тела белую глину, а потом чистым и завернутым в покрывало (которое называется «и-рагги») встретить свою семью. Свою одежду ты не можешь надевать, пока не закончится ритуал и ты не будешь готов к тому, чтобы жить среди них как мужчина.
Наша семья с гордостью отмечала это событие – празднования длились все выходные. Родственники, деды и бабушки, тети и дяди подбадривали меня и желали мудрости мне и моим кузенам. Когда все сели за большой обеденный стол, дед спросил:
– Ты в порядке, Ндаба? Хорошо себя чувствуешь? – Я удивился тому, что он обратился ко мне на языке коса – мы почти не говорили на нем, всегда разговаривали по-английски. Но в этот раз он заговорил на коса в знак того, что теперь я стал мужчиной.
– Да, дедушка, я в порядке.
– Хорошо, хорошо. Теперь ты мужчина, Ндаба. Молодец.
– Спасибо, дедушка.
– Ндаба, что ты думаешь о коровах? – спросил он. – Ты знаешь, сколько их у нас? Ты теперь взрослый и должен быть в курсе дел фермы.
– Да, дедушка, я буду.
Я почувствовал себя взрослее, мудрее и даже как будто чуточку выше. Мы танцевали, пили, снова танцевали, ели, снова пили, а потом опять танцевали. Затем мы отправились в деревню, чтобы встретиться с другими мужчинами – старыми и молодыми, чтобы выпить еще у кого-нибудь в гостях. Все были счастливы нас видеть. Мадиба радовался этой возможности провести время со своим народом.
На следующее утро Старик попросил меня принести ему газеты. И я снова удивился: обычно газеты приносил кто-нибудь из охраны, а если я оказывался рядом, он меня просил сесть. Теперь же все было по-новому. Мы делали это вместе. Я принес газеты, мы прочли их от корки до корки, обсудили новости и проблемы. Вместо того чтобы скармливать мне кусочки новостей, как наседка кормит своих птенцов, он позволил мне переварить их самостоятельно и спросил мое мнение. Он ждал от меня критического мышления и был рад, когда я вежливо возражал, а не повторял заученные мысли или молча кивал. Теперь, вспоминая это время, я понимаю, что именно тогда наши отношения перешли на новый уровень. С САМОГО ДЕТСТВА Я ЗНАЛ, ЧТО МОГУ НА НЕГО ПОЛОЖИТЬСЯ. ТЕПЕРЬ ЖЕ Я ПОНЯЛ, ЧТО МОГУ ПОЛОЖИТЬСЯ И НА САМОГО СЕБЯ. Трудно – и невозможно всего в нескольких словах – передать всю глубину и широту ритуала, длящегося несколько недель. В эти недели ты ощущаешь связь с предками и наследием собственного народа. Кто ты? Из какого рода? Из какой деревни? Твой долг – чтить кодекс своего народа и выдержать испытание болью как мужчина. Только тогда ты понимаешь, кто ты с культурной точки зрения, и это придает тебе сил и уверенности в себе.
Французский палеонтолог и священник-иезуит Пьер Тейяр де Шарден сказал: «Мы – не люди, порой переживающие духовный опыт, но духовные существа, переживающие опыт человеческого бытия». Перейдя реку, я испытал то и другое в совокупности. По сути, я был и животным, и духом одновременно. Обретя связь с предками, я, в свою очередь, стал для них проводником и связью с будущим.
При рождении меня нарекли Тембекиле – «тот, кому доверяют».
После ритуала мужества у меня появилось имя Звелийика – «мир меняется».
10 INDLU ENKULU IFUNA «Хорошему дому нужна крепкая метла»
Одной из самых странных историй, что я слышал подростком, была История о пророчестве Нонгкавусе. В ней молодая девушка, вернувшись однажды с реки, говорит народу своей деревни: «Явились мне двое предков и сказали, что все мертвые снова восстанут». Люди обрадовались: всем очень хотелось снова увидеть своих близких. Но девушка продолжила: чтобы этот Великий день наступил, люди должны забить весь скот, выкопать посевы и вообще все разрушить и перестроить – хижины, краали и так далее. Люди отвечали: «Ну мы на такое не согласны!» – но многие из них все-таки купились и стали уговаривать других. Даже король и большинство вождей поверили, что их мертвые предки выйдут из моря и приведут с собой новых коров, овец и кур, а самое главное – прогонят белых захватчиков. Они верили в золотой век, в котором больше не будет болезней и горестей. И вот они забили свой скот, и когда наступил Великий день, а армия предков из моря так и не вышла, вместо того чтобы подумать: «Эх, зря мы все это затеяли», – они обвинили неверующих – тех, кто отказался забивать скот. Многих неверующих вместе с их скотом убили, а фермы, которые они защищали, разорили. В деревне воцарились голод и отчаяние. Погибло около сорока тысяч человек из племени коса.
Самое странное в этой истории – это то, что она произошла на самом деле. Погуглите «Нонгкавусе», и вы увидите тревожное лицо той самой девушки, которая в 1856 году привела народ коса в буквальном смысле к самоубийству. Эта катастрофа до сих пор окутана ореолом тайн и вопросов, самый важный из которых – «Почему?». Хотя, наверное, этот вопрос всегда самый важный.
Если взглянуть сквозь века через призму политической истории, можно увидеть множество подобных событий по всему миру. Эти события объединены рядом общих черт: намеренная слепота общества, замаскированная под религиозное рвение. НЕНАВИСТЬ, уже существовавшая на определенном уровне, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ОРУЖИЕ. И, РАЗУМЕЕТСЯ, ИСТИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВСЕХ ЭТИХ СОБЫТИЙ – ТОТ, КТО ИЗВЛЕКАЕТ ИЗ ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ ВЫГОДУ В ВИДЕ ВЛАСТИ ИЛИ ДЕНЕГ или того и другого. В случае с массовым забоем скота, спровоцированным пророчеством Нонгкавусе, правительство ответило на голод «программой вербовки», в рамках которой голодающим людям предлагали продаться в рабство. В случае с американскими салемскими ведьмами – богатые соседи отняли землю у пожилых женщин, которых подвергли пыткам и убили. Если же говорить о пандемии СПИДа, то ее усугубило такое сочетание факторов, как борьба за власть, конкуренция фармацевтических компаний, религиозный консерватизм, расизм, гомофобия, невежество и упрямое безразличие. Если вы ищете короткую, но цепляющую книгу о том, как началась эпидемия, прочтите «А оркестр продолжал играть» Рэнди Шилтса. Ее название – это отсылка к оркестру, игравшему на борту «Титаника», который затонул вместе с большей частью своих пассажиров.
Не мне судить жителей ЮАР и других стран, которые предпочли так долго отрицать суровую реальность СПИДа: я сам был одним из них. Когда умирала моя мать, я всеми силами противился мысли о том, что у нее ВИЧ, пока меня в буквальном смысле не ткнули носом в действительность. Но даже после этого я отказывался делать очевидные выводы из ухудшения самочувствия моего отца. Я знал, что он периодически ложится в больницу, сам не раз отвозил его туда, но убеждал себя: «Что тут такого? Все люди болеют». Выйдя из больницы, он возвращался к работе. Я учился, и все мои мысли были заняты образованием.
Спустя год после моего «восхождения в горы» я получил квартиру рядом с Университетом Претории. Все выходные я проводил с дедом, и в течение недели то и дело заглядывал к нему на обед, на ужин или просто проведать. Мне наконец разрешили пригласить девушку на ужин. Когда мы сели за стол, Старик сказал: «Ну что, юная леди, вы уже сделали предложение моему внуку?» Похоже, это была его коронная шутка – он любил ее повторять, и его немало веселило выражение лиц присутствующих.
Мне нравилось, что наши с дедом отношения стали проще, но его возраст давал о себе знать. Он неукоснительно следовал ежедневному распорядку: рано просыпался, гулял и делал зарядку, завтракал, читал газеты. Но теперь, вместо того чтобы отправиться к себе в кабинет, он садился в гостиной и частенько просто дремал. Ему нравилось, когда за обеденным столом собирались гости, а после обеда он, как правило, смотрел по телевизору канал National Geographic или спортивные передачи, пока не приходило время вечернего чаепития, на которое часто приглашались гости. Иногда он выступал на публике, но теперь эти выступления изматывали его, к чему я оказался не готов. По правде говоря, его здоровье волновало меня куда больше, чем здоровье отца. Они с дедом периодически встречались, но Старик никогда не высказывал мне своих опасений. Хотя я помню, как однажды, когда мы сидели за столом, он вдруг рассказал мне о том, как умер его отец.
– Мне было девять лет. Отец проводил с каждой из своих жен по неделе: четыре жены – четыре недели; так что к нам он приходил раз в месяц. А в тот день он пришел к моей матери вне «расписания». Вернувшись домой, я увидел его в ужасном состоянии – он все кашлял, кашлял, кашлял. Отец пробыл с нами несколько дней. Потом пришла его младшая жена, чтобы помочь моей матери ухаживать за ним. Однажды вечером он попросил принести свою трубку, а мать не хотела ему ее давать. Она сказала: «Нет. У него, скорее всего, какая-то болезнь легких. Курить ему нельзя». Думаю, она была права, но отец не обращался к врачу – он к этому не привык. Он все просил и просил свою трубку, даже кричал: «Принесите мою трубку!» Никто в доме не спал – его состояние все ухудшалось. Наконец младшая жена набила трубку табаком и принесла ему. Закурив, он успокоился. Потом покурил еще немного. Так и умер – с зажженной трубкой в руках. Я помню этот запах табака в воздухе.
Я слушал его и не понимал, зачем он вдруг решил мне об этом рассказать. Тогда я не придал этому особого значения – Старик постоянно рассказывал истории.
– Когда умер мой отец, – сказал он, – я не был готов к такому горю.
– Да разве ты мог быть готовым, дед? Ведь ты был еще совсем мальчишкой!
– Даже повзрослев, я искал его внутри себя.
Я посмотрел на часы:
– Дед, мне пора в университет.
– Да-да, хорошо. – Он встал, чтобы проводить меня до двери. – Я очень горжусь тобой, Ндаба. И твой отец тоже тобой очень гордится.
Уже на полпути к машине я обернулся и крикнул ему «Пока!». У меня были свои дела – меня ждали люди, экзамены, каникулы. Я жил насыщенной жизнью студента, который, наконец, нашел свой путь и летел к цели на всех парах. Время шло, и я стал замечать, что отец начал терять в весе. Его худоба приобрела болезненный вид, а я продолжал твердить себе, что это нормально. Он все повторял:
– Я в порядке, не переживай, все будет хорошо.
В декабре 2004 года отца положили в больницу, и тогда стало ясно, что добром это не кончится. Мандле наконец надоело мое нежелание принимать действительность.
– У отца СПИД, – прямо сказал он. – Это он заразил твою мать. Как еще, по-твоему, она могла его подцепить?
Я не мог поверить, что стою в коридоре той самой больницы и отчаянно сглатываю тот же ком в горле, что ощущал, когда два года назад врач сообщил мне о болезни матери. Я не был готов к этому ни тогда, ни теперь и был совершенно раздавлен. Я был зол – на людей за то, что они скрывали от меня правду; на себя самого, что не догадался. Мне хватало мозгов, чтобы сделать выводы, – я просто не хотел в это верить. Я ПРЕДПОЧЕЛ СЛЕПОТУ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ОН УМЕР. Я НЕ БЫЛ ГОТОВ СНОВА ПОГРУЗИТЬСЯ В ЭТО МОРЕ СКОРБИ.
Но самое главное – я не был готов снова жить во лжи. Я знал, что специалисты по коммуникациям снова насядут на нас, заставляя говорить заученные фразы, требуя от общественности оставить нас в покое в эту минуту скорби, отметая грязные слухи. К черту их всех! Меня беспокоили только Мбусо и Андиле. Им тогда было двенадцать и девять. Пока отец умирал, я сделал еще одно тяжелое открытие: тетя Маки уже давно знала о том, что у отца ВИЧ, и предпочла не говорить об этом остальным членам семьи. Я ощутил тот же прилив ярости, что и тогда, когда узнал, что мать скрывала от меня правду. Я все повторял:
– Так нельзя. Нужно сказать Мбусо и Андиле.
– Нет, – отвечала она. – Они не должны узнать.
– Тетушка, но ведь об этом расскажут на международном телевидении. Даже если мы не позволим им смотреть, другие дети в школе… Они ведь как зверята. Это не их вина. Они просто повторяют то, что слышат дома.
– Они еще маленькие. Они не поймут.
– Именно поэтому те, кому они небезразличны, должны усадить их рядом и все объяснить! Ты можешь сказать, что это пневмония – выдумать все, что угодно, привести любые доводы, но люди все равно продолжат копаться и домысливать. Люди не дураки. И если ты продолжишь все отрицать, то, значит, и ты причастна к стигматизации, которая в том числе тоже убивает его.
– Вот только не надо перекладывать вину на меня! Я делаю все во благо семьи. Тебе не кажется, что эта семья достаточно дала людям? Что она уже настрадалась? Теперь мы еще должны брать на себя ответственность за весь мир?
Разговор зашел в тупик: мы оба испытывали опустошение и печаль и повторяли одни и те же доводы. Всем было тяжело. Ощущение безнадеги не покидало. Я вот-вот потеряю отца, Мадиба – сына, тетя Маки – брата. Наши сердца разрывались от боли, и нам было трудно достучаться друг до друга. Любое возражение приводило к бесконечным спорам. Наш народ привык к патриархату. Мой дед должен был сказать нам, о чем можно и о чем нельзя говорить, и, хотя он и выступал в первых рядах за просвещение по вопросу СПИДа/ВИЧ и привлечение средств на его лечение, казалось, что требование об откровенности распространялось на все семьи, кроме Мандела. Я понял это, когда умерла мать, и не ждал, что теперь ситуация изменится. И хотя я не всегда соглашался со Стариком, я доверился ему: он знает, как лучше для семьи. Он во второй раз переживал этот ужас – потерю сына, – и я готов был его поддержать.
В конце декабря весь свой двадцать второй день рождения я просидел с отцом, пытаясь улыбаться и болтать с ним. Он хрипел, был вялым и отчаянно боролся с желанием заснуть. Я пытался отогнать воспоминания о том, как вот так же когда-то сидел с матерью.
У народа коса есть поверье, что, когда человек умирает, его дух еще какое-то время витает в комнате. В какие-то моменты он лежал так тихо, почти не дыша, что непонятно было, внутри ли еще его дух или уже почти покинул хрупкое тело. В тот последний месяц Старик подолгу бывал в больнице. Иногда я слышал, как они тихо беседуют, даже смеются, но большую часть времени мне казалось, что они просто сидят в тишине.
Мой отец Макгато Леваника Мандела умер 6 января 2005 года. В то время он был одним из 5 миллионов ВИЧ-инфицированных южноафриканцев, из которых 1,6 миллиона человек уже умерли.
Когда мы вышли из больницы и пошли к машине, мне показалось, что дед постарел лет на сорок. Он шел нетвердой походкой, ссутулив плечи и тяжело опираясь на трость. К нам хлынула волна репортеров и папарацци, выкрикивая вопросы, а мы пытались усадить Мадибу в машину. Старик на мгновение повернулся к ним, в глазах у него застыли слезы. Дрожащим голосом он сказал:
– Мой сын был профессиональным адвокатом и был допущен к этой профессии Председателем суда этой провинции, а это большая честь. Больше мне нечего сказать.
В тот вечер вся наша семья собралась в хьютонском доме. Мадиба созвал пресс-конференцию и хотел, чтобы мы все на ней присутствовали. Никто не скрывал эмоций. У всех было свое мнение о том, что нужно говорить. Я даже не смотрел, кто выступает. Все это я уже слышал.
– Это никого не касается, это личное дело нашей семьи.
Я уже знал, на какие умственные ухищрения способны люди, лишь бы избежать неудобной правды.
– От ВИЧ не умирают. Он просто ослабляет организм. СПИД убивает иммунную систему.
– И правда. Убивает человека пневмония. Или туберкулез. Можно сказать, что он умер от туберкулеза.
– Нет! – гаркнул Старик, и все смолкли.
– Мы не будем этого говорить. Мы скажем, что он умер от СПИДа. Хватит ходить вокруг да около. Нужно бороться со стигматизацией, а не идти у нее на поводу. Нужно говорить о СПИДе, а не скрывать его. Потому что единственный способ сделать его в глазах общественности обычной болезнью – как туберкулез, как рак – это просто выйти к народу и сказать о нем. Кто-то умер от ВИЧ. Если мы откажемся говорить об этом, люди никогда не перестанут относиться к нему как к чему-то необычному.
В саду на заднем дворе уже собрались репортеры – они настраивали камеры и устанавливали микрофоны на кофейном столике, который вместе с двумя стульями установили рядом с живой изгородью. Над бледно-розовыми кустами жужжали пчелы, и Мадиба нетерпеливо отмахнулся от одной из них, когда Граса помогала ему сесть в кресло, а затем сама села рядом. Мы с братьями стали позади Мадибы, а остальная семья собралась вокруг нас – единым фронтом, с достоинством, устремив взгляд вперед и крепко сжав челюсти. В голове у меня звенело от жужжания пчел и щелканья камер. В тот момент меньше всего на свете мне хотелось там находиться. Я нервничал и в то же время был рад тому, что мои родные рядом. Успокаивало то, что я знал: мы поступаем правильно. Теперь я смогу открыто говорить об отце, не чувствуя себя трусом.
На лице деда застыла печаль, но в остальном он почти не проявлял эмоций. Говорил твердо и сдержанно, как и всегда. Сначала рассказал о «46664» и деятельности Фонда Нельсона Манделы. Потом сказал:
– Когда три года назад я начал эту кампанию, то понятия не имел, что она коснется и члена моей семьи. В основе ее лежал принцип открытости: мы не должны скрывать причину смерти нашего родственника. Это единственный способ привить людям мысль о том, что ВИЧ – это обычная болезнь. Именно поэтому мы пригласили вас сегодня: чтобы объявить, что мой сын умер от СПИДа. Было бы нечестно, если бы мы сами не могли открыто сказать: «Член моей семьи умер от СПИДа». Вот почему мы решили взять инициативу в свои руки и рассказать о смерти члена нашей семьи, а именно, моего сына.
Практически мгновенно волна реакции захлестнула интернет и телевидение. Сын Нельсона Манделы умер от СПИДа. Невозможно было открыть газету или включить телевизор и не столкнуться нос к носу с тем фактом, что в нашей стране – эпидемия этой болезни. Мадиба гордился своим сыном – адвокатом Макгато Леваникой Манделой. Он не испытывал стыда и не хотел поощрять стыд в других людях. И это многое меняло. Если вы читаете это, значит, мир изменился – может быть, это происходит недостаточно быстро, но определенные подвижки есть. ЭТО БЫЛ ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ: ВПЕРВЫЕ ЗНАМЕНИТАЯ ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ СЕМЬЯ ОТКРЫТО ПРИЗНАЛА, ЧТО ОДИН ИЗ ЕЕ ЧЛЕНОВ УМЕР ОТ СПИДА. Невозможно переоценить значение этого факта для миллионов людей, боявшихся обратиться за помощью или признаться в том, что они ВИЧ-инфицированы, для них самих и для миллионов их близких.
Мы отвезли отца в Куну и похоронили там со всеми сопутствующими ритуалами и традициями нашего народа. На похоронах я стоически сидел между Грасой и тетей Маки, испытывая физическую боль от потери и твердя про себя: «Я справлюсь. Я справлюсь». Человек способен пережить все.
В 1974 году заключенный с острова Роббен № 46664 написал своему сыну: «Нелегко писать человеку, который почти никогда не отвечает». Мне больно это признавать, но большую часть своей жизни я в точности знал, как чувствовал себя этот заключенный. Оторванным от мира. Изолированным. Я любил своего отца и знал, что он любил меня. И вот что странно: сейчас он мне ближе, чем был в детстве. Наверное, потому что я сейчас достиг того возраста, в каком был он в моих первых о нем воспоминаниях. В Кофимвабе мы были относительно счастливой маленькой семьей, и он неплохо управлялся с бабушкиным магазином. Он был хорошим человеком, скромным и работящим. Он не всегда принимал активное участие в моей жизни – мне бы хотелось видеть его чаще, но тем самым он открыл дверь другим отцовским фигурам, оказавшим огромное влияние на мою жизнь и мои идеалы. Во-первых, это мой дед, но, главное – кроме того, отец Квеку, мой дядя Кваме, Уолтер Сисулу и многие другие. Отец гордился мной. И хотя к тому моменту я еще не до конца определился, чем займусь, но уже был на правильном пути. Думаю, он умер, зная, что со мной все будет в порядке, и я надеюсь, это облегчило страдания его измученной души.
Своей смертью он зажег огонь для последней борьбы моего деда – с ВИЧ и СПИДом, и меня утешает мысль о том, что во всех спасенных с того момента жизнях и облегченных страданиях есть заслуга и моего отца. Весь свой президентский срок Мадиба активно участвовал в деятельности, связанной с просвещением по вопросу СПИДа/ВИЧ и сбором средств на лечение, – он не мог видеть, как страдают молодые люди и особенно маленькие дети. Однако основные силы правительства в то время были направлены на переход от колониального режима к демократии, на объединение разобщенных людей в единый народ. Теперь же он был волен выбирать, как потратить имеющееся у него время и остатки сил.
Спустя неделю после похорон в Куну Старик созвал еще одну пресс-конференцию. В уголках его глаз по-прежнему видна была скорбь, и все же он пытался шутить с собравшимися журналистами:
– Этим утром я хочу обратиться не с заявлением, а с призывом. Через несколько недель мне исполнится восемьдесят шесть – я прожил дольше, чем отмерено большинству людей… Уверен, что никто из собравшихся здесь не упрекнет меня в эгоизме, если я попрошу позволения провести оставшееся время, пока я еще в добром здравии, с моей семьей, друзьями и немного наедине с собой.
Журналисты неуверенно засмеялись – так, будто не понимали, к чему он клонит.
– Когда пару месяцев назад я сказал одному из своих советников, что собираюсь на пенсию, он закричал: «Дурак! Ты и так на пенсии!» Так что, если так можно выразиться, я собираюсь уйти в отставку с пенсии.
11 AKUKHO RHAMNCWA ELINGAGQUMIYO EMNGXUMENI WALO «Нет зверя, который не ревет в своем логове»
Вскоре после ухода Мадибы с поста президента к нему и Грасе приехали Ричард Брэнсон и Питер Гэбриэл. Они хотели, опираясь на накопленный опыт и мудрость, организовать небольшое общество людей, которое оказывало бы содействие в разрешении конфликтов и решении проблем, таких как перемена климата и глобальная пандемия СПИДа. Они уговаривали Старика несколько лет.
– Не знаю, нужно ли остальному миру сборище ретроградов, – таким был его первоначальный ответ.
На это они возразили, что, несмотря на общую тенденцию потери доверия к организациям и правительствам, отдельные личности все-таки сохраняют моральный авторитет в глазах общественности. Когда такие люди что-то говорят, народ прислушивается к ним. Когда они что-то делают – народ верит, что они действуют не в политических целях, а во имя всеобщего блага.
18 июля 2007 года в Йоханнесбурге на церемонии официального запуска проекта «Старейшины» мой дед (которому в тот день исполнилось восемьдесят девять лет) сказал:
– Давайте называть их Старейшинами мира – не из-за их возраста, а из-за их индивидуальной и коллективной мудрости. Сила этой группы не в политической, экономической или военной власти, но в независимости и честности тех, кто здесь присутствует. Им не нужно строить карьеру, побеждать на выборах, угождать электорату. Они могут говорить всё что угодно, идти теми путями, которые они считают правильными, даже если никто не следует за ними.
В изначальный состав Старейшин входили мужчины и женщины самых разных рас и вероисповеданий, в том числе архиепископ Десмонд Туту, экс-президент США Джимми Картер, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон и Кофи Аннан.
– Основываясь на своем опыте и благодаря моральной смелости и способности быть выше национальных, расовых и религиозных ограничений, – сказал Мадиба, – они могут помочь сделать жизнь на планете более мирной, здоровой и справедливой.
В своем выступлении Мадиба призвал Старейшин и всех, кто собрался в зале, «излучать храбрость, когда вокруг царит страх, склонять к согласию, когда бушуют конфликты, и вселять надежду, когда все погрузились в отчаяние».
Мне эта идея казалась потрясающей. Я был по уши в учебе, заканчивал факультет политологии и международных отношений и уже имел собственный взгляд на вопросы прав человека и истории. Из того, что я уже знал, я сделал вывод, что проблемы следующего поколения будут совсем не такими, с какими пришлось столкнуться нашим отцам и дедам.
Я спросил своего Старика:
– Что нужно, с практической точки зрения, чтобы провести все эти масштабные реформы? Ведь без реальной политической силы они представляют собой всего лишь некое подобие совета. Или Старейшины и в самом деле в силах осуществить конкретные действия?
– Мои глубокоуважаемые друзья имеют многолетний опыт в своей области, – ответил он. – Я уверен, что, если в дело вступит Туту, они будут добиваться того, чтобы следовать философии убунту.
Старик пояснил, что убунту – это «глубокое убеждение африканцев в том, что только человечное отношение к другим существам по-настоящему делает нас людьми». Возможно, кому-то покажется, что именно эта идея должна лежать в основе любой политики (ведь само слово «политика» происходит от греческого politikos – «гражданство»), но иногда объединить два этих концепта нелегко даже такому человеку, как Нельсон Мандела. Как бы то ни было, за годы, последующие за смертью моего отца, деятельность деда значительно сместилась в сторону социальной и культурной сфер. Он проявлял живой интерес к тому, чем дышит сегодняшняя молодежь, ему нравилось подолгу беседовать со мной и другими своими старшими внуками, к тому же теперь он не был так педантичен, как во времена моего детства.
Как и прежде, он придерживался протокола, но я помню, как однажды, когда мы вместе с ним и Грасой были на торжественном приеме, устроенном королевской семьей в Европе, я был потрясен, когда к нам за столик подсели двое мужчин с сигаретами. Они сидели совсем рядом с дедом и курили одну за другой весь вечер. Раньше он ни за что не потерпел бы такого, а теперь беззаботно болтал с ними, а они тем временем скурили каждый по паре пачек.
САМА МЫСЛЬ ОБ ЭТОМ БЫЛА МНЕ НЕНАВИСТНА, НО ПРО СЕБЯ Я ВЫНУЖДЕН БЫЛ ПРИЗНАТЬ: ТЕПЕРЬ ОН ПОСТАРЕЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ.
На последнем курсе университета я старался как можно больше времени проводить дома. Я беспокоился за Старика, мне хотелось заботиться о нем, и меня тревожило то, сколько энергии требуют его постоянные поездки и участие во всевозможных мероприятиях. Я ездил вместе с ним, когда это было возможно, но почти все свое время посвящал учебе – ведь именно этого он хотел. Утешала мысль о том, что Граса всегда была рядом с ним. С годами я все лучше понимал специфику скотоводства и работы некоммерческих организаций и стал мало-помалу делать собственные выводы о них, и пусть мы не всегда приходили к согласию, но Старик неизменно интересовался моим мнением.
Однажды мы говорили о ком-то из его партнеров, и я сказал, что этот человек ассоциируется у меня со змеей.
– Со змеей? – удивился он. – Но ведь ты знаешь, мы дружим уже много лет и никогда не ссорились. Ни единого раза!
– И все же что-то тут не так, – сказал я. – Не бывает так, чтобы двое людей были согласны абсолютно во всем, дедушка. Это значит, что кто-то из них не до конца искренен, и я знаю, что это не ты.
Он обдумал мои слова и кивнул:
– Верно. Если что и объединяет Сисулу и Катраду, так это то, что они никогда не стеснялись говорить мне, что я не прав. И именно это лежало в основе нашей дружбы. Я очень ценю это качество в людях. Настоящий друг – это зеркало, в котором ты видишь свое точное отражение.
Я был благодарен Старику за то, что он стал для меня таким зеркалом, и для меня было очень важно знать, что он снова мне доверяет. Это доверие с годами только крепло, но я никогда не принимал его как само собой разумеющееся. Однажды, в последний год его жизни, матушка Ксоли позвала меня на кухню и сказала:
– Ндаба, поднимись к дедушке в комнату.
Она рассказала, что видела, как чуть раньше туда прошли Граса с врачом и тот самый друг, которого я назвал змеей.
– У меня дурное предчувствие, – прибавила матушка Ксоли.
Ее беспокойство передалось и мне. К тому времени здоровье деда стало очень хрупким. Они с Грасой спали в разных комнатах, но с ним постоянно была сиделка, а чаще – две. Когда же я поднялся, сиделки не было. Дед лежал в постели, и все трое склонились над ним. В руке у него была ручка, а перед ним – листок бумаги.
– Yintoni le? («Что это такое?») – спросил я на языке коса.
– Ндаба, твой дедушка уже очень старый, – ответила Граса, – и банки начинают сомневаться в подлинности его подписи на чеках.
Она пустилась в долгие объяснения: мол, руки не слушаются его, и подпись получается не такой четкой, как должна бы, из-за чего при оплате счетов и покупок возникают проблемы. Наконец, она пояснила, что он подписывал доверенность, давая доступ к своим банковским счетам своей любящей жене и двум близким друзьям. Но кто подверг бы его подпись сомнению?
Граса меж тем сунула ручку ему в руку и сказала:
– Ну вот, Мадиба, мы объяснили Ндабе, теперь можешь подписывать.
Старик посмотрел на меня, и я сказал:
– Unga linge ubhale lo-phepha («Не подписывай эту бумагу»).
Мне было не по себе от того, что в доверенности не фигурировал никто из родственников.
– Почему вы говорите не по-английски? – спросил его старый друг.
– Он мой дедушка, – ответил я. – Почему я не могу говорить с ним на нашем языке?
– Что ты сказал?
– Это касается только меня и его.
Какое-то время они препирались – «друг» просил его поставить подпись и все спрашивал, что я ему сказал, но, в конце концов, Старик отказался подписывать, и они, расстроенные, ушли. Я позвонил тете Маки и спросил, что она обо всем этом думает. Она велела мне принести ей эту бумагу – так я и сделал. На другой день Граса сама позвонила тете Маки и сказала, что у нее есть другая версия, в которую включены дочери Мадибы.
– Для большей прозрачности, – пояснила она, и этот ответ удовлетворил тетю Маки. Но после этого случая я понял, что должен неотлучно находиться рядом с дедом. Не стану бросаться обвинениями и утверждать, что они затевали какое-то гнусное дело, но я сделал однозначный вывод: доверие – шатко, но семья – крепка. В конце своей жизни, в тот момент, когда Старик стал чрезвычайно уязвим, он знал, что я всегда прикрою его спину – точно так же, как он всегда прикрывал мою.
В декабре 2008 года я сдал выпускные экзамены, результаты пришли в январе. Когда я показал их Старику, он остался доволен, и мне было приятно. Он широко улыбнулся и «дал пять».
– Отучился! – заключил он.
– Церемония вручения будет в апреле, – сказал я. – Придешь?
– Конечно! Как же не прийти? Поговори с охраной, организуй все.
К назначенному дню я все организовал и подготовил. Забрал свою мантию, примерил: подходит ли? Да! Отлично. Все было просто замечательно.
В день вручения я первым выскочил из машины и отправился туда, где сидели остальные выпускники. Я забронировал места для деда, Грасы и Мандлы, но Старик отказался занимать целый ряд – не хотел лишать мест остальных родителей.
Наконец, все расселись по местам. Из соображений безопасности Мадиба вошел последним, и зал взорвался ликованием. Все встали и радостно приветствовали его.
– Мандела здесь! Мадиба, Мадиба! – самозабвенно кричали люди.
Началась церемония. Я ждал, пока назовут мое имя. Готовясь к этому дню, я тщательно продумал свое выступление. Я решил выбрать символ АНК – знак Черной Силы, Черного Единства.
Когда-то давным-давно Мадиба, воздев вверх сжатый кулак, прокричал «Amandla!» («Сила!»), а народ ответил ему «Ngawethu!» («Она – наша!»). Вот что я хотел сделать.
Услышав свое имя, я поперхнулся. Не знаю, что произошло – всего минуту назад я был готов, а когда произнесли мое имя, застыл. Эта доля секунды показалась мне вечностью. Я ОГЛЯДЕЛ ТОЛПУ И УВИДЕЛ СВОЕГО ДЕДА. ЕГО ЛИЦО ВЫРАЖАЛО АБСОЛЮТНУЮ ГОРДОСТЬ И СЧАСТЬЕ, ЕГО ОЗАРЯЛА УЛЫБКА. В тот момент я почти физически ощутил, как по спине бегут мурашки от нахлынувших воспоминаний – вся жизнь пронеслась перед глазами, от струй слезоточивого газа («пах! пах!») до душной ибомы. Я улыбнулся в ответ Старику и сделал первое движение, как будто говоря ему «спасибо». Потом прошел через всю сцену – как человек, получивший высшее образование, – и взял символ будущего, за которое столько боролся и страдал мой дед.
После этого я вышел к Мадибе и Грасе, которые ждали меня снаружи, не спеша: я всегда стараюсь избегать камер. Никто не знал, что Мадиба приедет, но несколько особенно ушлых журналистов были уверены в том, что он будет. Охрана держала их на разумном расстоянии, но многие студенты и их родственники хотели получить автограф Мадибы и сфотографироваться с ним.
– Рад познакомиться, – приветствовал он их, когда они подходили. – Я – Нельсон Мандела.
– Думаешь, обязательно каждый раз представляться? – спросил я с улыбкой, когда мы шли к машине.
– Раз на раз не приходится, – ответил он. – Однажды на Карибских островах мимо меня прошел какой-то мужчина со своей женой. Мужчина сказал: «Дорогая, смотри, это же мистер Мандела! Мистер Мандела!» «Чем же вы знамениты?» – спросила она меня. А я не знал, что ей на это ответить.
Я засмеялся, и он сжал мое плечо.
– Молодец, Ндаба.
– Спасибо, дедушка.
– Ты, должно быть, очень гордишься собой.
Я подумал и решил, что так и есть. Я достиг цели, которая была так важна для него, но в конечном счете я сделал это для самого себя, и, конечно, именно такого будущего он желал мне с самого начала.
– Чем ты теперь планируешь заняться? – спросил он.
– Найти работу.
– Отлично, – ответил Старик. – Но сначала давай пообедаем.
* * *
Давным-давно росло волшебное дерево, такое высокое, что тень от его ветвей укрывала целую деревню. Солнце не проникало сквозь них, урожай не рос, и людям было холодно и голодно. Вождь велел, чтобы самый высокий и сильный мужчина племени срубил дерево. Но птица, которая жила на самой его макушке, запела:
– Это мое дерево! Это мое дерево!
Парень услышал эту песню и остолбенел, не в силах поднять топор. Тогда вождь послал второго самого высокого мужчину, за ним третьего, четвертого и так далее. Со всеми случилось одно и то же: волшебная песня останавливала всех могучих мужей. А люди племени продолжали дрожать от холода и голода.
– Вели своим детям срубить дерево, – сказала мудрая старуха.
Вождь решил, что она сошла с ума.
– Разве могут мои маленькие дети срубить дерево, которое не смогли свалить эти могучие мужи?
И все же, отчаявшись, он отправляет к дереву своих маленьких сына и дочку, и те срубают его. Все дело в том, что дети были невысокого роста, не слышали волшебную песню птицы, и она на них не действовала. Надеюсь, услышав эту историю, дети задумаются о том, какой силой обладают на самом деле.
– Все зависит от молодежи, – говорил Мадиба. – Именно в их руках есть возможность раз и навсегда избавить наше общество от довлеющих над ним жестких рамок прошлого.
На мой взгляд, ключевое слово в этом высказывании – «рамки». Предыдущее поколение было вынуждено мириться с жесткими ограничениями апартеида, образовательной системы банту, бедностью; мои ровесники и наши маленькие братья и сестры, рожденные свободными, каждый день узнают новые слова. Мы говорим на стремительно меняющемся языке технологий и сами создаем культуру, в которой живем.
Такие мысли роились у меня в голове, когда я закончил учебу. Долгие годы мы с Квеку искали пути возвышения Африки в глазах мировой общественности и, что самое главное, в глазах самих африканцев. Теперь мы начали обсуждать эту масштабную цель более конкретно, мечтая ни много ни мало о возрождении Африки, о культурной революции во всех сферах – образовании, предпринимательстве, социальных сетях, музыке, кино– и телеиндустрии, моде, подкастах – в общем, во всех технологиях, объединяющих поколение нового тысячелетия и древний африканский творческий потенциал. Черпая вдохновение из прошлого, а энергию – из будущего, мы создали фонд Africa Rising («Возрождение Африки»).
Чтобы запустить процесс, мы организовали неформальную встречу: пригласили друзей и попросили их рассказать о проекте своим друзьям. Мы надеялись, что придет хотя бы десять человек. Когда же пришли двадцать пять, мы словно почувствовали электрический разряд. Впрочем, не знаю, чему я так удивляюсь. Разумеется, мы с Квеку были не первыми, кому в голову приходили подобные мысли. Молодежь по всей Африке с самыми разнообразными интересами и увлечениями, будь то спорт, музыка, бизнес или мода, постепенно начала делать те же выводы, что и мы. Каждый из них мечтал о чем-то, хотел воплотить свои задумки в жизнь, а для этого им нужен был доступ к технологиям, благодаря которым это стало бы возможным. Оказавшись в одном помещении с предпринимателями, творческими личностями, реформаторами и художниками, мы осознали: происходит что-то очень важное. Механизм преобразований уже запущен.
Мы с Квеку отправились к деду и попросили его выступить в качестве нашего почетного представителя, заранее зная, что, как и Брэнсону и Гэбриэлу, нам придется немало потрудиться, чтобы его уговорить. Старик не собирался на это подписываться только из любви к нам. Мы заранее спланировали все ответы на его возможные вопросы, продумали, в чем будет заключаться наша миссия, и приготовили список основных задач.
– Наша цель – разрушить стереотипы, сложившиеся в мире об Африке, – сказал я деду. – Изменить тот образ, который моментально возникает в головах людей, и в конечном итоге способствовать повышению чувства гордости, собственного достоинства и уверенности в себе среди молодых африканцев. Именно с этого нужно начать. И мы не хотим быть как другие некоммерческие организации. Наша цель – создание новых возможностей для молодежи посредством развития образования, предпринимательства, технологий и так далее. Но главное, мы хотим, чтобы они начали гордиться собой и повысили уверенность в себе. Хотим, чтобы они думали: «Я – африканец. Я знаю, что значит быть африканцем, и горжусь этим». Нам нужно работать сообща на благо нашего народа. Ни Азия, ни Европа, ни Америка не станут ничего делать для благополучия Африки.
Он выслушал, кивнул.
– С чего начнете?
– Первые этапы будут практическими, – ответил я. – Образование. Диагностика СПИДа/ВИЧ. Кампании в социальных сетях. Мы воспитаем новое поколение лидеров Африки, займемся активной разработкой программ для старшеклассников и студентов колледжей. Мы будем принимать участие в фестивалях и конференциях. Будем ездить повсюду и общаться со всеми, с кем только сможем. Там, где что-то пошло не так, мы будем вмешиваться и исправлять, а там, где все хорошо, будем поощрять и вдохновлять людей. Дед, ты только представь, насколько все было бы иначе в 60-х, если бы у тебя были соцсети, подкасты – вся мощь людей, увеличенная в двести миллионов раз. Вот что сейчас в наших руках. Сейчас мы можем достичь любой цели.
Ни разу в жизни дед не подталкивал меня к какому-либо решению или занятию. Его реакция – положительная или отрицательная – всегда была сдержанной. Он никогда не приходил в бешеный восторг – так, чтобы сказать, например: «Вот это отлично! А еще можно сделать это и вот это!» Обычно он просто кивал и говорил: «Да, хорошо». Этот раз ничем не отличался от предыдущих. В конце концов он согласился быть нашим почетным представителем.
– Напишите письмо, – сказал он. – Я все внимательно изучу.
Я написал письмо, и мы принялись внимательно его перечитывать и редактировать. Подписав его, дед сказал:
– Нужно спросить Табо Мбеки, что он об этом думает. Он знает молодежь гораздо лучше меня.
Я в этом сомневался, но помнил слова деда о том, что истинные друзья – как зеркало, и знал, что мы с Квеку можем рассчитывать на объективность президента Мбеки.
То, что я задумал, можно назвать «ответственным бунтом». Я намеревался действовать независимо от схемы, продуманной Мадибой, но в то же время ощущал на себе огромную ответственность перед ним и перед именем Мандела. Теперь я больше не шел на поводу импульсов, а продумывал заранее свои действия и высказывания. Пока мы с Квеку закладывали фундамент для нашего фонда, я работал днем в посольстве Японии, а по вечерам искал нужную информацию в интернете, общался с дедом, смотрел вместе с ним спортивные передачи, обсуждал вопросы политики или сельского хозяйства. Если дед хотел куда-нибудь поехать, он поручал мне организацию безопасности. Ему нравилось, когда я приносил ему газеты. Иногда ему нужна была помощь, чтобы дойти из гостиной до обеденного стола. И прочие подобные мелочи.
На территории его резиденции у меня был собственный домик, но я все равно старался проводить выходные вместе с ним и заглядывать как можно чаще на неделе. Здоровье Старика все ухудшалось. НАШИ ОТНОШЕНИЯ, ПРОЙДЯ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ, ЗАМКНУЛИСЬ: ТЕПЕРЬ МНОЙ РУКОВОДИЛ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ИНСТИНКТ ЗАЩИТЫ И ЗАБОТЫ, ЧТО И ИМ, КОГДА ОН В ДЕТСТВЕ ВЗЯЛ МЕНЯ ПОД СВОЕ КРЫЛО. Я помогал организовывать встречи и прием гостей. Кто-то мог запросто позвонить и сказать: «Слушай, такой-то человек в городе и хотел бы встретиться с твоим дедом». Он всегда был рад зарубежным лидерам и видным государственным деятелям, впрочем, как и большинству знаменитостей. У него были теплые отношения с матушкой Обамой и ее семьей, и, конечно, он всегда был рад видеть своего старого друга Холифилда. Он вообще любил гостей, поэтому, когда тетя Зиндзи спросила, могу ли я уговорить его встретиться с музыкантом Ар Келли, я согласился.
Она и сама рассказывала Старику о филантропической деятельности Келли и о том, сколько он делает для помощи африканцам и афроамериканцам, семьям военных и нуждающимся детям.
– Он талантливый музыкант и очень хороший человек, – говорила она Старику. – Сейчас он в Африке и хотел бы встретиться с тобой и что-нибудь для тебя спеть.
Старик остался равнодушен к этой новости. Не знаю, был ли он в курсе противоречивых слухов вокруг этого человека, но мне не хотелось расстраивать тетю, рассказав ему о них. В конце концов дед велел передать представителям Ар Келли, чтобы организовывали встречу – что я и сделал.
В назначенный день приезжает вся свита, мы такие: «Привет, как дела?» Все хорошо! Идем в гостиную к деду, Келли очень уважительным тоном говорит:
– Для меня большая честь встретиться с вами, сэр. Спасибо, что выкроили для меня время, Мадиба.
И вот тут-то сценарий дает трещину. Старик сидит на своем месте, не говоря ни слова. Кто-то замечает, что скоро Келли даст благотворительный концерт в честь Специальной Олимпиады в Анголе. Ноль реакции – он невозмутим, как Стоунхендж.
Ар Келли тем временем собирается спеть для Мадибы. В гостиной стоит фортепиано на колесиках; пара охранников идут к нему, чтобы выдвинуть на середину комнаты. Дед видит это и кричит:
– Эй, что это вы делаете с моим фортепиано?
– Дедушка, все нормально, – успокаиваю я его, кладя руку на плечо. – Они просто хотят придвинуть его поближе, чтобы тебе лучше было слышно.
– А, ну ладно, – соглашается он.
И вот Келли садится за фортепиано, все замечательно. Но вдруг посреди песни дед берет с края стола газету и с шумом раскрывает перед собой.
«Приехали!» – думаю я про себя.
– Дедушка, пожалуйста, дай человеку закончить.
Но он продолжает шумно листать страницы. Ар Келли заканчивает песню, все аплодируют. Он встает и садится на стул рядом с Мадибой, благодарит его за прием и за гостеприимство. Кто-то фотографирует их. Старик все так же молчит. Тогда Келли пожимает мне руку и говорит:
– Спасибо еще раз. Все было круто.
– Ндаба, – говорит тут дед, указывая на фотографию знаменитого южноафриканского регбиста на странице газеты. – Ты знаешь, кто это?
– Э-э-э… это Брайн Хабана, дедушка.
– Хорошо.
И он снова раскрывает газету и продолжает свой ежеутренний ритуал, а я тем временем провожаю гостей. Я не знал, что сказать. Это было настолько не похоже на моего деда, который всегда относился к людям с уважением, был скромным, великодушным и открытым и старался привить мне те же качества. Вернувшись в гостиную и сев рядом с ним, я не мог отделаться от мысли: «Что это было?»
– Как ты себя чувствуешь, дедушка? – спросил я. – Все нормально?
– Я в порядке, все хорошо, – ответил он. – А ты, Ндаба?
– Я… ух-х. Я в порядке, дед. Знаешь, я, пожалуй, пойду.
Мне было ужасно неудобно перед Ар Келли. Нет ничего хуже, чем вдруг разочароваться в своем герое – хотя я сомневаюсь, что хотя бы один человек, ставший легендой, в действительности был таким, каким его описывают. Взять хотя бы то, как я идеализировал своего старшего брата. Сам дед никогда не стремился к тому, чтобы из него делали кумира. Всю свою жизнь он был скромным человеком. Он знал, что тяжелее всего падать тем героям, которые сами верят в созданную о себе легенду.
Откровенно говоря, я не знал, что и думать о случившемся, но решил, что больше в нашем доме гостей не будет. К тому моменту я уже подтвердил встречу с Канье Уэстом, поэтому мне пришлось сказать его менеджерам: «Мы будем рады видеть Канье и его семью у нас в гостях, но Мадиба не сможет с ним встретиться». Насколько мне известно, он отреагировал спокойно, но без Главного Манделы наша семья была ему неинтересна. Дед никогда не проводил подобных различий. Я знаю, что в случае с Ар Келли дело было не в этом. Я много об этом думал. Почему он показал мне именно фотографию Хабаны?
Догадка осенила меня спустя несколько недель. Думаю, он просто хотел сказать: «Слушай, я вижу этих американских артистов и совсем не против этого, но ты хоть знаешь, кто это такой?» Мы с Квеку много говорили о подъеме имиджа Африки, но я вынужден признать: очень трудно игнорировать повсеместное присутствие американских знаменитостей. Что-то вроде: «Смотри, вот твой южноафриканский кумир, но… погоди-ка, что?! Jay-Z! Всем срочно надеть кислородные маски!»
Может быть, дело было вовсе не в Ар Келли. МОЖЕТ БЫТЬ, ОН ПРОСТО ПЫТАЛСЯ ОТВЛЕЧЬ МЕНЯ ОТ НЕОНОВОЙ ВЫВЕСКИ «АМЕРИКА!» И ОБРАТИТЬ МОЕ ВНИМАНИЕ НА ВЕЛИЧИЕ, ОКРУЖАЮЩЕЕ МЕНЯ ЗДЕСЬ, НА МОЕЙ РОДИНЕ. Дед просто спрашивал меня: «Знаешь ли ты африканских героев?»
Потому что дети – молодежь – не слышат волшебной песни. Мы должны быть ближе к земле и воспринимать богатство и славу как иллюзии, коими они и являются. И кем бы вы ни были, где бы ни жили, если вы еще не составили плей-лист из южноафриканских исполнителей на Spotify, вы многое теряете.
Может быть, именно это и пытался сказать мне мой дед.
А может, он просто страдал изжогой или носки жали. Он всегда был особенным человеком. В трудную минуту это помогло ему выжить, и даже когда необходимость пропала, осталась привычка. Как тогда, когда он построил в Куну копию того дома, в котором жил на острове. Выйдя из тюрьмы, он был уже стариком. Когда умер Уолтер Сисулу, Мадиба сказал: «Из года в год мы наблюдали друг за другом и видели, как наши спины сгибаются все ниже и ниже». Теперь ему было уже за девяносто – нечего было и надеяться, что он изменится. Посвятив всю свою жизнь другим людям, он заслужил право быть особенным. Мы были рады помочь ему соблюдать привычный распорядок дня: завтрак, газеты, изредка ТВ – бокс или National Geographic, послеобеденный чай. То и дело мы боялись за его здоровье, и страх наш усугублялся тем, что всякий раз, как он оказывался в больнице, весь мир пристально следил за ним и гадал, умрет он или нет. Что бы ни случилось – пневмония или вросший ноготь – каждый раз при выходе из больницы на нас налетали тучи репортеров.
Тетя Маки иногда ужасно сердилась: «Разве кому-то еще из президентов приходится терпеть столь назойливое внимание к собственной личной жизни? Никому! Ни за одним белым президентом так пристально не следят».
На это я мог бы возразить, что ни одного белого президента так сильно не любили, но, когда тетя Маки в ярости, с ней лучше не спорить.
Забота о старших – величайшая честь, и я пытался, как мог, организовать свою жизнь в соответствии с его потребностями. Он свел поездки к минимуму, но ничто не могло помешать ему приехать в больницу, когда родился мой сын Леваника. Все медсестры и врачи были крайне взволнованы визитом его великого прапрадедушки, но старались обеспечить молодой маме спокойствие и тишину.
Он сел в кресло, держа ребенка на руках, бормоча под нос старинную песню коса. Я теперь жалею, что не попросил его научить меня ей – сам я уже забыл слова. Но она все еще звучит, где-то в глубине души Леваники, рядом с его персональной Легендой.
– Как мне его назвать? – спросил я.
– Почему бы не назвать Нгубенкука? – отозвался дед (это имя предка народа коса, означающее «волчья шкура»).
Я кивнул:
– Хорошее второе имя. Думаю, первое будет Леваника, в честь отца.
Старик улыбнулся:
– Хорошо, пусть будет Леваника. Очень хорошо.
После этого мне стало сложнее не появляться дома, и все же у меня было много работы. Я стал всемирным послом Совместной программы ООН по ВИЧ и СПИДу. Мы с Квеку отправились в бразильские фавелы – самые бедные трущобы – и встретились с администрацией приютов и работниками секс-бизнеса, пытаясь убедить их бороться с низким уровнем информированности населения по вопросам СПИДа и ВИЧ, рассказывая о масштабах эпидемии. Мы обещали им, что разрушим стену молчания и поможем отвоевать свое место в обществе. Мы исследовали способы использования современных технологий, для того чтобы связать спрос и предложение не только в области СПИДа/ВИЧ, но и в области лечения малярии, туберкулеза и т. п. Главной целью нашей борьбы было увеличение продолжительности жизни населения, но мы понимали, что это невозможно без устранения ужасающей экономической пропасти между черными и белым меньшинством, составлявшим 15 процентов всего населения и владевшим 90 процентами богатств Африки.
Однажды, ненадолго заехав к деду, я помог ему выйти в сад и усадил в удобное кресло, чтобы он подышал свежим воздухом. Он был спокоен, но при этом чрезвычайно восприимчив ко всем моим идеям и проектам.
– Предпринимательство – ключ к развитию экономики, верно? А образование – ключ к развитию предпринимательства. Взять хотя бы Францию – я только что оттуда, прекрасная страна. Куда ни посмотришь – всюду памятники архитектуры и произведения искусства. Круто! Но, увидев как-то золотую статую на вершине здания, я невольно подумал: «Как интересно. Во Франции не так уж много золотых приисков. Они вообще там есть?» Я поискал в интернете и, разумеется, выяснил, что эта конкретная статуя привезена из Африки, а точнее, из Мали. А потом я посмотрел на Мали и увидел ужасающую нищету. В Париже я никогда не видел такой бедности. А если она и есть, то не настолько распространена.
Старик раздраженно фыркнул, приподняв брови. В то время его мучил непрекращающийся кашель.
– Знаю, знаю, – ответил он. – Бедняки есть и в Париже, но я что-то не вижу парижан, которые с риском для собственной жизни плывут в Мали через Средиземное море на маленьком плоту. Такого попросту быть не может. Так что дело здесь не в бедности, а в возможностях.
– Что ты имеешь в виду? – спросил я его. – Что бы ты им сказал? «Верните мое золото! Отпустите мой народ!»?
– Нет, я сказал бы не «Отпустите мой народ!», а «Дайте моему народу жить нормально!». Пусть они получают достойное вознаграждение за свой труд. Платите справедливо за их ресурсы. Не отдавайте три евро на благотворительность – лучше вложите эти деньги в развитие африканского бизнеса. Помогите им строить заводы, университеты, инфраструктуру.
Это был не последний мой разговор с дедом, но в некотором смысле я об этом жалею. Ему по-прежнему нравилось обсуждать серьезные вопросы и высказывать свои мысли на этот счет, и он был благодарен нам с Квеку за то, что мы к ним прислушиваемся.
В декабре 2013 года мы с Квеку были в Бразилии на мероприятиях по подготовке к чемпионату мира по футболу и с трудом справлялись с насыщенным графиком встреч и выступлений. В тот день мне позвонила тетя Маки и сказала:
– Ндаба, Мадиба очень плох. Вы с Квеку должны приехать домой.
– Хм… ладно. Да. Мы постараемся подсократить, но завтрашнее мероприятие очень важно, тетя Маки. Мы не можем его отменить. Проведем его и приедем.
Повесив трубку, я сказал Квеку:
– Ты же знаешь тетю Маки. Она вечно звонит и говорит, чтобы мы приехали, когда Мадиба болен, мы приезжаем, а с ним все в порядке.
Мы решили, что вернемся домой сразу по окончании последнего мероприятия по подготовке к Кубку мира ФИФА. В моем сознании он был как могучий кедр, мой непобедимый дед. Мне и в голову не могло прийти, что я никогда больше его не увижу. Поэтому о плохом я даже и не думал, а думал о том, чем мы займемся на следующий день. Но назавтра снова позвонила тетя Маки. Трубку взял Квеку. Сначала он молчал, а потом просто передал телефон мне. Я тоже молчал – только слушал.
– Его больше нет, – сказала она.
Эти слова, словно топор, ударили под коленные чашечки, отчего ноги подкосились. Мне пришлось усилием воли заставить себя моргать и дышать. Сила и стойкость – два качества, привитые мне с самого детства. К тому моменту, потеряв обоих родителей, я уже знал, что этот комок в горле скоро ослабнет и меня надолго захлестнет волна горя. В тот день я много плакал, никогда больше – ни до, ни после – не проливал я столько слез. Мой брат Квеку крепко обнял меня и минут через десять отправился в ванную, чтобы умыться холодной водой. Мы сделали пару звонков, организовали вылет и через пару часов вернулись в гостиницу, не проронив по дороге ни слова.
«– Ндаба!
– Да, дедушка?
– Я тут решил поехать в Восточно-Капскую провинцию и провести там остаток своих дней. Поедешь со мной?
– Да, конечно.
– Вот и хорошо».
Вместе с ним и со всей семьей мы отправились в Восточно-Капскую провинцию. Казалось, целую вечность мы ехали по крутым холмам и бескрайним саваннам к месту, которое когда-то называлось Транскей. Колониальное правительство организовало этот «хоумленд» (хотя точнее было бы назвать это место «резервацией», и то лишь потому, что «концлагерь» звучало бы совсем некрасиво), чтобы ссылать сюда черных, унижая их и лишая имущества, разрушая их семьи и изолируя от остального мира.
А потом пришел Нельсон Мандела.
Akukho rhamncwa elingagqumiyo emngxumeni walo – «Нет зверя, который не ревет в своем логове».
ТВОЙ ДУХ – ТОЛЬКО В ТВОЕЙ ВЛАСТИ. НИ ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ, НИ ОСТРЫЕ КОПЬЯ, НИ КОВАРНЫЕ УГНЕТАТЕЛИ НЕ МОГУТ ЛИШИТЬ ТЕБЯ САМООБЛАДАНИЯ. Отбывая срок на острове Роббен, мой дед написал Комиссару тюрем: «Никогда в жизни я не признавал над собой никаких начальников – ни в тюрьме, ни за ее пределами».
Твоя решимость, твоя вера в истину – именно их голос должен звучать внутри тебя. Мой дед научил меня прислушиваться к этому голосу.
Убунту Послесловие
Мир оплакивал Мадибу. Заголовки газет пестрели панегириками и посвящениями. Всюду, куда бы я ни пошел, я слышал его зычный голос – по телевизору, по радио, в интернете. Высокопоставленные чиновники и главы государств, американские президенты, знаменитости со всего света съехались в Куну на его похороны, и десятки тысяч людей собрались на футбольном стадионе в Соуэто. Выйдя к огромной аудитории в Куну, я зачитал историю жизни моего деда:
«Правительство и весь мир глубоко опечалены уходом отца южноафриканской демократии Нельсона Ролихлахлы Манделы. Он скончался в кругу родных около 20 часов 50 минут 5 декабря 2013 года. Человек, ставший одной из величайших икон мира, родился в Мвезо, регионе Транскей, 18 июля 1918 года в семье Нокапхи Носекени и Гадлы Генри Манделы. Его отец был главным советником королевского дома Тембу. После смерти отца в 1927 году опекуном юного Ролихлахлы и регентом дома Тембу стал Джонгитаба Далиндиебо.
Именно в деревне Тембу проявились личные качества, ценности и политические взгляды молодого человека. Не было никаких сомнений в том, что именно ему суждено коренным образом изменить ход истории и политическую систему Южной Африки. Именно благодаря Манделе весь мир обратил внимание на ЮАР и осознал масштабы жесточайшего и систематического унижения чернокожих южноафриканцев. И именно благодаря ему мир понял, что такое по-настоящему несгибаемый дух, умение прощать и искать примирение. В самом деле, история Нельсона Манделы – это во многом история самой Южной Африки.
Когда Нельсону Манделе было 25 лет, он стал членом АНК. Его политическая карьера складывалась на протяжении десятилетий, и как сказал он сам: «Борьба – это моя жизнь». Мандела окончил юридический факультет и был практикующим адвокатом. Вместе с Оливером Тамбо он положил начало первому в Йоханнесбурге судопроизводству по делам чернокожих.
В 1940-х годах именно он сыграл ключевую роль в формировании Лиги молодежи АНК, главной целью которой было изменение политической системы страны. В 1948 году Мандела был назначен Национальным секретарем Лиги, а в 1952-м – ее председателем. В течение последующих лет он активно участвовал в общественной деятельности, политических преобразованиях, направленных против все более агрессивных мер режима апартеида. Он стал одной из ключевых фигур в Кампании неповиновения несправедливым законам 1952 года и Суде по обвинению в государственной измене 1961 года. За это время его несколько раз приговаривали к тюремному заключению по законам апартеида и запрещали заниматься политической деятельностью. Понимая, что АНК ожидает еще более ожесточенная борьба, он принял активное участие в формировании новой секции освободительного движения – Umkhonto we Sizwe («Копье нации»), вооруженного ядра, чьей целью была подготовка к противостоянию. Сам Мандела стал первым главнокомандующим «Копья нации».
Он покинул страну в 1962 году и отправился за границу, чтобы организовать подготовку новых членов движения. По возвращении в ЮАР он был арестован за незаконное пересечение границы и подстрекательство к восстанию. На судебном заседании Мандела выступил в качестве собственного же адвоката. Суд Ривонии предъявил ему обвинение в саботаже. Вот его знаменитые слова из записи 1964 года: «Я боролся как против господства белых, так и против господства черных. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому стремлюсь. Но если нужно, то ради этого идеала я готов умереть».
В тот же год суд Ривонии приговорил Манделу и других обвиняемых к пожизненному заключению на острове Роббен, неподалеку от Кейптауна. Уже будучи в заключении, Мандела ответил своим тюремщикам отказом на предложение свободы при условии, что он прекратит дальнейшую борьбу. «Узники не могут заключать соглашений; только свободный человек может вести переговоры», – ответил он.
Общий срок его заключения за борьбу с апартеидом и его зверствами составил 27 лет. Выйдя на свободу 11 февраля 1990 года, Мандела с тем же рвением вернулся к делу всей своей жизни, отчаянно стараясь достичь целей, поставленных им и его соратниками почти четыре десятка лет назад. В 1991 году на первой национальной конференции АНК в Южной Африке после запрета продолжительностью в несколько десятилетий Нельсон Мандела был избран Президентом АНК, а его давний друг и соратник Оливер Тамбо стал национальным председателем организации.
За жизнь, которая сама по себе является символом триумфа человеческого духа, Нельсон Мандела в 1993 году был награжден Нобелевской премией мира, вместе с Ф. В. де Клерком от лица всех южноафриканцев, прошедших через немалые жертвы и страдания во имя мира на нашей земле. Официальным концом эпохи апартеида считается 27 апреля 1994 года, когда Нельсон Мандела впервые принял участие в голосовании вместе со своим народом. Однако задолго до этой даты – еще до начала переговоров в Центре международной торговли в Кемптон-Парке – стало ясно, что АНК не намерен сворачивать с пути изменения будущего ЮАР.
10 мая 1994 года Нельсон Ролихлахла Мандела был избран президентом Южно-Африканской Республики. Даже после установления в ЮАР демократии этот необыкновенный человек продолжил свой неустанный труд на благо людей. Даже в отставке он принимал активное участие в решении таких острых социальных вопросов, как лечение ВИЧ и СПИДа и благополучие африканских детей. Свидетельством его острого политического ума, мудрости и неустанных попыток сделать мир лучше является учреждение престижной организации «Старейшины» – независимого общества выдающихся мировых лидеров, которые трудятся на благо всего мира. Опираясь на свой опыт и влияние, они помогают решать наиболее важные проблемы человечества и оказывают поддержку в продвижении общих интересов.
У господина Манделы остались жена Граса, три дочери, восемнадцать внуков и двенадцать правнуков».
Дочитав до конца, я с облегчением свернул листок, сделал глубокий вдох и закричал: «Amandla!» («Сила»), и моя семья ответила: «Ngawethu!» («Она – наша»).
* * *
В 2006 году к нам приезжала Лэйла Али, дочь Мухаммеда Али. Старик пожал ей руку и сказал: «Я и сам был борцом». Вернее и не скажешь. Когда было нужно, он сражался до последней капли крови, попав в тюрьму – проявил ум, а выйдя из нее – мудрость. Я не сразу понял разницу между этими двумя качествами, но теперь понимаю и надеюсь сам когда-нибудь подняться до его высоты.
Я все так же живу в доме на Хьютоне. В одиночку управлять всем нелегко, но я справляюсь – не без помощи Андиле и тети Маки. Каждый день я думаю о том, как было бы хорошо, если бы матушка Ксоли была с нами, но она предпочла вернуться домой к своей семье. Разумеется, она это заслужила. Все эти годы ее сестра заботилась о ее детях, пока она сама заботилась о моем деде, обо мне и всей нашей семье.
Кабинет моего Старика остался таким, каким был при его жизни, но все остальное изменилось. По выходным, которые мои дети проводят со мной, они бегают по дому и играют, и я знаю, что если дух деда все еще с нами, то он радуется их звонкому смеху. Со дня потери главы семейства мы вели отчаянную борьбу, но нашей семье к борьбе не привыкать. Манделы сильны. Манделы несгибаемы. Манделы способны выдержать многое.
Как и многие южноафриканцы, члены моей семьи очень коммуникабельны. Мы привыкли жить общиной. Я редко делаю что-то в одиночку – даже не обедаю один. Со стороны это кажется вполне нормальным, но наши сразу начали бы спрашивать: «Ндаба, у тебя все нормально? Все в порядке? Почему ты один?» Никто не ест в одиночку. Такова наша культура – и мне это нравится. Мне хорошо в любой точке мира, если я в приятной компании. Я – социальное существо. Для меня это не просто клише – ведь не место красит человека, а человек – место. Африканцы любят шумные вечеринки, веселые дни рождения, семейные праздничные обеды. В этот самый момент мы готовимся к празднованию столетия со дня рождения Мадибы, и это уж точно будет «мировой праздник».
Я верю в убунту – взаимозависимость всех людей, лежащую в основе всего. Эту мысль привил мне мой дед в процессе моего воспитания, и для меня это непреложная истина, потому что я каждый день вижу вокруг себя ее подтверждение. Я верю, что наш мир станет лучше, но знаю, что изменения в нем возможны только при условии единства, понимания и взаимодействия.
«Когда путник приходит в твою деревню, – говорил Мадиба, – если ему не приходится просить еды и воды – это убунту». Суть этой философии не только в том, чтобы делиться тем, что имеешь, но и в том, чтобы опережать просьбу другого человека и содержать свой дом в чистоте и порядке, чтобы иметь возможность позаботиться о других. Лучший способ решения собственных проблем – это улучшение жизни общества, в котором ты живешь. Таким образом ты заряжаешься энергией и передаешь ее другим.
Мы все живем в одном мире, и все в нем взаимосвязано, поэтому мы должны четко осознавать последствия своего поведения по отношению к другим. Общими усилиями мы должны сделать мир лучше для всех. Нужно сократить пропасть между богатыми и бедными, выведя на первый план нашу человеческую сущность. Нельзя бороться с терроризмом посредством терроризма; победу в борьбе с ним можно одержать только через единство. Разумеется, правительства наших стран никогда этого не допустят. Нам нужно изменить мир – и начать с собственного сердца. Нужно взять под контроль свою судьбу и не позволять управлять ею тем, кто думает, что власть в их руках. Это не так. Я – живое тому доказательство, ведь я родился при апартеиде, а теперь – свободен. Не по своей воле они избавили меня от оков. Кто-то должен был вступиться за меня. Кому-то пришлось стать борцом.
Что будет, если вы прямо сейчас встанете – в автобусе, в самолете, в библиотеке, на школьном дворе или просто в своей комнате, – вытянете руки перед собой и скажете эти слова тому человеку, которым вы станете завтра:
«Изменить мир – в наших силах.
Вместе мы всего добьемся».
Теперь можете снова сесть. Ну как? Кто-нибудь вам улыбнулся? Может быть, у вас завязалась беседа или вы заронили в сознание людей зерно надежды на новые возможности?
Всю свою жизнь я ищу способ донести до людей новые идеи и реализовать мечты моего деда о мире, надежде и положительных изменениях. Я постоянно путешествую, бываю в самых разных уголках света, общаюсь с молодыми людьми, жаждущими перемен и ищущими источники вдохновения. Вместе с глобальным распространением социальных сетей растут и шансы того, что идеи Мадибы достигнут нового поколения. Надеюсь, и вы когда-нибудь окажетесь в числе моей аудитории. Благодарю вас за то, что нашли время, чтобы прочесть эту книгу.
У своего деда я перенял глубокое чувство смиренной благодарности, надежды и ответственности, какие только могут быть присущи отцу и наставнику. Как бы мне хотелось, чтобы Старик увидел Леванику сейчас – ему исполнилось семь лет, он учится читать и всегда готов защитить свою младшую сестренку. Хотя она и не нуждается в чьей-либо защите – даже в свои четыре она прекрасно может за себя постоять. И мне это нравится. Я вижу в своих детях тот же потенциал, что когда-то увидели во мне мои родители, дед и бабушка. Я постараюсь оправдать их ожидания и надежды. Я хочу стать для своего сына примером и воспитать его так, чтобы, повзрослев и пройдя «восхождение в горы», он вернулся оттуда настоящим мужчиной.
Благодарности
Я рассказал эту историю исходя из собственных воспоминаний. Все диалоги реконструированы в повествовательных целях на основе писем, видео и записей публичных выступлений. Я старался сохранить дух бесед, событий и отношений, описанных в этой книге, на основе своего индивидуального видения. Возможно, другие участники событий помнят их по-своему и судят со своей точки зрения, и я уважаю их мнение. Пройдя этот путь, я много узнал о политике, истории и экономике, и в этой книге я выражаю собственное мнение, при всем уважении к другим точкам зрения. Несмотря на то что на страницах этой книги я признавался в использовании марихуаны, я не одобряю употребление алкоголя несовершеннолетними, а также употребление марихуаны и любых подобных веществ всеми, кому не исполнилось 21 года. Эта книга не должна рассматриваться как руководство медицинского или юридического характера, а также как письменное свидетельство или консультация. Моя точка зрения может не совпадать с точкой зрения организации Africa Rising, ЮНЭЙДС, семьи Мандела или любых организаций, нанявших меня на постоянной или временной основе в качестве оратора, или других организаций, которые могут обратиться ко мне в будущем. Я благодарю своего агента Альберта Ли и его команду из литературного агентства Aevitas Creative, моего издателя Мишель Хаури и ее команду в издательстве Hachette, моего соавтора Йони Роджерс и ее агента Синди Дэвис-Андресс.
Благодарю Всевышнего за возможность работать над этим проектом в течение последних двух лет и довести его до логического завершения, а еще за лучший дар в моей жизни, главный источник вдохновения и мотивации – двух моих прекрасных детей. Папа неидеален. Мне случалось ошибаться и разочаровывать вас, и скорее всего, это повторится. Пожалуйста, знайте, что, несмотря ни на что, ваш отец любит вас больше всего на свете. Я хотел бы поблагодарить Кхомотсо, мать моих детей, за то, что она такая хорошая мама и заботится о моих малышах.
Спасибо, Андиле, за то, что ты всегда был мне хорошим братом, несмотря ни на что. Мбусо, я надеюсь, что ты прочтешь эту книгу и чему-нибудь научишься благодаря ей. Как бы часто мы ни ссорились, я всегда был и останусь твоим старшим братом. Давай просто уважать друг друга. В конце концов, мы – это все, что у нас есть. Не сердись, когда я спрашиваю тебя об учебе или о детях, Мбусо. Знай, что я делаю это ради тебя. Всем нам, чтобы стать лучше, необходим хотя бы маленький толчок. Идеальных людей не бывает. Мандла, человек – это не остров. Умей слушать и принимать советы, они помогут тебе сделать правильный выбор. Из жизни деда мы можем извлечь один очень важный урок. Да, все мы носим фамилию Мандела как полноправные наследники, но мы не единственные в своем роде. С большой властью и влиянием приходит и большая ответственность, брат. Мы должны укреплять и множить это наследие, а это значит делиться им – так же как разделил его наш дед со своей родиной, Африкой, и целым миром.
Тетя Маки, спасибо за то, что всегда была рядом. Не изматывай себя: впереди еще долгий путь. Я люблю тебя, Матушка-медведица. Туквини, сестренка, что бы я делал без тебя и твоей защиты! Я знаю, что ты всегда меня прикроешь. Квеку, брат, ну ты и сам все знаешь! Мы эту кашу заварили, и надо продолжать в том же духе, пока это дело не помчится вперед на всех парах, то есть, братишка, всю жизнь. Гада Гада, у нас были взлеты и падения, но вместе мы достигнем того, о чем и мечтать не могли. Если уход матушки Винни чему и научил нас, так это тому, что в этой семье мы – самцы. Помнишь, что она рассказывала о музее апартеида? И она говорила не только о нем, но и о стране в целом, братишка. Моей остальной семье: я люблю вас всех. Мы не всегда согласны друг с другом, но, пожалуйста, давайте поддерживать друг друга изо всех сил. Slege Mistro the God, Dice Makgothi – Не бойтесь своей судьбы. Вы сильнее, чем вы думаете. Вы знаете, что я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам в достижении цели, и я верю, что и вы сделаете все, чтобы помочь мне.
Моим южноафриканским согражданам: мы прошли долгий путь, но битва еще не окончена. Теперь мы боремся за экономическую независимость. Земля – важный элемент в процессе возрождения, но не менее важны и необходимые навыки. Одной земли мало для объединения разобщенного населения и поднятия экономики. Африканские братья и сестры, без единства и солидарности мы никогда не добьемся своей цели, не сделаем Африку независимым, единым и процветающим континентом, каким она должна быть. Мы сами – наш главный враг. В единстве – наша сила, а без него мы обречены на погибель. Членам великой диаспоры: вы нужны нам, так же как и мы сами нужны друг другу. Познавайте свои корни, возвращайтесь на родину. Улыбайтесь всякий раз, увидев африканца: никогда не знаешь, к чему это может привести. Величие – внутри каждого из нас. Именно этому научил меня Нельсон Мандела. Давайте же вернем себе свое законное место на земле и напомним людям всего мира о судьбе, объединяющей нас со всем человечеством. Избавьтесь от предрассудков – мир не вращается вокруг вас. Человечество не может себе позволить повторять ошибки. Пришло время идти вперед как один народ, а это возможно, только если мы будем действовать сообща.
Ндаба МанделаЙоханнесбург, ЮАР2018 г.Об авторе
Писатель и общественный деятель Ндаба Тембекиле Звелияйика Мандела – авторитетный оратор и реформатор как на Африканском континенте, так и в сфере международной политики. Родился в ЮАР в 1982 году, когда его дед Нельсон Мандела отбывал третий десяток лет в тюрьме на острове Роббен. Раннее детство Ндабы прошло в Транскей, Дюрбане и Йоханнесбурге в окружении многочисленного семейства, среди членов которого были известные деятели АНК. Будучи живым свидетелем шокирующих событий периода апартеида и борьбы за отмену этого режима, Ндаба с ранних лет подвергся влиянию радикальных идей демократии и противостояния, сформировавших в нем острое чувство политической ситуации и понимание событий намного шире регулярных атак слезоточивым газом и полицейских рейдов в его родном районе Соуэто.
В 1989 году Ндаба впервые встретился со своим дедом в тюрьме «Виктор Верстер». Через несколько месяцев Нельсон Мандела вышел на свободу, а в 1993 году, незадолго до того как стать первым чернокожим президентом демократической Южно-Африканской Республики, Мандела забрал Ндабу к себе, тем самым компенсировав возможностью воспитывать внука то время, которое не смог посвятить собственным сыновьям и дочерям. Нелегко быть воспитанником человека-легенды, но Ндаба, преодолев непростой подростковый период, поступил на факультет политологии и международных отношений Университета Претории. В 2009 году он окончил университет и начал карьеру старшего политического консультанта в посольстве Японии в ЮАР и специалиста по коммуникациям с клиентами в международной группе компаний по управлению активами.
Ндаба и его кузен Квеку – соучредители Africa Rising, некоммерческого фонда, целью которого является решение социально-экономических проблем африканцев любого цвета кожи, вероисповедания, сексуальной ориентации и политических взглядов. За первые десять лет своего существования фонд осуществил запуск проектов и медиакампаний по борьбе со СПИДом, безработицей среди молодежи, проблемами образования и не только.
В ближайшее десятилетие фонд планирует «создать 100 новых Мандел» путем реализации программы, разработанной на основе принципов и проактивных стратегий, воплощенных в жизнь Нельсоном Манделой.
Названный недавно «одним из 28 реформаторов» по версии канала ВЕТ, Ндаба всецело отдает себя делу развития Африки как континента, а также воспитания нового поколения образованных африканцев по всему миру. Он много путешествует, говорит о прогрессе, единстве и наследии Манделы. В свободное время встречается с друзьями, поддерживает отношения с семьей и воспитывает собственных детей, основываясь на том же принципе, что когда-то привил ему дед: «Вместе мы можем добиться чего угодно».
* * *
Сноски
1
В ЮАР Нельсон Мандела известен как Мадиба – это одно из клановых имен. (Прим. ред.)
(обратно)2
Господи, благослови Африку, Пусть ее слава вознесется высоко.
(обратно)3
«Восхождение Африки» (англ.).
(обратно)4
АЗТ – азидотимидин, ингибитор ВИЧ. (Прим. пер.)
(обратно)
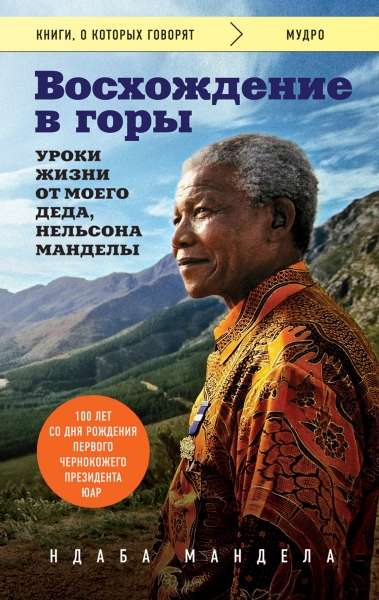


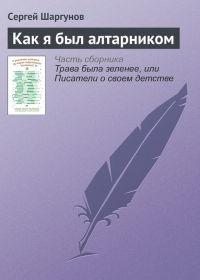

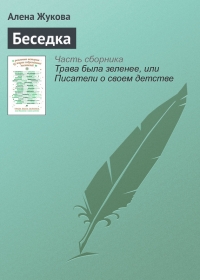
Комментарии к книге «Восхождение в горы. Уроки жизни от моего деда, Нельсона Манделы», Ндаба Мандела
Всего 0 комментариев