Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского
© А. П. Гагарин, 2005
© В. Г. Чернуха: составление, вступительная статья, комментарии, 2005
© Т. В. Андреева: участие в подготовке текста, указатель имен, 2005
© Санкт-Петербургский институт истории РАН, 2005
© Издательство СПбИИ РАН «Нестор-История», 2005
* * *
К читателю
Автор этих воспоминаний — мой прадед (отец моей бабушки) Дмитрий Александрович Оболенский — вел записи с 1854 по 1879 г., так что в книге речь идет о событиях более чем 120-летней давности. Где же были эти записки раньше? Почему они не публиковались? Расскажу то, что мне известно об их судьбе.
Князь Дмитрий Александрович Оболенский (1822–1881) — сенатор (с 1870), статс-секретарь и действительный тайный советник (с 1880) был женат на княжне Дарье Петровне Трубецкой (1823–1906) и являлся главой большой семьи. У него были три сына — Александр (1847–1917), Алексей (1855–1933) и Николай (1860–1912) — и три дочери — Варвара (1848–1927), Елизавета (1853–1921) и Мария (1864–1946). Александр был женат на Анне Александровне Половцовой, Алексей — на светлейшей княжне Елизавете Николаевне Салтыковой, а Николай женат не был. Дочери все были замужем: Варвара — за Михаилом Михайловичем Бибиковым, Елизавета — за Николаем Ивановичем Новосильцовым, а Мария — за князем Андреем Григорьевичем Гагариным (1855–1920/1921).
Все сыновья Дмитрия Александровича Оболенского сделали прекрасную служебную карьеру. Старший сын, Александр Дмитриевич Оболенский, учился на юридическом факультете Московского университета, в 1881 г. был избран пензенским губернским предводителем дворянства, в 1882 г. — пожалован в камергеры Высочайшего двора, в 1888 г. — причислен к Министерству внутренних дел. В 1892 г. он был назначен обер-прокурором 2-го департамента Сената, в 1883 г. — пожалован в шталмейстеры двора Его Императорского Величества, в 1895–1897 гг. являлся обер-прокурором 1-го департамента Сената. В 1897–1899 гг. — помощник варшавского генерал-губернатора, с 1899 г. — сенатор, с 1902 г. — член Государственного совета, в 1916 г. получил чин действительного тайного советника. В 1913 г. А. Д. Оболенский был избран первым председателем семейного союза князей Оболенских. Скончался в Ессентуках в возрасте 70 лет. От брака с Анной Александровной Половцовой (1862–1917) имел четырех сыновей — Дмитрия, Алексея, Александра и Петра. Все их дети сейчас живут за границей.
Алексей Дмитриевич Оболенский вошел в историю государственной власти императорской России, занимая с октября 1905-го по апрель 1906 г. пост обер-прокурора Святейшего Синода. Окончив в 1877 г. Императорское Училище правоведения в Петербурге, он некоторое время служил в Лейб-гвардии Гусарском полку, после чего начал статскую службу в Министерстве юстиции. В 1881 г. был избран почетным мировым судьей и председателем съезда мировых судей Козельского уезда Калужской губернии, в 1883–1894 гг. исполнял обязанности козельского уездного предводителя дворянства. Камер-юнкер (с 1882), затем шталмейстер двора Его Императорского Величества (с 1896), в чине действительного статского советника (с 1896); с июля 1895-го по май 1897 г. он был управляющим Государственного Дворянского и Крестьянского поземельного банков. В мае 1897 г. А. Д. Оболенский был назначен товарищем министра внутренних дел. В 1901 г. Алексей Дмитриевич оставил пост товарища министра и назначен сенатором, одновременно получил чин тайного советника и пожалован в шталмейстеры Высочайшего двора. В 1902–1905 гг. он занимал пост товарища министра финансов при министрах С. Ю. Витте, Э. Д. Плеске, В. Н. Коковцове. Скончался в Дрездене в возрасте 77 лет. От брака с Ε. Н. Салтыковой (1868–1957) имел четырех детей: Дмитрия (1894–1945), Николая (1896–1978), Анну (1898–1973) и Дарью (1903–1982). Их потомство проживает и в настоящее время за рубежом.
Дмитрий Алексеевич погиб в фашистском лагере, детей не имел.
У Николая Алексеевича единственный сын Алексей Николаевич Оболенский (р. 1919), дипломатический работник в США, живет в Вашингтоне, имеет сына и двух дочерей.
Анна Алексеевна вышла замуж за офицера Красного Креста Николая Николаевича Герсдорфа (1882–1953), в эмиграции стала известной в Швеции художницей. У них было пятеро детей: Елизавета (1922–1992) — актриса, жившая в Стокгольме и имевшая трех сыновей и дочь; Елена (1923–1943); Николай (р. 1929) — инженер на пенсии, живет под Стокгольмом, имеет сына и дочь; Мария (р. 1933), живет в Англии, имеет трех дочерей; Александра (р. 1942), как и мать, художница, живет в Германии, имеет сына и дочь. Интересно отметить, что в 2004 г. Александра и Мария устроили в Петербурге художественную выставку «Три поколения художников из семьи Оболенских».
Дарья Алексеевна вышла замуж за герцога Константина Георгиевича Лейхтенбергского, праправнука Николая I, и их дочери, Ксения (р. 1930) и Ольга (р. 1932), и внуки — прямые потомки императора.
Младший сын, Николай Дмитриевич Оболенский, образование получил в Пажеском корпусе, по окончании которого служил в Лейб-гвардии Конном полку, где состоял полковым адъютантом. В марте 1890 г. был пожалован флигель-адъютантом императора Александра III. В 1891–1892 гг. Николай Дмитриевич сопровождал великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) в поездке по Азии и Дальнему Востоку. В 1902 г. он был назначен заведующим контролем Министерства императорского двора и уделов, в 1904–1909 гг. — исполнял должность управляющего Кабинетом Его Императорского Величества, затем состоял при вдовствующей императрице Марии Федоровне. Николай Дмитриевич был человеком «замечательной порядочности и нравственной чистоты», одним из немногих лиц, «ей наиболее преданных». Он скончался холостым[1].
Младшая дочь Дмитрия Александровича Оболенского, Мария Дмитриевна, унаследовала от отца интерес к мемуарному творчеству и оставила несколько вариантов своих воспоминаний о разных периодах ее жизни. Воспоминания, написанные еще в России и касающиеся деятельности ее мужа Андрея Григорьевича Гагарина по созданию Петербургского Политехнического института, до сих пор нигде не опубликованы, хотя многократно цитировались историками Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета. В эмиграции она написала воспоминания, охватывающие весь период ее жизни от рождения до отъезда из России в январе 1934 г. Опубликованные в США ее старшим внуком Андреем Сергеевичем Гагариным, эти воспоминания написаны на английском языке и ориентированы на американского читателя.
Князь Андрей Григорьевич Гагарин, муж Марии Дмитриевны, был не только замечательным человеком, но известным деятелем науки и техники, много сделавшим для развития технического образования в России. Он родился в 1855 г. в семье известного русского художника князя Григория Григорьевича Гагарина (1810–1893), вице-президента Академии художеств (1859–1872), гофмейстера Двора Его Императорского Величества (1864). В 1874 г. Андрей Гагарин поступил на математический «разряд» физико-математического факультета Петербургского университета, который закончил в 1878 г. В 1880 г. Андрей Григорьевич поступил слушателем в Михайловскую Артиллерийскую Академию, которую закончил «по первому разряду» в 1884 г.
В 1891 г. А. Г. Гагарин спроектировал пресс для испытания материалов, конструкция которого оказалась настолько удачной, что он получил название «пресс Гагарина», и им пользуются в лабораториях многих технических учебных заведений России до сих пор. В 1895 г. он был назначен помощником начальника Орудийного завода в Петербурге, его деятельность на этом посту способствовала расширению завода и увеличению производства пушек на нем в несколько раз.
С 1899 г. Андрей Григорьевич Гагарин становится главой строительной комиссии по сооружению Санкт-Петербургского Политехнического института, а с 1902 г., когда институт был открыт, стал его первым директором. В годы директорства А. Г. Гагарина Политехнический институт отличался не только высоким уровнем преподавания, но и замечательным демократическим духом, постоянно беспокоящим полицию. Известно, что в феврале 1907 г. городские власти организовали грандиозную провокацию. К институту были стянуты войска: пехота, кавалерия и даже артиллерия. Всю территорию окружили казаки. Более тысячи вооруженных городовых с факелами и щитами приступили к повальному обыску, во время которого была спровоцирована «находка» предмета, похожего на оболочку бомбы, о чем был составлен акт. 28 февраля 1907 г. по высочайшему повелению А. Г. Гагарин был отстранен от должности директора института и отдан под суд с обвинением в бездействии.
Судебное следствие по делу Политехнического института велось в течение двух лет. 6 апреля 1909 г. состоялся суд, который вынес обвинение и меру наказания — лишение права в течение 3-х лет поступать на государственную и общественную службу.
Во время Первой мировой войны, в 1915 г., А. Г. Гагарин был назначен заведующим отделом оптики Технического артиллерийского комитета. Поскольку ввоз оптического стекла и оптических приборов, закупавшихся до войны в Германии, стал невозможен, а нужды армии все увеличивались, то необходимо было создать их отечественное производство. Для решения этой задачи Андрею Григорьевичу, интенсивно занявшемуся изучением этой новой для него области науки и техники, удалось оборудовать «для казны» небольшой оптический завод, находившийся на Выборгской стороне (ныне — ОАО ЛОМО), преобразовать для этой специальной цели Императорский хрустальный завод под Петербургом (ныне — Институт оптического стекла) и основать специальный завод оптического стекла в г. Изюме Харьковской губернии. На этом последнем заводе память об А. Г. Гагарине тщательно сохраняется, и в заводском музее хранятся экспонаты, посвященные его деятельности по основанию завода.
Осенью 1918 г. Андрей Григорьевич поехал в свое имение Холомки Порховского уезда Псковской губернии навестить семью, но 13 октября того же года на станции Дно был арестован. Вслед за ним, через несколько дней, была арестована Мария Дмитриевна. Тогда он решился на крайнее средство и довел до сведения Совета Народных Комиссаров о своем тяжелом положении, а также ходатайствовал о разрешении ему проживать с семьей и работать в Холомках (тогда «Народном Доме им. тов. Ленина»), наезжая для сдачи проектов в Москву. В ответ он получил бумагу от 20 января 1920 г. за собственноручной подписью В. И. Ульянова (Ленина) следующего содержания:
«Предъявителю сего инженеру Андрею Григорьевичу Гагарину разрешаю проживать в Псковской губернии, Порховском уезде, Шевницкой волости в Народном доме моего имени, в Холомках. Прошу местные власти Гагарина не беспокоить, в заложники не брать, вещей не реквизировать и давать ему керосину необходимое количество для его занятий, которые я считаю для Республики полезными».
Перенесенные несчастья сказались на здоровье Андрея Григорьевича. Давнишняя его болезнь, грыжа, обострилась, явилась необходимость операции. Андрей Григорьевич в декабре 1920 г. решился на нее, перенес ее хорошо, без наркоза, хотя она оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось. Однако его сердце, испытавшее за последние годы столько треволнений, не выдержало, и на седьмой день после операции в Порховской больнице Андрей Григорьевич скончался. Похоронили его на погосте Вельское Устье под развесистым дубом. На его надгробном памятнике, пропавшем в годы войны, после имени было высечено: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
У Андрея Григорьевича и Марии Дмитриевны Гагариных было шестеро детей: пять сыновей — Андрей, Сергей, Лев, Григорий, Петр — и дочь Софья. Машинописные копии записок Дмитрия Александровича Оболенского были у нескольких его внуков, возможно даже — у всех. Обстоятельства появления этих копий — кто и когда заказывал их перепечатывать с рукописи — неизвестны. О месте хранения самой рукописи и ее судьбе также ничего неизвестно. В результате в семье Гагариных — потомков Д. А. Оболенского — сохранились четыре переплетенных тома одной из машинописных копий «Записок», которые и публикуются в данном издании.
Судьбы детей А. Г. и М. Д. Гагариных, внуков Д. А. Оболенского, сложились по-разному.
Старший сын, Андрей Андреевич Гагарин (1886–1937), до 1905 г. учился в Политехническом институте, затем, во время революционных событий 1905–1906 гг., когда большинство высших учебных заведений России было закрыто, вместе с двумя младшими братьями — Сергеем и Львом — уехал учиться в Германию. После возвращения в Россию закончил учебу на электромеханическом факультете Политехнического института и служил в Лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригаде. В 1913 г. был произведен в подпоручики, в 1914–1915 гг. участвовал в Первой мировой войне, за боевые отличия был награжден орденами Св. Анны 4-й степени с девизом «За храбрость», Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами. После революции он ненадолго эмигрировал, но вскоре вернулся в Россию. Как указано в письмах ФСБ РФ в ответ на наши запросы, Андрей Андреевич в первый раз был арестован органами ОГПУ 11 января 1923 г. «в связи с отказом сотрудничать». Вновь арестован в 1928 г., и 8 августа того же года коллегией ОГПУ приговорен к двум годам лагерей. Арестованный снова 26 ноября 1930 г., он был выслан «административным порядком» на Урал на три года. В 1933 г. снова был арестован, после ареста проживал в г. Сталинске (ныне — Новокузнецк Кемеровской области) и работал на Кузнецком металлургическом комбинате заведующим проектной группой отдела главного электрика. Там он был арестован в последний раз 28 июня 1937 г., постановлением тройки УНКВД Западно-Сибирского края осужден по 58-й статье (пп. 2, 4 и 11) и расстрелян 18 июля 1937 г. Реабилитирован посмертно 29 января 1957 г. Сейчас в Петербурге живут его дочь Ирина и внучка Елена.
Следующий сын — Сергей Андреевич Гагарин (1887–1941) — поступил на экономическое отделение Политехнического института, где и учился до 1905 г. В 1905–1906 гг. вместе со старшим братом был в Германии, слушал лекции по философии в Берлинском и Гейдельбергском университетах, затем вернулся в Россию и окончил Политехнический институт в 1909 г. В 1912 г. Сергей Андреевич сопровождал отца в Америку на конгресс по испытаниям материалов, а затем из Сан-Франциско отправился в кругосветное путешествие. В 1913 г. поступил на службу в Министерство иностранных дел. Во время Первой мировой войны С. А. Гагарин находился в Ставке Верховного Главнокомандующего в числе представителей Министерства иностранных дел. Позже он был назначен секретарем Российского посольства в Константинополе, где оказался в центре всех политических и военных событий того времени, связанных с белым движением и «вели-ким исходом» русских из Крыма, с Кавказа и Дона в Константинополь. В 1920 г. перебрался с семьей в Париж, а оттуда в 1923 г. — в США. Сергей Андреевич погиб в 1941 г. от взрыва бытового газа в подвале собственного дома. Вероятно, именно он, как старший из сыновей Андрея Григорьевича Гагарина, живущих за границей, был хранителем четырех переплетенных томов записок Д. А. Оболенского, публикуемых в настоящем издании. После его гибели эти материалы хранились в его семье. Из троих его сыновей — Андрея Сергеевича (1914–2002), Сергея Сергеевича (р. 1918) и Петра Сергеевича (р. 1924) — Андрей часто бывал в России, и именно через него четыре тома записок нашего прадеда и попали к нам. В настоящее время в США живут два сына и дочь Андрея Сергеевича, два сына Сергея Сергеевича и сын и две дочери Петра Сергеевича.
Лев Андреевич Гагарин (1888–1921) до революции был штабс-капитаном Лейб-гвардии 4-го Императорской фамилии батальона, затем с ноября 1918 г. был в Добровольческой армии адъютантом командующего вооруженными силами Северной области генерала В. В. Марушевского. Автор неопубликованных воспоминаний «Образование Северного фронта», Л. А. Гагарин эмигрировал через Крым и в 1921 г. умер от тифа в окрестностях Константинополя.
Софья Андреевна Гагарина (1892–1979), единственная дочь моего деда, после революции некоторое время жила в Холомках. Согласно документам Псковского областного архива, она была заведующей организованного там «Народного дома имени тов. Ленина». Как сказано в соответствующем «постановлении Порховского уисполкома», ее назначили на эту должность «как лицо, вполне пригодное по образовательному цензу». В этом Народном доме в 1920–1921 гг. Гагариными с помощью М. В. Добужинского и К. И. Чуковского было устроено общежитие Художественной колонии, неоднократно описанной в советской литературе[2]. Но уже в 1924 г. Софья Андреевна с матерью (Марией Дмитриевной Гагариной) и младшим братом (моим отцом) были выселены из Холомков, а в 1927 г. ей удалось уехать из России в Америку к братьям. Уже в эмиграции в 1940 г. она вышла замуж за Николая Николаевича Ростковского. Детей у них не было. При отъезде за границу (ей удалось уехать благодаря помощи наркома А. С. Енукидзе) она вывезла с собой очень много семейных материалов, часть из которых потом вернулась обратно в Россию усилиями ее племянников уже после смерти С. А. Гагариной в 1979 г.
Григорий Андреевич Гагарин (1895–1963) до революции был корнетом Лейб-гвардии Гусарского полка. Вернувшись весной 1918 г. в Холомки, он начал там активную общественную деятельность, но после покушения Ф. Каплан на В. И. Ленина был арестован, приговорен к расстрелу и бежал[3]. Ему удалось перебраться на оккупированную немцами территорию и в дальнейшем эмигрировать в Америку. Там он и умер в 1963 г. Его сын, Григорий Григорьевич Гагарин (р. 1922), часто приезжает в Россию: именно он и привез нам четыре тома «Записок» Д. А. Оболенского, переданные ему Андреем Сергеевичем Гагариным. У Григория Григорьевича есть два сына и дочь, они живут в США.
Наконец, самый младший сын Андрея Григорьевича и Марии Дмитриевны Гагариных, Петр Андреевич Гагарин (1904–1938), мой отец, встретил революцию мальчиком, детство провел в Холомках, затем в 1925 г. поступил в Политехнический институт, окончил его в 1930 г. и работал в Ленинграде, в институте «Гипрошахт». Петр Андреевич был арестован в марте 1935 г. и с женой-студенткой и 9-месячным сыном (мной) был приговорен к ссылке в г. Иргиз Казахской ССР. Усилиями профессоров Политехнического института В. Ф. Миткевича и М. А. Шателена, работавших с Андреем Григорьевичем Гагариным, ссылку удалось отменить. Однако через два с половиной года, 21 ноября 1937 г., Петр Андреевич был вновь арестован, осужден по 58-й статье (пп. 6 и 11) и 18 января 1938 г. расстрелян. Посмертно реабилитирован 7 июня 1965 г.
Моя бабушка, мать моего отца, Мария Дмитриевна Гагарина (урожденная княжна Оболенская), после смерти мужа, Андрея Григорьевича Гагарина, жила вместе с моими родителями до своего отъезда за границу в январе 1934 г. Ее сыновьям — Сергею Андреевичу и Григорию Андреевичу, жившим в Америке, удалось вывезти из России престарелую мать с помощью выкупа в 3000 долларов.
Я, Андрей Петрович Гагарин, был единственным ребенком в семье. Сразу после расстрела отца мою мать, Варвару Васильевну, урожденную Шешину (род. в 1913 г., профессор филологического факультета Университета), как «жену врага народа» сослали (в НКВД факты расстрела тогда скрывали, и ей сообщили, что отец приговорен к 10 годам пребывания в лагерях Дальнего Востока без права переписки). Я остался с родителями матери и ее старшей сестрой. После войны моя мать вышла замуж за кораблестроителя В. М. Бурлакова, ив 1947 г. я был усыновлен своим отчимом со сменой фамилии и отчества. Как я теперь понимаю, благодаря этому я смог без проблем получить высшее образование. Окончив в 1952 г. школу, а в 1958 г. — физический факультет Ленинградского государственного университета, я поступил на работу в Государственный Оптический институт. В 1972 г. я смог вернуть себе родовые фамилию и отчество (тогда это уже никого не интересовало). Допуск к секретной работе, которой я занимался в то время, был без труда получен мною на фамилию Гагарин. В настоящее время я — профессор Санкт-Петербургского Политехнического университета. У меня две дочери и сын.
А. П. ГагаринКнязь Дмитрий Александрович Оболенский Жизнь · Служба · Записки
Дневники и воспоминания — вид документов, возникший в России сравнительно поздно, только в результате грандиозных петровских преобразований, развития грамотности и школы, знакомства с европейской культурой и литературой, обретением привычки к развивающему чтению. Лишь во второй половине XYIII в. появляются первые российские мемуары, насчитывающиеся буквально единицами. Но, поздно в России появившись, мемуаристика в XIX в. развивается стремительно, переживает бум. Появлению мемуаров способствуют многие обстоятельства: и интерес к жизни отдельного человека, и вовлечение России в орбиту мировых событий, и распространенный обычай делать дневниковые записи. Ведение дневника, как и непременное присутствие в гостиных альбомов, куда гости записывали стихи, изречения, экспромты, — непременная часть культуры XIX в. Этому в немалой степени способствовало то обстоятельство, что педагогика того времени в перечне своих дисциплинирующих учащихся приемов числила и составление поденных записей. Вечерами нужно было заносить в дневник наиболее важные события прошедшего дня, отдавая себе отчет в сделанном и неудавшемся, хорошем и плохом, достижениях и проступках. А от дневников к воспоминаниям был прямой путь: они помогали восстановить в памяти события, хронологию, переживания. Выдержки из дневников читают в гостиных и салонах, печатают в сборниках и журналах. Во второй половине XIX в. появляются один за другим несколько «толстых» исторических журналов («Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник»), предназначенных вовсе не для узкого круга историков, а для широкой читательской аудитории, интересующейся такого рода чтением. Издатели этих журналов способствуют вниманию общества к мемуаристике и стимулируют ее создание прямым обращением к потенциальным держателям рукописей или просьбами о написании воспоминаний о людях и событиях. Дневники и воспоминания быстро находят своего издателя.
Ситуация резко изменилась в XX в.: ведение дневников стало опасным, воспоминания о прошлом, казавшемся столь благополучным, были не востребованы, а самое главное — войны и революции несли гибель личным архивам. И тем не менее время от времени обнаруживаются в государственных архивах и остатках частных коллекций, среди семейных бумаг — старые дневники, рассказывающие о прошлом, уже далеком и неведомом. К их числу принадлежат и «Записки» князя Д. А. Оболенского, сбереженные потомками.
Князь Дмитрий Александрович Оболенский (1822 1881 гг.) в свое время был фигурой очень значительной, государственным человеком, по справедливости имеющим право быть отнесенным к числу деятелей «великих реформ» царствования Александра II. В то время он принадлежал ко второй шеренге либеральной бюрократии — директорам департаментов, товарищам министров, которые были реальными двигателями государственного механизма, готовили для своих патронов, имена которых у всех на памяти, доклады, записки, затем представляемые министрами от своего имени.
Д. А. Оболенский по своему рождению и происхождению был предназначен для государственной деятельности. Он принадлежал к самой древней и знатной части российского дворянства — к Рюриковичам, стоявшим у истоков создания Российского государства и затмевавшим род Романовых своей древностью, что последними часто воспринималось весьма болезненно.
Д. А. Оболенский родился в октябре 1822 г. в семье, где скрестились два княжеских рода. Его отец, Александр Петрович Оболенский, был высокого ранга чиновником, в свое время близким к семье великой княгини Екатерины Павловны и принца Георга Ольденбургского. Его мать, Аграфена Юрьевна, принадлежала к роду князей Нелединских-Мелецких; ее отец, статс-секретарь Павла I, человек, служивший по управлению благотворительными учреждениями, которыми занималась императрица Мария Федоровна, был еще и известным поэтом круга И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова. Но Оболенский знал деда Юрия Александровича только в последние годы его жизни, уже отошедшим от дел и поэтических занятий, больным, доживающим свои дни у дочери Аграфены в Калуге. В самом начале 1825 г. А. П. Оболенский был назначен калужским губернатором, многочисленная семья переехала в Калугу, и там прошло его детство, сначала — очень счастливое, в кругу любящей и любимой матушки, любимых и почитаемых отца и деда. Ему не было и семи лет, когда умерли Аграфена Юрьевна и ее отец; умерли они в одно время, и никогда не были забыты Д. А. Оболенским. В их семье существовал обычай ежегодного, по крайней мере, посещения родных могил. Вообще Калуга, как и Москва, были для Оболенского родными местами, где он с удовольствием бывал, где жили его родные и знакомые. Не только его отца-губернатора помнили долго, еще и его матушка осталась в памяти калужан как образцовая губернаторша и высокой души женщина. О ней как не забытой калужанами писал А. О. Смирновой-Россет Н. В. Гоголь; И. С. Аксаков, служивший в 1840-х годах в Калуге, это подтверждает[4].
Начальное образование Д. А. Оболенского типично для знатного дворянского дитяти первой трети века: детей было принято поначалу обучать дома с помощью гувернеров, заботившихся о том, чтобы научить питомцев иностранным языкам — французскому и немецкому преимущественно, начальным знаниям письма, счета и предметам по выбору и возможностям гувернеров, а также — о воспитании питомцев, прививая им манеры и понятия по своему усмотрению. В домах, где глава семейства служил, а значит — был занят, очень важную роль в начальном образовании детей играла мать, которая должна была следить за ходом учебы, заботиться о наличии учителей. И когда Аграфена Юрьевна умерла, семья оказалась в растерянности: что делать с малыми детьми — девочками и подраставшими мальчиками, которых надо было определять в школу? Отец, вскоре переведенный на службу в Москву, поступил так, как это было тогда заведено: девочек взяли в свои семьи многочисленные родственники, мальчики были отданы в семью калужского помещика С. Я. Унковского, человека, пользовавшегося хорошей репутацией. Дело еще заключалось в том, что у него были свои сыновья, близкие по возрасту братьям Оболенским, и в той семье тоже стояла задача их домашнего образования. Младшие Оболенские сначала учились в семье С. Я. Унковского, где создалось нечто вроде небольшого пансиона и преподавали гимназические учителя (сам Унковский со временем стал директором гимназии); в середине 1830-х годов по распоряжению Николая I он был переведен в Московский университетский пансион, и тогда все Унковские и Оболенские оказались в Москве. Университетский пансион, заведение с очень хорошей репутацией, было предназначено в качестве школы для обучения дворянских детей, причем для дворян среднего достатка, с тем чтобы они потом могли поступить в университет. В то время еще было распространено домашнее образование, и часть дворянских семей шла по этому пути, однако это было не только дорогостоящее, но и хлопотное предприятие, поскольку требовало систематичности обучения, круга учителей. Можно было пойти по более простой стезе, воспользовавшись услугами частных пансионов или государственных учебных заведений вроде благородных пансионов, существовавших при университетах. Некоторое время Оболенский живет и учится в Москве, с которой сроднился и где приобрел друзей на всю жизнь: Ю. Ф. Самарина — своего двоюродного брата, немногим его старше (мать Юрия Федоровича была родной сестрой Аграфены Юрьевны), и И. С. Аксакова, своего сверстника. В то время военная служба уже перестает быть единственным достойным поприщем для мальчиков из дворянских семей. Государственная деятельность требует хорошо подготовленных людей, университеты делают только первые шаги, студентов в них немного, вот и возникают при Александре I Царскосельский (Александровский) лицей, при Николае I — Училище правоведения.
Создание Училища правоведения — важная веха в истории постановки юридического образования в России. У его колыбели стояли принц П. Г. Ольденбургский и Μ. М. Сперанский. Юный Ольденбургский, назначенный императором Николаем I присутствовать в Сенате, очень скоро вынес убеждение в необходимости создания высшего специального учебного правоведческого заведения под эгидой Министерства юстиции, которое бы поставляло российскому управлению образованных юристов. Его идея была поддержана Сперанским, и в 1835 г. оно открылось в Петербурге. Оно было рассчитано на детей потомственных дворян, мальчиков 12–15 лет, которые бы не только учились, но и жили в училище, воспитывались в нем; обучение продолжалось 6–7 лет, преподавалось, в частности, делавшее только первые шаги как наука русское право. Училище располагалось на Фонтанке, напротив Летнего сада, в самом центре столицы, рядом с дворцом Ольденбургских, и пользовалось неизменным вниманием учредителя. Ежегодно училище должно было выпускать два десятка образованных чиновников, которые обязаны были по окончании непременно отслужить в ведомстве Министерства юстиции 6 лет. Выпускники предназначались для службы в министерстве, но не только: с помощью этих новых людей власть надеялась улучшить и работу провинциальных судебных учреждений, а потому предусматривалась ежегодная доплата к жалованью выпускникам, отправившимся на службу в российские губернии.
Д. А. Оболенский не значится в числе воспитанников первого года существования училища. Им был Г. С. Аксаков, за ним и отправились затем И. С. Аксаков, Д. А. Оболенский, сын Унковского Федор. Оболенский и И. С. Аксаков вместе учились и выпущены в одном году — 1842-м. Они с тех пор дружили и относились друг к другу с нежностью, хотя жизнь и разводила их время от времени. После Училища правоведения И. С. Аксаков оказался в родной для Оболенского Калуге, а Оболенский, после короткого пребывания в Сенате, затем в Министерстве юстиции (очевидно, в ожидании назначения), был министром юстиции отправлен в Казань «исправляющим должность губернского уголовных дел стряпчего» (1844 г.), но в том же году переведен в Тулу, в Палату не уголовного, а гражданского суда, на должность товарища председателя. Однако уже через год он оказывается в столице, продолжая служить в ведомстве Министерства юстиции, на этот раз в должности «товарища председателя I Департамента С.-Петербургской палаты гражданского суда». Затем он «по выбору дворянства» занимает должность «председателя I департамента», некоторое время «исправляет должность совестного судьи», получает очередные чины согласно Табели о рангах.
Осенью 1846 г. в Москве он венчается с дочерью орловского военного губернатора княжной Дарьей Петровной Трубецкой, и первое, что молодожены предпринимают в качестве свадебного путешествия, — отправляются в Калугу, навещают могилы родственников, там встречаются с калужским обществом. По-видимому, брак был благополучным: у них было шестеро детей — три сына и три дочери. Сыновья — Александр, Алексей и Николай — служили, дочери — Варвара, Елизавета и Мария — стали замужними дамами — Бибиковой, Новосильцовой и Гагариной. Жили Оболенские в Петербурге, поначалу на Сергиевской, а затем на Невском проспекте.
В Петербурге Оболенский становится на стезю делающего карьеру петербургского чиновника. Все было за то, чтобы он ее выбрал: и происхождение, и полученное образование, и, очевидно, характер. И. С. Аксаков в 1849 г. уходит с государственной службы, предпочитает свободную жизнь помещика, общественного деятеля, а Оболенский — службу. К этому его побуждают более толерантный характер и необходимость содержать семью. В Петербурге Д. А. Оболенский входит в круг высшего образованного петербургского общества, чему в немалой степени способствует его близость ко двору великой княгини Елены Павловны. Эта немецкая принцесса, вышедшая замуж за великого князя Михаила Павловича, сильно отличалась от многих других членов правящей фамилии: она считала, что великокняжеское достоинство дает не только права, но и накладывает обязанности, необходимость заботы о престиже августейшей семьи, создании вызывающего уважение имиджа. Кроме того, способности, образование склоняли ее к тому, чтобы выйти за рамки светско-придворной жизни, ее тянуло к людям культуры, и она всегда охотно откликалась на просьбы о помощи литераторам, искусству, занималась благотворительностью, образованиєм. Ее дом (Михайловский дворец) считался образцом вкуса и хорошего тона. В своей постоянной деятельности она нуждалась в помощниках, которые были бы и безупречного происхождения, и дельными людьми, с тем чтобы им можно было давать приватные поручения, и скромными в рассказах о патронессе. Услышав от кого-то об Оболенском, она пригласила его к себе в дом, и завязалось знакомство, продолжавшееся четверть века. Одним из их общих деяний была помощь в посмертном издании сочинений Н. В. Гоголя. Между прочим, в то время было принято (это было одним из салонных способов времяпрепровождения) читать вслух новые сочинения, привлекшие внимание, ценились и хорошие чтецы. Д. А. Оболенский был посетителем салона А. Н. Карамзина, сына Николая Михайловича Карамзина — известного историографа царствования Александра I. Известно, что в его салоне Д. А. Оболенский читал Гоголя. А. В. Никитенко, присутствовавший там, занес в свой дневник: «Обедал у А. Н. Карамзина. После обеда читаны были неизданные главы „Мертвых душ“ Гоголя. Чтение продолжалось ровно пять часов, от семи до двенадцати. Эти пять часов были истинным наслаждением. Читал, и очень хорошо, князь Д. А. Оболенский»[5].
Октябрь 1853 г. — переломный и определяющий момент в карьере Д. А. Оболенского. Он был «переведен» в Морское министерство, возглавлял которое великий князь Константин Николаевич в качестве «управляющего» Морским министерством. Россия в то время стояла на пороге войны с Турцией, неожиданно обернувшейся войной с Англией и Францией. Великий князь Константин Николаевич, которому еще в 4 года было предназначено Николаем I стать во главе Российского флота и дано звание генерал-адмирала, до этого времени был стеснен авторитетом приставленного к флоту человека немолодого, на седьмом десятке лет, независимого, язвительного острослова князя А. С. Меншикова. Уже совершеннолетний и честолюбивый великий князь, ощутивший потребность в наведении иных порядков на флоте, был связан в своих действиях. Отправка в начале 1853 г. А. С. Меншикова с дипломатическими поручениями из Петербурга развязала Константину Николаевичу руки, а надвигавшаяся война заставляла думать о переменах. Осенью 1853 г., уже осмотревшись и наметив себе некую программу действий, он начинает с того, что собирает в Морское министерство молодые кадры, причем не только моряков, но и гражданских чиновников — А. В. Головнина, М. X. Рейтерна. Среди них оказался, возможно по рекомендации его тетки Елены Павловны, и Д. А. Оболенский. Такое привлечение штатских лиц было вполне объяснимо: Константин Николаевич был намерен навести порядок в ведомстве, основать его деятельность на разумном законодательстве, а для этого требовались грамотные юристы. Оболенский как нельзя лучше соответствовал этим требованиям. Кроме того, Константину Николаевичу требовались и советники, и помощники, словом — профессиональное окружение, с которым он мог бы работать: советоваться и доверить исполнение всякого рода поручений и новаций по ведомству[6]. Оболенскому, назначенному на должность директора Комиссариатского департамента (это была должность гражданского чиновника, он и числился среди лиц «гражданского ведомства»), предстояло, во-первых, освоить весь спектр хозяйственной деятельности Морского министерства, ибо это был интендантский отдел Морского министерства, связанный с подрядами, заготовками, госпиталями и пр. Но тот факт, что сразу же после перехода в Морское министерство ему поручают составление Свода провиантского и комиссариатского уставов, выдает подоплеку его назначения: большую долю в его служебных обязанностях должна была занимать та самая юриспруденция, школу которой он уже прошел.
Известно, что в начале царствования Александра II Морское министерство оказалось во главе движения за преобразования и даже первым их начало. Оказывается, подготовка к этой роли лидера в кругу министерств была осуществлена еще в недрах николаевского царствования, и когда произошла примерно через год с четвертью смена царствований, Морское министерство было уже готово к этому, имея в своем составе кадры молодых, современных, амбициозных деятелей, прошедших некоторую практику. Так сложились обстоятельства, что Оболенский оказался в рядах тех, кого потом стали называть «шестидесятниками» и кого неизбежно вспоминали, ссылаясь на масштабы проведенных реформ.
Наверное, не все привлеченные великим князем Константином Николаевичем чиновники выдержали испытание; вероятно, у него были и разочарования, но Д. А. Оболенский проверку выдержал. Он вошел в круг ближайших сотрудников великого князя. Имя его постоянно встречается в дневниках Константина Николаевича как имя ближайшего сотрудника, с которым он вместе «работает», ездит по делам ведомства, и когда великий князь собирает у себя интимный кружок на «обед», то Оболенский неизменно оказывается в нем[7].
Не любивший Константина Николаевича С. Д. Шереметев, человек следующего поколения, назвав Оболенского «либералом и практиком», «бывшим правоведом», охарактеризовал его так: «Был одним из спутников того светила, который просиял в Мраморном дворце»[8]. Отметим вскользь, что к этому времени Оболенский созрел и для практической деятельности, и для ведения дневника, ибо именно с этого времени он начинает делать записи.
10 лет жизни было отдано Д. А. Оболенским Морскому министерству в самые замечательные годы жизни этого ведомства, в его «звездный час». Вокруг великого князя Константина Николаевича тесно сплотилась группа молодых единомышленников, к которым прочно и навсегда приклеилось прозвание «константиновцев». Оболенский формально был директором Комиссариатского департамента, но значение его выходило за пределы должности. Генерал-адмирал числил его среди своих ближайших сподвижников и, как известно из его дневника, безоговорочно ему доверял. Деятельность Оболенского в это десятилетие была многогранной. Она состояла из рутинной, повседневной службы директора департамента (кстати, вице-директором у него был дед В. В. Набокова, будущий министр юстиции Д. Н. Набоков). Кроме того, он был из числа тех сотрудников Морского министерства, кого великий князь Константин Николаевич постоянно привлекал как правоведа. Он занимался кодификацией тех морских и военно-морских законов, которые во второй половине 1850-х годов систематизировались, дополнялись, изменялись в особых комиссиях. Как доверенное лицо генерал-адмирала он постоянно исполнял его поручения. В 1856 г. Оболенский подготавливал поездку группы российских литераторов, в числе которых был А. Н. Островский, вниз по Волге с целью изучения экономики и быта приволжского населения. Поездка была организована под эгидой Морского министерства и должна была иметь результатом серию статей о состоянии экономики и жизни Поволжья для издаваемого министерством журнала «Морской сборник».
В самом начале 1854 г., по приватной просьбе генерал-адмирала, Оболенский ездил на Дон с целью выяснения возможности добычи там угля на случай, если обострившиеся отношения с Англией прервут поступление в Россию английского антрацита. Он не только убедился в реальности его добычи, но еще и договорился о таких поставках. Был он командирован и в Николаев с инспекционно-ревизионной целью (1857 г.), когда великого князя уведомили о наличии в этом порту злоупотреблений и хищений. Каждая такая поездка укрепляла его репутацию и сопровождалась выражением благодарности.
Д. А. Оболенский, работая в передовом министерстве того времени, способствовал продвижению разрабатываемых тогда реформ. Большое значение в деле отмены крепостного права и той формы, которую приняла крестьянская реформа 1861 г., сыграла записка его родственника, друга и бесспорно авторитетного человека Ю. Ф. Самарина. Участие Оболенского в крестьянской реформе выразилось в том, что он помогал ее распространению. Гораздо большим было его участие в судебной реформе. По мнению исследователя, занимавшегося ее историей, «еще предстоит» в полной мере оценить вклад Оболенского в принятие этой считающейся самой последовательной и демократической реформы 1860-х годов. М. Г. Коротких рассказывает: когда правительственные круги начали, вслед за разработкой крестьянской реформы, готовить столь же назревшую судебную и стали формировать концепцию нового судоустройства, то обратились к уже имевшемуся в России опыту подготовки законопроектов по судебной части. Причастный к этому председатель II отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии Д. Н. Блудов подал Александру II записку, доказывая, что Россия еще не готова к широкомасштабной реформе, во всяком случае к суду гласному, с участием адвокатов и присяжных заседателей. Император, предпочитавший во всем «постепенность», немедленно согласился, и предстоящая реформа сразу же была ограничена очень узкими рамками. Тогда великий князь опять-таки обратился с личной просьбой к Оболенскому, находившемуся за границей, дать отзыв о записке Блудова. Тот написал отзыв, настаивая на полнокровной судебной реформе, которая бы учла все последние достижения мировой юридической науки
и практики, отстаивая гласность, состязательность сторон, что достигалось включением в судебный процесс адвокатов, и своего рода учет общественного мнения с помощью создания суда присяжных. Константин Николаевич распространил отзыв Оболенского, который не только произвел сильное впечатление своей убедительностью, но еще и повернул на новый путь приостановленный было процесс разработки судебной реформы[9].
Еще большим было участие Оболенского в деле разработки цензурной реформы. В марте 1862 г. он, чиновник Морского ведомства, был по высочайшему повелению поставлен во главе комиссии, приступившей к разработке законопроекта цензурного Устава. Такое на первый взгляд странное назначение имеет простое объяснение. Александр II, решившийся на проведение «пакета» реформ, вынужден был искать министров, способных для их разработки и проведения, и в декабре 1861 г. назначил сотрудника Морского министерства А. В. Головнина министром народного просвещения. Одной из важнейших задач этого министерства было преобразование цензуры, находившейся тогда в ведении Министерства просвещения. Цензурная реформа была до такой степени сложным делом, что, начатая сразу же после смены на престоле верховного правителя, долго не могла быть доведена до законосовещательного учреждения. Российская бюрократия была еще не готова воспринять какую бы то ни было мысль о смягчении цензуры: все действия бюрократии в широком понимании этого слова были неподконтрольны общественному мнению, и она не соглашалась стать предметом обсуждения. Предварительная цензура улавливала критические статьи о политике правительства и вообще все то, что не должно было быть пропущено в печать, держалась за старый порядок. В поисках человека, который бы смог в законопроекте и сохранить контроль администрации над печатью, и одновременно дать прессе некоторый «простор» и «гласность», А. В. Головний обратился к Оболенскому, принявшемуся за дело.
Д. А. Оболенский стал председателем двух комиссий, разработавших в 1862 г. проект новых правил о печати — сначала для Министерства народного просвещения, а затем, на следующий год, когда цензура перешла в ведение Министерства внутренних дел, — другую редакцию проекта. Работал он в тяжелейших условиях, испытывая давление со стороны литераторов, общественных деятелей — между прочим, старого друга И. С. Аксакова, в то время предлагавшего цензуру вообще уничтожить[10], — и административных сфер, настаивавших на сохранении для себя возможности влиять на печать.
Д. А. Оболенский, которому мы обязаны тем, что располагаем обильным изданием документов по истории цензуры, разного рода очерками, справками, сводками, собраниями постановлений (это было предназначено для обеспечения полноценной работы комиссии), сумел пройти между Сциллой и Харибдой, между обществом и властью, сохранив цензуру для части изданий и предложив столичной периодической печати право выходить безцензурно, подвергаясь лишь дотоле не существовавшей цензуре «последовательной», карающей за нарушение закона о печати. В недрах его комиссии была разработана и структура управления цензурой, просуществовавшая вплоть до революции.
1863 год, как и 1853-й, был в жизни Д. А. Оболенского поворотным: он ушел из Морского министерства в Министерство финансов. Это был естественный путь «константиновцев». К тому времени великий князь, еще в 1857 г выведенный Александром II на путь общегосударственной, а не только ведомственной, деятельности, покинул Петербург; его окружение — А. В. Головний, Μ. X. Рейтери, Д. А. Толстой — оставило ведомство. Μ. X. Рейтери стал министром финансов, сам Оболенский дослужился до чина тайного советника и перерос, таким образом, свою должность. Очевидно, Рейтерн учитывал это обстоятельство, приглашая Оболенского на должность директора Департамента внешней торговли, ведь тайный советник — это должность товарища министра и даже министра. Оболенский в очередной раз должен был погрузиться в новую, неведомую ему сферу, хотя отчасти и соприкасавшуюся с его прежней деятельностью.
По-видимому, в будущем Оболенскому была уготована должность товарища министра финансов, но повороты судьбы не вывели его к этому посту. В 1863 г. Он принял Департамент внешней торговли, который объединял под своей властью и хозяйственные, и финансовые дела: директор департамента должен был заниматься как организацией таможенной службы, так и собственно таможенными доходами.
Д. А. Оболенский перешел в Министерство финансов в тяжелое для российских финансов и управлявшего ими ведомства время. От нового министра М. X. Рейтерна требовалось решение нелегкой задачи оздоровления российской казны, опустошенной Крымской войной, финансирования проводимых реформ (кредитование выкупной операции по крестьянской реформе, перевооружения армии и флота и т. п.). Рейтерн, которого специально готовили на должность министра финансов, начал свою деятельность с попытки укрепления курса рубля, истощенного выпуском бумажных денег и займами. Создав золотой запас, он объявил о переходе в начале 1863 г. на свободный размен бумажных денег на звонкую монету. Однако тогда же начавшееся восстание в Царстве Польском сорвало эту реформу, потребовав чрезвычайных расходов на обеспечение его подавления. К тому же российские обладатели бумажных денег не стали ждать лучших времен и поспешили с совершением обменных операций. Осенью 1863 г. обмен бумажных денег на монету из драгоценных металлов пришлось прекратить. По репутации министра и его амбициям был нанесен тяжкий удар, и он стал осторожней в своей программе. А вскоре Россия вообще попала вслед за странами Западной Европы в полосу экономического кризиса, министр финансов подвергся прямым нападкам коллег и оказался на грани отставки. Ему стали искать замену и нашли в бывшем сослуживце Оболенского по Морскому министерству — С. А. Грейге, в финансовых способностях которого почти все сомневались. Но, поскольку министру финансов была предоставлена возможность подать экономическую программу, а вместе с тем откладывалась и его отставка, то С. А. Грейг был на это время назначен товарищем министра финансов, а значит, если Рейтерн и вынашивал план назначения Оболенского своим заместителем, то с назначением Грейга он должен был оставить его, и Оболенский оказался снова в должности директора Департамента, — сначала внешней торговли. Через год после его вступления в должность в Министерстве финансов были произведены структурные изменения, и Департамент внешней торговли, занимавшийся разного рода хозяйственными и техническими делами по организации внешнеторговой деятельности России, а с другой стороны, финансовой, — таможенными сборами, был разделен. Сама внешняя торговля вошла в другой департамент (Департамент торговли и мануфактур, составив нечто вроде торгово-промышленного отдела внутри Министерства финансов), а Оболенскому была оставлена собственно налоговая, т. е. финансовая, часть, что косвенно свидетельствует о том, что его готовили к обретению налогового и финансового опыта.
Дневника в то время, т. е. в 1860-е годы, он не вел, и потому судить о том, что его занимало, довольно трудно. Но можно наметить несколько важных акций финансового ведомства, в которых он по долгу службы принимал непосредственное участие.
Это, во-первых, его включение в состав учрежденной еще в 1859 г., примерно тогда, когда правительство сформировало свою условную программу реформ, так называемой Податной комиссии. Ее официальное название — Высочайше учрежденная комиссия по пересмотру системы податей и сборов. Иначе говоря, ей предстояло найти оптимальные принципы налогообложения. Поскольку правительство опасалось, что простое повышение прямых налогов, которые платили низшие, «податные состояния», неэффективно, ибо может привести только к росту недоимки, была создана Податная комиссия. При учреждении ей были, как водится, поставлены задачи трудные, если вообще разрешимые: отказаться от сословности в деле налогообложения, отменить подушную подать, составлявшую самый большой прямой налог в России, понизить лежащие на крестьянах подати. При этом комиссии надлежало еще и обеспечить принятие таких мер, которые бы не допускали уменьшения поступлений в казну. Но главной ее целью все же было преобразование подушной подати. Податная комиссия прошла уже пик своей активности, но это была очень хорошая школа для постижения экономической теории и практики. Деятельность Комиссии (во главе ее стоял известный экономист Ю. А. Гагемейстер) была хорошо организована, ее члены изучали постановку налогового дела в странах Западной Европы, обсуждали предложения о преобразовании налогов, печатали «Труды» Комиссии, собирались на заседания. Правда, при обилии изданных ею трудов практически за два десятка лет существования она, опутанная неисполнимыми инструкциями, так и не смогла предложить что-либо, радикально выводящее налоговую систему из кризиса, но, несомненно, участие в ее работе было превосходной школой, где собрались сильные экономисты-практики и ученые. Только в конце 1860-х годов Податная комиссия выработала проект превращения личной подушной подати в реальный налог на земли и усадьбы крестьянского населения, т. е., по сути дела, сохранила в тех же размерах подушную подать и того же налогоплательщика. Поэтому проект ее был отклонен и остался нереализованным[11].
Во-вторых, Оболенский занялся улучшением дела со сбором таможенных пошлин, причем, поскольку в то время таможенная политика не менялась существенно, внимание директора Таможенного департамента было сосредоточено главным образом на том, чтобы препятствовать контрабандной торговле на российской западной границе, прежде всего с Австрией. Почти ежегодно летом, когда другие отправлялись в вакационное время в отпуск в имения, за границу и т. п., он отправлялся ревизовать таможни Юго-Западных губерний России, Царства Польского, Бессарабии, причерноморских городов, с тем чтобы обнаружить злоупотребления.
И, наконец, третье направление его деятельности, — это участие в работе Тарифной комиссии.
Постановка вопроса о тарифах была связана с представленной министром финансов осенью 1866 г. программой оздоровления российских финансов, найденной столь успешной, что вопрос об отставке был снят с повестки дня, между прочим, в немалой мере еще и потому, что его товарищ, С. А. Грейг, обнаружил свою неподготовленность к деятельности в этой сфере. Рейтерн предложил оздоровить финансы режимом экономии, созданием бездефицитного бюджета, усиленным железнодорожным строительством. Но в активные действия он не включался, заслужив упреки в том, что он не министр финансов, а министр Казначейства. Он проводил осторожную, бережливую политику, пытаясь отыскать хоть небольшие источники возрастания доходов. Один из них Рейтерн увидел в возможности извлечь их из Таможенного ведомства. В 1867 г. он представил записку о пересмотре таможенного тарифа. Поскольку ей придавалось принципиальное, программное значение, дело рассматривалось 29 июня 1867 г. под председательством К. В. Чевкина. Пересмотр таможенного тарифа характеризовался как «достижение правильной торговли». С этой целью он предлагал создать Тарифную комиссию, и она была утверждена при Государственном совете. Рейтерн, говоривший, несомненно, с голоса директора департамента, указывал на необходимость пересмотра таможенного тарифа 1857 г., который не дал приращения таможенных доходов, между тем как возрастающие государственные расходы требовали источников поступления на их покрытие. Он не настаивал на радикальном их изменении, но считал нужным изменить их в таких частностях, которые будут признаны «полезными», причем (и здесь видно влияние инспекционных поездок Д. А. Оболенского) «полезность» должна была сообразовываться с тем, что высокие пошлины способствуют развитию контрабанды и должны быть снижены — как с целью противодействия значительному контрабандному промыслу, вызванному чрезмерностью пошлин, так и в видах облегчения правильной торговли. Тарифная комиссия, по его мнению, внесла бы свои предложения относительно «большей соразмерности» между тарифными пошлинами и ценами на такие товары, которые «водворяются контрабандой». Кроме того, речь шла об упрощении тарифной сетки и таможенного счетоводства, уравнении пошлин по морскому и сухопутному привозу, о понижении пошлин с «фабричных материалов».
Итак, Тарифная комиссия должна была внести в тариф 1857 г. такие изменения, которые бы способствовали развитию внешней торговли и тем самым увеличили таможенный доход, а с тем вместе упростили бы отчетность по таможенным доходам, унифицировав некоторые тарифы и сократив их число. Контрабанду предполагалось обуздать снижением тех пошлин, которые ее порождают, ибо, считали в Министерстве финансов, контрабанда возникает тогда, когда пошлины на товар высоки, а спрос на товар по более низкой цене наличествует.
Предложения Рейтерна были приняты, Комиссия создана, вскоре такие предложения были ею представлены, что свидетельствует об их предварительной подготовленности, и Оболенский в числе прочих лиц, занимавшихся тарифом, получил поощрение в виде единовременной премии в 3 тыс. руб.[12] Министерство финансов не давало ему возможности дальнейшего продвижения по службе. Между тем правила чиновной «карьеры» требовали восхождения по ступеням должностной лестницы. Поэтому в начале 1870 г. он переходит в Министерство государственных имуществ, во главе которого в то время стоял Александр Алексеевич Зеленый. Оболенский был приглашен на место товарища министра. После должности директора департамента это было продвижение по службе, еще один шаг к министерскому креслу.
Министерство государственных имуществ в то время уже прочно перешло в разряд министерств второстепенных. Созданное в 1837 г. для проведения реформы в государственной деревне, оно должно было выработать модель организации жизни деревни крепостной, помещичьей. Но после отмены крепостного права в последней и принятия закона 1866 г. о повторной реформе деревни государственной с целью уравнения положения освобожденных крепостных и государственных крестьян Министерство государственных имуществ, со временем обросшее подразделениями и обязанностями, как бы утратило необходимость в самостоятельном существовании, поскольку все крестьянство постепенно должно было перейти в ведение Министерства внутренних дел. Можно было продолжать поддерживать его существование, можно было подумать над его преобразованием и приданием ему новых функций. А. А. Зеленый, в это время уже часто и подолгу болевший, готовился к уходу на покой. Оболенский в короткое время своего пребывания в качестве товарища министра часто его замещает, встречается с императором на еженедельно представляемых докладах по министерским делам, как важным, так и незначительным (вроде наград служащим). Назначение его в Министерство государственных имуществ совпало со временем, когда в правительственных кругах в очередной раз возникает мысль о необходимости создания в России специального Министерства промышленности и торговли. Александр II, встречаясь с Оболенским, посвящает его в эти планы, и становится очевидным, что именно ему предстоит занять кресло либо министра государственных имуществ, поскольку Зеленый уже говорит об отставке, либо стать главой вновь созданного Министерства торговли и промышленности. В 1870 г., как раз в момент перехода в Министерство государственных имуществ, он возобновляет ведение дневника, и все обстоятельства управления им этим министерством и ухода из него там нашли некоторое отражение.
Однако в дело вмешивается случай. Покушение 4 апреля 1866 г. Д. В. Каракозова на императора явилось тревожным знаком недовольства, и Александр II пошел проторенным путем смены министров и укрепления власти. Ушел в отставку прежний шеф жандармов и был заменен графом П. А. Шуваловым — человеком молодым, амбициозным и принадлежавшим к той группе дворянства, которую называли «аристократической партией». Уволен был министр народного просвещения. В новом шефе жандармов, должность которого в этом случае приобретала первостепенное значение, недовольное крестьянской реформой поместное дворянство увидело своего лидера. Нужно сказать, что отмена крепостного права была осуществлена в обстановке завышенных ожиданий относительно ее благих последствий: бесспорные преимущества вольного труда не требовали доказательств, нравственный аргумент о негуманности владения «крещеной собственностью» и единодушный призыв общественного мнения к либеральным реформам рассеяли консервативную дворянскую оппозицию и позволили правительству провести серию реформ. Крестьянская реформа шла с большими сложностями, мгновенного возрождения крестьянского хозяйства не произошло, а дворянское явно начало приходить в упадок. Неурожай 1867–1868 гг. в большой (более двух десятков) группе губерний был тревожным знаком, ибо принес власти вместо ожидавшегося процветания и приращения доходов увеличенные обязанности помощи голодающей деревне. Подняла голову консервативная дворянская оппозиция и заговорила о плачевных результатах «эмансипации», разорившей помещичьи хозяйства и не принесшей благополучия свободному крестьянству. Представители аристократической оппозиции начинают оказывать нажим на правительство, с тем чтобы оценить итоги реформы и внести в нее коррективы[13].
Расколовшаяся в 1866 г. в связи с переменами в министерском корпусе сановная верхушка впала в состояние постоянных стычек по всем вопросам внутренней политики — стычек, происходивших в Государственном совете и Комитете министров. Однако это была борьба по частностям между сторонниками великого князя Константина Николаевича, отстаивавшими неприкосновенность проведенных реформ, принцип бессословности, буржуазные ценности, и группировкой шефа жандармов, при каждом конкретном случае стремившейся возродить принцип сословности, означавший упрочение позиций дворянства — экономических, социальных и даже политических. К 1872 г. эта последняя, обладавшая к тому же рычагами воздействия на власть и имевшая энергичного лидера, остро ощутила отсутствие в своих рядах идеолога, способного сконструировать убедительную программу возрождения дворянства — экономически, обеспечив ему благоприятные условия хозяйствования в собственных имениях (в частности, выполнение условий найма со стороны сельскохозяйственных рабочих), социально (возвысив его роль в крестьянском самоуправлении, земстве, судах и проч.) и даже политически (предоставив возможность представителям дворянства принимать участие в законосовещательной деятельности). Среди действующих министров, поддерживающих Шувалова, идеологов не нашлось, и тогда было решено вернуть отставленного в 1868 г. министра внутренних дел к активной политической роли, предоставив ему министерский портфель. А. А. Зеленый уходил в отставку, и выбор Александра II, за которым стоял шеф жандармов, был предопределен. Во главе Министерства государственных имуществ был поставлен в апреле 1872 г. опытный администратор, очень умный и образованный человек, умелый тактик — П. А. Валуев, который к тому же пришел со своими представлениями о помощниках. Оболенский, уже работавший в полную силу в качестве фактического министра, подал в отставку. Такова подоплека его ухода из министерской сферы.
Эту отставку — вместо ожидаемого назначения на пост министра — Александр II, не любивший обижать людей, постарался максимально смягчить. Удачным завершением карьеры отставных министров (но не их товарищей) считалось назначение их в члены Государственного совета. Там сановники на почетном месте либо доживали свой век, либо могли — в случае достаточных сил и способностей — дождаться назначения на новую административную должность для более активной работы.
Государственный совет — высшее законосовещательное учреждение Российской империи — оказался последним пристанищем Оболенского. Последние десять лет жизни и службы были отданы именно этому учреждению. Государственный совет, в то время насчитывающий всего лишь около полусотни человек, был учреждением, в котором его члены могли предаваться ничегонеделанию, ибо Совет собирался один раз в неделю, иногда для решения какой-нибудь законодательной «вермишели», но он же давал возможность людям деятельным принимать активное участие в его работе: читать множество бумаг, выступать по законопроектам, отстаивая правовые, социальные — либеральные или консервативные — принципы. Часть членов Совета, заседавшего тогда еще в Зимнем дворце (Мариинский для Государственного совета был куплен только в середине 80-х годов), прикреплялась к департаментам Совета, где наибольшая работа падала на них. Самым важным был Департамент законов, и тот факт, что Д. А. Оболенский оказался именно в его составе, показывает, что Александр II и председатель Совета великий князь Константин Николаевич намеревались в полной мере использовать его возможности правоведа и уже опытного администратора. Кстати, он оказался под начальством того же великого князя, у которого в Морском министерстве начинал полным надежд и сил административную службу. Однако и он сам и великий князь были уже не теми молодыми людьми, которые встретились двадцать лет назад. В его дневнике встречаются и критические высказывания о патроне, превратившемся в разочарованного и много претерпевшего человека и чиновника.
Для Государственного совета Оболенский был явным приобретением: Совет получил дельного сотрудника. Оболенский же оказался среди знакомых лиц. Там заседал и А. В. Головний, а также многие другие лица, с которыми он служил либо постоянно встречался, во всяком случае — весь министерский корпус. В Государственном совете он переживает смерть великой княгини Елены Павловны и успевает написать о ней воспоминания, самые дельные и значительные из известных, рисующие и ее портрет, и полезную деятельность[14]. Тогда же он, просмотрев бумаги семейного архива, готовит публикацию документов, обнаруживая присущую ему склонность к истории и литературе. В 1876 г. выходит его трудами и финансированием сборник «Хроника недавней старины»[15].
Д. А. Оболенский в это время — член многочисленных комиссий, учрежденных при Государственном совете для подготовки к обсуждению разного рода правовых вопросов: введения мирового суда в Прибалтийских губерниях, осуществления тюремного преобразования и проч.
Если губернаторские отчеты рассматривались в Комитете министров, то отчеты министров рассматривались в Государственном совете, и самым тяжелым испытанием для Оболенского явилось включение его в число тех членов Совета, на которых была возложена экспертиза отчета министра народного просвещения Д. А. Толстого. Толстой в то время был для людей либеральных воззрений фигурой одиозной, заслужившей критику своим насаждением классических языков с целью отвлечения молодежи от политики и воспитания через классические гимназии людей консервативного склада, а стало быть, верноподданных, преданных монарху. Поскольку в 70-е годы он находился в конфронтации с военным министром Д. А. Милютиным, пестовавшим Военно-хирургическую академию, Женские курсы при ней, а в Академии несколько студентов были признаны неблагонадежными, участниками студенческого движения, то Оболенский, после колебаний, решился на мягкую критику политики в области просвещения своего прежнего товарища. Эта добросовестность означала нарушение чиновных правил, по которым большинство строго следовало закону кастовой поддержки, и поступок Оболенского, действовавшего (как и князь А. И. Васильчиков, публично критиковавший Толстого) по убеждению и чувству чести, вызвал негодование Д. А. Толстого и непонимание Александра II, объяснившего это простой неприязнью. Для Оболенского это было тяжелейшее переживание. Хотя это не повлияло на их отношения с императором, но вызвало у него глубокую обиду.
В 1870-е годы дневник Оболенского содержит больше общеполитических документов, чем частных записей, затем надвигается война, всколыхнувшая все российское общество, и здесь его позиция близка к позиции И. С. Аксакова с его страстной защитой «славянского дела», негодованием по отношению к Германии, а заодно и к российским руководителям внешней политики, включая императора.
Вторая половина 70-х годов для Оболенского — время тяжких переживаний вследствие неудач России сначала в войне, позже, при заключении Берлинского мира, — из-за его условий, при утрате людей, которыми он очень дорожил, — Ю. Ф. Самарина, князя В. А. Черкасского.
Волнения, вызванные развитием событий на Балканах (1875–1878), перешли в тревогу в связи с событиями в самой России: он вообще при ведении дневника переходит на сплошные газетные материалы. Возможно, это нежелание раскрывать собственные переживания, стремление заменить их печатными материалами, чтобы читатель представлял себе ту беспокойную обстановку, в которой жил их предок: покушения на губернаторов, шефа жандармов, императора создавали постоянное ощущение опасности, убеждение, что правительство не контролирует события, не может справиться с небольшой группой «кинжальщиков» и бомбометателей.
До смерти Александра II, в царствование которого он развернулся в полной мере как способный государственный деятель и к деяниям которого был непосредственно причастен, он не дожил нескольких недель. Д. А. Оболенский скончался 22 января 1881 г. от крупозного воспаления легких, проболев неделю. Об этом мы узнаем из некролога его брата Михаила, ковенского губернатора, который скончался от той же болезни пятью годами позже[16].
* * *
Оболенский в тексте нередко называет свои записки дневником или журналом. Дневником их называет и Б. Э. Нольде. Формально есть основания называть эти записи дневником, ибо они задумывались как дневник: заметки снабжены датами, сообщающими, когда заносилась та или иная запись. Но все же это скорее «записки», нежели регулярно ведущийся дневник, это смешение дневниковых записей и заметок, рассуждений, документов.
Сам Оболенский называл свои записи по-разному, в том числе и «записками». По его собственному признанию, он неоднократно пытался начать вести дневник и, наконец, в 1853–1854 гг., в очередной раз принялся за ведение своих «тетрадей», «журнала» и заполнял их (с перерывами) по 1879 г. включительно. Ключом к его дневнику служат первые странички дошедшей до нас копии: он начал вести «записки» тридцатилетним человеком, и им двигали разного рода побуждения. Будучи человеком уже зрелым, образованным, он не мог не ставить перед собой вопроса о содержании записей и, отвергая принцип поденных записей, начал вести их в очередной раз только тогда, когда, по его собственному выражению, «определил себе положительно цель, для которой принялся писать». Ему — как мемуаристу — казалось неприемлемым заносить в дневник «подробности жизни» либо заурядные общественные события. Вместе с тем его неизменный интерес к прошедшему, к предкам, ощущение преемственности поколений создавали и закрепляли у него чувство, переходящее в убеждение о несомненном интересе потомков к прошедшему, рассказанному именно близкими людьми. Поэтому его «Записки» — документ своеобразный. В них почти отсутствуют записи о семейной жизни: рассказ о смерти отца, замечания о путешествиях, о семье, детях крайне редки и беглы. Точно так же его «Записки» — это и не служебная хроника. Он отмечал только те события, которые воспринимались им как выбивающиеся из общего ряда, значительные. В качестве ближайшей цели он определил назначение «Записок» так: это документ, рассказывающий его потомкам о судьбе предка, но, несомненно, что своим отказом от ведения записей о семье, домашней жизни, он предполагал и возможность более широкого круга читателей, которые посмотрят на прошедшее глазами свидетеля событий тех лет. Сформулированная им цель «Записок» — «отмечать все, что замечательного мною видится и слышится». Это забота о сохранении таких сведений, которые известны только автору и которые, не будучи им отмечены, могут быть утрачены.
К ведению записей Оболенского подталкивала мысль, что его положение дает ему возможность иметь сведения, которые может передать следующим поколениям только он. Особенность его «Записок» — обилие введенных в текст документов. Они — неотъемлемая часть дневника, иногда просто заменяющая самые записи, ибо, по мнению автора, эти документы в полной мере передают и события, в которых жил и действовал автор, и дают возможность представить его чувства.
Д. А. Оболенский, очевидно, принадлежал к числу тех мемуаристов, кто не считал возможным обнажать интимные чувства, был щепетилен в этом отношении, считая их только личными переживаниями. Поэтому его записки — это, конечно, восприятие времени, записки современника, и таким было бы их справедливое название.
Записи он вел нерегулярно, иногда забрасывая свои тетради на годы, и даже (1861–1869) на многие годы. Очевидно, он не был педантом, который мог каждодневно усаживаться за свои записи, в таком случае неизбежно превратившиеся в сухую хронику. Но потом свойственное ему ощущение движения времени, историзма, волнения человека своей эпохи, очень сильное негодование, встряска, разочарование — снова приводили его к дневнику. Обычно это было связано с внешнеполитическими событиями, когда он вместе с другими опасался за судьбу страны, становился на ту или иную сторону, либо в кризисные для России времена. Конец 1870-х годов, когда в России нарастал вал кризиса, связанного с народнической и народовольческой деятельностью, с террором, бессилием власти, запечатлен в его «Записках» преимущественно с помощью правительственных сообщений, хроникальных газетных заметок. Он как бы отстраняется от выплескивания эмоций, но одновременно пытается сохранить для внуков атмосферу тревожных дней.
У дневника Оболенского сложная структура: некоторая спонтанность каждой очередной попытки ведения дневника подталкивала его довольно рациональную натуру к каким-то предварительным пояснениям, представлению записок, и потому им предшествует незаконченный отрывок воспоминаний о детстве, юности. Видимо, он был написан вовсе не в 1853 г., открывающем «Записки». Упоминание о статье А. С. Хомякова, увидевшей свет только в 1861 г., беглое замечание о прежних патриархальных отношениях помещиков и крестьян и противопоставление их другим, формальным, внешним, говорят о том, что эти воспоминания были написаны или выправлены по крайней мере после 1861 г.
Внешнеполитические события — Крымская война, война с Турцией и связанные с ней коллизии, франко-прусская война — для Оболенского — то, что ближайшим образом задевало его чувства.
Словом, перед нами — дневник человека 50–70-х годов, занимавшего видное место в системе российской чиновной иерархии, передающий как события того времени, в том числе не нашедшие отражения в «повременных» изданиях, так и всплески отношения к ним. Дневник передает двойственность положения Оболенского. С одной стороны, служебный ранг, принадлежность к правительственным кругам заставляют его придерживаться официальной точки зрения, и если не принимать, то во всяком случае понимать ее, с другой стороны — его, условно говоря, «славянофильские» симпатии делают ему близкими критические выступления Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, И. С. Аксакова против правительства. И он с явной симпатией включает их публичные заявления, письма в состав своих записей. Его «Записки» — это «живая», «дышащая» история середины XIX в. с ее тревогами и радостями, сомнениями, достижениями и издержками.
У автора свои пристрастия. Положение члена Государственного совета, близость к императорской семье, министрам, бюрократии заставляют его тянуть служебную лямку, которую он стремится тянуть сознательно и с пользой для общества. С другой стороны, существует и параллельная внутренняя жизнь — и здесь дневник, очевидно, был своеобразной отдушиной: ему он мог поверять свои тревоги и несогласия, он давал ему возможность внутренне поддерживать «славянофильскую» оппозицию, огорчаться за друзей, иногда бранить их — но и симпатизировать их гражданскому поведению, примыкать к ним мысленно.
* * *
Впервые публично факт существования «Записок» Д. А. Оболенского был оглашен в «Русской мысли» за 1915 г. (№ 4. С. 96–122), когда появилась статья С. А. Гагарина «Константинопольские проливы: Историко-политический очерк». Автор в самом начале статьи поместил список литературы, на которую опирался, и в этом списке значатся «Записки Д. А. Оболенского 1850–1872 гг. (не изданы)».
В № 5 была помещена вторая часть очерка, с пометой «Окончание» и подписью «Князь Сергей Гагарин», (это гл. IV, V и «Заключение»). На с. 51 в подстрочном примечании сказано: «Полный текст циркулярной депеши князя Горчакова приведен в т. III, с. 83 и след. „Записок князя Д. А. Оболенского“», т. е. автор, не имея под рукой другого источника, привел документ по тексту «Записок», где этот циркуляр был воспроизведен. И здесь же, в гл. V — «Лондонская конвенция 1871 г.» (работа князя Гагарина была посвящена дипломатической истории Константинопольских проливов), — было сказано (см. примеч. 3 на с. 52): «Об отношении русского общества к циркуляру кн. Горчакова см. в записках князя Оболенского (Т III, с. 151 и след.)». Совпадение ссылки с текстом нашего экземпляра позволяет говорить о том, что в то время уже существовала машинописная копия, одним из экземпляров которой мы располагаем, а, стало быть, наша копия — из числа тех, что были у С. А. Гагарина.
Затем о «Записках» Оболенского появились сведения за границей. Б. Э. Ноль-де в своей книге о Ю. Ф. Самарине, впервые опубликованной в Праге в 20-е годы, упомянув, что он написал ее в 1918–1919 гг. в России (2-е изд.: Париж, 1978. С. 5), скрупулезно называя свои источники, сообщил, что он работал с «Записками» Оболенского, в следующих выражениях: «…я имел возможность пользоваться необнародованными письмами… князя Д. А. Оболенского (в его рукописном дневнике, собственности] покойной Е. Д. Новосильцовой», откуда Б. Э. Нольде извлекал письма Ю. Ф. Самарина (Е. Д. Новосильцова — дочь Д. А. Оболенского Елизавета).
Таким образом, у С. А. Гагарина в это время существует машинописная копия, а у Е. Д. Новосильцовой в ее архиве лежит рукописный дневник, возможно подлинный.
Дальнейшая судьба подлинника «Записок» и копий неизвестна. Очевидно, машинописные копии разошлись по семьям потомков. Во всяком случае передача А. Б. Татищевым, правнуком Д. А. Оболенского, жителем США, в 1977 г. ксерокопии «Записок» в нынешний Российский государственный исторический архив говорит именно об этом. Машинописные копии «Записок» обнаруживаются в разных хранилищах: в Российском государственном архиве литературы и искусства, в Российской Национальной библиотеке, где в Отделе рукописей хранится второй том машинописной копии. Возможно и обнаружение их в других хранилищах и частных архивах.
* * *
«Записки» государственного деятеля такого ранга — источник редкий, это диктует необходимость введения его в научный и читательский оборот. Именно эту цель и преследует наше издание. Мы ставим своей задачей точную передачу текста «Записок» по той копии, которая была предоставлена правнуком Д. А. Оболенского А. П. Гагариным для издания Санкт-Петербургским институтом истории. Редакторские вторжения в текст минимальны. Текст приведен в соответствие с существующими ныне правилами орфографии и пунктуации. Конъектуры введены в угловые скобки. Немногочисленные неясные места и пропуски указаны под строкой буквами русского алфавита. Примечания автора даны также под строкой и обозначены римскими цифрами. Вставленные автором в текст газетные материалы, письма и выдержки из них даны петитом. Подчеркнутое автором в тексте дается вразрядку. Явные опечатки машинописи исправлены без оговорок. Переводы иностранных текстов обозначены звездочками и помещены под строкой; при переводах с французского[17] язык оригинала не указывается.
В. Г. ЧернухаПервый том Вступление. 1853 год Детство. 1854 и 1855 годы
Вступление. 1853 год
17-го мая. Давно уже я собираюсь писать свои записки и несколько раз даже принимался за это дело, но, видно, всегда принимался не в добрый час или просто недоставало терпения, но желание <заниматься> ими овладело при самом начале исполнения.
Всегда останавливал меня вопрос, с чего начать. Мне казалось странным ни с того ни с сего писать свои записки и начать дневник свой с какого-нибудь ничем не замечательного дня, — я же думал: вот дождусь какого-нибудь особенного, замечательного происшествия или переворота в моей жизни и тогда начну писать уже каждый день. Но случаи эти не приходили, намерение мое все-таки не исполнялось. Теперь решаюсь поступить иначе: я определил себе положительно цель, для которой принимаюсь писать.
Подробности жизни всякого человека, иногда не заключающие в себе ничего особенно любопытного для современников, получают значение и цену в глазах близких, а в особенности детей. Я сам помню, с каким любопытством расспрашивал я своего отца о его прошедшем и как просил его записать кое-что из виденного и слышанного им. Мне также Бог дал детей, и мне приятно думать, что если Богу угодно будет сохранить их, то записки мои живее напоминать им станут того, кто так любил их; быть может, также кто-либо из них захочет писать и свой дневник, и тогда как любопытно будет третьему поколению читать живую историю общественной и семейной жизни их отцов.
В записках моих я намерен отмечать все, что замечательного мною видится и слышится, и прилагать в виде прибавлений разные документы.
Не знаю, что ожидает меня в будущем и что угодно будет провидению из меня сделать, но уже в настоящем моем положении я поставлен в возможность многое видеть и слышать такого, что имеет не один только интерес современный, а зрелый возраст и некоторая опытность, приобретенная мною на длительной службе, доставляет мне возможность судить о многом здраво, и, во всяком случае, мнения мои будут любопытны для потомства как мнения современника. На меня всегда производило большое впечатление суждение летописца о современном ему событии, поэтому я всегда предпочитаю читать историю по ее источникам.
Вот вкратце цель моего дневника, но я даю себе при этом слово не стеснять ни мою искренность и не рисоваться в записках моих для потомства; одно действительно похвальное свойство, которое я в себе чувствую и которое во мне рождено — это любовь к правде, я ненавижу ложь, в какой бы форме она ни проявлялась, мне Бог дал какой-то инстинкт, который бессознательно во мне действует, возбуждая какое-то отвращение от всего, что не есть голая правда. С другой стороны, я убежден, что словами никого не надуешь и ложь обнаружится, как ее ни скрывай; хуже будет, если потомство при чтении записок, остановясь на каком-нибудь сомнительном месте, скажет с насмешливой улыбкой: «Ну, здесь, кажется, дедушка прихвастнул». Знаю также, что и самому хочется покрасоваться перед самим собою, и даже трудно от этого удержаться, но я обещаю себе быть осторожным. Все, что будет касаться до меня лично, буду писать откровенно, без обиняков, не скрывая ни хорошего, ни дурного, потому что пишу записки для себя и при жизни не намерен показывать никому то, что любопытно только для меня; на детей своих надеюсь, что ежели эти записки попадутся в руки им, то они не посмеются над «срамотой» отца их. Я не намерен также писать свою исповедь, а потому не стану говорить о тех делах своих, которые свойственны всякому человеку и повествование о которых не представляет вовсе ничего назидательного и любопытного. Надеюсь, что чистосердечный рассказ мой принесет детям моим пользу.
Прежде чем приступить к дневнику, опишу в главных чертах мои детство, отрочество и юность; при этом останавливаюсь только на тех подробностях, которые остались в моей памяти. У меня сохранилось много разных писем и записок разных времен, пересмотрю все прошедшее. Очень желал бы иметь довольно характера и последовательности, чтобы в точности исполнить все.
Попробую. Дай Бог.
Детство
Родился я в Москве в 1822-м году, октября 26-го, и в память святого великомученика Димитрия назван Димитрием. Еще не отнят я был от груди, как отца моего назначили гражданским губернатором в Калугу, и мать моя переехала туда вслед за ним со всем семейством. Не могу определительно сказать, сколько нас было тогда в живых детей. Знаю, что матушка всего рождала 15 раз; моложе меня были трое, которые родились в Калуге: Юрий, Федор и Владимир. Последние двое умерли в младенческом возрасте. Помнить я себя начинаю в Калуге, в большом губернаторском доме. Детские наши были в третьем этаже, недалеко от спальни матушки; в среднем этаже были парадные комнаты и кабинет батюшки, а также спальня и кабинет дедушки Нелединского-Мелецкого[18], который приехал вместе с маменькой доживать век свой в Калугу. Из первых впечатлений детства остались мне всего <более> памятными, во-первых: доброта матушки и постоянная ее заботливость о нас; нянюшка у нас была Секлетиния Васильевна, добрейшая женщина, принадлежащая к тому типу русских нянюшек, которые уже исчезают, оставляя взамен каких-то полуобразованных мадам с претензиями и непомерными капризами. Нянька, как водится, баловала нас потихоньку от матушки, но помню, что это нам нимало не мешало обожать матушку Хотя я и не совершенно ясно помню лицо матушки, но общее очертание ее припоминаю. Особенно живо представляется она мне в черном, накинутом на кофту салопе, когда утром приходила она в детскую присутствовать при нашем пробуждении. Я вообще, сколько себя помню, был весьма ласковым ребенком: за матушкой бегал я в течение дня как собачонка, но не помню, чтобы она отличала кого-нибудь из нас. Странно, что когда припоминаю свое детство, то мне представляются такие картины, которые сами в себе ничего особенного не заключали, и не могу понять, почему они так глубже врезались в мою память, нежели другие.
Матушка моя скончалась в 1827-м[19] году, когда мне было 5 лет. В эти годы уже сознание ребенка довольно развито, и не мудрено, что я довольно хорошо помню обстоятельства ее кончины, но я, кроме того, живо вспоминаю случаи за несколько лет до ее кончины, так, например: пребывание императрицы Марии Федоровны[20] в Калуге, когда мы все ей представлялись в доме купца Зозина, где императрица останавливалась: мы — все дети — были поставлены в ряд по росту. Нас было тогда 11 человек. Меньший, Юрий, был на руках у кормилицы. Императрица нас всех целовала, а также и кормилицу брата Юрия, которая после этого три дня не мыла лица своего. Помню также, с какой церемонией провезено было тело императрицы Елизаветы Алексеевны через Калугу. Народ вез колесницу, и гроб поставлен был в соборе.
Праздники, которые давал батюшка, также живо остались в моей памяти. Особенно хорошо помню большой маскарад в городском доме накануне Нового года и несколько иллюминаций в загородном доме. Калужская губерния была подчинена тогда витебскому генерал-губернатору князю Η. Н. Хованскому. Он приходился матушке родным дядей по матери. По случаю его приезда всегда бывали праздники — и семейные, и общественные. Помню, однажды разгадывали шараду: восторг, во второй половине шарады мы все участвовали; я был наряжен сбитенщиком. Под конец пели куплеты, сочиненные Василием Пушкиным[21].
Хотя недолго суждено мне было жить в родительском доме и принимать первые впечатления от самого чистого источника— материнского сердца, не менее того, эти немногие годы самого первого моего младенчества имели самое благодетельное влияние на всю мою будущность. Все зародыши добрых начал принимаются человеком только в самом детском его возрасте, а для того, чтобы они принимались плодотворно, необходимо, чтобы все окружающее ребенка было преисполнено тою чистою любовью, которая живет только в добрых и истинно христианских семьях.
Матушка моя была женщина необыкновенная — это был, по словам всех ее знавших, совершенный ангел. Память о ней еще до сих пор сохранилась глубоко в Калуге. Я не встречал ни одного человека, который бы не говорил о ней с неподдельным умилением. Она до такой степени была любима и уважаема всеми в Калуге, что молва о ней дошла и до людей, никогда не видавших ее. Всякий из нас, ее детей, имел к тому множество доказательств. Понятно, что такая женщина одним своим нравственным влиянием и за короткое время могла положить доброе основание в детях, которых любила всей своей ангельской душой. В моей памяти все время до кончины матушки представляется каким-то светлым сновидением, под впечатлением которого я рос и развивался.
В детстве я, хотя был здоров вообще, но нервы мои были, по-видимому, слабы. Это я заключил из следующего факта, который глубоко врезался мне на память. Губернаторский дом, в котором мы жили, находился вблизи присутственных мест[22], и перед домом был городской бульвар, на котором мы обыкновенно гуляли. Утром, перед рекрутским присутствием, собиралось иногда много народу, матери и жены рекрутов, по обыкновению, выли и голосили изо всей мочи. Эта печальная музыка до того раздражала мои нервы, что я плакал целый день и никто не мог успокоить меня. Никому не хотел объявить настоящую причину моих слез, сам не знаю почему. Мне было как-то стыдно. Однажды, когда матушка и няня очень ко мне приставали, чтобы я сказал им, о чем я плачу, я объявил им, что у меня болят зубы. Сейчас послали за каким-то губернским дантистом и стали меня уговаривать позволить выдернуть больной зуб. Чтобы придать мне куражу, помню, что матушка велела прежде себе вытащить зуб, потом посадила меня и со мной сделали ту же операцию. Несмотря на то, слезы мои унялись только тогда, когда мы переехали в загородный дом. Помню также, что было время, когда я постоянно просыпался среди ночи и ревел во все горло. Это происходило частью от страшных снов, частью, и, мне кажется, главным образом, оттого, что мне было очень весело, когда в ожидании моих криков начнут около меня суетиться и хлопотать матушка, нянька и проч. От меня не отходят, а мне и весело. Батюшка, быв занят службой, не много нами занимался, хотя, однако, он сам прихаживал к нам в детскую и мы бывали у него в кабинете.
Дедушка тоже очень любил нас, он редко выходил из своей комнаты, потому что был уже стар и страдал водянкою в ногах. Как теперь его помню в больших вольтеровских креслах с книгою в руках. Он или сам читал, или заставлял себе читать соборного протодиакона, который должен был ему кричать почти каждое слово в ухо. В дни наших именин и рождения обыкновенно приносили к дедушке в комнату целую игрушечную лавку, которая оставалась у него три дня. В течение сих трех дней именинник имел право каждое утро приходить в эту комнату и выбирать себе новую игрушку, но с тем, чтобы, выбрав раз, не переменять свой выбор. Так как мои именины и рождение приходились в один день, то я пользовался этим правом в течение шести дней и получал шесть игрушек.
Так как при нас, кроме нянек, не было никого, то и детские игры не подчинялись никаким особенным правилам и не смешивались с учением; помню также, что я часто наряжался попом, устраивал себе нечто наподобие кадила[23] и представлял служение в церкви, читая разные молитвы: такого рода игру матушка нам не возбраняла, не видя в том никакого кощунства, через это я выучивал много молитв наизусть, присутствовал с большим вниманием при богослужении и получил о нем довольно подробное понятие, прежде чем мне открылся весь тайный и глубокий смысл его. Справедливо говорит Хомяков в одной статье своей «О воспитании»[24], что душевный склад ребенка, который привык сопровождать своих родителей в церковь по праздникам и по воскресеньям, а иногда и в будни, значительно разнится от душевного склада ребенка, которого родители не знают других празднеств, кроме театра, бала и картежных вечеров. В доме нашем соблюдались более или менее обряды, предписываемые православною церковью, а потому мы все нечувствительно приняли в себя те религиозные начала, которые остались в нас на всю жизнь и которые я только теперь понимаю.
В памяти моей живо сохранились последние дни матушки. В конце января 1827-го года, все мы — дети — были больны, у Юрия был круп, а остальные — ветряною оспою. Она не выходила из детской день и ночь и вследствие усталости, а также простуды сама 2-го февраля занемогла горячкою, которая скоро приняла сильное развитие. Выписан был из Москвы доктор Генекен и, сколько могу припомнить, по его совету, поставлены были больной пиявки, сделана горячая ванна, вследствие чего она сильно ослабела и положение ее сделалось безнадежным.
В то же время дедушка Нелединский сильно занемог припадками водяной болезни. В начале болезни матушки он каждый день потихоньку <по нескольку> раз приходил к ней в комнату, но потом делать этого не мог и не вставал со своего кресла. Матушке никто о болезни дедушки не говорил, и она сама о нем ничего не спрашивала, как будто предчувствуя то, что от нее скрывают. 13-го февраля дедушка скончался. Нам об этом ничего не сказали, боясь, чтобы мы не проболтались матушке, к которой нас приводили каждый вечер. На другой день, 15-го[25] февраля, скончалась и матушка, но я при последних минутах ее не присутствовал, ибо спал и нас — меньших детей — не будили, а старшие окружали ее постель. Утром мне сказали о случившемся и повели наверх в спальню, где тело матушки уже покоилось на кушетке. Не помню, что я тогда ощущал и как выражал скорбь свою, но, вероятно, впечатление было сильно, ибо я как теперь вижу все подробности сей плачевной сцены. В одно время две смерти поразили бедного батюшку, положение его было ужасно. Как перенес он это несчастие — действительно непонятно. На ежедневных панихидах, разумеется, был весь город. Смерть матушки поразила всех ее знавших. Плач о ней был непритворный, и в день похорон стечение народу было неимоверное. Я имел несколько раз случай впоследствии слышать от людей совершенно посторонних, что все классы людей единодушно проливали слезы. Еще недавно, в бытность мою в Калуге, какая-то мещанка, узнав, что я сын Аграфены Юрьевны, залилась горючими слезами, вспоминая о ней. Тело матушки похоронено было в Калуге, в Лаврентьевском монастыре, вместе с дедом.
Убитый горем батюшка не знал, как ему с нами быть и кому нас поручить. Самому же заниматься нами ему было совершенно невозможно. Старшая сестра, Катенька, взята была Самариными, вторая, Софинька, отдана тетушке Елене Ивановне, которая жила тогда у графини С. В. Паниной. Братья Андрей и Василий отосланы были вскоре, сколько мне помнится, в Харьков к тетушке Щербатовой, а остальные остались дома, под непосредственной командой добрейшей Екатерины Яковлевны, которая еще жила при матушке и помогала ей учить и надзирать над детьми. Таким образом, вскоре после кончины матушки семейство наше разбрелось, и с тех пор нам не суждено было ни разу всем до единого собраться в одно время под родительский кров.
К нам начали поступать гувернеры, хотя перед сим были у старших братьев несколько немцев и французов, но я их мало помню, ибо был слишком мал. В первый раз подпал я под власть господина Виней, француза. Поступил он к нам на следующих условиях: во-первых — жалование, сколько — не знаю; второе — каждый день бутылка пива и хлеб и каждую неделю по два фунта сыра и штофу водки; третье — право не обедать дома и пользоваться воскресеньем.
Это был толстый господин, вероятно, служивший некогда барабанщиком или сапером в наполеоновской армии и взятый в плен в 12-м году. Это предположение я основываю на том, что он угощал нас в дни именин Наполеона и в дни его блистательных побед, и, напротив, крепко бивал при воспоминании неудач французской армии. Чему он нас учил, я, правда, не помню; кажется, ровно ничему, хотя постоянно находил случай беспощадно бить нас линейкой. Часто запирал он нас в черный чулан и вообще неистовствовал безнаказанно, ибо ничего до батюшки не доходило, потому что Виней нам решительно объявил, что ежели кто-нибудь из нас осмелится хоть слово сказать о нем не только папеньке, но и Екатерине Яковлевне, то он того забьет линейкой до смерти, а ежели будет молчать — то он нас будет каждый день кормить лакомствами. И действительно, каждый день мы после обедни ходили с ним гулять и постоянно заходили в какой-то дом, где жила какая-то женщина, которую он называл своей женой, хотя она была русская. Женщину эту он при нас неоднократно бивал и раз даже пустил в нее стулом, но за что именно — не припомню. Кроме того, часто во время прогулок заходили мы в Гостиный двор, в колониальные лавки[26], где Виней позволял нам есть что угодно и сколько угодно. Не думаю, чтобы он платил за что-либо купцам, а вероятно, просто брал силой в пользу губернаторских детей. Несмотря на все меры, принятые Виней, Екатерина Яковлевна скоро выдала его папеньке, и вследствие сего француз был выгнан из дому, поколотив нас перед отъездом на порядках. До сих пор не могу понять страшное зверство этого человека, как мог он равнодушно обращаться так с детьми и так умышленно развращать их, как он это делал. Я даже думаю, что он это делал из политического убеждения — француза на это хватит.
Кто у нас был после Виней: кажется, поступил добрый и вечной памяти достойный Егор Иванович Бот — честный немец, который мог служить настоящим противоядием скверному Виней. Не могу с достоверностью сказать, откуда г-н Бот был урожден по религиозным своим убеждениям; он, по вероятности, принадлежал к секте гернгутеров[27], и как он часто говаривал сам о Сарептских колониях, то легко может быть, что он и сам был тамошний уроженец, но каким образом он попал в Калугу, мне решительно неизвестно. Он был приставлен к нам троим — брату Сергею, брату Михаилу и ко мне. Брат Юрий был еще на руках няньки, а братья Андрей и Василий были отосланы в Харьков. Первым хорошим впечатлением моего детства я много обязан Боту. Это было добрейшее создание, которое успело бескорыстной любовью сильно привязать нас к себе. Я любил его всем детским сердцем своим, не находя в нем ни малейшего недостатка. Я считал его красавцем и даже теперь помню, как некогда ласкал его, как целовал его руки и плешивую голову. Не могу понять, чем мог он возбудить во мне такое живое к себе чувство; особенных ласк с его стороны я не помню, хотя я, как младший, может быть, и пользовался его особенным расположением, но не думаю, чтобы он показывал это, впрочем, братья тоже его очень любили; впоследствии, когда мы были с ним в пансионе, то и другие дети питали к нему то же чувство; предполагать надо, что такова была уже его любящая натура, что сама по себе, невидимой силой, действовала на детей.
Учил он нас, сколько помню, только одному немецкому языку, но с таким успехом, что мы скоро успели весьма порядочно говорить по-немецки и знали очень много стихов на этом языке. Шиллер был любимым поэтом Бота, а потому преимущественно заставлял он нас выучивать его стихотворения. Во время ежедневных прогулок наших Бот не упускал ни малейшего случая и повода, чтобы выразить разного рода нравственные правила, и таким образом передавал нам понемногу свои протестантские убеждения. Не скажу, чтобы такая постоянная проповедь достигла своей цели, подробности ее даже совершенно исчезли из моей памяти, но, в общем, у меня остались воспоминания о тех впечатлениях, которые производили на меня полумистические слова Бота. Он заставлял нас молиться на немецком диалекте, мы читали обыкновенно «Отче наш» и еще какую-то молитву, которую теперь решительно не помню. Каждый вечер Бот, уложив нас спать, сам садился за стол, брал библию и псалтырь и в полголоса читал; потом начинал довольно громко петь псалмы — все это при слабом освещении сальной свечи, при спокойствии и тишине во всем доме производило на <меня> такое сильное впечатление, что я, лежа в кровати, долго не мог сомкнуть глаза и часто плакал вследствие какого-то особенно высокого душевного настроения, в котором сам себе не мог дать отчета. По воскресениям и праздникам мы постоянно ходили в церковь, и никогда Бот не противодействовал этому, хотя сам в нашу церковь не ходил. Вообще я не помню, чтобы он когда-либо позволял себе совращать нас от православия.
Всем наукам, а равно и французскому языку, обучала нас добрейшая Екатерина Яковлевна Петрова, которая исключительно состояла при сестрах. Она поступила в дом к нам еще при покойной матушке и после смерти ее осталась главной над нами командиршею. Эта добрейшая женщина, можно сказать, воспитала нас всех. Сестры, кроме нее, решительно не имели других учителей и вышли не менее учены, чем те, на воспитание которых тратилось так много денег. Окончив образование одного поколения, она с той же неутомимостью и с той же любовью принялась за воспитание другого поколения, поступив к сестре моей, Софье Евреиновой, у которой <было> 6 человек детей, и все они были не только воспитаны, но и вынянчены ею. По смерти сестры Евреиновой сироты ее, как и мы, остались на попечении Екатерины Яковлевны. Сколько нужно терпения, любви, кротости, смирения для исполнения таких обязанностей; получая от батюшки небольшую пенсию, она не только довольствовалась этим, но весьма часто, при крайне стеснительных обстоятельствах сестры Евреиновой, помогала ей. Эти два добрейших существа — Бот и Екатерина Яковлевна — жили дружно, а потому все шло как нельзя лучше.
Батюшка постоянно занят был службою; в 1830-м году появилась в первый раз холера, а так как эпидемия эта свирепствовала особенно сильно в Москве, то многие родственники приехали из Москвы в Калугу, и это на некоторое время расстроило однообразный ход нашей жизни. Наконец, холера появилась и в Калуге, хотя по сравнению с Москвой болезнь была в слабой степени, но помню, что страх ее был велик. Предписаны были разные предосторожности, комнату окуривали хлором, в карманах носили чеснок, умывались уксусом и проч. Все это сильно нас забавляло, и все мы, по милости Божьей, остались живы и здоровы.
В 1831-м году батюшка был назначен сенатором в Москву и потому должен был оставить Калугу, нас — мальчиков — он решился отдать на воспитание калужскому помещику Семену Яковлевичу Унковскому, отцу многочисленного семейства, весьма достойному и хорошему человеку. Он жил в 12-ти верстах от Калуги в своем имении — в деревне Колышевке. За известную плату Унковский взялся обучать нас вместе с детьми своими и образовать, таким образом, маленький пансион. Егор Иванович Бот должен был оставаться при нас неотлучно в пансионе.
В назначенный день и час нас посадили в четырехместную карету и повезли в Колышевку Сборы в дорогу, сама дорога и, наконец, новое местопребывание наше очень забавляло нас, и таким образом, нечувствительно оставили навсегда родительский дом.
Семейство Унковских, в которое мы поступили, состояло из следующих лиц. Семен Яковлевич Унковский — отставной флота лейтенант, воспитанник Морского кадетского корпуса и участник кругосветной экспедиции адмирала Лазарева, с которым с тех пор находился в тесной дружбе. Человек умный, положительный, добрый семьянин, хороший хозяин, он мог бы с пользой служить на другом поприще, но огромное семейство и недостаток средств заставили его на время удалиться в деревню. Супруга его, Варвара Михайловна, заведовала домашним хозяйством и как женщина недальняя, но весьма добрая вела это дело по старосветским преданиям при помощи огромного количества дворовых девок и женщин. Из них одна, по имени Фиона, в качестве ключницы исключительно заведовала провиантской частью, а потому все прижимки ее особенно остались нам памятны. Так как кроме нас первое время у Унковского никого из посторонних детей не было, то положение нас ничем не рознилось от положения родных детей Унковского. Их было, сколько помнится, во время нашего поступления человек 10, из коих только две дочери, остальные все мальчики разных возрастов; старшему было, впрочем, не более 14-ти лет, так как он с братом Сергеем был почти одногодок. Всем наукам обучала нас девица средних лет, и сколько помнится, звали ее Анной Андреевной, бывшая воспитанница Митавского воспитательного дома[28]. Как все девицы этого рода, она была весьма некрасива, немного рыжевата и постоянно ходила с подвязанной щекой. Учила она нас всех вместе и заставляла себя уважать иногда при помощи линейки. Егор Иванович Бот тоже учил всех нас немецкому языку и, так как он исключительно находился при нас, то и спал с нами в одной комнате и, кроме того, постоянно был нашим защитником во всех мелочных спорных делах. Впрочем, его все очень любили, только с одной ключницей, Фионией, никак не удавалось ему ладить, кто из них был прав и кто виноват — теперь не берусь решить. Время пребывания нашего в деревне у Унковского оставалось мне очень памятно. Теперь уже, я думаю, трудно отыскать в России остатки формы прошедшего века, но тогда еще жили по-старинному, и худое, и лучшее, представлялось во всей наготе своей без прикрас, как оно есть. С тех пор многое переменилось, и в самом Колышеве, где я был недавно, тоже все в другом виде.
Деревня Колышево, в которой мы жили, расположена по берегу реки Угры. Господский дом недалеко от перевоза, на крутом берегу, чрезвычайно напоминает дом, описанный Гоголем в «Старосветских помещиках»; почти то же расположение, с прибавкою, впрочем, мезонина; те же картины висят по стенам, те же скрипящие двери, поющие на разный лад, на дворе так же точно протоптанные тропинки к амбару и кухне. Перед домом к реке палисадник, на который летом слетается бесчисленное количество шпанских мух[29], распространяющих сильное зловоние. Палисадник этот украшен цветниками разных форм, вышедших уже ныне из моды. Два тополя по краям балкона памятны тем, что на них были вырезаны начальные буквы наших имен. Другая сторона дома обращена была на двор, но на котором, кроме кухни и конюшни, находился особый флигель, в котором жила тетушка Унковская, 70-летняя старуха. За амбарами начиналась прекрасная роща, а близ нее фруктовый сад.
Как шло сельское хозяйство в Колышеве, нам было неизвестно. Должно предполагать, что Унковский, как человек практический, вел дела свои хорошо. Мелочное же домашнее хозяйство, находившееся в руках Варвары Михайловны, от нас не могло быть скрыто. Во-первых, огромная дворня, в особенности состоящая из лиц женского пола, наполняла девичьи и даже парадные комнаты: все сидели за работою в пяльцах; большая часть девок босиком, в затрапезных платьях. Амбары битком набиты были припасами, разного рода солениями, варениями и проч. Приготовлялись они в разное время года на наших глазах, мы сами принимали в этом деле иногда участие. Провинившиеся в чем-либо девки без всякого суда тут же наказывались, иногда собственноручно самой барыней. Для дворовых людей мужского пола были тоже наказания, которых теперь уже больше нет. Помню, что за пьянство иногда приковывали человека к так называемому стулу (толстое бревно, в котором пуда два весу). Это наказание, я помню, сильно поражало мое воображение. Кроме того, телесные наказания розгами крестьян и людей производились обыкновенно на конюшне, иногда на глазах наших. Спешу прибавить, что все это происходило весьма редко. Унковский вообще был человек добрый и справедливый и вовсе не злоупотреблял помещичьей властью своей. Он вообще был любим крестьянами, и они, сколько помню, жили в довольстве. Наказания в той форме, в какой они полагались в прежнее время, вообще, мне кажется, были менее справедливы потому, что отношения самого владельца к крестьянам были проще и ближе. Они так естественно вытекали из права помещика, что никогда не могло прийти сомнение в их законности. Теперь, напротив, все так отшлифовано, все подведено под правила приличия, а, в сущности, зло осталось то же, если не прибавилось, но только прикрытое формой. Эти-то формы для меня возмутительнее всего, они всегда во мне возбуждают сомнения в добросовестности того действия, которого служат выражением. В Колышеве, несмотря на отсутствие comme il faut[30], всем жилось хорошо и счастливо.
Первое время после Бота никого из гувернеров при нас не было. Папенька же прислал г. Картамана. Добрый француз, большой охотник с ружьем и собакой Кастор, он недолго оставался. Учились немного, резвились довольно. Описать все подробности нашей жизни, которые остались у меня в памяти, было бы слишком длинно и не замечательно. Батюшка писал нам письма, мы ему отвечали, что всегда было весьма трудно. По истечении некоторого времени Унковский выписал, не знаю откуда, француза. Этот француз по имени Аман явился в Колышево, и с тех пор жизнь наша во многом переменилась. Начали нас учить французскому языку. Бедный Бот держал себя так скромно, что француз скоро сел ему на голову. С другой стороны, нам также жизнь в Колышеве начинала надоедать, оттого ли, что мы уже пообжились, или, может быть, и оттого, что нас действительно начали иногда обижать в пользу детей Унковских. Сама Варвара Михайловна не всегда оставалась беспристрастной, а няньки и ключницы тем паче. Словом, начали мы по-нашему чувствовать свое одиночество, вспоминать о родительском доме, о матушке. Стали замечать, что мы у Унковских все-таки чужие; часто даже, глядя друг на друга, когда собирались вечером в своей комнате, мы начинали плакать, и Бот нам вторил. Ожидая в скором времени приезда батюшки, мы, наконец, сговорились просить его взять нас от Унковских к себе; Бот обещал нам свое содействие. Замысел этот мы, разумеется, хранили в тайне.
Наконец, после долгих ожиданий, батюшка приехал. Помню до сих пор, как мы обрадованы были его приезду, как мы подняли нос и стали важничать перед Унковскими, зная, что теперь никто нас не обидит. Долго мы не знали, как приступить к делу и как выразить батюшке просьбу нашу. Наконец, однажды, избрав удобное время, мы вместе с Ботом пошли в комнату, где отдыхал батюшка. Мы, не помню как, сказали ему задушевную нашу мысль.
«Пустяки, милостивые государи, — отвечал нам батюшка, — живите здесь, вам здесь недурно, есть товарищи, а у меня вам будет скучно». Просьба наша, однако, видимо опечалила батюшку; он не мог скрыть слез своих; свидание с нами всегда расстраивало его и живее напоминало наше сиротство, а в настоящем случае он, вероятно, еще глубже почувствовал свое горе. Обстоятельства батюшки, вероятно, действительно не позволяли ему согласиться на нашу просьбу. Он утешал нас ласкою и уговорил покориться необходимой судьбе.
По отъезде батюшки все пошло по-старому, но вскоре мы должны были оставить Колышево. Унковский назначен был директором калужской гимназии, а потому все семейство и, следовательно, и мы должны были переехать в Калугу. Все это происходило, сколько помню, осенью 1838-го года. В Калуге мы расположились в казенном доме губернской гимназии, на квартире директора, помещавшейся в особом казенном флигеле в два этажа. Мы жили внизу, а Унковский наверху. С приезда в Калугу, собственно, и началось наше учение. Все учителя гимназии были нашими преподавателями, вскоре начали поступать к Унковскому и другие дети на воспитание, одни как приходящие, а другие с постоянным жительством, и, таким образом, устроился настоящий пансион.
Не знаю хорошенько, кто кем был недоволен: Егор Иванович Бот был недоволен Унковским или наоборот, только дело в том, что Бот начал поговаривать о своем отъезде в Москву и вскоре начал собираться в путь, а засим наступил и самый день разлуки. Прощание с Ботом, было, может быть, первое живое горе, мною испытанное. Его разделяли все другие дети. Все навзрыд плакали и целовали доброго старика. Он сам был очень скучен и глубоко тронут нашей любовью. Дальнейшая судьба этого доброго старичка мне отчасти известна. По приезде в Москву он дал родному брату своему, который занимался в Москве не знаю чем, свой небольшой капитал (всего, кажется, три тысячи ассигнациями[31], а тот устроил какую-то мельницу для растирания сандала; предприятие лопнуло, или просто брат брата надул, и бедный Егор Иванович Бот, оставшись без куска хлеба, должен был искать опять место гувернера. К счастью, поступил он к родной моей тетушке княгине Екатерине Алексеевне Оболенской (урожденной графине Мусиной-Пушкиной), у которой жил также несколько лет и был любим всеми, как и прежде. Потом он, на старости лет, задумал жениться на какой-то повивальной бабушке, был с нею очень счастлив и имел сына, которому дал имя Готлиб. Сын этот жил, кажется, недолго, вскоре за ним умерла и жена Бота, а потому и сам он отдал Богу свою добрую душу. Вечная ему память, верю, что он хотя и был немец, но теперь в раю.
После отъезда Бота мы еще более осиротели. На место его поступил немец совершенно других свойств и достоинств — некто герр Балтер. Откуда он был вывезен и как попал в Россию — мне совершенно неизвестно. Язык свой он знал хорошо и преподавал недурно, но характер имел самый бешеный. Всякая безделица раздражала его так, что он выходил из себя и дрался немилосердно. Серые кошачьи глаза придавали ему какой-то свирепый вид. Сама природа его как будто имела какие-то нечеловеческие побуждения. Так, например, он заставлял нас постоянно после обеда с ним драться: мы все нападали на него, а он, разумеется, будучи сильнее нас всех, колотил того, кто к нему попадется, изо всей мочи. После такого ряда упражнений он обыкновенно уставал, ложился на постель, снимал сапоги и заставлял нас щекотать ему подошвы. Во время уроков он бивал нас постоянно. Однажды он стал бить брата Михаила, а брат Сергей, вступившись за брата, с большим хладнокровием подошел к Балтеру сзади и ударил его так сильно в щеку, которая у него в ту пору болела, что немец упал почти без чувств. Наконец, неистовства Балтера оборвались на мне: однажды он так сильно избил меня, что я весь в крови прибежал с жалобой к Унковскому, и впоследствии[32] этого события его выгнали.
Вместе с Балтером и даже прежде него у нас был другой гувернер — француз по имени Делон. Он был, вероятно, из солдат наполеоновской армии, говорил довольно понятно по-русски и занимался всякого рода проделками. Часто возвращался он домой пьяный, был знаком с разного рода предосудительными людьми и, наконец, за какую-то мерзость был также выгнан.
Вот какого рода людям было вверено наше воспитание. До сих пор не знаю, как объяснить беспечность Унковского при выборе гувернеров. Пансионом он вообще мало занимался, ибо обращал большое внимание на приведение в устройство гимназии, где и достиг своей цели.
В числе учившихся с нами детей были дети губернатора Бибикова, из них меньший, Иван, был со мной одних лет, и мы были с ним очень дружны. Я очень любил его. Отец Бибикова назначен был в Калугу после батюшки, семейство его было довольно велико, и мы часто езжали к ним на детские балы, где всегда без претензий веселились. Ваничка Бибиков вскоре умер от скарлатины, и я как друг его был очень любим его матерью.
В пансионе учили нас недурно, и преподавание разделено было на два класса, сообразно возрасту учащихся. Из детей Унковских я более всего был дружен с Иваном, который был страшно балован матерью и от которого никак нельзя было ожидать проку. На деле же, как увидим, вышло иначе.
Француз Аман, о котором говорено выше, учил нас только языку, но, кроме того, часто бывал с нами для практических разговоров. При этом он не упускал случая, чтобы не кощунствовать над святыней православной церкви. Надевал иногда на себя рогожу вместо рясы и смеялся над внешним православным богослужением. Однажды брат Сергей, не знаю по какому случаю, сказал ему, что les francais sont venu en Russie non pas comme des conquerants, mais comme des brigands[33]. Француз рассердился, и какое, вы думаете, он придумал за это брату наказание?… Он заставил его 20 раз кряду письменно проспрягать по всем наклонениям следующую фразу[34]: При этом брату было объявлено, что пока он не кончит своей задачи, он не получит куска хлеба. Бедный Сергей должен был просидеть до вечера и исписал целую тетрадь.
Надо быть французом, чтобы придумать такое наказание и чтобы перед ребенком стать ратником за честь своей нации. Независимо от всех учителей и гувернеров Варвара Михайловна со свитою имела над нами полицейское наблюдение, и это давало какой-то семейный характер нашему пансиону. Обедали мы все вместе — семейно; лето проваживали в Колышеве, где житье было гораздо правильнее, и мы все-таки развивались среди добрых начал. Нравственность наша осталась неиспорченной. Хранитель ее, конечно, был сам Бог, но, кроме того, должен по справедливости сказать, что в патриархальном семействе много было и хороших оснований. Скажу даже, что и дурная сторона нашего воспитания имела свою хорошую сторону. Она, может быть, ближе знакомила нас с жизнью и не имела ничего привлекательного, так что не мирила нас с собою. Гораздо вреднее, по-моему, гувернер образованный, но безнравственный, который умел бы дать наружный блеск своей безнравственности и таким образом неприметно привить ее своему воспитаннику. Гораздо вреднее безбожное начало семейного быта, чем те мелочные и неприятные дрязги ежедневной жизни, через которые нам суждено было пройти. Наконец, в сто раз вреднее для детей та условная этикетная жизнь, налагающая форму и приличие на каждое чувство и порыв сердечный, развивающая с ранних лет мелкие страстишки чванства, самолюбия, лицемерия и лицеприятия, чем патриархальная, хотя и неопрятно убранная, жизнь простых, не важных людей.
Учил закон Божий, часто ходил в церковь и в Алтарь. Калужская губернская гимназия, в которой Унковский был директором, доведена была им до возможного совершенства. Учащихся было много, и старые преподаватели заменены были новыми молодыми кандидатами Московского университета[35], из которых некоторые были люди весьма способные. Самое заведение получило совершенно другой вид. Хотя мы учились отдельно от гимназистов, но нередко посещали классы гимназии и обыкновенно присутствовали на экзаменах.
В 1834-м году приехал государь в Калугу. Его ожидали в течение нескольких дней, и все улицы, по которым ему следовало ехать, были полны народом. Государь остановился у собора, вышел из коляски и встречен был архиереем Никанором с крестом на паперти. Тут в первый раз я видел государя.
Впечатление, произведенное его необыкновенной наружностью, осталось очень живо в моей памяти. После молебна государь отправился в приготовленный для него дом купца Зюзина. Народ окружил его коляску и хотел отпрячь лошадей, чтобы везти на себе; восторг был неподдельный, он сильно подействовал на мое детское воображение. На другой день государь посетил гимназию, где встречен был Унковским. Мы вместе с детьми Унковского стояли на лестнице, при входе в большую залу, а потом имели случай видеть государя вблизи. Обошедши все заведение, государь остался весьма доволен, благодарил и целовал Унковского и в заключение подошел к нам, поздравил двух сыновей Унковского моряками, приказал тут же Бенкендорфу принять их на казенный счет в Морской корпус.
Вскоре после отъезда государя из Калуги Унковский получил, по высочайшему повелению, назначение быть директором Московского дворянского института. Государь посетил в Москве это заведение и, оставшись им недовольным, сам вспомнил об Унковском и приказал назначить его директором.
Вслед за сим начались приготовления в Москву в зимнее холодное время. Трудно было огромному семейству с маленькими детьми скоро подняться. Решено было ехать на долгих в разных экипажах. Нам, братьям, досталась в удел кибитка тройкой, в которую засадили нас троих, не снабдив, как следует, теплой одеждой. Путешествие продолжалось три дня, и мы много натерпелись от холода и голода, под Малым Ярославцем чуть-чуть не замерзли. Наконец кое-как дотащились мы до Москвы и прибыли прямо в дом батюшки на Солянку против Опекунского совета.
1854 год
1-го января. Суковкин и Бутков, которые выражали взгляд на службу.
Сегодня утром оделся я в парадную форму и отправился в Зимний дворец, где назначено было мне представиться великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам.
Во дворце множество генералитета и всяких чинов обоего пола, все бегали по передним, записываясь у особ императорской фамилии. Многие приезжали благодарить за полученные награды. Между прочим, государственный секретарь Бутков получил <орден Св> Владимира 2-й ст<епени>, а управляющий Комитетом министров Суковкин <назначен> статс-секретарем. Эти два лица, по моему мнению, совершенно выражают современный взгляд на службу и на награждения доблести. Оба они выведены в люди князем Чернышевым, постоянно служили по министерству Военному, они скоро выдвинулись из ряду и далеко обогнали своих товарищей. На чем же основано их отличие? Заслуг особенных ни один из них не оказал, государственных способностей в них решительно заметить невозможно. Все и решительное достоинство их состоит из ловкости и умения обделывать делишки, т. е. так их спускать с рук, чтобы все были довольны, одним словом, они оба глубоко постигли науку, называемую фифиологиею. Наука эта требует пропасть вспомогательных изучений, и этим главным образом заняты все сии профессора. Они досконально знают все мельчайшие подробности отношений сильных лиц, следят тщательно за всеми изменениями их отношений, и все их внимание обращено только «как бы так обстановить» (это — техническое выражение) дела, чтобы они сошли гладко, будет ли от этого какая польза делу или нет — их совсем не интересует. Никакого серьезного участия к общественному делу, убеждению или мысли в них решительно нет. Заговорите с ними о чем хотите — вы удивитесь поверхности суждения о существе вопроса и подробности изучения его внешней формы. Все высшие лица обыкновенно о них отзываются так: «Способный человек, ловкий, распорядительный, с ним приятно иметь дело». В случае какого-нибудь затруднения мне не раз случалось слышать такие слова: «Э, да об этом надо переговорить с Бутковым, он это дело обделает», или: «Съездите от меня к Суковкину и скажите ему, чтобы он как-нибудь это дело уладил», или: «Бутков предварительно со мною об этом переговорит, и мы с ним это дело устроим». Все эти отзывы я привожу затем, чтобы показать, в чем именно состоит деятельность этих лиц и к чему она направлена. Спешу заметить, что оба они люди честные, т. е., получая огромное содержание, взяток не берут и на деньги неподкупны, и посторонние влияния, <которым> они подчиняются, не могут быть обращены им в укор, потому что собственных убеждений они не имеют решительно. Вред такого направления службы поэтому хуже открытых и явных злоупотреблений — рано или поздно зло обнаружится, ибо придет время, когда почувствуют необходимость в деятелях, и способных и действительных. Об этом предмете я, вероятно, не раз буду случай иметь говорить в этих записках; сегодня разболтался по поводу наград и совершенно некстати, потому что есть о чем поговорить, более заслуживающем внимания.
Сегодня получено известие, что соединенные флоты решительно вошли в Черное море. Князь Меншиков доносит, что английский пароход подошел к севастопольскому рейду и хотел подойти ближе к укреплениям, но ему послали повещательный[36] выстрел, чтобы он не шел вперед, иначе будут по нему стрелять. Тогда он остановился вне рейда, и к нему были посланы шлюпки с вопросом о причине его прихода. Командир парохода отдал депешу соединенных адмиралов[37] к начальнику севастопольского порта, в которой они уведомляют его, что получили приказание от правительства их войти в Черное море для охраны турецких берегов, но что, впрочем, они состоят с нами в мире. Сказывают, что в то время, когда пароход стоял на якоре, то все офицеры забрались на мачты и оттуда с помощью зрительных труб старались рассмотреть и нарисовать план укреплений наших. Сегодня же французский и английский послы объявили графу Нессельроде официально, хотя и не письменно, о вступлении соединенных флотов в Черное море. Известие это, хотя совершенно ожидаемое, произвело сильное впечатление. Все невольно спрашивали друг друга, что предстоит в наступившем году. Судя по нескольким словам великих князей, я понял, что государь также ожидает и готовится к великим событиям.
Выхода сегодня не было, но для первых чинов двора был небольшой выход в малой церкви. После обедни государь вышел в ротонду и, обратясь к стоящим министрам и генералам, поздравил их с Новым годом и при этом сказал несколько слов относительно предстоящей войны:
«Что-то нам готовит наступающий год, — сказал он, — одному Богу известно, надеюсь на него и имея таких помощников, как вы, я спокоен». При сих словах он заметно был взволнован, и слезы показались на глазах. Дай Бог ему, чтобы он не ошибся в своих помощниках, моя же вся надежда на Бога и на него. Из дворца я поехал записываться в разные места и, между прочим, был у принца Августа, брата великой княгини Елены Павловны, он приехал сюда на днях для свидания с сестрой. Я зашел к адъютанту его, полковнику прусской службы Гайеру, и застал его дома. Он сказал мне, что сейчас воротился из дворца, где государь, подойдя к нему и взяв его за руку, сказал: «Je suis charme cTapprendre que vos camarades de Potsdam sont animes de bon sentiments. Dites leur de ma part que je suis touché de leur manifestation et que f espere que nous marcherons toujours ensemble en restant bons camarades»[38]. Я спросил Гайера, в чем состояла манифестация прусских офицеров, о которой упоминает государь, и он ответил мне, что прусские офицеры прислали какое-то поздравление по случаю Синопского дела и, кроме того, положили сделать какую-то складчину в пользу бедных или чего-то другого, хорошенько не знаю, в случае первой победы, одержанной нами против англичан. Ох, боюсь я этих дружественных и симпатичных немецких манифестаций — не к добру они. Весь город говорит сегодня о войне с англичанами: всяк судит по-своему, всех мнений не перечтешь. Из них больше половины основаны на иностранных журналах и на страхе за бедную Россию, которая в их глазах уже «почитай, что пропала». Великого князя Константина Николаевича я видел мельком в Зимнем дворце. Он подтвердил мне, что государь был очень доволен моим представлением о возможности принять обмундировку и продовольствие бессрочных отпускных Морс-кого ведомства на счет сумм министерств, не требуя на сей предмет особой ассигновки. Государь встал с места и низко поклонился великому князю, сказав: «Чувствительнейше Вам благодарен».
Доклад мой действительно пришелся кстати, ибо, не говоря об огромных денежных расходах, наблюдаемых в теперешнее время, представляются непрерывно новые, непредвиденные издержки, которые можно назвать неприятными сюрпризами.
Так, например, из числа посланных в кругосветную экспедицию трех судов: фрегата «Аврора», транспортов «Неман» и «Наварин» — первый потерпел сильную бурю и должен был чиниться, второй совсем погиб — успел спастись только экипаж, а третий сильно повредился и должен был чиниться в Англии. Едва «Наварин» починился и вышел в море, опять должен был вернуться и чиниться. Чинка продолжалась около месяца, а в это время англичане делали нашим офицерам и матросам всякого рода пакости, сманивали матросов и уговаривали пятерых бежать. Наконец починившись, «Наварин» вышел в море по назначению в Камчатку, но вместо того пошел в Голландию, и командир прислал оттуда донесение, что дальше идти не может; что будут делать с экипажем и грузом — еще неизвестно. Государь сильно огорчен был этим известием. Для кругосветной экспедиции выбраны были лучшие суда Балтийского флота. Что же после того остальные? Такого рода открытия и сюрпризы накануне войны могут свести с ума человека. Виноватого в этом деле, разумеется, нет. По ведомостям и министерским сведениям все в порядке. Право, хуже войны нас разоряет это всеобщее равнодушие к общественному делу и бумажная игра в администрации.
Сегодня получены известия о блистательных победах для наших войск близ Кадафата. К несчастию, опять победа без результатов. Храбрость наших войск изумительна. Три батальона пехоты при 4-х орудиях держались более двух часов против 18-ти тысяч турок и 24-х орудий. Отрядом командовал полковник Баумгартен, генерал Бельгард пришел ему на помощь и заставил неприятеля отступить, отбив у него 4 пушки. Потеря с нашей стороны: убитых 800 чел., раненых более 1000. Турок легло на месте около 3000 чел. Замечательно, что все наши офицеры ранены коническими пулями, видимо, на них преимущественно целит неприятель: убитых офицеров 14 человек. Государь приказал офицерам носить в деле солдатские шинели.
Сегодня был обычный выход на Иордань[39]. Я не поехал, а Алексей Николаевич (граф А. Н. Протасов) с открытой головой смеялся над 20-ю градусами мороза.
Сегодня утром я был с докладом у великого князя, по окончании доклада он мне сказал: «Я намерен дать вам одно весьма важное поручение — не как директору департамента, а как князю Оболенскому. У нас нет каменного угля для навигации в будущем году, и ежели последует разрыв с Англией, то и достать его неоткуда. Я намерен сделать опыт заготовления донского антрацита — возьмите на себя труд заняться этим делом и сообразить, какие следовало бы принять теперь меры и во что может антрацит обойтись». Я отвечал великому князю, что не имею никакого понятия в этом деле, но постараюсь повидаться со знающими людьми и собрать все нужные сведения.
Вчера и сегодня я бегал, как угорелый, чтобы собрать все сведения по предмету заготовления донского антрацита. Оказывается, что это дело возможно, и хотя оно обойдется очень дорого, но необходимость должна заставить прибегнуть к этому средству. К тому же первый опыт будет весьма важен для последующих действий. Я вижу в этом деле огромное дело, которое получит государственную важность. Я представил великому князю соображения мои, он вполне остался ими доволен и сказал мне, что он докладывал уже об этом государю и что государь мысль мою совершенно одобрил. Поэтому надо немедленно приступить к делу. Я представил великому князю, что весь успех дела будет зависеть от расторопности и усердия исполнителей; что так как главным образом вся операция будет производиться на Дону, то надо поручить ее в совершенно полное и неограниченное распоряжение атамана, который, как говорят, весьма умный и добросовестный человек. Но чтобы избежать переписки, которая отнимет пропасть времени, необходимо командировать кого-нибудь на место, чтобы условиться с атаманом о всех подробностях дела. Великий князь сказал, что он непременно хочет передать все это дело в мой департамент и непосредственно моему распоряжению. «Ежели так, — сказал я, — так позвольте мне самому съездить на Дон». Великий князь очень обрадовался этому предложению, и так как у нас все делается неотлагательно, то тут же отдал все распоряжения о командировании меня.
Я собирался выехать сегодня, но жена не пустила; еду завтра. Великий князь написал прекрасное письмо Хомутову, прося его содействия.
Я приехал сегодня в Москву, обедал у папеньки, где собралось все семейство. В продолжение дня бегал как сумасшедший по всей родне, а в два часа ночи выехал из Москвы по тракту в Новочеркасск.
Сегодня в два часа ночи приехал я в Новочеркасск. Дорога ухабистая, снегу пропасть, я измучился ехать день и ночь ровно пять суток.
Остановился в довольно чистом трактире. От хозяина узнал, что атаман встает в 6 часов утра и с 7-ми уже принимает. Я решился, не ложась спать, приготовиться к утру, обрился, вычистился и лег спать, напившись чаю в 4 часа ночи. Утром в 6 ч. 30 м. меня разбудили, и я, надев мундир, в 7 часов поехал к атаману. Михаила Григорьевича Хомутова застал я уже в кабинете занимающимся. Он не ожидал моего приезда и не знал причины его. Я передал отношение и письмо великого князя. Узнав, в чем дело, он сказал, что писал, настаивал, из кожи лез, чтобы доказать необходимость устроить правильное сообщение и упрочить снабжение антрацитом России, но что все его предположения лежат в Петербурге. Горячо к сердцу принял он настоящую потребность и уверил меня, что употребит все старания и всевозможные средства к исполнению предположения великого князя. Чтобы не дать промышленникам возможности поднять цены, он просил меня держать цель моего приезда в совершенном секрете. Я это сделал с тем большим удовольствием, что, возвратясь домой, завалился спать и спал до двух часов мертвецким сном. Обедать поехал к Хомутову, он познакомил меня с женой и детьми. Сам Хомутов мне очень понравился. Человек он, видно, прямой, добрый и с искренним желанием блага, говорит немного, но дельно и, что в особенности замечательно, это то, что на меня не смотрел, как обыкновенно смотрят в провинции на заезжающего из столицы. Не было никаких пустых вопросов и неуместного любопытства — признак полноты истинных интересов и сочувствия оным. После обеда я опять пошел домой спать, а в 8 часов опять поехал к атаману, который познакомил меня со здешним купцом Коневым, человеком весьма умным и честным. Его Хомутов хочет употребить для производства предполагаемого заготовления. Препятствий к успешному окончанию этого дела — пропасть, и не знаю, удастся ли нам победить их. Завтра Конев доставит мне все нужные сведения, и к вечеру я, может быть, соберусь в обратный путь. Города Новочеркасска я не видел, да, кажется, и смотреть нечего — город новый, еще не совершенно отстроенный. Улицы, как степи, реки большой нет — Дон в 20-ти верстах. Следовало город построить на берегу Дона, но кому-то этого не захотелось, а теперь только повторяют: «Жаль, что не построили города в Аксае — отсюда 20 верст, там ему следовало быть. Жаль, очень жаль».
Не удалось мне сегодня выехать из Новочеркасска, надо было дождаться возвращения приказчиков Конева, посланных им в Ростов для собрания разных сведений. Обедал я опять у атаман — вечером также был у него для окончательных переговоров. Дело, кажется, идет на лад и, с Божьей помощью, может быть доведено к желаемому концу. Сегодня я написал жене и Головнину письма и насилу их мог окончить. Рядом со мной в комнате кутят казаки-офицеры в компании с каким-то монахом из Сергиевской Пустыни, что близ Стрельны. Не только шум и гвалт мешал мне заниматься, но всякое слово, ими произнесенное, доходило до меня. Монаха напоили и стали делать с ним всякого рода бесчинства. Смешно и гадко было слышать. Были, между прочим, прекурьезные канонические споры, в которых казак совершенно загнал монаха. Я думал, что мне не придется сегодня от этого содома уснуть, но, наконец, все отправились, но не по домам, пьяного монаха тоже уговаривали ехать, но он остался непреклонным. Завтра со светом я намерен отправиться в обратный путь на Ростов, Харьков, Курск, Орел, где пробуду несколько часов у брата Андрея, а потом отправлюсь в Калугу, пробуду там сутки и потом в Москву. Сегодня весь день здесь страшная метель, так что дороги, вероятно, сделались еще хуже. Почта сегодня не пришла.
Я располагал выехать сегодня со светом, а наместо того атаман пришел за мною в 6-м часу утра, я оделся и немедленно отправился к нему. Атаман хотел сделать некоторую перемену в своем донесении, а потому и попросил у меня те бумаги, которые отданы были мне накануне. Разговор и совещание наше продолжалось часов до 10-ти утра, я вернулся домой, послали за лошадьми, но Конев уговорил меня ехать на Ростов пораньше, утверждая, что дороги тут гораздо лучше. Но так как этот тракт не почтовый, то я должен был нанять вольных лошадей. Мне привели таких кляч, что я предвидел горькую свою участь.
В 12 часов я выехал из Новочеркасска, и, действительно, дорога была хороша, но в Ростов я дотащился в 4-м часу, хотя расстояние от Новочеркасска всего 35 верст. Так как дело подходило к обеду, то во мне разыгрался страшный аппетит, подстрекаемый воспоминанием о стерлядях, балыках и осетрах, которыми, по статистическим сведениям, изобилует этот край. Я с жадностью спрашивал у проходящих, где получше трактир, и мне указали на один, который с наружного вида показался довольно чистым. Но какова была моя досада, когда меня ввели в сквернейшую и набитую народом гостиницу, в которой кухмистерская часть соответствовала всем прочим частям заведения. В отчаянии я стал расспрашивать полового, что у них есть. «Что Вам угодно» — обыкновенный ответ. «Рыба есть?» — «Простая есть». — «А стерляди?» — «Стерлядей-с, нет-с». — «Отчего же?» — «Да не можем знать-с, не ловятся». — «Да помилуй, братец, Ростов славится рыбой». — «Как же-с, она у нас ловится-с, но здесь ее достать нельзя». — «Как, здесь нельзя купить осетрины?» — «Можно-с, но не первого сорта». — «А икры?» — «Икра есть-с». — «Почем?» — «Восемь гривен серебром за фунт». — «Помилуй, братец, это дороже петербургского». — «Почти так-с». — «Да отчего же это?» — «Так-с, такое уже это-с коммерческое заведение». Этот случай убедил меня еще более, что никак не следует у нас в России на статистических сведениях основывать какие-либо предположения, а тем более никак не возбуждать ими свой аппетит. Окончательно я, скрепя сердце, похлебал нечто вроде ухи из мерзкой осетрины и попробовал котлету, которую съесть не мог, хотя я от природы не брезглив. В Новочеркасске рекомендовали мне купца, от которого можно получить хорошую рыбу, я писал к этому купцу, но его не было в городе. С досады я послал за лошадьми, чтобы положить конец неудачам сегодняшнего дня. Не тут-то было. Метель, которая со вчерашнего дня не переставала, разыгралась вновь с новой силой. Дорога лежит степью, надеясь на дневной свет, пустился в дорогу. Только что мы выехали из города, дорога с глаз наших исчезла, и следы ее, занесенные снегом, пропали. Чуткие кони кое-как неслись в необозримой пустыне снегов. Начинало темнеть, и мы близ самой станции сбивались несколько раз с дороги. Добрались до станции; я думал по крайней мере найти покой и приготовился с терпением ожидать утра, употребив свободное время на составление окончательного донесения об исполненном мною поручении. Не тут-то было. Скверный и крохотный станционный дом был битком набит проезжающими, которые по необходимости должны были отложить всякое попечение о продолжении путешествия, ибо смотритель решительно объявил, что дороги нет и ехать невозможно. В числе проезжающих было 6 человек грузин, только что произведенных в офицеры из юнкеров. Они отправляются в действующую армию на Кавказ и исполнены отваги и молодеческих порывов. Я спросил у них, не знают ли они Багратиона Мухранского, и один из них назвался его родственником, я дал ему письмо к Багратиону, — воображаю, как Багратион будет удивлен, получив от меня письмо со станции Чайтыры. Храбрые грузины решились пуститься в путь, надеясь на наши следы, которые, может быть, видны еще, и, кроме того, они едут на трех тройках и потому более безопасны от стай гуляющих волков. В Новочеркасске почтмейстер сказал мне, что на днях фельдшер еле от них отбился, и то благодаря подоспевшей на помощь почте. Так как грузины уехали, то комната, в которой они были, освободилась, и я ее занял. Расположился в ней пить чай. Принес все свои вещи и намерен, кроме журнала[40], написать сегодня еще целое донесение. Завтра со светом выеду. Дай Бог, чтобы метель к завтрему приутихла, иначе я просто не знаю, когда выеду.
1-го марта. Насилу добрался и до Орла. Говорят, дворяне избавлены от телесного наказания, но до тех пор, пока они не будут избавлены от ухабов, они этим правом не могут пользоваться. Что я вытерпел дорогой из Харькова в Курск, того никаким пером нельзя описать и никакими словами сказать. От Курска до Орла надеялся немного отдохнуть, но надежда моя не осуществилась, снегу нанесло ужасно, а военные обозы, парки[41], артиллерия изрыли дорогу совершенно. Конечно, ни в какой земле нельзя встретить подобного зрелища, какому я был свидетель. Огромные военные фуры на колесах тянутся по всей дороге; шесть, а иногда семь лошадей насилу вытягивают ее из ухаба, иногда в сажень глубиною; несмотря на все это, обоз идет и люди следуют за ним бодро.
Войска, которые попадались мне навстречу, поразили меня своею бодростью и веселым расположением духа. Солдаты идут по глубокому снегу в метель и мороз, который доходил до 30 градусов, и, несмотря на все это, больных очень мало. Нельзя сказать, чтобы они особенно воодушевлены, что идут защищать веру и правое дело; по-видимому, они сами хорошенько не сознают, с кем и за что война, даже офицеры, с которыми мне на станциях пришлось говорить, не понимают в чем дело и куда они идут, тем не менее готовы драться и, если нужно, погибнуть. Что же будет, когда заиграет в них нравственное чувство и поймут, что идут против всей Европы, их ненавидящей, спасать не только единоверцев, но и могущество России?
В Орле я остановился у брата Андрея, который был очень обрадован моим приездом; у него я застал княгиню С. Н. Щербатову. Намерение мое было выехать в ночь в Калугу, но рассказы о дороге, мне предстоящей, и сильная метель заставили меня переночевать в Орле и утром отправиться в путь. Вечером собралось у брата моего много гостей — орловских помещиков. Его здесь, как и везде, очень любят. Во всех губернских городах общество обыкновенно разделено на партии; в Орле — также, у брата же соединяются все враждующие партии, и он хорош со всеми. Теперь в Орле выборы[42] — сплетням и интригам, как кажется, несть конца. У брата вечером были и дамы. Меня поразила пустота разговоров и отсутствие местных интересов. Больше ни о чем не говорят, как о Петербурге и его удовольствиях, о России в особенности. Все анекдоты и каламбуры, слышанные мною при отъезде из Петербурга, услышал я опять в Орле. Политические события, по-видимому, мало занимают здешних жителей, как и в Петербурге. Я знаю, что придет минута, где все до единого соединятся в одном общем чувстве, но не менее того, очень жаль, что правительство не изыскивает средств руководить общественным мнением, хотя бы в отпор той дряни, которая каждый день читается в иностранных журналах.
Вчера выехал из Орла ровно в 12 часов утра, а сегодня в это же время приехал в Калугу. К счастью, здоровье Вареньки Толстой поправляется, и я нашел ее лучше, чем ожидал. Вся болезнь ее происходит от забот, хотя, впрочем, спинная часть, видимо, поражена, и потому нервы ее в самом жалком положении. Егор Петрович не видит ничего серьезного в болезни Вареньки, а она сама старается скрыть перед ним все страдания свои. Эта женщина — ангел во плоти. Губернаторский дом, где живут Толстые, сильно возбудил во мне воспоминания о давно прошедшем. Странно судьба связала меня с Калугой: там провел я свое детство, там похоронены матушка, дедушка, сестра Зубова, которая за тем как будто бы только и приехала в Калугу, чтобы там умереть и лечь рядом с матушкой. Калуга для всех нас — родной город. Но вот, 20 лет спустя после того, как мы его оставили, Толстой назначается туда губернатором и помещается в том же доме, в котором жил батюшка с матушкой. Дети мои проводят лето в загородном доме губернаторском, там же, где и я жил, бегают по тем же местам, где и я бегал. Наконец, в теперешний мой приезд в Калугу, я ночевал в той же комнате, которая некогда была нашей детской. Я, как бы во сне, увидел все старое, и много грустных воспоминаний наполнило мою душу. Мне непременно хотелось видеть доктора Вареньки, чтобы от него обстоятельно узнать степень ее болезни. Бедная сиделка (Агафаклоя Петровна, урожденная княжна Трубецкая, сестра Дарьи Петровны Оболенской, впоследствии замужем за Клушиным) ухаживает за больной сестрой с удивительным и ангельским терпением. Я решительно не встречал в жизни девушки с такими высокими нравственными качествами. Доктор должен был возвратиться сегодня из Петербурга, но не приехал, а потому я остаюсь здесь до завтра.
Сегодня в 8 часов утра я приехал в Москву, во всю дорогу я спал, а потому нимало не устал. От жены писем ко мне нет — вероятно, она услала их в Новочеркасск. К Анне Петровне она писала, что Саша был нездоров. Это меня беспокоит, а потому я решился завтра же ехать в Петербург. Здесь узнал я, что английский и французский посланники получили паспорта[43], а нашим послам тоже приказано выехать. Давно пора. Итак, дела начинают оживляться. Посольство графа Орлова в Вену, несомненно, уехало. Австрия и Пруссия, ежели не решительно против нас, то по крайней мере и не за нас. Итак, мы одни против…
1855 год
Сейчас я узнал, что государь весьма болен. По словам медиков, у него воспаление в легких и подагра в груди. Государь простудился 10-го числа на свадьбе дочери Клейнмихеля, куда поехал в кавалергардской форме, в тонких сапогах, без теплых чулок. Лихорадка продолжалась три дня и была очень слаба, на четвертый день он выехал в манеж смотреть какие-то батальоны — тут он окончательно простудился и вернулся домой совершенно больной. Никто в городе не знал до сегодняшнего вечера о том, что болезнь государя опасна. Бюллетеней нет, граф Орлов сегодня настоял, чтобы с завтрашнего дня начали печатать известия о ходе болезни, чтобы приготовить народ к известию, которое может его внезапно поразить. Боясь, чтобы это не было поздно, доктор Карелль, говорят, сегодня объявил, что не ручается ни за одну минуту.
Кроме Мандта и Карелля, пригласили еще Енохина, доктора наследника, главным образом для того, чтобы в подписях под бюллетенем было хоть одно русское имя. Сегодня вечером государь приобщался — ему сделалось, по-видимому, хуже. Кажется, надежды мало. Говорят, Мандт не совсем потерял ее, впрочем, этому шарлатану верить нельзя. Никто, кроме императрицы и наследника, к государю не допускается. Великий князь Константин Николаевич не видал его уже 5 дней.
Доклад министров принимает наследник. Вчера докладывал ему великий князь. Доклад этот был весьма замечателен. На некоторые представления великого князя наследник не согласился, а в заключение сказал ему тоном совершенно необыкновенным, что он, наследник, весьма доволен всеми действиями великого князя по управлению, что ему весьма приятно слышать, что Морское министерство пользуется большим доверием общества, что это видно из того, что охотнее посылаются пожертвования в Морское министерство, чем в Военное, что он совершенно одобряет намерение великого князя действовать с некоторою публичностью, что он замечал даже князю Долгорукову, почему он не действует так же, на что получил в ответ довольно основательное оправдание, а именно то, что администрации Военного ведомства несравненно сложнее, что вообще он, наследник, очень рад, что в публике все улучшения относят к лицу великого князя.
Слова эти, сказанные положительным и твердым голосом, изумили великого князя, и он был от них в восхищении. Страшная минута наступила для России. Наследника хорошенько никто не знает, что, ежели он окажется достойным своего призвания. Помоги ему Бог. Кругом него нет никого замечательного. В настоящую минуту никто, кажется, не осмеливается выступить вперед и принять на себя необходимые распоряжения для предупреждения недоразумений и замешательств, которые могут произойти от неожиданной вести. Народ вообще не верит естественной смерти своих царей, а в настоящих обстоятельствах не один черный народ может усомниться. Манифестом об ополчении вся Россия теперь поставлена на ноги. Как-то примет она роковую весть? Вся надежда на Бога.
18-го февраля. Сегодня утром разнесли с газетами 3 бюллетеня. Я отправился в Мраморный дворец с докладами, хотя и предвидел, что великого князя, вероятно, не застану. Так и случилось. От Головнина узнал, что за великим князем еще ночью присылали и он еще до сих пор не возвращался из Зимнего дворца. Посему видно было, что дело шло к концу. Садясь в сани, я приказал кучеру ехать набережной мимо дворца, на площади увидел много экипажей и у Салтыковского подъезда народ. Я вышел. Подходя к дворцу, встретил офицера, горько плачущего. У подъезда узнал, что государь только что скончался. Это было в 12 ч. 30 м. пополудни. Во дворец войти не решился и отправился в департамент, чтобы узнать, не получены ли там какие-нибудь приказания. В департаменте долго оставаться не мог, пораженный известием, никакие дела не шли на ум. Между тем из окна[44] видел, что у дворца народу прибавляется и число экипажей увеличивается… Я пошел ко дворцу и, узнав от выходящего князя Ивана Леонтьевича Шаховского, что он уже принял присягу новому государю в числе прочих бывших во дворце, я вслед за другими вошел во дворец. Здесь увидел я статских в сюртуках и военных в мундирах. На лицах всех было написано недоумение и удивление, особенной грусти ни в ком не замечал. Вслед за другими дошел я до Большой церкви, где желающие присягали новому императору. Ни от кого нельзя было добиться толку, я подписал присяжной лист, зная, что мне придется еще присягать в департаменте. Из церкви я пошел по залам и коридорам. В комнатах у нового императора собраны были полковые командиры. Я старался от разных лиц собрать какие-нибудь сведения о последних минутах почившего, но узнал немногое.
В 12 часов ночи императрица предложила ему приобщиться, но он, не считая себя в опасности, хотел отложить до утра. Но потом призвал Мандта, спросил его — не находит ли он его опасным. Мандт отвечал положительно, и вследствие сего государь тотчас же стал с необыкновенным хладнокровием готовиться к смерти. Долго исповедовался, усердно молился и принял причастие в 2 часа ночи. С наследником долго говорил наедине и засим прощался со всеми детьми, прося их жить в мире и согласии. Говорят, все это было исполнено государем с необыкновенной твердостью и силой. Приехавший из Крыма сын князя Меншикова привез письма от великих князей Николая и Михаила. Ему хотели их прочесть, но он отказал, сказав, что не время ему помышлять о земном, приказал читать отходную и постоянно молился. Агония началась отнятием языка, но к утру опять заговорил молитвы и вновь приказал читать отходную и тихо, без больших страданий, скончался в 12 часов и 30 минут пополудни. Вот все, что я мог сегодня узнать. Многих подробностей недостает, которые я постараюсь привести в известность. Говорят про какое-то духовное завещание, и Адлерберг сделан душеприказчиком. Вечером, в 7 часов, назначена панихида в Большой церкви, но так как официального извещения о ней не было, то съехались немногие. На панихиде меня поразило то же, что и утром, а именно: отсутствие признаков глубокой скорби в лицах, которые пользовались милостями покойного. После панихиды я в числе прочих вошел в кабинет государя, где покоилось его тело. В этой комнате он и лежал больной, и в ней умер. Она так мала, что едва можно нескольким человекам в ней повернуться. Тело лежит на походной складной кровати и занимает почти всю ширину комнаты. Никогда во всю мою жизнь я не видывал — и, конечно, не увижу — такого величественного изображения смерти. Лицо покойного, покрытое легким флером, изображало такое спокойствие и такую красоту, что, конечно, самый равнодушный человек не мог бы не быть тронут таким зрелищем. В ожидании бальзамировки тело еще не одето в мундир. Я приложился к покойному с невыразимым чувством, которого определить не могу. Покойный перед смертью отдал все приказания насчет своих похорон. Согласно оным, тело будет выставлено на 8 дней в комнатах Ольги Николаевны, а потом перенесено в крепость, где также будет стоять неделю. Срок этот слишком короток, вероятно, его заменят. Из Зимнего дворца я отправился в Мраморный дворец, чтобы узнать у Головнина о здоровье великого князя. Головний сказал мне, что великий князь очень огорчен и расстроен. Завтра назначен выход.
19-го февраля. Сегодня собрались мы в департаменте и приводили чиновников к присяге. В час пополудни отправился я во дворец на выход. Сначала велено было съезжаться в полной парадной форме, а потом отменено — всем быть в черных брюках, что всем гораздо приятнее, и это обстоятельство, хотя ничтожное, но не осталось без замечания. Во дворце собралось множество лиц обоего пола, никто не знал хорошенько своих мест, отчего происходила немалая путаница. Сегодня, как и вчера, и даже более вчерашнего, поразило меня совершенное равнодушие к совершившемуся событию. Всякий толкует о своем, и, казалось точно, как будто собрались на обыкновенный выход: ни слезинки, ни вздоха, ни даже огорченного лица не видал я ни в ком из важных, которые более других отмечены были покойным. В городе, на улицах, то же равнодушие — ни одной души не было на площади, а в лавках и магазинах торговля, как будто ничего не бывало. Нет сомнения, что в Париже и в Лондоне, по получении первого известия о смерти государя, все заколышется — а здесь ровно ничего, как будто все по-старому. Это замечание делали многие. Казалось даже, что под видом равнодушия скрывалась внутренняя радость. Явление нового императора и императрицы произвело сильное на всех впечатление. Государь и особенно императрица в сильном волнении, с глазами, полными слез, приветствовали всех с достоинством. На лицах всей царской фамилии видна печаль. В церкви Панин прочел манифест, засим Баженов прочел присягу, и потом провозглашена была новая эктения и многолетие. Во все время службы государь от умиления плакал. На возвратном пути он шел бодрее, и лицо его выражало приличное спокойствие. Великий князь, проходя мимо меня, судорожно пожал мне руку, по лицу судя, он был весьма опечален и взволнован. Засим все разъехались по домам, и, казалось, ничего особенного не случилось. Вечером я нарочно поехал в клуб посмотреть, что там делается, и послушать, что там говорят. Но, к величайшему моему удивлению, никто ничего не говорит и все преспокойно играют в карты, как будто ничего не бывало. Не думаю, чтобы в Москве и вообще в России так же легко было принято известие о смерти покойного государя. Петербург — просто департамент, а жители его — чиновники. Вышел директор — поступил другой, чиновники поговорят день и перестанут в уверенности, что жалование все-таки получат.
20-го февраля. Сегодня во всех церквах читался манифест, и народ слушал его без проявления каких-либо чувств. В газетах напечатано два приказа нового императора к войску — объявлено переименование полков, назначение Редигера командующим Гвардейским и Гренадерским корпусами — вот и все. Утром я поехал к Головнину, чтобы узнать у него некоторые подробности о происходящем, дорогой заехал записаться к великой княгине Елене Павловне; Головнина я застал дома, и мы долго беседовали с ним. В словах его я заметил необыкновенную перемену. Он силился доказывать мне, что великий князь не должен ни во что вмешиваться и ограничиваться единственно званием морского министра. Все возражения мои и сомнения насчет того, что трудно будет сохранить бесстрастное положение в вопросах, не идущих и касающихся до интересов всей земли, что в жизни и в частных случаях положение его как брата императора, будет весьма неопределенным и проч., он настойчиво утверждал, что никакого другого значения и никакого другого места, кроме морского министра, великий князь иметь не должен и не хочет. Тон, которым все это было говорено, возбудил во мне, не знаю почему, сомнения в искренности выставляемых убеждений, тем более что они несогласны были с тем, что за несколько дней перед этим он мне говорил. Мне казалось, что Головний, находясь под каким-то страхом, хочет настроить меня на лад, опасаясь, чтобы я не проговаривался в другом смысле. Воротился домой в 4 часа, мне сказали, что за мной приезжал вестовой от великой княгини Елены Павловны с приглашением приехать к ней немедленно. Я надел фрак и отправился. Принят был в туалетной. Она только что возвратилась из Зимнего дворца. После нескольких слов о постигшем несчастии она мне сказала, что ночью, когда государю сделалось очень худо, она поехала во дворец, вошла к нему в комнату, и он ей сказал: «Сest très bien à vous, Madame Michel, d'être venue me voir et me dire adieu. Il paraît, que je»[45] — и при этом свистнул и показал рукой, что уходит. «Dites bien des choses de ma part à Catherine et à son mari»[46].
Великая княгиня хотела поцеловать его руку, но он не дал и поцеловал ее просто. По словам великой княгини, государь долго боролся со смертью и под конец он сильно страдал, спазмы и удушья мучили, и так, что было страшно смотреть — язык его несколько раз переворачивался, потом вдруг он успокоился, все полагали, что он скончался, но вдруг опять начались припадки и страшные мучения. Все это он переносил с чрезвычайным спокойствием и терпением. Великая княгиня говорит, что его скверно лечили. Оставленное завещание писано было в 1846-м году, в нем, кроме воззвания к детям, выражена благодарность Орлову, Киселеву, Бенкендорфу, Клейнмихелю и назначены некоторые пенсии и также подарки. Призвала она меня затем, чтобы сказать, что непременно надо действовать на великого князя и убедить его стараться войти в доверие брата и иметь влияние на дела, ибо она предвидит, что начнутся страшные интриги и государем завладеют люди неблагонадежные, глупые и шпионы. Она сказала мне, что сейчас во дворце к ней подходила великая княгиня Александра Иосифовна[47] и жаловалась на то, что Мария Николаевна[48] начинает уже забирать силу и что этому нужно помешать. Великая княгиня взяла сторону Константина Николаевича и стала говорить ему, что теперь пришло время ему воспользоваться его способностями и приобрести хорошее влияние на брата, что теперь возбуждены будут дела, которые будут требовать умного обсуждения и проч. На это великий князь отвечал, и довольно сухо, что он ничего сделать не может, что его дело — Морское министерство, что он первый слуга императора, и проч. и проч… Из всего этого великая княгиня вывела заключение, что он не оправдает вновь никаких надежд и что все это может дурно кончиться, что она помнит, как в начале царствования покойного государя он (государь) хотел советоваться по делам с Михаилом Павловичем, но что этот также уклонялся и, кроме военного, ничего знать не хотел, о чем впоследствии сам жалел, ибо отучил государя от желания говорить с ним о делах и иногда сам хотел и не знал, как быть впоследствии, но вынужденным находился иногда действовать через нее. В новом императоре она не предполагает ни характера, ни воли и убеждена, что Ростовцев и другие, под маской добродушия, любви и преданности, будут стремиться <приобрести> большое влияние. О многих вопросах, по словам ее, уже толкуют разную дребедень, как то: о возвышении дворянства, т. е. о какой-то аристократии, что эта мысль не находит большого сочувствия в новой императрице и Марии Николаевне, на которую действует Строганов, что нежность доходит до того, что всех казенных крестьян полезно было бы обратить в помещичьи и проч. и проч. Одним словом, по всему видно, что начинается каша и готовится страшная путаница. Чем все это может кончиться — право, не знаю. Сохрани Бог, если все эти бабьи сплетни правда будут иметь влияние на дела. Нет ни одной мысли, которая не смогла бы прийти в голову какой-нибудь Марии Николаевне, когда она захочет придумывать правительственные меры для блага России, на которую не может смотреть иначе, как глазами французской гризетки. Право, страшно. Я отвечал великой княгине, что я не имею решительно никакого влияния на великого князя и что мне даже ни разу не случалось говорить об общих государственных делах, что, по моему убеждению, сила вещей заставит великого князя не ограничивать деятельность свою одним кругом Морского министерства, что желательно было бы для общего спокойствия, чтобы отношения обоих братьев были определены более положительно и это было бы возможно, ежели предоставлено было великому князю место, которое вменяло бы ему в обязанность в известной мере заняться делами, как-то: председательство Государственного совета и т. п. Она просила меня передать ее слова Головнину, но я сказал ей, что вряд ли это чему-нибудь поможет, надо ожидать, чтобы время уяснило настоящее положение вещей.
Прусский король сюда не будет на похороны, а едет принц Карл и сестра императрицы. Покойный государь, умирая, продиктовал депешу прусскому королю, в которой говорит, что, умирая, напоминает ему предсмертные слова отца короля. Что для благоденствия Пруссии — жить всегда в мире с Россией. Прусский король отвечал по телеграфу, что слова отца он помнит и свято будет соблюдать. Австрийский император на телеграфическое известие о кончине покойного императора писал, что сам сильно скорбит об утрате, и в особенности потому, что покойный государь не успел убедиться в чистоте намерений его (австрийского императора). Государеву полку оставлено прежнее наименование в память постоянной дружбы и услуг, которые государь оказал Австрии в 1848-м году. Всеми этими словами, кажется, утешаются. В Берлин писал Гринвальд, в Вену — Ливен.
21-го февраля. Ничего особенного сегодня я не мог узнать. Народ допущен был во дворец для поклонения праху. При этом происходила, кажется, страшная неурядица. Из департамента я пошел посмотреть, что происходит перед дворцом, и видел толпу народа, теснившуюся у Салтыковского подъезда. Во дворец пускали понемногу, и за нарядами наблюдали два верховых жандарма и несколько городовых, которые колотили верноподданных по зубам и по чему попало страшным образом. И вся толпа безропотно повиновалась власти, отечески действующей. По рассказам людей, входивших в траурную комнату, лицо государя покрыто парчой, так что народ не видал его — это произвело, по-видимому, неприятное действие. Я сам слышал, как какой-то господин спрашивал у разных лиц, правда ли, что лицо государя закрыто, и когда ему говорили, что правда, он несколько раз прибавлял: «Зачем бы, кажется, закрывать? Еще не так давно, что государь скончался». Дело в том, что тело покойного неудачно было бальзамировано, и оно сильно стало портиться. Говорят, сегодня ночью опять хотели испытать бальзамирование, другим способом. Жаль, что народ не видал величественного лица усопшего. Сомнения в народе насчет внезапной кончины государя могут через это усилиться. Вчера новый император принял всех офицеров гвардии и говорил им, как слышно, очень хорошо; упомянув о современных обстоятельствах, он сказал, что не намерен уступать врагам. Слова его были приняты с большим одушевлением. О каких-либо новых распоряжениях еще не слыхать. Впрочем, мне не удалось сегодня никого видеть, от кого бы можно было узнать истину. Говорили о какой-то победе в Крыму. Дай Бог.
22-го февраля. Говорят, что в Москве, во время чтения манифеста и присяги, упал с Ивановской колокольни один из больших колоколов и убил 4-х человек… Странный случай этот, вероятно, возбудит какие-нибудь толки и объяснения в народе. Ничего нового не слыхать.
23, 24, 25-го февраля. Со всех сторон слышатся одобрительные отзывы о действиях нового императора — не только в речи к дворянству, но и в словах, обращенных к дипломатическому корпусу. Выразил он твердую решимость не соглашаться ни за что на какие-либо дальнейшие уступки. Все удивлены умению его говорить сильно и с воодушевлением. Рескрипт Ростовцева доказывает, что этот господин в большой милости и, вероятно, получит большое назначение. Университетам в таком случае придется плохо. Особенно распорядительных мер еще не видно. Сегодня приехала великая княгиня Ольга Николаевна, и все семейство, кажется, соединено в общем чувстве общей грусти. Приготовления выноса тела в крепость идут своим чередом. Церемониал уже издан: не понимаю, как его можно будет исполнить в точности при настоящем холоде. Приезжие из Москвы свидетельствуют, что там все исполнены надежд и никто духом не упал, даже падение колокола объясняется в хорошую сторону. Равнодушие народа к событию такое же, как и здесь. Из губерний сведений никаких не имеется. Великий князь назначен министром по званию генерал-адмирала. Вчера был первый раз с докладом, и когда прибыл к государю, то в это время докладывал военный министр и великий князь не входил в кабинет, а остановился ожидать в приемной (при прежнем государе он имел право присутствовать при всех докладах). Император, узнав, что великий князь ожидает в приемной, вышел к нему, просил войти в кабинет и сказал, что просит его входить по-старому.
5-го марта. Сегодня похоронили государя в Петропавловском соборе. Я на церемонии не был, но вчера был на последней панихиде. Страшно было смотреть на лицо покойного, так оно изменилось: из величественного образа, над которым я восхищался в день кончины, осталась какая-то безобразная маска, наштукатуренная разными ядовитыми притираниями, которыми хотели остановить его от разложения.
С каждым днем слухи о твердости, уме и решительности нового императора все более и более подтверждаются. Речь его к дипломатическому корпусу ходит по рукам, она действительно очень хороша и, говорят, говорена с большим жаром и увлечением. Вчера я был с докладом у великого князя, в это время приехал государь и, по обыкновению семейному, пошел прямо в комнату детей, куда сошел к нему великий князь, как это делалось прежде. Из Москвы получены письма от Аксакова и др., все единогласно довольны манифестом и возлагают великие надежды на будущее.
Завтра, говорят, явится послание Синода с воззванием к народу на брань. Эта мера обличает решительность, которая, без сомнения, поведет к хорошему. Одним словом, все до сих пор идет прекрасно. Помоги Бог.
6-го марта. Воззвание Синода писано было еще по воле покойного государя. Им проект был утвержден, но не успели напечатать. После кончины государя нужно было сделать перемену в редакции. Воззвание было писано здесь и, сколько можно судить, разными лицами. Не думаю, чтобы оно произвело какое-нибудь впечатление.
Говорят, Ростовцев забирает силу.
10-го марта. Невольно ожидаем каждый день каких-нибудь действий, по которым бы можно было судить, чего ожидать от нового царствования. Беспрерывные повторения приказов Ростовцева ставят всех в недоумение. Приказы эти один другого глупее и неприличнее. Плачевный тон их не скрывает отвратительной лести. Немало удивил всех также адрес Сумарокова, Веневитинова, Арбузова и Плаутина от имени гвардии Гренадерского корпуса. Сегодня я обедал у великой княгини, она нам ничего не могла сообщить особенно замечательного. По ее мнению, влияние Ростовцева будет самое вредное. Газеты полны всякими переименованиями полков и пожалованиями разных вещей в память покойного государя. Мелочей много, а дела еще нет. Сегодня ровно месяц, как царь скончался. Первый месяц царствования не ознаменовался никакими событиями ни в административном, ни в политическом отношениях. Ростовцев продолжает занимать публику своей персоной, издавая ни к селу ни к городу приказы в сентиментальном духе. По-видимому, это нравится, иначе господин этот изменил бы тон. Булгарин, у которого чутье тонкое, объявил в «Северной пчеле»[49], в фельетоне, что поступил в продажу портрет в Бозе почившего государя и генерал-адъютанта Ростовцева.
Все заняты теперь переменой формы обмундирования армии и флота. Уже приказ о новой форме вышел. Благомыслящие люди находят странным, как можно в такое время заниматься таким вздором и как можно теперь придумывать новые издержки. К Святой[50] велели офицерам быть в новой форме. Из каких доходов заплатят они портным? По-видимому, перемена формы занимает очень государя, потому что все Военное ведомство хлопочет сильно. Еще при покойном государе, незадолго до его кончины, была речь о перемене формы, и даже некоторые образцы были утверждены, но покойный никак не соглашался дать генералам красные штаны, а войску двубортные полукафтаны. Наконец отложил все дело, сказав наследнику, что желает, чтобы его похоронили в прежней форме. Предчувствуя как будто свою смерть, он потом, умирая, напомнил свои слова наследнику, сказав ему: «Ты видишь, что я был прав, сказав тебе, что недолго тебе ждать для новых мундиров». Слова эти не отсрочили перемены, и она уже теперь не только утверждена, но и к приказу есть уже дополнение. Сегодня объявили, что в будни усы и бакенбарды не фабрить[51], а в праздник — фабрить и проч… Чтобы отдавать такие приказы, надо об этих мелочах думать, а думать о мелочах можно только тогда, когда важных забот не существует. Воображаю, с какой жадностью в провинции теперь ждут почты и газет; все надеются узнать какую-нибудь важную новость и всякому первому действию, по справедливости, придают огромное значение. Не знаю, какое придадут значение этим мелочам. Меня удивил великий князь, который тоже немало тешится новыми мундирами. Эту странную любовь или почти мономанию к штанам и мундирам во всей царской фамилии можно отчасти объяснить воспитанием их и впечатлениями детства. Однажды великий князь, показывая свой музей, отворил старое бюро — там в ящиках открыл кучу изрисованной бумаги с изображениями разных фантастических мундиров и одеяний для войны. На мой вопрос, что это за рисунки, он отвечал мне, что, когда они были детьми, им задавали на задачу рисовать и сочинять разные мундиры. Тут же великий князь показал мне несколько строевых рапортов, объяснив, что в детстве у них были целые полки оловянных солдатиков, которых они строили в разном порядке и делали им смотры. Причем государь присутствовал и командовал, а они, как отдельные начальники, подавали ему строевые рапорты. Понятно, что впечатления детства сохраняются ими надолго, и вот почему, при первой возможности привести в исполнение давно задуманную перемену, забывается все, и дело ничтожное, по нашим понятиям, делается в их глазах важным.
До дел внутреннего управления юный государь[52], говорят, еще не касался. Министров внутренних дел и юстиции еще не принимал. Впрочем, преследование раскольников, кажется, остановлено, но это еще только отрицательная мера, которая, так же как крайности, может быть вредна, ибо кашу уже заварили. Сохрани Бог от каких-нибудь неудач в Крыму или в другом месте. Надежды на лучшее в будущем как-то начинают остывать во многих. Хотя теперь ни о чем нельзя верно судить, но вообще как-то сдается, что бабьи сплетни и придворные интриги будут играть важную роль.
27-го марта. Торжественный праздник Пасхи встречен был мною сегодня во дворце. По обыкновению, был выход. Пестрота мундиров была замечательная. Многие были в новой форме. Генералы — в красных панталонах. Вообще новая форма немного красивее прежней, но она до того всех занимает, что невольно спрашиваем себя: неужели нет другого, более важного интереса? На меня это одурение производит страшное впечатление. Как ни старался себе объяснить и оправдать эту пустоту и мелочность занятий, все никак не понимаешь, как можно в такую страшную для России минуту думать о пустяках и забавляться ими. Ростовцев, со своей стороны, под шумок, все лезет да лезет. Сегодня он сделан членом Государственного совета и Комитета министров. О назначении этом много говорят, но, кажется, не придают ему много значения. По-моему, оно весьма важно, потому, во-первых, что оно доказывает силу временщика и потому, вероятно, что он теперь бросит свои военно-учебные заведения и начнет заниматься другим, т. е. входить во все дела управления. Быть может, это будет к лучшему даже, кто знает? Плаксивый тон его приказов и маска сентиментальности, быть может, были ему нужны как оружие. Как деятель, он, может быть, покажет себя с хорошей стороны. Посмотрим. По случаю известий, полученных из Вены о мирных переговорах, государь призвал к себе нескольких лиц: великого князя Константина Николаевича, Орлова, Блудова, Киселева, Нессельроде и, кажется, Долгорукова. Государь присутствовал. Как кажется, переговоры в Вене останавливались на третьем пункте, касательно владычества и сил наших на Черном море. Говорят, хотят согласиться на важные уступки, и честь России отстаивают только великий князь и Блудов. Князь Горчаков в Вене, по-видимому, также действует слабо. А между тем в Севастополе с часу на час ожидают сильной бомбардировки. Последняя сильная вылазка, известие о которой привез лейтенант Бирилев, хотя была для нас блистательна, но дорого стоила. Реляция об этом деле, присланная Горчаковым, написана очень хорошо, и в ней подробно описано все дело и отдана должная справедливость мужеству наших войск. В печати реляции все это выпущено. Какая может быть причина таких поступков со стороны Военного министерства? Точно нарочно, оно как будто желает скрыть от публики все то, что может служить к славе нашего оружия. Враги наши, ежели бы им поручено было делать экстракты из реляций для напечатания, не могли бы ничего лучшего придумать, как то, что делает Военное министерство.
Наград сегодня было немного — все отложено до 17-го апреля. Впрочем, все происходило по-старому, все глохнет и все еще света не видать. Сбываются слова пророка: «Се Владыко Господь Саваофь отъимет от Иерусалима и от Иудеи крепкого, крепкую крепость хлеба и крепость воды исполнена и крепкого и человека ратника и судию и пророка, смотревшего и старца. И пятидесятин Начальника и давнего Советника и Премудрого и разумного послушателя».
28-го марта. Сегодня утром я был у военного министра князя Долгорукова, чтобы условиться с ним по делу об исполнении духовного завещания графа Протасова, в котором мы с ним и Василием Александровичем Шереметевым назначены душеприказчиками. Поговорив о деле, он вдруг перешел к настоящим событиям и наивным тоном начал выражать мнение свое о безнадежном и отчаянном нашем положении. Меня изумили сильно такие речи от Долгорукова, который вообще чрезвычайно секретничает. Видимо, он находился под влиянием разговоров и суждений, слышанных им в Комитете, в котором он участвовал и о котором он говорил вчера. «В такие страшные и плачевные времена живем мы, — говорит он мне, — Невидимо исходу нашему положению. Хорошо тем, которые ничего обстоятельно не знают, судить и рядить, и толковать о могуществе России, о том, что мы непобедимы и проч. и проч. Mais pour nous, qui sommes dans les affaires[53], ужасное положение вещей не может быть тайной. Всему есть конец, и наши средства также каждый день уменьшаются. Что делать, надо признаться, что мы вовсе неготовы к такой долгой и упорной войне. Прежнее время мы употребили не затем, чтобы укрепить себя, а напротив, мы уничтожали все силы наши, а теперь, когда пришло время действовать, не время создавать то, чего нет. Я не знаю, право, как все еще идет это и откуда берется. Мы никогда не думали, что можно содержать в Крыму лишнюю сотню казаков, а теперь там две кавалерийские дивизии, мы никогда не думали, что возможно было иметь в Крыму более 20 тысяч войска, а теперь там с лишком 100 тысяч. На всех пороховых заводах не могло выделываться более 80-ти тысяч пудов пороха, а теперь от меня требуют 400 тысяч. Селитренные заводы все уничтожены, серы также нет. Кое-как, быть может, усилив производство, я нынешний год добуду 200 тысяч пудов пороха, а потом? Все свои заведения мы в мирное время уничтожили. Для маневров, когда случилась нужда в ружьях, все выписывали из-за границы, а теперь от меня требуют вооружения. Откуда взять: государство теперь напрягает все усилия, жертвует всем, наконец и этому будет конец, всеобщее разорение. Теперь уже жалуются южные губернии, а скоро и все будут в том же положении. А между тем в обществе, в гостиных все кричат, что Россия сильна и могущественна, и эти толки и какие-нибудь записи Погодина имеют влияние на высшее правительство, cela entrave la marche du gouvernement[54], боятся общественного мнения и не решаются действовать решительно». Я прервал его, заметив, что естественно общественному мнению заблуждаться и находиться в приятном обольщении насчет славы России, тем более что это общественное мнение создано самим правительством, которое постоянно твердит нам одно: что мы непобедимы и могущественны, что у нас все есть и что все превосходно, что в особенности военная часть доведена до совершенства и что самая война произошла оттого, что все завидуют нашему могуществу. Что никто не смел и не смеет говорить противного и даже намекать на какие-либо упущения; что, наконец, и теперь статьи г. Булгарина не могут приготовить нас к этому неожиданному сюрпризу, который, по словам его, Долгорукова, скоро обнаружится. На это он возражал, что, конечно, это так, но что все-таки не следовало бы стесняться этим. «С другой стороны, — продолжал Долгоруков, — говорят о мире, но однако, есть условия, на которые невозможно соглашаться. Что делать? Надо будет защищаться и, хотя с палками, отбиваться — но все это ужасно и повлечет за собой всеобщее разорение». Слова Долгорукова очень меня поразили. Хотя много в них правды, однако тон, которым все это было говорено, выражал всю недостаточность его способностей и какое-то бабье отчаяние. Всего удивительнее казалось мне, как можно держать человека, так мало способного, для энергических и разумных действий. Уверенность его в слабости России происходит вовсе не оттого, что он действительно знает во всей подробности ее средства и настоящее положение, а оттого, что он не видит у себя под рукой в министерстве, каким обычным формальным порядком сделать или добыть то или другое. Удивителен взгляд покойного государя при выборе людей ничтожных и с ограниченными способностями. Что мог он найти в Долгоруком, выдвинув его вдруг вперед из глуши? Приличный и благообразный человек этот много-много, если способен быть хорошим и исправным начальником отделения.
9-го апреля. Нарочно сегодня заехал я к Блудову, чтобы узнать от него что-нибудь о заседании Комитета, в котором и он присутствовал, и объяснить себе причину отчаяния Долгорукова. Из слов Блудова можно заключить, что Нессельроде и другие сильно настаивали на новых уступках, но он отстаивал и, говорят, великий князь Константин Николаевич тоже его поддерживал. Что решил государь — мне неизвестно; Блудов сказывал мне, что в порыве негодования он, Блудов, сказал Нессельроде — только не знаю, в Комитете или нет: «Monsieur le Comte, il me semble que vous oubliez, que derrière nous est la Russie, qui ne fait pas bon marche de son honneurs. Gade à vous si jamais elle venait se rappeler à votre souvenir»[55]. Для Нессельроде и компании всякий мир был бы хорош, лишь бы чем-нибудь покончить и удрать за границу. Сейчас я получил телеграфную депешу от брата Михаила; он извещает меня, что батюшка серьезно болен, страдает спазматическим удушьем по ночам и зовет меня в Москву. Я сейчас был у Головнина и просил его выпросить у великого князя для меня отпуск на несколько дней.
Апрель. Сегодня я приехал из Москвы. Батюшку оставил, благодаря Бога, совершенно здоровым почти, по-видимому, удушье, которым он страдал, было не что иное, как геморроидальные припадки. Но вообще он немного слаб и много с некоторого времени опустился. Моему приезду он был очень рад — никогда я не имел столько доказательств нежной любви его ко мне, как в этот мой приезд. Из слов его можно видеть, какая в нем чистая душа и как он готов встретить смерть, но он еще так нужен семейству, что Бог сохранит его для счастия всех нас. В воскресение была свадьба Шестакова, он женился на Наденьке Михайловской и завтра приезжает сюда. В Москве так интересуются тем, что делается в Вене и в Крыму, что со всех сторон завалили меня вопросами, я к ним не был приготовлен, потому что выехал из Петербурга тогда, когда всеобщее внимание было обращено на мундиры. В Москве также мундиры и приказ Ростовцева смутили всех тех, которые питали великие надежды. Интерес москвичей имеет совершенно отличительный характер от петербургских жителей. В Москве язвы, наносимые России, чувствуются, а в Петербурге смотрят на них издали, и хотя сострадают, но это сострадание далеко не так сильно, как само страдание. Дядюшка князь Иван Петрович очень хорошо выразил одним словом то, что почувствовало большинство при известии о смерти государя. Видя батюшку весьма опечаленным и в слезах от полученного известия, он спокойно, потирая нос по привычке, сказал: «Что ж, милый, — было со всячинкой. Хуже не будет. Авось, будет и лучше».
13-го апреля. Сегодня получено телеграфное известие о том, что союзники начали сильную бомбардировку Севастополя. Потеря наша в один день с лишком 800 человек. Чем это кончится, Бог знает. Говорят, в Вену послано Горчакову приказание не соглашаться ни на какие новые уступки. Вследствие этого, вероятно, переговоры будут прерваны.
Апрель. Бомбардирование продолжается[56]. У нас ощущается недостаток в порохе. К чему была вся эта праздная защита? К чему пролито столько крови, если придется оставить Севастополь за неимением пороха? Кто виноват? Никто и все. Винить одних настоящих деятелей — нельзя. Тридцать лет спали, и вдруг, спросонку, всего невозможно сделать. Средства одного министерства недостаточны, ежели бы нужды важные были известны хотя отчасти, в России нашлись бы средства помочь им. Какой кровавый урок администрации…
7-го мая. Дневник мой прерван был несчастным событием — батюшка скончался 15-го апреля. 13-го числа я получил из Москвы от брата Михаила две телеграфные депеши. В первой он извещает, что этого числа, утром, батюшка поражен был апоплексическим ударом — отнялась правая рука и язык, но еще жив. Во второй сказано, что батюшка в памяти и что ежели скоро собраться — можно еще застать. Медлить было нечего; мы сейчас с женой решили отправиться на другой день в Москву. Я просил Головнина доложить великому князю о постигшем меня несчастии и просил отпуска. На другой день получил от великого князя разрешение и пустился в путь. В Москву прибыл 15-го числа. На станции встретил нас брат Михаил и объявил, что, когда оставил дом, батюшка еще был жив, но что не знает, застанем ли его, потому что доктора не отвечают ни за минуту. С невыразимым чувством скорби отправился я с женой на Солянку. Меня ввели в комнату, где лежал умирающий. Не мог я скрыть рыданий при виде едва движущегося батюшки, бросился целовать его, и он, как казался до того без сознания, видимо, узнал меня, громко зарыдал и, будучи без языка, выказал мне чувства свои прижиманием руки. Надежды на спасение не было никакой. Дыхание было затруднительное, и постоянное усыпление прерывалось только на минуту, и в эти минуты он оглядывал всех ангельским своим взглядом и доказывал тем, что сознание в нем существует. Иногда даже приветливой улыбкой приветствовал подходящего к нему. Борьба жизни со смертью была довольно продолжительна. Несколько раз казалось, что наступает последняя минута. Дыхание становилось редким, и вслед за сим пульс поднимался и силы возвращались. Накануне моего приезда он приобщался и соборовался. Все семейство окружало постель — недоставало одного брата Василия, который не мог быть извещен вовремя. Обстоятельства кончины столь торжественной патриарха такого огромного семейства видимыми знаками свидетельствовали, что отходит праведник, удостоенный христианской кончины. Дети, внуки, внучата, племянники и племянницы толпились кругом кровати. Один из нас читал вслух молитвенник, все прочие молились, двери в другие комнаты отперты, там постоянно находились другие родственники, т. е. почти вся Москва. Все плакали не из приличия, а от души. Скорбели, что отходит человек, каких уже больше нет, — олицетворенная любовь и пламенное сердце. Затруднительное дыхание, видимо, временами мучило больного. Все молили Бога, чтобы облегчил и скорее прекратил страдания его. К вечеру пульс сильно упал, но потом сильно поднялся. Всю ночь я просидел у него на кровати. Он узнавал меня, клал мне руку на голову и ласкал ее, то же делал и с другими братьями. К утру дыхание стало делаться хуже, доктор сказал мне, что надо разбудить всех тех, которые в соседней комнате уснули, ибо конец приближается. Действительно, упадок сил предвещал последнюю минуту. Все стали на колени, все молились. Тишина прерывалась только дыханием, с каждой минутой становившимся все реже и реже. Наконец, в 8 часов пополуночи, последний вздох унес эту ангельскую душу праведника. Блаженны чистий и сердцем, яко тии Бога узрят. Как ни любил я батюшку при жизни, как ни ценил его высокие душевные качества, но вся моя любовь не могла сравниться с его любовью ко мне. Он не скрывал того, что расположен ко мне нежнее, чем к другим. Душевные его качества сделались, в особенности для нас, ясны по прочтении нескольких отрывков из его дневника, в котором он писал душевную свою исповедь. Высокое его христианское и религиозное настроение за последние 10 или 15 лет не были для нас тайною, стоит перечесть только все собрание его писем, чтобы убедиться, что человек этот весь в Боге. Из дневника же его видно, какая борьба духовная происходила в нем, как он мученически распинал себя и старался совершенствоваться духовно. Никакая проповедь не может сравниться с сими немногими оставшимися, как будто уроком для нас, строками. Как можно нам после этого сомневаться в том, что он с праведниками сопричтен и удостоен вечного блаженства? Нам дан Богом живой пример подражания. Он обязывает нас следовать Ему. Дай Бог силы в немощи… На другой день я получил письмо, возвращенное мне из Петербурга, писанное батюшкой, можно сказать, за несколько минут до удара. Оно заключает мое собрание писем. Из этого письма видно, в каком христианском настроении застал его последний час. С утра до ночи совершались при теле покойного панихиды. Все заведения, над которыми батюшка начальствовал, приходили поочередно, в воспитанниках заметна была искренняя печаль. Печальный обряд отпевания был в церкви Воспитательного дома. Потом вынесли тело за заставу, где положили в жестяной гроб, повезли в Калугу и похоронили рядом с матушкой и сестрой Зубовой. Я не мог сопровождать тело, потому что по служебным делам должен был немедленно отправиться в Петербург. Когда-нибудь, на досуге, изложу подробно воспоминания мои о покойном батюшке. Он был один из тех людей, которые мирят со всем человечеством. Сохранить до конца такую теплоту чувств и такое любящее сердце дано немногим. Как выражались эти высоконравственные качества в жизни, и в особенности в быту служебном?
Воспоминания о нем. Никогда не примирялся он с бесправным приговором формы: в каждом мнении его по делу слышен был человек, ищущий правды, справедливости, и неохотно подчинял себя ярму законности, когда чувствовал, что закон мертв и несправедлив. Будучи начальником богоугодных заведений, он понимал призвание свое и тех, с кем он имел дело. «Какой тут закон, — говаривал он, — в деле милосердия, как можно подвести под правило все видоизменения несчастных случайностей, которым надлежит помогать во имя Божие». С такими взглядами на дело часто возмущало его безжизненное чиновническое направление, с которым он должен был бороться в Совете и в Сенате. В нем не очерствело сердце, несмотря на долголетнюю службу, до того, чтобы быть спокойным свидетелем несправедливости, прикрытой предлогом законности. Справедливо замечал он, что все сослуживцы его ищут в просьбе челобитчика не средство исполнять просьбу — средство отказать. Нельзя было без сердечного умиления смотреть, как он принимал просителей, в особенности вдов, каждый день к нему являвшихся с сиротами. Когда не находил он возможности помочь им, то плакал вместе с ними, обнимал и ласкал детей, так что видимо сострадал несчастью своего ближнего. Благодарю Бога, что сохранил все письма подлинные ко мне батюшки. С самого моего детства в них слышится та душа, которая теперь, без сомнения, наслаждается по делам своим.
На другой день, после выезда наших из Москвы, мы с Доленькой[57] отправились в Петербург. Перед отъездом мы, братья, переговорили об устройстве дел и о том, как продолжать жить всему семейству. Батюшка оставил духовное завещание, в котором оставил мне единственную свою деревню, в которой считалось 420 душ. Имение это ценил он в 75 тысяч рублей, на нем долгу казенного 20 тысяч, и, кроме того, назначил мне произвести выдачу брату Юрию, сестре Грушеньке, Евреиновым и, кроме того, другим лицам еще так, что собственно моя часть в сем имении простиралась до 10 тысяч рублей. Чтобы оставить имение за собой, я должен был выкупить его, т. е. заплатить всем, кому следует. Для этого у меня нет денег, и между тем желал бы сохранить имение, как для того, чтобы исполнить желание батюшки, так и для того, чтобы иметь свой участок. Поэтому мы положили, чтобы имение оставалось принадлежностью всего семейства до тех пор, пока я не найду средств выкупить оное. Управлять будет имением княгиня Наталия Петровна, по доверенности от меня, и доходы употреблять так, как они употреблялись при батюшке, т. е. на содержание семейства. Брата Юрия предполагал с женой перевести жить на Солянку. Его положение весьма тягостно, и оно сильно беспокоило в последнее время папеньку. С 6-ю тысячами ассигнаций жить ему трудно. Ко всему этому прибавляется беспокойство за маленькую девочку, здоровье ее очень ненадежно, да и жена его тоже слаба. Сам он потерялся в этих обстоятельствах и так как по природе весьма порывист, то и не нашел еще твердого пути, не спотыкаясь. Для уплаты его долгов мы полагаем заложить дом. Дай Бог, чтобы все предположения наши осуществились, они основаны на взаимной нашей братской любви и желании жить в согласии и помогать друг другу. Правда и то, что делить-то нам нечего. Доброе имя, оставленное нам папенькой, нераздельно перешло к нам ко всем, и от нас зависит сохранить его. В Петербурге я нашел все по-старому и опять принялся за департаментские дела и от ощущений душевных перешел незаметно к другим, совершенно им противоположного рода. Возобновившееся в Севастополе бомбардирование возбудило во всех справедливое беспокойство, в особенности потому, что положительно сделалось известным, что ощущается у нас большой недостаток в порохе, так что на каждые 10 или более неприятельских выстрелов мы отвечаем только одним. Потери наши в людях простираются каждый день до 1 тыс. человек. Наконец, и это новое испытание Севастополь выдержал. Между тем Венские конференции ежели еще не совсем прерваны, то по крайней мере прекратились вследствие отказа нашего от условия, предложенного нам западными державами. Австрия опять начинает юлить и не поддается ни на ту ни на другую сторону, видимо, желает остаться нейтральной, по крайней мере до окончания вопроса севастопольского. Относительно же внутреннего управления ничего нового не слыхать и не видать. Все то же и то же. Ожидаемые перемены в министерстве — удаление Бибикова и Клейнмихеля и проч. — не осуществились. Мундирами еще продолжают заниматься, и света пока еще ниоткуда не видать. Подняли опять вопрос об инвентарях; велено рассмотреть в Государственном совете; не верю, чтобы из этого вышло что-нибудь дельное: «Не можно вливать вино новое в меха старые».
13-го мая. На сих днях приехала сюда супруга князя Михаила Дмитриевича Горчакова[58] и остановилась у нас. Она, разумеется, в большом беспокойстве насчет мужа. Севастополю грозит большая опасность — войска неприятельские прибывают в огромном числе, а у нас подкреплений нет. Отчего? Оттого, что никакой мысли и определенного плана не существует, это видно из всех распоряжений настоящей войны. Всегда одна и та же история. Говорят, наши войска пошлют дивизию или две, а засим объявляют, что уже неоткуда взять и послать нечего. Приходится плохо. Опять находят средства и посылают, но войско это приходит обыкновенно слишком поздно. То же самое и теперь: Горчаков, когда поехал в Крым, отправил две дивизии. Дивизии эти пришли, и засим никто и не думает подготовить новые подкрепления, а начнут пороть горячку, когда будет поздно. Зачем держать войско в Бессарабии? Боятся австрийцев — да пускай их сидят в Бессарабии, ее мы назад возьмем, а с Крымом придется проститься. Важность Севастополя как будто не довольно оценена. Все делается без мысли, без определенного плана. Князь Меншиков приехал в Петербург, многие ожидали, что он заговорит и представит оправдание своих действий, которые откроют настоящую картину неустройств и неспособности Военного министерства. Но, по-видимому, он молчит, говорят, был принят очень хорошо и весьма доволен своим положением. Впрочем, на днях отправляется в деревню. Про Долгорукова говорят, что он сказал, что он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не послал в Севастополь. До того теперь сделался мелок народ, что для интриг даже недостает ни характеров, ни умения. Прежние придворные интриги обличали все-таки в интриганстве некоторые сильные страсти, хитрость, ловкость, а теперь и Аракчеев невозможен. Личная ничтожность на всех ступенях и на всех поприщах, но в массе все то же величие и та же твердость. Доказательством служит Севастополь. Все 100 с лишком тысяч там герои. Справедливо говорит Хомяков, что русский человек, который попадет в рай, пойдет туда не один, а так — целою волостью или общиной.
25-го мая. Дела наши в Крыму ежедневно становятся хуже: союзники собрали под Севастополем около 300 тысяч войск, а ряды наших героев с каждым днем редеют и подкрепления не идут. Взятие без боя Керчи и занятие Азовского моря всех поразило. По-видимому, наши стратеги не считали Керчь очень важным пунктом, тогда как он есть ключ Азовского моря, охранять берега которого нет никакой возможности. И теперь неприятель сжег без милосердия в Бердянске, Геничеве и др. портах все частные и казенные запасы, на Арабате и Геничеве, говорят, много казенного хлеба, приготовленного для армии. Видно, считали Азовское море недоступным неприятелю, если решились устраивать склады в местах неукрепленных. Гарнизон севастопольский, вероятно, не сдастся и ляжет костьми, но что будет с армией, ежели она по необходимости должна уступить большинству и ежели ей отнимут возможность отступать? Кажется, решительная минута для Крыма приближается. Много прольется крови. Ежели не силою оружия получим мы его обратно, то силою обстоятельств, ибо когда дело дойдет до дележа, возбудится вопрос, кому его отдать, тогда увидят, что никому другому, кроме России, он принадлежать не может…
Союзный флот вот уже несколько дней стоит перед Кронштадтом, но ничего до сих пор не предпринимает и вряд ли что-нибудь предпримет. Цель неприятеля — содержать строгую блокаду и отвлекать наши силы, и эта цель им достигнута вполне. В Морском министерстве последовала на сих днях существенная перемена. Вице-адмирал Врангель назначен управляющим Морским министерством под высшим надзором великого князя. Никто не ожидал этого назначения, которое, в сущности, может быть хорошо. Великий князь, по-видимому, хочет сложить с себя всю хозяйственную часть министерства, чтобы иметь время заняться существенным преобразованием духа и устройством флота. С другой стороны, говорят, на днях должен выйти манифест о регенстве на случай кончины государя и малолетства наследника. Великий князь назначается регентом, а потому, быть может, государь захочет, чтобы он присутствовал при докладах министров и чаще ездил в Государственный совет, одним словом — принимал бы участие в общих делах. Хорошо, ежели бы было это так. Впрочем, сомнительно, чтобы об этом серьезно думали, ибо до сих пор не видать и не слыхать ничего утешительного насчет предположений нового царствования, относительно внутреннего управления государством. Все идет по-старому, как машина, которая бессознательно вертится от данного толчка. Вчера из переговора с великой княгиней я узнал, что новая императрица мало имеет влияния и что вообще инициативы от нее ожидать нельзя. Я сам это думал. Люди, которые упорно надеялись на новое царствование, начинают приходить к убеждению, что напрасны были их надежды и что не избрал еще Бог своего оружия для разрешения всех возбужденных вопросов, т. е. для указания нам правого пути, от которого ушли далеко. Приближается время горьких испытаний, не видно конца им, «быть тут чуду, быть тут чуду».
31-го мая. Сегодня получено известие, что союзники штурмом, после бомбардирования, заняли передовые наши укрепления: Селенгинские, Волынские и Камчатский редуты. Кровь льется рекою. С обеих сторон потери страшные. Видимо, приходит последний час Севастополя. Неприятель действует решительно, с ясным сознанием своей цели. Мы противопоставляем ему геройскую храбрость солдат и совершенную неспособность главных начальников. Впрочем, я нимало не думаю обвинять в неудаче князя Горчакова, он принял начальство в самую трудную минуту, когда дела наши были совершенно испорчены, и с тех пор отняты у него все средства действовать решительно, то нет пороха, то нет войска — из этого положения он не выходит. История отдаст ему справедливость, что он жертвовал своей личностью на благо отечества и под Севастополем, так же как под Силистрией, безропотно переносил самые ужасные нравственные мучения. Войска, которые могли бы помочь ему, придут слишком поздно. Все распоряжения, которые зависят от здешних властей, делаются слишком поздно с самого начала кампании и до сих пор. Когда нет определенной цели — нет плана и не решено, какие пункты в стратегическом и политическом отношении важнее других, то нельзя и ожидать своевременных и дельных распоряжений. В Азовском море не только разрушена Керчь, но сожжен Бердянск, Геничев и г. Таганрог. В Таганроге, впрочем, неприятель встретил неожиданный отпор. Граф Егор Петрович Толстой там градоначальником и вместе с генералом Красновым они отличились. Собрав, Бог весть откуда, горсть солдат и вооружив жителей наскоро, они выдержали страшную 6-часовую бомбардировку и прогнали неприятельский десант. Я душевно рад за Толстого, которого уважаю и люблю как отличного, честного человека. Жена его с дочерью во время бомбардирования выехали за город.
На днях вышел манифест о регентстве[59]. Великого князя Константина Николаевича назначили правителем на случай малолетства наследника. Лишняя предосторожность не мешает. Хотя я уверен, что местами народ не поймет, в чем дело, и выйдет недоразумение, тем более что многие в простом народе уверены, что царствовать должен Константин, потому что он порфирородный. Что-то Господь судил России в будущем?.. Много надо труда, силы и гения, чтобы вывести ее на свежий воздух. Внешние удары, быть может, суть ступени к совершенствованию. «За битого двух небитых дают» — говорит пословица.
7-го июня. На днях я был в Кронштадте. Союзный флот стоит верстах в 10-ти, в числе более 10-ти вымпелов. Получено известие из Киля, что еще английская эскадра вошла в Финский залив, при ней более 10-ти бомбардиров. Вероятно, неприятель решился что-нибудь предпринять против Кронштадта. Говорят, Кронштадт укреплен сильно за северный фарватер, хотя и есть некоторое опасение, но полагают, что и тут неприятелю ничего нельзя сделать.
Велено готовить в Петербурге временные лазареты для раненых на 2000 человек. Вся главная обязанность снабжения госпиталей лежит на мне, и я теперь этим делом очень занят. До сих пор еще в Кронштадте нет главного начальника, которому бы поручено было командование всеми силами — сухопутными и морскими. Не понимаю, как это будет, когда дело дойдет до боя.
Великий князь командует, как генерал-адмирал, флотами, а генерал Ден, в качестве генерал-губернатора, — сухопутными войсками, но один другому не подчинен. Единства действий при таком порядке ожидать нельзя. Старик Ден насилу ходит, жалуется на распоряжения департаментов Военного министерства. Не думаю, чтобы он был способен действовать с должною энергией в критическую минуту.
10-го июня. Сегодня я ездил в Кронштадт и на Лисий Нос. Великий князь поднял брант-вымпел[60] на «Рюрике» и не съезжает с парохода. Неприятельский флот стоит ближе прежнего, в особенности на северном фарватере. Видимо, что усилия его будут направлены в эту сторону.
Я проводил жену и детей в Москву, а вечером был на Каменном Острове, где передал великой княгине записку генерала Мельникова о железных дорогах в России… Записка, по моему мнению, очень дельная, и предлагаемые Мельниковым меры к устройству в России железных дорог — весьма исполнимы. Но никакого успеха нельзя ожидать до тех пор, пока Клейнмихель будет главноуправляющим. Этот человек — бич для России. Всеобщие надежды на падение его с переменой царствования не сбылись, равно как и другие надежды, — до сих пор люди остались все те же, и к прежней их неспособности прибавилась еще совершенная апатия, ибо не стало уже более главной побудительной причины их деятельности — страха. Изумителен, право, этот необыкновенный застой во всех делах; он живо напоминает мне последнюю сцену «Ревизора» Гоголя и это оцепенение, которое овладевает всеми действующими лицами в ту минуту, когда объявили, что явился настоящий ревизор и требует их к ответу. Настоящие события и суть этот ревизор; они обличают все прошедшее, как они восклицают: «А кто у вас здесь Ляпкин-Тяпкин? А подавай сюда Ляпкина-Тяпкина!». Трудно в настоящее время найти людей, которые бы обрекли себя на бездействие, худо ли, хорошо ли, но всякий из нас желал бы иметь власть, что-нибудь бы стал делать, чтобы помогать общему делу и поправлять обнаруженные ошибки, а тут нет ничего — все по-старому. Видно, в волях провидения нужно это бездействие в такую кипящую минуту, чтобы события совершались сами собой, без признака участия человеческой воли. Бог не без цели устраивает это так. В Европе, наоборот, настоящие события возбудили во всех правительствах страшную деятельность, чего-чего не замышляют и не делают для исправления обнаруженных неустройств и совершенствования всех учреждений, но все это — дело рук человеческих.
26-го июня. Удачно отбитый первый штурм в Севастополе очень всех обрадовал, потеря неприятеля неимоверна — более 10 тыс. человек, с нашей стороны выбило много во время бомбардирования, ужаснее которого еще не было. Эта первая удача сильно возвысила дух гарнизона. Что это за собрание героев… Вот что значит русский человек, когда от него требуется самоотвержение и когда он видит, что спасает родную землю… С известием об отбитии штурма приехал Аркадий Столыпин; он говорит, что положение Севастополя, несмотря на последнюю удачу, весьма опасно. Недостаток у нас и в людях, и в порохе. Неприятель также, по-видимому, не имеет во всем полного довольствия и, кроме того, так же, как и мы, делает ошибки, и это объясняет причину целости Севастополя. Говорят, войска из Польши двинуты на восток и резервы мало-помалу будут подходить в Крым, но все это будет недостаточно для наступательного движения с нашей стороны, т. е. для чего-нибудь решительного.
Моряков в Севастополе осталось немного, и число их с каждым днем уменьшается. О них по крайней мере усердно заботятся и делают для раненых и для семейств убитых более чем возможно. Это поистине приносит честь великому князю, и я счастлив, что все эти благодеяния делаются через мое посредство. Мне удалось также быть полезным и для сухопутных: однажды, в разговоре с великой княгиней, я сказал ей, что хотя награда, дарованная Севастопольскому гарнизону покойным государем, на основании коей каждый месяц засчитывает-ся за год службы, и наделал в свое время много шуму, но, в сущности, этими наградами немногие воспользуются, ибо большая часть гарнизона, вероятно, погибнет, или, за ранами, сделается неспособной продолжать службу, а чтобы иметь возможность воспользоваться пенсией, нужно будет хлопотать, вероятно, очень долго. Между тем теперь несчастные армейские офицеры, сколько мне известно, крайне нуждаются в насущном пропитании, ибо, получая маленькое жалование, не имеют возможности покупать припасы по дорогой цене в Севастополе. Великую княгиню поразил этот факт, и она поразилась, как до сих пор Военное министерство не подумало. Вследствие сего она принялась хлопотать, уговорила военного министра просить у государя пособие для офицеров Крымской армии и дала ему мысль сделать его к 25-му числу, т. е. ко дню рождения покойного государя. На днях великая княгиня с торжеством и радостью показала мне письмо военного министра, в котором он извещает ее, что всем штаб- и обер-офицерам в Крыму велено производить столовые деньги, о чем послана князю Горчакову телеграфная депеша. Странно, что нужно было постороннее вмешательство, чтобы возбудить этот вопрос. Профессор Пирогов вернулся из Крыма, потому что, не имея там официального значения и власти, он не мог действовать решительно, как того требуют обстоятельства. Мансуров пишет, что после его отъезда неурядица в медицинском отношении достигла высшей степени. Беспорядки при устройстве и перемещении госпиталей могут быть устранены только хорошим и деятельным администратором, который бы имел власть и не опасался бы мелочной ответственности. В обществе укоряют провиантскую, комиссариатскую, госпитальную часть армии за мошенничество и уверяют, что причиною всего мошенничество лиц, на которых возложено снабжение армии. Я не думаю, чтобы это обвинение было совершенно справедливо, причина всех неустройств другая. Нельзя предполагать, чтобы везде и все были мошенники. Главное дело состоит в том, что в течение 30-ти лет всемерно старались подавить и уничтожить всякую разумную деятельность, как в массе, так и отдельно в каждом. От деятелей требовалось одно беспрекословное исполнение, могли ли при этих условиях образоваться администраторы… Привычка ожидать точного приказания от начальства по всем инстанциям не позволяет действовать безотлагательно и предупреждать беспорядки, которые мы видим в Крыму: больные остаются без питья и пищи по целым суткам совсем не оттого, что хлеб и водка, которая для них отпускается, была бы украдена, а оттого, что начальство, о котором даже и тогда весьма трудно узнать, из кого оно состоит, не дало приказания, чтобы хлеб и вино было приготовлено, а без приказания того неопределенного начальства никто не считает себя вправе спасти умирающего. Пирогов согласен воротиться в Севастополь, но с тем, чтобы ему дали неограниченную власть распоряжаться всей медицинской частью в Крыму Об исполнении сего требования великая княгиня очень хлопочет, великий князь Константин Николаевич также, и, вероятно, это дело уладится.
Замечательно, что до сих пор государь не выразил даже желания видеть Пирогова, который так долго был в Севастополе и так там был полезен. Из одного любопытства можно было бы с ним поговорить. Вообще, к несчастью, незаметно в государе не только собственной инициативы ни в чем, но даже не видать никакой восприимчивости, и потому до сих пор, кажется, никто не имеет никакого влияния, ибо никто не может его снискать. Даже Ростовцев, который сначала более всех выдвинулся вперед, стоит во тьме, и о нем ничего до сих пор не слыхать. Ни в слове, ни в действии не видать намека на мысль — рабское подражание старому, более ничего. Доклады министров посылаются, как и прежде, точно так же и в тех же листах ставятся карандашом знаки, также редакция резолюций. О перемене в личном составе министерства, по которой можно было бы хотя бы приблизительно судить о каком-нибудь новом направлении, давно уже перестали говорить. Странное состояние… великая княгиня говорила мне, что неспособность превзошла ее ожидания по поводу записки Мельникова и предложении американцев о железных дорогах. Они хотели с ним говорить и обратить его внимание на этот важный предмет, но встретили вместо сочувствия, полное и совершенное равнодушие и как бы досаду за неуместное вмешательство. Точно так же рассказал мне старик князь Шаховской; избрав удобную и совершенно свободную минуту, он, как начальник петербургского ополчения, заговорил вообще об ополчениях и о значении их; о том, какую от него можно ожидать пользу и как следует его употреблять. Он думал, что слова опытного генерала, участвовавшего в стольких сражениях и знакомого с духом русского народа и войска, возбудят какое-нибудь участие и вызовут объяснение. Но слова его были приняты совершенно равнодушно, разговор не поддержался, и старик перестал говорить, заметя, что говорил в пустыне. Жена, вопреки ожиданиям, не имеет никакого влияния.
Сегодня, по случаю именин великой княгини Александры Иосифовны, я был в Стрельне[61], где собралась вся фамилия[62] и весь двор к обедне.
Немцев и немок видимо-невидимо, и своих, и чужих. Начинают говорить об отъезде вдовствующей императрицы в Берлин, а оттуда в Палермо на зиму. Признаюсь, мне не верится, чтобы до такой степени дошел цинизм и пренебрежение всяким приличием. Впрочем, когда видишь эту придворную челядь, все становится возможным. Невольно спрашиваешь себя, что может быть общего между этими господами и Россией. Не говоря уже о фрейлинах: Тизенгаузен, Раух и проч. и проч… стоит только посмотреть на какого-нибудь Апраксина, Шувалова, Кочубея и проч. и проч., чтобы видеть, что эти лакеи способны на всякую пакость и готовы сами внушить мысль самую безобразную, а в настоящее время даже изменническую. Я уверен, что, если поездка эта осуществится, то ей дадут значение политическое, затем-де, чтобы попросить братца нас миловать, а в Италии тоже будут очень рады. Ведь уверяла же фрейлина Бартенева, что ежели бы императрица оставалась в Палермо в 1847-м году, то там бы не было возмущения.
На днях я был в Кронштадте вечером и пил чай на «Рюрике» у великого князя, тут, благодаря Бога, другой совсем дух и другое направление. Он занят делом, встает в 6 часов, пьет чай в кают-компании, потом занимается; в час обедает со всем своим штабом и с приглашенными к обеду адмиралами; после обеда, за чашкою кофе и с сигарой, идет беседа, иногда жаркие споры, большею частью о спорном деле. Такие разговоры весьма полезны, приличие и уважение к особе не стесняет свободы движений и мысли; после обеда — занятия, учение и смотры; в 8 часов — чай и опять болтовня, а потом — спать. Этот образ жизни, кажется, ему очень нравится. Кругом «Рюрика» стоят винтовые канонерские лодки, на всем рейде их около 40. Изумительно, что в морском отношении у нас сделано в течение двух лет… Вот что значит ум и энергическая воля.
Смотря на лодки, я сказал великому князю: «Весело смотреть, Ваше Высочество, на эту флотилию, когда вспомнишь, из чего и как это все родилось».
«Действительно весело, — отвечает он мне, — в особенности Шестакову, Лисянскому и мне, которые сами работали». При этом я напомнил ему, что первая мысль этих лодок вышла от меня; действительно, вот как это было.
В прошедшем году, в мае месяце, разговорился я с господином Бенардаки, с которым имел дело по случаю доставки в Петербург антрацита, о винтовых кораблях. Бенардаки, у которого есть машинная фабрика в Нижнем, сказал мне, что хочет попробовать делать винтовые машины для кораблей. Я же стал ему советовать предложить правительству маленькие машины для лодок, ибо я был уверен, что рано или поздно увидят необходимость иметь винтовые лодки и что их теперь не строят потому, вероятно, что не полагают возможным строить машины в России. Бенардаки принял мою мысль и написал об этом своему директору завода, который вслед за сим уведомил его, что он берется к маю месяцу будущего года построить 20 машин. Бенардаки объявил это мне, я советовал ему дать мне записку, что он и исполнил. Записку эту я послал к великому князю и в этот же день получил следующий ответ: «Прекрасная мысль. Поручено князю Оболенскому спросить у Бенардаки, что он возьмет за силу». Отзыв Бенардаки, в котором он назначил примерно от 300 до 350 рублей за силу я представил великому князю, а он доложил государю. Государь утвердил мысль, но нашел просимую цену высокою и велел составить смету и чертежи. Вследствие чего вызван был из Финляндии адмирал Шанц. Ему и Шестакову поручил великий князь сделать чертежи и построить для опыта лодки. Осенью лодки были готовы, и сделанная Шестаковым была одобрена. Вследствие сего приступлено зимой к закладке 40 лодок, которые ныне уже в действии. Механизмы деланы в разных заводах в Петербурге, а Бенардаки тогда же от постройки отказался, потому что ставил непременным условием получить заказ прежде августа, чтобы иметь возможность закупить материалов на Нижегородской ярмарке.
15-го июля. Проект Мельникова[63] о железных дорогах доставлен мною, через посредство Головнина, великому князю, который прочел оный и, по-видимому, совершенно согласен в главных основаниях сего проекта. Он приказал было послать его графу Орлову как председателю Комитета о железных дорогах, но потом, призвав к себе Мельникова и убедясь из слов его, что этим путем нельзя ожидать успеха, до тех пор пока Клейнмихель будет во главе Управления, он обещал свое содействие в том случае, ежели предлагаемая Мельниковым компания составится. Действовать же открыто и прямо ходатайствовать перед государем о деле другого ведомства он не решается, вероятно, не надеясь на успех. Между тем, несмотря на ожидаемое всеми падение Клейнмихеля с переменою царствования, он держится, и не только держится, но и, по-видимому, в милости. Это упорство — поддерживать людей, оклейменных всеобщим презрением, и о которых, бывши наследником, государь сам был весьма дурного мнения, можно объяснить каким-то слепым и безмерным уважением к памяти почившего отца.
Тютчев справедливо заметил, что император Александр Николаевич решился сохранить Россию на память о покойном своем батюшке так точно, как он сохранил его кабинет в таком виде, как он был при покойном всякая вещица на прежнем месте. Это замечание верно, и оно оправдывается. Между тем потребность энергической деятельности начинает чувствоваться всеми, со всех сторон начинают жаловаться и осуждать апатию, в которой находится все правительство.
Кроме внутренней неурядицы, возникают семена раздоров между членами императорской фамилии, где порядок и благочиние поддерживалось страхом к главе семейства. Теперь этого спасительного страха нет, и в будущем я вижу грозные тучи. Теперь уже начинают громко говорить о том, что великая княжна Мария Николаевна обвенчана с графом Строгановым. Я слышал об этом еще в прошлом году, в то время, когда свадьба эта действительно совершилась, но не вполне доверял этому слуху, впрочем, сам Строганов вскоре своим поведением убедил меня в справедливости слуха. Он всегда был, что называется, кутила и таскался по всем публичным местам, везде имея приятелей и знакомых; со всеми был на «ты». Но в год своей женитьбы он, вероятно для отклонений всяких подозрений, вел себя еще распутнее; не было попойки, в которой бы он не участвовал; не было гулянья или танц-класса, в котором бы он не отличался. Говорят, покойный государь не знал об этой свадьбе, что, впрочем, весьма трудно предположить. Не мог он не знать об их любовной связи, и вряд ли решились бы лица, которые обязаны были об этом сказать государю, скрыть от него совершившийся брак. Случайное открытие этой тайны могло бы их уничтожить. Александр Николаевич положительно об этом знал и, говорят, присутствовал при венчании. Татьяна Борисовна Потемкина тоже об этом хлопотала, вероятно, с целью спасти от греха. Что же касается до матери, т. е. императрицы Александры Федоровны, то она действительно о свадьбе не знала, и ей это объявили недавно. Как бы то ни было, а при теперешних обстоятельствах и при наших понятиях о дворе это событие имеет важное значение. Строганов выбран в Полтавскую губернию командиром какого-то вновь формируемого дворянством казачьего полка, отправляется скоро к месту своего назначения. Куда ни взглянешь, везде видишь начало разрушения, при первом малейшем колебании — вся машина полетит, что из этого будет — одному Богу известно. Страшно об этом думать, ибо не видать живого порядка в теперешнем времени, которое могло бы уцелеть и быть основанием для новых задач.
6-го августа. Я пробыл две недели в Москве в отпуску и жил на даче в Покровском с женою и детьми. Чудное лето, тепло и хорошо; в деревнях сперва жаловались на засуху, однако вообще, как слышно, рожь недурна, а яровые хлеба почти везде пропали. Из Крыма давно нет почти никаких известий. Из теле-графических депеш видно только, что нового ничего нет. Зато в Свеаборге нового очень много, но мало утешительного. Неприятельский флот бомбардировал крепость, и хотя собственно батареям вреда не нанес, но много зданий сгорело, в том числе все наши магазины почти со всеми складами, и бомбические погреба взорваны на воздух. Погреба эти, по мудрому распоряжению начальства, не были защищены от выстрелов неприятеля. Но важнее всего то, что гарнизон в крепости, как говорят, вел себя самым постыдным образом. Во время бомбардирования солдаты разбили винные погреба и напились мертвецким образом — все это не делает чести распорядительности местного начальства. Комендант — генерал Сорокин, назначенный покойным государем из вице-директора Инженерного департамента, на мой глаз, показался мне далеко не гениальным человеком. Потом от других я слышал о нем нехороший отзыв. Потеря наша в людях, судя по огромному числу брошенных снарядов, вообще незначительна — всего убитых и раненых до 300 человек. Корабль «Россия» более всего пострадал, в нем разорвало 18 бомб. Непонятно, как он не пошел ко дну и как не взлетел на воздух, ибо пожар был вокруг крюйт-камеры. Вероятно, мне придется ехать в Свеаборг, чтобы привести в известность нашу потерю в имуществе и принять меры к устройству нового хозяйства. Сейчас было получено известие, что мы предприняли в Крыму наступательное движение и были отбиты с большой потерей. Убито три генерала: Реад, Вревский и Веймарн.
7-го августа. Я сегодня был в Стрельне — представиться великому князю и доложить ему некоторые дела. Приехал туда к обедне. Великий князь был в форме Стрелкового полка. Во время моего пребывания в Москве свершилось это важное событие. Все члены императорской фамилии назначены шефами разных частей полка, поэтому они все нарядились в стрелковую форму и все, говорят, очень счастливы и довольны. После обедни я пошел к великому князю в кабинет и застал его в красной рубахе, без зипуна; этот наряд, впрочем, очень к нему пристал, и Аксаков порадовался бы, видя русского великого князя в русской красной рубахе и в шароварах в сапоги.
Вчерашнее известие из Крыма весьма плачевно: великий князь сказал мне, что готовится к известию о потере до 15 000 человек. Это ужасно… С подробностями ожидают курьера графа Бобринского. Несмотря на сии плачевные известия, завтра назначена царская охота за зайцами; будут гнать затаренных[64], заранее приготовленных и пущенных в остров зайцев. Носятся слухи, что военный министр Долгоруков начинает падать. Называют даже его преемником князя Барятинского; я не знаю этого господина и потому не могу судить о нем, но, говорят, он хороший боевой генерал, но никуда не годный администратор и что он это доказал в бытность свою начальником штаба на Кавказе. К несчастью, покойный государь так распорядился, что поставил преемника своего в невозможность выбрать себе способных людей: в известных чинах, из среды которых могут быть выбраны министры и главные начальники, нет ни одного живого человека. Способных терпели только много-много до чина статского советника.
9-го августа. Я собирался ехать на Дон, чтобы устроить там, по примеру прошлого года, операции доставки антрацита в Петербург и получил даже от атамана Хомутова настоятельное приглашение, но не могу в настоящее время оставить департамент и не еду; зато мне необходимо ехать в Свеаборг, и я на днях туда отправляюсь; любопытно будет видеть следы разрушений и узнать правду о том, что происходило во время бомбардировки. Главнокомандующему Бергу дали <орден Св.> Андрея <Первозванного> по новой форме, т. е. с мечами. Это еще нововведение, которое принадлежит к числу тех, которыми много и охотно занимаются. Кажется, не за что было бы награждать — с нашей стороны никаких похвальных действий не было. Сегодня я обедал у великой княгини. После обеда она вдруг, отведя меня в сторону, спросила, кого бы я назначил министром внутренних дел. Я отвечал, что из генерал-адъютантов я никого способного и дельного не знаю, и что, не подумав, не могу вдруг назвать. Впрочем, из гражданских губернаторов, сколько мне известно, весьма способный калужский губернатор Бунаков, и он, несмотря на множество недостатков, в хороших руках мог бы быть дельным министром внутренних дел. Она отвечала мне, чтобы я подумал и сказал бы ей свое мнение. Не знаю, что это значит, вероятно, идет речь об увольнении Бибикова, и так как великая княгиня была недавно в Петергофе, то, может, кто-нибудь из дам фамилии, зная, что она более других видится с людьми, спрашивала ее мнения о том, кого можно было бы назначить. Я все-таки уверен, что в той среде, где они будут искать министра, они не найдут человека, а назначить кого-нибудь вне обычных правил они не решаются.
12-го августа. В газетах напечатаны некоторые подробности о несчастном деле 4-го августа. Из реляции видно, что была какая-то путаница, число убитых и раненых не показано, но говорят, что потеря наша простирается от 7-ми до 8-ми тысяч, в том числе 8 генералов выбыло из строя. В неудачах обвиняют Реада, который будто бы не понял приказания — выступил и перешел через речку раньше, чем следовало, и зашел слишком далеко. На другой день после этого неудачного дела неприятель начал снова усиленно бомбардировать, но, по телеграфической депеше от 9-го числа, бомбардирование снова значительно ослабело. Дух войска нашего, вероятно, опять упал. Осень приближается, а с ней распутица, а дорог все-таки нет и в течение всего лета в этом отношении много непредпринято. Неужели не повесят Клейнмихеля, ежели по случаю непроходимых дорог армия наша опять должна будет бедствовать, как в прошлом году?
14-го августа. Известия из Крыма с каждым днем становятся все мрачнее; сегодня получена депеша от 13-го числа, бомбардирование весьма усилилось, наша потеря простирается до 1000 человек в день. Что за ужас. Сколько даром пролитой крови. Вот уже скоро год почти постоянной бомбардировки. Иннокентий, в проповеди по возвращении из Севастополя, говорит, что видел Купину несгораемую и пещь Вавилонскую; кажется, не может быть надежды более удержать Севастополь. Что будет с несчастным гарнизоном, он, вероятно, весь погибнет, ибо отступать некуда; не будет ли Севастополь искупительной жертвой? Что будет после — одному Богу известно. Здесь начинают примиряться уже с мыслию, что Севастополь будет взят. Замечательно, как мало-помалу начинают примиряться со всем: один только материальный вред, нанесенный кому-нибудь из правительственных лиц, мог бы вывести из апатии и решить на какие-нибудь энергические действия. В России весть о падении Севастополя поразит, как громовой удар, — ее не ожидают. Не знаю почему, но мне предчувствуется, что завтра, в Успение, в Крыму произойдет что-нибудь важное. Иннокентий благословил севастопольский гарнизон образом Успения Божией Матери, присланным из Киева митрополитом Филаретом. Следовало бы мне ехать сегодня в Ораниенбаум, куда приглашала великая княгиня, там бы я узнал разные мелочные новости, но некогда. Собираюсь в Свеаборг, да и душа не лежит к новостям. К тому же новости все эти в одном роде, например: отставным офицерам и чиновникам разрешено носить кокарду на фуражках; постановляются ордена Станислава 4-й степени; ко всем орденам, даваемым за воинские подвиги, приделаны две крестообразно сложенные шпаги и т. п. Рассказывают следующий анекдот, который я слышал, впрочем, из достоверного источника: на другой день по получении известий о несчастном деле 4-го августа военный министр спросил князя Горчакова по телеграфу, жив ли и здоров ли Мейендорф — молодой поручик, состоящий в штабе князя Горчакова, сын бывшего венского посланника. Князь Горчаков отвечал, что Мейендорф жив-здоров, но зато выбыло из строя 8 генералов. Воображаю, какое впечатление должен был сделать этот вопрос на Горчакова и других. Он возбужден был для успокоения матери Мейендорфа, сестры министра иностранных дел Австрии, заклятого врага нашего.
16-го августа. Получено сегодня известие из Крыма от 14-го числа, что бомбардирование уменьшилось, потеря наша тоже; несмотря на это, кажется, решительно потеряли надежду на сохранение Севастополя и теперь думают только о том, как бы устроить отступление. Через бухту устраивают мост, который, говорят, должен быть готов завтра, 17-го числа. Дай Бог, чтобы нашли возможность спасти хотя бы боевую часть гарнизона. Все будет зависеть от деятельности и распорядительности начальников, но неожиданные случайности могут обратить в ничто самые мудрые распоряжения. А так как эти случайности в настоящую войну играют первостепенную роль, то теперь вся надежда на Бога. Вчера я был в Стрельне, получил от великого князя еще дополнительные распоряжения насчет Свеаборга. Неприятельский флот отчасти уже вышел из Балтийского моря. Бомбард[65] осталась только одна. По-видимому, после бомбардирования Свеаборга они от собственных своих выстрелов получили значительные повреждения — не могли даже оставаться в море.
Великий князь письменно поручил мне подыскать между молодыми даровитыми литераторами лиц, которых можно было бы командировать в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Вислу и на значительные озера наши для изучения быта жителей, занимающихся судоходством и рыболовством, и составления статей для «Морского сборника»[66]. Этим способом сборник не только приобретет хороших сотрудников, но главная, в общем смысле, польза — та, что великий князь войдет в более близкие сношения с литераторами, а потому примет вообще большее участие в литературе и этим участием ей даст некоторое право гражданства, что при настоящем порядке вещей очень важно. Постараюсь обратиться к людям талантливым, которые могут оправдать намерение и цель великого князя. Пора бы, наконец, посмотреть на литературу и на литераторов иначе, как на них теперь смотрят. Само правительство нелепыми своими распоряжениями насчет цензуры и личности авторов поставило сих последних во враждебное к себе отношение. Находясь само постоянно под страхом иностранной прессы, оно не только не считало в грош пользу, которую можно было извлечь из своей литературы, но даже не располагает до сих пор ни одним талантливым пером. Булгарин — единственный представитель, официальный орган правительства, заклеймен всеобщим презрением и до того бездарен, что принес, несомненно, больше вреда, чем пользы, своими темными и подлыми диссертациями.
Я рад, что великий князь смотрит вообще на литературу иначе и не только сочувствует всякому таланту на этом поприще, но готов, со своей стороны, содействовать и выдерживать борьбу в противоположном направлении. Доказательством этому, между прочим, служат сочинения Гоголя. Об издании их было столько хлопот и забот, что стоит для памяти записать об этом некоторые подробности. Еще в 1852-м году, после кончины Гоголя, возник вопрос об издании его сочинений[67]. Сам покойный получил разрешение напечатать вторым изданием прежние свои сочинения, а новые должен был представить в цензуру. Печатание прежних сочинений началось при его жизни, и большая часть их уже почти была готова. Внезапная смерть остановила все дело, а сожженная рукопись «Мертвых душ» 2-ой части лишила всех надежды видеть когда-либо в печати конец этого гениального произведения. Кончина Гоголя наделала столько тревог и шуму в литературном мире, что издание сочинений его правительством было остановлено.
Тургенева, за совершенно невинную статью, напечатанную в «Московских ведомостях», в которой он выражает скорбь о понесенной утрате, посадили по приказанию государя в съезжий дом[68], где он и просидел около месяца, а потом отослали в деревню с запрещением выезжать в столицы. Наконец, было запрещено не только печатать и говорить о Гоголе, но и просто произносить его имя. Так что в журналах, когда хотели что-нибудь сказать о нем, выражались так: «известный писатель», и слова эти печатались курсивом. Такое гонение на память Гоголя возбудил здешний попечитель университета Мусин-Пушкин, и в этом ему ревностно помогал Булгарин. Между тем в бумагах Гоголя было несколько отрывков из 2-го тома «Мертвых душ» — авторская исповедь и другие мелкие сочинения, а семейство покойного, находясь в совершенной бедности, лишено было от запрещения издавать сочинения средств к существованию. Великий князь, узнав об этом, пожелал прочесть отысканные рукописи и обратился к Шевыреву в руках которого были все бумаги, с просьбою прислать ему рукописи. По прочтении их великий князь решился хлопотать о разрешении издать все сочинения Гоголя. В это время приехал в Петербург Щепкин, московский актер, и я доставил ему случай читать разные пьесы Гоголя у великого князя, великой княгини Елены Павловны и в других домах. Надо было многих заинтересовать в этом деле, чтобы достигнуть какого-нибудь результата. Сам я достал рукопись глав 2-го тома «Мертвых душ» и читал их, где только мог, и везде старался опровергнуть то превратное мнение, которое распространили злонамеренные люди о покойном Гоголе. Отчасти мне удалось это сделать, но что станешь делать с общим равнодушием. Не только литературное произведение, но и более важный предмет не в силах подействовать у нас на общественное мнение так, чтобы правительство обратило на него внимание. Осталось одно средство — действовать на членов царской фамилии и интересовать некоторых дам. Великий князь пошел прямым путем, писал графу Орлову, прося доложить государю, что сочинения Гоголя, в особенности последние, не только не заключают в себе ничего предосудительного, а напротив того, весьма благонамеренные и издание их могло бы дать литературе нашей хорошее направление. Граф Орлов доложил государю и отвечал великому князю, что государь приказал представить сочинения в цензуру. По поручению великого князя я входил по этому предмету в переписку с Шевыревым. Московская цензура не решалась пропустить не только новое, но и старое, уже бывшее в печати. Долго дело тянулось, наконец московская цензура представила все в цензурный комитет, хотя с робким, но благоприятным мнением в пользу издания. Великий князь написал министру народного просвещения, прося его ускорить дело, а к графу Орлову — прося поручить Дубельту, как члену Комитета, защищать сочинения Гоголя; Дубельт был всегда один из самых ярых врагов Гоголя; тут он вдруг переменился и подал в Комитет письменный отзыв, весьма сильный, в пользу сочинений Гоголя. Несмотря на все это, попечитель университета Мусин-Пушкин настоятельно требовал в Комитете, чтобы сочинения были запрещены. Не знаю, каким образом Норов узнал, что и императрица желала бы, чтобы сочинения Гоголя были напечатаны, он это объявил в Комитете и велел прочесть только в присутствии великого князя; все это, наконец, решило Комитет представить государю доклад о дозволении печатать все сочинения Гоголя, на что государь и согласился, и на днях эти сочинения вышли, чему я очень рад, как для семейства покойного Гоголя, так и для России. О Гоголе и его сочинениях напишу на досуге свои мысли, его личность и сочинения сильно действовали на меня, и многим я обязан им. Многому пригодному в жизни научился я в особенности из последних его сочинений. Обличитель всякой неправды, Гоголь смертью своей доказал искренность и чистоту своих убеждений. Поверхностное суждение о нем всегда приводило и приводит меня в ярость, потому что я на опыте сознаю то добро, на которое он навел меня и своей сатирой, и своей проповедью. Как часто в жизни, и в особенности в служебном быту, благодарил я Гоголя.
20-го августа. Выехав в среду из Петербурга, я прибыл сегодня в ночь в Гельсингфорс, по дороге остановился в Выборге, где нужно мне привести в известность, на сколько времени обеспечены флотские команды, там расположенные, провиантом и провизией и какие меры принять для довольствия их в будущем году. Выехал из Петербурга я на перекладных, помня, как в старину катался я на этом экипаже по всевозможным дорогам без особой усталости. В Финляндии же дороги отличные, таратайки[69] показались мне в прошлом году экипажем довольно удобным, погода хорошая — все это заставило меня решиться пуститься в путь не в рессорном экипаже. Проехав первые две станции по мостовой, я надеялся отвести душу на следующих станциях. Не тут-то было, проклятые финские таратайки оказались такими костоломками, что, подъезжая к Выборгу, голова моя гудела, а в пояснице и спине разгулялся геморрой. Въехав в город, вижу через освещенные окна ужинающую компанию; в числе пирующих, казалось, находится командир парохода «Тосна», которого мне было нужно видеть. Послал человека узнать, тут ли он, и через несколько минут вышел ко мне капитан и от имени хозяина, начальника 1-й дружины петербургского ополчения генерала Струкова, стал приглашать войти в дом. Сам хозяин вышел мне навстречу, и я нечаянно попал в гости к человеку, который впоследствии оказался совершенно моим благодетелем. От усталости у меня совершенно пропал аппетит, и я с нетерпением дожидался возможности завалиться спать. Хозяин приказал вернуть мои вещи, которые я было отправил в гостиницу, и велел мне приготовить постель, я повиновался всем его распоряжениям безропотно, потому что не надеялся найти такого комфорта в грязной гостинице. Ночь проспал, как убитый, а на другой день, в 6 часов утра, по предварительному еще накануне соглашению, отправились мы со Струковым на пароходе «Тосна» в шхеры на острова осмотреть там батареи и место недавно бывшего сражения на острове Линецари, около которого наши канонерские лодки потопили один неприятельский баркас с десантом. Погода была прекрасная, а потому назидательная прогулка эта удалась совершенно. Некоторые батареи очень хороши, в особенности морские, в двух главных проходах затоплены суда и режи, несмотря на это, оборона, кажется, довольно слаба, и ежели неприятель найдет нужным атаковать эту местность, то может удобно преодолеть все воздвигнутые препятствия. Воротясь домой, я стал собираться в дорогу и с ужасом вспомнил о предстоящем мне пути на перекладной, но гостеприимный хозяин уговорил меня взять его отличный дормез[70], на что я согласился, и таким образом, весьма покойно и почти без просыпу, доехал я до Гельсингфорса.
Здесь я утром отправился к главнокомандующему Бергу и вручил ему письмо великого князя. Разумеется, мне обещали во всем полное содействие, и я, не теряя времени, отправился в Свеаборг, чтобы взглянуть на развалины своих хозяйственных заведений. Вид крепости почти не изменился; несколько сгоревших до основания строений оголяют город, а оставшиеся от пожара каменные обгорелые стены свидетельствуют, что ничто не могло укрыться от разрушительных действий неприятельских снарядов. Большая часть зданий сгорела, в остальных видны пробоины; улицы изрыты бомбами, несмотря на каменную почву и почти сплошной гранит, во многих местах разорвавшиеся бомбы образовали воронки шириною в сажень и глубиною в аршин. По остаткам можно судить о том, как жарко было в крепости во время бомбардировки. Госпиталь три раза загорался, но всякий раз, к счастью, пожар был прекращен, больных перевозили в Гельсингфорс во время боя. В одной палатке ракета влетела в окно, попала под соседнюю кровать и таким образом прошла под всеми койками, не задев никого. Мундирные магазины[71] и сараи с провиантом еще тлеют до сих пор. Удивительно, как могли уцелеть другие магазины, где также помещался провиант. Всего сгорела половина, так что уцелевшим количеством можно будет прожить до конца компании. Собственно батарей осмотреть я еще не успел — говорят, они мало повреждены. Я должен буду оставаться здесь долее, чем предполагал, потому что адмирал Шестаков, которого мне необходимо видеть, уехал в Або. Погода стоит прекрасная.
21-го августа. Сегодня я с адмиралом Нордманом объезжал все батареи на острове Сандгал. В прошедшем году на этом острове не было ни одной пушки, и только осенью выстроили ничтожную батарею, которую в нынешнем году нашли нужным бросить. Батареи в Сандгале хороши во всех отношениях, и работа для устройства их была неимоверна. Многие заложены и кончены уже после бомбардирования, и тут наученные опытом пороховые погреба весьма хорошо блиндированы[72]. На двух батареях при мне адмирал Нордман раздавал Георгиевские кресты матросам за действия против фрегатов, подходивших к Сандгалу во время бомбардирования Свеаборга. Раздача крестов происходила с приличной торжественностью на русской батарее после молебствования, а на финской — пастор сказал речь. Потом командир Финского экипажа позвал нас завтракать в свой балаган.
22-го августа. Сегодня утром возил меня генерал Баранцов смотреть батареи правого фланга на Рентане и проч. Батареи эти тоже очень хороши и даже устроены в нынешнем году, но они недостаточно защищают город, который неприятель с западной стороны, при огромном количестве своих орудий и при действии своих разрушительных снарядов, может беспрепятственно сжечь. Берг, у которого я сегодня обедал, уверяет, будто бы убежден, что неприятель еще в нынешнем году непременно сожжет город. Я этого не думаю, главное потому, что бомбарды его, которыми он действовал против Свеаборга, от собственных своих выстрелов получили такое повреждение, что отправлены назад. На будущий год, вероятно, эта часть будет ими еще более усовершенствована, но и с нашей стороны, надо надеяться, что будут устроены батареи на острове Друшине и тем поставлено препятствие к бомбардированию города. Хотя все признают Берга за алармиста[73], но тем не менее он только этим и берет, он до того кричит и пугает, что добивается тех средств от Военного министерства, которые ему необходимы. Берг настоятельно требует, чтобы я осмотрел все батареи в самом Свеаборге.
Сегодня я ездил на корабль «Россия» смотреть на следы страшного неприятельского огня, под которым находился этот корабль в первый день бомбардирования. Он стоял в самом Густав-Свирском проходе и потому, кроме тех снарядов, которые были направлены на сам корабль, выстрелы, не попадавшие в «Густав-Сверто» и «Скотланд», ложились тоже и на него. Удивительно, как корабль остался на воде: в него попало 18 бомб. Снаряды, падая навесно, пробивали все три дека[74], при разрыве бомб вылетала из них какая-то горячая и вонючая смола, которая усиливала пожар и затрудняла действие команд при тушении. Несмотря на это, везде пожар был потушен при начале. Одна бомба вылетела на самую крюйт-камеру[75], остановилась на медной обшивке потолка, разорвалась, зажгла потолок, осколком разбила кокор[76] с порохом и рассыпала порох; корабль не взлетел. Это просто чудо. Под разорвавшейся бомбой нашли икону Спасителя, неизвестно каким образом очутившуюся тут с места, на котором висела. Конечно, корабль уже более никуда не годится, ибо все и главные части его перековеркало, впрочем, он уже за старостью и так назначен на сломку. Капитан Поплонский, по-видимому, весьма распорядительный и хороший человек. Во время боя всегда спасает корабль, и, не имея возможности отвечать неприятелю, который от него был скрыт крепостью, он посылал предупредить коменданта о своем положении, и только вечером корабль был выведен из-под выстрелов неприятеля, простояв, таким образом, 14 часов под страшным огнем. На корабле убито и ранено около 200 человек.
23-го августа. Осмотрел я сегодня все батареи в крепости, больших трудов стоило устройство их при недостатке земли. В нынешнем году, можно сказать, Свеаборг похож на действительную крепость, тогда как в прошлом году смешно и странно было смотреть на это отсутствие всяких средств к действительной обороне. Несмотря на все работы нынешнего года, вся эта твердыня могла быть разрушена, ежели бы Бог не помиловал. Кроме тех 4-х бомбических погребов, которые взлетели на воздух, все пороховые погреба не только могли, но, по теории вероятности, должны бы были взлететь, а с ними бы и все батареи пошли к черту. Во время боя начали бомбардировать некоторые погреба и ломать деревянные сараи, которые существовали тут как бы нарочно для того, чтобы производить пожар. На каждом шагу провожающий нас офицер говорил: «И вот здесь Бог помиловал». Могла бы быть беда, и точно — вы видите, что не только могла, но и должна была быть беда. «Да как же не подумали прежде об этой опасности?», — спрашиваю я. «Ну, не знали», — отвечают мне. Теперь все это будет исправлено. Видимо, настоящий наш главнокомандующий — Бог, отвращая от нас беду, которая над головой нашей висела, хочет тем вразумить нас и заставить заняться делом. Один мой знакомый священник, объясняя мне однажды, какими иногда путями ведет Провидение человека к исправлению, выразился так: «У Бога такая манера, возьмет человека и пустит на него прохожих, а те на него грязью метают. Он и почувствует то, чего прежде не чувствовал. Оно хоть не больно, да стыдно». Кажется, что такую самую манеру
Бог и с нами взял. Дай Бог, чтобы урок тот впрок пошел. Неприятель, видимо, над нами смеется — перед Свеаборгом стоит теперь один фрегат и живет себе вне выстрела, делает промеры и на деле показывает нам, что и с одним фрегатом мы ничего не можем сделать. Возмутительно смотреть на этот видимый знак презрения. Я еду сегодня в ночь, дела уладив все свои и порешив многое на месте, чем надеюсь избавить себя от скучной переписки.
Здесь, как и в других местах, Сухопутное ведомство не в ладах с Морским, нельзя, однако, не видеть, что моряки гораздо полезнее на батареях и знают дело гораздо лучше сухопутных, и дух несравненно благороднее. Особенной перемены в сочувствии Финляндии к нам я не заметил. Изменников, по-видимому, много, потому что неприятель имеет самые верные сведения о таких предметах, которые для всех нас секретны. Ему, например, положительно известно направление мин, тогда как командиры наши этого не знают, и один маленький пароход попал на мину и пошел ко дну. Вообще до сих пор эти мины нанесли вреда более нам, чем неприятелю, а что всего хуже — это то, что мины Нобеля разрываются от прикосновения, плохо укреплены, расплылись по заливу и поднять их весьма трудно. Это может остановить отправление наших транспортов.
26-го августа. Я прибыл сегодня ночью благополучно в Петербург, прямо на новую квартиру на Невском (102) в дом графа Протасова. Здесь я узнал о назначении Ланского министром внутренних дел вместо Бибикова. Выбор самый несчастный. Ланской никогда не отличался ни особенными способностями, ни яркими достоинствами. Года три тому назад он временно, в отсутствие Ланского, исполнял его должность — вот, вероятно, причина его назначения. По званию директора тюремного Комитета, я был в частых сношениях с Ланским, который, как вице-президент, председательствовал на заседаниях и распоряжался всем. На меня возложено было заведование С.-Петербургской городской тюрьмой, и когда я принялся за дело и стал делать представление об улучшении разных частей управления тюремным замком, который находился и до сих пор находится в самом безобразном виде, то не встретил в Ланском не только сочувствия, но явное противодействие, хотя сам он признавал дельность моих замечаний и представлений. Я убедился при этом, что он человек, совершенно равнодушный ко всему, не имеющий решительно никакой собственной мысли, поддающийся влиянию первого негодяя, который сумеет к нему подделаться. Одним словом, — человек совершенно пустой и ни к чему не годный, неспособность его, вероятно, будет доказана опытом. И такому человеку вверяется управление самым главным министерством, особливо в настоящее время.
Бибиков заслужил всеобщее нерасположение двумя мерами: во-первых, инвентарями[77], а во-вторых, преследованием раскольников, так что удаление его порадует все классы общества. Но, не менее того, вопросы, им возбужденные, не разрешаются его отставкой: хороши ли, дурны ли меры, затеянные Бибиковым для разрешения этих вопросов, — это другое дело, но, во всяком случае, можно было бы предполагать, что при перемене министерства избрано будет лицо, которое могло служить представителем другого взгляда на предмет. Ланской ни своей персоной, ни своими убеждениями ровно ничего не выражает, и вся деятельность его будет ограничиваться поверхностным разрешением текущих дел. Причем директора департаментов будут играть главную роль. Вопросы о крепостном состоянии, о раскольниках, об улучшении внутренней администрации и проч. останутся в стороне, и на этом они не разрешатся, а напротив, шаткость действий произведет еще большее смятение, и конец этой неурядицы может быть очень плачевен. Личность Бибикова, сама по себе возбуждающая мало сочувствия, возвышалась в глазах многих обстоятельствами, сопровождающими его падение. Еще при покойном государе, по возникшим от помещиков Западных губерний жалобам на инвентари, составлен был для обсуждения сего вопроса комитет под председательством наследника; Бибиков в этом Комитете защищал свои распоряжения вопреки мнению наследника, который резко выразил его и свое неудовольствие и нерасположение к Бибикову. Со вступлением на престол нового государя Бибиков ожидал немедленного своего увольнения, тем более что тогда же, в речи, произнесенной в Государственном совете, государь, передавая благодарность покойного отца своего министрам, исключил из благодарности сей Бибикова. С тех пор Бибиков не скрывает ни от кого, что не думает долго оставаться министром, и даже переехал в свой собственный дом и жил там все лето. Между тем Бибиков не сделал ни одного шагу, чтобы поправить свои дела. Совсем не так поступил Клейнмихель. Этот, напротив, и сам, и через Ростовцева так обделал свои делишки, что находится теперь в совершенном фаворе. Бибиков даже ни разу не просил личного доклада и ограничил все свои сношения письменно, в докладах, большею частью совершенно пустых. Таким образом, это продолжалось до сих пор. На днях же государь посылает из Царского Села за Бибиковым, заставляет его долго дожидаться в приемной, а потом, призвав в кабинет, изъявляет ему свое неудовольствие за то, что в течение 6-ти месяцев он — Бибиков — не хотел даже его видеть. На это Бибиков возражал, что ожидал приказания явиться. При этом, говорят, происходил разговор довольно неприличный. Говорят, будто бы государь сказал ему: «Что Вы думали, что я сам приеду к Вам с визитом?»; на это Бибиков отвечал, что он не мог иметь такой мысли и что она даже не могла ему никогда прийти в голову и проч… Засим государь объявил ему, что назначил на его место Ланского. «Что Вы на это скажете?» — спросил государь. «Я скажу, — отвечал Бибиков, — что Ваше Величество изволили прекрасно сделать, ибо, коль скоро министр не пользуется Вашим доверием, то не следует его держать ни одного дня, в особенности при настоящих трудных обстоятельствах». Таким образом, на другой день напечатано было в приказах увольнение Бибикова от звания министра. Одному директору своему, который спрашивал его, правда ли, что он их оставляет, Бибиков без обиняков объявил, что нет, что его отставляют, но что он не просился. Конечно, Бибиков имеет независимое и большое состояние, а потому не нуждается в месте, но, не менее того, в нынешние времена и при подобных обстоятельствах гражданское мужество есть величайшая редкость.
Из Севастополя слухи все хуже и хуже, от бомбардирования мы теряем до 1000 человек в день. Кажется, нет возможности держаться долее, и теперь заботятся о том, как бы удачно отступить на Северную сторону.
28-го августа. Был я сегодня в Стрельне с докладом. Великий князь, по-видимому, очень озабочен. Кроме дел и неприятных известий из Севастополя, его княгиня начинает, кажется, уже чересчур дурить. Бог знает, чем все это кончится, везде непорядок и начало грозы.
29-го августа. Как ни ожидал, как ни готовился к роковой вести падения Севастополя, а все-таки сердце залилось кровью, когда прочел сегодня депешу, извещающую, что, отбив 6 штурмов, мы не могли выбить неприятеля из Корниловского бастиона и, теряя от бомбардирования по 2500 человек в день, оставляем Южную сторону Севастополя. Горчаков кончает депешу словами: «Неприятель найдет в Севастополе лишь окровавленные развалины». Итак, жертва принесена. Около 200 тысяч человек погибло, флот Черноморский не существует, миллионы, которых стоили укрепления Севастополя, пропали. Черное море окончательно у нас отнято, и в будущем ничего не предвидится, кроме сраму, слез и разорения. «Доколе, Господи, забудеши нас до конца». Неужели мученическая смерть стольких героев ни во что нам не вменится? Вечером получена другая депеша, в которой говорится, что отступление совершено неимоверно успешно и только менее 100 человек и 500 раненых оставлены в руках неприятеля. Это удивительно. Отступление всего гарнизона по одному мосту, наскоро сделанному, представляло много затруднений. Несмотря на это печальное известие, назначенное на завтра церемониальное, в золотых каретах, шествие в Александро-Невскую лавру не отменено и толки о завтрашних наградах продолжаются. Из окон наших процессию будет хорошо видно. Сегодня льет целый день дождик — что-то будет 30 августа? С 8-ми часов утра стал толпиться народ на Невском проспекте. В 9 часов пошел крестный ход в Лавру, а затем тронулась и придворная процессия. Государь с наследником и все великие князья ехали верхом. Народ кричал «ура», но без особого воодушевления. На обратном пути было более энтузиазма. На Невском проспекте на некоторых балконах вывешены ковры и цветные материи, в особенности отличались французские магазины, быть может, вероятно, они в душе своей праздновали падение Севастополя, но так как они и англичане, оставшиеся в большом числе в Петербурге, приняли российское подданство, то на бумаге они все люди благонамеренные, хотя и удивительно, что враги наши знают все сокровенные наши тайны через своих агентов, а мы ровно ничего не знаем, что они замышляют. В газетах пишут, что Пелисье в день атаки нашей 5-го августа на Черной[78] получил из корпуса известие о нашем намерении. Очевидно, что это известие доставлено было в Париж из Петербурга.
Говорят, что союзники намерены послать сильный десант в Николаев. Великий князь собирается туда ехать, эта поездка может принести пользу, так как флот наш в Черном море больше не существует, то хотя бы остатки команд собрать и дать им какое-нибудь назначение. Говорят, укрепления, защищающие Николаев, очень слабы. Из Севастополя сегодня известий нет. Успели ли взорвать каменные батареи? И что сделали с оставшимися кораблями — неизвестно. По армии вышел приказ с изъявлением, от имени всей России, благодарности севастопольскому гарнизону. Что-то скажут в Москве и во всей России о падений Севастополя? Чем более думаешь о современных событиях, тем более убеждаешься, что обыкновенным путем нет нам выхода из нашего положения. Не говоря уже о материальных недостатках во всем для продолжения войны — в порохе, снарядах и, наконец, деньгах, все духовные силы народа порабощены слишком предосудительными гнетами, убившими всякую живую мысль, всякое живое чувство и всякое сочувствие к правительству. Теперь, в утешение падения Севастополя, многие говорят: «Ничего, неприятель был и в Москве». Не знаю, может ли 1812-й год служить залогом успешным окончания нынешней войны, но тогда не только характер и смысл войны, затеянной одним завоевателем, был совершенно не тот, как теперь, но и общество русское было несравненно целее, нравственнее, и правительство было разумнее. К тому же нападающая на нас сила была гораздо незначительнее настоящей. Что можем мы теперь противопоставить разрушительному действию всех огнестрельных и других совершенствований? Не имея теперь в своем владении ни одного моря, мы должны собственными средствами охранять себя со всех сторон. Явись теперь между нами гениальный человек, со светлыми мыслями и душой, он, может быть, сумел бы, изменив всю политическую систему нашу, дать делам оборот неожиданный. Но такого человека не видать на нашем горизонте, да и почва, на которой мог бы вырасти не только гений, но и просто талантливый человек, забита щебнем в продолжение 30-летней утрамбовки. Одна надежда на неожиданное чудо.
1-го сентября. Сегодня государь с императрицами и великие князья уехали в Москву. Цель путешествия — показаться народу и поклониться угодникам. Оттуда государь отправляется в Варшаву, а великий князь — в Николаев, где и пробудет до ноября. Странно, что из Крыма нет никаких известий. Любопытно будет знать, как будет принят государь в Москве. Вероятно, отлично.
2-го сентября. Я обедал сегодня у великой княгини. Она сегодня в ночь едет в Москву и настоятельно приглашает меня с нею ехать. Очень бы мне самому хотелось бы повидаться с женой и детьми и посмотреть, что теперь делается в Белокаменной, но совещусь спроситься в отпуск, тем более что намерен был попозже поехать за женой. За обедом принесли от императрицы телеграфическую депешу из Крыма. Горчаков доносит, что с начала штурма до окончания отступления на Северную <сторону> ранено у нас 8 генералов, несколько штаб-офицеров, 100 обер-офицеров и до 4000 нижних чинов. Неприятель еще не сделал никаких приготовлений к атаке с Северной стороны. Мы, со своей стороны, усиливали батареи; по-видимому, Николаевский и Михайловский форты не взорваны, а потому будут в руках неприятелей действовать против нас. Вероятно, недостаток пороха не позволил подвести под форты сии мины. О флоте в депеше ничего не говорится. Из разговоров я узнал, что предложено было в Москве издать манифест, в котором повторить слова 1812-го года, т. е. «Не положу оружия, пока хоть один враг будет на Русской земле». Но предложение, кажется, не состоится, потому что боятся слишком связывать себя на случай мирных предложений. Как ни обидно в этом сознаться, а нельзя не согласиться, что в настоящем нашем положении мудрено хорохориться, тем более что слова, обращенные к народу, до сих пор не мешали действовать наперекор им, а потому лучше и не произносить их.
7-го сентября. Я сегодня возвратился из Москвы, куда поехал с великой княгиней, воспользовавшись ее приглашением. Отпуска я не просил и, следовательно, уезжал без спросу, как школьник. Поездкой своей я очень доволен и нашел всех своих, благодаря Богу, здоровыми. Мы выехали из Петербурга 4-го числа в 5 часов утра. Великая княгиня приехала с вечера на станцию железной дороги и легла ночевать в вагоне. Я также, окончив дома дела свои, приехал на станцию в 2 часа ночи, лег в вагоне, заснул и проснулся уже в пути, не заметив, как мы тронулись с места. В течение дня меня несколько раз призывала к себе в вагон великая княгиня, и в приятной беседе проходило время. В Бологом завтракали, в Твери обедали и в 9 часов вечера были уже в Москве. Всего ехали мы 16 часов. В Покровское, где еще живут жена и дети, я в тот же день вечером ехать не решился, потому что было темно и дождливо. Никто меня не ожидал, и приезд мой был совершенный сюрприз. На другой день, т. е. 5-го числа, я утром отправился в Покровское, отобедал и потом с женой прибыл в Москву, где ночевал, и на другой день по железной дороге пустился в обратный путь. Москва, как и следовало ожидать, поражена известием о взятии Севастополя; все классы народа соединяются в одном чувстве скорби. Говорят, не только купечество, но и низший класс негодует, толкует и плачет, считая падение Севастополя не только страшным материальным вредом, но и позором. Несмотря на это, государь был принят народом хорошо. Толпа народа сопровождает его при всяком его появлении. На выходе же было так просторно, что дозволено для вторичного представления приехать всем желающим до 14-го класса включительно.
Московскому дворянству, при представлении, государь сделал публичный выговор. Обратясь к уездным предводителям, он сказал им, что привык смотреть на московское дворянство как на стоящее во главе дворянств других губерний; он надеялся, что в настоящих обстоятельствах оно покажет себя достойным своего прошедшего, но что надежды его не оправдались и что московское дворянство несоответственными выборами офицеров ополчения и дурным сна-ряжением его оказало небрежение в святом деле и проч. и проч… Эти слова государя справедливы, и, хотя показалось многим странно, что государь начинает свое знакомство с московским дворянством выговором, но я, со своей стороны, оправдываю порывы откровенности со стороны государя. Одно только несправедливо, что укор падает на невинных, ибо дворянство как сословие ничего не значит. Выборы его — вздор, и к тому же офицеров не выбирали, несмотря на протесты многих дворян. В комитет, занимающийся экипировкой ратников, уездных предводителей и не пускали. Одним словом, силою все подавившей власти всякое непосредственное действие отдельного лица или сословия было невозможно, и образовавшееся вследствие этого равнодушие к общественному делу есть главная причина всего зла.
Правительство пожинает теперь плоды того, что посеяло, и потому не вправе негодовать на то, что плоды эти горьки. Поэтому дворянство считает упрек государя несправедливым, ибо не понимает, как бы следовало ему действовать иначе. Оно не знало, что сукно для ратников покупается скверное, а если бы и узнало, то протестовать, конечно бы, не осмелилось. Офицеров назначали не для земского дела, а на службу, в том тесном смысле этого слова, как привыкли теперь смотреть на службу, а потому и брали офицеров с улицы и тех, у которых формуляр не замаран, т. е. который официально не объявлен вором или пьяницей, записывали на службу. Хотят, чтобы общество оставалось в постоянном неведении всего, что его касается, чтобы оно не только не принимало никакого участия в делах правительства, но чтобы и не интересовалось им, и с этой целью стараются роскошью и всякими развратными увеселениями отвращать его от выполнения дел общественных, и в то же время хотят, чтобы это же общество вдруг, по данному сигналу, преисполнилось гражданскими доблестями, верило правительству и бескорыстной любовью к общественному делу и самоотвержением разумным обратилось бы в орудие для намерений, им неизвестных, и целей непонятных. Сказывают, что покойный государь, еще при начале войны, узнав, что все сословия в России как будто пробудились от сна, сильно заинтересовались узнать причину, цель войны и намерения правительства, с неудовольствием заметил графу Орлову: «Это не их дело». Неуважение к общественному мнению продолжается до сих пор. Все сведения и подробности о наших военных действиях должны мы почерпать из иностранных газет. Наши бюллетени печатаются не для нас, а для Европы, и потому редакцию реляций изменяют иногда, сглаживая места, которые могли бы не понравиться врагам нашим. Подробности отступления из Севастополя до сих пор неизвестны публике, хотя они получены уже давно, и вся Россия ждет их с нетерпением. Клейнмихель, которого Россия справедливо обвиняет в самых вопиющих злоупотреблениях и который, быть может, будет главною причиной не только падения Севастополя, но и оставления Крыма, потому что в течение года не озаботился устроить в Крыму дороги, такого человека, заклейменного общественным презрением, держат на месте, и даже, по-видимому, он вошел в милость. Все эти мысли в разных формах выражаются теперь всеми как в Петербурге, так и в Москве. Вообще же во всех наших неудачах обвиняют прошедшее царствование. Государь на днях отправляется в Николаев и оттуда, вероятно, в Крым. Его присутствие может быть теперь весьма полезным. Вразуми его Господь.
9-го сентября. До сих пор еще не напечатаны подробности падения Севастополя. Вряд ли нам будет возможно долее оставаться в Крыму, ибо, ежели прегражден будет единственный путь на Перекоп, то вся армия должна будет погибнуть. «Доколе, Господи, забудешь нас до конца».
11-го сентября. В Петербург, за отсутствием царя и двора, никаких новостей нет. Из Крыму получены известия, что неприятель начал бросать бомбы и ракеты на Северную сторону. Сегодня узнал я, что Капнист, московский гражданский губернатор, сделан сенатором. Он обвинен был ежели не в злоупотреблениях, то по крайней мере в небрежности при заготовлении обмундировки московских ополчений, за что ему сделан был в приказах выговор. Дело это получило, таким образом, гласность. Теперь, без предварительного оправдания, его делают сенатором, и все убеждены, что это назначение есть выражение гнева. Покойный государь сделал из Сената чуть-чуть не арестантские роты. Всех тех, которые оказались негодными из дивизионных генералов, сажали в Сенат. Бессарабский военный губернатор Федоров, уличенный в самых предосудительных поступках, был сделан сенатором и вместе с тем предан следствию. Вообще всех сомнительных людей, не годящихся никуда, сажали в Сенат, не заботясь о том, что этим унижается звание сенатора и что это унижение уничтожает значение учреждения, на которое еще, по преданию, в провинции смотрят с некоторым уважением, но, видимо, эта система пренебрежения к Сенату продолжается и теперь, и она главным образом происходит от совершенного непонимания власти Сената. Министр юстиции, который первый должен бы был обратить на это внимание, не осмеливается пикнуть, да и сам он своими распоряжениями действует совершенно в том же духе. На место Капниста назначен московским гражданским губернатором генерал Синельников. Этот выбор также, к несчастью, доказывает, что нет даже поползновения к строгим выборам людей, способных улучшать внутреннюю администрацию. Генерал Синельников служил в разных штабах и считался исправным и аккуратным писарем, в точности исполняющим приказания начальства, но, по словам князя Шаховского, у которого Синельников служил, он вовсе лишен всяких самостоятельных административных способностей.
Все эти странные назначения делаются потому, что государь не имеет ни малейшего понятия о государственных и губернских учреждениях России; он, конечно, не знает твердо, что такое, собственно, Сенат; о губернском правлении он вряд ли слышал, а о круге действий, власти и значении других учреждений он, вероятно, никогда и не думал справляться. Вероятно, государь об этих предметах не более знает, чем великий князь, в невежестве которого в этом отношении я имею положительные доказательства. Вероятно, профессора, преподававшие членам императорской фамилии государственное право, ограничивались кратким обзором системы государственных учреждений России, наглядно же практического понятия о сих учреждениях они получить не могли, потому что в провинции не жили и дел никаких не имели. В моей служебной практике я нередко имел случай видеть, как смешны бывают губернаторы, не приготовленные ни воспитанием, ни службой к сим местам, и какой страшный вред от этого происходит. Удивительно, как строго последовательно держались системы унижения всех, как высших, так и низших должностей. Ежели вспомнить, как уважалось звание сенатора и губернатора прежде, не говоря уже об эпохе Екатерины II, но и в царствование Александра I, то нельзя не убедиться, что сильно должно было быть желание все опошлить, чтобы дойти до настоящего положения вещей. Жаль, что в этом отношении нет надежды на улучшение.
13-го сентября. В газетах напечатан приказ князя Горчакова Южной армии. Он вообще хорош и вышел кстати. В нем сделан краткий исторический обзор всей осады и выражена благодарность гарнизону за мужество и стойкость. Между прочим, князь Горчаков говорит, что в последние 20 дней осады потеря наша ежедневно простиралась от 500 до 1000 человек. Это ужасно… Но несмотря на это страшное кровопролитие, дух гарнизона, говорят, не упадал до самого конца, и теперь войско горит желанием отомстить врагу. Боже мой, неужели не явится человек среди такой массы героев? Неужели суждено нам замереть со всем могуществом духовных сил народа? Ежели бы не лежало в нас глубокое убеждение, что есть в России силы, есть в ней средства, которыми не умеют воспользоваться, ежели бы можно было согласиться с теми, которые, презирая Россию, не видят в ней никаких самобытных начал и никакой будущности, то, кажется, можно было бы равнодушно смотреть на современные события и не возмущаться тем, что кругом делается и что даже сам делаешь. Я знаю многих русских в Петербурге, которые совершенно спокойны и ежели не радуются нашим неудачам, то только потому, что вычитали в разных французских журналах, что всякий порядочный человек должен иметь amour pour sa patrie[79] и что во всяком случае публично презирать ее неприлично. Но для этих господ неудачи наши весьма естественны, даже один из них (которого назвать не хочу), служащий в Министерстве иностранных дел, прямо сказал мне однажды, что скорее нужно опасаться успеха нашего оружия puisque cela ferait triomphe de la barbarie contre la civilisation[80]. Господин, сказавший мне эти слова, далеко не глупый человек и в обществе даже считается умным, он выразил мысль, которая таится в душах всех главных представителей Министерства иностранных дел, начиная от самого Нессельроде. Во всех прошедших и настоящих действиях наших посланников и дипломатов видна постоянная какая-то нерешительность, происходящая из убеждения qu'ils defendre une mauvaise cause[81]. Надо быть гениальным человеком, чтобы защищать интересы земли, которую не знаешь, не уважаешь и знать не хочешь. Что знают, например, граф Брунов, Мейендорф и Киселев о России, они даже и говорить по-русски почти не умеют, кроме Петербурга ничего не видели, да и в Петербурге, кроме иностранных газет и книг, ничего не читали. Не только о русской жизни, ее особенностях и началах они понятия не имеют, но и не исповедуют православной веры, но и не знают даже основных законов России. Любопытно бы было спросить, например, у Брунова, который отлично знает все государственные учреждения в Англии и во Франции, какое он имеет понятие о нашей администрации, о нашей промышленности и торговле, о нашем семейном и гражданском быте? Господа эти образовали себя частью из иностранных книг, частью из разговоров, слышанных ими в модных гостиных; какое-то отвлеченное понятие о России; в общих чертах Россия представляется им чем-то безобразным, грубым и невежественным, и на этом основании образовали они себе понятие и о каких-то отвлеченных интересах России, которые и защищают без особого усердия и без всякого сердечного участия. История докажет, что все наши дипломатические неудачи, возбудившие настоящую войну, произошли главным образом от непонятного ослепления правительства, вверившего интересы свои в руки таких посланников. Впрочем, правительство само, отделивши себя и интересы свои от России, не могло выбирать людей с другими взглядами на вещи. Неужели кровавый урок и в этом отношении не послужит нам в пользу?
16-го сентября. В Крыму неприятель начинает наступательные движения; уже высадил 30 тысяч войск в Евпатории, действует одновременно против левого нашего фланга. Военные люди говорят, что нам необходимо отступать и оставить Крым, что иначе армия наша может быть отрезана и должна будет положить оружие. Но до сих пор мы еще держимся на Северной стороне Севастополя, хотя и эту сторону неприятель начал сильно бомбардировать.
Государь теперь, вероятно, если не в Крыму, то в Перекопе. Многие надеются, что вследствие посещения государем театра военных действий военный министр князь Долгоруков и Клейнмихель падут, ибо не может государь не убедиться, что для Военного министерства нужен теперь человек более способный и энергический и что Клейнмихель не мог в продолжение года сделать в Крыму дороги, необходимой для продовольствия армии, и что поэтому армия наша не может держаться в Крыму. Дай Бог, чтобы надежды хотя в этом отношении оправдались, но я не верю в падение, в особенности Клейнмихеля, потому, что этого человека ежели не прогнали прежде, то нет причин прогонять теперь, к тому же он, говорят, в силе и имеет поддержку в лице Ростовцева. В газетах напечатана статья Погодина о пребывании государя в Москве. Статья эта довольно эффектна и, как все статьи Погодина, не написана, а намазана, т. е. издали, как декорация, производит эффект, а вблизи, при внимательном чтении, поражает необработанностью и неотделанностью речи.
18-го сентября. Я возвращаюсь сегодня из Царского Села в одном вагоне с графом Перовским, бывшим министром внутренних дел, а ныне министром Уделов. Он с некоторого времени сделался военным, произведен в генералы от инфантерии и носит мундир Стрелкового полка императорской фамилии, который формирован из крестьян удельных имений. Поразительно, с каким ребячеством он щеголяет в своем костюме, отпустил бакенбарды и усы, сделался необыкновенно разговорчив и развязен, одним словом — совершенно преобразовался. Как министр внутренних дел он был искусственно важен и надут, а теперь, видно, он совершенно в своей сфере, и по разговору судя, занят не на шутку всякими мелочными подробностями выпущенных петличек и проч… Кто-то весьма справедливо назвал его башибузуком; как жаль, что так поздно попал он на настоящую свою колею: он рожден быть башибузуком, а его лет 10 держали министром внутренних дел…
В том же вагоне ехал прусской службы Мюнстер. Этот господин играл в последнее время при покойном государе весьма важную роль, быв его любимцем и конфидентом; официальная должность его при дворе состоит в наблюдении за военными усовершенствованиями, для той же цели при прусском дворе находился от нас генерал граф Бенкендорф. Разумеется, Мюнстеру нечего учиться у нас военным усовершенствованиям, а потому он занят совершенно другим делом. При дворе, по милости императрицы, всегда отличали пруссаков, а в последнее время образовалось целое гнездо пруссаков, бывших в милости фрейлины Раух, дочери бывшего прусского посланника, оставшейся после смерти отца в России и взятой ко двору еще при жизни отца.
Доктор Мандт, самый, может быть, доверенный человек покойного государя и самый, может быть, заклятый враг России, и, наконец, Мюнстер с женою действовали совокупно и с большой силою. Им помогали немало Нелидова и граф Нессельроде. Для этих лиц не было никаких тайн, и они, без сомнения, сообщали в Пруссию все, что видели и слышали в самом источнике всех новостей. Шаткость, неопределенность и изменчивость нашей политики при всех дипломатических действиях при начале войны, в особенности относительно Германии, надо приписать пагубному влиянию прусской партии, которая действовала неусыпно, всякими средствами. Гадко было видеть, как в прошедшем году, во время пребывания государя в Гатчине, когда, после Альмского сражения, государь совершенно потерял голову и начались всякие неудачи. Покойный государь плакал на груди Мюнстера, поверял ему все тайны, тогда как для других все было секретно. Вся эта прусская шайка и до сих пор при дворе, но, кажется, далеко не имеет прежнего значения. Мандт уехал за границу и, может быть, не вернется. Великий князь, вообще не любя немцев, кажется, в особенности не терпел этих пруссаков. Это, конечно, им было известно, и они его прозвали Preusse-Hasser[82]. Тайная история дипломатических сношений наших в последнее время раскроет когда-нибудь степень участия этих господ во всех наших неудачах и непростительных промахах.
24-го октября. С лишком месяц не писал я, потому что за это время ездил в Москву за женою, которую перевез благополучно в Петербург с детьми. В Москве пробыл с лишком неделю и с тех пор постоянно нездоров. Воспаление глаз мешало мне заниматься, теперь, слава Богу, лучше. В течение нынешнего месяца совершились такие перемены, о которых следует упомянуть. В Москве заметил я в общественном мнении некоторую раздражительность, в особенности со злобными упреками тревожат прах покойного императора, в клубах и гостиных громогласно обвиняют прошедшее царствование во всех наших неудачах. В губерниях также, говорят, падение Севастополя сильно подействовало на общественное мнение. Бездействие настоящего правительства приводит в уныние. Государь и великие князья в Николаеве занимаются укреплением устьев Буга. Неприятельский флот, прибывший сперва в одесский рейд с десантом, подошел в Кинсбургу высадил десант, взял эту крепость, которую мы Бог весть сохранили для чего, не имея средств защищать, на мелких судах поднимался вверх по Бугу, впрочем, не на дальнее расстояние. Теперь неприятельский флот и десант опять ушли в Севастополь. Эта демонстрация, видимо, была сделана для отвлечения сил наших из Крыма. Тут неминуемо скоро должны происходить важные военные действия. Говорят, избранные нами позиции довольно сильны, но вопрос продовольствия армии не решен, и вообще трудно надеяться, чтобы мы могли сохранить Крым, но и самая армия наша в случае неудачного сражения может быть поставлена в критическое положение. Всем более или менее известно, в каких трудных обстоятельствах мы теперь находимся; неудачный штурм Карса[83] 17-го сентября, при котором мы потеряли с лишком 6000 чел., отнял всякую надежду на удачу и с этой стороны. От Муравьева ждали чудес, а теперь обвиняют в неудачах. Одним словом, со всех сторон совершающиеся события наводят невыразимую грусть, и при этом легко себе представить, какое впечатление производят доходящие из Николаева слухи, что там живут весело, ездят на охоту, гуляют, делают смотры и проч. и проч…
Среди всех этих печальных событий свершилось наконец событие, всеми давно ожидаемое, которое разом подняло упавший дух и произвело, можно сказать, всеобщий восторг во всех концах России. Это событие — падение Клейнмихеля… Он подал в отставку вследствие сделанного ему из Николаева внушения. Что именно побудило государя решиться на эту меру, как это ведено и кто в нем участвовал — я еще не знаю. Городские слухи об этом недостоверны. Вероятно, великий князь немало содействовал низвержению человека, которого признавали решительно вредным, и ежели это так, то я могу утешить себя мыслию, что и мои убогие труды не пропали даром, потому что и я не пропускал случая и не скрывал перед великим князем мнения своего об этом господине; как бы то ни было, но дело в том, что в тот же самый день, как Клейнмихель подписал тут, в Петербурге, просьбу об отставке, радостная весть эта разнеслась по всему городу — я узнал ее в департаменте от чиновников, которые сообщали ее друг другу с невыразимым восторгом. Все, даже на улице, друг друга поздравляют. Купец Кокорев пишет мне из деревни: «Целую неделю ходят слухи о прогнаний Клейнмихеля, но все еще слухи пока. Не смею радоваться, пока не прочту в приказах, а по прочтении — даю обеды на бедных в течение месяца за здоровье царя».
Погодин пишет мне из Москвы, что он узнал новость в клубе, где лилось шампанское, которого давно уже не пили, и праздновали победу над внутренним врагом. Головний пишет мне из Николаева от 15-го октября: «Сегодня здесь была объявлена новость, что Клейнмихель уволен и на его место назначен Чевкин. Вы не можете себе представить общей радости, восторга и восклицаний; лобызались и поздравляли друг друга. По рукам ходят уже стихи на этот случай».
Что может быть красноречивее и знаменательнее этих фактов? Какое же правительство, которое поставило себя в такое положение к общественному мнению? Может ли такое правительство надеяться на сочувствие; может ли негодовать на злоупотребления и карать взяточников, когда само, упорным сопротивлением общественному мнению, добровольно и умышленно отчуждает себя от общества? Какой прекрасный урок молодому государю, ежели бы он мог его понять. В этом всеобщем негодовании на Клейнмихеля и всеобщей радости при известии о его падении много утешительного. Значит, еще не совсем забито и задавлено общественное сознание, значит, оно еще может проявиться, равнодушие, значит, еще нас не совсем одолело.
Клейнмихель больше, чем кто-либо, выражает личностью своей общий характер прошедшего царствования. Деспот в высшей степени, без всякого образования, украшался девизом: «Усердие все превозмогает». Этот девиз, изображенный на медали, которая была дана ему за перестройку Зимнего дворца, который из пепла в несколько месяцев он воздвиг, потратив на него миллионы и заморив на работе сотни людей, — этот девиз был любимым девизом покойного государя. Усердие не стесняется при выборе средств, усердие не хочет знать цели, усердие вообще не рассуждает, усердие никого знать не хочет, кроме того, для которого усердствует, для усердия нет ни закона, ни права, ни Бога — оно все превозмогает. Очень любопытно будет современникам узнать тайную причину силы Клейнмихеля в прошедшем царствовании, потому что, кроме благоволения за усердие, были еще причины близких отношений его к покойному государю. Самое начало его фаворитизма довольно загадочно.
Князь Иван Лаврентьевич Шаховской сказывал мне, что вскоре по восшествии на престол покойный государь объезжал новогородские военные поселения, и князь Шаховской ехал с ним в коляске, будучи корпусным командиром. Когда они подъехали к поселениям, то на границе встретил их Клейнмихель, начальствовавший тогда там. Завидя Клейнмихеля, государь сказал князю: «Вот еще аракчеевская собака». (Известно, что Клейнмихель был выведен в люди фаворитом Аракчеевым.) Несколько времени спустя Клейнмихель сделан был генерал-адъютантом, и вряд ли это назначение не было первым назначением нового царя. Как объяснить эту перемену? Дальнейшая карьера Клейнмихеля, кажется, тесно связана с карьерой Нелидовой. Некоторые говорят, будто он признавал своими ее детей и проч. Все это очень темно, но вообще нельзя не признать, что была какая-то таинственная связь между ним и покойным. Это особенно сделалось ясным после известной истории между Клейнмихелем и подрядчиком Лярским по расчетам за Киевское шоссе, в которой покойный государь, также по участию Нелидовой, принял горячо сторону Лярского, обвинил Клейнмихеля и до того был против него озлоблен, что все полагали, что наступил час падения Клейнмихеля, но не тут-то было. Сам государь приезжал к нему мириться, и он получил еще, быть может, более силы и доверия. Сам Клейнмихель ненавидел покойного государя, в этом удостоверяли меня многие близко с ним знакомые. Не имея никакого образования, он даже не имел от природы никаких административных способностей и запутал дела не только казенные, но и свои собственные. Злоупотребления и воровство в его управление достигли колоссальных размеров. Не могу себе представить, как сдаст он счеты, начеты и отчеты своему преемнику; не только подрядчики по построению Московской железной дороги еще не удовлетворены, но и за Зимний дворец есть еще много претензий, во время его владычества на него не было ни суда, ни расправы. Как-то будет теперь?
Говорят, что ему готовят великолепный рескрипт — это уже будет верх неприличия. Преемник его, сенатор Чевкин, имеет репутацию весьма умного и образованного человека. Общественный голос уже давно называл его при всяком почти вакантном месте министра, но его нарочно держали в черном теле и посадили в Сенат в 4-й Департамент, а граф Панин и тут заметил, что он слишком умен, и посадил его в герольдию[84], где он и до сих пор сидел, занимаясь разбиранием старых формулярных списков. Про него обыкновенно говорили, что он очень строптив. Это обыкновенно говорили про умных людей, которых по летам и по званию не смели называть коммунистами. Вообще я заметил, что общественный голос редко у нас ошибается в назначении людей на места, ежели немного к нему прислушаться, можно было бы действовать без грубых ошибок. Как бы то ни было, но одно первое и важное сделано, один внутренний враг обезоружен. Это хотя и много, но не все еще — много остается других. Дай Бог, «с легкой руки».
26-го октября. Городские слухи о рескрипте Клейнмихелю оправдались. Сегодня этот рескрипт напечатан в газетах. Вот он:
«Граф Петр Андреевич. Снисходя на просьбу Вашу и увольняя, согласно желанию Вашему, по расстроенному здоровью, от управления Путей сообщения и Публичными зданиями, Я с особенным удовольствием изъявляю Вам при сем Мою искреннюю благодарность за долговременную и полезную службу Вашу и за то неутомимое деятельное усердие, с коим Вы постоянно исполняли возлагаемые на Вас обязанности. Созданные под руководством Вашим, во время управления вверенною Вам частью, по указаниям незабвенного и вечной памяти достойного Родителя Моего императора Николая Павловича: постоянный мост через Неву, Николаевская железная дорога, по разным направлениям на значительном пространстве шоссе, электромагнитные телеграфы и многие другие не менее важные сооружения, несомненно_свидетельствуют о заслугах Ваших, останутся вечными памятниками Ваших трудов. Оставляя Вас в звании Моего генерал-адъютанта и члена Государственного совета, я надеюсь, что и на этом поприще службы Вы будете продолжать быть, как и прежде, полезным Мне и Отечеству. Пребываю и проч…».
Общественное мнение оценило заслуги Клейнмихеля и выразило его в следующих двух[85] стихотворениях, которые ходят по рукам и могут быть названы рескриптом от народа.
Прощание Итак, сбылись заветные желания, Прости навек, наш грозный падишах, Благодарим за все благодеяния, За седины в поручичьих чинах, За ряд обид и мелких оскорблений, Которые ты щедро расточал, За глубину того уничижения, В которое ты нас умышленно втолкал; Ты дерзостно смеялся над искусством И в нас убить хотел зародыш чувства, Которого, слепец, ты сам не понимал. Гордились мы своим образованием, Почтен был прежде наш мундир, Но, не поняв высокого призвания, Ты всех в него бессмысленно рядил. Ты в нас убить хотел сознание чести, Лишь воровство и подлость поощрял, Ты награждал лишь тех, кто подлой лестью И рабской трусостью твой гнев предупреждал. Плебей душой, плебей происхождением, Ты историческим преданиям верен был И приближал к себе всех тех, кто по рождению Не имя громкое носил. Тревожимый тщеславием неимоверным, Ты изменил религии Отцов, Ты возмечтал, что Царь наш Благоверный Твой род включит в ряд княжеских родов. Но кончены счета. — Прощай, и Бог с тобою, Ведь на Руси лежачего не бьют, Мы не злопамятны. Да будет над тобою Лишь Царский праведный, да Божий Грозный Суд. Расстались мы с тобою, и слава Богу, Опять за все тебя благодарим: За Восиса[86], железную дорогу, За то, что нет еще дороги в Крым, За капитал, разбросанный в пустыне, За все, чем ты хотел нас оскорбить, Благодарим за то, что уж отныне, Не будем мы тебя благодарить.Эти стихи разноречат со словами рескрипта; на чьей стороне правда — нетрудно решить. Очень жаль, что правительство продолжает говорить не то, что думает, и не имеет храбрости действовать открыто. Какую же после того могут иметь силу рескрипты, данные за действительные заслуги?
4-го ноября. На сих днях, а именно к 7-му числу, ждут возвращения государя, который из Николаева поехал в Крым, был не только в Симферополе, но и на Северной стороне Севастополя и осмотрел все войска. Говорят, присутствие его произвело хорошее впечатление, да и для него самого поездка эта должна быть полезна, вероятно, он многое мог узнать такого, что он него скрывали здесь, и во всяком случае суждения его о нуждах края и армии будут основательнее. Великий князь в Крым не ездил, но возвращается прямо из Николаева по Белорусскому тракту. Кажется, решились не обманывать себя насчет будущей участи Черноморского флота, все постройки в Николаеве приостановлены до тех пор, пока война не решит, останется ли за нами Черное море или в какой мере оно останется, а до того команды, уцелевшие от севастопольской бойни, поступают в состав Балтийского флота. Видимо, что трудно было великому князю решиться на эту меру, но благоразумие взяло верх. По известиям из Крыма надо полагать, что все военные действия будут приостановлены по случаю наступающей зимы. Из Евпатории союзные войска отправились, вероятно, на зимовку в Варну или Константинополь. В России продолжают радоваться на падение Клейнмихеля, и каждый день появляются стихотворения, более или менее остроумные.
Вчера слышал я следующее четверостишие:
Упал он. Упал он. Никем не оплакан. И как он, и как он Окакан. Окакан.В Петербурге начинают ощущать ужасный недостаток не только золотой, но и серебряной монеты, даже мелких бумажек трудно найти. Размен затруднен так, что на днях мне принесли сдачи из магазина на 40 копеек медной монеты. Это явление объясняется различно — говорят, менялы скупили всю мелкую монету и барышничают. Но, кроме того, есть другая, весьма важная причина — это вывоз серебра и золота за границу. Кредит бумажных денег, кажется, начинает упадать, хотя они еще ходят и принимаются по номинальной цене, но на серебро и золото уже составился лаж[87]. Кокорев в весьма дельной записке обращал на это внимание правительства и составил проект новых правил о золотопромышленности, который должен, по его мнению, развить сильно добывание золота и поддержать кредит бумажных денег. Этот проект был представлен государю, который приказал его рассмотреть в Финансовом комитете, который будет по порядку сноситься с генерал-губернатором Сибири и проч. и проч., одним словом, это дело, не терпящее ни малейшего отлагательства, отложено в долгий ящик.
Я послал эту записку Кокорева через Головнина великому князю, прося его прочесть и постараться ускорить рассмотрение важного проекта. Великий князь, прочтя записку, кажется, был поражен ею и послал государю, но государь успокоил великого князя, сказав ему, что финансы в России находятся в цветущем состоянии, что фондов более чем на 16-ю часть, требующихся для обеспечения бумажных денег. Это спокойствие государя насчет финансов России может быть причиною страшных бедствий. Неужели принимать меры, когда банкротство уже начинается? В записке Кокорева ясно изложено настоящее положение вещей, приведенные им факты согласны с действительностью, и они поневоле заставляют задуматься. Кажется, что только один министр финансов не задумывается, но это потому, что г-н Брок сам, вероятно, не понимает, почему он министр финансов, он никогда не мечтал быть министром финансов, никогда финансами не занимался, ученым человеком не слыл и опасности ни в чем не видит.
Весьма любопытна история его назначения в министры. В ней случай играет весьма важную роль, как вообще во всех назначениях прошлого царствования. Например, после смерти товарища министра внутренних дел Сенявина, который запутался в делах и зарезался, надо было назначить ему преемника.
Граф Перовский, бывший тогда министром внутренних дел, не думал еще о кандидате, ибо, вероятно, не находил себе еще человека безвредного. Однажды государь, при докладе, спросил его, нашел ли он себе товарища. Перовский, не ожидая такого вопроса, замялся; тогда государь сказал ему: «Я, впрочем, сам нашел тебе человека» и назвал какого-то Семенова или Степанова, не помню хорошенько (Щербинина), служившего правителем канцелярии у князя Воронцова на Кавказе. «Его, — прибавил государь, — хвалит Воронцов, и представь себе, что он приехал в 4 дня из Тифлиса». Эта рекомендация испугала Перовского, и он осмелился заметить, что рекомендованный государем господин моложе по службе некоторых директоров и что у него есть директор хозяйственного департамента Леке, который тоже служил некогда у Воронцова. Государь сейчас же признал дельным возражения Перовского и тут же назначил Лекса товарищем министра внутренних дел, никогда его не видав и не имея никакого понятия о его достоинствах. Стоит только взглянуть на Лекса, каков он был в то время, когда назначен, чтобы убедиться в том, что этот человек совершенный идиот и уже не способен ни на какое дело. Не знаю, каковы были способности того, который приехал в 4 дня из Тифлиса, и по сему подвигу не могу также заключить, хорош ли он был бы в звании товарища министра. Брок так же случайно был назначен товарищем министра финансов и так же попал после Вронченко в министры. Как часто бывало, брало меня раздумье в Английском клубе, куда обыкновенно летом приезжают обедать министры и товарищи их. Тут видишь Брока, Лекса, Сенявина — товарища министра иностранных дел, Норова — товарища министра финансов, Веневитинова — товарища министра Уделов, Илличевского — товарища министра юстиции и проч., и как посмотришь на этих господ и послушаешь, что они говорят, то невольно спросишь себя: «Неужели это министры, управляющие Россией?». Да почему же, наконец, они министры, а не начальники отделения? Что же оправдывает их назначение? Знатность рода — нет. Ученость — нет. Богатство — нет. Литературная или какая-нибудь другая известность — нет. Специальное образование или опытность — нет. Так что же, наконец, они выражают собою? Ничтожность, ничтожность и ничтожность — вот и все. Случалось мне указывать на этих господ заезжему провинциалу, и тот верить не хотел, чтобы действительно фигура, которая так мало выражает, принадлежала какому-нибудь министру.
24-го ноября. Сегодня Бог дал мне сына Алексея, Дашенька родила благополучно в 4 часа пополуночи. Сперва не знали, как назвать новорожденного, — жена предлагала Николаем, мне хотелось Дмитрием, наконец, решили написать несколько имен, положили бумажки под образа и вынули одну из них, на которой было написано имя Алексей.
Я давно не писал записок, частью потому, что был занят, а частью потому, что боялся дома вечером писать, так как глаз мой все еще не в порядке.
Возвращение государя в Петербург не сопровождалось ничем особенно любопытным. От этой поездки ждали многого, хотя никто хорошенько не определил себе, чего именно. Но, кажется, польза состоит только в том, что государь личным присутствием в Крыму ободрил армию, но никакой новой мысли ни относительно военных действий, ни относительно внутренней администрации не проявляется.
Забава мундирами снова начинается и на это раз делается уже совершенно непростительна. Сегодня я провел вечер у великой княгини Елены Павловны, где была почти вся царская фамилия, кроме государя и императрицы. Великие князья были уже в новой форме, т. е. без эполет и с галуном на воротнике наподобие австрийских кафтанов. Всем чиновникам Военного и Морского министерства, следовательно и мне, предписано носить усы, чему я, впрочем, для себя очень рад. Кроме того, говорят еще и о других разных преобразованиях по мундирной части, всем военным, между прочим, разрешается носить в городе фуражки. Эта мундиромания становится, наконец, слишком серьезною. Вряд ли история какого-либо народа представляла подобное зрелище. Как будто Провидению угодно довести нас до совершенного изнеможения и для сего само накладывало повязку на глаза наших путеводителей. Сколько я ни добивался, ничего не мог узнать замечательного насчет пребывания государя в Николаеве, и это не потому, что хранилась какая-нибудь тайна, а просто потому, что ничего замечательного не было. Падение Клейнмихеля есть дело почти случайное, сему способствовал прибывший из Николаева Сергей Мальцев, который накричал так, что наконец обратили внимание на зло, которое давно заявлено всеми. Говорят, также императрица Мария Александровна писала об этом. Как бы то ни было, но верно то, что в падении Клейнмихеля нельзя видеть последствия новой системы или нового взгляда на вещи. Военные действия в Крыму почти прекращены по случаю зимнего времени, но что будет весною, об этом никто ничего не знает и, как будто, знать не хочет, ибо все-таки и до сих пор никакого определенного плана действий наших не существует и приготовительной деятельности незаметно. Паскевич умирает, носятся слухи, что на место его будет назначен Горчаков, а на место сего последнего — Лидере. Будет ли от этого лучше — не знаю.
Великий князь Николай Николаевич помолвлен на принцессе Ольденбургской, дочери принца Петра Георгиевича. Об этой помолвке как-то странно объявлено в газетах в виде объявления, тогда как подобные объявления обыкновенно делались в форме манифеста. Уничтожение всякого этикета при дворе, начавшееся еще в прошлом царствовании, кажется, теперь окончательно совершается, но прежде этикет заменялся страхом и подобострастием, а теперь и этого нет. Приехала сюда на жительство королева Нидерландская, Анна Павловна, и присутствие ее, кажется, всех смущает, потому что она женщина прежнего века, держится строго всех правил этикета. Ее пример вряд ли подействует на других и способен ли восстановить отжившие формы, которые, впрочем, необходимы, ибо они охраняют двор от бесчинств и, с уничтожением их, разрушается все то очарование (prestige), которым должна окружать себя власть. Внешний этикет двора теперь мало-помалу исчезает, и странное дело, им тяготятся те, которые, казалось бы, более всех должны были стараться поддерживать его. Скандалы всякого рода при разных дворах делаются известными всей публике, о них судят и рядят везде и, таким образом, мало-помалу теряют уважение к тому принципу, которого двор является представителем. Ежели бы не скучно было писать, я бы мог рассказать бездну анекдотов, более или менее скандальных, которые доказывают, что ежели прежде разврат при дворе был не меньше и даже больше, то никогда не был он так распущен, как теперь. Впрочем, об этом поговорю как-нибудь на досуге.
26-го ноября. Сегодня был выход по случаю Георгиевского праздника, и потом георгиевским кавалерам был обед. Нового ничего нет.
1-го декабря. Получено известие, телеграфическое, через Брюссель, что Каре взят. Дай Бог. Подробностей нет никаких, но, кажется, гарнизон сдался — был вынужден к тому голодом. Молодец Муравьев, много показал он характера и силы воли, не отошел, несмотря на неудачный штурм и появление Омер-паши близ Кутаиса. В наш бесхарактерный и вялый век стойкость и сила воли — редкие достоинства. Князь Меншиков будет на днях назначен главнокомандующим морскими и сухопутными силами в Кронштадте. Начальником штаба к нему назначается Путятин. Много шуму наделает это назначение, всех оно удивит. Мне же кажется, что, несмотря на ошибки и странное поведение Меншикова в Крыму, лучшего выбора сделать нельзя. Нет, кроме него, ни одного человека.
2-го декабря. Каре решительно взят, сегодня приехал курьер с трофеями. Крепость сдалась от голода. Это первое радостное событие в нынешнем году. Вероятно, по этому случаю будет выход. В городе теперь делает много шуму записка великого князя Константина Николаевича к Врангелю — управляющему Морским министерством — об отчетах. Копия с этой записки разослана по всем департаментам и подведомственным им учреждениям и тоже напечатается. Она действительно очень сильна. Все думают, что она написана с разрешения государя, но это несправедливо. Все министры принимают ее на свой счет, ежели бы это написать помягче, то, конечно, эффект был бы не тот и никто не обратил бы на записку внимания. Со всех сторон просят копии, и я боюсь, что это кончится какою-нибудь неприятностью. Уже теперь, как кажется, испугались того, что ее напечатали, и я получил сейчас приказание возвратить те экземпляры, которые я взял в Инспекторском департаменте для разъяснения в подведомственном месте во избежание переписки. Прилагаю при сем копию с этой записки, вот она:
«В одной весьма замечательной записке о нынешних тяжелых обстоятельствах России, при указании причин, которые довели нас до нынешнего бедственного положения, между прочим сказано: „Многочисленность формы подавляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Загляните на главные отчеты: везде сделано невозможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, посмотрите в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть — от того, что кажется, кривду от правды или полуправды, и редко где окажется плодотворная польза. Сверху блеск — внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет истины. Она затаена между строками, но кто из официальных читателей может читать между строками?“ Прошу Ваше превосходительство сообщить эти правдивые слова всем лицам и местам Морского ведомства, от которых в начале будущего года мы ожидаем отчета за нынешний год, и повторите им, что я требую в помянутых отчетах не похвалы, а истины, а в особенности глубокого и обдуманного изложения недостатков каждой части управления и сделанных в ней ошибок, и что те отчеты, в которых нужно будет читать между строками, будут возвращены мною с большою гласностью. Прошу Ваше превосходительство разослать вышеупомянутым местам и лицам копии с этой записки. Константин».
Не привыкли мы слышать живого слова в официальных бумагах, и вдруг разом является этакий громовой крик. Вероятно, этот циркуляр разойдется по всей России мигом, и я уверен, что он всех порадует как признак жизни. Любопытно также будет узнать, что скажет государь об этом. Я боюсь, что станут придираться к словам, которые можно было бы заменить другими, например слова: «бедственное положение России» — и на этом будут основывать обвинение. Завтра узнаю, почему отбирают печатные экземпляры. Неужели испугались собственной храбрости?
4-го декабря. По случаю взятия Карса был сегодня выход. Тут узнал я, что государь получил от кого-то печатный экземпляр приказа великого князя и, вероятно, представивший его представил поступок великого князя в дурную сторону. Государь сделал великому князю сильный выговор за то, главное, что циркуляр получил гласность, ходит по рукам и читан был громогласно в Клубе. В обществе тоже про это очень много толкуют.
На выходе заметили отсутствие Австрийского посольства.
16-го декабря. Трудно себе представить, какая идет безалаберщина и в общественном мнении, и в действиях правительства. Политические дела наши идут как нельзя хуже. Вчера приехал австрийский поверенный в делах Эстергази и, говорят, привез ультиматум Австрии. Эта поганая держава опять начинает подличать, во всех газетах кричат об ужасных приготовлениях союзных держав против Кронштадта, и эти крики наводят страх на наших начальствующих лиц, между тем соглашаться на предложения Австрии, вероятно, будет невозможно, и, во всяком случае, я убежден, что это ни к чему не послужит, ибо война этим не кончится.
Англия решительно не допускает нас до мира, Нессельроде с компанией, со своей стороны, Бог знает, что заискивает. Во внутренней администрации тоже готовится какая-то перемена, но все это, кажется, без определенной мысли или плана. Из Вильны прогнали генерал-губернатора Бибикова и на место его посадили Назимова — попечителя Московского учебного округа. Скрыпицына — директора Департамента духовных дел заместили Хрущовым — гофмейстером двора великой княгини Екатерины Михайловны. Это дело было последствием интриг немцев, нашедших опору в великой княгине Елене Павловне, и католиков, о которых хлопочет Нессельроде. В Рим назначен посланником Киселев, бывший в Париже и на деле показавший всю свою неспособность и подлость.
Отъезд Киселева в Рим остановили затем, что, кажется, собираются сделать какую-то приятную уступку папе, с какою целью — не понимаю.
Немцы и католики равно довольны назначением Хрущова, который человек сам по себе без убеждений, а ежели и есть в нем что-нибудь, то разве-де переварившиеся идеи цивилизации и либерализма, к тому же он будет в постоянной зависимости от мнения гостиных и придворной челяди. Со стороны немцев и католиков я предвижу сильные интриги, которые не добром кончатся. После Протасова наш Синод совершенно замер, и никто в защиту Русской церкви не в состоянии даже заикнуться. С некоторых пор кто-то распустил в городе молву, что меня назначают обер-прокурором Синода, со всех сторон спрашивают меня, правда ли это, и поздравляют. Не знаю, кто это выдумал. О приказе великого князя все еще продолжают говорить. В Москве от него, говорят, в восторге. Государь несколько раз повторял свой выговор великому князю, я боюсь, чтобы все это не смутило бы его. Вчера я передал великому князю маленькую статью, которую написал по поводу возбужденных циркуляром толков. Статью эту я прилагаю при сем. Не знаю, какое впечатление произвела статья моя на великого князя, но он велел снять с нее копию для себя. Поговаривают о смене Закревского и о назначении на его место Барятинского. В Москве разрешили славянофилам издавать журнал. Рядом с этими действиями видим и слышим вещи самые неутешительные. Решительно ничего нельзя понять, что и как и куда мы идем… Общую мысль из частных явлений никак нельзя вывести, поэтому следовало бы только записать отдельные факты, чем-нибудь замечательные. Буду стараться это делать.
20-го декабря. Статья моя о циркуляре понравилась великому князю. Он мне сказал, что много в ней правды. Головний поручил ее передать графу Орлову, с тем что не найдет ли он возможным представить ее государю, но граф Орлов нашел, что теперь уже поздно и лучше не напоминать о том, что уже, вероятно, забыто, тем более что теперь государь, вероятно, очень занят предложением мира, привезенным сюда австрийским поверенным в делах графом Эстергази.
Действительно, сильно начинают поговаривать о мире, с тех пор особенно, как приехали сюда граф Зебах, Нессельроде, поверенный в делах Саксонии, в Париже занимавшийся нашими делами с тех пор, как отозван посланник. Перед отъездом из Парижа Зебах имел долгую конференцию с Наполеоном. Об этом кричали журналы, и приезд его сюда действительно должен иметь какое-нибудь значение. До сих пор не слыхать о том, в чем именно заключается данное им поручение. Говорят, все наши магнаты и сам государь склоняются к миру. Вообще рассуждают об условиях мира следующим образом:
1) Черное море закрыть для судов всех наций. Ну что же — это не беда, у нас теперь флота нет на Черном море, а ежели его сделать, то он все-таки никогда не будет достаточно силен, чтобы противостоять не только соединенным силам Франции и Англии, но и силам одной из этих держав, потому что нам надо иметь флот во всех наших морях, и нет средств держать его везде в таком огромном составе. Следовательно, флот и не нужен, а для охранения берегов достаточно иметь несколько корветов, катеров и проч…
2) От протекторства княжеств мы отказываемся в пользу Австрии, потому что наша претензия не доставила нам никакой пользы, да и не стоит из-за этого вести войну
3) Об устьях Дуная тоже не стоит говорить, можно ли за клочок земли разорять целое государство и проливать столько крови.
4) Относительно христиан цель наша достигнута, потому что примут теперь все христианские державы меры, чтобы оградить турецких христиан от насилия турок, да и к чему нам это покровительство, когда мы не умели им пользоваться, когда его никто не оспаривал.
Наконец, предлагаемый мир, хотя неблагоприятен нам, но что же делать, мы должны терпеть наказание за свои ошибки. Во всяком случае, нам воевать невозможно против всей Европы и лучше мириться теперь, чем позже, ибо нет шансов, чтобы мы могли находиться на будущий год в лучшем положении. Конечно, мир этот будет непродолжителен, но все-таки мы успеем собраться с силами и приготовиться. Вот что вообще говорят в высших обществах о мире, но при этом многие изъявляют опасение, что вместе с миром пойдет у нас прежняя беспутица, начнутся увеселения, коронация, свадьбы, все уроки забудутся, и тогда опять пиши пропало. Я, право, не знаю, чего желать: и война без предводителя, хорошего войска и средств ни к чему хорошему не поведет, и мир при разрушительных началах, гнездящихся внутри государства, и при отсутствии всякой надежды на благоразумие правительства не представляет ничего утешительного. Одно только мне кажется, что, несмотря на все желание, на предложенных условиях мир не заключится, и до этого не допустит Англия, хотя сами и делают предложение, но найдут тысячу средств помешать миру. Не пройдет двух лет, ежели будет мир, что Россия будет в союзе с Францией и Англии будет плохо, она это чувствует. Впрочем, ничего нельзя гадать и предполагать, ибо нельзя определить границ бессмыслия, до которого может довести нас Нессельроде с компанией.
30-го декабря. На место князя Горчакова назначен главнокомандующим Крымской армией Лидере. Горчаков, говорят, и весьма вероятно, займет место Паскевича, окончательно умирающего. На место Лидерса — Сухозанет, а начальником штаба к нему назначен князь Васильчиков. Одним словом, «барыня спросила весь туалет». Князь Васильчиков приобрел себе отличнейшую и весьма заслуженную репутацию в звании начальника штаба Сакена во время осады Севастополя, о нем все единодушно отзываются с восторженными похвалами. В благородстве характера его и храбрости никто не сомневается, но здесь он слыл прежде за человека с довольно ограниченными способностями. Но я теперь имею достоверное доказательство, что князь Васильчиков все свои блестящие нравственные качества соединяет с замечательным умом и способностями на деле. Я имел случай прочесть 2 его пространные записки, представленные государю, о состоянии нашей армии и о необходимости улучшения. Эти записки обличают в авторе необыкновенно светлый и практический взгляд на вещи; видно, что человек этот постоянно в продолжение всей своей службы рассуждал и умел частным, иногда, по-видимому, ничтожным явлениям давать настоящее их значение и исследовать всякое явление до конечных его причин. Все меры, предложенные им, мне кажутся весьма дельными. Дай Бог побольше таких людей. Записка Васильчикова была прочитана государем, но, по-видимому, не произвела на него никакого впечатления, хотя она написана с жаром и с большим в некоторых местах увлечением. Нет никакого сомнения, что Васильчиков имеет много врагов и, во-первых, всех тех, кто считает его посредственным человеком, хотя они гораздо ниже его во всех отношениях. Я возымел непреодолимое желание познакомиться с Васильчиковым и исполнил это на вечере у великой княгини. Он скоро едет к месту своего назначения, а потому мне удастся ближе с ним сойтись.
Начиная с 1-го дня праздника, три дня кряду были во дворце выходы по случаю миропомазания невесты великого князя Николая Николаевича и помолвки его. На выходах этих ничего особенно замечательного не происходило. На одном из них военный министр князь Долгоруков, встретив меня, сказал: «Г ai quelques mots àvous dire»[88] — и потом, отведя в сторону, начал меня упрекать, что в отчете моем за 1854-й год, напечатанном в февральской книжке «Морского сборника», я выставил заготовительные цены Военного министерства в сравнении с ценами Морского министерства с целью показать, что у нас заготовление делается дешевле. «Кто дал Вам право, — говорил он, — печатать о распоряжениях Военного ведомства, между вами и нами никакого сравнения быть не может. У нас все делается в меньших размерах, и для какой цели сообщать публике вещи, которые ей вовсе знать не следует. Я знаю, — продолжал он, — что я с великим князем равняться не могу, он — великий князь, но я все-таки этого допустить не могу. Je sais, que с'est un partie pris chès vous d mcriminer mon ministère, mais cela mest parfaitement indifferent et je suis au-dessus de cela. Je suis le premier reconnaitre, que nous sommes entourés d'abus, mais cela η est pas une raison pour les sígnales au Public. Dans les relation des Ministère à Ministère il у a des convenances à observer et il faut agir loyalement[89]. Я Вам повторяю, что мне все равно, я стою выше этого, но, не менее того, я вас предупреждаю, что я впредь запрещу сообщать Вам цены и проч. и проч…». Все это Долгоруков говорил тоном весьма важным, и в голосе его слышалась какая-то необыкновенная уверенность в своей силе и могуществе. Я решительно не мог припомнить, что именно у меня было сказано в отчете, и отвечал Долгорукову, что мы никогда не имели цели выставлять свои цены в упрек Военному ведомству, но что это делалось для Адмиралтейского совета, который при утверждении торгов судит о выгодности цен по сравнению с ценами Сухопутного ведомства. Что в отчете моем, сколько могу припомнить, не были напечатаны сравнительные цены. На это он мне возразил, что не он один это заметил, что на днях Ростовцев пришел к нему просить разрешить печатать о том, что делает Сухопутное ведомство для своих раненых, указывая на «Морской сборник», где печатается все, касающееся морских раненых, и что в нем печатается и то, что до Морского ведомства и не касается, и при этом он указал мой отчет. Придя домой, я сейчас же взял февральскую книжку сборника и нашел, что в моем отчете только в одном месте сказано, что, хотя цены на мундирные материалы были выше прошлогодних, но они были ниже справочных на 100 тысяч и Военного ведомства на 6 тысяч рублей. Весь же подряд простирался до 280 тысяч. Очевидно, что ссылка на цены Военного ведомства была сделана без малейшей цели укора, ибо о такой ничтожной разнице не стоило и говорить, тогда как по другим предметам, по которым, как например провиант, разница была гораздо существеннее. В отчете ничего не сказано и нигде о ценах Сухопутного ведомства даже и не упомянуто. Из этого я заключаю, что замечания Долгорукова были или личной его придиркой, или действием врагов великого князя, которые ищут все средства, чтобы обвинить его. Сам Долгоруков ненавидит, вероятно, великого князя, иначе и быть не может, а так как известно, что приказ великого князя об отчетах государю не понравился, то теперь все готовы пользоваться всяким случаем, чтобы, буде возможно, сделать пакость. Но, кроме того, видно, что Долгоруков в большой силе и чувствует это, иначе бы он не изменил своего обычного сладкого тона, говоря со мною. Его сильно поддерживает великая княгиня Мария Николаевна, которая враждебно расположена к великому князю. Во всем этом я вижу странные элементы раздора. Чья возьмет — неизвестно. Великий князь, до сведения которого я довел свой разговор с Долгоруковым и которому послал выписку из статьи моего отчета, на которую претендует Долгоруков, отозвался, что очень хорошо сделано, что выставлена разница, и жаль, что по другим статьям не сделано то же. Нашла коса на камень…
Второй том 1856, 1857, 1858 и 1861 годы
1856 год
Благослови, Господи, начало лета.
1-го января. Прошедший год надолго нам будет памятен. Не воротим прошедшего. Дай Бог, чтобы послужило оно по крайней мере уроком для будущего. На политическом горизонте собираются новые тучи, Австрия опять прислала нам мирные предложения на основании прежних 4-х пунктов и с прибавлением требования уступить часть Бессарабии в пользу Молдавии. Говорят, на эти предложения решили не соглашаться, а потому, вероятно, последует разрыв с Австрией, и, следовательно, война примет еще большие размеры. Одному Богу известно, чем это все может кончиться; а между тем мириться на постыдных условиях нельзя. К тому же условия эти таковы, что они не могут обеспечить продолжительный мир. Говорят, Франция действительно хочет мира, но Австрия, интриговавшая во все продолжение войны, не хочет прекратить кровопролития, пока не исправит свою военную репутацию.
Сегодня по случаю обручения великого князя Николая Николаевича было baise main[90] в Зимнем дворце. Никто хорошенько не знает, какой будет послан ответ Австрии на ее предложения, но достоверно, кажется, то, что предложения эти не принимаются, а взамен Бессарабии предлагают Каре. Никаких существенных и замечательных наград сегодня не было.
5-го января. Сегодня на входе во дворце я узнал, что все предложения Австрии нами безусловно приняты и что ответ в этом смысле уже послан по телеграфу в Вену. Конференции будут происходить, вероятно, в Париже, и с открытием их объявлено будет перемирие. Это известие тем более всех поразило, что еще третьего дня достоверно знали, что государь предложения Австрии отверг и что вследствие этого Эстергази потребовал уже свои паспорта. Вчера, говорят, государь призвал на совещание нескольких лиц, а именно: великого князя Константина Николаевича, военного министра, Нессельроде, князя Воронцова, Мейендорфа и, кажется, Блудова, и на этом совете все единогласно согласились принять предложения. Итак, то, что мы неоднократно признавали постыдным — на то согласились. Не претерпев нигде решительного поражения, имея под ружьем около двух миллионов штыков и за собой — время и пространство, мы добровольно кладем оружие. Чтобы решиться на это — должны быть уважительные причины. Могли ли советчики государя надлежащим образом обсудить эти причины? Кому из них в точности известно действительное состояние наших финансов и войск, и материальных средств, и действительное отношение к ним Австрии и Франции? На одни слова Долгорукова или Брока положиться нельзя. Говорят, великий князь сильно настаивал на мире. Эту причину я предчувствовал и объясняю теми несчастными обстоятельствами, его окружившими, о которых я буду говорить при случае. Хотя события последних двух лет могли бы нас приучить к страху, но все-таки не в такой мере, чтобы возможно было равнодушно принять известие о таком унижении. Что может Россия, полная еще воинственного азарта?
10-е января. Вчера вечером приехал из Крыма князь Михаил Дмитриевич Горчаков, я видел его на одну минутку сегодня утром, а вечером он был у нас, и мне удалось побеседовать с ним наедине. Его решительно назначают на место Паскевича в Варшаву и ждут для объяснения сего назначения смерти фельдмаршала. Горчаков, кажется, удивлен очень известием о мире; по его словам, трудно ожидать нам военных наступательных успехов, но для оборонительной войны с твердой решимостью не уступать во что бы то ни стало, и, несмотря на неудачу, для такой войны средства у нас есть. Князь Горчаков очень доволен приемом государя и мыслями его относительно администрации Польши.
Сегодня вечером я был у великой княгини, где были государь, государыня и почти вся царская фамилия. Государь был очень задумчив. Фонтон, один из главных деятелей в Министерстве иностранных дел, много содействовавший принятию условий, просил меня предупредить великого князя, что к нему на этих днях явится Нессельроде, чтобы получить сведения о том, какие нам нужны именно силы на Черном море для охраны берегов, но я просил его не путать меня в это дело.
При этом мы разговорились с ним о подробностях условий мира. Я предложил ему несколько вопросов, которых не мог разрешить, а именно: позволено ли будет туркам или кому-нибудь иметь флот в Босфоре, что об этом в условиях ничего не сказано и что иметь нам флот на Черном море не имеет смысла, ежели вход в Черное море из Босфора военным кораблям других наций не будет доступен. Также я спросил его, верит ли он в существование Турции и что думает он сделать с Константинополем, что будет с Карсом и проч. и проч… На все эти вопросы он отвечал только одно, что неужели я желаю определенности всех условий? Чем, по его мнению, неопределеннее оно, тем для нас лучше. Главное дело — начать конференции, а там все дело сделается, ибо де Франция очень желает нам помогать, а мы со временем все приобретем, что потеряли. На это я заметил ему, что позволительно нам не питать большой надежды на утешения наших дипломатов. По мнению Фонтана, мы решительно не имеем никаких средств вести войну, что все будут против нас и мы совсем пропадем. В заключение Фонтон прибавил, что он сам проплакал целый вечер, когда решено было согласиться на австрийские условия. В петербургских гостиных мнения и споры о войне весьма разноречивы, и они ровно ничего не доказывают, никак не могут уяснить понятия, ибо никто из говорящих ничего не знает определенного о наших средствах. Понятно мнение тех, которые видят в спорах необходимость как бы то ни было кончить войну, чтобы заняться внутренним устройством и тем дать России окрепнуть для новых подвигов. Люди, имеющие это мнение, верят, что правительство воспользуется уроками и временем и примется за дело. К несчастью, во мне этого убеждения нет, и мне положение наше представляется безнадежным.
18-го февраля. Я давно не писал дневник, а потому, что был очень занят составлением годового отчета. После строгого приказа[91], который наделал столько шума, надо было постараться сказать что-нибудь дельное. Я сказал в отчете всю правду, как знал, но эта правда ограничивается такими тесными пределами и часть моя такая специальная, что никакого интереса не представляет. Отчет будет напечатан в сборнике[92], но само собой разумеется, что многое, и даже почти все любопытное, будет пропущено.
Сегодня ровно год кончины покойного государя и рождения моего дневника — в последовательном порядке. Любопытно вспомнить весь прошедший год. Любопытно пройти воспоминанием весь прошедший год. Сколько обманутых надежд и сколько несдержанных обещаний. Определить характер первого года нового царствования весьма трудно. Преобразования коснулись только мундиров, и из этого никак нельзя заключить, чтобы это было бы только началом или введением к каким-нибудь более важным изменениям. Многие утешали себя надеждой, что по окончании года, т. е. законного срока официальной памяти по усопшему, новое царствование начнет действовать смелее и выразит свою, скрываемую до сих пор мысль. До сих пор еще государь носил аксельбант[93], показывая тем, что он еще состоит генерал-адъютантом при покойном отце. Многие думали, что аксельбант этот будет сегодня снят. Но нет. Сегодня был во дворце выход и заупокойная обедня, и нового при этом было только то, что все дамы, по приказанию, явились в черных сарафанах, чего прежде не бывало. Граф Орлов отправился в Париж на переговоры, т. е. на почти безграничные уступки. Невольно вспоминаешь речь, сказанную государем в прошлом году дипломатическому корпусу, гвардии, а также манифест. Видно, тогда это говорилось и писалось без серьезного убеждения. Впрочем, после всякого выхода я делаюсь до крайности миролюбивым, потому что когда вижу все власти наши в сборе, я решительно убеждаюсь, что воевать нам — значит проливать даром невинную кровь. Не могут, решительно не могут настоящие деятели довести дело до настоящего конца. Долго ли может продолжаться мир на шатких условиях — это известно одному Богу, но верно то, что и миром мы не воспользуемся, одного желания блага недостаточно, надо иметь голову, чтобы обсудить полезное, надо иметь разум, чтобы исполнить благое намерение. Я на днях имел предлинный разговор с великой княгиней Еленой Павловной, она видит вещи ясно и так же, как и я, ничего не понимает, что делается. Теперь все мысли и все внимание обращены на имеющую быть, в случае мира, коронацию 15-го июля. Затеваются разные празднества, а между тем в Крыму и во всей южной России страшная смертность от тифа, который принимает характер самый злостный и прилипчивый. По представлению новороссийского генерал-губернатора графа Строганова составлен здесь комитет для принятия мер против распространения сей болезни, а также, в особенности, для определения мер, которые нужно будет принять в случае мира, в Крыму, где весь полуостров почти есть не что иное, как кладбище, и потому там гнездо всяких болезней, а может быть даже чумы. Я назначен от Морского комиссариата членом этого комитета, который собирается в Министерстве внутренних дел, под председательством товарища министра Левшина. Я забыл сказать, что Левшин назначен недавно товарищем министра на место Лекса. Сей последний под конец был совершенным идиотом и в этом положении с успехом подвизался на этом поприще. Левшин во многом выше его и относится к нему, как пятерка к 2-ке, но не больше.
3-го марта. Отсутствие замечательных событий поощряет мою лень писать, поэтому, откладывая со дня на день, совершенно запускаю свой дневник, и, таким образом, он теряет свое значение. Буду стараться писать ежедневно, только таким образом можно сохранить в памяти мелочные факты и разговоры, которые будут иметь со временем значение. Сегодня ничего сказать не могу, ибо никого не видал и ничего не слыхал. Я говею[94] и завтра буду приобщаться в нашей домовой церкви, которая недавно была освящена.
8-го марта. По-видимому, мир уже заключен, по крайней мере о нем говорят уже как о событии, не подлежащем сомнению. Все заняты приготовлением коронации. Вдовствующая императрица собирается за границу и уедет даже, может быть, прежде коронации; хотя здоровье ее действительно плохо, но это нисколько не должно оправдывать неприличие путешествия и траты денег в такое тяжелое для России время. Говорят о назначении Долгорукова — военного министра — посланником в Париж, а Орлова — на место Нессельроде, но все это весьма неправдоподобно. Между тем внутри России ожидают все существенных преобразований еще и со всех сторон посылаются к разным лицам в Петербург записки о разных предметах и о разных вопросах.
Проектам железных дорог нет конца; о финансах, внешней торговле и крепостном состоянии пишут и толкуют везде. Многие напьются во время коронации. В Москве пустили в ход разные предположения, думают заинтересовать жизненными вопросами людей, не имеющих вовсе никакого сочувствия ни к каким вопросам.
Из Москвы и провинции начинают приезжать сюда люди с разными проектами, многие из них являются ко мне, читают иногда весьма дельные вещи и упорно надеются, что правительство, наконец, выслушает их и займется делом. Разными путями всякий ищет возможности провести свою мысль, но все напрасно, никто их не слушает и никто серьезно ничем не интересуется, что, конечно, ставит гг. прожектеров в немалое удивление, ибо они как приезжие не знают настоящего положения вещей. Сегодня был у великого князя, советовал на его вопрос, ехать ли на коронацию (причины и проч.)? У Наполеона родился сын. Все этому необыкновенному человеку до сих пор удается, что будет впереди? На него я много надеюсь, он может нам много пользы сделать, ежели захочет с нами иметь дело. Конечно, ежели князь Долгоруков будет наш представитель, то трудно ему будет с нами знаться, союз Франции с Россией есть смерть для Англии, и, конечно, она употребит все старания, чтобы помешать этому союзу. У нас теперь втихомолку затеваются дела, которые могут иметь самые гибельные последствия. Нессельроде с братией, удалив Скрыпицына из Департамента иностранных исповеданий, затевает в точности и даже с прибавкой исполнять безрассудный конкордат, который Блудов состряпал еще в прошедшее царствование с Папою Римским. Киселев, бывший нашим поверенным в делах в Париже и явно обнаруживший свою ежели не измену, то неспособность, назначен посланником в Рим. Он будет представителем православия перед Папой: человек, который ежели не безбожник, то, конечно, католик. Что можно от него ожидать? Теперь, перед отправлением Киселева в Рим, собирается у Нессельроде Комитет, толкуют о католических делах. Уже объявлено, что в разных местах России учреждаются 7 католических епископств и, между прочим, в Оренбурге будет католическая семинария. А между тем со смертью Протасова[95] Православная церковь лишилась последнего защитника. При таком положении нашей церкви, при совершенном ее рабстве перед светской властью, хотят оказывать сильное покровительство Римской церкви, которая, в особенности в последнее время, поставила себя к православию в совершенно враждебное отношение и вражду эту возвела в догмат. Еще бы можно было понять это несчастное ослепление, ежели бы правительство вместе с тем, проповедуя свободу церквей, освободило бы и свою господствующую церковь от того ига, под которым она замирает, но нет, этого намерения не видать. Что же из этого будет — одному Богу известно.
16-го марта. Срок, назначенный для примирения, скоро окончится, а об окончательном заключении мира еще ничего официально не объявлено. Впрочем, говорят, что условия мира уже подписаны и он не подлежит сомнению. Вероятно, на сих днях узнаю что-нибудь поинтереснее. Государь с великими князьями уехал в Финляндию и будет завтра назад. Все заняты теперь приготовлением к коронации, т. е. к праздникам, а между тем в Крыму и вообще южной России страшно свирепствует тиф, и войско, говорят, нуждается в довольствии. Никаких мер к водворению порядка не принимают, а в обществе слышно постоянно одно только обвинение исполнителей в краже. Я вовсе не отрицаю несчастного факта бесчисленных злоупотреблений по всем частям нашего управления, но при этом я убежден, что, кроме кражи, есть и другие, более существенные причины всех неустройств, от которых страдает войско в Крыму и вообще вся Россия. На эти причины, которые происходят от сущности и общего направления нашей администрации, никто не хочет обращать внимание. Обществу, конечно, не могут быть известны в точности настоящие вредные последствия всей системы управления. Оно даже и не знает, в чем состоит эта система, а потому естественно, что оно, сознавая только, что многие из служащих крадут, всю вину относят к краже и беспощадно винят мелких исполнителей, оставляя в стороне главных виновников зла и, до некоторой степени, оправдывая их тем, что никакие усилия правительства невозможны, когда безнравственность служащих дошла до того, что все и везде грабят и думают только о своей пользе. Естественно, последствием такого мнения является то, что русский народ испорчен и никуда не годится, что грубость и невежество не дозволяют правительству сделать то, что оно желает, и что все спасение состоит в какой-то абстрактной идее цивилизации и в употреблении немцев и проч. и проч… Никто не хочет понять, что в Крыму, например, войско сидит без хлеба не от того, что деньги, отпускаемые на хлеб, украдены, а оттого, что никто не распорядился толком, чтобы его туда доставить. Ежели бы из отпущенных, положим, 100 тысяч рублей было украдено 50 тысяч, то все-таки на остальные 50 тысяч было бы сделано что-нибудь, а мы видим, что и эти 50 тысяч пропали даром и не остались в руках исполнителей. Все высшие и низшие деятели нашей администрации не привыкли действовать самостоятельно и разумно для всякого частного случая, всякий ждет приказаний и исполняет свои обязанности в точности и в пределах своих прав, весьма ограниченных. Система нашей администрации до сих пор от исполнителей требовала только равнодушного исполнения данного какого-нибудь приказания — всякое проявление собственной инициативы подчиненных почиталось вольнодумным, всякий исполнитель и вообще деятель на всех ступенях администрации заботился не о достижении цели своего поручения или своей обязанности, а только об ограждении себя от ответственности. Можно ли при таких условиях ожидать какой-либо пользы от людей, даже не берущих взяток? Собери со всей Европы всех честнейших и способнейших чиновников и подчини их этим условиям, — и дело пойдет так же скверно, как оно идет у нас.
На сих днях был по моему департаменту случай, чрезвычайно верно выражавший эту истину. Он порадовал меня, доказав мне, что усилия мои дать жизнь администрации в моем тесном кругу отчасти достигают цели. Вот в чем дело: в нынешнем году некоторые команды были расположены на зиму в Новоладожском уезде, где моряки никогда прежде не зимовали, поэтому не было там устроено ни магазинов, ни складов провианта, ни лазаретов, ни других хозяйственных заведений; все это надо было устроить на скорую руку, и все это было сделано вовремя и хорошо. Между прочим, для отпуска продовольствия в команды и для снабжения и постоянного довольствия лазаретов послан мною на место чиновника особых поручений некто г. Баш[96]… господин этот, хотя не старый, но старого покроя чиновник, от которого ни живого слова, ни собственной мысли я никогда не слышал и слышать не мог. Он привык только исполнять то, что ему приказывали, и затем, ежели бы он сам загорелся, то, кажется, без приказания тушить себя не стал бы. В прошедшем году я пробовал употреблять его, но он, не понимая моих требований, ничего толком не сделал. К величайшему моему удивлению, получаю я от него на днях рапорт, в котором он мне пишет, что он озабочен тем, что с приближением весны увеличивается число больных и что может случиться недостаток помещения в лазаретах, устроенных в Ладоге. С первого раза меня изумило уже то, что г. Баш сам, без приказания озабочивается, этого с ним, конечно, не бывало прежде сего, но дальше он пишет, что он не только озабочен, но что он уже написал в квартирную комиссию об отводе ему другого дома, следовательно, вот уже он начал переписку, не дождавшись приказаний. Прогресс. Квартирная комиссия отвечает ему, что свободного дома под лазарет в Ладоге нет, но что, во избежание ответственности, она указывала ему на дом, отведенный для лазарета Донской батареи, которая находится в походе, а потому дом стоит совершенно пустой. Г. Б… опять без приказаний, сам решает писать к начальнику инвалидной команды[97] и просит его уступить незанятый дом. Начальник инвалидной команды отвечает, что не имеет на это никакой власти и приказания и, воизбежание ответственности, поручает Б… обратиться к какому-то другому начальнику. Г. Б… продолжает писать к этому начальнику, а тот отвечает, что он дом, отведенный для Донской батареи, хотя вовсе для сей батареи ненужный, без особого разрешения высшего начальства уступить не может и на ответственность свою такого действия принять не согласен. Г. Б… и тут не унывает, он решается, не ожидая приказания, нанять дом, присматривает его, уславливается в цене и доводит обо всем до моего сведения. Такой храбрости я решительно не ожидал, и, разумеется, утвердил все эти распоряжения и похвалил ревность. Этот случай, по моему мнению, совершенно объясняет настоящую причину всех наших бедствий. По обыкновенному порядку и в прежнее время а. Б… решительно бы не озаботился заранее об увеличении лазарета, а ежели бы и озаботился, то вошел бы об этом с представлением, и засим завязалась бы переписка, которая решительно остановилась бы при желательном отзыве всякого начальства. А между тем больные лежали бы на улице, и в Петербурге, ежели бы об этом узнали, то стали бы кричать, что все оттого, что чиновники крадут, где уж тут кража… тут только точное исполнение обязанностей. Кто виноват? Военный начальник знает, что он инструмент, который не должен рассуждать, он знает, что он власти никакой не имеет и что начальство за разумное его действие с него взыщет, а взыщет оно потому, что само находится в таком же отношении к своему начальству, и т. д… Всякое начальство имеет какое-нибудь поставленное над ним главное начальство, которого общее направление и есть причина всех зол. С лишком 30 лет оно последовательно губило дух, мысль, сознание, чувство — и вот его плоды. А общество все бранит взяточников, право, досадно слушать… На досуге напишу, для уяснения понятий, статью на следующую тему: Россия гибнет не от злоупотреблений служащих, а от точного исполнения ими служебных обязанностей.
20-го марта. Мир заключен и объявлен вчера на манифесте. Манифест писал граф Блудов. Он не отличается особой энергией, не объясняя ничего в настоящем и не обещая ничего в будущем. Об условиях мира ничего определенного неизвестно. Об уступках наших в манифесте, между прочим, сказано так:
«Чтобы ускорить заключение мировых условий и отвратить даже в будущем самую мысль о каких-либо с нашей стороны видах честолюбия и завоеваний, мы дали согласие на установление некоторых слабых предосторожностей против столкновения наших вооруженных судов с турецкими на Черном море и на проведение новой граничной черты в южной, ближайшей к Дунаю, части Бессарабии».
Кроме того, в манифесте сказано, что целью войны было желание государя (покойного) оградить права православных христиан на Востоке, и эта цель достигнута тем, что султан торжественно признал сии права и уравнял их. «Россияне, — говорит манифест, — труды ваши и жертвы были не напрасны. Великие дела совершились, хотя иными, непредвиденными путями». Писавший манифест, вероятно, также уверен, как и я, что права православных христиан теперь менее обеспечены, чем прежде, ибо не только насильно выманенная уступка Порты[98] никогда не будет приведена в действительное исполнение, но, кроме того, к игу магометанскому прибавляется еще постоянный и сильнейший гнет католический и протестантский. Поэтому весь манифест — ложь. Конечно, правду сказать тяжело, но торжественное выражение ее в приличных формах выражало бы силу, и ежели бы при этом прибавлено было обещание, что данным уроком не преминут воспользоваться, то, конечно, это бы ободрило многих и помирило бы с постыдным миром, к которому мы не привыкли. Впрочем, если нет решительного намерения приступить к улучшениям, то, конечно, лучше наперед ничего не обещать и не вводить в заблуждение верноподданных. Во всяком случае, можно покориться необходимости мира, а радоваться ему с весельем не из чего. Мне все-таки сдается, что миром пользоваться мы будем недолго, даже и настоящему объявлению как-то не верится. Война подняла бездну вопросов и ни один из них не разрешила удовлетворительно. Сами условия мира таковы, что при исполнении их на каждом шагу может встретиться повод к войне. Конечно, надо надеяться, что ежели возгорится снова война, то на стороне нашей будут более выгодные условия, чем прежде. Между тем все военные приготовления останавливаются. По нашему ведомству составлены уже новые соображения, и, согласно им, нужно многое переменить и отменить, вследствие чего мне работы еще прибавилось и вряд ли мне удастся летом отлучиться из Петербурга. За границу готовится совершенная эмиграция, кого ни встретишь, кого ни спросишь — все едут куда-нибудь вон из России. В этом отношении пример подает двор. Вдовствующая императрица, Мария Николаевна и Елена Павловна отправляются; все надеются, что паспорта[99] будут выдаваться беспрепятственно. Вероятно, многие уедут надолго, а может быть, и навсегда. Я этому рад — порядочные люди останутся, а дряни не жаль. Сегодня утром я узнал, что в Константинополь предполагается послать посланником графа Панина, то-то обрадуется все Министерство юстиции, это действительно будет великая польза для этого ведомства, но каков Панин будет посланником — это никак нельзя сказать. Верно только то, что он будет вести дела как никто и собьет с толку и своих, и чужих, никто ничего не поймет. Быть может, это будет хорошо. Так как меня гораздо больше занимает наша внутренняя администрация, чем внутренняя политика, то я весьма буду рад, ежели наша несчастная юстиция таким способом освободится от Панина: всякий, назначенный на его место, будет менее вреден.
Войны как будто не бывало. Подробные условия трактата еще не объявлены, хотя они уже подписаны государем, но кажется, что все так довольны миром, что об условиях уже не думают. Все толкуют только о разных переменах в личном составе управления. Нессельроде и Сенявин положительно оставляют министерство, князь Долгоруков также. О кандидатах на замещение сих мест толкуют разное, но, вероятно, это скоро будет решено. Сегодня мне сказал великий князь, что говорят о назначении Чевкина министром финансов, но этому мне как-то не верится.
Государь ездил на днях в Москву, где, говорят, был принят отлично. Филарет, как водится, сказал речь, в которой, по своему обыкновению, сказал каламбур: «Враги нас не победили, но Ты победил вражду…».
Кстати, о Филарете узнал я весьма утешительную новость. Он на днях прислал обер-прокурору Синода, говорят, весьма сильный протест против конкордата и против замыслов о приведении его в исполнение; государь прочел протест, смутился и не приказал передавать его князю, а хотел сам в Москве переговорить с Филаретом. Чем кончится этот разговор — мне неизвестно, но во всяком случае я уверен, что Нессельроде с братией не очень будет доволен этим. Замыслы католической и просто бессмысленной западной партии могут быть изобличены. Удивительно, как легко проводятся у нас вредные меры и как, наоборот, трудно провести что-нибудь полезное. В первом случае все невидимые силы помогают, и обстоятельства так складываются, что все идет как по маслу, а попробуй затеять что-нибудь полезное… тысячи препятствий, так что не знаешь, кого винить. История этого конкордата весьма замечательна; не нужно быть глубоким администратором или хитрым политиком, чтобы понять, что при настоящем положении нашей церкви может быть допущена разве только терпимость католического вероисповедания, но отнюдь не усиленное ему покровительство. Латинская церковь явно поставила себя во враждебное отношение к православию, и везде, где она находится в соприкосновении с ним, везде она действует всеми силами и тайно, и явно, ко вреду православия. Стоит только посмотреть, что делается теперь в Австрии. Наконец, достаточно одного поверхностного чтения конкордата и папской буллы[100], изданной в 1848-м году по поводу сего конкордата, чтобы убедиться, что не может латинство без вреда у нас пользоваться такой свободой, которую ему хотят дать.
Замечательно, что конкордат этот подписан с нашей стороны Блудовым, который был послан покойным государем в Рим для переговоров, и теперь он же, Блудов, старается защитить свое произведение. Добро бы все это делал какой-нибудь немец или русский западник, а то нет — Блудов, который выдает себя и слывет по преимуществу русским. Этот господин, по моему мнению, вообще бессознательно наделал много вреда России, потому что он, в сущности, пустейший господин, бестолковый говорун, без убеждений, который написал за свою жизнь бездну законов, которых цель и сам не понимает, а о практическом применении их никогда и не думал, потому что, положительно, делом никогда не занимался. Теперь же, ко всему этому, он из ума выжил. Несмотря на это, занимает несколько должностей, а именно: председательствует в Государственном совете, за отсутствием Чернышева, продолжает писать законы во 2-м отделении и, наконец, недавно сделался президентом Академии, и еще готов принять сколько угодно мест. Чернышев, наконец, подал, говорят, в отставку, вероятно, по приглашению, ибо добровольно эти господа не отказываются от мест, хотя уже и сидеть не могут. На место Чернышева назначают графа Орлова, от этого, вероятно, ход дела не изменится, разве он решится окружить себя другими деятелями, не похожими на Буткова и компанию. Фигура Орлова, как видно, производит большой эффект в Париже, ему приписывают много острых и колких ответов, которых он, вероятно, сам не говорит, но это все равно. По-видимому, французы очень рады миру и дружбе с Россией. Дай Бог, чтобы правительства поняли свои взаимные интересы и поверили бы той истине, что недаром французы и русские всегда и везде друг другу сочувствуют и что им высшим суждено Провидением совершать великие дела. Лидере доносит из Крыма, что, по получении известий о мире, французское войско, так сказать, бросилось в объятия наших солдат и предаются взаимному веселью, — инстинктивно понимают народы, кто их общий враг. Неужели суждено политике всегда идти против естественных влечений? Немцы и англичане равно противны нам и французам. Я надеюсь, Наполеон это дело поймет скорее нас и заставит нас быть умнее. Эта надежда примиряет меня с постыдным миром, и ежели бы не ежедневное разочарование, то я бы, кажется, готов был восстать духом и поверить, что наступают лучшие времена, но как посмотришь вокруг, как вспомнишь, что делается и чем занимаются, так невольно опять одолевает смущение. Быть может, я слишком близко вижу вещи, и от этого в глазах рябит, но зато другие стоят слишком далеко и видят так же неясно. Счастлив тот, кто стоит в середине, но для этого надо удалиться из Петербурга, по крайней мере на несколько времени.
13 апреля. К завтрему или, лучше сказать, к послезавтрему, т. е. к Пасхе, обещают нам много новостей. Многие из этих новостей уже известны, а именно: назначение князя Горчакова вместо Нессельроде, Ивана Толстого на место Сенявина, князя Долгорукова в Париж, но самое любопытное, а именно, кто будет военным министром, этого еще не знают, быть может, даже об этом не будет объявлено и завтра. В ожидании всех сих новостей припомним прошедшее.
Очень много и почти повсеместно говорят о речи[101], которую будто бы сказал государь в Москве представлявшимся ему уездным предводителям дворянства. В этой речи или в этих словах он коснулся крепостного состояния и выразил мысль, что хоть он и не желает в настоящее время подымать этот вопрос, но тем не менее приглашает дворян обдумывать его, потому что лучше, чтобы разрешение последовало бы сверху, а не снизу. Вот, в сущности, вероятно, что было сказано и что можно вывести из бесчисленного множества разного рода редакций. Слова государя — одни выражают их в весьма либеральном смысле, другие, напротив, дают им совершенно противоположное значение. Настоящей редакции я добиться не мог, но, по-видимому, слова были выражены весьма неясно, ибо все поняли различно. Неясность выражения доказывает неясность того, что желают, это очевидно. Эта неопределенность делает более вреда, чем самая энергическая или вредная мера. Как будто для того, чтобы сбить окончательно всех с толку, напечатан сегодня в полицейской газете циркуляр Министерства внутренних дел к губернаторам и губернским предводителям дворянства.
В нем не видать никакой ясной мысли, весь смысл, вероятно, скрывается в междустрочии. Приводя слова манифеста о том, что государь желает устроить внутренний порядок в России, министр призывает к содействию губернаторов и предводителей и внушает им, чтобы они исполняли свои обязанности, и говорит кучу фраз и общих мыслей, ничего не значащих, но при этом неоднократно повторяет, что надо поддерживать вполне помещиков и удерживать крестьян в повиновении. Практического значения этот циркуляр не имеет никакого, но ясно, что он написан недаром и что им хотели что-то сказать, но что именно, того без комментарий понять нельзя. Все это служит ясным доказательством отсутствия положительного убеждения и силы. Ежели хотят, чтобы вопрос был разрешен сверху, так надо действовать иначе, но до сих пор все делается так, чтобы вышло наоборот. Не только внутри России, но и мы здесь, в Петербурге, близко знающие все, не можем дать себе положительного отчета о том, чего именно желает правительство, хочет ли оно заняться вопросом освобождения крестьян или нет.
Теперь начинают распускать ополчение, велено опрашивать ратников, не желают ли они оставаться на службе, и желающих приказано оставлять с выдачей помещикам и обществам отчетных квитанций. Любопытно будет узнать, много ли явится охотников оставаться на службе. Трудно предположить также, чтобы ратники, поступившие на службу от дурного помещика, вернулись бы к нему, хотя и по собственному желанию, со спокойным и покорным духом.
Вчера я получил из Москвы от Аксакова письмо, в котором он мне пишет, что Хомякова призывали в полицию и по высочайшему повелению взяли с него подписку и объявили приказ сбрить бороду и не носить русского платья. Эта мера касается вообще всех дворян. Я показал это письмо старику князю Хилкову, и он так этим смутился, что сегодня сбрил свою прекрасную седую бороду, предохранявшую его от кашля. Сегодня получил от него записочку следующего содержания:
«Письмо К. Аксакова меня расстроило и огорчило, я не чувствую в себе ни малейшего возврата на свою бороду, которой уже нет. Но без нужды оскорблять Хомякова очень больно, особенно всем тем, которые преданы царю, любят Россию и желают правительству успеха во всяком улучшении. Наша полиция не парижская префектура. У нас сказать о человеке, что он был в полиции — это оскорбление. Без всякого преувеличения Хомяковым не должна ли Россия гордиться, не делает ли он русскому имени честь? Не во главе ли он у нас образованности, религиозности, гражданственности, семейственности? Оскорбить его — оскорбить Россию. Боже, царя храни».
Эти трогательные слова отчасти справедливы, хотя я уверен, что Хомяков не считает себя обиженным. Обижены мы все неоправданием наших надежд, подобные выходки не согласны вовсе с той терпимостью, которая как будто стала проявляться в последнее время, слишком они напоминают прошедшее. Не говоря уже о том, что нет никакого смысла в России запрещать носить русское платье, эта мера не может оправдываться даже и тем предположением, что будто бы ношение русского платья есть внешний признак известного образа мыслей, ибо правительство не может не знать, что число людей, носящих бороду и русское платье так незначительно, что они никакого ровно влияния ни на кого не имеют, и что всякое гонение на них имеет вид совершенной несправедливости и придает им значение, которого бы они сами по себе иметь не могли. Странное дело, право, что по какой-то необъяснимой слепоте правительство нападает именно на тот образ мыслей, который один защищает все начала, которыми правительство наше крепко и сильно. «Убояся страха идеже не бе страх». Я, впрочем, не придаю никакого значения этому преследованию русского платья и бород — сегодня это так, а завтра будет иначе. Говорят, в Москве во время коронации будет устроена соколиная охота и все участвующие в ней будут одеты в русском боярском платье. Ежели этот праздник удастся, то пойдут в моду и русские кафтаны и бороды. Всеобщие ожидания разных перемен к празднику оправдались только отчасти. В первый день, у заутрени, объявлено было только назначение князя Горчакова на место Нессельроде и Толстого на место Сенявина. У вечерни стали говорить об окончательном увольнении князя Долгорукова, а на другой день известие это объявлено было в приказах, а на место военного министра назначен командир 3-го корпуса Сухозанет. Хотя уже несколько дней перед сим поговаривали, что Сухозанет вызван в Петербург и что он должен войти в какую-то комбинацию при преобразовании личного состава Военного министерства, но такого внезапного назначения прямо на место министра никто, кажется, не ожидал, и ему вообще удивляются. По моему мнению, выбор Сухозанета очень хорош, по всей вероятности, князь Михаил Дмитриевич Горчаков указал на Сухозанета. Он человек честный, умный, прямой и, несмотря на старость и плохое здоровье, энергический. Но главное его достоинство заключается в том, что он человек посторонний, не причастный ни к каким здешним интригам и не погрязший в министерском формализме. Взятый из среды действующих войск, ему должны быть коротко известны все недостатки и злоупотребления, он видел их вблизи и, вероятно, будет теперь смотреть на дело ясно и пойдет в своих действиях прямо к цели. Нельзя же ему на старости лет начать учиться науке, известной под названием фифиологии, а потому, конечно, профессора этой науки — гг. Катенины и прочие — ему будут не по нутру, и он с ними не сойдется. Мне положительно известно, что, кроме военного министра, предположено было учредить новое звание или должность вроде начальника Главного штаба и эту должность предлагали князю Виктору Васильчикову, который от оной отказался, ибо не считал возможным быть полезным на этом месте по причинам, мне неизвестным, а, как кажется, оттого, что вся комбинация сего нового учреждения казалась ему весьма неудобной. Во всяком случае отказ от места, которое бы давало ему возможность ежедневно видеть государя и почти постоянно при нем находиться, делает великую честь бескорыстию Васильчикова. Я много ожидаю от этого молодого, но уже всеми уважаемого генерала. Дай Бог, чтобы ожидания мои сбылись.
Я получил к Пасхе первый орден и сделался в первый раз кавалером, миновав все низшие степени разных орденов, я получил прямо Владимира 3-й степени на шею при весьма любезной записочке великого князя. Признаюсь, я был обрадован этой награде, хотя и ожидал ее, ибо сотоварищи мои по службе получили уже этот орден. Мы так избалованы наградами, которые выдаются в сроки, что награда радует вас как долг, возвращенный в срок. Гаккель справедливо заметил, что странный обычай завелся в России — всякий требует награды и недоволен, когда не дают ему оной в срок. «Помилуйте, — говорит, — я целый век честно жил, почти совсем не делал подлостей, как же мне не дают ни чина, ни ордена». Это заключение совершенно справедливо, совершенного бескорыстия у нас на службе нет, может быть, впрочем, это происходит оттого, что награды даются не за отличие какое-нибудь, а просто за исполнение обязанностей, без особых признаков, а потому отсутствие награды считается признаком неудовольствия. Откровенно скажу тоже, что ежели бы сослуживцы мои не имели уже этого ордена, то мне было бы положительно совестно его получить, не сделав на служебном поприще ничего особенно замечательного.
Во вторник 17-го числа — день рождения государя — был выход, а вечером во дворце был большой бал на 2000 человек. Праздник был великолепен, и ужин — весьма роскошен; по-видимому, праздники будут часто повторяться. В городе была приготовлена великолепная иллюминация, которая по случаю дурной погоды и бала во дворце была отложена до следующего дня, а так как на другой день погода сделалась еще хуже, то иллюминацию отложили до четверга. В этот день, несмотря на дождик и холод, улицы осветились и толпы народа гуляли по улицам. Государь проезжал по главным улицам, и народ кричал «ура», окружая коляску, в которой он ехал с наследником. Энтузиазм был неподдельный. Сегодня мне случилось слышать престранный отзыв об этой иллюминации от одного господина, который сам живет в захолустье и слышит, и повторяет мнение тех людей, которые принадлежат к низшим слоям нашего образованного общества. Этот господин уверял меня, что приказание зажигать иллюминацию в дождик дано было спьяну и что очевидец рассказывал будто бы ему, что он сам видел, что государь был в нетрезвом виде и испугался, когда народ обступил коляску. Этот нелепый рассказ поразил и удивил меня, тем более что я еще прежде слыхал подобные отзывы, но не придавал им значения. По-видимому, эти нелепости распространяются в известном кругу, и им верят. Это очень дурно и, по-моему, весьма скверный признак. По всей вероятности, придворное лакейство первое распространяет подобный вздор.
Покойный государь, особенно в последнее время, мало ел и пил, а нынешний, говорят, большой гастроном, вот отчего возникли, вероятно, слухи, которым готов верить средний класс общества, ибо мнение свое всегда основывает на сплетнях и разных глупых анекдотах.
Вчера, наконец, напечатан мирный договор, подписанный в Париже. Вслед за трактатом напечатаны рескрипты[102] Нессельроде и Долгорукову. Это случайное соединение в одном номере трактата и рескриптов, без сомнения, будет объясняться не в том смысле, что правительство как будто приносит этих двух лиц в жертву за бесславный мир, им принятый. Рескрипт Нессельроде, по-видимому, был сперва написан по-французски, а потом уже переведен на русский язык, ибо по-русски он довольно безграмотен и бессмыслен и даже может быть принят в укорительном смысле. Все статьи трактата более или менее были уже известны, а потому настоящая публикация не произвела, по крайней мере здесь, большого эффекта. Впрочем, кажется, все уже помирились с миром и весьма довольны настоящим, не помышляя о будущем. Впрочем, все последние перемены в личном составе правительственных лиц вообще одобряются и в них видят залог исправления. Мне только удивительно то, каким образом серьезные люди могут верить, что мир заключен, когда ни один вопрос, поднятый войной, не только не разрешен, но, напротив, еще более натянут. Каждая статья трактата может при первом случае подать повод к войне, и она скоро вспыхнет, я в этом убежден. Поэтому следовало бы продолжать готовиться к войне: может быть, война будет при более для нас благоприятных обстоятельствах, но она все-таки будет, а потому деньги, оружие и порох нужны и дремать не следует. Но нет, деньги пойдут на заграничное путешествие и на коронацию. Оружие и порох соберутся приготовлять, когда будет поздно. Qui vivera — verrà![103]
29-го апреля. Изменения в формах обмундирования еще не прекратились — сегодня перемена формы для флота. На этот раз я был одним из главных участников этого преобразования. Еще в прошлом году я несколько раз доказывал великому князю, что не будет во флоте порядка, пока не отнимут у командиров обязанности быть закройщиками и заниматься хозяйственной частью, в которой они находят всегда средство наживать деньги посредством разных экономии, производимых, разумеется, на счет нижних чинов, через это происходит много всякого вреда. Я предлагал отпускать на команды шитые вещи на три роста и тем лишить командиров возможности воровать на материалах. Но для того, чтобы команды могли довольствоваться готовым платьем, надо было решиться не требовать от них пригонки и выправки, а дозволять носить платье широкое и свободное. В прошедшем году князь слышать не хотел о такой перемене, но в нынешнем году я коснулся опять этого вопроса в отчете, а потом подал об этом особую краткую записку. Это подействовало, и великий князь решился предложить государю вовсе уничтожить во флоте мундиры как платье для матроса совершенно излишнее, в котором он не может ни работать, ни отправлять службу. Вместо мундира предполагал давать широкое пальто и фланелевые и полотняные рубахи. А образцы были приготовлены, и сегодня водили людей на показ государю. Я, по приказанию великого князя, присутствовал при смотре в Зимнем дворце. Государь эту форму утвердил, и, таким образом, теперь сделается возможно существенное изменение к лучшему всей хозяйственной части во флоте. В то время, когда мы ожидали в приемной выхода государя, князь Долгоруков, бывший военный министр, делал свой последний доклад в присутствии своего преемника. Они вышли оба из кабинета государя, и я заметил на лице Долгорукова сильное смущение, вероятно, прощание было весьма трогательно. В государе я заметил некоторую перемену Он опять похудел и имел болезненный вид. Сегодня происходил обычный майский парад. В прежние времена вид огромной массы войска в полном блеске поражал воображение и казался воплощенным выражением и залогом силы и непобедимости России. Теперь призрак этого исчез, и эта толпа вооруженных людей наводит тоску на душу при воспоминании о постигших нас бедствиях. Само это Марсово поле, на котором утратило наше войско все военные свои доблести, хотелось бы поскорее застроить, чтобы не было на нем больше парадов.
Англия, Франция, Австрия и Турция после ратификации мира составили опять союз против нас, к величайшему нашему удивлению. Политика наша не только этого не предвидела, но и не знала до последней минуты. Вот тебе и союз с Францией… Вот тебе и новая система политики… Опять одурачены мы как нельзя хуже. Стыдно читать напечатанные во французских газетах протоколы заседаний конференций в Париже. Несмотря на всю краткость изложения, ясно видно, что наши представители не смогли слова пикнуть в защиту наших интересов и только кланялись и благодарили. Эх, ежели бы был у нас теперь человек… Какая чудная была бы теперь минута развязаться с Европой, которая нас знать не хочет и, действуя в этом случае по воле Божьей, ясно учит нас, как нам следует быть, т. е. сидеть дома да заниматься своим делом. Неужели не поймут, что лучше не играть нам никакой роли в Европе, т. е. не иметь в ней даже официальных представителей, чем играть роль второстепенную. Хоть бы на 10 лет отказаться нам от всякого европейского, с кем бы то ни было, союза, а приготовиться собраться с силами и тогда выбирать, с кем знаться, кого любить и кого бить. Нет, не похоже на то, чтобы мы и теперь за ум взялись. Посылают Долгорукова в Париж, от этого ему не поумнеть, что он с берегов Невы переедет на берега Сены. Наполеон после часового разговора увидит, с кем имеет дело, и, конечно, немало подивится выбору. В Константинополь тоже назначен Бутенев, об этом и дамы в салонах смеются. Едет он в Константинополь, по собственному признанию, затем, чтобы получать 25 тысяч жалования, а он человек семейный и потому простительно, что хлопотал получить это место. Князь Горчаков предлагал его Устинову, который хотя человек больной, но умный и доказавший свое знание Востока, но Нессельроде употребил все силы, чтобы назначение это не состоялось. Причина неудовольствия Нессельроде на Устинова очень замечательна: Устинов в 1847-м году был посланником в Константинополе и тогда уже предупреждал наше правительство о том, что готовится против нас коалиция на Востоке, и настоятельно советовал готовиться к войне. Но ему в ответ Нессельроде послал первое наставление, чтобы он не верил призракам и не подозревал англичан, лучших друзей России, а потом, когда Устинов настаивал на своем мнении, то был формально отозван. Я сам видел подлинную переписку Нессельроде с Устиновым по этому предмету. Одного письма достаточно, чтобы по всем правилам юридической науки повесить Нессельроде за измену, вольную или невольную, для нас это все равно. Ежели он России не предан, так он ее даром отдаст.
5-го мая. Скоро ли возьмусь я за перо, чтобы записать в эту книгу что-нибудь утешительное или отрадное? Видит Бог, как желалось бы занести на память в эту тетрадь какое-нибудь событие или распоряжение, достойное внимания и хотя немного ободряющее. Сухозанет — новый военный министр, на которого я возлагал некоторую надежду, приступил к делу весьма странным, чтобы не сказать глупым, образом. Во-первых, напечатал приказ следующего содержания:
«По Высочайшему приказу, в высокоторжественный день — 17-го апреля объявленному, вступая в отправление обязанностей, всемилостивейше на меня возложенных, призвав в помощь Бога, потщусь употребить все свои силы для исполнения долга службы по присяге. Я надеюсь найти во всех и в каждом содействие и рвение к пользам Его Императорского Величества. Ура… Боже, царя храни… Предписываю приказ сей прочесть во всех ротах, эскадронах и батареях, а также во всех управлениях, к Военному министерству принадлежащих».
Приказ этот произвел всеобщий смех. Восклицания в конце его действительно неприличны. Но это еще ничего — Сухозанет не обязан быть хорошим редактором, хотя мог бы посоветоваться с людьми грамотными и хотя бы и сам мог почувствовать, что ура и Боже, царя храни в приказе, ничего не выражающем, неприлично. Но все это можно ему простить, даже можно было бы объяснить в хорошую сторону, видя в этом неприличии и оригинальных выражениях залог будущих оригинальных действий. Но, к несчастью, вслед за этим приказом он выбрал, а государь утвердил в директора Канцелярии военного министра г. Брискорна, человека, имеющего самую скверную репутацию. Я его лично не знаю и никогда не видел, но этот господин принадлежит к числу немногих лиц, которых общественное мнение заклеймило, а покойный государь уничтожил. Брискорн служил прежде в Военном министерстве, оттуда его выжили, и он попал в товарищи государственного контролера и сенаторы. По участии в деле Политковского, разграбившего кассу Инвалидного комитета, его уволили со всех должностей, и с тех пор он был без места, проиграв все, что нажил, в карты. Он теперь от бедности и занимается писанием разных бумаг и сочинением прошений, за что получает плату. И прежде репутация Брискорна была сомнительна, а после дела Политковского, в бумагах которого нашли проект отчета в Контроль, писанный рукой Брискорна, которым Политковский за несколько лет до окончательного обнаружения его мошенничества оправдался перед Контролем относительно возбужденных Контролем сомнений, после этой истории, справедливо или нет, Брискорн в общественном мнении признается отъявленным мошенником. Понятно после этого, как все удивлены назначением его на должность директора Канцелярии военного министра. Говорят, Брискорн весьма умный и дельный человек — этих качеств в настоящее время недостаточно. Теперь все сознали, что мы погибли от злоупотреблений и воровства и что Военное министерство больше всех страдает от этого. Все ждут от нового министра решительных мер к водворению порядка — и что же видят?… Первый человек, призванный им на важное место, — заклейменный мошенник. Вот какое знамя поднял Сухозанет, сам того, вероятно, не подозревая, ибо он сам честный человек. Воображаю, как обрадуются и встрепенутся все мошенники Военного ведомства. Положим даже, что все, что говорят о Брискорне, неправда, но все-таки общее мнение о нем самое скверное — это факт. Как же начать с того, чтобы так прямо идти против общественного мнения, которое одно в состоянии обуздать воровство и злоупотребления. Говорят, что Сухозанет решился на этот выбор под влиянием своего брата Ивана Онуфриевича, известного картежника и тоже известного негодяя, хотя и Андреевского кавалера[104].
Я сам видел, как однажды в Петергофе, а именно в какой-то торжественный день при покойном государе, этот Иван Сухозанет, безногий, на костылях, в Андреевской ленте, выходя из дворца на площадку, наполненную народом, подошел к стоявшей тут коляске государя и сам подал руку и сделал «чекенц» с кучером государя. К чему такая публичная подлость? Что мог сделать для него кучер? Как бы то ни было, грустно видеть, что надежды не оправдываются. Всего удивительнее, как мог государь согласиться на назначение Брискорна, когда должен еще живо помнить историю Политковского и знать резолюцию покойного государя о том, что Брискорна уволить от всех должностей.
Бывший военный министр, князь Долгоруков, кажется, решительно получил назначение в Париж; он, встретив меня на этих днях на балу у великого князя, просил, чтобы я, в случае отъезда его за границу, согласился принять на себя звание попечителя над его сыном. Я, разумеется, согласился. Долгоруков производит весьма странное впечатление — он просто жалок: везде, где только может, он плачевным тоном рассказывает о том, как он старался делать и делал, что мог; что он сам сознает, что не все делалось всегда, как следует, но что он находился в таком положении, что не мог действовать всегда, как следовало, что ему прискорбно видеть, как общественное мнение против него вооружено, что он неоднократно просил у государя об увольнении, но что государь его не пускал и что он во всякое время не смел на этом настаивать, но что с прекращением военных действий он решительно просил государя освободить его от министерства и проч… Все это весьма справедливо, и действительно Долгорукова нельзя винить, что он дурно сделал дело, на которое никогда способен не был. Но в чем ему нет оправдания — это в том, что он решается ехать посланником в Париж… Верно, можно сказать, что к дипломатии в настоящее время он менее способен, чем к администрации.
Все эти дни не знаю, чему радовались, но только во всех дворцах были праздники. У императрицы были живые картины, у Константина Николаевича — фарфоровые куклы и бал, у великой княгини Елены Павловны — театр. Я был на последних двух. Вдовствующая императрица уехала за границу. Завтра государь едет в Варшаву и оттуда, говорят, в Берлин. Одним словом — пошла писать…
12-го мая. Сейчас я вернулся с музыкального вечера Михайловского дворца. Там была императрица и человек 15 приглашенных. Когда все разъехались, меня удержала великая княгиня чай пить и рассказала мне много любопытных вещей. Ей представляются вещи в весьма темном виде, и, кажется, она права. По словам ее, финансы наши в таком скверном виде, что скоро должен последовать кризис. Постоянно возрастающий дефицит грозит банкротством, и не знают, какие принять меры, чтобы помочь беде. Тенгоборгский написал об этом какую-то секретную записку и предлагает меры. Не верю я в пользу этих мер и наперед уверен, что они хуже запутают наше положение. Теоретические познания Тенгоборгского неприложимы к стране, которую он не знает, да, кроме того, сомневаюсь в добросовестности этого господина, который, без сомнения, враг России, не имея с ней ничего общего, ибо сам он австрийский поляк, попавший в члены Государственного совета за то, что написал книгу о финансах Австрии; он — рьяный последователь системы свободной торговли и был главным виновником изменения тарифа в последние годы царствования покойного государя. Ему страх как хочется попасть в министры финансов, и ежели это состоится, то нашим фабрикам и вообще всей нашей промышленности придется плохо. Судя по словам великой княгини, все магнаты очень беспокоятся насчет финансов России, а государь, чтобы не беспокоиться, старается ничего не слушать. Между прочим, идет речь о восстановлении для сухопутной границы прежнего тарифа, который был убавлен по случаю войны, но против этого говорят, что совестно сейчас, после войны, поднимать тариф в ущерб торговле Пруссии, которая так хорошо вела себя относительно нас. Что можно возражать и что станешь делать с такими взглядами на вещи.
На университеты опять хотят начать гонения или, еще хуже: гонения на Министерство народного просвещения, хотят как-то сунуть Ростовцева, чтобы он дал тот тон и то направление, которыми так отличаются военно-учебные заведения. Как это будет и в какую форму облекут вмешательство Ростовцева в народном просвещении, я не могу понять из слов великой княгини, но, видимо, что-то нелепое затевается. Несмотря на все это, приготовления к коронации идут своим чередом, и денег на празднества и парады не жалеют. Тут же на вечере я видел Титова, который сегодня вступил в правление своей новой обязанности — главного наставника и воспитателя детей государя. Дай Бог ему большего в этом деле успеха, чем он имел в своей прежней дипломатической службе, бывши посланником в Константинополе, он своею склочностью и угодливостью воле и политике Нессельроде сильно уронил влияние наше на Востоке и, конечно, был одним из главных орудий в руках Провидения для нашего уничтожения. Я с ним мало знаком, но, судя по нескольким разговорам, не могу признать в нем никаких особенных способностей и никакого практического знания дела. Я старался объяснить ему, какие вредные последствия имеет недостаток воспитания великих князей и как эти недостатки обнаруживаются, когда эти князья вступают на служебное поприще. Он, соглашаясь со мной, утверждал, что он уже говорил, и что с ним согласились, о необходимости ближайшего ознакомления с Россией вне Петербурга, где бы могли видеть в настоящем свете жизнь народную и все ее нужды. Но каким образом устроить такое преподавание, об этом Титов не успел сообщить мне своего мнения. Постараюсь с ним увидеться, чтобы узнать, имеет ли он насчет этого какое-нибудь мнение. На днях я был в Кронштадте, и уже прибыло более 10-ти купеческих английских пароходов, и все винтовые, досадно смотреть на них.
28-го мая. Я провел сегодня целый вечер у Александра Барятинского, и мы толковали о многом. Мне любопытно было узнать его покороче, потому что он еще с детства близок к государю и теперь в милости. Кроме того, на Кавказе он приобрел известность и славу храброго и предприимчивого генерала. Он оставался там весьма долго и не променял боевую жизнь на петербургскую, хотя мог в своем положении играть блестящую роль. Вообще он из всех высокопоставленных лиц возбуждает своим прошедшим к себе полное уважение. Ему приписывают какие-то нелепые понятия о необходимости восстановить у нас небывалую аристократию и вообще об умственных его способностях судят различно. Я нашел в Барятинском человека отлично честного и благородного, который способен отстаивать и говорить правду и не скрывать своих убеждений. Он весьма настойчиво и серьезно занимается Кавказом, и в суждениях его видна как бы уверенность, что он в непродолжительном времени будет там наместником. О многих предметах он судит весьма здраво. Корень всего зла в России он видит в воспитании, и в особенности восстает против военно-учебных заведений. Он доказывает с убеждением, что безнравственность и все злоупотребления, которыми страдает наша армия, имеют своим источником военно-учебные заведения. Во время своего служения на Кавказе он постоянно имел дело с воспитанниками этих заведений и уверяет, что эти воспитанники поступают уже на службу со всеми началами всякой безнравственности и мерзости. Он не скрывает своих убеждений в этом отношении перед государем и делает это, быть может, слишком часто, а потому слова его потеряли всякую силу, ибо в нем предполагают на этот счет пункт сумасшествия. Разумеется, Ростовцев, который, вероятно, умнее и хитрее Барятинского, умеет обессмыслить влияние сего последнего. Не ограничиваясь одной военной частью, Барятинский весьма интересуется общими вопросами. О многом он писал, подавал свои мнения и соображения, о достоинствах которых судить не могу, потому что не читал. Хотя разговор наш не доходит до вопросов, по которым бы я мог заключить, какие у него понятия об аристократии, но, судя по нескольким словам его и намекам, видно действительно, что у него по этому предмету что-то сидит в голове. Общее впечатление, произведенное на меня Барятинским, следующее: отсутствие блестящих способностей заменяется у него личными качествами, он способен принять впечатления извне, а потому умный и дельный человек может через посредство его действовать. Он не в состоянии быть во главе какой-нибудь партии, ибо не выдержит борьбы с противниками. Решительного влияния на дела никогда иметь не будет. Цель его — быть наместником на Кавказе — вероятно, будет достигнута, в этом ему помогут и враги его, потому что будут очень довольны удалению его из Петербурга, где он им не столько опасен, сколько неприятен, потому что чистый и честный человек. Я сегодня узнал, между прочим, что великий князь советовал государю принимать доклады министров по важнейшим делам, имеющим отношение к России, в Комитете министров, в присутствии всех министров и, следовательно, председательствуя лично в Комитете. Государь мысль эту не отверг окончательно, а сказал, что подумает. Не думаю, чтобы это предложение состоялось, оно будет тяжело для государя, который не приготовлен к занятиям коллегиальным, да и министры не выдержат обязанности серьезно заняться делом. Барятинский полагает, что это даже будет вредно, я с ним в этом не согласен. Конечно, по некоторого рода делам, где могут быть возбуждены вопросы личные, трудно оставить свидетелей при докладе, но в большой части дела весьма было бы полезно какое-нибудь ограждение России от словесных и бесконтрольных, с глазу на глаз, докладов министров.
29-го мая. Каюсь, чистосердечно надеюсь, что имел совершенно превратное мнение о Титове. Он сегодня представился мне в совершенно ином свете. Вот в чем дело. Несколько дней тому назад он был у меня вечером, но зашел только на минутку, и когда я просил его посидеть, он отозвался, что ему некогда, потому что он пишет весьма нужную записку. Я отпустил его с условием, чтобы он прочел мне эту записку, когда она будет кончена. Вследствие этого Титов[105] позвал меня сегодня к князю П. А. Вяземскому, в присутствии которого, а также и И. В. Киреевского он прочитал нам свою записку. Это не что иное, как письмо на французском диалекте, адресованное государю, по поводу воспитания наследника. Когда Титова пригласили взять на себя воспитание царских детей, то он просил предварительно представить программу, по которой он полагает следовать в нравственном и умственном воспитании царских детей. Программу эту прочел государь и согласился в главных основаниях, не утвердив, впрочем, только один пункт, и вследствие того, без дальних рассуждений, объяснил Титову, что он назначается воспитателем детей. Но Титов не хотел оставаться на неопределенном положении и решился, прежде чем окончательно принять это место, объяснить мысль и воззрение свое так, чтобы не оставалось ни одного сомнительного пункта. С этой целью он и решился писать это письмо, на чтение которого я был призван. Во вступлении, как водится, отличными французскими фразами выражено, какая честь и какое счастье быть воспитателем наследника, но и какая при этом ответственность, что при этом не должно существовать никаких недоразумений, а потому следует оговорить их заранее. В 1-м пункте, спрашивает Титов, ему необходимо знать, кто будет контролировать его по воспитанию и цензуре кого он будет подлежать. Теперешний наставник наследника — генерал Зиновьев — прекрасный во всех отношениях человек, но он может иметь свои мысли, свой взгляд на вещи, его контроль Титов отвергает и откровенно выражает эту мысль, что ежели ему дастся доверие, то он не может признавать в делах воспитания никакого над собой начальства и никого равного, и что в этом отношении он может быть подчинен непосредственно одной только императрице, от нее одной принимать замечания и советы, а потому должен иметь к ней доступ, когда найдет нужным. Во-вторых, так как воспитание состоит не только в одном учении, но и в образовании вообще, и при этом распределение занятий имеет важное влияние на успех всего дела, то никто не должен и не вправе без согласия Титова отрывать мальчика от занятий, развлекая его смотрами, разводами и проч… Далее Титов, излагая подробно общие мысли своего воспитания и разделяя их на периоды, доходит до 4-го периода — 17-летнего возраста. С этого возраста Титов предлагает допустить наследника к слушанию лекций в Московском университете — вот на этот пункт государь никак не соглашался, предлагая взамен университета посылать наследника на лекции в Военную академию, как будто это все равно. По этому поводу Титов входит в весьма длинное и прекрасное рассуждение об университетском образовании и доказывает всю пользу его для наследника престола, который вместе с учением приобретает более близкое познание людей и жизни. Прекрасно также развита мысль, почему в Московском университете следует учиться ему, а не в Петербургском. За сим на предложение лекций в Военной академии прекрасно доказан вред специального образования для наследника при отсутствии общего. Тут высказаны горькие истины, оправданные опытом и смело противоречащие и вкусам, и привычкам, и убеждениям государя. В заключении самым верноподданническим образом выражена та мысль, что или согласитесь на все то, что я предлагаю, или выгоните меня вон, но я не уступлю ничего. На всех нас одинаково подействовало чтение этого письма: и Вяземский, и Киреевский, и я были одинаково удивлены и высказанной храбростью, и содержанием, и изложением его. Письмо это накануне было отправлено императрице с просьбой вручить его государю по возвращении его на сих днях. Конечно, нельзя предположить, чтобы за такое письмо Титов мог бы рисковать своим благосостоянием, тем более что императрица совершенно с ним во всем согласна, но, не менее того, я от души поздравил и поблагодарил Титова, пожелав ему выйти победителем. Завтра ждут государя, следовательно, он, вероятно, послезавтра прочтет это письмо — любопытно будет узнать о последствиях.
Я завтра еду в Ревель проводить туда графиню Протасову и посмотреть свое портовое управление. Теперь не знаю, как согласить осторожно-трусливые, по удостоверению многих, действия Титова в качестве нашего посланника в Константинополе с подобным благородным поступком, которого нахожусь свидетелем. Постараюсь поближе сойтись с Титовым и приведу в известность эту непонятную для меня противоположность.
1-го июня. Сегодня я вернулся из Ревеля, где пробыл только несколько часов, осмотрел свое управление и на том же пароходе отправился назад. Вчера, когда мы вышли из Кронштадта, то встретили недалеко от Толбухина маяка государя, возвращающегося из-за границы. Он шел на «Александрии» вместе с императрицей, которая выехала ему навстречу. Подходя к Кронштадту, он поднял штандарт, вследствие чего пошла страшная пальба со всех фортов и кораблей, точно вернулись с какой-то победы.
На возвратном пути из Пруссии государь был в Риге, Митаве и Ревеле — показаться немцам. Я еще застал в Ревеле на улицах неуклюжие триумфальные ворота из еловых ветвей. Говорят, здесь немцы поскупились на сальные огарки, и иллюминация была sehr schwach[106], за что Суворов их порядочно выругал.
На обратном пути из Ревеля я возвращался с генерал-адъютантом Ливеном, который был вместе с государем в Берлине. Я, разумеется, стал его допрашивать о происходившем. Он с азартом рассказывал мне, как государя принимали в Берлине, как в Германии на него смотрят как на спасителя и миротворца, как все за это благодарны, как сам прусский король пил за его здоровье, назвав его миротворцем и проч. и проч… Но так как пароход из Ревеля идет 16 часов до Кронштадта, то в это время много можно переговорить и, пожалуй, договориться и до правды — так случилось и со мной. Таким образом, я узнал, что в Берлине каждый день разводы и парады продолжались по-прежнему, что мы с немцами останемся — во что бы то ни стало — приятелями. Союз Англии, Франции и Австрии объясняет желанием Наполеона окончательно и навсегда помирить нас с Австрией, как будто он не верил, чтобы мы после всего того, что с нами сделала Австрия, решились разорвать с ней тесную дружбу. Это объяснение я уже не в первый раз слышал, его говорил мне также Барятинский, верно, кто-нибудь из сильных мира сего сочинил подобное оправдание нашему одурачению. Ливен уверяет, что вся Германия ужасно негодует на Австрию и, напротив, нам очень сочувствует, а по-моему, черт бы их подрал всех, как бы они ни признавались, эти проклятые немцы, долго еще мы из-за них и по милости их дружбы будем пропадать. Ливен сказывал мне, что государь возбудил в Варшаве весьма сильный и непритворный энтузиазм, но ненадолго. В обеих сказанных дворянству речах государь выразился довольно неудачно, или просто, может быть, сказал более, чем хотел сказать, и это произвело охлаждение, которое во многих выразилось желанием отправиться из Варшавы домой, не ожидая окончания празднеств. Объявленная амнистия также обманула надежды поляков, а в русских возбудила справедливое чувство негодования: почему же не сделано ничего для несчастных, которые 30 лет своей ссылкой и изгнанием более заслуживают внимания? Говорят, что о польских амнистиях[107] была речь в Парижских конференциях, и что граф Орлов предупредил настойчивое приглашение обещанием. Завтра я отправлюсь в Москву. У Титова сегодня был, чтобы узнать о результате его письма, но не застал дома. Впрочем, от Вяземского узнал, что ничего еще неизвестно, и что Титов сам еще ничего не знает.
4-го июля. Я вернулся на днях из Москвы, или, лучше сказать, из деревни, потому что пробыл в Москве только несколько дней, впрочем, в деревне про-жил не более 2-х недель, едва успел осмотреться и узнать, в чем состоит полученное мною, по воле батюшки, имение. Страшно мне было решиться принять его со всеми теми обязательствами, которые на нем лежат. Оно оценено в 72 тысячи рублей, и в нем моих 12 тысяч, а остальные 60 тысяч мне следует уплатить братьям, сестре и другим лицам. Не надеясь на свое знание и понимание хозяйства, я воспользовался готовностью опытного хозяина Николая Васильевича Ладыженского меня сопровождать для осмотра имения и для определения его ценности, с тем чтобы потом решиться принять его или отказаться. Итак, я отправился в Березичи с женою, старшими детьми и Ладыженским. Признаюсь, мне очень хотелось удержать имение: во-первых, потому что на то было воля батюшки, который любил это имение, и, во-вторых, потому что мне очень желательно иметь уголок, в котором можно было бы поселиться и в котором можно было бы найти занятие, ежели бы случилось по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам бросить службу
Как ни уверен я в своей храбрости и гражданском мужестве, но все же приятно иметь за собой резервный уголок, куда бы можно ретироваться в случае, ежели придется плохо… Я был совершенно прав, не надеясь на свои познания хозяйственного дела. Когда приехал в деревню, то увидел, что не понимаю ни бельмеса в хозяйстве и не знаю, как взяться за дело. Спасибо Ладыженскому, который помог моему неведению. Основываясь на его отзывах, я решился оставить имение за собой, ибо оно стоит той суммы, в которую оценено батюшкой, и ежели, паче чаяния, дела мои запутаются так, что не буду знать, как их развязать, то всегда буду в состоянии продать имение и удовлетворить лежащие на нем обязательства. В имении находятся две фабрики: одна — писчей бумаги, а вторая — сахарный завод. Первую я решился закрыть, а вторую, по возможности, улучшить и развить. Все хозяйство Березичей основано на сахарном заводе, и при хорошем управлении дело могло бы пойти хорошо. Но в том главная беда, что заочно заниматься нельзя, а управляющий, хотя мужик честный, но не дальний и не распорядительный. К удивлению моему, я не нашел, чтобы народ более тяготился крепостным правом, чем прежде, и этот вопрос в нем не много подвинулся вперед. Они недовольны своим положением, но не более прежнего. Впрочем, отношения крестьян к помещикам не остались прежними. Перемена сознания беззаконности права произошла не в крестьянах, а в помещиках, и, без сомнения, эта перемена инстинктивно сознается народом. Я уверен, что мужики мои чувствовали, что барин их не уверен в законности своих прав — это видели они и в неумении моем с ними говорить, и в чрезмерной щедрости моей и жены, и в непонимании дела. Одним словом, во всех моих поступках. Может быть, они объясняют все это моей глупостью, но, не менее того, они видят, что я в отцы им не гожусь, да и сам как-то совещусь быть главою такого семейства. Я начал, как начал Тентетников в «Мертвых душах» Гоголя, я сделал разные льготы: освободил от поборов кур, яиц и проч… Прибавил им земли из господской запашки, избавил их от зимних подвод в Москву и проч. и проч… Жена раздала много денег неимущим, также коров, лошадей, но толку из всего этого, я сам вижу, что будет мало. Впрочем, я убежден, что ежели бы мне возможно было часто бывать в деревне и жить там в году месяца 4, то и я бы научился делу, и им бы было лучше. Я намерен осенью непременно отпроситься в отпуск, это совершенно необходимо, но не знаю, как меня отпустят. К несчастью, урожай в нынешнем году, подававший с весны большие надежды, будет весьма посредственным, а яровые совершенно пропадут от сильной засухи. Свекла тоже по этой причине не обещает много хорошего. Жену и детей оставил я на даче в Москве, в Покровском, а сам приехал в Петербург с намерением присесть за дело, которого накопилось очень много. Мне бы хотелось теперь на досуге и наедине все покончить, чтобы не было препятствий к отпуску осенью. Во время моего отсутствия последовали следующие важные перемены. Князь В. А. Долгоруков, бывший военный министр, назначен шефом Корпуса жандармов на место графа Орлова, а граф Киселев, министр государственных имуществ, назначен посланником в Париж. О том, кто будет на место Киселева, еще неизвестно. Оба эти назначения хороши. Я ездил представляться к великому князю в Стрельню и просидел у него с полчаса. Он расспрашивал о приготовлениях к коронации. Нового от него ничего не узнал. Из Стрельни я проехал в Ораниенбаум к великой княгине, которой должен был дать отчет в приискании ей подмосковной для проживания во время коронации и далее. Вечером, или, лучше сказать, ночью того же дня вернулся домой, не узнав ничего особенно примечательного.
8-го июля. Сегодня по случаю воскресенья я сижу дома и занимаюсь; вечером были у меня два брата Шиловы, они прибыли сюда на опекунские торги, которые уже кончились. На все откупа сильно надавили. Вся наддача простирается до 7 т. 500 рублей. По словам братьев Шиповых, которые близко следят за нашими торговыми и финансовыми оборотами, нынешний год вся внешняя торговля будет в нашу пользу и все дела весьма оживлены. На чем же основывает г. Тенгоборгский свои опасения за страшный кризис, нас ожидающий, о котором он говорит в своей записке, о которой говорили перед моим отъездом отсюда? Братья Шиловы вместе со всеми фабрикантами московскими сильно хлопочут об учреждении Общества поощрения торговли и производительности в Москве. Это дело уже в ходу, и, вероятно, Общество состоится. Они предполагают издавать журнал в смысле сократительной торговли. Не думаю, чтобы они достигли этим путем своей цели. Никто из правительственных лиц ни одного журнала на русском языке не читает и читать не хочет, а ежели и прочтет, то бросит книгу с улыбкою презрения. То ли дело, когда появится какая-нибудь статейка о России в иностранном журнале или газете, все с жаром читают и верят на слово. Поэтому я неоднократно советовал и продолжаю советовать этим господам непременно купить за границей какого-нибудь талантливого писаку, который бы валял в газетах статьи в их пользу. Все статьи эти будут приняты нашими магнатами за непреложную истину, и успех их домогательств несомненен.
Я помню, как в 1847 или 1848-м году, когда были в французском парламенте прения о свободной торговле, Тьера речь, в которой он говорил, между прочим, о России, остановила у нас разные меры, которые были уже почти окончательно решены и утверждены в Государственном совете. В нынешнем году опять хотят переделывать наш тариф, и к этому времени нашим фабрикантам необходимо купить какого-нибудь Michel Chevalier. Без этого все их усилия будут напрасны, с ними никто говорить не захочет, а статьи их читать не будут.
16-го июля. Совершенный застой всяких новостей, город пуст, и я почти никого не вижу, пользуюсь своим одиночеством, чтобы работать и закончить многие начатые дела. По временам езжу только в Ораниенбаум, несколько при-освежиться. Вчера провел там целый день. День въезда и коронации опять, говорят, изменен, ждут великих и богатых милостей, но ничего достоверного еще неизвестно.
Сюда приезжал Непир[108], и ему оказывают внимание, которого ни он, ни нация, к которой он принадлежит, вовсе не заслуживают. Англичане под начальством Непира вели себя до такой степени подло во время войны, что во всяком другом государстве негодование, без сомнения, обнаружилось бы. Конечно, неприлично бросать грязь в отдельного человека, но, с другой стороны, также, может быть, и более неприлично оказывать внимание человеку, под начальством которого происходили грабежи и разбои. Всего непонятней то, что Непиру велено показать все по морской части, он был здесь в Адмиралтействе, ходил везде и вчера отправился в Кронштадт, где проживет три дня, чтобы иметь время осмотреть все подробно. Следовательно, для вчерашних и даже, может быть, завтрашних врагов наших нет тайн. Надо быть слишком уверенным в своей силе и крепости защит Кронштадта, чтобы действовать с такой откровенностью. Ежели эта уверенность существует, то зачем же заключать мир? Настоящая причина всем неприличным поступкам — это, все-таки, отсутствие собственного достоинства, ребяческая хвастливость и бессознательное уважение ко всякому иностранцу. Кажется, немало учили нас всякие французы и англичане и выражали печатно то впечатление, которое производит на них наша угодливость, но все это не впрок.
10-го августа. Все и все заняты приготовлениями к коронации. Со всех сторон съехалось множество иностранцев и всяких немецких принцев. Новости и новые назначения также, говорят, отложены все до коронации, так что застой во всем продолжается.
Впрочем, назначение Барятинского на Кавказ наместником вместо Муравьева последовало сверх чаяния, независимо от ожидаемых перемен. Все способствовало Барятинскому для достижения его цели. Во-первых, гнусный нрав Муравьева, который сумел в короткое время заставить себя возненавидеть; по моему мнению, это признак ограниченности способностей, ибо я убежден, что хотя бы и действительно велики были злоупотребления, которые он ре-шился искоренить, но все это с умом можно было сделать, не вооруживши против себя и честных и нечестных. Во-вторых, Барятинскому сильно содействовали враги Муравьева, во главе которых князь Воронцов и враги самого Барятинского, которые очень желали его отсюда спровадить, ибо, конечно, из всех близких к государю людей Барятинский самый порядочный и самый честный. Наконец, сам Барятинский только спал и видел, чтобы достичь этого назначения и, конечно, не упускал ни одного случая без пользы. Я слишком мало знаю Барятинского и слишком мало знаком с Кавказским краем, чтобы иметь положительное мнение о том, полезен ли будет Барятинский на этом месте или нет. Дай Бог…
В конце июля был смотр всему флоту. В нем, кроме двух дивизий кораблей, участвовало 75 канонерских винтовых лодок. Вид этой силы получал особое значение при мысли, что все это создано в 2 года, почти без всяких приготовлений, или, по крайней мере, без предварительного устройства больших механических заведений. 14 из 20-ти пушечных корветов, также винтовых, не поспели к смотру, и они только теперь вооружаются. Впрочем, надо признаться, что весь этот успех в морском деле еще до сих пор есть только большей частью видимый, т. е. винтовые лодки действительно есть, но команды и главные офицеры на них с морским делом мало знакомы. Пароходный флот уже есть, а топлива для этого флота нет, да и никаких приспособлений для хранения угля и запаса его нет. Канонерские лодки есть, а куда их поставить на зиму — еще неизвестно, и ничего к этому не приготовлено. Конечно, всего нельзя сделать разом, но нужно по крайней мере, чтобы с введением какого-нибудь нового совершенствования приноравливали бы и все части, необходимые к потребностям сего нововведения. Много и много предстоит еще труда, чтобы создать флот, который бы мог в случае надобности приносить пользу, надо почти пересоздать целое поколение моряков, потому что большинство здешних морских офицеров, несмотря на все усилия и все старания изменить направление, остается при таких мыслях и при таких убеждениях, что невозможно от них ожидать никакой жизни.
Я в особенности убедился в этом во время моей недавней поездки на казенном пароходе на остров Эзель[109]; я ездил туда по весьма плачевному случаю. Князь Сергей Мещерский, женатый на Апраксиной, лечился грязями в Аренсберге и вдруг скоропостижно умер на улице, в то время как чувствовал себя совершенно хорошо, собирался ехать кататься. Бедная жена, его обожавшая, оставалась на этом острове одна, без всяких средств вывезти тело в Москву, где намерена была его похоронить. Я выпросил у великого князя по этому случаю пароход, на котором я вместе с Софьей Петровной Апраксиной отправился на остров Эзель. Путешествие наше с самого начала и до конца сопровождаемо было всякими неблагоприятными обстоятельствами: и постоянно противный ветер, и, наконец, на обратном пути, когда мы уже возвращались с телом, сломалась на пароходе машина и мы должны были бросить якорь в довольно свежий ветер и в таком месте, где якорная стоянка не была безопасна. Таким образом, мы простояли в море почти сутки и к утру дали знать проходившему невдалеке английскому купеческому пароходу, чтобы он подошел и взял нас, что англичанин, конечно, за большие деньги и исполнил. В этом несчастном путешествии я убедился, что не только материальная часть нашего флота находится в несчастном состоянии, но, главное, в лицах начальствующих нет ни малейшей любви к делу, нет привычки к морю, нет желания усовершенствоваться. Одним словом, мертвечина, в которую все у нас облеклось, еще долго не уступит место живому образованию.
На днях я был с докладом у великого князя в Кронштадте в то время, когда представлялись ему прибывшие на коронацию французские генералы и офицеры. Все они только что вернулись из Крыма и, следовательно, еще не так давно дрались с нашими героями. Меня восхитил великий князь своей находчивостью и умением каждому сказать слово. Французы эти все более или менее порядочные люди, держат себя скромно и оказывают нам большое сочувствие. Великий князь пригласил их к обеду и в то же время позвал, чтобы познакомиться с ними, наших черноморских героев, бывших налицо в Кронштадте, как то: Новосильского, Перелешина, Керна. Это восхитило французов, и они говорили мне, когда я возвращался с ними на пароходе в Петербург, что этот поступок великого князя они понимают и глубоко им тронуты, видя в нем знаки уважения великого князя к ним, глубоко сочувствующим нашим храбрецам. За обедом великий князь поразил французов-генералов своими блестящими способностями, он забросал их вопросами и так озадачил дельностью и быстротою своих замечаний, что они пришли в совершенное изумление. Действительно, я сам был приятно поражен тем впечатлением, которое производил живой разговор великого князя. Теперь все это уехало в Москву, не знаю, когда-то я соберусь. Великая княгиня Елена Павловна звала меня ехать с собою, но я отказался, потому что дела не позволяют мне отлучиться. А как бы хотелось повидаться со своими, ужасно становится скучно и грустно, и ежели с моей стороны какая-нибудь жертва служит, так эта жертва заключается единственно в перенесении этой скуки и в пренебрежении тех пустых дрязг, от которых я также начинаю страдать, имея непосредственным начальником немца[110], уже по природе своей мелочного, но к тому же еще почти карлика с душонкой микроскопической.
13-го сентября. Пишу эти строки в деревне, куда приехал вчера. Из Петербурга я выехал 21-го августа и пробыл все это время в Москве, среди всех торжеств и увеселений коронации. Торжественного въезда государя в Москву я не видел, ибо был в это время в Петербурге. Очевидцы рассказывали мне, что зрелище было великолепное, что весьма вероятно, ибо погода благоприятствовала торжеству, на приготовление которого не жалели денег. Москву нельзя узнать, народонаселение заметно увеличилось, необыкновенное движение народа по улицам, беспрерывная езда экипажей, в особенности посланнических карет с необыкновенною упряжью, стечение перед дворцами и домами, занимаемыми разными принцами и принцессами. Все это дает чувствовать, что в городе происходит что-нибудь необыкновенное. Между днем въезда и 26-м августа, т. е. днем коронации, погода стояла прескверная — дождь, ветер и холод. Но вдруг 25-го числа сделалось тепло, солнце осветило и пригрело всю Москву и она — наша матушка — так и засияла. Я достал себе и Саше[111] билеты в одну из галерей, устроенных близ соборов в Кремле, чтобы оттуда смотреть коронацию. На площадку между соборами народа не пускали, но расставили войско, что, по моему мнению, много повредило великолепию зрелища, ибо давало торжеству какой-то казенный вид. Напротив того, за Иваном Великим и Чудовым монастырем была сплошная масса народа с поразительным спокойствием, хотя в страшной тесноте и духоте, ожидавшая появления государя.
Шествие государя и императрицы в собор под балдахинами хотя было весьма величественно, но продолжалось недолго, и так как в этом месте, где они проходили, не было народа и стояло одно войско, то особенного восторга не было. При этом также неприятно поразила меня музыка, которая казалась как-то совсем некстати в духовной процессии, совершаемой при звоне всех колоколов. К тому же и сама музыка драла всем уши, потому что в то же самое время играли «Боже, царя храни» и какой-то туш, так что из всего этого выходила какая-то чепуха и страшные диссонансы. В соборе, разумеется, во время коронования я не был, но, судя по рассказам, зрелище было величественное и до слез тронуло всех присутствующих. Сам государь и в особенности императрица были в полном умилении во все время священнодействия. Совершение обряда было несколько смущено тем, что корона на голове императрицы Марии Александровны плохо держалась, вероятно, по неискусству дам, которые обязаны были укрепить ее. Корона двигалась, и даже, подходя к образам, императрица должна была ее на минуту снять. Это обстоятельство, говорят, неприятно поразило всех, имеющих предрассудки и дающих значение мелочным и случайным явлениям. Минута выхода государя из Успенского собора в короне, мантии, с регалиями в руках и под балдахином была действительно весьма величественна. Государь шел весьма медленно, глаза его казались полными слез, какая-то грусть и тайное душевное смущение изображались на всем лице его. Государыня шла посередине балдахина, и я не мог хорошо ее видеть. Но появление государя на всех, кажется, произвело одно впечатление — у всех заметил я на глазах слезы. Он возбудил во всех какое-то чувство жалости и сердечной печали, точно как будто он изнемогал под тяжестью венца своего, точно как будто он был невинною жертвой какой-то непреодолимой судьбы. Так бы хотелось броситься к нему на площадь и пособить ему чем-нибудь. Это впечатление государь произвел на всех — и на самый простой народ. Все мужики, с которыми я ни говорил, все единогласно повторяли мне одни слова, исполненные любви к нему и вместе глубокого сожаления: «Что это, как он грустен… Что это, как он скучен, похудел, знать, забот много, не таков он был при родителе…». Вот слова, которые повторяли почти все в народе. Велика сила внешних обрядов, я это всегда признавал и ощущал и в этот раз еще больше почувствовал всю мудрость нашей православной веры, которая так премудро и вместе с тем прекрасно облекает во внешние обряды знамение духовной истины и учения. Чистосердечно признаюсь, что в моих глазах, уже испорченных рассудочностью, совершенный над государем обряд поставил его еще выше прежнего, объяснить этого чувства я не могу, но чувствую. Что же должен чувствовать народ? Я уверен, что с глубоким чувством и молитвою произносил государь слова прекрасной молитвы, читаемой им во время коронации. Услышит ли Господь и совершит ли чудо исцеления слепого от рождения, т. е. откроет ли он ему очи для уразумения правого пути, с которого сбился не он сам? «Кто согрешил, он или родители его?» — вопрошали Иисуса ученики его, когда он исцелял слепого. «Ни он, ни родители его, — отвечал Христос, — но да явятся на нем дела Божия». Дай Бог, чтобы сказание евангельское могло осуществиться и в наше время. Вот мысли, которыми я был преисполнен, выходя из Кремля, где народ чинно, без всяких беспорядков и без надзора полицейских толпился и приветствовал государя восторженными криками.
Вечером я отправился пешком на иллюминацию в Кремль. Вид освещенного, великолепного Кремля восхитителен. Народу была бездна, и нигде я не видел ни малейшего беспорядка. Кое-где подгулявшие парни кричат «ура», толпа смеется, острит по-своему, и все это с непритворным добродушием и покорностью, и этот-то народ заподозрен графом Закревским в вольнодумстве, и против него он для укрощения предлагает разные предупредительные средства. Народ не только любит государя — он имеет к нему и ко всей царской фамилии просто какую-то платоническую страсть. Я пробовал на иллюминации спрашивать нескольких мужиков: «А что, видел ты царя?». Мгновенно лицо мужика просияло. Добродушная, исполненная любви улыбка явилась на уста, а взгляд самого страстного любовника при рассказе о свидании с любовницей не мог бы быть выразительнее и живее, как взгляд рассказчика о том, как царь поклонился, как куда пошел или поехал. Это чувство народа к государю заключает в себе весьма много поэзии, оно совершенно бескорыстно, не требует взаимности, ибо предполагает его, ни на чем не основываясь. Это не есть какая-нибудь теоретическая или отвлеченная преданность или покорность власти — нет, это просто бессознательное влечение, которому нет пределов, нет границ. Мы привыкли слышать и в особенности читать в казенных статьях о любви к царю и прочему тому подобному и потому успели опошлить этот предмет так, что действительно утратили всякую веру в него. Но когда услышим из живого источника, из уст народа, объяснение в любви, то оно действует поразительно, и как-то становится совестно, что не чувствуешь этой любви сам.
Еще поразило меня то явление, что в Москве народ имеет совершенно не тот вид и не тот характер, как в Петербурге. Это, вероятно, я потому заметил, что давно не был в России и слишком привык к благочинию петербургской публики, ибо в Петербурге нет народа, там везде публика. Как часто случалось мне замечать на публичных гуляниях в Петербурге, как простой народ чувствует неловкость своего положения и не смеет почти тронуться с места… Стоят, обыкновенно, несколько мужиков вместе, запахнутся в зипуны, оглядываются по сторонам и не знают, как им быть, можно ли есть, надо ли стоять, можно ли пройти или оставаться на одном месте — точно какие-то запуганные. В Москве совсем иначе, народ ходит себе вольно, садится прямо на землю, когда устал, тут же ляжет, ест, пьет, горланит — одним словом, чувствует себя дома. Одним словом, народ бессознательно преисполнен в Петербурге тем же чувством, которым полон был один мой знакомый провинциал, приехавший по делам в Петербург. Этот господин прогуливался по Невскому проспекту со своим племянником. Остановясь перед магазином, племянник говорит дядюшке: «Посмотрите, дядюшка, какая картина…». Тот берет его судорожно за руку и торопливо говорит: «Mon eher, perspective de Nevsky, parles frailáis, parles frailáis!»[112]. На другой день коронации, утром, было поздравление от духовенства и дипломатического корпуса, а вечером был куртаг[113] в Грановитой палате. Я был на этом куртаге и восхищался великолепием зала Кремлевского дворца при вечернем освещении. Тут ничего особенно замечательного не происходило. По обыкновению ходили польскую[114], и царская фамилия ходила преимущественно с посланниками и принцами по старшинству их. С французским посланником — графом Морни[115] — в особенности любезны, все наперерыв перед ним кокетничают. Вчера ему дали Андрея, а Эстергази, австрийскому посланнику, уже имеющему <орден Св> Андрея <Первозванного>, дали бриллианты[116], но вообще с ним в очень холодных отношениях. Князю де Линю — бельгийскому посланнику — дали Александровскую ленту, но он ее не принял и отослал назад, благодаря за внимание, но извиняясь, что не может принять, ибо имеет почти все первые степени орденов других государств. Без всякого сомнения, несчастного бельгийца обидели для того, чтобы дать больше значения награде Морни. Английскому посланнику ничего не дали, потому что англичане не имеют права принимать и носить чужие ордена, но с ним обращаются довольно сухо, хотя сам лорд Гренвилль и в особенности жена его очень любезны и дают беспрерывные балы и обеды. Не знаю, поведет ли к чему-нибудь любезничание с французским посланником, личность самого Морни замечательна тем, что он брат самого Наполеона, участвовал с ним во всех его проделках и составил себе огромное состояние игрой на бирже и участием в разных предприятиях. Он хотя очень вежлив, но не поддается, кажется, на все ласки и авансы. Во дворце я говорил со знакомыми мне по Кронштадту французскими генералами. Они, по-видимому, поражены роскошью и великолепием празднеств, но мне совестно было смотреть на них, ибо невольно приходило на память, что день празднеств был канун падения Севастополя, о котором как будто бы и помину нет. Я был на другой день, т. е. 28-го числа, у великого князя и довольно долго беседовал с ним о разных предметах. Он утвердил предположения мои о заготовлении для флота запасов угля и антрацита. Меры, предложенные мною, основывались на предположении, что мир долго продолжаться не может и что поэтому неотлагательно, несмотря ни на какие издержки, обеспечить себя топливом. Я предлагал покупать потребный и годовой запас в Англии, а трехгодовой запас донского антрацита иметь внутри России в разных пунктах по пути к портам. На это потребно ежегодно около 1-го миллиона рублей серебром, и эту сумму великий князь разрешил вписать в смету.
Великий князь объявил мне, что едет за границу. На мой вопрос — зачем, он отвечал, что имеет три претекста[117]: 1) навестить вдовствующую императрицу, которая будет зимовать в Италии и отправляется туда на днях; 2) осмотреть эскадру нашу, которая отправляется в Средиземное море, и с ней посетить некоторые порты Средиземного моря; 3) осмотреть в Тулоне строящиеся для нас фрегаты. В Тулоне великий князь надеется получить приглашение ехать в Париж, куда уже и получил от государя разрешение ехать. Из Парижа к весне воротится в Петербург и потом отправится в Николаев, а оттуда во все порты Черного и Азовского моря, потом через Кавказ, вместе с Барятинским, в Баку, а там на пароходе в Астрахань и вверх по Волге до Нижнего к ярмарке. Таким образом, все пропутешествуют почти год. Во всем этом плане, ежели нет какого-нибудь политического соображения или намерения в поездке в Париж, я не вижу никакого дельного смысла, главным образом потому, что путешествия эти совершенно и во всех отношениях несвоевременны: во-первых, в нынешнем году, в течение зимы, без сомнения, многое должно измениться как в личном составе, так и в направлении действий правительства. Для этого пребывание великого князя в Петербурге могло быть полезно, и, во всяком случае, непонятно, как возможно самому не иметь столько любопытства и интереса к делам внутреннего управления, чтобы не желать принять в них деятельного участия. Во-первых, касательно собственно Морского министерства, отъезд великого князя совершенно несвоевремен и будет иметь дурные последствия. Прежний порядок, по которому шли дела в министерстве, отставлен: машина министерская, так сказать, разобрана, а новая еще не установлена. Врангель не в состоянии ни создать ничего дельного, ни последовательно и решительно идти к определенной цели, и, следовательно, дела пойдут дурно, я в этом убежден и готовлюсь к разным неприятностям. Наконец, неужели не чувствуют они всю неблаговидность этой эмиграции за границу немедленно после постыдного мира? Едут за границу: вдовствующая императрица, великий князь с великой княгиней, Мария Николаевна, Елена Павловна, вероятно, Екатерина Михайловна. Одним словом, почти все. Чего все эти путешествия будут стоить… Великий князь, кажется, внутренне чувствует, что не следовало бы ему ехать, поэтому старался объяснить мне разные побудительные мотивы, как например: он говорит, что убежден, что администрация не должна состоять в том, чтобы работать в Кабинете, но что необходимо самому на местах собирать данные, изучать разные вопросы и проч. и проч… Но в то же время он не скрыл от меня, что имел с детства страсть к путешествиям и что с женитьбой у него эта страсть пропала, а теперь опять явилась. Из всего этого я вывожу, что нет дельной цели и достаточно уважительной причины оставлять великому князю Россию в теперешнее время и что это делается, во-первых, из ребячества, во-вторых, из желания отделаться, хотя бы на короткое время, от своей благоверной, которая, по-видимому, все еще дурит, но хороша, как ясный день. На всех балах и собраниях она решительно изумляет всех своей красотой, она еще похорошела в это последнее время.
Московское Общество сельского хозяйства просит великого князя взять на себя звание почетного президента. Я спросил великого князя, примет ли он это звание. Он мне отвечал, что ему весьма не хотелось бы ввязываться в дело, которого не понимает. Я уговаривал его согласиться на предложение Общества, и вот с какой целью: он мог бы, получив, разумеется, предварительное разрешение государя, поручить Обществу заняться вопросами касательно освобождения крестьян. Общество могло бы составить для этого предмета особое отделение, которое бы собирало все нужные сведения и приготовило бы материалы, которыми правительство впоследствии могло бы воспользоваться. Члены Общества могли бы рассматривать разные проекты об эмансипации, писать на них свои замечания, возбудить умеренную и полезную полемику в своем журнале. Я убежден, что это было бы весьма полезно. Я старался доказать великому князю, что действия частных лиц при разработке этого вопроса могут быть несравненно плодотворней действий чиновников, и вместе с этим поручение, данное великим князем как президентом Общества, получило бы гораздо менее гласности и не имело бы то значение, которое имеет недоговоренное слово государя. Поэтому я уговаривал великого князя принять звание, ему предлагаемое, но он не дал мне решительного ответа, а впоследствии я узнал, что он отказался. При этом великий князь сказал мне, что государь намерен после коронации созвать у себя комитет из магнатов и им предложить вопрос об освобождении крестьян. Я положительно объявил великому князю, что из этого выйдет вздор и чепуха. Грустно мне было видеть, как мало знаком великий князь и как мало интересуют его дела общественные. В нем нет даже желания с ними ознакомиться. Я забыл сказать несколько слов о вышедшем в день коронации милостивом манифесте. Он вообще очень хорош, а в частности есть значительные милости. Много отменяется такого, что страшно вспомнить, что оно существовало. Еще долго может правительство делать добро одной отменой неистовств, обращенных в закон при прежнем царствовании. Милости, дарованные манифестом, обличают более человеческое направление. Кантонисты[118] уничтожены; евреев уже больше не уничтожают; поляков и уроженцев Западных губерний уже больше служить не заставляют; за границу ездить позволяют; рекрут для потехи обещают не брать; наконец, прощены декабристы. Этот манифест многих осчастливит и, конечно, всех порадует. Записка о необходимости уничтожения кантонистов составлена в моем департаменте чиновником особых поручений князем Львовым, в ней представлены такие факты, что волосы становятся дыбом при чтении. Труд Львова послужит основанием предписанных в манифесте изменений, которые, впрочем, еще не окончательны. По случаю коронации роздано, как водится, пропасть наград, причем, как водится, есть много довольных и недовольных.
С предводителями дворянства государь и императрица были очень любезны, как при представлении, так и на данном им обеде. Дворяне в восхищении и полагают, что есть доказательства консервативного направления правительства. Слова, сказанные государем предводителям дворянства, записаны и напечатаны. В них нет ничего замечательного, одни повторения общих фраз благодарности и уверенности в верноподданничестве. Некоторые предводители дворянства до того напуганы слухами о желании государя освободить крестьян, что не довольствовались впечатлением от слов государя, в которых об этом вопросе не упомянуто, но еще просили министра внутренних дел Ланского, чтобы он еще циркуляром подтвердил, что государь никаких других слов не произносил.
30-го числа во вновь отделанном после пожара Московском театре был спектакль-гала. Роскошь, с которой отделали этот театр, превосходит всякое описание, громадная зала театра вряд ли имеет себе подобную в мире. На другой день был бал во дворце на 2000 человек с восхитительным ужином. Праздник этот был поистине царский, денег не жалеют, и желание пустить иностранцам пыль в глаза стоит огромных издержек. За ужином я невольно вспомнил те роскошные ужины, которыми кормил Политковский и при которых все гости невольно себя спрашивали, откуда все это богатство берется. Зная хорошо, в каком жалком положении находятся наши финансы, все удовольствия праздника были отравлены для меня грустным чувством. Одна из причин, заставившая нас подписать почти безусловно постыдный мир, состояла в том, что будто бы финансы наши истощены до того, что мы не в силах более воевать. А между тем одна коронация стоит почти столько же, как война, а при этом военные издержки в нынешнем году весьма мало сократились. По крайней мере по Морскому ведомству все суммы, ассигнованные по военной смете, будут израсходованы, несмотря на мир, и еще с лишком. А когда сообразим, чтó будут стоить заграничные путешествия почти всей царской фамилии и готовящаяся свадьба Михаила Николаевича, то придем к заключению, что мы или имеем несметные и никому не известные богатства, или будем банкротами. К несчастью, в государе решительно заметна страсть к роскоши и праздникам.
На других празднествах коронации я не был, но, по слухам, они все удались и все были одинаково великолепны, кроме одного народного праздника, который решительно не удался по случаю ужасной погоды. Дождь лил ливнем, и народ бросился и мгновенно уничтожил приготовленные для него кушанья прежде приезда государя. Объявлено было, чтобы народ приступил к столам по сигналу в то время, когда поднят будет на царском павильоне флаг. Кто-то из распорядителей из неуместного усердия хотел попробовать, не разбухла ли от дождя веревка на флаге и может ли он подняться, дернул ее, и народ, приняв этот опыт за сигнал, бросился к столам, и мигом ничего не стало. Все приготовления к народному празднику были великолепны, царский павильон отличался изяществом архитектуры, галереи для зрителей, открытый цирк, театры, качели, игры — все это было устроено весьма красиво. Несмотря на проливной дождь, народу собралось бездна. Полиция вовсе не распоряжалась, и, не менее того, везде был совершенный порядок. Царь приехал верхом, проехал несколько шагов между народом и вернулся в павильон, где пробыл не более четверти часа. В это время благополучно поднялся воздушный шар, в цирке попрыгала какая-то мамзель, и потом вся царская фамилия отправилась завтракать в Петровский дворец, и все увеселения прекратились, так что весь праздник продолжался не более получаса. В разных местах были устроены фонтаны с вином, около них народ толпился и, несмотря на ливень, гулял, но все это продолжалось недолго. Я нарочно ходил в толпу, чтобы послушать, что говорит народ, все были веселы, острили над дождем, благодарили царя за праздник, и я не слыхал ни единого укора или жалобы, и против этого-то народа граф Закревский предлагал приготовить батареи, ибо, по словам его, между народом распространился слух, что царь объявит свободу. Как бы в ответ на это опасение Закревского один мужичок навеселе объявил мне, что опоздал к угощению, потому что ходил на почту посылать барину оброк. «Всякое дело надо наперед справить, — говорил он, — а потом гуляй, душа, к царю на угощение». Замечательно, что всякий мужик уносит с собой что-нибудь с праздника на память — кто кусок коленкора, которым были накрыты столы, кто сломанную доску от стола, кто разбитую шайку, кто тумбочку, кто, наконец, ветку от елок, которыми были украшены фонтаны. В публике сейчас же распространилась молва, что будто бы флаг нарочно подняли прежде приезда государя, для того чтобы народ уничтожил все приготовленное, ибо все припасы были гнилые и распорядители боялись, чтобы царь этого не заметил. Я уверен, что это неправда, у нашей публики так испорчено воображение, что она во всем и везде видит злоупотребления и обман. Испорченное воображение есть последствие дурного воспитания и дурных примеров. Надо признаться, что действительно публика не могла получить хорошего воспитания, а в худых примерах тоже недостатка не было.
9-го числа, в день рождения великого князя, я ездил к нему с поздравлением. В этот день явились к нему некоторые московские купцы и фабриканты под предлогом, будто бы благодаря его за учрежденное по настоянию его Общества мореходства[119] на Черном море, а в сущности, купцы и фабриканты хотели заинтересовать великого князя в затеянном ими, но не утвержденном правительством Обществе развития торговли и промышленности. Это Общество, ежели состоится, будет иметь главной целью противодействие стремлению петербургских поклонников свободной торговли. Устав этого Общества написан довольно умно, но не думаю, чтобы министр финансов согласился на его утверждение. Что же касается до Общества торгового мореходства на Черном море, то это дело, действительно весьма важное, может получить большое развитие и значение в политическом отношении. Мысль образования на Черном море торгового парового флота, который мог бы в случае надобности перевозить войска и оружие, принадлежит великому князю. Еще зимой возбудил он этот вопрос, доказывал всю важность его при невозможности нам иметь военный флот в Черном море. Составленная по этому предмету записка для Комитета министров была в нескольких экземплярах напечатана и разослана членам, в ней не скрыта была тайная цель сего торгового флота и указано было на невозможность оставаться в том положении, в какое поставил нас трактат, подписанный в Париже. Члены Комитета министров, которым в первый раз, может быть, довелось дать мнение и обсудить дела государственной важности, пришли в ужас при прочтении этой записки, стали делать разные возражения в роде следующих: что это противно трактатам, что слишком еще молоды, чтобы заводить подобные Общества, что у нас частных свободных капиталов нет, а что те, которые лежат в банках, не следовало бы трогать, в противном случае банки принуждены будут выдавать деньги, а капиталы банков забраны правительством, что казна пособий Обществам делать не может потому, что не имеет денег. А главное, что все это есть величайшая тайна, а поэтому напрасно напечатана записка, которую члены Общества обязались лично возвратить великому князю, ибо опасаются и дома держать такой секрет. Одним словом, проект великого князя встретил страшную оппозицию, что, конечно, его очень раздосадовало, но он очень решил отстоять свое предложение и возбудился некоторыми намерениями. Комитет министров, наконец, утвердил мысль, а впоследствии и устав, который ныне утвержден государем и обнародован. Акции разбираются наперерыв, ибо обещанные правительством пособия действительно огромны. Я от души желаю, чтобы это дело пошло хорошо, ибо последствия его весьма важны, теперь все будет зависеть от деятельности и способности распорядителей, и я, признаюсь, не совсем в них уверен. Весьма вероятно, англичане найдут предлог протестовать против этого Общества и будут делать по этому случаю разные пакости.
10-го числа я выехал в деревню, куда прибыл 12-го по ужасной дороге и на обывательских лошадях, потому что все лошади со всех станций всех губерний от Москвы до Варшавы взяты на шоссе под проезд вдовствующей императрицы, и вот уже две недели, как в ожидании этого проезда путешествующие по всем трактам всех средних губерний России должны ездить шагом, а несчастные крестьяне оторваны от работы в рабочую пору во время посева. Как оценить этот убыток частных лиц, и что должен стоить один проезд от Москвы до Варшавы? Деревенская жизнь меня прельщает. Погода чудная. Как бы хотелось прожить здесь хотя бы год безвыездно. Не знаю, удастся ли когда-нибудь это сделать.
9-го октября. Я воротился в Петербург в последних числах сентября, проездом в Москве пробыл недолго, празднества уже все прекратились, кроме царя и царицы все почти уже разъехались или разъезжаются. Предположенная поездка царя и царицы на богомолье в Киев в исполнение данного обета не состоялась по случаю беременности царицы и непроезжих дорог. Говорят, императрица очень грустит о том, что не могла исполнить обета. Эпизод падения с ее головы короны во время коронации, о котором я, кажется, уже писал, говорят, произвел на нее впечатление.
Мне на днях рассказывал подробно герцог Мекленбургский, который был ассистентом при императрице во время коронования, как все это происходило. Корона не только покачнулась на голове, а просто совершенно упала, или, лучше сказать, потихоньку скатилась, так что минуту не знали, куда она делась. Мекленбургский, в качестве ассистента, начал ее искать и нашел на полу между складками мантии; он тихонько ее приподнял и передал в руки одной из статс-дам, а именно Рибопьер, которая долго держала корону в своих руках, не зная, как ее приколоть, и долго не решалась на это, несмотря на понукания Мекленбургского. Наконец решились послать за парикмахером императрицы, которого по ошибке не пустили в церковь, он прислал длинных золотых булавок, и тогда с помощью их опять надели на царицу корону и закрепили ее. Не менее того, я полагаю, что этот неприятный эпизод не мог не произвести самого неприятного впечатления. Сохрани Бог, ежели ее не станет. В Петербурге я нашел приготовления по всем улицам для иллюминации, имевшей быть в течение трех дней по случаю торжественного въезда государя. Въезд этот совершился 2-го числа при великолепной погоде, и хотя церемониал был далеко не так пышен, как при въезде в Москву, но, не менее того, вид был очень хорош. На другой день въезда в Петербург был бал в Дворянском собрании и засим, к всеобщему, кажется, удовольствию, все праздники на некоторое, по крайней мере, время прекратились. Царь и царица живут в Царском Селе и проживут там, говорят, довольно долго. При всех дворах идут приготовления к путешествиям.
Мария Николаевна беременна и едет со Строгановым, об этой свадьбе хотя официально ничего не объявлено, но уже не делают из этого секрет, в особенности с тех пор, как беременность Марии Николаевны сделалась известной, а сделалась она особенно известною, потому что на балу у английского посланника в Москве ее стало рвать. Великая княгиня Александра Иосифовна едет на днях, а Елена Павловна уехала сегодня. Почти накануне своего отъезда вручила она государю записку, составленную Кавелиным и Милютиным по ее указанию, о мерах, которые бы следовало принять по вопросу об освобождении крестьян. Записку эту государь взял с собой и выслушал все словесные объяснения великой княгини, с которой безусловно во всем соглашался.
На прошлой неделе великий князь просил меня доставить ему записку Самарина о крепостном состоянии, о которой писал ему Головний. Когда я привез эту записку великому князю, он объявил мне, что накануне он спрашивал государя, читал ли он записку Самарина осовременном вопросе, т. е. о крепостном состоянии, на что государь ему отвечал, что нет, он не читал, «но слышал что-то о ней, кажется, от Елены Павловны, которая, кажется, хочет что-то попробовать у себя в имениях». При этом великий князь сказал мне, что государь так устроил свои занятия, что кончает их к 12-ти часам и имеет много свободного времени, так что успевает рисовать акварелью, чего он не успевал делать давно, уже лет 15, и чтó он очень любит. Кроме того, по случаю этого свободного времени, он успевает иногда читать разные брошюры и журналы. Я, признаюсь, со своей стороны употребил все мои старания отвратить великую княгиню от намерения подавать государю записку, о которой выше было упомянуто, и возбуждать столь важный вопрос накануне своего отъезда за границу. Я советовал ей не делать этого вовсе не потому, что я опасался со стороны государя оппозиции, напротив, слова великого князя испугали меня тем, что из них явно видно, как он мало приготовил все к уразумению важности этого вопроса и как легко им кажется попробовать что-нибудь сделать, не приготовив к тому ни деятелей и не обсудив порядочно мер. При отсутствии положительного убеждения и знания дела всякая попытка неминуемо будет остановлена первым препятствием, и, таким образом, вопрос, бестолково поднятый, нимало не подвинется вперед, а напротив, еще более запутается, произведет немалую тревогу и скомпрометирует великую княгиню. По моему мнению, прежде чем к чему-нибудь приступать, надо, чтобы государь понял сам, в чем дело, и решился бы на что-нибудь положительное, и за сим представил бы кому-нибудь разработку вопроса и приготовление ряда законодательных мер в одном смысле и направлении. Надобно, чтобы по крайней мере все министры знали относительно этого вопроса мысли и желания государя и действовали бы в этом смысле. А теперь, напротив, что мы и видим: министр внутренних дел, до которого прямо и непосредственно касается это дело, решительно слышать не хочет об этом вопросе, министр юстиции также, министр государственных имуществ также, шеф жандармов также, может ли при такой обстановке быть сделано что-либо дельное..? Добро бы еще сам государь имел твердое убеждение и волю, тогда бы он смог заставить всех действовать к одной цели и направлять их, но этого нет. Одно поверхностное чтение какой-нибудь записки недостаточно для уяснения понятий, когда читающий не приготовлен ни воспитанием, ни образованием к пониманию вопросов общих, административных и тесно связанных с ходом всех дел внутреннего управления.
В одном долгом разговоре с великою княгинею я настоятельно уговаривал ее отложить до возвращения ее намерение подать записку; к тому времени, я полагал, многое переменится, и в особенности в личном составе и направлении духа, и способности нового правительства более определятся. Великая княгиня сказывала мне, что граф Киселев точно так же, как и я, уговаривал ее повременить, но, по-видимому, советы наши не подействовали, потому что записка подана, принята очень хорошо, но что из этого будет — неизвестно. Я убежден, что кончится ничем или вздором. Как административный прецедент я также не могу одобрить вмешательство великой княгини в это дело, хотя участие ее и прикрывается тем предлогом, что она, как помещица Полтавской губернии, намерена войти в договор и сделки со своими крестьянами, но тем не менее трудно отделить в лице ее звание помещицы от официального положения, ею занимаемого. Записку Самарина великий князь еще не прочел, но, вероятно, на днях прочтет, любопытно будет знать его образ мыслей по этому предмету, до сих пор он был весьма поверхностен по этому предмету, но по прочтении записки Самарина многое должно будет ему уясниться, потому что он в состоянии понять и вникнуть в глубь предложенного вопроса.
Теперь также в ходу другое весьма важное для России дело — это вопрос о железных дорогах. Завтра назначено по этому случаю экстренное заседание Комитета министров, в котором будет председательствовать сам царь. Ожидается борьба между несколькими иностранными компаниями, предлагающими свои услуги. По слухам, французская компания «Credit-Mobilier» более других находит поддержку в наших магнатах. Это еще не значит, чтобы предложения ее были самыми выгодными. Как бы то ни было, но, вероятно, на сих днях вопрос этот будет разрешен. По нашему ведомству продолжается порядочная неурядица по случаю совершенной неспособности барона Врангеля. Видимо, судьба преследует наш несчастный флот: всякий раз, как государь сядет на пароход, не проходит дело без каких-нибудь неприятностей.
На сих днях государь сделал смотр эскадры, отправлявшейся на Средиземное море. После осмотра, возвращаясь в Петергоф, на восточном рейде навалил на пароход военный крейсер и чуть-чуть не пустил весь пароход ко дну и, таким образом, чуть-чуть не утопил государя, великого князя и всю свиту. К счастью, пароход задет был боком, потерял мачту, трубу, кожухи, но остался на воде. Обломками ушиблены были военный министр Сухозанет в голову, а Грейг — адъютант великого князя — в ногу, один штурманный офицер был сброшен в воду и утонул. Такой плачевный финал смотра еще более усиливает предчувствие мое относительно отправленной так некстати и не вовремя эскадры. В материальном отношении новые винтовые суда и машины их мало испробованы, команды не выучены, команды неопытны, время позднее, бурное, все это невольно наводит сомнения в благополучном исходе экспедиции или в приходе ее к месту назначения. Само отправление эскадры в Средиземное море в то время, когда Франция и Англия, несмотря на наш протест, намерены бомбардировать Неаполь, вмешавшись самым незаконным и нахальным образом в дела внутреннего управления неаполитанского короля, не имеет, по моему мнению, никакого смысла. В случае не только войны, но просто несогласия с Францией и Англией — куда денется наша слабая эскадра? Балтийское море зимою закрыто, а других портов в Европе мы не имеем, в Черное море нас не пустят, и зачем соваться там, где легко можно получить безнаказанно оплеуху. Официальный предлог экспедиции тот, что будто бы приличие требует во время пребывания в Ницце вдовствующей императрицы иметь там эскадру и, кроме того, нужно дальними плаваниями образовать офицеров и команду. Но эти причины неосновательны, ибо императрица могла бы довольствоваться и одним пароходом, а команду учить можно было бы подождать до весны. Мне кажется, что великий князь настаивал на непременном отправлении в нынешнем году экспедиции для того, чтобы иметь самому предлог отправиться за границу, будто бы для осмотра эскадры. Все это как-то необдуманно и неутешительно.
16-го октября. В происходившем 9-го числа экстренном заседании Комитета министров под председательством государя окончательно решен вопрос о железных дорогах. Постройка их отдана французской компании, составленной из первейших капиталистов Европы. В течение 10-ти лет компания обязана устроить 4 тысячи верст железных дорог по следующим направлениям. 1) Из С.-Петербурга в Варшаву. Эта дорога была начата казною в царствование незабвенного, и как и при самом начале, так и теперь все единогласно признают ее не только бесполезной, но и вредной. Клейнмихель с незабвенным решили тогда это дело вдвоем, будто бы со стратегическими целями, и теперь в нее ухлопано уже 18 миллионов рублей серебром. Хотя и жаль бросить эти деньги, но, я думаю, все-таки лучше бы было это сделать, чем продолжать совершенно ненужную дорогу, которую следовало бы повести из Москвы. Компания всеми силами отнекивалась от этой дороги, но ее заставляют продолжать, и, по случаю согласия ее на это, ей дано преимущество перед прочими предложениями других компаний. За дорогу эта компания взяла 85 т. за версту, когда как за все прочие линии она взяла 65 т. за версту. 2) Из Москвы в Феодосию, не знаю хорошенько, через какие города — пойдет эта дорога. 3) Из Москвы в Нижний Новгород. 4) Из Орла, через Динабург в Либаву В первые 3 года компания обязана открыть езду на 300-х верстах, через 5 лет — на 1000 верст, а в последние 5 лет — на остальных 2000 верстах. Правительство гарантирует 5 % на 85 лет. Через 20 лет правительство имеет право выкупа. Не знаю, может ли кто с достоверностью определить то влияние, которое произведут у нас железные дороги. Очевидно, что влияние железных дорог будет огромное, но какие получатся непосредственные и прямые плоды их для внутреннего благосостояния, теперь, кажется, определить нельзя. Равномерно, мне кажется, будут ошибочны все, даже приблизительные, исчисления денежных выгод или невыгод для правительства от принятого им перед компанией обязательств.
Говорят, Чевкин в заседании Комитета говорил с большим увлечением и тактом и обнаружил много знания и добросовестного труда. Вообще есть сила, на которую я начинаю возлагать большие надежды, — это сила вещей, она неоспоримо начинает действовать, и ежели припомним обстоятельства, недавно происшедшие, то увидим, что она уже много сделала. Во-первых, положительно можно узнать, что изменилась атмосфера нашей общественной, или, лучше сказать, официальной жизни, люди начинают свободно дышать, уже это большой шаг к выздоровлению. Хотя еще дико кажется многим это отсутствие постоянного гнета, хотя еще правительство не составило себе плана и не определило образа действия в новом направлении, но, не менее того, важно то, что всеобщее окоченение начинает пропадать и как в отдельных лицах, так и в обществе начинает проявляться некоторое сознание. Что же касается правительства, то ему еще долго можно действовать отрицательно, занимаясь одною только отменой прежних распоряжений, или, как выразился Павлов в речи, произнесенной им на обеде по случаю милостивого манифеста, — отменить, просветить, возвратить — вот программа, которая далеко еще не исполнена. В журналах начинают появляться статьи, обличающие существенную перемену в цензуре, рядом с этими статьями печатаются в газетах статьи подлейшие по форме и содержанию, но они начинают возбуждать негодование, которое прежде не возбуждалось. Нельзя вливать вино ново в мехи ветхи, а потому к положительным действиям нельзя приступать, пока не сойдут со сцены прежние деятели, а на это нужно время. Может быть, даже хорошо, что в настоящую минуту нет ни одной замечательной личности, которая встала бы во главе каких-нибудь преобразований. Мы близко стоим к совершенностям и развлекаемся частностями, поэтому упускаем из виду общее, и я, может быть, в этом более других грешен. Отдельные факты часто смущают меня, и я готов прийти в отчаяние. Трудно сохранить мудрое спокойствие и не увлекаться современными вопросами, которые, отдельно взятые, вовсе не имеют значения, которое придаем им в своем воображении.
4-го декабря. Вот уже более полутора месяцев, как я ничего не писал, частью от лени, а главным образом потому, что не представлялся случай заметить что-либо замечательное. Я, признаюсь, ожидал, что в течение нынешней зимы примутся за дело сгоряча и станут заниматься вопросами, возбужденными нашими неудачами.
Но в этом я, кажется, решительно ошибся. Может быть, все к лучшему, сгоряча, может быть, наделали бы глупостей. Довольно того, что оттепель продолжается, Россия отходит от 30-летнего мороза, который сковал ее члены, Россия начинает пробуждаться. Без этого пробуждения ничего сделать невозможно, я в этом убежден и потому мирюсь с настоящим застоем дел в надежде, что для деятельности еще придет время. Двор только завтра переезжает из Царского <Села> в Петербург, там очень весело, по-видимому, живут и занимаются разными играми, более или менее невинными, с фрейлинами.
В это последнее время сошли с лица земли два важных сановника — князь Воронцов и граф Перовский. О смерти обоих поговорили дня два, написали несколько статеек в журналах, и засим вперед, вероятно, ни говорить, ни писать уже никто о них не будет. Кроме того, еще один министр, а именно Шереметев, ежели не умер, то по крайней мере после большого с ним паралича вряд ли возвратится к служебной деятельности. На место его назначают много кандидатов, более или менее возможных и невозможных.
При назначении Шереметева на должность министра государственных имуществ я не ожидал от него многого, но теперь полагаю, что ежели бы он продолжал несколько лет управлять министерством, то сделал бы более, чем я предполагал. Странно, что Шереметев, служивший долго в губерниях и Петербурге, знакомый близко с неустройствами всех наших управлений, не менее того, так был поражен расстройством и беспорядками принятого им министерства, что не мог прийти в себя. Этому министерству суждено, кажется, дойти действительно до крайних пределов безобразия, потому что продолжается уже почти полгода безначалие, теперь неизвестно, когда и как будет заменено назначением способного человека, который бы придумал какие-нибудь средства устроить порядок в этом хаосе. В Государственном совете толкуют уже в продолжение нескольких заседаний об уничтожении служебных разрядов, определяемых ныне по воспитанию. Некоторые видят в этих мерах желание отнять приманку, побуждающую ныне учиться в университетах и других высших учебных заведениях и потому считают эту меру вредной, полагая, что без этой приманки учиться не станут. Я не придаю никакой важности этому вопросу и не думаю, что уничтожение разрядов могло иметь влияние на число поступающих в университет студентов. Мера эта, отдельно взятая, не имеет смысла, она тесно связана с вопросом об уничтожении чинов. Она предложена графом Блудовым и очень на него похожа, ибо он вечно придумывает маленькие полушуточки.
Новый председатель Государственного совета, граф Орлов, остался тем, чем он был, т. е. лентяем, а после Парижских конференций, на которых хотя играл роль весьма невыгодную, но, не менее того, почитая себя примирителем Европы, мало интересуется делами внутреннего управления, которых, впрочем, хорошенько не понимает, а г-н Бутков умеет так хорошо облегчить ему всякий труд и уверяет, что он гений, что нельзя предположить, чтобы президентство Орлова дало бы Государственному совету какую-нибудь жизнь.
Отъезд великого князя за границу назначили 5-го числа, намерение его быть во Франции и посетить Париж не отложено, несмотря на конференции, которые скоро там откроются и на которых нас опять будут казнить без милосердия.
30-го декабря. По многим причинам запустил я свой дневник, главное — потому, что был очень занят. По случаю отъезда великого князя за границу, который совершился 25-го числа, в самый день Рождества, все дела сделались спешными, и в особенности смета на 1857 год замучила нас совсем. Министр финансов требует сокращения расходов, а они прибавляются, иначе и быть не может, если хотят держать флот, то нужны деньги, и деньги большие, иначе будет дешево да гнило, а потому лучше вовсе не держать флот. Даже и тех денег, которые теперь отпускают на флот, весьма недостаточно — я убежден, что никакого прока из этой экономии не будет. С другой стороны, финансы наши в таком жалком положении, что знающие люди предвидят страшную катастрофу, но так как подобные пророчества делались весьма часто и не сбывались, то поневоле думаешь, что не в деньгах сила, а в хорошей, толковой финансовой голове, найдись она, страх бы, может быть, уменьшился…
Как в самом деле сильна своим терпением должна быть Россия, когда Брок может безнаказанно и в продолжение стольких лет — и столь трудных лет — управлять ее финансами. Смешно то, что Брок, видя, что дело идет пока ладно, банкротства нет, бумажки еще не упали, начинает думать, что это спокойствие есть последствие его мудрых распоряжений. Другая причина, по которой я долго ничего не писал, — что ничего особенно замечательного не случилось, но для памяти следует записать некоторые события, особенно в конце года, чтобы не упустить из вида всех обстоятельств, при которых наступает Новый год.
Отъезд великого князя за границу до сих пор я считаю несвоевременным. В политическом отношении он может быть вреден, в Париже его, вероятно, встретят хорошо, и если возбудит энтузиазм, то англичане, конечно, со своей стороны будут противодействовать всякому тесному союзу России с Францией, и их эта поездка великого князя, конечно, раздражит. Наполеон сам будет поставлен в затруднительное положение. При всем своем желании быть любезным он не захочет компрометировать себя перед англичанами, тогда как мы еще не оправились после всех наших неудач и не можем быть для него надежными и полезными союзниками. Дело другое, ежели бы великий князь приехал в Париж в ту минуту, когда Англия, по каким-нибудь обстоятельствам, возбудила бы решительное негодование Франции и когда мы опять собрались бы с силами, тогда бы приезд великого князя мог бы сильно подействовать на общественное мнение во Франции и увлечь правительство… А теперь я уверен, что все дело кончится более или менее пышными праздниками, а может быть, даже и неучтивостями. В отношении же внутренней политики я продолжаю думать, что неприлично, немыслимо после постыдного мира гулять по Европе и оставлять Россию, когда в ней все кипит желанием выйти из своего позорного состояния и заняться, наконец, обновлением всего устаревшего и уничтожением всей обнаруженной мерзости. Какие бы доводы в пользу этого путешествия ни приводились, я все-таки остаюсь при убеждении, что, в сущности, настоящая побудительная причина есть желание погулять, показать себя французам и другие более или менее неполитические отношения и побуждения. Дай Бог, чтобы я был не прав.
Перед отъездом великий князь испросил у государя производство меня в действительные статские советники и объявил мне об этом производстве весьма милым и любезным письмом. Я никак не ожидал этой награды, и она досталась мне вне всякой очереди, ибо не прошло еще полгода после последней награды Владимирским крестом.
На другой день отъезда великого князя, т. е. 26-го числа, происходила закладка памятника покойному государю на площади между дворцом Марии Николаевны и Исаакиевским собором. Простительно сыну верить, что памятник этот вполне заслужен, но в поспешности исполнить влечение сердца может быть много неблагоразумного. К счастью, намерение поставить памятник отцу, над которым приговор истории еще не произнесен, есть только неприличие, но оно ничего другого не выражает, в нем нельзя видеть положительное одобрение или усвоение прежней системы и прежнего направления. Отсутствие такта замечено было всеми при выборе дня, на который была сперва назначена закладная памятника, — выбран был день 14-е декабря. Но потом отложено было до 26-го. Не знаю, кто уговорил переменить этот день, но, во всяком случае, как само назначение с первого дня показалось всем странным напоминанием события, во всех отношениях печального, так и отмена показалась или уступкою общему мнению, или необдуманностью. Барельефы на памятнике должны изображать 4 укрощенных мятежа, а именно:
1) 14 декабря. 2) Польское восстание. 3) Бунт в Сенной. 4) Венгерское восстание.
Выбор этих сюжетов также поражает всех. Настоящего смысла я добиться не мог, потому что все толкования остались мне непонятными. На бывших конференциях в Париже отрезали у нас Белград и взяли Змеиный остров, мы все уступили большинству голосов, которое предвидели, а потому настаивали на собрании конференции, чтобы приличным образом уступить то, что требовали Англия и Австрия. Для нас сделано только то снисхождение, что эту уступку назвали исправлением границ. Англичане за это обещают выйти из Черного моря, а Австрия — из княжеств[120], но срок ими положительно не определен. Думаю, что они опять найдут какой-нибудь предлог остаться.
Общее впечатление, с которым я провожаю старый и встречаю Новый год, очень трудно передать. Нельзя сказать, чтобы прошедший год не оставил о себе памяти, в политической нашей истории он оставил одну из самых позорных страниц — это подведенный итог целого тридцатилетия, для внутренней же истории он может служить введением — небогатый замечательными фактами или важными административными и законодательными мерами, он, однако, ярко отличается от предшествующих годов, так перед наступлением весны бывают дни хотя еще холодные, но с весенним запахом, предвестником наступающей оттепели. Свободнее дышала Россия в этот год, этого никак отрицать нельзя. В воздухе слышится другая жизнь, другое направление, окоченелые члены оживают, чувствуется благотворная теплота. Пошли нам теперь, Господь, достойного путеводителя и направь все решающие силы на благо — вот молитва, с которой мы должны встречать наступающий Новый год.
1857 год
16-го января. Совершенно неожиданно я все эти дни был заполнен работой, независимо от моих служебных обязанностей. Вот по какому случаю досталась мне эта работа. На сих днях завтракал я у великой княгини Екатерины Михайловны по случаю рождения ее мужа, и за завтраком рядом со мной сидел князь Василий Андреевич Долгоруков. Он обратился ко мне с вопросом о том, что делается у нас в министерстве, заговорили о кантонистах и об указе, их освобождающем, потом вдруг Долгоруков спросил меня: «Что, Вы тоже прогрессист?». Я отвечал ему, что не понимаю, в каком смысле он разумеет этот вопрос, тогда он мне сказал: «Ну, одним словом, что Вы также желаете эмансипации». Я отвечал, что желаю и уверен, что все этого желают, но что этим вопрос не разрешается, потому что недостаточно желать, а надо знать, как это возможно сделать. Тут началась у нас речь о том, как ничего вдруг сделать нельзя, что нужны перекидные искры и тому подобные общие места. Но я заметил, что Долгоруков повел речь об этом предмете недаром и что что-нибудь да под этим кроется. Я заметил ему, что во всяком случае весьма было бы полезно нашим государственным людям ознакомиться и изучить все стороны важного вопроса, и я спросил его, читал ли он некоторые записки, которые ходили по рукам, о мерах к освобождению крестьян. При этом я указал на записку Самарина, которая, по моему мнению, подробнее, шире и глубже излагает предмет и объясняет его. Он отвечал мне, что ничего не читал, и просил меня доставить ему записку Самарина. Я вызвался сам приехать к нему и прочитать те отрывки, которые особенно любопытны. Он с радостью принял мое предложение и назначил для сего день и час. Не знаю, говорил ли я прежде в своем дневнике о записке Самарина, она довольно велика, и я был уверен, что Долгоруков ее всю не прочтет, а ежели и начнет читать, то остановится на тех местах, которые слабее других и тем не выведет для себя никакого заключения. Поэтому я и вызвался сам читать, надеясь вместе с тем узнать и причину, почему Долгоруков заинтересовался этим вопросом. В назначенный день, в 9 часов утра, я явился к Долгорукову с рукописью; он ожидал меня, и мы расположились читать. Я вкратце, на словах, передал общую мысль автора, потом прочел некоторые отрывки. Среди чтения доложили о приезде Позена — меня предупредил Долгоруков, что он будет. Оказывается, что Позен приехал сюда с разными проектами и, между прочим, с проектом освобождения крестьян. Этот проект им был составлен ежели не по приказанию, то с ведома государя, а потому и представлен был государю, и сам Позен имел по этому случаю аудиенцию. Вследствие сего государь назначил Комитет, под своим председательством, из нескольких лиц, в нем, кроме Долгорукова, сидят: Блудов, Гагарин, Корф, Чевкин, Сухозанет, Ланской и, кажется, Брок. Все это делается под величайшим секретом, и Долгоруков ничего этого прямо мне не объявлял, но я узнал частью догадкой, частью от других. В этом Комитете должен был разбираться проект Позена, и вообще должна была быть речь о том, как приступить к эмансипации и нужна ли она. Позен, зная почти наизусть записку Самарина, очень хвалил ее, но о своем проекте говорил только намеками, так что я ничего хорошенько из слов его не понял, но, в общем, у меня осталось весьма невыгодное впечатление от этого господина, он больше говорил о финансах, о том, как теперь у нас финансы всему преграда, а что между тем нет ничего легче, как привести их в совершенный порядок. Мне постоянно казалось, что Позен смотрит на вопрос крепостной как на дверь в министерство, полагая, что этим вопросом он скорее заинтересует и его призовут исполнять придуманные им финансовые меры, связанные с этим вопросом. При общем нашем по этому вопросу разговоре я нашел то, что ожидал, т. е. что Долгоруков не смыслит в этом вопросе ровно ничего и что ему хочется схватить какие-нибудь верхушки, чтобы уметь что-нибудь сказать в Комитете. Он, видимо, не партизан[121] этого вопроса, но вынужден иметь мнение в пользу его. Я старался объяснить ему, как важно изучить этот вопрос во всех отношениях и как невозможно ожидать, чтобы люди непрактические и несведущие могли бы что-нибудь придумать дельное к его разрешению. Но что откладывать этот вопрос надолго невозможно, но всего хуже неопределенность желания правительства, она всех беспокоит и вреднее всяких крутых мер. Долгоруков просил меня оставить эту записку Самарина для прочтения, что я и сделал.
Два дня спустя после этой конференции был я опять у Долгорукова, и он стал просить меня, чтобы я сделал ему экстракт из двух записок — Самарина и Позена, чтобы при этом объяснить, в чем мнения этих господ сходятся и в чем расходятся, и при этом наложил бы также свое заключение. Для исполнения сего Долгоруков дал мне записку Позена. Воротясь, я принялся за работу довольно трудную, потому что надо было изложить довольно кратко и так ясно, чтобы и неученый человек мог бы понять. Прочитав записку Позена, я удивился ее неосновательности и еще раз убедился в том, что Позен несерьезно занимался этим вопросом, что предложенные им меры, связанные с финансовым вопросом, казались ему потому хорошими, что никто, конечно, кроме него, не взялся бы приводить их в исполнение, да и сам он, конечно, ежели бы сделался министром финансов, отказался бы от своего проекта. Здесь не могу я подробно описать, в чем, собственно, заключается мнение Позена и в каком виде я изложил Долгорукову свои соображения. Скажу только, что я в заключение напирал на необходимость вызвать сюда, в С.-Петербург, тех помещиков, которые, подобно Самарину, занимались крепостным вопросом, и им поручить разработку тех приготовительных мер, на необходимость которых все указывают единогласно. По окончании этой разработки пусть каждая мера пройдет законодательным порядком через все установленные для сего инстанции, но что поручать чиновникам — какому-нибудь Буткову или 2-му Отделению[122] — составление законов с целью приготовительными мерами дойти до изменения крепостного права есть величайшая глупость и положительный вред. Я доказывал также, что Комитет под председательством государя может и должен решить только один вопрос, а именно: «время ли теперь приступать к какому-нибудь действию и, хотя косвенно, касаться крепостного права или нет». Засим, ежели Комитет решит, что время, — то действовать последовательно и поручить дело людям сведущим, а не департаментским чиновникам. Долгоруков уверял меня, что совершенно со мною согласен, но что призыв в Петербург Самарина и других лиц возбудит говор и набат в гостиных. «Ежели Вы этого боитесь, — отвечал я, — в таком случае, ради Бога, не начинайте ничего и не касайтесь вопроса — значит, время еще не пришло, ибо, ежели Вы будете бояться разговоров в петербургских салонах и, под впечатлением этих разговоров, будете делать шаг вперед и два назад, то это будет просто беда». Долгоруков обещал мне, по миновении надобности, возвратить мою записку, я не успел оставить у себя копии, а писал прямо набело, очень хотелось бы сохранить эту записку на память.
Несмотря на весь секрет, о существовании Комитета знают весьма многие. По-видимому, государь твердо желает что-нибудь сделать, кто поддерживал его в этом желании — неизвестно и непонятно, потому что из окружающих его нет, кажется, никого, кто бы серьезно занимался этим делом. Как будто бы нарочно для утверждения государя в мыслях, что надо что-нибудь сделать, случилось здесь, на сих днях, довольно замечательное происшествие. Вышел указ, разъясняющий канцелярский порядок относительно записи в Книгу Гражданских палат актов об увольнении крестьян в звание свободных хлебопашцев. Указ этот, как водится, был напечатан, но редакция его довольно непонятна, и главное — не видно повода, по которому он издан, так что читатель, не зная, в чем дело, действительно может толковать его, как хочет. Народ каким-то путем проведал, что есть и вышел новый закон о свободе, в один день было куплено в Сенатской лавке 600 экземпляров, и на другой день опять собралось много людей перед лавкой, лавку закрыли, народ разошелся, но не разуверенный в том, что действительно есть указ о свободе. Этот случай, как и все подобные, свидетельствует только то одно, что народ продолжает жить и надеяться и что благоразумие требует ему уступить заблаговременно, но в той мере, в какой это возможно сделать добровольно. Очень смешно, что история этого несчастного указа обрушилась на директора Сенатской типографии, которого Панин, как второй Шемяка[123], признал виновным в том, что он напечатал указ, на котором сам Панин собственноручно написал: «Обнародовать». Впрочем, я вполне убежден, что из существующего Комитета опять ровно ничего не выйдет. Люди, в нем сидящие, почти все, без исключения, ровно ничего не понимают в этом деле, а изучать вопрос серьезно им лень, да и некогда. Долгорукий, например, очень серьезно доказывал мне, что ему некогда заняться, потому что сегодня там бал, завтра обед и проч. и проч…
Боже мой, как поближе посмотришь на этих государственных людей, то убедишься, что воображение бессильно представить все их ничтожество. Когда все это сообразишь, то убедишься, что не время подымать теперь какие-нибудь вопросы, невозможно представить, например, чтобы Ланской мог быть министром внутренних дел. Ну что с ним сделаешь… Ну где же ему думать и заниматься чем-нибудь дельным, это просто невозможно. Поэтому, действительно, ежели бы меня спросили по совести, следует ли теперь, при такой обстановке, поднимать вопросы даже второстепенной важности, я бы отвечал: «Нет, нельзя».
27-го января. Предчувствие мое оправдалось: все дело по возбужденному вопросу о крестьянах передано Буткову — это значит, вопрос похоронили. Бутков есть не государственный секретарь, а государственный гробовщик, вся его деятельность состоит в изготовлении более или менее красивых гробов для похорон всяких государственных мер и вопросов. Он исполняет в этом отношении обязанность свою с невозмутимым хладнокровием и спокойствием. Много на своем веку он схоронил важных и полезных мыслей, хорошо, ежели еще совсем похоронит, а то закопает в землю самую сущность дела, а частичку его пустит на белый свет, и от нее смердит надолго. Впрочем, я рад, что это дело ничем не кончилось, ибо более чем когда-либо убежден, что не вышло <бы> никакого толку, ежели бы продолжали заниматься этим вопросом, как начали. Дай Бог, чтобы все эти неловкие попытки остались бы без вредных последствий. На сих днях также внесен был Блудовым проект закона о неделимости имений свыше 100 душ, и этот проект также похоронили под самым нелепым предлогом. Нет, не наступило еще время для действий положительных, и когда-то наступит… неизвестно, и выждут ли события постепенного обращения нашего… Не дай Бог, чтобы вопросы воскресли сами собой и не застали бы нас врасплох.
Сегодня напечатан в газетах указ о железных дорогах — с нынешнего года приступит иностранная компания к работе, через 10 лет все линии должны быть готовы. Не мешало бы подумать о всех последствиях железных дорог и приготовиться к ним. Может ли страна, в которой будет 4 тысячи верст железных дорог в управлении министров, подобных Ланскому, Броку, Норову, Панину, Шереметеву и проч… быть спокойной…
Сегодня в «Инвалиде»[124] напечатан рассказ об обеде, данном Ростовцеву, в честь 25-летнего юбилея его службы при военно-учебных заведениях, за обедом говорились речи, и, кроме того, напечатаны несколько писем камер-пажей к Ростовцеву с изъявлением невозможных чувствований. В речи профессора Шульгина, между прочим, помянуто, что Ростовцев был исполнителем царского слова и при этом сказано: «И слово плоть бысть и вселися в ны» — он, значит, полупьяный Шульгин, проповедует второе воплощение в лице Ростовцева, а камер-пажи написали на французском и русском, в стихах и в прозе, такие подлости, с таким непомерным цинизмом, что невольно публикация всех этих писем возбуждает негодование самых кротких людей. Конечно, правительство не может запретить никому подличать на словах, но в печати оно не должно этого допускать, ибо это оскорбляет чувство приличия. Так точно непотребные дамы терпимы правительством, но, не менее того, не дозволяют публичного разврата на улицах. Можно ли ожидать, чтобы молодые люди 17–18 лет, которые написали подобные письма, в которых нескрытая ложь соединяется с циничною подлостью, можно ли ожидать, чтобы несколько месяцев спустя эти молодые люди, надев эполеты, сделаются благородными людьми и верными слугами царя и Отечества..? Молодой человек, решившийся на публичную подлость, без сомнения, не устыдится быть явным вором и взяточником. Грустно то, что эти факты немногих поражают, к несчастью, общество уже привыкло к официальной лжи и не выражает никакого негодования.
2-го февраля. Вчера я получил из Москвы печальное известие, что Хомяков отчаянно болен, у него воспаление, и он, как закоренелый гомеопат, не хочет лечиться. К тому же он видел сон, что сегодня, т. е. 2-го февраля, во время всенощной, он должен умереть, и совершенно приготовился к смерти. Это известие очень меня опечалило. Провидению угодно отнимать у нас одного за другим всех передовых мыслителей и людей с душою и талантами. В течение нескольких месяцев мы лишились двух братьев Киреевских, а теперь, быть может, и Хомякова нет на свете. В последний раз, когда я видел Хомякова, я, шутя говоря о его стихах, сказал, что, читая их, мне сделалось за него страшно, ибо мне показалось, что он каким-то чудом еще уцелел, когда все люди с естественным талантом у нас выбыли. Видно, мое опасение было справедливо.
10-го (18-го???) февраля. Опасения мои не оправдались, Хомякову лучше, и, говорят, он вне опасности. Слава Богу.
28-го февраля. Я на сих днях вернулся из деревни, куда ездил по хозяйственным делам. В Москве я застал последний день масленицы, пробыл сутки и, боясь постоянной оттепели, спешил добраться до места на санях. Поэтому я в Калуге пробыл только несколько часов. В деревне я нашел все, благодаря Богу в порядке, новый мой управляющий, кажется, будет понимать дело, народ им доволен.
Пользуясь соседством Оптиной Пустыни, я там говел и исповедовался у отца Макария, который весьма замечательный человек и имеет не только в околотке, но и в дальних местах России большое влияние. К нему пишут из всех губерний разные лица и просят у него духовных назиданий. В этот раз я ближе с ним познакомился и понимаю теперь, в чем состоит сила его проповеди. Он далеко не красноречив и не имеет ничего особенно привлекательного, но сила его убеждения так велика, что почти магнетически действует на слушателей. Самые простые вещи, или так называемые общие места, получают в его устах особенную силу. То, что мы привыкли принимать за риторические фразы и фигуральные изображения мысли, в словах его отзывается чистой правдой. Например, после причастия я пил у него в келий чай, и он при этом стал мне говорить, какой ныне счастливый день, как много нынче приобщилось к Христу и как должны сегодня ангелы радоваться на небесах. Он говорил эти слова просто, но слышно было в его голосе и видно было в его глазах, что он действительно как бы сам созерцает и видит радующихся ангелов и самого Христа. Я вовсе не был в таком духовном настроении, чтобы отнести на счет моего воображения то впечатление, которое испытывал.
Проездом через Калугу я остановился там на сутки и по этому случаю, ближе познакомился с братом княгини Натальи Петровны Евгением Петровичем Оболенским, недавно прибывшим на жительство в Калугу из Сибири вследствие милостивого манифеста о несчастных 14-го декабря. Я прежде много слышал о нем хорошего, о его уме и душевных качествах, мне весьма любопытно было познакомиться с одним из самых ретивых участников во всей печальной истории того времени. Впечатление, произведенное на меня Евгением Петровичем, самое приятное. Я нашел в нем гораздо более хорошего, чем ожидал найти, его личность дала мне довольно верное понятие о людях того времени, об их стремлении и направлении, а рассказы Евгения Петровича представили мне все прошедшее в новом свете, гораздо более правдивом, чем как мы привыкли слышать из других источников. В сущности, печальная история 14-го декабря не имела почти ничего общего с теми тайными обществами, которые составлялись задолго заранее этого дня; почти случайно мирный характер этих обществ изменился в составе своем, и в начале цель и стремление общества были так благородны, что нельзя было им не сочувствовать. Из всех отдельных личностей, по-видимому, была личность Рылеева, с которым Евгений Петрович был в самых дружеских отношениях и о котором он, в виде воспоминаний, написал несколько трогательных и чрезвычайно любопытных страниц, в которых, между прочим, приписывает стихи Рылеева, написанные им в крепости, в виде послания к нему, Оболенскому. Также рассказаны последние минуты Рылеева и прекрасно изображено то духовное настроение, в котором Рылеев находился перед своей смертью. Он умер совершенным христианином-мучеником, я не мог без слез читать этот простой рассказ. Постараюсь со временем достать с него копию. В Петербурге я незадолго перед сим познакомился с другим товарищем Оболенского — И. И. Пущиным и нашел, что между ними очень много общего. Они поражают живостью, молодостью своих ощущений, горячим сочувствием ко всему хорошему и благородному и какой-то особенной душевной трезвостью. Постигшее их несчастье застигло их молодыми, полными жизни, энергии и любви к добру. Все эти качества в людях, живущих среди общества, с годами сглаживаются, изменяются от впечатлений, ежедневно принимаемых невольно от общества. Они же, со времени их молодости, были удалены от общества и сохранились, как бы в безвоздушном пространстве, целы и невредимы, достигнув вместе с тем почти старческого возраста, и это невольно поражает нас, не привыкших в стариках встречать таких живых ощущений и благородных порывов. Судя по этим остаткам и представителям прежнего времени, нельзя не сознаться, что современное общество в нравственном отношении далеко пошло назад. В Калуге, как вообще теперь во всех провинциальных городах, много толкуют об эмансипации, самые пошлые и нелепые слухи повторяются — частью от безделья и частью от невежества. Впрочем, в Петербурге и в Москве разговоры по этому вопросу не менее нелепы. Правительству приписывают разные намерения, везде критикуют, ругают и приписывают небывалые распоряжения. Одни боятся, другие просто врут, сами не зная, чего желать, одним словом, понятия нашего общества до такой степени неразвиты, что никакой мудрец не выведет по оным никакого заключения. Не знаю, как в других местностях, но в Калуге народ совершенно спокоен. В Москве на обратном пути пробыл двое суток. В день возвращения в Петербург я подавился костью и жестоко страдал, но, к счастью, кость была невелика и сама прошла, хотя и опускали мне в горло зонд; вся мучительная боль происходила оттого, что она поцарапала пищеприемный канал.
15-го марта. На днях начались выборы дворянства, говорили, что ямбургское дворянство хотело предложить на выборах что-то вроде инвентарей, но ему запретили. Кроме того, один из депутатов дворянства, которому было поручено обозрение по земским повинностям, прочел в собрании какую-то, говорят, весьма дельную и славную записку о неправильности взимания и распределения и расходов земских повинностей. Все дворянство одобрило содержание записки и положило — раздать копии по уездам, чтобы подробнее обсудить предложенные меры. На другой день, когда копии были розданы, губернский предводитель пришел их отбирать, ссылаясь на приказание, будто бы, государя. Начались споры, и, наконец, копии опять возвратили, одним словом, вышла преглупая и пренеприличная история, и все это оттого, что распоряжающееся начальство само не знает, что можно и чего допустить нельзя, и компрометирует себя совершенно напрасно. В заключение генерал-губернатор, закрывая собрание, в речи к дворянству как-то, говорят, весьма неприлично сделал замечание дворянству, что оно судило и занималось вопросами, до него не касающимися. Разумеется, никто не возражал, и вся глупая история не имела никаких последствий, но зачем же делать совершенно напрасные промахи и глупости?
Еще одно происшествие делает теперь много шума. В Нижегородской губернии крестьяне г-на Рахманова проданы были помещиком г-ну Полякову. Когда стали сего последнего вводить во владение, то крестьяне объявили, что они не могли быть проданы, потому что помещик клялся им, что их не продаст, а они говорят, что крестьяне даже внесли Рахманову деньги, чтобы он их не продавал. Не приступая вовсе к каким-нибудь беспорядкам, крестьяне объявили, что будут продолжать платить оброк и что пошлют к барину ходоков; началось дело, завязалась переписка, а между тем Поляков в Петербурге объявил жандармам, что его крестьяне бунтуют и не признают его. Государь послал флигель-адъютанта Эльстона для усмирения этого небывалого бунта. Тот, прискакав на место, ничего хорошенько не разобрав, стал пороть и порол до тех пор, пока все <не> закричали, что они принадлежат Полякову, тогда Эльстон захватил 12 человек, которых считал, неизвестно почему, виновнее других, — так как он следствия не производил, то и знать этого не мог. Захваченных людей привез в город, посадил в острог и написал губернатору, что таких-то сослать в Сибирь, а таких-то — в арестантские роты, а сам уехал. Прибыв в Петербург героем, донес, что он бунт усмирил, получил от государя благодарность и Владимира на шею. Между тем губернатор вошел к министру внутренних дел с представлением, что по закону определить в ссылку более 9-ти человек может только Сенат, а потому — что делать с распоряжением флигель-адъютанта. Государь приказал передать все дело в Сенат, а дела, оказывается, никакого и нет, и все распоряжение Эльстона не только незаконно, но и совершенно не нужно, ибо, в сущности, бунта никакого и не было. Не знаю, чем Сенат все это кончит. Вероятно, граф Панин придумает какой-нибудь подлый исход. Но, как бы то ни было, общество сильно негодует на жестокость Эльстона, и его бранят везде. Этот урок принесет пользу и заставит господ флигель-адъютантов хотя бы чего-нибудь опасаться. Эта манера рассылать флигель-адъютантов и употреблять их в делах, в которых они ровно ничего не понимают, производит много вреда. Нарушение всякого законного порядка в делах, не выходящих из круга обыкновенных, парализует окончательно власть местного управления. Привычка действовать во всем мимо установленных законом учреждений обличает недоверие к ним, а между тем ничего не делается, чтобы улучшить эти учреждения. Каждая посылка флигель-адъютанта есть отмена половины действующих законов, так что можно сказать, что флигель- или генерал-адъютант есть не что иное, как анархия в аксельбантах. Разумеется, все это делается по неведению. Государю так мало и смутно знакомы наши местные учреждения и их обязанности, что он почти не признает их существования и не считает возможным иными путями узнавать правду или действовать. Между тем эти гг. флигель- и генерал-адъютанты так мало подготовлены к возлагаемым на них обязанностям, что невольно на каждом шагу делают промахи и вздор. Во всем виновны те лица, которые при докладах не объясняют все последствия и значение подобных распоряжений. Во Владимирскую губернию, где также произошло какое-то недоразумение между крестьянами, послан был флигель-адъютант Столыпин. Этот, напротив, повел дело совершенно иначе, обвинил кругом помещика и дворянских предводителей, и, по его донесению, также без суда и следствия, сделано распоряжение. В Пензенскую губернию, тоже по какому-то нелепому доносу, послали флигель-адъютанта Потапова, который и теперь еще там и, как слышно, не может никак отыскать, где бунтуют, никто из местных властей об этом ничего не знает. Все это доказывает, что наши правители находятся под каким-то безотчетным страхом и думают посредством командированных адъютантов предупреждать волнения. Этот страх главным образом происходит оттого, что много толкуют об эмансипации, а учрежденный для этого вопроса Комитет ничего придумать не может, да и не хочет. Государь опять повторил представлявшимся ему предводителям ту же фразу, которую сказал в прошедшем году, а именно, что он желает, чтобы разрешение этого вопроса последовало бы сверху, а не снизу. Неопределенность этих слов ставит всех в тупик и обличает отсутствие ясного сознания. Я давно уже не видал князя Долгорукова и не знаю хорошенько, что делается в этом Комитете, да, признаюсь, и знать об этом не любопытен, ибо заранее уверен, что никакого толку из всего этого не выйдет. Сюда приезжали почти все представители лучших проектов, как то: Самарин, Киселев, Тарновский и др., все они имели свидание с Ланским, Долгоруковым и др., и все они уехали, махнув рукой, с полным убеждением, что проповедуют в пустыне. К действительному участию в разработке вопроса они не приглашены, несмотря на то что Долгоруков уверял меня, вследствие поданной моей записки, о которой я говорил выше, что это непременно так будет. Эти господа консерваторы берут на себя сильную ответственность перед потомством. Qui vivera — verrà![125]
23-го марта. Теперь все правительственные головы заняты и озабочены страшным состоянием наших финансов и постоянным ежегодным дефицитом в 70 миллионов. Обыкновенно эта финансовая паника овладевает нашими финансовыми людьми вследствие какой-нибудь записки; так, в прошлом году Тенгоборгский подавал записку, которая несколько недель наделала много шума, а потом перестали говорить и ухлопали 9 миллионов рублей на коронацию. Так и теперь поданная Гурьевым записка произвела всю эту тревогу, но на этот раз за это дело горячо принялся князь Горчаков — министр иностранных дел, и, кажется, он решился сильно говорить государю о необходимости сокращения расходов и улучшения наших финансов.
Об этой панике узнал я от князя Горчакова — наместника Царства Польского, недавно сюда прибывшего. Он долго, с жаром доказывал мне о необходимости убавить наполовину расходы на флот. На другой день был у меня военный министр Сухозанет и тоже сильно убеждал меня сократить нашу смету и утверждал, что и он будет сокращать, и министр двора тоже должен будет сократить. Я прямо сказал и Сухозанету, и Горчакову, что не в смете сила, смета есть бумага, она все терпит, пожалуй, ее можно переписать и убавить, сколько угодно, вся сила в возможности безотчетно приказывать производить расходы, лучше бы они об этом подумали. Министр двора, пожалуй, убавит свою смету, а вдруг императрица решит отправиться на луну и поедет, и деньги ей дадут, вот вам и смета. Точно так же и в нашем управлении, пожалуй, смету убавят, а расходы будут делаться по высочайшему повелению, и мы под конец года донесем, что у нас дефицит, и Казначейство обязано будет его пополнить. Как бы то ни было, из слов и Горчакова, и Сухозанета я понял, что на смету Морского министерства, хотя она уже утверждена и мы по ней действуем, будут нападки. Я решился довести это до сведения великого князя и в письме Головнину подробно рассказал, в чем дело. При этом я объяснил, что готов защищать перед кем угодно, что при настоящем составе флота не только невозможно сократить смету, но еще вряд ли мы обойдемся без передержки. Но, разбирая вопрос с другой точки зрения, нельзя не согласиться, что весь парусный наш флот никуда не годится и держать его — значит даром бросать деньги. Нам нужно создать флот паровой, а поправлять старый невозможно; по мере постройки судов можно прибавлять и команды, а держать три дивизии, в то время как годных судов не наберется и на одну дивизию, есть вздор. Вчера я узнал, что тот же курьер, который провез мое письмо, повез также письмо князя Горчакова, министра, к великому князю, в котором он, говорят, весьма сильно изображает картину нашего финансового неустройства и умоляет согласиться на сокращение флота. Говорят, это письмо было читано и одобрено государем. Любопытно, что из этого выйдет.
6-го апреля. Сегодня получил я письмо от Головнина, в котором он извещает, что вместе с письмом моим получил он приказание сократить смету и что великий князь согласился на героические средства, приказав остановить в нынешнем году вооружение всех парусных судов в Средиземном море. Кроме сего, приказал сделать соображение о расформировании всех экипажей, к которым не приписаны винтовые суда, что составляет более половины флота. Кроме сего, великий князь отказывается от своего содержания по званию управляющего министерством, приказал убавить расходы по своему дому и продать лошадей и проч. и проч… Видно, действительно, письмо Горчакова было сильно написано и произвело сильный эффект. Итак, желание мое тоже осуществляется, более чем я предполагал. Но ломка у нас пойдет во флоте страшная и неудовольствий, конечно, будет много. Великий князь думает, что вследствие отданных им приказаний смета сократится на 5 миллионов. Я не думаю, чтобы в нынешнем году мы могли бы представить и половину этой суммы, ибо все заготовления уже сделаны и четверть года уже прошла. Князь Михаил Дмитриевич изумлен был, когда я объявил ему эту новость. Сегодня, или, лучше сказать, завтра, на заутрене во дворце, вероятно, что-нибудь еще узнаю.
7-го апреля. Сегодня, по случаю светлого праздника, никаких особенных наград и новостей не было. Только объявлено назначение Катенина оренбургским военным генерал-губернатором. Сегодня я узнал, что нападки на Брока до того усилились, что он решился у государя просить увольнения, но его удерживают за неимением лучшего, и действительно, в этой среде, в которой ищут, не найдут министра финансов. Как не обратиться, наконец, к людям специальным, на практике уже доказавшим свое знание в финансовых оборотах! Говорят, предлагали Меншикову — вот нашли министра финансов… Я забыл, кажется, упомянуть о смерти Тенгоборгского, перешедшего на днях в вечность, к величайшей радости московских фабрикантов, которых он уничтожил тарифом, и к немалому удовольствию, кажется, большинства русских людей.
12-го апреля. Я теперь очень занят составлением расчетов по случаю сокращения флота. К 17-му апреля обещают много новостей. Между прочим, положительно верно, что Михаил Николаевич Муравьев делается министром государственных имуществ вместо Шереметева, с сохранением Департамента уделов и Межевой канцелярии. Итак, этот господин, которому до сих пор не хотели поручать ни одного министерства, разом делается главным начальником целых 3-х управлений. Непонятно, как могло совершиться это назначение. Киселев, уезжая, просил только об одном государя, чтобы Муравьев не был назначен на его место, и государь не только согласился, но и высказал, говорят, свое невыгодное мнение о Муравьеве. Назначение это осуждается многими, хотя я мало с ним знаком, но так же чувствую к нему неприязненное чувство. Не думаю, чтобы он сделал что-нибудь полезное, хотя ломка старого управления будет, вероятно, большая. Мне жаль Хрущова, который, вероятно, не останется товарищем министра. Страшный холод стоит на дворе, весна обратилась в зиму, хотя снег весь сошел и реки прошли. Это может иметь самое гибельное влияние на урожай. Сохрани Бог.
19-го апреля. Из обещанных к 17-му числу новостей оправдалось только назначение Муравьева и назначение Васильчикова директором Канцелярии военного министра. Ему предлагали быть товарищем министра, но он отказался. Впрочем, все, кажется, остаются при своих местах. На сих днях Муравьев пригласил к себе Хрущова и объявил ему о своем назначении, причем также весьма положительно сказал, что он всегда находил и теперь находит систему управления государственными имуществами совершенно ложною, а потому будет всеми силами стараться изменить ее и принять начало управления Удельным ведомством. Хрущов после этих слов объявил, что в таком случае он не может оставаться товарищем министра, ибо совершенно не согласен с ним в основных убеждениях, а потому просит довести до сведения государя причину, по которой он не желает более занимать место. Весь разговор, который по сему случаю происходил, был передан самим Хрущовым несколько дней спустя государю, который принял Хрущова с последним докладом весьма милостиво и вполне оценил благородный поступок Хрущова. Новая программа действий Муравьева есть совершенный пуф, и я уверен, что никаких существенных перемен в управлении Государственных имуществ не последует и дело все кончится тем, что Муравьев начнет переменять личности, назначая на места людей, ему близких и ничем не отличающихся от тех, которых сместил. Система эта, какая бы она ни была, утверждена верховною властью вследствие долгих прений и рассуждений. Теперь является один человек, который случайно делается министром, и говорит, что эта система ему не нравится и он хочет ее переменить. Все это как-то очень дико, и по всему видно, что не только обстоятельства, но и личности сильно начинаются путаться. Для обсуждения финансовых мер учрежден еще новый Комитет, но не думаю, чтобы это помогло. Князь Горчаков-Варшавский — сидит в этом Комитете и поражен, до какой степени наши сановники не привыкли и не умеют серьезно заниматься делом. Их равнодушие ко всему его удивляет, и он сам хотя горячится, но тоже из этого немного будет проку.
Великий князь вчера приехал в Париж, где для него изготовят ряд празднеств. Известия, получаемые им из России, быть может, настроят его на веселье, он не может не чувствовать, что пребывание его здесь могло бы быть теперь весьма полезно. Об этом ему, кажется, со всех сторон пишут.
Не только Морское ведомство, но и другие ждут его возвращения с нетерпением, от него ожидают нового, хорошего, энергического влияния. Не знаю, оправдает ли он эти ожидания. Ежели при его способностях и энергии он был <бы> достаточно подготовленным общим образованием к делу, много бы он мог принести теперь пользы. Но, к несчастью, кроме незнания, есть много других причин, препятствующих ему иметь влияние, которое он мог бы иметь. Дай Бог, чтобы неуместность его теперешнего путешествия оправдалась бы по крайней мере пользой и чтобы изучение или даже беглый взгляд на порядок и правильное устройство управления в других государствах уяснило бы его взгляд на вещи. С уменьшением флота круг деятельности его уменьшится, а потому ему будет более досуга заняться общими вопросами, касающимися до целого государства. Но для того, чтобы влияние его приносило пользу, необходимо, чтобы оно было постоянно, а для этого нужно много такта и умения обращаться с людьми, а этого у него нет. Порывами он готов на всякое дело, а постоянной, продолжительной деятельности и стремления к определенной цели я от него не ожидаю. Вся надежда на его действительно замечательные способности и хорошие начала, может быть, со временем при благоприятной обстановке из него выработается человек. Дай Бог.
22-го апреля. Носятся слухи, что Комитет, занимающийся вопросом крепостного права, готовит проект какой-то меры. Наперед можно сказать, что эта мера будет ни то ни се, в какой степени она подвинет вопрос — неизвестно, ибо при настоящем настроении умов нельзя определить заранее последствий каких-либо распоряжений правительства. Мы пришли к такому положению, что по необходимости разом поднимается множество важнейших вопросов и отложить разрешение их невозможно, а, между прочим, при настоящей обстановке всего правительственного организма нельзя предположить, чтобы правительство могло действовать разумно и последовательно. Уменьшение армии и флота, вынужденное расстройством финансов, оставляет без дела множество недовольных офицеров и чиновников и увеличивает число бездомных отставных солдат и бессрочно отпускных. Все это увеличивает опасения за общественное спокойствие в случае каких-либо неудачных мер, а, между прочим, бездействие правительства также может вызвать неудовольствие и беспорядки. Как все это разыграется, одному Богу известно.
Двор переехал в Царское Село. Императрица должна на днях родить и не скрывает своего предчувствия, преследующего ее, говорят, со дня коронации, во время которой корона упала с головы ее, она во время всей беременности была более обыкновенного слаба и теперь ожидает родов с большим страхом. Для нее выписан из Мюнхена акушер, которому платят баснословные деньги, как будто в России нельзя найти порядочного акушера. Сохрани Бог, если предчувствие императрицы сбудется, это будет величайшее бедствие, хотя она, по-видимому, не имеет никакого особенного положительного влияния, но, не менее того, присутствие ее приносит положительную пользу тем, что удерживает от многих глупостей и разврата. Без нее женские интриги будут играть весьма важную и пагубную роль. Княжна Долгорукая — фрейлина — пользуется и теперь особенным вниманием царя, но до сих пор это ограничивается более или менее платоническою любовью. Отношения эти, без сомнения, изменятся, ежели императрицы не станет, и тогда откроется обширное поприще всякой мерзости и дряни. Страшно подумать, что тогда будет.
25-го мая. Изъявленные мною опасения, к счастью, не оправдались, императрица благополучно родила в начале этого месяца, и все обстоит благополучно. Я ездил в Москву, провожал жену и детей и вернулся в Петербург один. Жена поехала в Оренбург на кумыс. В Москве нельзя не заметить некоторого движения, ежели не в обществе, то по крайней мере в литературном мире. Ослабление цензуры оживило деятельность ученых и литераторов. Явилась новая еженедельная газета «Молва» — орган славянофилов — и началась сильная полемика, выходящая, впрочем, даже из границ пристойности, между двумя враждебными направлениями: западным, органом которого «Русский вестник», и восточным, органом которого «Русская беседа». Как бы то ни было, не только университет, но и общество до некоторой степени принимает участие в этой полемике. В Петербурге, напротив того, с приближением лета еще более становится мертво. В Государственном совете рассмотрен новый тариф и прошел, как говорят, без изменений, ко вреду нашей внутренней промышленности. Один из депутатов московского купечества, вызванный в Петербург для дачи отзыва о новом тарифе, был глубоко убежден, что вернее всего защищать интересы промышленности деньгами, послал одному из производителей в Государственный совет взятку, за что был схвачен и посажен в III Отделение.
Великого князя ожидают в первых числах июня. По газетам судя, его очень хорошо приняли во Франции, и он, говорят, поражает всех своими способностями, знанием и деятельностью. Хотя он вовсе не намерен был ехать в Англию и хотя все путешествие во Францию было предпринято отчасти сделать аттенцию[126] французам, но, несмотря на это, он теперь в Англии, королева прислала его звать, и наши политики не могли отказать. В Москве, да и вообще везде, очень недовольны этой уступкой. Хотя и объясняют наши дипломаты, что будто бы великий князь делает только вежливость королеве как женщине, а что в Лондоне он не будет и английского флота не увидит, но все это не может быть принято с уважением русскими, которые не могут делать различия между королевой и Англией, а после тех мерзостей, которые англичане делали в последнюю войну и даже после окончания оной, всякий знак особой к ним приязни может быть лишь оказан в ущерб достоинству России. Удивительно, до какой степени дипломатическая фразеология затемняет всякое, и самое естественное, справедливое чувство. Я слышал князя Горчакова — министра иностранных дел, самыми цветистыми французскими фразами доказывающего, почему следовало великому князю сделать вежливость королеве английской. Фразы убивают в этих господах и совесть, и стыд, и всякий такт. Кроме того, они смотрят на всякий вопрос только с одной стороны, а именно: какой эффект произведет такое-то действие в Европе, но им даже на ум не приходит озаботиться или сообразить, как отзовется или поймется это действие в России. Поэтому наша дипломатия представляет нечто совершенно особенное, отрешенное от всякого соприкосновения с внутренним бытом государства. Она защищает большей частью какие-то отвлеченные интересы государства и, наоборот, жертвует почти всегда материальными его интересами в пользу какого-нибудь самого беспощадного принципа. Поэтому никого, например, не поражает откровенное признание министра иностранных дел, которое он делает иногда публично в обществе, и повторенное им несколько раз государю, что он, живя за границей, не имел случая ознакомиться подробно с внутренним управлением России и ее учреждениями и проч. и проч… Все это находят весьма естественным и не сомневаются, что Горчаков, не имея понятия о России, может быть прекрасным министром иностранных дел. Но спрашивается, возможен ли подобный факт где-нибудь, кроме России? Мог ли, например, быть терпим в Англии министр иностранных дел, который бы не знал Англии, или во Франции министр, незнакомый с Францией? Решился ли бы он в этом сознаться, не изъявив вместе с тем желания изучить ее? О, Боже мой, сколько нужно еще времени и какой страшный должен последовать переворот, чтобы заставить нас смотреть на вещи простыми глазами, а не сквозь призму французской фразеологии. Тот же Горчаков, сознающийся в совершенном незнании России и не желающий изучить ее, при мне называл себя великим патриотом — да какой черт в этом отвлеченном патриотизме? Надо заметить, что Горчаков в высшей степени честолюбив и при всяком случае рисуется своими достоинствами. Поэтому ежели бы он считал предосудительным не знать России, то он в этом бы, конечно, не сознался.
Немедленно по возвращении великого князя отправляются за границу государь, государыня, Михаил Николаевич и несколько царских детей; все это едет для сопровождения императрицы, которой будто бы необходимы воды. Это выдумал доктор, выписанный нарочно из неметчины. Вот тебе и экономия… Вот тебе и сокращение смет… Как согласовать эти противоположности, как объяснить подобные факты? Какое странное отвлечение интересов частных от общих, и это отвлечение делается бессознательно. Государство терпит крайнюю нужду в деньгах, банкротство висит на носу, и это не стесняет и не ограничивает издержек для собственных прихотей. Ежели бы государь сознавал единство своих интересов с интересами, общими всему государству, то, по природной своей доброте, он остановился бы и умерил бы расходы двора, простое чувство совести заставило бы его это сделать. Но нет, он просто не видит этой связи. Сокращают войско, уменьшают флот, останавливают все нужные государственные работы и в то же время строят новый дворец для Михаила Николаевича, когда два дворца, Аничков и Таврический, стоят пустыми, строят в Гатчине великолепную псарню, едут за границу и живут там с 4-мя дворами в разных местах. Что это за страшное ослепление… К чему оно нас приведет — одному Богу известно… Все дела теперь приостановились — только и толкуют о путешествии, «патриот» Горчаков также едет с царем, поэтому надо думать, что с этим путешествием сопряжены какие-нибудь политические цели. Но я им не верю. Не в таком мы сейчас положении, чтобы могли командовать, и словесные переговоры ни к чему не приведут. В газетах говорят о свидании с Наполеоном. К чему оно? И, во всяком случае, к добру не поведет, его не перехитришь… Относительно внутреннего управления — тот же застой и та же неподвижность. Странное дело, внутри государство, видимо, пробудилось, война разбудила сознание, ослабленный гнет обличает движение умов, в литературе и в обществе заметно стремление к деятельности, а правительство по-прежнему, или, может быть, более прежнего, спит непробудным сном, точно как будто бы все замерло, и не видишь исхода этому состоянию. Безнадежное чувство овладевает мною, и будущее представляется в самом жалком виде. Сохрани нас, Господь, от той пропасти, к которой мы стремимся.
5-го июня. На прошлой неделе в пятницу, т. е. 31-го мая, вечером, воротясь из Комитета, учрежденного при Военном министерстве по вопросу о школах для солдатских детей, в котором я членом, нашел я у себя телеграфическую депешу из Киля от контр-адмирала Глазенапа, который уведомляет Милютина, что великий князь накануне вечером на пароходе «Рюрик» ушел и приказал прислать директора Инспекторского департамента Краббе и меня к себе навстречу, на высоту Свеаборга. Вследствие этого приказания мы с Краббе на другой день отправились из Кронштадта на пароходе «Смелый» и в воскресение, 1-го июня, встретили великого князя на указанном месте. Я заранее чувствовал цель, для которой был призван: великому князю хотелось, прибывая в Петербург, уже знать некоторые подробности о том, что там делается и что в отсутствие его делалось. Я вовсе не был приготовлен к подобному экзамену, ибо за последнее время не следил за общим ходом дел, да и никого не видал, от кого бы мог получить достоверные сведения.
Великий князь принял нас, по обыкновению, весьма мило и ласково. Наши вещи перенесли на «Рюрик», и мы пошли в Кронштадт. Едва успел я переменить форму, т. е. из парадной надеть сюртук, как меня позвал великий князь и стал расспрашивать обо всем, я передавал ему все, что знал. Он сказал мне, что, судя по письмам моим и Головнина, полученным за границею, ему представлялись дела наши в каком-то безотрадном свете. Я объяснил ему, что это действительно так и есть и что воображение его не обманывает.
Воротясь из стран, где был свидетелем кипящей деятельности и жизни, он, конечно, не мог быть не поражен, когда на всякий почти его вопрос о том, что делается по такой-то части, я должен был отвечать, что или ничего не делается, или делается ничтожный вздор. Мы заговорили о морской части. Он сказал мне, что горько ему было соглашаться на уменьшение флота и что он смотрел на это как на самоубийство. Я заметил ему, что флот отдельно от других частей государства усовершенствоваться не может и что пока не будет порядка в управлении России, нельзя ожидать, чтобы флот существовал в том виде, в каком ему быть должно. Я указал ему на пример Франции, от успехов которой в морском деле он находится в изумлении, — с устройством вообще администрации улучшается у нее флот. Я намекал великому князю, что ему следовало бы вообще заняться общим делом, а флот придет сам собою. На эти слова он не возражал, видно было, что он далеко не уверен ни в своей власти, ни в пользе своего вмешательства в данное положение. По поводу предполагавшегося путешествия по России я сказал ему, что в народе говорят, будто бы распространился слух, что он поедет объявлять им вольную. По всей вероятности, путешествие по Франции великого князя не останется без пользы: он видел близко, как работают и как знают дело свое люди, которым вверено управление. Он сказал мне, что в особенности удивлен не тем силам, которыми Франция располагает на море в настоящую минуту, но тем, что она может выставить в случае надобности, — даже во всех самых малых портах, которые мы прежде считали ничтожными, огромнейшие склады запасов, заводы, верфи и проч… «Каждый из самых малых портов в пять раз обширнее Кронштадта, — сказал он, — и более снабжен всем необходимым для постройки и снабжения судов. Насмотревшись на эти богатства и огромные средства, действительно можно было впасть в отчаяние при виде Кронштадта с его пустыми магазинами, мелкою гаванью и ничтожными верфями». Несмотря на все это, великий князь, кажется, в хорошем расположении духа, хотя, видимо, устал от постоянных церемоний, представлений, обедов и проч… Весь вечер мы пели песни под звуки фортепьяно, а на другой день занялись после завтрака делом. Я прочел великому князю свои заключения на проект учреждения Морского министерства. В замечаниях этих я довольно резко и с особенною силою нападаю на мысль основную проекта и вообще на должность генерал-адмирала. Он возражал мне весьма основательно, и видно, что мысль проекта в нем совершенно созрела. Он объяснял мне, почему считает для флота у нас совершенно необходимой должность генерал-адмирала. Он убежден, что еще долго цари наши будут люди военные и в отношении этом специалисты. Отсюда он выводит необходимость иметь во флоте начальника с почти царскими правами. Вообще он говорил очень долго, основательно и умно. Со многими из моих предположений согласился. Его поразила ничтожность всех замечаний на проект, доставленных министрами и другими магнатами. Действительно, я прочитал все эти замечания: по ним можно судить о степени неспособности этих господ. Ежели бы задать ученикам в гимназии написать замечания, они бы это сделали толковее и дельнее. Граф Панин в особенности отличился. В проекте предположено генерал-адмиралу представлять ежегодно отчет государю через Государственный совет. И это делается, как сказано в объяснительной записке, с целью оградить от безотчетности и произвола главных начальников, над действиями коих у нас не существует настоящего контроля. На это граф Панин возражает, что произвола главных начальников быть не может, а содержание отчетов, предел власти министров и порядок их ответственности подробно определены в учреждении министров. Независимо от сего учреждено особенное, весьма подробное наблюдение за исполнением предписанных мер посредством всеподданнейших ведомств. Каково возражение… Каков взгляд министра юстиции… Я заметил великому князю, что большинство лиц, возражающих против рассмотрения отчетов в Совете, думают ему этим угодить, а потому пишут из подлости, а Суковкин — управляющий делами Комитета министров, следовательно, занимающий одну из самых важных должностей в государстве, прямо начистоту ответил, что он суждения никакого иметь не может, а остается в полном убеждении, что проект, будучи составлен под наблюдением великого князя, не может не соответствовать видам и намерениям правительства. Вот какого рода отзывы подаются письменно на проект, который можно было бы обдумать и изучить. Что же можно ожидать от сих господ при изустном обсуждении дела, которое докладывается в Государственном совете?
Навстречу великому князю в Кронштадт никто из царской фамилии не выехал. Братья — Николай и Михаил — были оба в Петергофе и не сочли приличным выехать навстречу старшему брату, а прислали только по телеграфу спросить, где его можно видеть. Такое забвение приличий могло бы быть знаменательным, ежели бы не уверенность, что оно происходит от невнимательности к своим поступкам и от неуважения к мнению общества. Царь, впрочем, приезжал в Петербург на пристань, но, не дождавшись приезда великого князя, вернулся обедать в Царское Село, куда приказал звать великого князя.
На сих днях царь с царицей и детьми уезжает за границу, и великий князь остается председателем Правительственного совета[127], состоящего из Орлова, Блудова и Сухозанета. Но важных дел в этом совете не будет обсуждаться, и, вообще, управление, ежели только это возможно, еще более заглохнет. Мало узнал я еще подробностей и анекдотов о пребывании великого князя за границей, и в особенности в Париже, и когда узнаю, запишу.
16-го июня. Перед отъездом за границу царь согласился на меру, на которую до сих пор тщетно его старались склонить, а именно на уменьшение гвардии. Говорят, это уменьшение будет довольно значительно.
Чтобы понять всю важность этой уступки со стороны царя, надо знать, как он и все члены царской фамилии смотрят на гвардию. Она, в глазах их, имеет значение единственной охраны и надежнейшего оплота власти. Это странное ослепление, или, лучше сказать, обольщение, особенно сильно было заметно в покойном государе. Он верил и хотел верить, что силен своею гвардией. Поэтому решился в своем завещании сказать сии неловкие слова: «Гвардия спасла Россию в 1825-м году». Какое странное невнимание к событиям… От кого же гвардия спасла Россию в 1825-м году.? От гвардии же, потому что одна гвардия бунтовала на площади, а народ почти не принимал никакого участия. Как бы то ни было, решение государя относительно убавки гвардии нельзя не признать явлением утешительным, лишь бы только при исполнении сей меры не последовало каких-либо распоряжений, уничтожающих всю пользу предполагаемого уменьшения.
Великий князь остался теперь председателем Правительственного комитета, но это не мешает ему жить большею частью в Кронштадте. По-видимому, он решительно не намерен ничем заниматься, кроме флота. Быть может, он не верит ни в пользу, ни в силу своего влияния, но несомненно и то, что он не умеет и по характеру своему не может поставить себя в то положение, при котором он мог бы получить значение. Различие в характерах и вкусах, несходство в понятиях, видимо, мешает двум братьям быть в тех отношениях, как бы им для блага России быть следовало. Это очень жаль. Холодность в отношениях их может, при удобном случае, в особенности при содействии людей, всегда готовых на мерзость, превратиться во вражду, и тогда это будет великим для России бедствием. Сохрани Бог. В особенности опасаюсь я бабьих сплетен. Великая княгиня Александра Иосифовна, по причине своего сумасшедшего характера, в явной вражде с императрицей и Марией Николаевной. Она наделает много вреда еще, я это предчувствую. Уже и теперь влияние ее на великого князя самое бедственное. Удивительно, право, как Провидение окружает у нас всякого способного человека такими обстоятельствами, которые превращают ни во что все его способности и достоинства.
12-го сентября. Давно я не писал ничего в этой книге, потому что был в разъездах. 16-го июня меня призвал великий князь и объявил, что командирует на следствие в Николаев, где, по доносу Бутакова, заведующего там морской частью, открылись будто бы большие злоупотребления по интендантству. Из донесений Бутакова явно было видно, что он писал сгоряча и под влиянием разных личностей. Бутаков требовал разных уполномочий, чтобы действовать, не стесняясь законом. Великий князь, также сгоряча, требовал от меня, чтобы я, не стесняясь формой, отправился бы истреблять мошенников, но я, предчувствуя и видя из самих донесений, что заводимые Бутаковым на разных лиц обвинения — совершенный вздор, настоятельно доказывал великому князю, что действовать сгоряча и произвольно в таких делах невозможно и что я как юрист никогда на это не соглашусь. Бывший по этому случаю разговор очень замечателен. За отсутствием государя, высочайшее повеление о командировке меня, жандармского полковника и чиновника от новороссийского генерал-губернатора объявлено правительственной комиссией, причем Блудов не мог не сделать величайшей глупости, посоветовав теперь же посадить всех прикосновенных, не обозначив, кого именно, и описать их имущество. Обе эти меры, совершенно ненужные и беззаконные, еще больше запутали дело. Я поехал с полным намерением действовать независимо от всяких влияний и произвести следствие по всем правилам науки. В чем состояло дело и как производил следствие, об этом писать некогда теперь, а для памяти я сохранил некоторые бумаги, объясняющие всю трудность добиться толку от людей, не имеющих никакого понятия о том, что такое закон и право. Я прожил в Николаеве почти полтора месяца, работал, как вол, но не чувствовал усталости, потому что был под влиянием восхитительного климата. Из Николаева я ездил в Севастополь и на южный берег. Севастополь произвел на меня необыкновенное впечатление. Груды камней свидетельствуют, что тут был город и что он пал, окровавленный кровью сотен людей. Остатки бастионов, лагерей и проч. еще живо напоминают обо всем и живо говорят воображению. Много сильных ощущений имел я там, в Севастополе, они не изгладятся из моей памяти, и я когда-нибудь на досуге запишу их. По возвращении из Николаева, в половине августа, я застал уже жену в Москве, возвратившуюся из Оренбурга, где пила кумыс и, благодаря Богу, оправилась. В Петербурге принят я был хорошо и представил дело в настоящем его виде. Вследствие моих донесений посылается в Николаев военно-судная комиссия, которая, конечно, оправдает многих, совершенно напрасно обвиненных. Государь опять уехал за границу и перед отъездом утвердил журнал Комитета об эмансипации[128], которым сильно этот вопрос двинут вперед. Теперь подготовляют проекты указов, которыми, с одной стороны, будут приглашены помещики вступать в обязательства со своими крестьянами, не стесняясь условиями, указанными в законах об обязанных крестьянах, а с другой — рядом ограничительных мер будут помещики к этому понуждены. Вообще это дело принимает, кажется, весьма серьезное направление. Что из этого выйдет — одному Богу известно. Мудрено предположить, чтобы все обошлось благополучно, а также нельзя думать, чтобы завязалась какая-нибудь серьезная кутерьма. Раскольнический вопрос также серьезно поднят в весьма либеральном смысле. Это также вопрос капитальный и вечевой.
Несмотря на интерес, возбуждаемый сими делами, я, прельщенный чудным климатом Крыма, решился ехать на зиму за границу с женой и старшими детьми и получил не только отпуск на шесть месяцев, но уже и паспорт у меня в кармане. Завтра еду в Москву, оттуда на несколько дней в деревню, а потом в Варшаву, откуда прямо в Париж, а на зиму, вероятно, в Ниццу. Впрочем, это еще не верно. Ежели лень меня не одолеет, то намерен продолжать дневник за границей, только в другой тетради, чтобы не таскать эту книгу с собой.
1858 год
26-го июля. Вот уже скоро год, как я ничего не писал в этой тетради. Я не брал ее за границу, а в течение этого времени совершилось так много замечательного, что пересказать, даже вкратце, все события очень трудно. Я выехал из России в начале октября прошедшего года из Варшавы, через Бреславль, Дрезден в Баден, где пробыл 2 дня для свидания с великой княгиней Еленой Павловной, а потом через Страсбург отправился в Париж и там жил 2 недели. В это время успел только поверхностно ознакомиться с городом и заняться немного судебной частью, думая на обратном пути пожить здесь подольше. Из Парижа через Марсель отправились мы в Ниццу, где думали расположиться на зимней квартире, но, пробыв 2 недели, решились отправиться зимовать в Рим. Там поселились вместе с графиней Протасовой. В конце января я нечаянно собрался в Иерусалим вместе с генералом Исаковым, старинным моим приятелем. Мы выехали с ним накануне карнавала сухим путем в Неаполь, там сели на пароход и отправились через Мессину в Мальту, в Александрию, а оттуда в Яффу и потом верхом в Иерусалим. Подробности пребывания моего в Иерусалиме вкратце записаны мною в записной книжке, на досуге я их приведу в порядок. В Иерусалиме и окрестностях, т. е. на Иордане, Иерихоне, Мертвом море, Вифлееме, пробыли мы две недели. Прибыв в Иерусалим в пятницу, на первой неделе поста, мы всю вторую неделю говели. Перед нами, за неделю, приехала наша духовная миссия, епископ Кирилл, и мы все время имели служение на славянском языке. Из Иерусалима мы обратно поехали в Яффу и потом в Александрию, откуда по железной дороге в Каир, где прожили 10 дней, осмотрев все окрестности до Мемфиса. Воротясь в Александрию, сели на английский пароход и опять через Мальту и Мессину — прямо в Неаполь, а потом в среду на Страстной неделе — в Рим, где, по милости Божией, всех застал здоровыми. По полученным известиям из Петербурга, я должен был торопиться назад, в Россию, а потому отправился с женой и детьми в Ниццу, где, оставив семейство для морских купаний, сам отправился через Марсель в Париж, где застал телеграфическое приказание немедленно возвращаться, а потому намерение мое пожить в Париже и хотя мельком взглянуть на Лондон не могло исполниться.
В начале июля я прибыл в Петербург, немедленно вступил в должность, и до сих пор занятия не позволяли мне продолжать записок. В общих чертах, для связи, расскажу, что происходило здесь все это время. Я оставил Россию в то время, когда вопрос эмансипационный только что начинал принимать серьезный вид. В Секретный комитет назначен был великий князь, и по его предложению состоялся журнал, в котором весь вопрос разделен был на 3 периода: первый — приготовительный, в котором предполагалось позволять всем помещикам совершать сделки с крестьянами, не стесняясь законно существующими только двумя видами; вместе с тем предполагалось издать ряд ограничительных мер для обуздания своеволия помещиков. Во втором периоде предполагалось сделать условия крестьян с помещиками обязательными. В третьем периоде должно было последовать уже окончательное освобождение посредством выкупа обязательств, лежащих на крестьянах. Срок этим периодам не определялся. Журнал, в котором это все было постановлено, утвержден государем, и в резолюции государь пояснил, что надеется, с помощью Божией, что намерение его будет исполнено. Засим поручено было всем членам Комитета написать проекты указов. Так что, уезжая из России, я думал в скором времени узнать уже о выходе указов. Но, к величайшему моему удивлению, вышло иначе.
В ноябре месяце великая княгиня Елена Павловна, находясь также в Риме, получила первые печатные экземпляры рескрипта государя к виленскому генерал-губернатору об учреждении комитетов в Западных губерниях для составления положения об улучшении быта крепостных крестьян. Очевидно было, что подобные комитеты будут устроены и в других губерниях и что вопрос эмансипационный вышел уже из канцелярской тайны, а поставлен на вид и на общее рассуждение всей земли. Почему вдруг отошли от прежнего плана и разом так скоро подвинулись вперед — этого я хорошенько до сих пор узнать не мог, ибо причины тут совершенно случайные.
Приезд Назимова[129] и предложение дворянства об изменении инвентарного положения было поводом к различным новым толкам, дело запуталось, и результатом всего этого и был рескрипт, совершенно изменивший первое предложение, которое, как мне теперь кажется, было бы, быть может, лучше. Издали, не видя всей подноготной, я порадовался появлению рескрипта, мне казалось, что правительство поставило себя в весьма выгодное положение к этому вопросу, сложив на дворян инициативу и разработку его. Но я опасался, что не выдержит правительство этой пассивной роли и будет увлечено желанием торопить и поощрять дворян к изъявлению желаний на учреждение комитетов. Так и вышло. С появлением рескриптов вся Россия завопила, говор пошел такой, что ничего нельзя было во всем этом ни разобрать, ни объяснить. Когда еще теперь, т. е. по истечении 9-ти месяцев, нет другого разговора по всей России, то легко себе представить, что было тогда, когда для массы вопрос был поставлен неожиданно и без малейшего в чем бы то ни было приготовления.
По доходившим до меня слухам и разным признакам видно было, что великий князь во всем этом вопросе принимал самое деятельное участие. Независимо от сего им возбуждены были и другие важные вопросы, касающиеся других министерств, также вопрос о раскольниках, в пользу которых он предлагал самые либеральные меры, совершенно невозможные и неисполнимые. Поездка Мансурова в Иерусалим[130] и длинные его донесения дали повод начать крестовый поход в защиту наших паломников и ограждения их прав от зависимости от греческого духовенства. По поводу этого вопроса завязалась полемика и споры с Никодимом и министром иностранных дел. По поводу откупов по приказанию великого князя налитографирована была записка, очень не понравившаяся министру финансов. Наконец, налитографирована была и разослана ко всем членам Государственного совета и другим лицам моя записка с замечаниями на внесенный Блудовым в Совет проект нового Устава гражданского судопроизводства. Эту записку я составил в Риме на досуге, собственно, для великого князя, никак не ожидая, чтобы она получила такую гласность. Поэтому в ней многое было так сильно выражено, что я сам испугался, когда узнал о ее распространении.
Все эти разом возбужденные вопросы встревожили не привыкшее к сильным ощущениям петербургское общество и власти, и все это обрушилось гневом на великого князя и всех его окружающих. В это самое время меня совершенно неожиданно пожаловали в статс-секретари, что и, прибавив мне завистников, дало еще большее значение моей записке. Ее читали нарасхват, копии посылались по всей России. Я все это узнал по письмам и благодарил Бога, что меня нет в Петербурге. В это время граф Блудов в защиту своего проекта написал оправдание сам и заставил написать подробный ответ одному из помощников статс-секретаря Государственного совета, некоему господину Зарудному Этот ответ мне также был прислан для возражения, и я, воротясь из Иерусалима, просидел 2 ночи за этой работой. Как бы то ни было, но, по общему отзыву, записка моя осталась не без пользы. Проект Блудова ежели не отвержен, то почти отложен в сторону, и многие существенные вопросы по этой части подняты. Лучшим доказательством того, что записка моя многих затронула за живое, служит то, что по возвращении моем в Россию я сам видел, что многие начали серьезно заниматься этими вопросами, и от многих лиц я получил несколько более или менее дельных записок по этому предмету. Другой практической пользы, кроме уяснения сознания в молодых деятелях, я не ожидаю, ибо уверен, что при теперешней обстановке нашей законодательной власти и министра юстиции ничего дельного сделать нельзя. Слухи о назначении меня министром юстиции или товарищем до такой степени распространились, что все, даже за границей, меня поздравляли с этим назначением, но на поверку оказалось, что, кажется, и речи об этом серьезно не было. Меня так торопили скорее вернуться в Россию потому, что, за отсутствием Головнина, уехавшего за границу, мой вице-директор Набоков назначен был исправлять его должность, а департаментом управлять было некому.
Встречен я был великим князем очень ласково и, по случаю назначения статс-секретарем, представлялся государю, с которым имел замечательный и довольно длинный разговор, который намерен записать для памяти подробно. Я был приглашен в Царское Село. Государь принял меня в кабинете очень приветливо, дал руку, посадил и начал разговор о моем путешествии, об Иерусалиме, и потом спросил, много ли спорили и говорили в Риме о современном вопросе эмансипации. Я отвечал, что говорили много, а спорили менее, вероятно, чем в других местах, ибо в Риме мало было лиц, не сочувствовавших этому вопросу. «Однако, наш бедный Олсуфьев В. Д., — прервал государь, — он, кажется, очень был встревожен». Я отвечал, что, действительно, Олсуфьев был поражен известием и появлением рескриптов и был в большом беспокойстве, по возвращении же моем из Иерусалима я уже не застал его в живых. «Теперь весь вопрос, — продолжал государь, — сосредоточился на вопросе об усадьбах, и спорят только о нем, а не вообще об освобождении, но тут я не могу сделать никакой уступки, я никак не могу допустить вредного пролетариата, и только отдачею крестьянам усадеб можно предотвратить это».
«Эта мера необходима и справедлива, ею не нарушаются ничьи права, ибо помещики получают вознаграждение за отходящую от них собственность». К этому государь прибавил еще несколько слов, которых припомнить не могу, но которые выражали какую-то отвлеченную юридическую мысль. Я заметил ему, что в основании его мысль совершенно верна, но что, с другой стороны, также понятно, почему именно эта мысль не находит большого сочувствия между помещиками, но на это есть много причин и, между прочим, та, что наше дворянство, как вообще масса нашего общества, не привыкло рассматривать вопросы с отвлеченной юридической точки зрения, что им доступнее осязательный способ мышления, а так как в уступке усадеб помещики не видят прямой своей пользы, а, напротив, находят много затруднений при исполнении этой меры, то естественно, что они вообще ее порицают. «Я не понимаю, — прервал государь, — в чем могут заключаться эти затруднения, в особенности теперь, мы изданной программой дали средства обойти все эти затруднения». Во время этого разговора, обращаясь ко мне, государь говорил: «Вы». Засим, после некоторого молчания, он спросил меня: «А что, ты слышал все, что говорят о брате Константине и как его бранят?». Я отвечал, что слышал и очень об этом скорбел. «Да, это очень неприятно, — продолжал государь, — тем более, что брат тут ни при чем. Все, что можно сказать, так это то, что он иногда бывает неосторожен в словах». Я заметил, что как ни неприятны эти слухи, но они понятны, ибо нельзя было предполагать, чтобы подобная важная государственная мера могла бы встретить единодушное сочувствие, а у нас всякое неудовольствие обыкновенно выражается ругательствами, обращенными к лицу одного кого-либо, и в настоящем можно считать счастливым, что неудовольствие обрушилось на лицо только великого князя. Государь, видимо, понял мою мысль и сказал только: «Да, это все-таки очень неприятно». Хотя я еще в точности не знал, в чем обвиняли перед государем великого князя, я все-таки хотел воспользоваться случаем, чтобы что-нибудь сказать в оправдание, поэтому я продолжал так: «Ежели, государь, великий князь подвергся обвинению в излишней горячности, так в оправдание ему может служить то, что в таком вопросе весьма трудно всегда сохранить спокойствие, тем более что одна крайность порождает другую, и горячность с одной стороны являлась вынужденным равнодушием с другой стороны. К тому же несчастию, до сих пор все дела, которые шли своим обыкновенным, спокойным путем, как-то у нас всегда останавливались на полпути и не кончались ничем». — «Да, это к несчастью, правда», — заметил государь.
После некоторого молчания государь спросил меня: «А что, ты знаком с Головниным?» — «Весьма знаком, государь», отвечал я. «Какого ты о нем мнения?» — «Самого лучшего, государь, я знаю Головнина за самого честного, способного и благонамеренного человека». Государь на это ни слова не сказал, тогда я заметил, что ежели и Головний, может быть, также подвергся обвинению в излишней горячности, то и это объясняется общим впечатлением поднятого вопроса, и при том Головний человек болезненный, а потому, может быть, горячее других принимал к сердцу все спорные вопросы. «Да, — отвечал государь, — я и сам так его понимаю и этим объяснил себе, почему вместо того, чтобы сдерживать брата, он, напротив, его подстрекал». В это время вошла императрица и перебила наш разговор. Государь встал, подошел к ней, несколько минут с нею переговорил и потом опять, воротясь ко мне, посадил и стал продолжать разговор. Говорил о Морском министерстве и о том, что слышал, что в моем департаменте порядок. Я заметил ему, что имел счастье найти хороших помощников, а что все дело в людях. «Да, это главное», — возразил государь. Тут опять нас перебили, вошел камердинер и доложил что-то государю, который вышел из кабинета и приказал его дожидаться. Потом, воротясь, сказал, что ему сегодня некогда со мною говорить долее, дал руку и сказал, что надеется, что теперь у нас все пойдет тихо и хорошо. Я отвечал, что клянусь служить верно всеми своими силами. «Пойди к императрице, она тебя желает видеть», — сказал государь, провожая.
Вследствие сего я прямо отправился к императрице, обо мне доложили, и она меня немедленно приняла. Много расспрашивала об Иерусалиме, говорила о Мансурове, о его брошюре и о будущем устройстве богоугодных заведений в Палестине, потом спросила, знаю ли я Черкасского, о котором писала ей Елена Павловна как о человеке, которого бы следовало употребить по крестьянскому вопросу. Я подтвердил мнение великой княгини, затем речь началась об эмансипации, сперва в общих выражениях изъявляла она опасение, что пошли дальше, чем предполагали, что состав Комитета не обещает много хорошего; вообще из всех слов ее я мог заключить, что она видит довольно ясно настоящее положение вещей и чувствует, что ералаш происходит оттого, что главные действующие лица сами не отдают себе отчет, что делают. Отвечая на мысль ее об опасностях, я сказал, что все это, с помощью Божьего, может быть исправлено, но что главная опасность не заключается в видимых проявлениях. Настоящая опасность заключается в том факте, что когда государь в первый раз собрал близких ему и доверенных лиц и предложил им в первом заседании вопрос, следует ли поднимать крестьянский вопрос теперь или еще можно подождать, то все единогласно объявили, что следует непременно и что откладывать нельзя, а между тем все эти лица в душе были совершенно противного мнения и что до сих пор они продолжают играть двойную игру. Это не может оставаться секретом, ибо шаткость выражается во всех действиях правительства. «Jamais ees messieurs ne seront à la hauteur des bonnes intentions de l’Empereur, Madame»[131], — заметил я, и она наклонением головы дала мне почувствовать, что со мной согласна. Разговор наш продолжался таким образом более получаса, и я вынес от обоих свиданий чувства самого искреннего расположения к двум добрейшим существам, возбуждающим сожаленье и вместе неограниченную любовь. Так бы хотелось им помочь, но чувствуешь, что не можешь. Я передал слово в слово мой разговор с царем и узнал при этом, что с отъездом Головнина, и даже прежде, великий князь перестал заниматься общими делами, не касающимися собственно Морского министерства. Он думает, что недолго так продлится и что опять к нему обратятся, когда все перепутается. В ожидании этого он намерен жить в Стрельне и Павловске и заниматься цветами.
К несчастью, такое вынужденное спокойствие более сообразно с его природным расположением, чем деловая деятельности, к которой подвинут он был Головниным. Странно, нет человека, менее способного на какую-нибудь самостоятельную и упорную борьбу, чем великий князь, а общественное мнение приписывает ему разные нелепые замыслы. Нет человека, менее способного стать во главе какой-нибудь партии, а в обществе — он чуть-чуть не главным возмутителем. Впрочем, это ошибочное понимание объясняется тем, что лица, в отдалении стоящие, не могут отделять личность великого князя от дел его и не могут знать, в какой мере дела его суть выражение его личности; чтобы объяснить это, нужно написать подробную характеристику этого человека и показать всю внешнюю его обстановку, которая имеет постоянное и решительное влияние на все его действия. Несколько дней спустя после представления моего государю был я позван к Ольге Николаевне, которая гостит теперь здесь с мужем. С этой во всех отношениях милой женщиной был у меня весьма длинный разговор, которым я воспользовался, чтобы сказать все, что только мог, в защиту тех видимых обвинений, которые посыпались на Головнина после его отъезда. Я припомнил великой княгине, какие услуги оказал Головний великому князю и как много великий князь и государь должны быть обязаны Головнину по семейным делам; я убежден, что ежели сделано по Морскому ведомству что-нибудь дельное, то этим обязаны Головнину. Он, несмотря на все препятствия, возбудил в великом князе охоту к занятиям, образовал и развил его. Слова мои нашли сочувствие и, вероятно, были переданы императрице. Вообще, кажется, на дамскую половину августейших особ я не произвел дурного впечатления. Доказательством к тому служит то, что я два раза был зван обедать к императрице и что на маленьком балу на собственной даче говорил с царицей в продолжение всей мазурки, притом был эпизод довольно замечательный.
Сюда приехал американец Юм — известный медиум, обладающий, по отзыву всех видевших его, какой-то сверхъестественной силой. Еще в прошлом году о нем много писали и говорили в Париже. Рассказывали, что под его влиянием не только столы вертятся, но и выделывают разные другие штуки. Также присутствующие при опытах чувствуют прикосновение каких-то невидимых рук и проч. В Париже Наполеон был, говорят, очень поражен силою Юма и несколько раз присутствовал на его опытах. О приезде Юма в Петербург, разумеется, очень скоро узнали при дворе. Прежде всех императрица Мария Александровна пожелала его видеть, полагая, что Юм более или менее забавный фокусник. Его позвали в Царское Село, и там, в присутствии государя, двух императриц, великого князя и других лиц, стол действительно делал какие-то необыкновенные движения, не направляемый никакой видимой силой. Кроме того, вдовствующая императрица чувствовала и все присутствующие видели под ее платьем движение, которое успокоилось только тогда, когда, по настоятельному приглашению Юма, императрица дала свою руку этой невидимой силе, приводящей в движение складки ее платья, и тогда почувствовала, что кто-то до руки ее действительно прикоснулся. На всех присутствующих эти опыты произвели более или менее сильное впечатление, но в особенности под влиянием этой загадочной силы были государь и великий князь Константин Николаевич. Сей последний, вообще весьма склонный к мистицизму, с увлечением предан верчению столов и всяким исследованиям таинственных сил.
На другой день после первого представления в Царском Селе он был приглашен в Стрельну, к великому князю, где должны были возобновиться опыты. В этот день, по желанию Ольги Николаевны, я был приглашен с ней обедать в Стрельну. За обедом я узнал о имеющем быть вечером представлении Юма, и, хотя просил позволения присутствовать при этом представлении, мне великий князь отказал, объявил, что уже назвал Юму всех тех, которые будут присутствовать. За обедом пришли сказать, что государь также приедет в 8 часов. Принц Вюртембергский — муж Ольги Николаевны — также должен был остаться на вечер, чтобы присутствовать при опытах Юма. Так как меня решительно не приглашали остаться, то я после обеда уехал и не знал, что засим происходило. Спустя дня два после этого, а именно 11-го июля, по случаю именин Ольги Николаевны, был тот бал на собственной даче, о котором я упомянул выше сего. На балу я подошел к принцу Вюртембергскому и спросил его, как он был доволен представлением Юма. Тут принц, хотя я и знал, что он вообще с придурью, но удивил меня тоном своего ответа. Он очень сердито отвечал, что остался очень недоволен, что такими вещами шутить нельзя и что всякий человек, имеющий религиозное понятие, должен уважать дух отца. Я, признаюсь, сначала ничего не понимал, о чем так горячится принц, но потом стал он доказывать мне, что государю и великому князю вредно заниматься подобными вещами, в которых явно действует какая-то сверхъестественная сила. Из всего этого я догадался, что на вечере в Стрельне происходило что-нибудь действительно необыкновенное. Наконец, частью из слов Ольги Николаевны, которая, говоря со мною, предполагая, что я все знаю, частью из горячего спора Константина Николаевича с Вюртембергским, при котором я случайно присутствовал, а также из расспросов я узнал, что действительно в Стрельне не только вертелся стол и ходили стулья, но был также эпизод, сильно поразивший государя, а именно: стол близко подошел к государю, и когда он спросил, чей это дух действует, то стоявший близ государя стул сильно отдвинулся, как бы кто с него встал, и это движение напоминало обыкновенное движение стула, когда с него вставал покойный государь. Что видел государь при этом, я хорошенько не знаю, но только он пришел в ужасное смущение, а с Юмом сделался какой-то нервический припадок, ибо, по словам его, он сам не властен останавливать и направлять действие невидимых сил, им вызываемых. Сколько во всем этом действует воображения — мне неизвестно, ибо я сам ни разу не присутствовал ни на одном представлении Юма, но верно то, что этот человек не просто шарлатан и что силы, приводимые им в действие, не суть силы известные и подходящие под законы физические. Как бы то ни было, но необыкновенный эпизод, случившийся в Стрельне, не только не прекратил в государе и великом князе желание продолжать опыты, но, напротив, еще больше заинтересовал их, и с тех пор представления Юма повторяются. В разговоре за мазуркой императрица тоже высказала мне свое беспокойство. Но, к счастью, вскоре после этого бала у Юма пропала сила (по его словам, способность вызывать эту силу является у него только по временам) и опыты сами собой прекратились. Просматривая в 1860 году эти записки, нужным считаю дополнить, что Юм вскоре в Петербурге женился на сестре жены графа Кушелева-Безбородко, не помню, кто она по себе, в течение 1858-го года он еще несколько раз при ней бывал у государя, но это продолжалось недолго, Юм уехал из России, и тем все это дело кончилось.
На сих днях умер здесь, почти на моих руках, художник Иванов. Эта смерть сильно меня поразила. Она так же знаменательна, как знаменательна смерть внезапная и преждевременная всех наших талантливых людей.
С Ивановым я познакомился в прошлом году в Риме. Дружба его с Гоголем и суждения Гоголя о его картине «Явление Христа народу» возбудили во мне сильное желание ближе с ним познакомиться. В первый раз я встретил Иванова у И. С. Тургенева в Риме и на другой же день был у него в мастерской, где картина уже выставлена для публики, хотя публику еще не пускали, ибо Иванов все еще не решался открыть свое сокровище, стоившее ему 20-летних трудов, на суд толпы. Хотя я не знаток, или, лучше сказать, потому что я не знаток, картина мне с первого раза не понравилась. Потом я к ней привык, оценил ее частные достоинства, но, признаюсь откровенно, никогда не мог найти в ней тех красот, о которых писал Гоголь и другие. Вероятно, я умел скрыть от Иванова впечатление, произведенное на меня его картиной, ибо он не только не дичился меня, но с первых дней знакомства, видя искреннее мое желание быть ему полезным, близко сошелся со мной. Весьма скоро я заметил в Иванове такие странности, которые заставляли многих предполагать в нем болезненное расстройство. Отшельническая жизнь, в течение 20-ти лет им веденная, и постоянное сосредоточение на одном предмете хотя должны были иметь, без сомнения, влияние на его характер, но, не в зависимости от сего, в его необязательности, в его преувеличенных опасениях интриг врагов, в его чрезмерной высокой оценке малейшего этюда нельзя было не заметить следов душевного расстройства. Когда же студия его открылась для публики и зашла речь об отправлении его картины в Петербург, он как будто совсем потерялся. Я выхлопотал ему через великую княгиню Елену Павловну, бывшую тогда в Риме, разрешение отправить его картину за казенный счет. Великая княгиня дала даже деньги для снятия с картины фотографий. Все это несколько успокоило Иванова, но, как будто предчувствуя, что в Петербурге его ждет могила, он, как трусливый ребенок, боялся возвращения в Россию. Судя по письмам Гоголя, я предполагал в Иванове глубокие религиозные убеждения, но, к удивлению своему, заметил, что в этом отношении в нем произошла глубокая перемена. Впоследствии я узнал, что действительно в духовной борьбе, через которую он, по словам Гоголя, проходил, он изнемог и впал в безверие, но на этом остановиться не мог, искал разрешения своих сомнений в учении германских философов, но не нашел успокоения, и это была, вероятно, одна из главных причин его душевного расстройства. Приехав в июне вместе с картиною своей в Петербург, он пришел ко мне, и я с готовностью предложил ему свои услуги. Со стороны академического начальства он встретил ежели не равнодушие, то некоторое недоброжелательство. Государь видел картину мельком, о покупке ее завязалось дело, которое начало ходить по всем инстанциям, что очень сердило Иванова, желавшего скорее развязаться и уехать опять в Италию. Картину начали ценить люди, не совсем расположенные к Иванову; все это, при подозрительности его, еще более расстроило его нервы. В это время появилась в газетах статья с неблагоприятным отзывом о картине Иванова; предполагая, что статья эта писана по внушению академического начальства, он окончательно стал терять благоразумие и терпение. При таком расположении духа малейшая неосторожность в пище при свирепствовавшей, хотя не эпидемической, но довольно сильной, холере, могла быть для него гибельной. В первых числах июля поехал он в Сергиевск, на дачу великой княгини Марии Николаевны, <чтобы> как от президента Академии узнать окончательное решение о своей картине. Мария Николаевна не могла его принять, это еще более его взбесило; в Петербург он уже явился с болью в животе, вскоре открылись все признаки сильной холеры. Он жил на бедной квартире молодых художников братьев Боткиных. На другой день ко мне приезжал дворник дома и сказал, что Иванов умирает. Я сейчас же к нему отправился, дорогою встретил доктора Буяльского, взял его с собой, но мы нашли Иванова уже без всякой надежды, но еще в памяти. Я стал его уговаривать приобщиться, на что он согласился, потом я расспросил его последнюю волю, которую записал в форме духовного завещания, и к вечеру он скончался. Несколько часов спустя принесли на имя Иванова конверт из придворной конторы, в котором его уведомляли, что государь купил его картину за 15 тысяч рублей серебром. Сам Иванов ценил ее с этюдами в 30 тысяч рублей. Смерть Иванова возбудила в публике негодование против людей, принявших равнодушно художника русского. На похоронах публика до кладбища несла гроб, на могиле было сказано несколько сильных слов. Один какой-то господин, между прочим, с азартом сказал: «Давно мы ждали Иванова и картину его, много о нем говорили и писали, носились слухи, что французы и англичане предлагали огромные суммы за картину, мы спрашивали себя, что же даст Россия Иванову за его картину… Могилу — вот, что дает Россия всем своим талантам» и проч… По просьбе друзей Иванова, я принял на себя быть его душеприказчиком и по этому поводу писал великой княгине Марии Николаевне письмо, в котором уведомлял ее о желании покойного, чтобы его картина, вместе с этюдами, была поставлена в Москве, в школе рисования. Хлопоты мои остались тщетны. Этюды были выставлены здесь и проданы по частям. Всего за картину было выручено 30 тысяч рублей, и деньги эти, согласно завещанию покойного, переданы были брату его, также художнику, живущему в Риме. Нельзя не пожалеть об утрате замечательного художника, но думаю, что Иванов едва ли в состоянии был бы еще произвести что-нибудь замечательное. Странный колорит его картины, по мнению многих, доказывал, что самое зрение его уже расстроилось, а восстановления душевных способностей ожидать было трудно, ибо, видимо, этот человек пережил себя и не вышел победоносно из той нравственной борьбы, в которой находился в ту эпоху, когда о нем писал Гоголь. Как бы то ни было, но судьба Иванова принадлежит к тем необъяснимым замечательным фактам, которыми Провидение стремиться вразумить нас, отнимая у нас одного за другим все таланты.
Искренне сожалею, что прекратил дневник свой, постараюсь воспоминаниями пополнить пробелы и рассказать, что помню, о главнейших обстоятельствах, ознаменовавших конец 1858-го и весь 1859-й и 1860-й годы. Крестьянский вопрос преимущественно сосредоточивал на себе внимание России. Редакционная комиссия работала с усиленной энергией, душою ее были Милютин, Черкасский и Самарин. Для истории деятельности этой Комиссии остается много материалов, как в напечатанных трудах ее, так, вероятно, в частных мемуарах и записках. Но только современники и близкие свидетели главнейших тружеников по этому делу могут оценить их заслуги. Все невидимые, неосязаемые и ежедневные затруднения, противодействия, с которыми им приходилось бороться, были непомерны. Я лично не принимал непосредственного участия в работе Редакционной комиссии, но, будучи тесной дружбой связан с главнейшими деятелями, я постоянно следил за их работами, участвовал в спорах и совещаниях их и помогал, насколько мог, отражать и удержать их от нападков клеветы, лжи и всякого рода интриг. Обстоятельства дали мне возможность быть в этом случае полезным.
После возвращения моего из-за границы я попал в большую милость при дворе. Государь и в особенности императрица были очень ко мне милостивы и очень часто приглашали к обеду. Все это знали. Это придавало мне некоторое значение в отношениях с людьми, но, кроме того, зная, к какой партии я принадлежу, многие видели в моем успехе доброжелательство и к моим приятелям.
Помню, однажды, в начале осени 1858-го года, был я с докладом у великого князя в Стрельне, в это время приехала туда вдовствующая императрица Александра Федоровна, с которой я не был вовсе знаком, ибо при Николае ко двору не ездил. Великий князь меня ей представил. Они пробыли в Стрельне полчаса и отправились назад в Петергоф. Великий князь, вернувшись в кабинет, сказал мне: «Матушка просит вас к ней сейчас поехать чай пить». Я был в сюртуке[132] и вовсе не готовился к придворному вечеру. Однако делать было нечего, и я сейчас же отправился в Петергоф, в Александрию. У императрицы никого гостей не было, одна дежурная фрейлина разливала чай, и я, таким образом, провел вечер в разговорах с прелюбезной, как оказалось, старушкой, которая очень рада была видеть свежего человека. Я заметил, что она не прочь была посмеяться и даже очень легко смеется, поэтому мне нетрудно было ее посмешить. Старушке, кажется, я понравился, потому что после этого она несколько раз приглашала меня в городе в Аничков дворец, где она жила после смерти покойного государя. Я несколько вечеров читал ей повести Тургенева. Так я познакомился под конец ее жизни с императрицей Александрой Федоровной, и так как она представилась мне без всякого блеска ее прежнего величия, то и оставила во мне впечатление доброй старушки, без всяких серьезных мыслей и всякого определенного направления. По-видимому, она никогда не имела и не могла иметь какого-нибудь влияния на общественные дела. Я, однако, мог заметить в ней какое-то неопределенное неудовольствие против современных нововведений, но это скорее был просто бессознательный протест старушки, недовольной видом новых форм обмундирования, новых порядков в распределении занятий дня и проч. и проч…
В октябре месяце двор переехал на несколько дней в Гатчину, где и в прежние времена живал по нескольку дней, собственно, для удовольствия. В Гатчину на жительство приглашаются обыкновенно только избранные. Меня, к величайшему моему удивлению, позвали на другой день после переезда на вечер. Я приехал, не зная всех придворных обычаев, с намерением вернуться в город в тот же вечер, но меня тут же пригласили остаться на три дня. В этот вечер был спектакль в зале, и императрица пригласила меня сесть рядом с нею, так что я очутился сидящим между нею и Еленой Павловной, имея позади себя государя. Я немало был удивлен такими почестями, и мне казалось, что я превратился вдруг в какого-то немецкого принца. По совести могу сказать, что ни одной минуты не очарован я был такими знаками внимания, я так был уверен, что неспособен удержать за собой столь блестящее положение, что не мог чрезмерно обольщаться. Не зная, за что на меня так милостиво смотрят, мне казалось все это как-то странным. Положение было неловкое, главное потому, что я ни с кем из приближенных почти не был знаком и потому никак не мог рассчитывать на чью-либо поддержку В Гатчине целый день проводится в веселье и еде. Утром, в 12 часов, собираются все приглашенные идти к завтраку, потом отправляются или гулять, или на охоту, или кататься. В 4 часа опять собираются к обеду и остаются в общей зале, так называемом арсенале, до 6-ти или 7-ми часов. В 9 часов опять собираются или на бал, или в театр, а иногда и то и другое, и так до 2-х часов ночи, и каждый день одно и то же. К обеду и к вечеру к живущим гостям присоединяются приезжие из города, званые только на вечер. Жизнь в Гатчине могла бы быть очень приятной, ежели бы круг гостей был бы между собой теснее связан и ежели бы препровождение времени было бы разнообразно устроено. Но для этого нужны элементы, которых, к сожалению, в высшем обществе нет. Без участия умных, интересных и талантливых людей очень трудно что-нибудь устроить.
1861 год
7-го января. С чувством тревожным ожидания великих событий встретил я Новый год. Не нужно быть прозорливым прорицателем, чтобы предсказать наступившему Новому году важное историческое значение. Не только в Европе и Азии, но и в Америке должны совершиться события, последствия которых достоверно определить невозможно. Итальянский и восточный вопросы с весны нынешнего года поднимут на ноги всю Европу, а у нас, кроме того, крестьянский вопрос сам по себе уже произведет такой переворот, который на скрижалях истории отмечен будет чертами неизгладимыми и может послужить началом новой исторической эры. Невозможно верить в совершенно мирный исход крестьянского вопроса, еще много лет будет он стоять на очереди, но от первого момента его разрешения будет зависеть характер его дальнейшего развития. Нет такой силы, которая могла бы удержать в пределах все враждующие партии и указать им правильный путь к примирению, поэтому вся и единственная надежда на Бога и на ту невидимую силу случайностей, которая с самого начала вела этот вопрос помимо воли и задуманных намерений представителей всех партий.
Тот, кто следил с самого начала за ходом крестьянского вопроса, кому были известны все подробности и закулисные тайны их, тот не может не верить в непосредственное участие Провидения в этом деле. Даже все первостепенные деятели, которые имели, по-видимому, самостоятельное в деле участие, не могут дать себе ясного отчета в добытом результате. Необъяснимым остается для потомства как самая решимость государя возбудить вопрос, которому он прежде не сочувствовал, так и быстрый ход его, несмотря на единодушное стремление всех лиц, власть имеющих, ежели не совсем задержать его, то по крайней мере весьма замедлить его радикальное разрешение. С той же неизвестностью приближается ныне вопрос крестьянский к своей окончательной развязке. На днях он поступил из Комитета в Государственный совет. Тут готовится сильная по численности оппозиция, но слабая по качествам ее представителей. Можно почти с достоверностью полагать, что проект Редакционных комиссий будет утвержден государем с весьма незначительными изменениями. Но вопрос будет состоять теперь в порядке исполнения. Тут все представляется загадкой — и форма объявления народу, и средства сохранения порядка. Дай Бог, чтобы и тут факт не оправдал бы ожиданий, ибо ожидания весьма тревожны. Проект Манифеста, который приглашал меня Милютин прочесть для замечаний, еще более убедил меня в невозможности объявить народу освобождение в этой форме. Вероятно, первоначальная редакция еще несколько раз будет изменена, но, как бы то ни было, невозможность в Манифесте соблюсти приличия и удобопонятливость при краткости изложения останется та же, и я продолжаю думать, что, кроме Манифеста или просто указа, полезно было бы издать объявление народу языком, ему понятным, написанное и с изложением тех главных правил положения, которые главнее всего ему нужно знать. К Новому году ждали больших перемен в личном составе высшего управления. На место едва живого князя Орлова, говорили, назначат едва движущегося графа Блудова, на место его — Панина, на место Панина — Замятнина, а на место сего последнего — меня. Но ничего из сих предположений не оправдалось. Не знаю даже, собственно, была ли обо мне речь серьезно или только городской слух. Великий князь будет, со своей стороны, содействовать моему назначению, но может случиться, что его и не спросят, а, конечно, ни Панин, ни Замятнин меня рекомендовать не станут.
28-го января. Сегодня первое заседание Государственного совета по крестьянскому делу под председательством самого государя. Заседание продолжалось с 12-ти часов до 6-ти. Государь открыл его речью. Все единогласно свидетельствуют, что государь говорил с замечательным красноречием. Он начал с краткого исторического обзора вопроса, объявил решительное свое намерение кончить непременно это дело в нынешнем году и не позже половины февраля. Он сказал, между прочим, что крепостное право, установленное самодержавною властью, не может быть отменено иначе, как той же самодержавною властью. Я не читал текста речи, но, судя по отзывам, она должна быть замечательна. Затем приступили к обсуждению главных вопросов, в них заключались преимущественно спорные начала.
В Главном комитете вырешено три мнения. Первое, к которому принадлежало большинство, приняло проект Редакционных комиссий почти без изменений. Второе мнение, представленное Муравьевым, к которому пристали Долгоруков и Княжевич, отличалось от мнения большинства существенно только тем, что отвергало цифры наделов, предлагаемые Редакционными комиссиями, и возлагало на губернские присутствия определить размеры наделов. Третье мнение, представленное князем Гагариным, предлагало освобождение без определенного законом надела, предоставляя все любовным соглашениям. Вопросы, предложенные на сегодняшнем заседании Государственного совета, имели главной целью разрешить в принципе эти разногласия. На вопрос, следует ли количество земли быть определено правительством или предоставлено совершенно добровольным соглашениям, большинство отвечало в смысле первом. Засим предложен был вопрос о том, следует ли теперь же назначить размер надела или предоставить это губернским присутствиям, — на этот вопрос мнения разделись почти поровну Государь предоставил себе сказать свое мнение при утверждении журнала заседания. Много говорено было речей, но оппозиция, как и следовало ожидать, не отличалась ни красноречием, ни строгою последовательностью. Несколько членов, как то: Панин и Строганов, на которых рассчитывала оппозиция, перешли на сторону Редакционных комиссий, и нет сомнения, что государь будет также на этой стороне. В петербургских салонах сильное негодование. Кажется, убедились, что государь намерен действовать решительно и что дело ни отсрочено, ни изменено быть не может.
Вчера было замечательное заседание Главного комитета, в котором государь объявил, что Главный комитет обратится в место постоянное и будет заведовать всеми делами сельских обывателей. Он выразил мнение, что с уничтожением крепостного состояния нет основания иметь отдельные управления Государственных имуществ, Уделов, и что дела по окончательному устройству всех сельских обывателей должны быть сосредоточены в Главном комитете, в котором министр Государственных имуществ, Уделов и внутренних дел будут членами и дела будут докладываться ему Комитетом. Он предоставляет себе назначить особых членов и председателя. Эта важная мера придумана самим государем. Муравьев хотел сделать замечание, но государь остановил его, сказав, что он это уже решил.
Вообще нельзя не удивляться энергии государя и решимости его идти во что бы то ни стало к цели. Прежде можно было предполагать, что он не отдает себе ясного отчета в предпринятых им преобразованиях, но теперь видно, что он не только вполне усвоил себе все подробности вопроса, но и сознает все возможные последствия реформы. Когда вспомним, что Николай Павлович созывал один за другим 9 комитетов и что всякий раз останавливался на пустой полумере вследствие доходивших до него толков, то нельзя не признать за Александром Николаевичем той храбрости, которой недоставало покойному отцу его. Разговор какого-нибудь князя Сергея Михайловича Голицына сбивал Николая с толку, а теперь все кругом государя не сочувствует реформе — в самом семействе, кроме великого князя Константина, ежели не явно, то втихомолку осуждают меру, но государь как будто ничего не слышит, не высказывается ни той ни другой стороне, а в данном случае действует сознательно.
Вчера в Главном комитете и сегодня в Государственном совете государь обнимал и благодарил великого князя Константина Николаевича, и, действительно он заслуживает этого — с необыкновенным рвением и усердием занимался он все это время вопросом и благодаря своим необычайным способностям изучил его во всех подробностях. Нельзя и в этом участии великого князя в крестьянском вопросе не видеть особенного удивительного явления. Как упорно отклонялся великий князь от участия в этом деле, могут знать только те, кто видел его близко. Когда дело поступило в Главный комитет, он решительно объявил, что не будет им заниматься и что его дело быть моряком и больше ничего. Он не хотел даже прочесть извлечений из трудов Комиссии, для того чтобы ознакомиться с ними и не сидеть в Комитете безгласным членом… Великая княгиня, подстрекаемая разными влияниями, со своей стороны, хлопотала о том, чтобы не допускать его до занятий крестьянским вопросом. Вдруг, совершенно неожиданно, по случаю болезни князя Орлова, государь назначает его председателем Комитета, несмотря на все его сопротивление. Необходимость заставила его заняться, и тогда, раз уже он принялся за дело, то предался ему усердно. Все время он председательствовал в Главном комитете, по отзыву даже врагов его, с необыкновенным искусством и имел на дело решительное влияние. Таким образом, этот человек, против своей воли и почти насильственно, попал в дело, которое дает ему важную страницу в истории России. В обществе неизвестны все эти подробности, и теперь, особенно в провинции, все убеждены, что великий князь все это дело затеял, что он руководил государем и проч. и проч… Его считают не только главою красной, или либеральной, партии, но честолюбцем, имеющим свои затаенные и коварные замыслы. Вот как пишут историю…
14-го февраля. Совет[133] кончил рассмотрение проекта, существенных изменений не сделано. В экстренном собрании у государя некоторых членов Комитета решено объявить Манифест с Великим постом. Проект Манифеста посылали в Москву митрополиту Филарету для редакции. На сих днях митрополит Филарет прислал свои редакции — говорят, очень хороши. Очень умно сделали, что привлекли Филарета к участию в редакции Манифеста, кроме того, что лучше его вряд ли кто-либо мог написать подобный акт, но авторитет его имени расположит уже в пользу редакции всю оппозиционную публику. Предполагалось объявить Манифест 19-го числа, но к этому времени печатание Положения не окончится, и, кроме того, ежели объявить в Петербурге 19-го числа, то в России это объявление пришлось бы на самой масленице, что, конечно, очень опасно. Жаль только, что народ ждет почти повсеместно чего-нибудь к 19-му числу, и весьма вероятно, что здесь в этот день будет какая-нибудь манифестация. Одно простое любопытство, без всяких посторонних целей, может привлечь несколько сот человек на площадь перед Сенатом или дворцом, и тут малейшая оплошность полиции может произвести скандал. К тому же, 19-го числа, кроме праздника восшествия на престол, еще воскресение, а в этот день обыкновенно бывает на Неве бег[134], и перед обедом пропасть народу гуляет перед дворцом. Сохрани Бог от всякого, даже малейшего беспорядка, ибо слух о нем в преувеличенном, конечно, виде пройдет по всей России и может произвести там волнения. Уже и здесь теперь врут немало всякого вздора. Так, рассказывали, будто великий князь Константин Николаевич ранен пулей. Не знаю, какие предупредительные меры принимает явная и тайная полиция, но очень трудно сказать, что бы следовало сделать, ибо невозможно заранее предвидеть все неизбежные случайности.
18-го февраля. Из Варшавы получены известия весьма печальные 15-го числа. Шайка злоумышленников хотела, под предлогом поминовения умерших в Грахувском сражении[135], сделать процессию по городу. Полиция помешала. На другой день в разных местах города стали собираться толпы, и в войска бросали камнями. Тогда в одном месте один матрос должен был стрелять; по сведениям, сообщенным по телеграфу, убитых 6 и раненых тоже 6. На другой день все было спокойно, но ежели беспорядки повторятся, то Варшава будет объявлена на военном положении. Других подробностей пока нет, видимо, поляки рассчитывают на крестьянский вопрос, который в завтрашний день должен окончательно решиться и привести всю Россию в волнение. Но на помощь извне им, кажется, теперь рассчитывать нельзя. Кроме публичной манифестации, все предводители дворянства в Царстве Польском подали в отставку. Не знаю ни значения, ни характера движения в Польше. Князь Михаил Дмитриевич Горчаков, вероятно, в большом смущении и суете. Желательно было бы иметь в Варшаве кого-нибудь помоложе и поспокойнее. Не знаю, как государь принял это известие.
Сегодня я был у великого князя и мог довольно долго с ним говорить. Это в первый раз, как он занимается крестьянским вопросом, хотя здесь все убеждены, что я сильно действую и имею влияние на великого князя по крестьянскому делу, но, повторяю, я в первый раз сегодня с ним говорил об этом деле. Я поздравил его с последним днем старой истории России и с наступлением новейшей эпохи.
Сегодня последнее заседание Государственного совета, и завтра государь подпишет Манифест, но он не будет объявлен прежде Великого поста. Несмотря на то, завтра, по всей вероятности, народ будет толпиться на площади перед дворцом и ожидать чего-нибудь. Дай Бог, чтобы прошло это без эпизода.
Несмотря на массу подметных писем, в которых стращают государя разными страшилищами, он стоит твердо. Одно из этих писем было прочитано государем в присутствии нескольких министров. В нем, между прочим, сказано, что против государя готовятся кинжалы, и умоляют его поберечь хотя бы семью, ибо ее беречь не будут.
Говоря об оппозиции, государь сказал раз Ланскому: «Народ все-таки будет доволен, ему будет лучше, а дворяне могут меня убить, я на это готов, но дело все-таки останется». Не знаю, этими ли именно словами он сказал это, но мысль, говорят, та.
Великий князь так еще переполнен и проникнут крестьянскими делами, которыми он почти три месяца занимался, что не может ни о чем другом говорить, и говорит с одушевлением. Очень удивляется, что ему приписывают и само поднятие крестьянского вопроса, и влияние на государя. Он знает, что его в обществе единодушно все ругают, но, кажется, смотрит на это равнодушно. Он сказал мне, что теперь распускают слухи, будто дворянство хочет отстранить себя от всяких должностей. Я ответил ему, что этого едва ли можно опасаться. Место свято пусто не будет. Что-то Бог даст завтра… В газетах так глупо было объявлено о том, что завтра объявления не будет, что народ может подумать, что все совсем отложено.
19-го февраля. Благодаря Богу сегодняшний день прошел совершенно благополучно, не было даже признака волнения, и на набережной перед дворцом было даже менее народу, чем обыкновенно в воскресение во время бега. Дай Бог, чтобы и дальнейшие наши опасения и тревоги были также неосновательны. Вечером я сегодня был у великой княгини Ольги Николаевны, которая приехала сюда с мужем по случаю кончины императрицы Александры Федоровны и до сих пор еще живет здесь. Из Варшавы, кажется, дурных известий нет.
5-го марта. Объявление Манифестаоб освобождении крестьян.
Наконец свершилось великое дело… В России нет больше крепостного состояния… Сегодня вышел Манифест и был читан во всех церквах. При этом не было ни тени беспорядка, везде при конечных словах народ крестился. Государь на разводе в манеже сказал речь офицерам, объявил им о выходе Манифеста и выразил им надежду, что они как представители дворянства будут продолжать служить ему верно и усердно. Слова его были встречены громким «ура», и народ, собравшийся на площади перед манежем, в числе не более 1000 человек, подхватили это «ура»… Вот единственная манифестация сегодняшнего дня. На улицах даже незаметно никакого особого движения. Сегодня последний день масленицы, и даже пьяных менее обыкновенного. Я ходил на гуляние и не слышал в народе ни одного слова о свободе. Сказывают, что в Исаакиевском соборе были чины разных посольств, они надеялись присутствовать при необыкновенном каком-либо зрелище народного ликования, но, к величайшему их удивлению, ничего не видали. Я сам не знаю, как объяснить эту необыкновенную сдержанность в народе; отчасти это можно приписать неожиданности, ибо вчера еще никто не знал, что сегодня будет объявление, а отчасти, может быть, двухлетний срок[136], о котором в Манифесте и в объявлениях так утвердительно говорится, охладил порыв радости. Манифест вообще немногими понят, и из него нельзя видеть, в чем заключается реформа. Когда вчитаются, то увидят, что не только через два года, но и с сегодняшнего дня многое сделано… Это будет сюрприз… Какой великий сегодня день для государя. Что бы ни случилось, но памятник он себе уже воздвиг…
6-го марта. Я был сегодня у великого князя, мне хотелось его поздравить с окончанием великого дела, в котором он принимал такое важное участие. Я обнял его искренно. Он сам очень доволен и в восторге от государя, от его непоколебимой твердости и спокойствия. Он сказал мне, что государь, которого он сегодня видел, сказал ему, что вчерашний день был для него светлым праздником. Великий князь сказал мне, что уже подписал Указ о распространении прав, дарованных крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, и на крестьян удельных и дворцовых, а также и на государственных относительно права выкупа земли в собственность. Усиленные занятия крепостным вопросом произвели на великого князя самое благотворное влияние. Он заметно возмужал и образовался. Теперь, видимо, он заинтересовался общим государственным делом, так что морская его специальность стоит на втором плане. Он очень хорошо знает, как его ругают, но, по-видимому, очень равнодушен к этим ругательствам. Его в особенности забавляет то, что ему приписывают инициативу всего этого дела и полагают, что он подбил государя к этой реформе. Для потомства останутся неизвестными все мелкие подробности всего этого дела, но тем, кто знает, как неохотно принялся великий князь за крепостное дело, действительно смешно слышать все толки о замыслах великого князя и проч. и проч… Он получил благодарственный рескрипт, но я его не читал, он будет напечатан завтра. Великий князь сказал мне, что не позволил бы напечатать его, ежели бы благодарность относилась только к его лицу, но так как государь через него благодарил всех членов Главного комитета, то нельзя его не обнародовать. В память вчерашнего дня будет выбита медаль и раздана всем, участвовавшим в работах по вопросу, для ношения в петлице. Члены бывших Редакционных комиссий усиленно просили, чтобы им не было никаких наград. Великий князь не знает еще, удастся ли уговорить государя не награждать членов Редакционных комиссий. Действительно, труд Редакционных комиссий таков, что всякая награда неуместна. Имена главных деятелей этих Комиссий, как то: Милютина, Самарина и Черкасского, останутся в памяти истории, хотя в Манифесте, по настоянию, говорят, графа Панина, и не упоминается вовсе о Редакционных комиссиях. Весьма немного сделано изменений в проекте, составленном Редакционными комиссиями. Опыты и время покажут достоинства и недостатки этого проекта, но во всяком случае судить его строго нельзя, принимая во внимание всю внешнюю обстановку, все те влияния, среди которых издавался, или, лучше сказать, склеивался проект. Можно было бы написать весьма любопытную для потомства книгу обо всех эпизодах, сопровождавших работу Редакционных комиссий.
Сегодня я обедал у великой княгини Елены Павловны. Она тоже ликует. Относительно ее участия в крепостном вопросе общественное мнение выражается весьма различно. Одни приписывают ей весьма сильное влияние и считают ее главной виновницей или по крайней мере сильным двигателем возбужденного вопроса. Другие приписывают ей роль de la mouche du coche[137]. Правда находится между этими двумя мнениями. Она, точно, очень много хлопотала и много содействовала вопросу тем, что умела приближать к себе людей и сводить их для взаимной деятельности. Ее влиянию обязаны тем, что государь перестал с недоверчивостью смотреть на лиц, заподозренных в прежнее царствование, и через посредство ее улаживались нередко частные недоразумения. Но так как она сама не пользуется большим доверием и любовью всей семьи, то влияние ее далеко не имело того значения, какое ей приписывают. Во всяком случае, нельзя отрицать необыкновенных достоинств в этой женщине: большая восприимчивость, неутомимая деятельность, настойчивость и умение пользоваться людскими слабостями — вот ее орудия. В моих суждениях о ней я не подкуплен 14-летним ее расположением ко мне, я сам многим ей обязан, и здесь не место писать подробную ее характеристику. Я только хочу сказать, что в крепостном вопросе следы ее влияния незаметны, но отрицать их нельзя, и даже, может быть, против воли и сами того не замечая, многие, и в том числе и царь, действовали под впечатлением этого влияния. Но все это не ослабляет той совершенной истины, что главным виновником конца крепостного права был сам царь, и ему одному принадлежит вся честь и слава. Влияние Ростовцева было весьма сильное, и Ростовцев сделался эмансипатором совершенно случайно и только потому, что увидел непреклонную на то волю царя. Великая княгиня сказала мне, что накануне ездила поздравлять государя и была у обедни в Зимнем дворце. Кроме Константина Николаевича и нее, вся остальная семья, и в том числе императрица, не сочувствовали радости государя. Из Москвы получены известия, что объявление Манифеста и там совершилось без малейшего беспокойства. Начало хорошо, что-то будет впереди — это одному Богу известно. Между тем польские дела, в моих глазах, очень серьезны, и мне кажется, значение их здесь не понимают. По крайней мере из нескольких слов, сказанных мне великим князем, я мог заключить, что он думает, что беспорядок в Польше произведен буйным меньшинством, с которым нетрудно будет сладить материальною силою. Такой взгляд ошибочен и может иметь плачевные результаты. Мне кажется, пришла теперь минута принять относительно Польши решительные меры и признать, что польский вопрос существует и что штыками его не разрешить.
Третий том 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1876 годы
1870 год
Благослови, Господи, венец лета и возобновление моего Дневника!
1-го января. С грустным чувством провожаю я истекший год и ничего отрадного не предвижу в наступающем. Искренне сожалею, что не продолжал вести дневник последовательно в те годы, когда многое радовало, когда совершались события, начавшие новую эру в гражданской жизни России, когда все обещало светлое будущее. Об этих годах много сохранится материалов, по которым нетрудно будет составить себе довольно ясное понятие о том времени. Так много совершилось важных реформ с 1857-го по 1867-й годы, что это десятилетие, составляющее славу нынешнего царствования, останется навсегда памятным и перейдет к потомству в главных чертах довольно верно. Усиленная деятельность правительства по преобразованию не могла не вызвать к жизни все дремавшие общественные силы. Борьба старого порядка вещей с новыми потребностями перестала быть бесплодною. Целый ряд реформ, казалось, свидетельствовал, что победа осталась на стороне новых понятий, и хотя самая лихорадочная торопливость главнейших деятелей в ломке старого и создания нового оправдалась убеждениями их, что победа недолго останется на их стороне, однако нельзя было предвидеть, чтобы реакция так скоро восторжествовала. Я, по крайней мере, не ожидал, чтобы гнусный выстрел Каракозова мог иметь на судьбу России такие важные последствия, какие он действительно имел. Я помню, что на другой день этого несчастного случая 4-го апреля, после доклада, разговорился я с Рейтерном об этом злодействе. «Вы увидите, что со вчерашнего дня совершился перелом царствования», — сказал он мне. Я не поверил тогда мрачному предсказанию Рейтерна, но теперь должен сознаться, что он был прав. Мне казалось невозможным допустить, чтобы вера в те начала, которые положены были в основание всех реформ, могла бы так легко утратиться при первом событии, вызвавшем притом такое негодование, что и то тяжелое впечатление, которое могло бы быть им произведено, в то же время могло изгладиться. Я не знал еще тогда, как мало доволен государь и лица, ему приближенные, значением произведенных реформ, а потому и не верил возможности такого скорого и радикального превращения. Надо сказать и то, что реакция весьма искусно воспользовалась событием 4-го апреля и что, по несчастному стечению обстоятельств, многие из главнейших деятелей были поставлены в невозможность противодействовать этой реакции. Как бы то ни было, но мы вступаем в новый 1870-й год с полным сознанием, что реакция вполне торжествует и что нас спасает только крайняя неспособность ее деятелей. Государь приведен ими к убеждению, что все произведенные им реформы принесли существенный вред, потому что пошли слишком далеко за пределы его намерений, что не только государство страждет, но что и личность его находится в постоянной опасности. Все это сильно действует на его нервы, к тому же он физически болен, устал и дела ему надоели. Похвала благодетельных реформ, составляющих славу его царствования, его досадует, ему скорее слышится в этой похвале упрек, чем слава. С великим князем Константином Николаевичем он в самых холодных отношениях, с наследником также, ибо знает, что они не разделяют ни его опасений, ни его доверия к графу Шувалову — человеку, весьма ловко употребившему шпионскую должность свою[138], чтобы страхом завладеть волею государя. Состав всего министерства[139], кроме разве Военного и финансов, крайне неудовлетворителен, но в нем также согласия нет. К счастью, ни граф Шувалов, ни министр внутренних дел Тимашев не могут формулировать ни одной сколько-нибудь серьезной реакционной меры. Зачали издавать новый закон о печати, но и сами не знают, что делать. Назначили комиссию под председательством князя Урусова, но до сих пор комиссия эта еще не знает, что она будет делать. Впрочем, все теперь как будто приостановилось, над всем преобладает страх.
Этот страх вызван открытием каких-то глупых прокламаций, присланных из Женевы, которыми, говорят, начитались какие-то мерзавцы из выгнанных и недоучившихся студентов. Все это представлено государю в ужасающем виде, так что он серьезно напуган. А пока он будет под влиянием этого страха, сила Шувалова несокрушима. Но долго ли это будет продолжаться и чем разрешится это неестественное настроение — это покажет время. Сегодня, по случаю Нового года, ездил я с обычными визитами и, между прочим, заехал записаться к великой княгине Елене Павловне. Тут встретил я ее фрейлину — Раден, с которой разговорился о новостях, оказалось, что таковых, сколько-нибудь замечательных, нет. Между прочим, разговор наш коснулся слухов об открытом будто бы заговоре, вызванным прокламациями, присланными из Женевы. Я заметил, что этим гнусным выходкам заграничных революционеров придают слишком большое значение, как будто это явление небывалое, по крайней мере в глазах государя стараются представить все подобные безобразия как последствия его либеральных реформ. Я сказал фрейлине Раден, что занимаюсь составлением устава о печати, я много рылся в старых указах и, между прочим, в напечатанных бывшей под моим председательством комиссией материалах есть краткая история наших политических прокламаций, и что эта история очень поучительна. Оказывается, что еще при Петре I к нам из-за границы присылались прокламации на русском языке, напечатанные в Данциге. Затем, при Екатерине II, была бездна разного рода воззваний, и что по этому случаю она издала превосходный манифест, которым увещевала подданных не заниматься этой дрянью. Этот манифест очень применим к настоящему времени. Вследствие этого разговора я получил от фрейлины Раден следующую записку:
«Cher Prince, pouvez-vous envoyer à la Grande Duchesse le manifeste de l’Emperatrice Catherine? Son Altesse en a fait les honneurs à Sa Majeste et voudrait l’envoyer à l’Empereur»[140].
К счастью, этот манифест 1762-го года был у меня под рукой, ибо я собирался сообщить в газеты краткий исторический очерк наших прокламаций, я переписал его и дополнил еще другими указами Петра, Екатерины и Александра по этому предмету и завтра повезу к фрейлине Раден. Дай Бог, чтобы чтение этого манифеста успокоило государя, по крайней мере в том отношении, что прокламации у нас — дело бывалое.
5-го января. Я передал третьего дня фрейлине Раден для великой княгини составленный мною исторический очерк возмутительных воззваний в России. Вчера великая княгиня, у которой я был на музыкальном вечере, сказала мне, что намерена послать государю только копию с манифеста Екатерины II, а что подобные исторические воспоминания возбуждают интерес. Вчера прошел слух о назначении будто бы вместо Потапова генерал-губернатором Северо-Западного края Грейга — товарища министра финансов, но, кажется, этот слух не подтверждается; по-видимому, еще не хотят сменить Потапова, чтобы не подать виду, что уступают общественному мнению, и в особенности нападкам «Московских ведомостей». Хотя я уверен, что и Шувалов с К° хотели бы спустить Потапова, ибо его крайняя неспособность, бестактность и глупость ставит их самих в затруднительное положение. Но так как им нужнее всего показать, что они настояли на своем, то они торопиться не будут.
В газетах появились обзоры прошедшего года, и, так как я в прошедшем году дневника своего не вел, то прилагаю при сем для памяти вырезки из газеты «Голос»[141] и «Московские ведомости».
Газета «Голос». 1870-й год. 2-го января. Санкт-Петербург:
«Много раз уже говорено о странностях обычая, заставляющего весь образованный мир воображать себе, что в такой-то день зимнего сезона, день, ничем не отличающийся от других в смысле астрономическом, кончается один год и начинается другой. Но обычай этот всесилен и повсеместен, и когда наступают последние дни декабря, каждый невольно чувствует потребность оглянуться назад и подвести итоги последним пережитым тремстам шестидесяти пяти дням.
Оглядываясь на пережитое нами в течение минувшего 1869-го года, вдумываясь в общий смысл и характеристические особенности его, мы должны будем, прежде всего, сознаться, что, несмотря на многие частности, 1869-й год ни в каком случае не может считаться годом, неблагоприятным для общественного и политического развития России, хотя, конечно, не может сравниться в этом отношении со многими из своих достославных предшественников, уже составляющих ныне исторические эпохи нашего прогресса.
Назад мы не пошли — это несомненно, если же мы, при весьма значительном напряжении всех политических и общественных сил страны, мало продвинулись вперед, то это происходит главным образом оттого, что на пути нашем встречалось немало препятствий. Существование этих препятствий, опять-таки, явление последовательное, а напряженность их противодействий — явление, сверх того, и утешительное. Элементы, враждебные прогрессу, всегда напрягают, особенно в силу своего сопротивления, именно в те минуты, когда чувствуют, что им остается мало шансов устоять на занятой позиции. Борьба прогресса с реакцией — явление, присущее всякой политической жизни, и в известные эпохи она делается явлением преобладающим. Такую эпоху представляет, по нашему мнению, 1869-й год. В течение его много было сделано попыток затормозить правильный ход органического развития России, и все эти попытки положительно ни к чему не привели, хотя порою внушали серьезное опасение людям, чрезмерно робким. Ни правительство, ни общество не поддавалось темным силам, стремившимся увлечь их в сторону с верного, прогрессивного пути, и в конце 1869-го года направление нашей правительственной и общественной деятельности, в общей сложности, нисколько не изменилось к худшему. Мы не без умысла, говоря о нашем политическом и общественном развитии, упоминаем о деятельности правительства прежде, чем о деятельности общества. Никто, конечно, не может отрицать, что общество наше не дожило еще до эпохи самостоятельного почина во всем, что касается его интересов, и всякий согласится, что в этом отношении оно только следует за правительством, которому до сих пор и принадлежит всецело упомянутый почин. В этом отношении 1869 год ничем не может похвастать перед своими предшественниками. Чтобы доказать справедливость наших слов, сделаем краткий обзор наиболее важных событий нашей общественной жизни за окончившийся год, отделив при этом то, что сделано правительством, от того, что принадлежит самостоятельному почину общества, и потом подведем итоги общие под эти выводы.
Что касается правительства, то его разнообразная деятельность, в общей сложности, имела характер несомненно прогрессивный. Нет почти ни одной отрасли внутренней политической жизни России, по которой бы дело осталось в полном застое и не подвинулось вперед.
Самыми важными вопросами внутренней политики России должно, конечно, считать вопросы, относящиеся до органических реформ[142] нынешнего царствования. Посмотрим же, в каком положении находится ныне развитие этих реформ.
Мы живем, как известно, накануне последнего момента осуществления величайшей из реформ — реформы крестьянского быта. 19-го февраля 1870-го года окончится срок последних обязательных отношений крестьян[143] к бывшим их помещикам, и великое дело подходит к концу, совершенно нетронутым попытками реакции, пробовавшей внести в него направление, противное основным принципам крестьянской реформы. В этом отношении 1869-й год будет памятным потому, что в течение него произошла полная неудача попытки исказить вышеназванные принципы при разверстках крестьянских угодий в Северо-Западном крае. Читателям нашей газеты хорошо известна история знаменитого „виленского“ проекта, клонившегося к урезке земель, уже находившихся в фактическом владении крестьян Северо-Западного края. Этот проект составлял наследие 1868-го года, и 26-го марта 1869 года потерпел полное поражение — в этот день было подписано знаменитое высочайшее повеление, окончательно утверждавшее за крестьянами все земли, находящиеся в их действительном владении.
Правда, позднее, а именно осенью, обнаружились кое-какие недоразумения в применении Указа 26-го марта. Слова этого Указа — „действительное владение“ — получили толкование, не совсем согласное с их прямым смыслом. Но Главный комитет по крестьянским делам вскоре направил дело на его прямой путь, и всякая опасность миновала. Правда, события, сопровождавшие этот эпизод, лишили Западный край двух энергических деятелей в лице виленского губернатора контр-адмирала Шестакова и попечителя Виленского учебного округа тайного советника Батюшкова. Но развязка всей истории все-таки оказалась вполне благоприятной для крестьянского дела. Применение судебной реформы шло с успехом. В течение 1869-го года открыт целый новый судебный округ (Новороссийский) и подготовлено все для ведения судебной реформы в Бессарабии. Сверх того, ввиду ускорения повсеместного введения столь удачно привившегося к русской жизни мирового института, издано высочайшее повеление об открытии мировых судов во всех губерниях империи, в которых действуют земские учреждения. Вследствие этой прекрасной меры мировой институт[144] уже сделался национальным учреждением в России и в общей сложности действует столь удовлетворительно, что вызывает полное и безусловное сочувствие народа.
Правда, в течение 1869-го года была опубликована мера, относящаяся к новым судебным порядкам, которая возбудила в обществе некоторое опасение за неприкосновенность великого и плодотворного принципа равноправности перед судом всех русских граждан. Но, к счастью, эта мера не имела тех последствий, которых от нее ожидали. Мы говорили о разрешении, данном некоторым высокопоставленным лицам, требовать, если они найдут это нужным, чтобы судебные показания снимались у них на дому в тех случаях, когда они будут привлечены свидетелями по какому-нибудь вопросу. Первый опыт применения на практике — этот опыт показал, что по неудобству обстановки для допрашиваемого допрос на дому, в сущности, вовсе не привилегия, а просто мера, принятая ввиду материальной невозможности для высокопоставленного лица в иных случаях явиться в суд для показаний. Это так верно, что после первого опыта применение на практике уже не повторилось, несмотря на то что было несколько случаев привлечения к суду высокопоставленных лиц в качестве свидетелей.
Переходя к вопросу об объединении наших окраин с остальными частями империи, мы видим, что в трех главных пунктах этих окраин поступательное движение помянутого вопроса, вполне зависящего от почина правительства, было не одинаково быстро. Всего более в этом отношении сделано в Привислинском крае[145]. Там принято несколько весьма важных и решительных мер в объединительном смысле, а именно: открыто во всех губерниях края действие казенных палат и совершенно уничтожен искусственный центр краевой финансовой администрации, находившийся в губернском городе Варшаве. Затем уничтожена там же особая униатская комиссия[146], и заведование делами униатов перенесено в Петербург, в Министерство народного просвещения. Далее — основание в Варшаве Русского университета взамен прежней Польской главной школы. Все это, вместе взятое, составляет весьма серьезный шаг вперед, и остается только желать осуществления тех последних реформ, по введении которых Привислинский край сделается фактически тем, чем он и должен быть, т. е. нераздельною органическою частью России.
В Северо-Западном и Юго-Западном краях дело объединения шло гораздо медленнее. Впрочем, 1869-й год и там ознаменовался несколько важными мерами. К числу их надо отнести, во-первых, отделение от Виленского генерал-губернаторства двух губерний, Могилевской и Витебской, которые, таким образом, вошли в область общего права, действующего в империи. Затем следует официальное поднятие вопроса о введении русского языка в католическое богослужение, что в настоящее время уже начинает осуществляться на практике и приведет, наверное, к полному разобщению католичества с полыцизною. В Юго-Западном крае принята была в течение минувшего года одна сколько-нибудь замечательная мера, а именно: должность командующего войсками Киевского округа отделена от должности главного начальника края. В Эсто-Латышском крае объединительное дело шло с величайшею медлительностью. В начале года, правда, была принята важная по своему политическому значению мера, а именно: государственным крестьянам Эсто-Латышского края дарованы земельные наделы и, таким образом, положено в прибалтийской окраине ядро почти не существовавших там крестьян-землевладельцев. Но на этом вопрос устройства крестьян в Эсто-Латышских губерниях и остановился. Остальные меры ограничились перенесением цензуры латышских книг, составлявшей до сих пор привилегию Дерптского университета, из Дерпта в Ригу, причем цензорами латышских сочинений назначены были два природных латыша, да несколькими более или менее удачными попытками новых губернаторов настоять на применении уже давно изданного закона о введении русского языка в официальную переписку административных мест Эсто-Латышского края.
Затем в северной окраине России, т. е. в Финляндии, уже вовсе незаметно деятельности такого рода, о которой мы говорили выше. По отношению к этому краю в прошлом году осуществилась эта мера, придавшая ему, напротив, характер почти совершенно отдельного от России, по своей правительственной системе, государства. Мы говорим о законе, утвердившем периодичность созвания Финляндских сеймов[147], которые, таким образом, сделались органическим фактором управления страною и придали этому управлению чисто конституционный характер.
Наконец, в одной из наших восточных окраин, а именно в киргизской степи, преобразован быт тамошних кочевников. К сожалению, эта реформа была вначале дурно понята большинством киргизов и введение ее вызвало вооруженное сопротивление, которое, надо полагать, имело весьма серьезные размеры (достоверно об этом предмете известно весьма мало), так как даже в официальном органе нашего правительства события в киргизской степи прямо названы возмущением. Впрочем, это возмущение в настоящее время уже прекращено и реформа быта киргизов вводится беспрепятственно. Попечения правительства о народном образовании выразились в минувшем году двумя мерами. Во-первых, в 50-летний юбилей С.-Петербургского университета государем императором даровано щедрое пособие нуждающимся студентам, давшее возможность учредить при университете 100 новых стипендий, и, во-вторых, положено начало правильного развития народных школ учреждением особых инспекторов над ними и ассигнованием особой суммы в 360 000 рублей ежегодно на учреждение образцовых народных школ.
Для нашего Военного ведомства 1869 год будет годом, надолго памятным. В течение его принят ряд важных мер, почти окончательно довершивших военную реформу в России. Прежде всего, издано новое Положение о Военном министерстве, увенчавшее собой окончательно прекрасную и вполне целесообразную реформу военной администрации.
Затем издано Положение о вольноопределяющихся[148] на военную службу и о производстве всех нижних чинов вообще в офицеры. В основу этой важной меры положено, как известно, полное равноправие всех нижних чинов, к какому бы сословию они ни принадлежали и каким бы путем ни поступили на службу, на получение офицерского чина. Отныне мерилом права на получение этого чина является только одно для всех общее условие, а именно: окончание курса в юнкерских училищах, которые открыты одинаково как для прямо поступающих в них лиц из всех сословий, так и для нижних чинов, поступающих на службу путем рекрутского набора. Нет никакого сомнения, что приведенное в такой порядок производство в офицерские чины, во-первых, доставит службе опытных и вполне проникнутых обязанностями воинского звания офицеров, во-вторых, окончательно отнимет у военной службы в нижних чинах все те ее особенности, которые заставили сделать из нее, вопреки намерениям Петра Великого, повинность, тяготевшую исключительно только над одними низшими классами русского общества.
Новый успех военных училищ и учреждение военных всесословных прогимназий[149], наверное, также сильно будет способствовать цели, осуществление которой так желательно как в экономическом, так и в других отношениях. К реформам, относящимся до военного ведомства, принадлежит также отчасти и последовавшее в начале 1869-го года важное преобразование в быте наших донских казаков, которые до последнего времени жили во многих отношениях совершенно особою, замкнутою гражданскою жизнью. Эта-то именно замкнутость и уничтожена ныне: казачье сословие, с одной стороны, сделалось доступным каждому желающему поступить в него, а с другой стороны, сами казаки получили возможность свободно выходить из своего сословия. Такою мерою разрешен весьма удачно не лишенный даже и политического значения важный вопрос о привлечении донских казаков к общей гражданской жизни в России. Надо полагать, что после нее будет уже легче принимать постепенные меры к упомянутому слиянию… Одна из таких мер уже принята, именно: донское дворянство получило право называть своих прежних депутатов дворянскими предводителями, и, сверх того, ему дан мундир, схожий по шитью и цвету сукна с общим дворянским мундиром империи.
Казачья реформа вообще близко прикасается к вопросам сословным. Вот что сделано в этом отношении в течение 1869-го года.
Меры правительства коснулись в этом году только двух сословий — городского и духовного. Опубликован проект первого Городового положения, главные черты которого состоят, во-первых, в причислении к городскому сословию (в качестве избирателей и гласных) всех городских землевладельцев и, во-вторых, в преобразовании городского управления по образцу управления земского. Размеры краткого газетного обзора не позволяют наметить, даже в общих чертах, предположенные преобразования, которые, впрочем, подробно были рассмотрены нами в целом ряде статей, помещенных в нашей газете прошлого года. Мы ограничимся только заявлением, что проект нового Городового положения в своих общих чертах является необходимым и логическим дополнением реформы всего общественного строя, столь успешно начатой земскими учреждениями.
Духовное сословие в 1869-м году подвергалось радикальной и в высшей степени благодетельной реформе. Замкнутость его, сделавшая из русского духовенства что-то вроде сацердотальной касты[150], окончательно уничтожена. Отныне принадлежащими к духовному сословию считаются только лица, носящие священнослужительский сан (священники, диаконы, причетники). Дети же их получают общие гражданские права, и им открывается доступ ко всем отраслям общественной и государственной деятельности. Это громадный, громадный шаг вперед, особенно если принять в соображение последовавшее в нынешнем году преобразование духовных академий, возвысившее уровень образования в этих учебных заведениях до размеров, делающих важным прилив в них молодежи из других классов общества. Священнослужительство, перестав быть своего рода роковою обязанностью для детей духовенства, потеряет, надо полагать, свой прежний характер какой-то обязательной службы, столь вредный там, где удовлетворительное исполнение взятых на себя обязанностей немыслимо без внутреннего призвания и убеждений в истине начал, которым служишь.
Финансовая летопись 1869-го года, по обыкновению, не находится в гармонии с летописью прочих отраслей правительственной деятельности. Правда, обнародованная в начале года роспись государственных доходов и расходов представила результат довольно утешительный, а именно: обнаруженный ею дефицит (15 174 074 рубл.) представлял цифру гораздо менее значительную, чем дефициты прежних лет, и, сверх того, предвиделась возможность покрытия этого дефицита из ординарных ресурсов. Но, тем не менее, в течение года был сделан заем в 15 000 000 рублей. Правда, необходимость этого заема объяснялась во время его запуска потребностью извлечь из обращения излишнее количество бумажных беспроцентных знаков, и такое объяснение было даже причиною необыкновенно успешной подписки на новый заем. Но позднее было заявлено, что полученные займом кредитные билеты, предназначавшиеся к уничтожению, на время еще будут сохранены в обращении.
Кроме упомянутого нами займа, в 1869-м году последовал еще второй выпуск облигаций Николаевской железной дороги.
Правительственные мероприятия, касающиеся наших путей сообщения, ограничились определением наиболее необходимых линий железных дорог, на которые и решено было выдавать концессии прежде прочих, сверх того, предпринято преобразование Министерства путей сообщения, и преобразование это, еще не обнародованное в принципе, фактически уже состоялось. Так, после назначения министром путей сообщения графа Бобринского вместо генерала Мельникова заведование железными дорогами и водяными путями сообщения сосредоточено в руках двух лиц, являющихся помощниками министра и пользующихся правами начальников отдельных управлений.
По народной гигиене принята в начале 1869-го года весьма важная мера, а именно введено оспопрививание.
По отношению к печати деятельность правительства выразилась учреждением особой Комиссии для пересмотра законов о печати. Результаты деятельности этой комиссии еще впереди, и надо желать, чтобы наступающий год был свидетелем установления таких законов, при которых эта отрасль нашей гражданской деятельности, по справедливости гордящаяся тем, что она создала в России глубоко и искренне сочувственное правительству общественное мнение, вступила, наконец, в область общего права из области нынешних исключительных отношений, ставящих ее в зависимость от двух учреждений, совокупное действие которых уже признано невозможным в нашем законодательстве, т. е. суда и администрации.
Таковы итоги правительственной деятельности за 1869-й год. Завтра обратимся мы к образу деятельности общества».
«Московские ведомости». Москва, 2-го января.
«Каждый год в жизни исторических народов имеет свою физиономию. Нельзя сказать, чтобы физиономия истекшего года в нашем отечестве была очень красива, но она выразительна. И хронические, и острые недуги, которыми страдают наши дела, определились в истекшем году очень явственно, и наступившему году передается, несомненно, наследие деморализации и уныния, овладевающего обществом после неслыханных зрелищ, которых оно было свидетелем. Солидарность всех дурных партий обнаружилась явственно, и они, видимо для всех, силились в общем действии, равно направленном и против России, и против нынешнего царствования. Для всех становятся очевидностью загадочные слова покойного Муравьева, что главный ржонд[151] не в Варшаве, не в Вильне, а на берегах Невы, хотя, по грустной иронии судьбы, сам же Муравьев спасовал перед тайным злом, когда оно у него было под рукою…[152]
Зло после того выросло; оно овладело полем, оно располагает такими средствами обмана, что борьба с ним становится почти невозможна. Все, чем сильна государственная жизнь, что связует народ в одно живое и крепкое целое, чем дорожит, паче золота, мудрое правительство, поругано и потрясено… Но солнце обновления, которое взошло над Россией 19-го февраля 1861-го года, не померкло. Воля, управляющая судьбами России, не изменилась: рука дающего не оскудеет, хотя руки принимающие, видимо, слабеют и никнут…
И истекший год, каков бы он ни был, ознаменовался днями, достойными 19-го февраля. Сюда, прежде всего, принадлежат столь важные и великие по своей руководящей мысли преобразования нашего духовного быта».
Далее «Московские ведомости» указывают на ожидаемую пользу от уничтожения духовной касты, о сокращении приходов. Потом упоминают о некоторых приказах в развитии народных школ и засим, переходя к земским учреждениям, говорят следующее:
«Но, с другой стороны, земские учреждения представляют печальное зрелище. Гласные во многих местах охладевают к своему делу, перестают видеть в нем дело государственного значения, начинают сомневаться в его будущности. Они замечают в правительственных властях какое-то глухое нерасположение к этому созданию правительственной власти. Многие земские собрания последней сессии шли вяло за малочисленностью гласных, иные вовсе не состоялись за неприбытием узаконенного числа членов.
Упадок общественного духа не мог не отозваться на наших новых порядках. Всем понятно, с какой энергией и бодростью пошло у нас дело мировых посредников[153], как много обязано их неутомимой и самостоятельной деятельности благополучное исполнение крестьянской реформы. Но несколько косвенных ударов, и учреждение, начавшееся так блистательно, утратило дух, и лучшие люди, служившие ему органами, покинули его и разошлись. Какой сильный, несокрушимый, ничем не подкупный русский дух оживил администрацию в Западном крае, когда патриотический призыв венценосного вождя народа призвал туда русских людей на национальное дело. И вот теперь все бегут оттуда, и „Виленский вестник“ через день, т. е. в каждом номере своем, извещал в последнее время о переменах в составе членов губернских по крестьянским делам присутствий».
«Московские ведомости». От 4-го января 1870-го года.
«По судебному ведомству в истекшем году продолжалось распространение деятельности новых судов и сокращение старых; Второе отделение 6-го департамента Сената упразднено. 7-й и 8-й департаменты слиты в одно общее присутствие. Наоборот, в С.-Петербургском окружном суде образовано новое 7-е отделение.
В одном из старых высших судов, а именно в 1-м департаменте Правительствующего Сената, занимающимся административною юстицией[154], произведено важное изменение: дела в этом департаменте решались прежде единогласно, а в случае разногласия восходили в общее собрание, в чем заключалась важная гарантия для интересов, подлежащих компетенции этого судилища. Ныне дела окончательно решаются по большинству голосов. Будь это постановление сделано несколькими месяцами прежде, то процесс о газете „Москва“ вовсе не дошел бы до общего собрания и к состоявшемуся мотивированному решению не представилось бы повода.
По судам новым принято несколько необходимых исполнительных мер; так, например, опекунские дела распределены в местностях, где введены судебные уставы, между окружными и сиротскими судами; усовершенствована нотариальная часть; установлен порядок свидетельствования безумных и сумасшедших там, где действуют судебные уставы, и т. д… Политический характер может быть приписан направлению меры, вводящей отбирание судебного показания у высших сановников на дому. Эта мера, а также возложение на судебных лиц обязанности являться к губернаторам для личных объяснений подали повод к толкам, что судебной части не предполагается уделить в действительности то равенство с администрацией, которое составляет коренной принцип судебных уставов. Если бы такие толки оказались справедливыми, то судебной реформе был бы нанесен неоправимый удар: она сильно нуждается еще в том, чтобы законодательство не только обращалось с ней бережно, но и лелеяло ее. Иначе она испортится, лишится духа, и от нее останется только труп, который пришлось бы только убрать поскорее. Особенно важен выбор лиц, руководимый чистыми интересами правосудия, и их правильное повышение и расчетливое сочетание.
По судебной реформе Военного ведомства следует упомянуть об открытии в истекшем году военно-судебных округов Киевского и Виленского.
Военная кодификация[155] деятельно продвигалась вперед, деятельнее, чем снабжение войск улучшенным оружием, хотя в этом деле истекший год составляет эпоху: читателю известно, что к осени наступающего года все войска наши будут снабжены улучшенным оружием и что значительная часть его, более половины, будет готова к весне. Другие улучшения в военном деле неуклонно идут предначертанным путем. Так, в истекшем году изменили свой вид к лучшему и лагерные занятия войск, применительно к вводимому новому Уставу полевой службы, а принимавшиеся одна за другой меры относительно казачьих войск мало-помалу разбирали ту фальшивую стену, которая обособляла их от прочих подданных империи.
Введено новое положение о киргизах, вызвавшее в одной половине их серьезные волнения, которые, однако же, ныне усмирены. Для прочного овладения Приаральским краем занят Красноводский залив на восточном берегу Каспийского моря, и предполагавшегося при этом сопротивления не было встречено. Упомянем, кстати, что при снабжении красноводского десанта фуражом и провиантом впервые применены все способы новейшей техники, либиховский экстракт[156], прессованное сено и т. д…
Телеграфное ведомство заботилось о международных сношениях. Открыты кабели русско-датский, русско-шведский, и 1-го января назначено открытие индоевропейского через Кавказ. Дана концессия на продолжение телеграфа между Сибирью, Китаем и Японией. Заключена международная телеграфная конвенция. Зато ничего не сделано не только для удешевления внутренней корреспонденции, но и для представления русской публике тех самых условий, которые допущены для публики иностранной. Внутри дело ограничилось дополнениями сети.
Почтовое ведомство открыло свою деятельность новым порядком пересылки периодических изданий, от которого вынуждено будет отказаться.
Железнодорожное дело шло успешно, поскольку ограничивалось исполнением прежде начатого. Исключение составляет лишь Киево-Балтийская линия, которая давно могла открыться, но все еще не открывается по дурному качеству работ. Другие работы, коих открытие ожидалось в истекшем году, достроились благополучно, хотя Мстинская катастрофа, которая неисчислимо дорого обойдется русской торговле, замедлила открытие некоторых из них (например, Ярославской и Тамбовской) и укладку второго пути на других (Казанской, Козловской, Курской). Важнейшим событием года в этом отношении было совершившееся в декабре соединение Балтийского моря с Азовским, чем Россия обязана быстрому сооружению дорог Курско-Харьковской и Харьковско-Таганрогской. Но эти успехи не должны ослеплять нас. Истекший год был годом казусов в истории русских железных дорог. Прежде всего, он ознаменовался разительными отступлениями от предначертанной и утвержденной программы действий. В большой своей части она оставалась неисполненного, между тем как линии, не вошедшие в первую категорию, сравнительно ненужные или даже положительно вредные, получили концессии. При Лыкской концессии случился еще небывалый у нас скандал. Появилось в газетах письмо, за подписью одного из концессионеров Либавской дороги, <которое> само содействовало проведению подрывающей ее дороги Лыкской. Это обстоятельство, а равно и отсрочка работ на Либавской дороге, хотя это предприятие поставлено так, что ожидаемый от него барыш в значительной мере зависит от сокращения расходов на уплату процентов за время сооружения, заставляют сомневаться в намерении концессионеров довести свое дело до конца, не лишая России важной линии и не вводя своих доверителей-концессионеров в разорение. Дело, очевидно, требует общего собрания акционеров и энергических мер как с их стороны, так и со стороны правительства, без помощи которого они были бы бессильны. Как успели перепутаться понятия в деле самом простом и ясном, видно из ходатайства Балтийской дороги о гарантии после подписки на акции. Если это ходатайство будет уважено, то как удивляться, что самое невозможное покажется любому концессионеру важным и исчезает всякая грань между действительностью и призраками. Серьезность и трезвость, видимо, убегают из области русских железных дорог. Число разрешений на концессии дошло до цифры 168, и никто не хочет заметить, что в России железные дороги могут быть прибыльными лишь под условием значительности своих районов и что всякая большая линия, присоединяющаяся к сети, улучшает положение остальных линий, а всякая промежуточная — есть шаг к кризису, коего мы не избежим, если некоторые местности покроются слишком частою сетью, пока другие остаются вовсе без путей. Несчастные случаи и способ обращения с ними также показывают, что управляющие железными дорогами, в особенности Главного общества, которое было прежде возвеличено, как бы за то вконец опозорилось, разучилось отличать возможные упущения от невозможных: мост горит за мостом, и это служит предлогом к иным упущениям, переправой не объяснимым. Публика будет скоро жалеть, что было на свете изобретение, называемое паровозом, и что это изобретение было введено в России. Уже теперь не только вокруг загадочной Меты, но и по дороге к Курску купцы отправляют красный товар на тройках, по шоссе, хуже прежнего ремонтируемому, и пользуясь услугами извозчиков, хуже прежнего организованных. Железная дорога есть, и по ней кое-как ходят поезда, но она для торговли призрак, а действительность вокруг совсем расстроилась против прежнего. До открытия железных дорог можно было отправлять грузы на срок, теперь этого нельзя сделать: железная дорога вместо 5-ти дней продержит товар 5 месяцев, и не найдешь на нее ни суда, ни расправы. Не значит ли это пойти назад с быстротою, свойственной железным дорогам? Какое впечатление остается в людях, где подобные явления в порядке вещей?
На бирже также истекший год обнаружил явственно наши недуги. Их оказалось чересчур много, и хронических, и острых; хорошо по крайней мере, что тут можно уловить тот призрак, который, смешиваясь с действительностью, сбивает с толку русское общество. Тут он является в материальном виде, в каком бы и подлежал сожжению, если бы не ускользал, несмотря на самые торжественные приготовления. Летом, когда повышение биржевых ценностей дошло до nec plus ultra[157] безрассудности, был объявлен заем на огромную сумму в 15 миллионов номинально и покрыт весьма успешно. Избыток денежных знаков был очевиден, но как только заем состоялся, Государственный банк явился ходатаем за то, чтобы призраку, лишающему биржу рассудка, было позволено пожить и подействовать еще несколько месяцев, а может быть, и лет. Ничего другого не могло произойти из этой терпимости, кроме ущерба кредиту акций, в особенности железнодорожных. Так и случилось, а что теория о потребности денежных знаков, выпускаемых банковским путем, есть не что иное, как вредное, непростительное заблуждение, это доказывает каждый день, несмотря на игру сегодня на понижение, завтра на повышение, ведущуюся самым недостойным образом. Подписка на учетный банк в Москве превысила чуть не в сто раз требование: можно ли после этого говорить не шутя, что торговля нуждается в типографском станке, печатающем кредитные билеты? Но уместна ли шутка, когда разоряются сотни людей и вся публика вовлекается в обман?
Переходим к вопросам, с которыми связаны великие интересы государственного единства и, следовательно, в сущности, все жизненные интересы страны. Коль скоро в стране остаются открытыми антинациональные вопросы, то это значит, что во всех отправлениях государственной и общественной жизни присутствует враждебное начало, которое действует, как отрава, и оно-то, если зорким глазом проследить все его действия, вносит повсюду смуту и расслабление. У нас, к несчастию, есть исторические обмолвки, из которых с течением времени произошли вопросы, каковы польский — в Западном крае — и немецкий — в Балтийском.
Истекший год был свидетелем выходящих из ряда, истинно невероятных происшествий по крестьянскому делу в Северо-Западном крае. Эти происшествия, столь необыкновенные, столь поразительные, не могли не произвести глубокого, потрясающего впечатления на все русское общество.
Слава Богу, высочайше утвержденное Положение 26-го марта не дозволило уклонить на кривые пути крестьянское дело в Западном крае, где оно имеет силу национального вопроса, и торжественно засвидетельствовало неизменность правительственной программы действий. Такую же силу имеет высочайше утвержденное 29-го ноября Положение Главного комитета, которое недавно распубликовано в циркуляре виленского генерал-губернатора. Этим последним актом решительно ниспровергаются те перетолкования, которым подверглось Положение 26-го марта. В чем состояла сущность этого Положения? Оно закрепляло за крестьянами их действительное наличное владение. Известно, что в таком смысле употреблено это выражение в разных узаконениях по крестьянскому делу и что тот же смысл имеет оно и в представлениях самой виленской администрации по местной крестьянской реформе. Тем не менее, виленская администрация предписала местным крестьянским учреждениям читать в Положении 26-го марта выражение „действительное владение“ с прибавкою слов: предоставленное крестьянам выкупными актами. Этой прибавкой уничтожалось Положение 26-го марта и восстановлялся знаменитый Виленский проект, в котором была выражена мысль о признании за крестьянами владений только по актам, т. е. об отобрании у них земель, вопреки основному закону, укрепившему за ним и все земли, состоявшие в их владении. Губернские присутствия, мировые съезды, мировые посредники, следуя указаниям высочайшей воли, исполнили в точном смысле Положение 26-го марта. Толкования местной администрации разошлись с действием местных крестьянских учреждений. Новое высочайшее Положение не допускает и возможности каких-либо недоумений или ошибок относительно слов „действительное владение“. Оно буквально повторяет две главные статьи Положения 26-го марта. К ним не прибавлено ни одного слова.
Среди лживых толков о последней фазе крестьянской реформы в Северо-Западном крае утверждали, что Положение 26-го марта недостаточно, потому, между прочим, что на практике оказалось множество непредусмотренных им случаев, требующих пересмотра вошедших в законную силу постановлений. Такого рода случаи не только никогда не были заявлены, но и до сих пор большей частью пребывают в неизвестности. Положение 19-го ноября указывает генерал-губернатору представить местные сведения и данные, необходимые для разъяснения упомянутых случаев. Остается пожелать, чтобы собирание этих местных сведений и данных не затянуло столь необходимое окончание крестьянской реформы в Северо-Западном крае и чтобы опыт истекшего года не пропал бы даром.
Во всяком случае, смысл закона спасен, но закон не много сам по себе значит вне вопроса о его исполнении. Как будет исполняться закон? Кто будут его исполнители? До последнего времени в Западном крае были люди, испытанные в деле. Там был жив дух, занявшийся в общем патриотизме народа в годину государственной опасности. Теперь люди эти разошлись и расходятся. Крестьянские учреждения прочищаются[158] в обширных размерах, так что в нынешнем году личный состав их изменился неузнаваемо. Дух, который держал все в связи и давал людям силу и направление, — оклеветан, обесславлен, поруган. Где новые деятели возьмут новую силу, необходимую для действия на таком посту, как Западный край, и в таком деле, как крестьянское, особенно после того, что было с их предшественниками? Все известия оттуда свидетельствуют об общем упадке духа между тамошними русскими людьми.
В искусственно созданном для России так называемом балтийском вопросе в течение минувшего года не произошло перемены, т. е. он подвинулся в антирусском направлении. По-прежнему под действием местных сословий, властей, а также средних и высших казенных учебных заведений громадное большинство населения, несмотря на свое влечение к России и потребности в русском языке, продолжает поневоле онемечиваться, притягивается к соседней Германии. Эсто-латышским населениям усиленно внушаются понятия, враждебные русскому государству: по мере образования им будет все яснее и яснее становиться, что, несмотря на отрадные обещания, исшедшие из уст монарха, они не принадлежат к одной русской семье, но каким-то непонятным для них роком осуждены обращать свои взоры к Берлину, к Германии, и с каждым днем отпадать от нации, которой они часть. Как слабое мерцание огонька еще более дает чувствовать темноту, так легкие намеки в ходе балтийских дел на русскую программу еще резче заявляют ее отрицание в действительности. Сюда относится <учреждение> русской газеты в Риге, маленькая русификация „Эстляндских губернских ведомостей“, за которую эстляндского губернатора чуть не со свету сживают, учреждение на острове Эзель скромной русско-эстляндской семинарии для приготовления учителей в народные школы, учреждение в Риге русско-эстонско-латышской школы для местных православных латышей и эстов. Истинно утешительный признак есть неостывающее участие русского общества — участие, выражающееся в пожертвованиях не только из Москвы, но и изо всех почти мест империи в пользу балтийских православных церквей. Эти пожертвования, равно как учреждение двух упомянутых школ на средства, доставленные московскими благотворителями, и, наконец, некоторые пожертвования в пользу латыша и эста, подвергшихся жестокому преследованию за их преданность России, имели, прежде всего, по крайней мере то последствие, что вынудили враждебных агитаторов прекратить свои насмешки над бессилием и неспособностью русского колосса помочь себе в собственном деле и наложили невольное молчание на некоторые органы балтийской печати… К числу мер, имеющих довольно важное значение, принадлежит определение ежегодного пособия в 10 тысяч рублей балтийским православным народным училищам. Православным крестьянам, вообще весьма бедным и притом разбросанным в разных местностях, будет этой мерой доставлена возможность пользоваться благами просвещения, которыми лютеранские общины давно уже пользуются. 42 православные церкви в Курляндии и Лифляндии снабжены необходимым облачением, утварью, книгами и проч… Равным образом и на построение церквей собирались пожертвования, хотя надобно сознаться, что по этому предмету еще многое надо сделать. Реформы аграрная и судебная в Эсто-Латышском крае решительно не продвинулись в прошедшем году ни на шаг. Но, если верить слухам, в наступившем году в Балтийском крае ожидается такая судебная реформа, которая гораздо далее и решительнее подвинет здесь дела в противном России смысле, чем все, происходившее в этом крае в продолжение 150-ти лет…
Истекший год ознаменован для Балтийского края еще введением в тамошние казенные присутственные места переписки на русском языке. Это было узаконено еще при покойном государе. Но закон был издан как бы для того, чтобы оставаться без исполнения, пока за два с лишним года перед сим эта аномалия не обратила на себя внимание правительства. Было повелено исполнить наконец требование, столь обязательное по своей законной силе и в то же время столь справедливое, естественное, безобидное и не нарушающее ничьих уважительных интересов. Тотчас же посыпались брошюры и корреспонденции. Бароны были подняты на ноги. Г. фон Бок подал своим землякам печатный совет — кричать как можно громче и пугать правительство, что и было исполнено. Требование, дважды заявленное всею силою правительственного авторитета, встречало на каждом шагу причины к неисполнению. Ревельский магистрат возвратил генерал-губернатору официальную бумагу, писанную по-русски, и почтительнейше просил его впредь не обращаться к нему на языке, который ревельский магистрат не знает и знать не хочет. Но вот в заграничных газетах появилась успокоительная корреспонденция, извещавшая Германию, что дело об употреблении русского языка кончилось ничем. Вскоре стало известно, что казенные места в Балтийских губерниях обязываются по-прежнему вести сношения с местными сословными учреждениям не иначе, как на немецком. Так как делопроизводство в балтийских присутственных местах весьма естественно имеет своим содержанием местные дела, которые все находятся в заведовании местных учреждений сословных, то вопрос действительно сводится на ничто. Но еще хуже то, что правительство Российской империи в одной из ее областей должно считать для себя язык иностранный…
Истекший год начался студенческими беспорядками с прокламациями от вождей и героев нашей революции. Он кончился арестами между учащейся молодежью по делу, имеющему, как говорят, политический характер самого дурного свойства. Интрига, которой нет имени, окончательно избрала средою для своих козней наши учебные заведения. Но 1869-й год прошел в этом отношении не без пользы. Язык событий был так ясен, что и самые тупые умы начали смекать характер зла, которое так нахально издевается над целым народом. Сущность зла должна быть раскрыта; его источники должны быть исследованы; поможет ли нам в этом наступивший год? Если бы так, то он бы стал годом, благословенным в истории Русского государства».
7-го января. Сегодня великая княгиня сказала мне, что она послала копию с манифеста императрицы Екатерины к императрице и что получила от нее благодарственный ответ за эту присылку. Причем она пишет, что передала манифест государю, но что он его не читал. Великая княгиня думает, что этот манифест может успокоить царя тем, что он увидит, что и прежде прокламации бывали. Но я думаю, что теперь его уже ничто не может успокоить, ибо его уже слишком настращали. К тому же вчера в «Судебном вестнике» появилась статья о III Отделении, в которой приводится манифест императора Александра I об уничтожении Тайной канцелярии[159]. В этой статье нет ничего особенно резкого, но она, говорят, произвела сильное раздражение. Номер «Вестника» задержали и секвестровали, и против редактора должны теперь начать преследования, так как предварительное задержание прежде суда по закону дозволяется только с тем, чтобы в то же время начато было судебное преследование. Говорят, государь так раздражен, что выразил намерение сослать редактора Лохвицкого в Усть-Сысольск. Не знаю, чем кончится это дело, но статья такого содержания, что преследовать ее решительно невозможно без скандала. Я знаю, что стараются как-нибудь устроить, чтобы судили при закрытых дверях, но этого никак нельзя сделать без явного нарушения закона. Я постараюсь достать этот номер запрещенной газеты и приложу его к своему дневнику, ибо уверен, что эта статья подаст повод к разным глупостям. Я очень рад, что великая княгиня не послала всей моей записки о прокламациях, а только один манифест Екатерины, потому что в записке моей приписан также манифест Александра о Тайной канцелярии, и потому совпадение этой записки со статьей в «Судебном вестнике» могло бы показаться странным. Удивительное, право, время мы переживаем. Вся Россия так спокойна, так занята мирными делами и пользованием материальными улучшениями, что едва ли какое-либо время можно сравнить с настоящим, а государь, окруженный людьми, явно пользующимися его нервическим состоянием, предается неумеренным страхам и, видимо, хочет пуститься в необузданную реакцию. Страшную ответственность берут на себя люди, завлекающие государя в такой безвыходный лабиринт.
10-го января. Вот статья «Судебного вестника», наделавшая столько шуму, несмотря на то что ее задержали и что успели выпустить только несколько номеров. Судебного преследования, говорят, не будет, а так как редактор имеет права по закону требовать преследования, то ему, говорят, объявили, что при первом его поползновении подать об этом просьбу в Сенат его сошлют в Усть-Сысольск.
О политической полиции в России
До известной степени понятно, что существуют такие органы, как органы тайных обществ, тайные судилища, заводимые противниками существующих порядков в государстве. Но когда сама государственная власть учреждает тайную расправу, когда, таким образом, она сама составляет протест против судебных и политических учреждений, ею же установленных, — тогда недоразумение неразрешимо.
Такое ненормальное явление, однако, существовало у нас с очень древних времен. Бояре жаловались на великого князя Василия Ивановича[160], что он доверяется во всем дьякам. Царь Иван Грозный учреждает опричнину. При царе Борисе «злые шептуны» в полной силе. Царь Михаил Федорович посылает для надзора над действиями не только областных начальников, но и полковых воевод — своих приближенных дьяков. Шеин колотил их и за это поплатился головой. При царе Алексее Михайловиче учреждается знаменитая «Тайная канцелярия», которая свое настоящее и ужасное значение приобретает при Петре Великом под начальством Ушакова и Толстого. Все дела политические ведались этим грозной памяти учреждением. Под политическими делами тогда подразумевали не только бунты и заговоры, но и слова, противные, какие бы ни были выражения, мысли, которые могли быть истолкованы в смысле, неприятном для особы государя. Это было то же, что революционный трибунал Французской республики. Все власти, гражданские, военные, духовные, ложились в прах перед грозной и всемогущей Канцелярией. Что она делала при императрице Анне и Бироне — о том страшно вспомнить. Петр III уничтожил Тайную канцелярию. Велик был восторг России. По этому случаю Ломоносов написал торжественную оду. Екатерина II подтвердила это уничтожение. Но при Павле I Тайная канцелярия была восстановлена под названием «Тайной экспедиции». Если при этом государе не было пыток, то ссылка без суда дошла до колоссальных размеров. Император Александр I, через несколько дней после своего вступления на престол, издал торжественный манифест об уничтожении навсегда Тайной экспедиции. В этом знаменитом акте подробно излагается вся несвойственность подобных учреждений с формою правления, существующего в России, и с благом страны. Приводим его целиком:
«Нравы века и особенные обстоятельства времен протекших побудили государей, предков наших, между прочим, временными постановлениями, учредить Тайную Розыскных Дел Канцелярию, которая, под разными именами и на разных правилах, даже до времен вселюбезнейшей бабки Нашей — государыни императрицы Екатерины II-й, существовала. Признав судилище сие установленному в России образцу правления не свойственным и собственным правилам ее только противным, в 1762-м году изданным манифестом она торжественно его уничтожила и отвергла. Таким образом, имя сей Канцелярии было уже в положениях закона изглажено. Между тем, однако же, по уважению обстоятельств, признано было нужным продолжать ее действие под названием „Тайной экспедиции“ со всевозможным умерением правил ее личной мудростью и собственным высочайшим всех дел рассмотрением. Но, как с одной стороны, впоследствии времени открылось, что личные правила, по самому существу своему перемене подлежащие, не могли положить надежного оплота злоупотреблению, и потребна была сила закона, чтобы присвоить сим надлежащую непоколебимость, а с другой, рассуждая, что в благоустроенном государстве все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общей силою закона. Мы признали за благо не только название, но и самое действие Тайной экспедиции навсегда упразднить и уничтожить, повелевая все дела, в оной бывшие, отдать в Государственный архив к вечному забвению. На будущее же время ведать их в 1-м и 5-м Департаментах Сената и во всех тех присутственных местах, где ведаются дела уголовные. Сердцу нашему приятно верить, что, сливая пользы наши с пользами наших верноподданных и поручая единому действию закона охранение Имени нашего и государственной целостности от всех прикосновений невежества или злобы, мы даем им новое доказательство, колико уверены мы в верности их нам и престолу нашему, и что польз наших никогда не разделяем мы от их благосостояния, которое едино составлять всегда будет все существо мыслей наших и воли. В прочем предоставляем Сенату постановить и пополнить порядок производства дел сего рода в местах, до коих они принадлежат».
Полн. собр. зак. № 19813, 1801-го года 2-го апреля.
Что можно прибавить к этим прекрасным словам, исшедшим с высоты престола?
В царствование императора Николая 1-го было учреждено 3-е Отделение Собственной Его Величества Канцелярии. Даже в «Полном собрании законов» нет ни одного акта, который бы определял предмет ведомства этого учреждения, степень власти его начальника. Несколько лет тому назад в записках Общества истории и древностей[161] были напечатаны документы по делу о распространении православия в Прибалтийских губерниях. Это единственный нам известный печатный материал, дающий понятие о той власти, которую имеет главноуправляющий Ш-м Отделением. Далее, официально известно, что он, вместе с тем, и шеф Корпуса жандармов. Эти жандармы учреждены были при Александре 1-м только как конная внутренняя стража. Пешая внутренняя стража (теперь — губернские батальоны) остались и впоследствии, при первоначальном значении, но конной дано иное назначение: она выделена от подчинения местной администрации и Военному министерству. Официально известно, что империя разделена на жандармские округа, что в каждом губернском и некоторых не губернских городах находится жандармский штаб офицеров с командою. Наконец, официально известно, что после упразднения звания петербургского генерал-губернатора обер-полицмейстер подчинен как шефу корпуса жандармов, так и министру внутренних дел.
Вот все, что официально известно о Ш-м Отделении Собственной Его Величества Канцелярии. Эта неизвестность порождает в обществе самые фантастические толки о таинственной власти, пребывающей у Цепного моста. Министерство политической полиции существовало как самостоятельное во многих государствах. О его целесообразности могут быть разные мнения, как и о всяком другом министерстве, и нет никаких причин для правительства скрывать или покрывать его существование. При известных обстоятельствах оно может оказать существенную пользу, при других оно с удобством может быть соединено с Министерством внутренних дел. Другой вопрос о его власти. Что Ш-е Отделение не есть политический суд, вроде Тайной канцелярии или Экспедиции, об этом нечего и говорить. Если 70 лет тому назад император Александр I признал, что целость государства и безопасность главы государства достаточно обеспечены законами и общими судами, то правительство, в противность истории, духу и букве манифеста (имеющего значение не преходящего, а постоянного закона), очевидно, не могло считать целесообразным существование подобного учреждения в наше время. Но, как небезызвестно всем, Ш-е Отделение, не будучи судом, а политической полицией, обладает, между прочим, властью — ссылать в отдаленные места без суда.
Всякий уголовный суд имеет значение только по власти наказывать. Таким образом, оно пользуется важною уголовного властью без тех гарантий, которые существуют для подсудимого на суде. Здесь мы касаемся важнейшего из вопросов русской общественной жизни. У нас существует твердый закон, независимый суд. Рядом с этим не гарантирует существование учреждения, действующего без судебных реформ, но могущего ссылать и заключать административным порядком. Спросим об одном — достигают ли эти меры той цели, с которой их предпринимают?
Нам случалось слышать от людей, вполне честных, что такого рода меры составляют печальную необходимость для очищения столиц от людей зловредного образа мыслей, нигилистов и проч…. Во-первых, заметим, что воспрещение жить в столицах вовсе не одно и то же, что ссылка на неопределенное время в Повенец или Усть-Сысольск. В первом случае человек может избрать себе место жительства, где хочет, может уехать за границу. Обратимся к последствиям. Они прямо противоположны цели. Лица ничтожные, которых крайние и часто до безобразия неверные мнения в столице не могут принести большого вреда, потому что здесь действует масса умственных сил большого разряда, их уничтожающих, в Повенце или Кадоме являются колоссами. Здесь-то они и могут вести свою пропаганду без всякого отпора. И так зло, которое по естественному ходу вещей могло зародиться только в одном пункте и где оно не могло разрастаться, мы переносим на незащищенные части тела. Это одно последствие, даже в таком предположении, что администрация обладает талисманом безошибочно отличать людей зловредных от хороших, и при другом предположении, что все ее агенты непременно самого благонадежного образа мыслей, чувств и действий. Способы выполнения первостепенными агентами часто еще усугубляют без нужды тяжесть меры. Известны случаи, когда человека, даже не замешанного в политической истории, брали внезапно и ссылали. У него есть семейство, у него могут быть важные личные дела, и ему не дают ни дня времени, чтобы распорядиться своими делами, оградить хотя бы свои имущественные интересы, распорядиться детьми, снарядиться в далекий путь, избрать поверенного, даже проститься с семейством.
В минуту государственной опасности власть обязана принимать самые решительные меры; в таких случаях и в древнем, свободном Риме Сенат давал властям полномочия чрезвычайные. Но что полиция политическая и не политическая, во время спокойствия, не при военном положении, имела право действовать по этому римскому обычаю, — этого нельзя согласить ни с государственными интересами, ни с законностью. В течение 18-го и частью 19-го века русское правительство было ограничено, собственно, только двумя началами, неизвестными старой России, где ограничениями были церковь, обычаи, родовая аристократия в лице боярской Думы, земские советы. Эти два ограничения новой России заключались, во-первых, в имени Петра Великого, во-вторых, в «что скажет Европа». Все преемники Петра Великого торжественно ставили его образцом для себя: его учреждения, планы, мнения считались святынею. Каждый важный новый закон подкреплялся ссылкою на имя Петра. Этот культ имел благодетельные последствия: он был ручательством прогрессивного движения нашей страны, он давал нам предания, известный порядок, устанавливал известный круг политических идей. Другое начало — «что скажет Европа», в сущности, превосходное, выражавшее стремление стать европейским государством, а не возвращаться в Азию, вело, однако, часто к лицемерию: устанавливалась двоякая жизнь — одна напоказ, для Европы, другая — закрытая, для внутреннего обихода. Мы можем насчитать много учреждений, сделанных только для параду, явных, торжественных, — это для Европы — и можем насчитать много и таких учреждений и мер, которых Европа не разглядит, которые прикрыты ничего не выражающими именами, но в которых заключается вся суть дела, это для домашнего обихода. Люди прошлого века находили все это естественным; то, что составляет сущность Европы — законность и общественные льготы их мало интересовали. Но времена переменились. Мы, конечно, дети Петра Великого, но мы также дети великих прогрессивных начал новой европейской жизни. Конечно, и теперь небезынтересно справляться о том, «что скажет Европа», но гораздо более нужно размышлять о том, «что скажет Россия», которая подросла и может говорить.
11-го января. За приведенные выше статьи «Московских ведомостей» дано им первое предостережение; Катков напечатал это предостережение и в передовой статье принес повинную. Эта статья удивила всех, о ней много тол-куют и объясняют ее различно, в этой путанице ничего понять нельзя. Я, со своей стороны, рад, что Катков не прекратил издания. По крайней мере остается на некоторое время хоть один честный орган. По той общей радости, которую выражала немецкая, польская и шуваловская партии при известии о том, что «Московские ведомости», вероятно, перестанут выходить под редакцией Каткова, можно судить о значении этого органа. Прилагаю текст предостережения и статью Каткова.
Распоряжение министра внутренних дел
8-го января 1870-го года
Принимая во внимание, что:
Передовые статьи № 2 и № 3 «Московских ведомостей», обозревая события и обстоятельства минувшего года, изображают многие из сторон правительствен-ной деятельности и вообще положение дел нашего отечества в превратном виде и тем способствуют распространению в обществе неосновательных и тревожных опасений, могущих возбудить в нем недоверие к правительству, и что подобные явления в печати, не согласные с духом действующих о ней постановлений, не могут быть терпимы без прямого ущерба достоинству и значению Правительственной власти.
Министр внутренних дел на основании статьи 29, 31 и 33 ОТ. II, высочайшее утвержденного 6-го апреля 1865-го года, мнения Государственного совета, согласно заключению совета Главного управления по делам печати, определил: объявить первое предостережение газете «Московские ведомости» в лице издателей редакторов статских советников Михаила Каткова и Павла Леонтьева.
Москва, 10-го января
«Во главе нашего сегодняшнего номера печатается касающееся нас распоряжение министра внутренних дел. Закон, в силу коего сделано это распоряжение, возбраняет обсуждение оного в том самом номере, где он печатается. Но закон не запрещает газете, подвергшейся предостережению, обратиться к самой себе. Мы рады, что нам представляется случай, хотя и прискорбный, доказать на деле наше уважение к обязательной силе закона, вопреки лжетолкованиям, которым так часто подвергались наши слова и действия. Мы беспрекословно подчиняемся авторитету правительственной власти и с легким сердцем принимаем сделанное нам предостережение; поступая так, мы не противоречим нашему прошедшему. Напротив, мы предполагаем, что остаемся верными ему и исполняем долг, которому следовали в продолжение всей нашей деятельности. Был случай, тому назад почти 4 года, когда мы затруднились принять сделанное нам предостережение. Оно, так казалось нам, поражало нас в том, что было самого существенного в нашем направлении. Принять его и продолжать деятельность значило отречься от того, что давало ей смысл и цену в наших глазах. Мы не могли этого сделать и предпочли отказаться от издания по истечении установленного законом, как мы полагали, льготного срока. Мы не хотели избежать действия власти — напротив, мы добровольно подвергались самым тяжким последствиям столкновения с ней. Единственною целью общественной деятельности нашей, поскольку она имеет политический характер, было служить интересам правительства. Могли ли мы, по совести, продолжать наше служение, когда оно, во имя правительственного авторитета, было осуждено в самой сущности своей? Нынешний случай не имеет ничего общего с тогдашним. Речь идет не о существенном осуждении нашего направления — оно остается вне вопроса, а о 2-х статьях, которые появились в нашей газете и которые, мы сознаемся в том, могли подать повод к предостережению на основании действующих о печати постановлениях.
Перечитывая наши статьи, мы видим ясно нашу погрешность. По обычаю, нам предстояло в начале наступившего года сделать краткий обзор минувшего. Мы были под тяжким гнетом происходивших событий и чувствовали на себе всю силу борьбы, которую должны были выдерживать, и интересы, самые дорогие для всякого честного и мыслящего русского человека. Мы не могли не начать с того, что господствовало над всеми нашими мыслями и покоряло все наши соображения. Но мы упустили из виду свойство простой задачи, которая нам предстояла, и ошибочно поставили под одним углом зрения предметы самые разнородные и явления, требующие особых оснований для своей оценки. То, что было противовесом злу, недостаточно выступало на свет и исчезло в неправильной группировке. И дурное, и хорошее проникалось чувством общей горечи. Вместо полного фактического обзора явился ряд как бы случайно собранных, не имеющих внутренней связи и не соразмерных одна с другой оценок, и вся картина в совокупности вышла столько же мрачная, сколько несоответственная истине. Можем ли мы сетовать за порицание того, что, по нашему собственному убеждению, не может быть одобрено? Пусть наши ошибки и погрешности подвергаются осуждению, мы не желаем для них привилегий. Пусть поражают нас в наших погрешностях: этим только возвышается дело, которому мы служим и перед которым должна исчезнуть наша личность и замолкнуть наше самолюбие. Мы сделали промах и должны пенять на себя. Промах есть промах, и мы не считаем себя вправе на снисхождение, во имя наших добрых намерений. С чем боролись мы непрерывно? Не с той же тенденцией, которая поставила себе задачей клеветать на положение дел в нашем отечестве и представлять его на краю гибели, для того, чтобы действительно направить его к гибели? Не с тем ли обманом, который неутомимо старается обойти все наши дела и пытается обезглавить лучшую страницу нашей истории? Не с той ли, теперь всем видимою, интригой, которая подкапывается под благие начинания верховной власти и подрывает доверие к правительству в самых важных и самых трудных пунктах государственного домостроительства? Лишь органы этого направления, в печати и не в печати, нуждаются в привилегиях, иначе они не могли бы действовать и высказываться.
Нам предоставлено передать издание нашей газеты Университету[162] по первому полученному предостережению. Право это мы удерживаем за собою, но должны ли мы воспользоваться им в настоящую минуту? Некоторые нам сочувствующие, но мало нас знающие лица, по прочтении наших статей, о которых идет речь, полагали, что мы, утомленные долгой, непрерывной деятельностью, полной борьбы, тревог и потрясений, сами хотели вызвать предостережение, чтобы иметь предлог сойти с арены, — нет, мы не имели этой мысли и вот доказательство: мы остаемся при деле, несмотря на представившуюся возможность отказаться от газеты без нарушений наших обязательств. Мы остаемся, несмотря на то, что силы наши действительно требуют отдыха. Мы думаем, что именно в это время мы не должны покидать свой пост. Если бы внутреннее чувство недостаточно ясно говорило нам в таком смысле, то нас не могла бы в этом не убедить ожесточенная вражда, которой мы стали предметом и которая именно теперь достигает крайних пределов».
16-го января. Сегодня, в первый раз в нынешнем году, был я приглашен к обеду к царю. За обедом были: царь, царица, княжна Мария Александровна и великий князь Алексей Александрович, а из приглашенных — Муханов Η. Α., граф Шувалов (шеф жандармов), Григорий Строганов и я. Царь, казалось, был в хорошем расположении духа, за обедом рассказывались, по обыкновению, анекдоты, особенно потешались над графом Бергом, приводили образцы его благерства[163] и просто лжи. Граф Шувалов имеет вид человека, вполне сознающего свою силу. После обеда говорили с царем наедине, видимо, все о производящемся деле заговора. Рано или поздно надо же будет обнаружить, в чем дело. Трудно верится, чтобы могло быть что-нибудь серьезное. Со мною и царь и царица были очень ласковы. Замечательных разговоров не было.
Сегодня сын мой Александр поехал за границу с двоюродным братом своим Валерианом. Оба кончили вместе курс Московского университета, учились хорошо и кончили кандидатами. Отправились они за границу погулять и отдохнуть, ибо они весьма благоразумные и скромные юноши, дай Бог, чтобы путешествие пошло им впрок.
6-го февраля. Странная публикация появилась обо мне в иностранных газетах, я узнал о ней третьего дня, на маскараде в Дворянском собрании, от французского посла — генерала Флери, который предлагал мне свои услуги, чтобы телеграфом опровергнуть глупое известие о моем, будто бы, аресте. Но так как это известие заимствовано французскими газетами из краковской газеты, уже известной своими гнусными выдумками, то я предпочел ограничиться опровержением в «Journal de St. Petersburg». Прилагаю при сем эту публикацию.
Вчера был утром концерт у великого князя, на котором, кроме царя, была вся царская фамилия. Великий князь показал императрице №, где помещена краковская корреспонденция, и императрица ее прочла громогласно, при всеобщем смехе. Нельзя понять цели подобной публикации; полагаю, что имя мое, как более известное на границе и в Кракове, попалось случайно под руку сочинителя фальшивых известий, и он воспользовался им для того, чтобы пустить в ход газетную утку. Как бы то ни было, но, вероятно, многие поверят этому известию, несмотря на опровержение.
Публикация отсутствует.
9-го февраля. Сегодня я обедал у царя с князем Черкасским — московским городским главою — и князем Долгоруковым — московским генерал-губернатором. Царь и царица были очень любезны и говорили с удивлением о газетной выдумке на мой счет. За обедом государь показался мне в особенно хорошем расположении духа, в каком я его уже давно не видел. Видно, что ни ему, ни мне не успели много нагадить наши общие благоприятели — Шувалов и К°. Внимание царя к Черкасскому может иметь значение. После выхода Черкасского в отставку и оставления должности главного директора внутренних дел в Царстве Польском, несмотря на убедительную просьбу царя остаться на этом месте, можно было ожидать, что он впадет в совершенную немилость, тем более что на него, как на главного деятеля в Польше, преимущественно сосредоточена была злоба польской партии и всех петербургских ее доброжелателей. В прошедшем году Черкасский был выбран в Москве городским главою, и он теперь из всех кандидатов на высшие должности самый способный. Он мог бы быть весьма полезным министром внутренних дел. Но для того, чтобы подобное назначение могло состояться, нужно, чтобы потребность в употреблении способных людей сделалось крайнею и чтобы Шувалов с братнею удалились. А этого теперь еще не предвидится. Но важно уже то, что личность Черкасского, видимо, не противна царю и что в данных обстоятельствах призыв его к службе может быть возможен.
Теперешний министр внутренних дел генерал Тимашев до того уже плох, что крайняя его неспособность становится уже поразительна. Едва ли он может долго удержаться на своем месте. Почти все его представления в Государственный совет и в Комитет министров не только отвергаются, но даже подвергаются всеобщему осмеянию. Товарищи его еще неспособнее и плоше его. Недавно Тимашев представил государю на утверждение проект оснований административно-полицейской реформы и просил государя утвердить эти основания, но государь приказал внести их в Комитет министров, и теперь проект этот разослан министрам для представления их соображений. По поручению министра финансов, я, со своей стороны, дал свой отзыв на этот проект. Это такое безобразие, что трудно поверить. Проект этот обличает в составителях так мало не только знаний и понимания дела, но даже простых сведений о порядке и способе ведения законодательных работ, что нельзя серьезно его обсуждать. По всей вероятности, он будет забракован. Журналистика подхватила теперь этот вопрос и разбирает его беспощадно. Быть может, Тимашев почувствует наконец свою неспособность и удалится. Тимашев есть довольно верный тип людей, которым после каракозовской истории поручено управление делами. Он в молодости, после окончания юнкерской школы, служил в гвардии, в Кавалергардском полку, был хорошим и ловким танцором и отличался талантом карикатуриста и скульптора, но делами никакими никогда не занимался. Во время Венгерской войны[164] служил где-то в штабе, а потом назначен был начальником Корпуса жандармов в то время, когда князь Василий Андреевич Долгоруков был шефом. Эта служба в III-м Отделении исковеркала и те природные способности, которые у него были. Простой смысл неглупого человека, не получившего особенного образования, получил фальшивое, мелко полицейское направление. Он был противником всех реформ, по крайней мере слыл таковым, но ни одной из произведенных реформ он, в сущности, не понимал, а принадлежал всегда к числу гостиных ругателей и консерваторов. Будучи недовольным мягкостью характера Долгорукова, он, под причиной болезни, вышел в отставку и жил за границей, ничем не занимаясь. Его призвал государь сперва на должность министра почт, а потом и министра внутренних дел, соединив эти два министерства, собственно, потому, что после реакции, происшедшей в государе после каракозовского покушения, он не только стал подозрительно относиться ко всем произведенным реформам, но также, и в особенности, стал дурно расположен и ко всем лицам, которые участвовали в сих реформах или явно им сочувствовали. Он стал призывать на высшие должности людей, которых знал недовольными этими реформами, полагая и надеясь, что эти люди будут в состоянии остановить дальнейшее развитие этих реформ. Но, не говоря уже о том, что ничто, в сущности, не оправдывало отступательного движения, государь ошибся еще и в том, что люди, которым дана была власть, оказались столь неспособными и невежественными, что они не в состоянии до сих пор формулировать ни одного мало-мальски толкового предложения, даже в реакционерском смысле. Так, все попытки Тимашева законодательным путем изменить что-либо в законах о печати, о земстве, о крестьянстве остались тщетными и взяты назад, не выдержав критики Государственного совета, даже при настоящем его составе. То же будет, вероятно, с его проектом основных положений административно-полицейской реформы, цель которой, насколько можно ее понять, заключается в ограничении прав, дарованных земским и судебным учреждениям, под предлогом необходимости усилить власть губернаторов.
В «Московских ведомостях» появилась очень хорошая статья в опровержение пущенного газетами известия о моем аресте. Кроме того, и в иностранных газетах, как французских, так и немецких, напечатаны телеграммы в опровержение этого известия.
Сегодня на балу у английского посланника государь подошел ко мне и сказал, что получил письмо от королевы Вюртембергской Ольги Николаевны, которая очень смущена прочитанным ею в газетах известием о моем аресте и беспокоится и просит уведомить ее, правда ли это. То же самое сказали мне великая княгиня Ольга Федоровна и Евгения Максимилиановна, которая получила письмо от сестры своей Марии Максимилиановны Баденской. Я тоже начинаю получать с разных сторон вопросы. Эта пущенная, не знаю кем и зачем, утка обо мне начинает походить на собаку Алкивиада[165]. Вреда, во всяком случае, она мне не принесет.
18-го февраля. Сегодня было у императрицы un petit comité[166] музыкальное утро, я был с женой и Вавочкой. Пела Патти. Я получил письмо от Саши из Ниццы. Он пишет мне, что в день отъезда его из Парижа он прочел там в газете «Gaulois» известие о моем будто бы аресте, вследствие сего он немедленно отправился в редакцию этой газеты и заставил ее напечатать опровержение этого известия.
26-го февраля. На прошедшей неделе здесь весьма усердно справляли масленицу. В Зимнем дворце было два бала — в Концертной зале и в Эрмитаже и, кроме того, в последний день — déjeuner densant[167] в Золотой зале, тут государь много танцевал. Кроме того, были балы у наследника и у графини Протасовой. Между тем остзейский вопрос опять начинает шевелиться. Лифляндские бароны на Ландтаге[168] составили адрес, который прислали сюда государю, помимо генерал-губернатора. В том адресе они, в сущности, ничего не просят, ибо заключают вообще призывом к восстановлению их прав. Но адрес тот замечателен тем, что в нем откровенно и смелее, чем прежде, выражают лифляндцы свою претензию на полную самостоятельность; ссылаясь на аккордованные пункты[169] Петра и на Нейштадтский мир, они прямо заявляют, что отношения их с Россией устанавливаются международным договором, ограничивающим будто бы право русского правительства применять к ним в каких-либо случаях русские законы, жалуются, что правительство не позволяет православным переходить в протестантизм и что права, дарованные Сигизмундом Августом об исключительном употреблении немецкого языка, нарушаются последними распоряжениями правительства. В заключение они говорят, что обращаются к государю не как верноподданные, а как к своему покровителю: все эти демонстрации немецких баронов доказывают, что они рассчитывают здесь на сильную поддержку графа Шувалова и что они хотят во что бы то ни стало заручиться теперь же какими-нибудь новыми аргументами или актами для укрепления своих прав, ибо чуют, что нынешнее царствование есть для них самое благоприятное и что оно, вероятно, последнее. Государь, как ни снисходителен к требованиям остзейских баронов, однако, видимо, смущен их заявлениями. Но вместо того, чтобы просто не принять подобного адреса, он намерен объявить отказ в умеренной форме. На совет к этому делу призваны только Урусов, Панин, Шувалов, Альбединский и Тимашев, все происходило в величайшей тайне, придумывают разные выражения в опровержение требования, и заранее можно сказать, что выйдет вздор. Цель лифляндских баронов, во всяком случае, будет достигнута, ибо им важен тот факт, что адрес приняли, что его обсуждали, и что хотя со взглядом их не согласны, но что почва, на которой они поставили вопрос, не отвергнута. Вот в подобных-то делах более всего прискорбно видеть, что нет ни одного мало-мальски способного и умного государственного человека среди близких соратников государя. Замечательно то, что все лица, от которых государь мог бы ожидать по остзейскому вопросу несколько самостоятельный взгляд, нарочно не призваны им на совещание по этому делу. Так, Горчаков не только не был призван, но во время заседания находился в соседней комнате, ждал окончания совещания для своего доклада. Ни Милютин, ни Зеленый, ни великий князь Константин Николаевич не были призваны. Хотя все это происходит под охраною величайшей тайны, но уже в публике начинают говорить о каком-то лифляндском адресе, и в «Голосе» вчера появилась довольно сильная статья, которую я здесь прилагаю.
«Голос», 24-го февраля 1870-го года.
Тройная стена «вековых привилегий», местных особенностей и канцелярской тайны, окружающих немецко-балтийских деятелей, не всегда может удержать вверяемые ей секреты. Изредка доносятся до русского народа отрывочные слухи о том, что делается в землях, приобретенных его кровью. Жалобы угнетаемого населения не всегда могут быть заглушены своевременными «мероприятиями». Торжество триумфаторов не всегда держится в пределах достодолжной аккуратности и умеренности, отличающей немцев.
В числах этих отрывочных сведений первое место должен занять слух об адресах, будто бы составленных ландтагами трех балтийских губерний в последнее их собрание, о ходе которого мы своевременно извещали читателей. Адреса эти, как слышно, с поразительной ясностью формулируют требование горсти немецких колонистов по отношению к русскому народу и высшей власти в империи. Дело идет уже не только о преобладании немецкого языка над русским, протестантизма над православием, «местных особенностей» над общими законами, а об установлении местного представительства, особого от учреждений Русской империи и общего только для трех прибалтийских губерний.
Не знаем, до какой степени верен тот слух, но говорят, что для губерний Митавской, Ревельской и Рижской предполагается ввести один общий ландтаг, наподобие провинциальных сеймов, существующих в областях горемычной Австрийской империи. В состав этого ландтага будто бы войдут: местное дворянство, представители от бюргерства, крестьян-собственников, которых, как известно, весьма немного в Балтийском крае, и он будет призван к участию в управлении всеми делами объединенного таким образом края.
Результат подобного нововведения нетрудно предвидеть. Элементы, наиболее враждебные России, объединятся и получат организацию. Объединившись, они будут способствовать окончательному отделению от России ее законного достояния: масса крестьянства, лишенная права в представительстве, будет отдана в безусловное распоряжение классов, усиленных новою реформою ландтага. Отсюда до превращения «Балтики» в новую Финляндию — один шаг.
Кто же, однако, дал право губернским ландтагам говорить о делах, касающихся не только целого края, но и его отношений к России? Кто дал право ничтожной горстке населения говорить именем всего народа, населяющего этот край? Мы многого ожидали от самоуверенных наших германцев, но такого шага, признаемся, не могли предвидеть (в то время, конечно). Им должно бы быть известно, чем кончилась попытка соединения Подольской губернии с конгресувкою[170] и как был встречен адрес дворянства этой губернии. Даже не столь вредные для нас, но все-таки противозаконные стремления вызывали неприятные последствия для виновных. Вот еще важный для нас прецедент. В 1865-м году московское дворянство составило всеподданнейшее прошение, в котором выражало желание иметь нечто вроде земского собора. Участь этого прошения и лиц, участвовавших в его составлении, известна. Затем государь император изволил категорически выразить свой взгляд на подобные стремления в рескрипте, данном на имя бывшего министра внутренних дел. Вот эти достопамятные слова: «Никому из моих верноподданных не предоставлено право предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и предрешать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. Ни одно сословие не имеет законного права говорить именем других сословий. Никто не призван принимать передо мною ходатайства об общих нуждах и пользах государства». Так обратилась верховная власть к дворянству коренной, так сказать, первопрестольной русской губернии, когда оно вышло из пределов прав, предоставленных ему законом. Спрашивается, больше ли может позволить себе дворянство трех завоеванных русским оружием губерний, только потому, что оно немецкого происхождения? Дворяне-немцы больше ли имеют оснований говорить от всех сословий и преимущественно от имени крестьянского сословия… Мы бы очень бы желали услышать мнение трех прибалтийских губерний о том общем лифляндском ландтаге…
Этого мало, московское дворянство, конечно, нарушило законы страны, но нарушение это далеко не имеет такого объема, как поступок дворянства балтийского, если верить слухам о его притязаниях. Так или иначе, дурно или хорошо, но московское дворянство имело в виду пользу всей России, всего государства. Сама верховная власть не видела в его желаниях ничего, что было бы само по себе безнравственно, абсолютно вредно для нашего отечества. В прошении дворянства рескрипт осуждает не содержание его, а, так сказать, его форму, в которой усматривалось «уклонение от установленного действующими законами порядка». В чем же состояло это уклонение? На это отвечают многознаменательные слова рескрипта. «Право начинания, по главным частям постоянного совершенствования государственного устройства, — говорится в рескрипте, — принадлежит исключительно Мне и неразрывно сопряжено с самодержавною властью, Богом мне вверенною». Далее рескрипт указывает, как мы видели, что одно сословие не имеет права говорить именем других и ходатайствовать об общих пользах государства. Стало быть, дворянство вошло в обсуждение неподлежащих ему дел и присвоило себе право почина по общегосударственным вопросам. Это поступок, составляющий очень крупное полицейское правонарушение, но не могущий подойти под понятие государственной измены или другого преступления, подлежащего верховному уголовному суду. Дворянство не нарушило общих обязанностей верноподданных. Оно не покушалось ни на целостность государства, ни на достоинство короны. Оно стояло, верно или неверно, — но только на почве государственных усовершенствований. Поэтому было полное нравственное основание после слов необходимого порицания закончить рескрипт следующими словами: «Я твердо уверен, что не буду встречать впредь таких затруднений со стороны русского дворянства, вековые заслуги которого перед престолом и отечеством Мне всегда памятны и к которому Мое доверие всегда было и ныне пребывает непоколебимым». И можно ли не доверять? Не русское ли дворянство подчинилось безропотно всем жертвам, вызванным крестьянскою реформою? Не оно ли теперь, в значительном числе, заботливо старается, вместе с другими сословиями, об успехе современных реформ? Оно с негодованием смотрит, как русские законы и высочайшие повеления обходятся в некоторых наших окраинах, как попираются, нередко нашими собственными руками, законнейшие права России, и если (чего Боже храни) дело дойдет до нового вооруженного столкновения, оно сумеет умереть или победить.
То ли мы видим в попытке балтийского дворянства — если, повторяем, слухи о ней справедливы? Нет, здесь речь идет не об улучшении быта России, которой оно чуждо, не о дальнейшем развитии наших реформ, которых оно боится, а об окончательном отделении трех наших губерний от государственного организма.
Опираясь на крючкотворное толкование каких-то затхлых привилегий, оно считает себя вправе говорить не как подданные, а как страна, имеющая быть особым государством. Оно одинаково посягает на целостность России и на достоинство короны…
Один слух о подобном покушении до такой степени возмутителен, что молчать о нем невозможно. Мы живем в такое время, когда благодаря великодушию монарха голос свободного русского человека может раздаваться громко и иметь некоторое значение. Голос Карамзина в польском вопросе перевесил «многих своекорыстных» шептунов. Вот что говорил Карамзин императору Александру 1-му До какой степени мы ушли вперед, благодаря царствующему государю императору Александру П-му, доказывается уже тем, что знаменитая записка Карамзина, составляющая прежде величайшую тайну, теперь напечатана, с дозволения цензуры, в прекрасном труде г. Гогеля ‘Иосафат Огрызко'. Оттуда мы и заимствуем ее:
«Можете ли Вы с мирною совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынь, Подолию, утвержденные в собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целостность своих держав? Сии земли уже были Россией, когда митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами назвали Великою. Скажут ли, что она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить мнимую ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом — вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все государства составлены завоеваниями. Екатерина ответствует Богу, ответствует истории за свое дело, но оно сделано и для Вас уже свято: для нас Польша есть законное российское владение. Старых крепостей нет в политике, иначе мы долженствовали бы восстановить и Казанское и Астраханское царство, Новогородскую республику, великое княжество Рязанское и т. д. (Карамзин мог бы прибавить и Ливонский орден). К тому же и по старым крепостям Белоруссия, Волыния, Подолия, вместе с Галицией, были некогда коренным достоянием России (ни дать ни взять, как и наши балтийские окраины. Ведь Дерпт — наш Юрьев). Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Смоленска, и Чернигова, ибо они также долго принадлежали враждебной Литве; или все, или ничего. Досель нашим государственным правом было: „Ни пяди ни другу, ни врагу“».
Душевно желаем, чтобы слухи о попытках балтийского дворянства оказались ложными, и уверены, что если эта попытка действительно существует, то ее ждет полная неудача.
Автор этой статьи, видимо, еще не читал самого адреса, потому что в нем не говорится вовсе о соединении трех ландратов; тем замечательнее слова его как выражающие порыв негодования при первом известии. Вероятно, «Московские ведомости» тоже поднимут вопль, а в иностранных газетах скоро будет напечатан самый адрес.
Вчера хоронили Дмитрия Гавриловича Бибикова, бывшего министра внутренних дел. Он со времени своей отставки, в начале царствования, жил в Петербурге совершенно вне всяких дел. Государь не был ни на панихиде, ни на погребении. Известно, что все нерасположение его к Бибикову происходило оттого, что Бибиков при покойном государе был киевским генерал-губернатором и там вводил инвентари, следовательно, был как бы предтечею эмансипации. Последствия оправдали также принятую им систему противодействий польской пропаганде в Юго-Западном крае. Государь, вступив на престол, застал Бибикова министром внутренних дел и показал ему явное недоверие, вследствие чего он сейчас же вышел в полную отставку. Удивительно, как впоследствии государь, сам сделавшись эмансипатором и укротителем поляков, не выказал никакого сочувствия Бибикову Я знал Бибикова, когда он был министром внутренних дел, но не был с ним близок. В прошедшем году он выразил желание меня видеть, я посетил его, и он наговорил мне много лестного о моей деятельности по таможенной части, за которой он следил со вниманием, так как он был некогда директором Департамента внешней торговли, и, действительно, время его управления Таможенным ведомством составляет эпоху. Все, что заведено было хорошего, — начато им, он ясно видел вещи, все хорошо понимал и удивил меня живостью своих впечатлений. После моего с ним свидания я получил от него весьма любезное и лестное для меня письмо. Бибиков принадлежал к числу тех крепких и цельных натур, которых теперь решительно нет более между правительственными лицами. Зато ни одно из сих правительственных лиц и не почтило его отдачею последнего долга.
2-го марта. Сегодня совершилась важная перемена в моей служебной карьере. Прибыв в обычный час в департамент, я нашел в швейцарской записочку от министра государственных имуществ — Зеленого, приглашавшего приехать к нему в 2 часа дня для объяснений по весьма важному делу. В назначенный час отправился я к Зеленому, и он встретил меня следующими словами: «Я получил от А. О. Россет — моего товарища — письмо из Москвы, в котором он решительно и окончательно объявляет, что, по совершенно расстроенному здоровью, не в силах больше занимать должность товарища министра, теперь я бью Вам челом и убедительно прошу Вас принять это место». Это неожиданное предложение очень меня озадачило, хотя я давно мечтал о том, как бы освободиться от хлопотливой и деятельной директорской службы, однако трудно мне было решиться сразу бросить внезапно ведомство, с которым слился и которое полюбил. На просьбу мою дать мне время переговорить с министром финансов Зеленый объявил, что он уже говорил с Рейтерном, получил его согласие и даже уже доложил обо всем государю, который, со своей стороны, изъявил свое согласие и приказал прислать ему проект указа о моем назначении для подписания, так что все дело остановилось только за мною. При этом Зеленый сказал, что Рейтерн отрекомендовал ему меня самым лестным образом и просил передать государю, что Министерство финансов лишается во мне одного из лучших своих деятелей, которого заменить будет очень трудно. Действительно, при моем свидании с Рейтерном он показал мне столько неподдельного участия, что я был глубоко этим тронут. Зеленый настаивал на том, чтобы указ был подписан государем не позже завтрашнего дня, ибо он опасается интриг Шувалова, которому мое назначение будет очень не по сердцу. Сам Зеленый серьезно болен и должен в весьма непродолжительном времени ехать за границу, где останется до глубокой осени, а потому мне придется вскоре вступить в управление министерством. Обстоятельства, при которых я вступаю в новую должность, показались мне столь благоприятными, что я, перекрестясь, решился принять предложение Зеленого, и завтра утром указ о моем назначении будет послан государю на подпись. Никто в городе, кроме обоих министров, не знает о моем назначении.
3-го марта. Никак я не думал, что мне так тяжело и грустно будет расставаться с Таможенным ведомством. Когда сегодня утром я пришел в департамент и вспомнил, что, быть может, сегодня последний день моего директорства, то взволнован был до слез. Семь лет я тут работал, и не без успеха, очень полюбил дело и людей, со мной работающих. Я уверен, что очень многие будут искренне меня сожалеть. На мое место будет, вероятно, назначен архангельский губернатор Качалов, которому министр сделал уже предложение. Он явился сегодня ко мне в департамент, очень взволнованный сделанным ему предложением, и просил моего совета — принять ли ему это место или нет. Я очень его уговаривал принять, потому что мне показался Качалов весьма порядочным и умным человеком, я его мало знаю, но слышал о нем много хорошего, его очень полюбил наследник, познакомившийся с ним в комиссии по случаю голода в 1868-м году, где он был членом от Новгородского земства. Мне кажется, Качалов дела не испортит и будет хорошим начальником. Очень бы хотелось передать управление Таможенным ведомством в хорошие руки, чтобы то добро, которое посеяно, не пропало бы бесследно. Только в 8 часов вечера получил я от Зеленого записочку, извещавшую меня о том, что указ о моем назначении подписан. По получении ее я отправился объявить об этом Рейтерну, который пригласил меня поехать вместе с ним к государю в пятницу — в день его доклада. С Зеленым я условился, что вступлю в должность недели через полторы, а до того времени буду заниматься в Таможенном департаменте. Завтра, вероятно, все узнают о моем назначении, и в департаменте будет немалая суета.
4-го марта. Качалов, на котором министр остановил свой выбор для замещения моей вакансии директора, отказался немедленно принять это назначение, хотя оно его и устраивало, но он находил необходимым прежде вернуться в Архангельск и там покончить некоторые начатые дела, так что прежде будущей осени он не может дать решительного ответа. Поэтому мы условились с министром финансов так, чтобы составить доклад государю, в котором изобразить всю трудность немедленного назначения на мое место нового, не знакомого с таможенной службой, человека и засим просить не торопиться с новым назначением, а иметь в виду Качалова, а до того времени поручить управление департаментом вице-директору Тернеру под моим высшим надзором. Я пойду представляться государю послезавтра вместе с министром финансов, у которого в этот день доклад, — он, кажется, собирается сделать обо мне особенно лестную аттестацию и просит мне денежную награду, ссылаясь на значительное приращение дохода. По справке оказывается, что во время моего управления таможенные доходы увеличились с лишом на 12 миллионов рублей. В городе назначение мое сделалось известным. В департаменте сегодня все чиновники ходили, как шальные, — они действительно имеют основание меня сожалеть и тревожиться неизвестностью их будущего положения. В обществе все убеждены, что мое назначение есть доказательство справедливости давно ходящих слухов о преобразовании Министерства государственных имуществ в Министерство торговли и хозяйства. Кроме того, моему назначению придают значение политическое, в том смысле, что принадлежу к партии, враждебной Шувалову и К°. Великий князь Константин Николаевич радуется моему назначению в этом последнем смысле, ибо уверен, что во всех комитетах, где я буду заменять Зеленого, я буду скорее на стороне его, чем его противников. В газетах тоже уже напечатано известие о моем назначении, только как слух.
6-го марта. Сегодня утром, в 10 часов, я отправился вместе с Рейтерном в Зимний дворец. По выходе из кабинета государя Рейтерн сказал мне, что государь сейчас примет, и предупредил меня, чтобы я благодарил государя за пожалованные мне 20 тысяч рублей. Действительно, меня сейчас же позвали к государю, который в весьма милостивых выражениях объявил мне о моем назначении, а также благодарил за службу. Приказав мне сесть, он сказал мне, что по просьбе г. министра финансов он согласился поручить мне до времени заведование Таможенным ведомством и окончание всех начатых в этом ведомстве законодательных работ. Выразил надежду, что у меня достанет времени исполнить все эти обязанности.
Засим он сказал мне: «Теперь Министерство государственных имуществ утратило свое первоначальное значение, и моя давнишняя мысль, которую я уже несколько раз передавал Зеленому, заключается в том, чтобы в этом министерстве сосредоточить всю хозяйственную часть государства». Из этих слов я понял, что он имеет в виду нечто вроде Министерства торговли. Я отвечал ему, что мысль его совершенно верна, и что, вероятно, так как он передавал ее Зеленому, то я уже найду в министерстве подготовленные по этому вопросу работы. Затем государь перешел опять к Таможенному ведомству и сказал, что министр финансов показал ему любопытную ведомость об увеличивающихся в мое управление доходов. Я заметил, что, действительно, эти доходы увеличились значительно, и что это есть доказательство и результат развития общего благосостояния государства, и что этому содействовали все произведенные реформы, что факты эти весьма занимательны и утешительны. В этом смысле я сказал еще несколько слов, желая произвести обратное впечатление, против тех алармистов, которые представляют ему все в темном виде. Засим государь встал, дал мне еще раз руку и очень милостиво благодарил за прежнюю службу.
От государя я пошел к императрице, которая меня сейчас же приняла и беседовала со мной довольно долго. Хотя я неоднократно имел доказательства ее доброго ко мне расположения, но в этот раз я особенно был удивлен ее вниманием. Она начала с того, что поздравила меня с новым назначением, но при этом пожалела, что вступаю в министерство, утратившее отчасти всю важность, и дала понять, что она желала бы меня видеть в другой деятельности. Засим она похвалила мою деятельность в Таможенном ведомстве и, когда коснулась об увеличении дохода, то сама начала подробно распространяться о том, как многие стараются умышленно скрывать утешительные явления и проч… Из слов ее я мог понять, что она отнюдь не сочувствует г. Шувалову и К°, а напротив, рада моему назначению, также и потому, что я не принадлежу к их лагерю. При этом она выразила мысль, что покойный государь Николай Павлович имел замечательно верный и точный взгляд почти на все вопросы, и в особенности на вопросы национальные, но что он постоянно находил в лицах, его окружающих, пассивное сопротивление при исполнении всех его предначертаний, так, например: он постоянно мечтал об освобождении крестьян и ничего не смог сделать; он постоянно желал ввести правильный контроль и никогда не мог побороть противодействия исполнителей. При этом она замечательно высказала свое убеждение о пользе и необходимости действительного контроля, видимо, понимая все его государственное значение. Я заметил ей, что государь Николай Павлович, кроме противодействия лиц, его окружавших, останавливался также несчастным страхом революции. Что несчастное 14-е декабря оставило на всем его царствовании заметные следы. Он часто смешивал реформу с революцией, и при первом сопротивлении или замешательстве, вызванном затеянной им реформой, он останавливался, боясь каких-либо смут. Согласясь с этим, императрица все-таки приписывала всю вину скрытому противодействию окружающих Николая Павловича лиц. Общий характер ее разговора мне был очень приятен тем, что мне показалось, будто она искреннее радуется моему вступлению на более обширное поприще. Вообще я не могу не радоваться и не благодарить Бога за то общее впечатление, которое производит мое назначение. Во-первых, все уверены, что я непременно буду министром торговли. Я забыл сказать, что императрица также очень сильно настаивала и доказывала в разговоре со мной о необходимости этого министерства, так что, видно, мысль о Министерстве торговли довольно созрела. Во-вторых, кажется, никто не осуждает моего назначения, как незаслуженного или как результат интриги. Впрочем, быть может, все это только так мне кажется. По совести же, я могу сказать себе, что я не интриговал и, в особенности в последнее время, был совершенно убежден, что карьера моя кончена и что мне следует только стараться устроить свое положение для спокойной жизни для старости лет, попав в Государственный совет. Но видно, Богу угодно вызвать меня к новой деятельности. В «Московских ведомостях» вчера объявлено было мое назначение как слух а сегодня уже появилось фальшивое телеграфическое известие о том, что будто бы я вступаю в управление министерством.
10-го марта. Только сегодня появился в «Сенатских ведомостях» указ о моем назначении. Вместе с тем напечатано опровержение известия о вступлении будто бы моем в управление министерством по случаю отъезда Зеленого. Вообще слухи об образовании Министерства торговли так распространены, что мое назначение возбуждает большие толки.
Сегодня я в первый раз был в Министерстве государственных имуществ и принимал там чиновников, которые, кажется, относятся ко мне сочувственно. Разговорами и чтением начинаю знакомиться с делом. Вот уже третий раз приходится мне приниматься за дело, которое совершенно для меня новое. Много нужно труда, чтобы войти в него настолько, чтобы получить нужный для начальника авторитет.
Сегодня я в первый раз был в Государственном совете вместо министра, который, по болезни, не мог быть. Дел особенно важных не было, и не было повода мне участвовать в прениях. После заседания Государственного совета было заседание Главного комитета. Рассматривалось дело об устройстве общественного управления в Войске Донском, серьезных прений не было. Вечером я был у Владимира Мещерского, у которого по понедельникам бывает наследник-цесаревич, и для него приглашаются разные собеседники. Я уже несколько раз был на подобных беседах. Для юного цесаревича это может быть не без пользы, иногда разговоры бывают очень оживленны и откровенны. Наследник принимает в них живое участие.
Общее впечатление, произведенное им на меня, следующее: очень еще юн и незрел, о вещах имеет поверхностное понятие, но не лишен здравого смысла, способен принять впечатление и упорно сохранить его. К умственному труду непривычен, одарен памятью и, кажется, характером, даже, быть может, упрям… Что из него выйдет, никак нельзя сказать. Дальнейшее его развитие будет зависеть от обстоятельств и людей, его окружающих.
Симпатии весьма национальные, даже до исключительности, много в этом отношении хороших задатков, дай Бог, чтобы они разумно и правильно развились.
18-го марта. В газетах продолжаются появляться толки по поводу выдуманного краковскою газетой известия о моем аресте. В «Биржевых ведомостях» и в «Московских ведомостях» напечатано следующее: «Телеграммы известили нас, что австрийский посланник — граф Хотек — передал своему правительству выражение неудовольствия русских правительственных сфер по поводу намеренного извращения австрийской печатью сообщаемых ею известий о России. По словам „Tages Presse“ поводом к этому заявлению послужило первоначально сообщенное „Краковским курьером“ ложное известие об арестовании на русской границе директора Таможенного департамента князя Оболенского. Заявлению графа Хотека не придано формы ноты».
«Liberté» пишет:
«Le Directeur general des Douanes Prince Obolensky, le meme que les journaux polonaise ont fait arreter comme conspirateur vient d’etre nomme adjoint au minister des Domaines. С’est la meilleure reponse aux mensonges systematiques, debites par la presse polonaise»[171].
«Московские ведомости» пишут:
«Изолгавшаяся в конец австро-венгерско-польская печать слишком бы уже много выиграла, если бы русское правительство действительно обратило бы внимание австрийского посланника на ее вымыслы и сказки. Достаточно с нее и того, что русская печать приводит в качестве курьезов австро-польско-венгерской прессы, и далеко не все. Мы на днях выразили решительное сомнение к известию о посылке графом Хотеком депеши к графу Бейсту, в которой австрийский посланник будто бы передал недовольство русского правительства поведением австрийской печати. Наше сомнение совершенно оправдалось. По словам одной венской газеты, австрийский посланник при русском дворе в своем отчете графу Бейсту, а не в особенной депеше, сам, без всякого приглашения нашего правительства, жаловался, что австрийские газеты помещают на своих столбцах известия о России, совершенно противоречащие истине. При этом граф Хотек прежде всего указал на газету „Курьер краковский“, которая пустила в ход известие, повторенное потом многими другими, не только австрийскими, но и прусскими, французскими и английскими газетами, об аресте князя Оболенского в Варшаве, известие, оказавшееся грубейшей выдумкой. Граф Хотек прибавляет, что подобные сообщения австро-венгерской прессы о России сильно затрудняют ему исполнение его задачи в Петербурге.
От души сочувствуем неловкому положению нашего соплеменника — чешского графа, потому что, во всяком случае, даже помимо трудности исполнения посланнической задачи, положение австрийского представителя у нас, при таком бестактном поведении австрийской печати относительно России в высшей степени щекотливое. Его жалобы на язвительность и бестактность австрийских газет не вразумят их».
Действительный австрийский поверенный в делах — граф Хотек — сказал мне, что он так возмущен был гнусным известием «Краковских ведомостей», что решился обратить внимание своего правительства, что подобные выходки против лиц, с которыми он находится в частных и весьма приятных отношениях, могут вредить успеху дел. Я успокоил Хотека, объявив ему, что я не только нимало не оскорблен известием краковского издания, но что мне, напротив, приятно знать, что краковские контрабандисты и повстанцы ко мне не благоволят.
28-го марта. На днях, а именно 19-го марта, я назначен сенатором, присутствующим во 2-м Общем собрании по всем делам, а в 1-м Общем собрании — по делам, до Министерства государственных имуществ касающимся. Я также на днях в первый раз, за отсутствием Зеленого по болезни, присутствовал в Комитете министров и в Западном комитете. В сем последнем рассматривалось серьезное дело по вопросу о праве на недра земли в Царстве Польском, я в суждениях принимал участие. Очень я теперь занят, хочется скорее ознакомиться с делами министерства. Много читаю, с некоторыми вопросами довольно близко ознакомился, но в общем очень мало сведущ.
17-го апреля. Так как первый день Пасхи приходится в нынешнем году на 12-е число — канун смерти покойного наследника[172], то выхода к заутрене в нынешнем году не было, это, сколько мне помнится, в первый раз, что во дворце не было съезда к заутрене. Уже в прошедшем году царь не христосовался по обычаю, ибо был в этот день не совсем здоров, хотя присутствовал при заутрене. Вероятно, этот знаменательный обычай мало-помалу будет отменен. Сегодня день рождения государя, но назначенный выход также был отложен по случаю опасной болезни второго сына наследника (грудного ребенка)[173]. К сегодняшнему дню ждали разных служебных новостей, но, кажется, кроме обычных наград, ничего особенного нет.
2-го августа. Едва прошло три месяца, как в последний раз я написал в этой тетради, а сколько с тех пор совершилось событий, не говоря уже о наших домашних делах. Война Пруссии с Францией в полном разгаре, и победоносное прусское войско быстро идет вперед на французскую территорию. На днях ожидают решительного и кровопролитного генерального сражения, от которого зависеть будет будущая судьба Франции. Кажется, еще не было в истории примера, чтобы в такое короткое время сильная воинственная держава, столь уверенная в своей непобедимости, начавшая внезапно, почти без предварительных переговоров, войну, была так скоро поставлена в самое критическое и опасное положение. Достаточно было пруссакам одержать две победы над частью французской армии и вторгнуться внутрь края, чтобы ошеломить всю Францию, возбудить в Париже серьезные беспорядки, поднять вопросы династии, одним словом — произвести такую неурядицу, что едва ли Наполеон будет в состоянии удержаться на престоле, даже и в том случае, ежели войско его одержит победу. Мы, благодаря Богу, сохраняем строгий нейтралитет, хотя, видимо, сочувствие государя на стороне Пруссии. Ежели смотреть только на повод, послуживший к началу войны, то, конечно, нельзя не признать, что французы слишком явно и нахально возбудили кровопролитие, которое будет ужасно. Политика Бисмарка, конечно, должна была, рано или поздно, произвести европейскую войну, но французы распорядились так, что нельзя не признать их виновниками начавшейся резни.
Для нас же успех немцев грозит в будущем большими опасностями, потому в особенности, что в политике нашей личные симпатии и родственные чувства играют слишком большую роль. С другой стороны, и Франция так постоянно относилась к нам враждебно, что и ей успехов желать не можем мы. Уже одно то обстоятельство, что вся польская партия[174] сочувствует Франции и желает ей успеха, показывает, что польза для нас от этого успеха сомнительна. Наполеон должен горько раскаиваться, что вместо союза с нами он постоянно враждовал против России. Ежели со временем французское правительство будет мудрее и нам пошлет Бог людей, для которых интересы национальной политики будут преобладать над всеми прочими интересами, тогда союз с Францией будет возможен, а при этом союзе и Германия нам не будет страшна. Наступают опять крайне интересные и, может быть, тяжелые времена. Дай Бог нам сохранить нейтралитет. Чужая беда может быть нам в пользу.
В начале мая, по случаю отъезда Зеленого, я вступил в управление министерством. Первое время частые заседания Государственного совета, Комитета министров, Главного и Польского комитетов, а также Сената отнимали у меня много времени и я был очень занят. В Государственном совете я говорил три раза. Первый мой дебют был довольно удачен, я говорил по спорному гражданскому делу Никитина с наследниками Любомирского, я говорил против мнения министра юстиции графа Палена и возражал также бывшему министру юстиции графу Панину — со мной согласилось огромное большинство, и государь утвердил потом мнение большинства. Судьба привела меня впервые слышать там бывшего министра юстиции графа Панина, под начальством которого я начал службу и продолжал ее с лишком 12 лет, и голос этот я слышал в первый раз, чтобы с успехом возражать ему. Другой раз я говорил также по гражданскому делу против единогласного мнения Государственного совета, и со мною согласились все единогласно. Третий раз, по таможенному делу о представлении канцелярским чиновникам прав службы, я говорил против единогласного мнения Департамента экономии и министра финансов, и тоже со мною согласились единогласно. Этим началом я, кажется, поставил себя в выгодное положение перед Государственным советом.
Несмотря на этот успех, мнение мое относительно этого учреждения не изменилось. Ни одно дело там серьезно не рассматривается и рассматриваться не может. В дела министерства я уже вошел настолько, что имею общее понятие о них. Лесная часть, на мой взгляд, находится в самом неустроенном положении, заняться ею совершенно необходимо во всех отношениях. Главный недостаток заключается в самом учреждении. Улучшение личного состава ничего не поможет, сами основания администрации, кажется, неверны. Учебные заведения тоже, мне кажется, не имеют разумного направления и практической пользы. Все прочие части идут недурно и скоро будут подлежать упразднению. Личный состав министерства очень хорош. Чувствую, что к преобразованию лесной части невозможно приступить, не изучив ее весьма тщательно и подробно. Надо узнать ее так близко, как я узнал таможенную часть, но на это нужно много труда и свободного времени для изучения дела на месте. Чувствую также, что старею, потому что нет уже прежней энергии и охоты для усиленной и скучной на первое время работы. В начале мая государь уехал в Эмс, а потому я личных докладов не имел, но посылал доклады письменные, текущие же бумаги докладывались здесь наследнику, который просил приезжать к нему лично только по делам экстренным или требующим особых объяснений, а так как таковых у меня не было, то я ни разу у него с личными докладами не был.
По возвращении государя из Эмса я езжу к нему с докладами по понедельникам. До сих пор я имел три доклада. Все они сошли благополучно — никаких особых объяснений не имел, и доклады были очень коротки. В последний раз я нашел государя в особенно хорошем расположении духа, что приписываю полученным за два дня известиям о прусских победах. Я был у государя в этот день вместе с Горчаковым, который только накануне вернулся из-за границы и отсутствие которого в такое важное в политическом отношении время казалось всем не только странным, но и неприличным. Объявление войны застало его за границей. Он не хотел возвращаться, ожидая вызова, а государь, вероятно, не хотел его вызывать, чтобы он не подумал, что без него не могут обойтись. И, таким образом, время проходило, а между тем государь должен был лично вести все переговоры с посланниками, и в особенности с прусскими, которые живьем живут в Петербурге. Эти частые интимные разговоры были крайне неудобны и даже опасны тем, что, по принятому теперь обычаю, все дипломатические ноты печатаются всеми конституционными державами в разных желтых, синих, красных и проч. книгах и каждому разговору могли придать неподобающее значение. Государь, наконец, решился вызвать Горчакова, но при этом не желал, чтобы было известно, что он его вызывает. Горчаков, кажется, был доволен приемом государя, жалуется на старость и недуги, ко мне по-прежнему очень любезен. Он живет в Петергофе, и моя квартира в Петергофе рядом с его комнатами, так что, когда я бываю в Петергофе, мы часто видимся.
22-го июля в Петергофе выход, обед и вечер, большая иллюминация с фейерверком, на другой день большой бал, а 27-го маленький бал на ферме, куда была звана одна Вавочка, без меня. К Вавочке все цари очень любезны.
12-го августа. Вчера я был с докладом в Петергофе. После доклада, при котором ничего замечательного не происходило, государь прочел мне полученную им депешу, из которой видно, что французы после дела 6-го (18-го) августа совершенно заперты в Меце и не имеют больше сообщения с Парижем. Вероятно, пруссаки, обложив теперь частью войска, пойдут прямо на Париж. Государь, видимо, радуется успеху прусского оружия, в нем, кроме врожденной кровной симпатии, видна тоже уверенность, что с пруссаками он будет ладить, ибо не опасается с их стороны каких-либо враждебных к нам отношений. Также, я думаю, он не без удовольствия смотрит на кару, постигшую Наполеона, отцу его и ему наделавшего столько неприятностей. Действительно, положение этого загадочного баловня судьбы ужасно. Если бы злейшему врагу его было поручено придумать жесточайшую казнь, то, конечно, он не мог бы придумать ничего, даже близко подходящего к тем нравственным и физическим мукам, через которые он уже проходит и еще будет проходить. Теперь самое трагическое в его положении — это молчание о нем не только в правительственных и высших сферах, но даже и в прессе, о нем даже никто не справляется, где он, точно его уже нет на свете. Императрица Евгения от имени его подписывает еще кое-какие декреты, но это только одна пустая форма. В сущности, империи и императрицы уже во Франции нет, что будет — одному Богу известно… После доклада государь пригласил меня обедать. Кроме меня, еще обедали князь Горчаков, Милютин и Урусов. За обедом тоже речь зашла о том, что будет во Франции. Говорили о временном правительстве. Государь заметил, что Тьер, вероятно, будет играть в этом правительстве важную роль. А потом, вероятно, будут царствовать Орлеанские. Я заметил, что прежде, вероятно, будут главенствовать Рошфор с Кавеньяком — государь того же мнения. Разумеется, теперь невозможны еще какие-нибудь попытки нейтральных держав к примирению. Но после такой ожесточенной и кровавой войны мудрено предположить, чтобы последствия были несоразмерны с жертвами; не думаю, чтобы кончилось дело каким-нибудь частным территориальным приобретением одной стороны в ущерб другой, или исправлением <и> изменением каких-либо существующих трактатов.
Война кажется событием мировым, она приготовлялась таким рядом безвыходных недоразумений и неразрешимых вопросов, что обратиться к прежнему порядку вещей будет невозможно. К тому же Франция оказалась такой несамостоятельной и в ней обнаружилось такое общественное разложение, что нельзя себе вообразить, какое правительство в ней возможно и при каких условиях и известных нам формах может восстановиться в ней порядок настолько твердый, чтобы вновь создать из нее могущественную державу. А между тем Франция есть единственная представительница романского племени, сохранившая значение в семье народов. Испания и даже Италия не имеют будущности. Замечательно совпадение разложения романского племени с разложением, которому неминуемо подвергается католическая церковь после последнего собора, принявшего догмат непогрешимости папы. Германский мир с протестантизмом, видимо, идет на смену распадающемуся романизму и католичеству Славянство с православием, в свою очередь, должно явиться примиряющим началом той крайности, в которую неминуемо впадет победоносный рационализм под знаменем торжествующей Германии. Но этого нам не видать, как ни быстро идут события. Но есть еще исход, к которому, быть может, ведут нас совершающиеся перевороты. Быть может, начало социальной революции уже настолько созрело в Европе, что возбужденная Франция употребит все свои силы для осуществления этих начал и, может быть, действительно представит миру какую-нибудь практическую форму для осуществления демократическо-социальной республики с разрешением всех экономических и социальных задач, которые давно уже сильно волнуют не только Францию, но и Англию и Германию. Тогда пример Франции будет заразителен, и всю Европу ожидает страшный кризис. Против этого кризиса, безусловно, будут все войска Бисмарка и все искусственные учреждения Англии. Славянский мир будет непричастен к этой революции, имея в самом себе и в православии все данные для разрешения волнующих весь западный мир вопросов. Конечно, судьбы Божий неисповедимы, но для чего же нибудь составил Господь эту часть мира, которая называется Россией, и готовит воочию, показывая ей всю ложь выставляемых ей для подражания образцов. Недаром же прочел я сегодня в газетах, что преосвященный Алексий отправляется на днях в Нью-Йорк и Филадельфию для освящения двух православных церквей. Все эти рассуждения записываю здесь только для памяти, чтобы иметь возможность в будущем проверить собственные впечатления. Говорить в этом смысле в обществе, разумеется, нельзя, все это скорее чувства или предчувствия, чем мысли. Я, разумеется, не могу приблизительно даже сказать, как все это может совершиться, но мне кажется, что мое предчувствие верно, а потому довольно равнодушно отношусь к частным известиям об удаче той или другой из воюющих сторон, и мне кажутся ничтожными ожидания, что мы-де можем воспользоваться настоящим случаем, чтобы уничтожить Парижский трактат и проч… Я, быть может, смотрю на дело слишком свысока, но зато большинство, не исключая и князя Горчакова, смотрит на него глазами слишком близорукими.
A propos[175], о Горчакове — вчера я с ним много разговаривал. Он все жалуется, что стар, что напрасно его тревожат и проч. и проч… Я ему сказал: «Помилуйте, князь, да Вы должны просто целый день Богу молиться. Вас Бог, видимо, особенно любит. Как, помилуйте, Вы в Ваши годы сохранили свежую и светлую голову, и при этом совершаются события, в результатах которых вы призваны будете принять непосредственное участие и извлечь из них все возможные пользы для России на грядущие времена. Кроме того, Вам представляется случай исправить и те печальные воспоминания о Вашей министерской деятельности, которые были последствием наших бедствий в Крымскую войну, и Вы еще жалуетесь…». Тогда он стал меня уверять, что ему тяжело не иметь помощников. «А в этом Вы сами виноваты, — отвечал я, — Вам трудно находить помощников, потому что в среде, из которой Вы выбираете, люди слишком ограниченны. Чтобы быть у Вас на виду, необходимо одно условие — уметь искусно и красиво сочинять депеши на французском языке, а это искусство не только не всегда соединяется с дельностью, но в русском человеке даже бывает наоборот — кто сочиняет хорошо пустые французские фразы, тот обыкновенно пустой человек. Где же видано и в каком государстве дипломатические агенты переписываются с министерством на иностранном языке? Французский язык можно и должно употреблять для сношений с иностранными державами, а наша корреспонденция должна бы быть на русском языке, тогда бы нашли людей, и люди бы к Вам пошли такие, которые бы писали Вам дело, не стесняясь красотою изложения чуждого им языка». Это мое замечание заживо задело старика, и он стал доказывать, что он вполне бы оценил человека, который бы писал плохо по-французски, но был бы человеком умным и дельным. Но это не так, он сам плохо владеет русским языком и очень падок на французскую фразистику Горчаков по воспитанию своему, вкусам, привычкам и сочувствиям — совершенный француз, но, надо ему отдать справедливость, что у него есть внутренний инстинкт и способность в данном случае понять и посмотреть вопрос с точки зрения более исключительной и даже национальной, но редко в нем проявляется эта способность по собственной инициативе, надо, чтобы кто-нибудь указал ему эту исключительную сторону дела. От этого он не всегда бывает последователен в своих взглядах на один и тот же предмет. Например, по польскому вопросу, в начале революции[176], он часто смотрел на вопрос, как мог смотреть любой европейский дипломат, он даже признал этот вопрос международным, в силу трактата 15-го года, но потом, под впечатлением общественного мнения, в особенности статей «Московских ведомостей», он получил и усвоил себе совершенно противоположный взгляд и выразил его с замечательным талантом в известных нотах французскому и английскому правительствам. Но вместе с тем он и до сих пор не может отказаться от предубеждений, навеянных ему складом его европеизма, поэтому, например, он никак не может понять связь, существующую между католицизмом и полонизмом, и никак не видит солидарности вражды к нам этих обоих начал. В балтийском вопросе опять то же. Но, как бы то ни было, при всех своих недостатках и смешных слабостях он стоит много выше всех наших дипломатов, и заместить его будет очень трудно.
2-го августа. Сегодня получено здесь телеграфическое известие, что французская армия, бывшая под начальством Мак-Магона, положила оружие при Седане и что сам Наполеон сдался в плен лично королю прусскому. В телеграмме сказано, что король назначит местопребывание пленному императору после свидания с ним. Итак, постыднейшее из поражений целой армии с главою государства совершилось. Более <чем>80-тысячное войско положило оружие после нескольких только попыток пробиться через неприятельскую линию. Недостало у них стойкости и мужества, чтобы по крайней мере затянуть дело сдачи и тем обессилить прусскую армию, а Наполеон решился закончить свою блестящую карьеру самым постыдным и унизительным, не только для государя, но и для человека, способом.
9-го сентября. С неутомимой последовательностью идут пруссаки вперед, и вот уже они подошли к Парижу и окружили его со всех сторон, так что все сообщения с городом прерваны и мы не получаем газет из Парижа. Вероятно, на днях начнется бомбардирование и осада, а с этим вместе неминуемо начнется грабеж Парижа вооруженной и безначальной чернью. Положение ужасное. Между тем начинают поговаривать о мире. Сюда едет Тьер с просьбой к государю о заступничестве перед прусским королем, а сегодня получено известие, что и Жюль Фавр отправился в Главную квартиру короля для мирных переговоров. Главное затруднение заключается в том, что пруссаки, не без основания, затрудняются начинать какие-либо мирные переговоры с правительством, случайно образовавшимся и не имеющим никакого законного утверждения[177]. В Париже сильно надеются, что Россия уговорит пруссаков заключить перемирие и начать мирные переговоры. Князь Горчаков, кажется, очень склонен к тому, чтобы признать le gouvernement de fait[178] и вступить с ним в предварительные переговоры. Но государь, будучи здесь под влиянием здешних представителей Пруссии, а также по собственным своим симпатиям и влечениям склонен поддерживать прусскую политику, видимо, не хочет принять роль ходатая перед прусским королем за Францию.
На прошлой неделе государь ездил на охоту в Лисино. Так как лисинские дачи находятся в ведомстве Государственных имуществ, то я должен был встретить государя в Лисине и там присутствовать на охоте. На охоту были приглашены: великий князь Владимир Александрович, князь Рейс, прусский посланник, генерал Вердер, прусский военный агент. Оба этих лица и прежде, но в особенности теперь, почти неразлучно пребывают около государя. Кроме того, гостями были барон Ливен, Зиновьев и граф Перовский, засим Скарятин был в качестве обер-егермейстера[179]. Охота была на куропаток, которых здесь заранее разводят и воспитывают в особо устроенном ремизе[180], собственно, для царской охоты. Погода благоприятствовала охоте, и царь, кажется, остался доволен, обещав приехать еще раз на куропаток. На роскошных завтраках, обедах и ужинах предмет разговоров вертелся все более около военных действий. Государь постоянно носит прусский военный орден и уже послал разным немецким принцам, участвующим в настоящей войне, Георгиевский крест, хотя, быть может, такое официальное заявление сочувствия и не совсем вяжется со строгим нейтралитетом, нами объявленным. Личное сочувствие, видимо, преобладает над всеми иными соображениями. Все это вызывало и теперь вызывает сильную реакцию, которая сосредотачивается в лице наследника, вернувшегося на днях с женою из Дании. Вдаваясь в противоположную крайность ненависти к пруссакам и страха перед их возрастающим могуществом, он, кажется, не скрывает чувств своих на внешнюю политику. Это разномыслие, конечно, никакого влияния иметь не будет, но я убежден, что по отношению к Остзейскому краю государь будет, вероятно, потворствовать всяким немецким интригам, назло партии, их ненавидящей. Уже вчера я узнал, что эстляндский губернатор Галкин, единственный русский губернатор в том краю, по приказанию государя переводится в другую губернию единственно за то, что немцы им недовольны. Альбединский, кажется, тоже уходит: подал прошение об увольнении по болезни; хотя этот господин крайне неспособен занимать какое-либо серьезное место и везде и во всем уступает немцам, но и он принесен в жертву. Всем этим делом руководит граф Шувалов, из всего этого нельзя ожидать проку.
16-го сентября. Вчера я опять был на охоте в Лисине с государем. Государь утром проводил императрицу в Крым и доехал с ней до станции Тосно, а оттуда в экипаже приехал к 10.30 часов утра в Лисино, где я его встретил. Приглашенные гости были те же самые, как и в прошлый раз, к ним присоединился еще только великий князь Алексей Александрович. Охота в Лисине, по-видимому, очень веселит государя, потому что он и в этот раз был в отличном расположении духа и приказал приготовить ему еще охоту на будущей неделе. Все на охоте происходит довольно однообразно. Когда государь приезжает с вечера, то ужинает и после ужина играет партию в ералаш, а потом ложится спать и спит, как мне сказал, так хорошо и крепко, как нигде. Засим утром выходит в 10 часов утра к чаю, и потом все отправляются на охоту.
Ежели охота на куропаток, то она происходит следующим образом. В ремизе, где на пространстве 7-ми десятин приготовляются с весны привезенные из Богемии куропатки, которые тут разводятся. Выходит государь, а за ним обер-егерь с ружьем, потом еще егерь с другим ружьем, потом еще служитель с ящиком для уборки дичи, потом идет обер-егермейстер и я. Собаки ищут дичь, которая взлетает, и государь ее бьет или промахивается. Все это довольно забавно, ежели погода благоприятствует, но главное, прекрасный моцион, ибо с 11-ти часов до 1 часу ходят по довольно неровному пути. Засим, в 1 час, возвращаются к завтраку, всегда чересчур роскошному, причем меня удивляет аппетит государя и великих князей. После завтрака опять, тем же порядком, начинается охота до 4-х часов. Потом час отдыху или игра в карты, а в 6 часов обед, еще роскошнее, чем завтрак. Для образца прилагаю меню вчерашнего обеда.
Смотреть на следующей странице.
После обеда игра в ералаш до 9-ти часов, а потом все садятся в экипажи и уезжают.
Ежели охота на других тварей, то она происходит в Лисине в зверинце, где бьют приготовленных лисиц, зайцев, ланей и кабанов. Все, что говорили и говорят в публике о совершаемых будто бы на охоте оргиях, все это вздор и неправда. Можно скорее удивляться, что государь не выбирает себе гостей более приятных и веселых. Вчера, после охоты и перед обедом, я имел доклад, и так как я, перед выездом моим из Петербурга в Лисино, получил уведомление, что Зеленый будет обратно из-за границы 18-го числа, то сказал государю, что по возвращении министра намерен исключительно заняться изучением вопроса о будущем преобразовании Министерства государственных имуществ, так как я имею уже в виду его намерение сосредоточить, как он выразился, всю промышленную и хозяйственную часть империи в этом министерстве. Это намерение государь одобрил.
С театра войны нет еще решительных новостей. Париж окружен со всех сторон, переговоры Жюля Фавра с Бисмарком не привели ни к каким результатам. Сюда вчера приехал Тьер, но и его посольство, вероятно, не будет иметь никакого практического результата. Государь дал мне прочесть полученные по почте от неизвестного два письма: это письма к Жюлю Фавру, в которых доказывается, что временное правительство не имеет права входить в какие-либо переговоры, и государь одобрил все приводимые в этих письмах доводы. Из длинного моего разговора с прусским посланником — князем Рейсом — я мог понять, что пруссаки сами теперь находятся в весьма затруднительном положении, не зная, как выйти из этого положения. Ибо даже после занятия Парижа останется все-таки еще не разъясненным вопрос, с кем легально можно будет вести переговоры о мире, и притом быть уверенным, что условия договора будут обязательны: до сих пор еще сам Бисмарк, кажется, не разрешил себе этого вопроса. Теперь, как пруссаки заняты усилием овладеть Парижем, а засим будут, вероятно, сообразовываться с тем, как отнесется к этому факту вся Франция. По словам Рейса, Наполеон не отказался до сих пор от престола и очень хлопочет, чтобы пруссаки не признали бы временного правительства.
Menu:
Diner du 16 Septembre 1870. Lissino.
Hors d’oeuvres.
Potage: Crème d’Asperge Colbert
Vol-au-vents a la Reine. Tartelette a la moele
Fruites de Gatchina au bleu
Sauces: Hollande. — Beurre frais
Selle de mouton a l’Anglaise
Jambon d’York au Malaga
Truffes fraches a la serviette
Punch au fraisier
Jeune poulets a la Russe
Laitue et Picouli
Peches a la Bourdaloue
Dessert:
Fruits frais, bonbons, conpolet diverses
Amomdes gullees, biscuit, celeries d-homages anglau
Mokka — Thijauul
19-го сентября. Вчера я обедал в Царском Селе у княгини Елизаветы Трубецкой с Тьером. Бедный старик жалок по той странной роли, которую на себя принял. Он взял от временного правительства поручение отправиться в Лондон, Петербург и Вену для личных переговоров с государственными людьми великих держав с целью склонить к признанию временного правительства Франции. Это признание, по мнению Тьера, может дать временному правительству авторитет для переговоров с пуссаками. Но Тьер, не имея никакого понимания и не имея никаких новых доводов для поддержки своих домогательств, сам, кажется, не верит в успех своего посольства, а принял, или даже вызвал его, кажется, только единственно для того, чтобы выставить благовидный предлог своему удалению из Парижа. Как бы то ни было, но ему на старости лет бегать из одного города в другой и вымаливать сочувствие к погибающей Франции, конечно, очень тяжело, и он об этом говорит со слезами на глазах. Но при этом болтает много, сильно и, по моему мнению, преувеличенно ругает Наполеона и его правительство, сваливая на него всю вину. Он высказывает надежды на некоторые элементы, будто бы преобладающие во Франции, но вряд ли это искренно. Тьер был принят государем, который беседовал с ним довольно долго, и, так как в этой беседе государь, вероятно, весьма искренне, выражал свое сожаление о положении Франции и свою готовность помочь, то Тьер остался очень доволен этим свиданием и сказал потом Горчакову: «Que s’il avait le bonheur de servir un Souverain pareil — il n’aurait — jamais proteste kontre le pouvour personnel»[181].
Конечно, говоря это, он знал, que personne ne le prendra au mot[182]. Говорят, он каялся Горчакову, что он ошибся, преследуя во всю свою политическую жизнь мечту близкого союза Франции и Англии и жертвуя для этого союза связями с Россией. В «Голосе» напечатана на днях дельная статья по поводу приезда Тьера и его предложений. Вот эта статья.
Газета «Голос»:
«Если единственная цель поездки Тьера в Лондон, Вену и Петербург — признание великими державами Временного французского правительства — национальной защиты, то в успехе ее едва ли можно сомневаться. Великие державы, вскоре по возглашении в Париже республики, уполномочили своих представителей во Франции войти в сношения с Временным правительством. Представители этих держав переселились потом в Тур, сделавшийся временною столицею Франции после обложения Парижа пруссаками. Но едва ли поручение, данное г. Тьеру, ограничивается одними стараниями о признании Временного правительства национальной защиты. Более чем вероятно, что знаменитый государственный человек уполномочен, сверх того, лично удостовериться, как смотрят европейские Кабинеты на условия мира, предложенные Пруссией. В этом отношении поездка Тьера едва ли оправдает ожидания, которые, быть может, еще питает Временное правительство. В Лондоне г. Тьер нашел, кажется, мало утешительного. Англия открыто держит сторону Пруссии, как и следовало ожидать. Из всех великих держав европейского материка Франция более всех была опасна для Англии, и потому поражение ее было как нельзя более приятно Сент-Джеймскому кабинету. Можно сказать наверное, что этот кабинет пальцем о палец не ударит, чтобы помешать Пруссии в присоединении Эльзаса и Лотарингии. Будущее морское могущество Пруссии, которым пугают Англию французские газеты, не заключает в себе страшного для Англии, владеющей морями. Пруссия, даже обладая Кильским и А[183]… портами, все-таки будет не в силах соперничать с Англией, владеющей Гельголандом, Мальтой, Перимом, Ост-Индией, Австралией. Совершенно напротив, Англия может не без основания рассчитывать найти в юном германском флоте себе помощника при вероятных европейских сочетаниях. Поэтому Англия при подписании мирного трактата между Пруссией и Францией окажется, пожалуй, более прусской, чем сама Пруссия, подобно тому как в 1856-м году Австрия оказалась более турецкой, чем сама Турция. Можно надеяться, что г. Тьер найдет в Петербурге совершенно иное настроение. Россия, чуждая узкоэгоистической политики, искренно желает восстановления европейского мира и, без со-мнения, сделает все от нее зависящее, чтобы столь желанный мир не был кратковременным перемирием. Весь вопрос, следовательно, в том, что можем мы сделать в настоящую минуту, не прибегая к помощи оружия.
В этом отношении надежды г. Тьера, если он их питает, ожидают, по всей вероятности, полное разочарование. Россия в настоящем случае может ограни-читься только дружескими советами Пруссии — не переходить за пределы уме-ренности. К несчастью, мало надежды, чтобы в Берлине вняли нашим дружеским советам, внушенным бескорыстным сочувствием к миру: недавно обнародованные циркуляры умеренного графа Бисмарка фон Шенгаузена не оставляют в этом ни малейшего сомнения. Он с чисто прусской резкостью предостерегает нейтральные державы от всякого вмешательства в прусско-французскую распрю. Остается следовательно, только одно средство — заставить Пруссию силою принять условия мира, наиболее обеспечивающие спокойствие Европы. Но вправе ли Россия отважиться на столь сильную меру? Было время, когда в Европе не делалось ни одного выстрела без нашего согласия[184]. Это время прошло, и виною того была Франция, ищущая теперь, может быть, нашего заступничества. Сам Тьер, приехавший к нам с конфиденциальным поручением, торжественно одобрял Крымскую войну, будто бы выгодную для французских интересов. Но именно Крымская война заставила Россию отказаться от роли, которую она играла в Европе с 1815 по 1856 г. Франция более всех желала лишить Россию преобладания в Европе, и сам г. Тьер немало хлопотал о противодействии России. В министерстве Лафитта он был самым ревностным бойцом за независимость Польши. В его истории консульства и империи[185] антирусское направление проглядывает в каждой строке. Автор этого знаменитого панегирика Наполеону I способствовал и реставрации Наполеонидов, подав голос за президентство Луи-Наполеона, так жестоко отплатившего ему[186] в роковую ночь с 1-го на 2-е декабря 1851 года. Еще недавно г. Тьер, восставая в законодательном корпусе против войн второй империи, исключил Крымскую войну, бывшую — будто бы — полезной для Франции. Но мы далеки от того, чтобы ставить это в укор г. Тьеру, убеждения которого так часто менялись в продолжение его политической карьеры. Мы не забыли, что он впоследствии признал всю непрактичность заступничества за Польшу[187], которое, наделав столько зла полякам, не принесло пользы и их заступникам — французам. Мы глубоко уважаем г. Тьера за его глубокий патриотизм, за его дальновидность, которой, увы, так часто мешали шовинизм и поклонение перед обоготворенным им Наполеоном I. Г. Тьер был прежде всего французом, и притом французом — южным. Уроженец Марселя, он никогда не мог избавиться от недостатков жителей Гаскони, Лангедока и Прованса. Его жаркая южная натура часто увлекала его в излишество, и он, подобно своим землякам, плохо видел за пределами Франции, почитаемой им альфою и омегой европейской цивилизации и квинтэссенцией человечности. Но с этими недостатками были тесно связаны самые блистательные таланты. Г. Тьер редко кого убеждал своими доводами, но его огненная речь увлекала даже яростных его противников, а эта furie fransaise[188] была бы невозможна без обоготворения Франции. Принимая это в соображение, мы не имеем права считать г. Тьера врагом России. Его выходки против нас вполне объясняются столь свойственным всем французам шовинизмом и не менее свойственным им незнанием России. Г. Тьер родился в Марселе в 1797 г. Следовательно, в юные годы немало наслушался он об ужасах, совершенных фантастическими „казаками“ в его прекрасной Франции, и только теперь, когда эта прекрасная Франция подверглась нашествию цивилизованных немцев, требующих раздробления Франции, он должен признать, что русские, спасшие Францию от подобной участи в 1815-м году, далеко не такие варвары, какими ему рисовало их воображение. Любя свое собственное отечество, мы умеем ценить это чувство и в других, а потому не только не ставим г. Тьеру в вину его политические увлечения, напротив, высоко ценим их в знаменитом историке и государственном человеке Франции. Г. Тьер может быть заранее уверен, что встретит в России самый радушный прием, и если он не добьется того, что заставило его предпринять путешествие на наш дальний север, это — вина не наша. Наполеоновская Франция сделала со своей стороны все, чтобы расстроить столь естественный союз с Россией. Не довольствуясь преобладанием на западе, она старалась уничтожить наше влияние на востоке. С этой целью она стала добровольно вытаскивать для Англии из огня каштаны и навязала нам тяжкие условия Парижского мира. Но, хотя Париж и иллюминировался по случаю взятия Малахова кургана, Петербург (г. Тьер может быть в этом вполне уверен) не иллюминируется, если пруссакам удастся взять Париж. Напротив, событие это, к несчастью, весьма вероятное, мы встретим с искренним сожалением, но отвратить его — не в нашей воле. Франция заставила нас временно отказаться от участия в делах Европы, и последствием этого была битва при Седане и Седанская капитуляция. Предвидя, к чему роковым образом вели усиленные вооружения последнего времени, мы должны были ясно определить нашу роль на случай катастрофы. Нам предстояло на выбор: или, подобно другим державам, стоя во всеоружии, ожидать событий, или, обратив все свои силы на внутреннее устройство нашего громадного отечества, предоставить Европе делать то, что ей угодно, до тех пор пока наши собственные интересы не будут затронуты. Мы избрали последнее, и Европа не замедлила воспользоваться нашим временным бездействием для устройства своих собственных дел без нашего участия. Последствием этого было столь неприятное г. Тьеру объединение Италии, поражение Австрии и чрезмерное усиление Пруссии. Таким образом, Франция пожинает лишь то, что сама посеяла. Но из этого все-таки не следует, что мы, увлекаемые мстительностью, радуемся такому положению дел. Нисколько. Мы искренно опечалены как страшным кровопролитием, так и поражением Франции, тем более что не видим возможности устранить эти бедствия. Франция, нанося в Крыму удары России, как теперь оказывается, поражала ими свою собственную грудь. Осада Парижа — прямое последствие севастопольской осады, и если Франция и потеряет Эльзас и Лотарингию, то и это будет последствием потери Россией Западной Бессарабии — действительно, неумолимая Немезида карает народы, творящие зло. В оправдание себе мы можем сказать, что мы не только не старались сделаться орудием мстительной богини, но даже, сколько могли, замедляли ее удары. Мы и теперь сделаем, что можем, и если, при всем желании, нам не удастся спасти Францию, то только потому, что сама Франция лишила нас возможности подать ей руку помощи в роковую минуту».
Третьего дня приехал министр А. А. Зеленый. Кажется, здоровье его поправилось, и он намерен немедленно вступить в управление министерством. Я отдаю бразды правления без всякого сожаления. В эти 4 месяца я достаточно вошел в дело, чтобы понять всю его серьезную сторону, а теперь очень желал иметь более свободного времени, чтобы заняться внимательно вопросами, требующими изучения. Что же касается обаяния власти, то могу сказать, положа руку на сердце, что оно не имеет для меня ничего заманчивого. Государь выразил Зеленому, что был доволен моими докладами, и велел мне объявить благодарность. С наступлением осени начинается обычный реакционный поход[189]. Шувалов, говорят, приготовил целый короб доносов для наведения страха. Тимашев преподнес государю какой-то перевод истории Испании, в которой доказывается, что самовластие погубило Испанию. Эту книгу Тимашев хотел преследовать, но прокурорский надзор доказывает всю невозможность такого преследования. Государь этим очень недоволен и, вероятно, будет требовать какого-нибудь административного взыскания.
На место Похвистнева, главноуправляющего делами печати, которого находят слишком слабым, назначают, говорят, генерала Шидловского, бывшего орловского губернатора, составившего себе репутацию энергичного реакционера. Ничего из этого не выйдет, кроме бестолковой болтовни.
4-го ноября. Громадность совершающихся событий отвлекает внимание от частных, сравнительно мелочных явлений нашей обыденной жизни. К тому же до сих пор у нас было совершенное затишье. Все с напряженным любопытством ожидали телеграфических известий с театра войны. После сдачи крепости Меца с армией в 100 тысяч человек ожидают каждый день сдачи Парижа, хотя осада затянулась и предложенное нейтральными державами перемирие отвергнуто. Не подлежит, кажется, сомнению, что Париж взят будет в непродолжительном времени, ежели не силой, то голодом. Вся русская публика, не исключая и высших правительственных лиц, как то: министров и проч., спокойно следила за страшной грозой, истребляющей целый народ, еще так недавно господствующий в политическом мире. Все думали, что явное сочувствие, которое мы оказываем пруссакам, обеспечивает нас от всякого вмешательства, так как победители не нуждаются в помощи.
Среди этого невозмутимого и ничтожного спокойствия вдруг появилась вчера в «Правительственном вестнике» следующая нота князя Горчакова.
№ 29 «Правительственный вестник», 8-го ноября 1870-го года.
Циркулярная депеша Государственного Канцлера
к представителям России при Дворах держав,
подписавших Парижский Трактат 18 (30) марта 1856-го года.
Царское Село, 19 октября 1870 года.
Неоднократные нарушения, которым в последние годы подвергались договоры, почитаемые основанием европейского равновесия, поставили Императорский кабинет в необходимость вникнуть в их значение по отношению к политическому положению России.
В числе этих договоров к России более непосредственно относится Трактат 18 (30) марта 1856-го года.
В отдельной Конвенции между обеими прибрежными державами Черного моря, составляющей продолжение к Трактату, заключается обязательство России ограничить свои морские силы до самых малых размеров.
С другой стороны, Трактат установил основное начало нейтрализации Черного моря. Державы, подписавшие Трактат, полагали, что это начало должно было устранить всякую возможность столкновений как между прибрежными государствами, так равно и между последними и морскими державами. Оно долженствовало умножить число стран, пользующихся, по единогласному уговору Европы, благодеяниями нейтрализации, и, таким образом, ограждало и Россию от всякой опасности нападения. Пятнадцатилетний опыт доказал, что это начало, от которого зависит безопасность границы Российской Империи с этой стороны во всем ее протяжении, имеет лишь теоретическое значение. В самом деле: в то время как Россия разоружалась в Черном море, и даже, посредством декларации, включенной в протоколы конференций, прямодушно воспрещала самой себе принятие действенных мер морской обороны в принадлежащих ей морях и портах, Турция сохранила право содержать в архипелаге и в проливах морские силы в неограниченном размере. Франция и Англия могли по-прежнему сосредотачивать свои эскадры в Средиземном море. Сверх того, по выражению Трактата, вход в Черное море формально навсегда воспрещен военному флагу, как прибрежных, так и всех других держав. Но, в силу так называемых Конвенций о проливах, проход через эти проливы воспрещен военным флагам лишь во время мира. Из этого противоречия проистекает то, что берега Российской Империи открыты для всякого нападения, даже со стороны держав менее могущественных, если только они располагают морскими силами, против которых Россия могла бы выставить лишь несколько судов слабых размеров.
Впрочем, Трактат 18 (30) марта 1856 г. не избежал нарушений, которым подверглась большая часть европейских договоров; ввиду этих нарушений трудно было утверждать, что писанное право сохранило ту же нравственную силу, которую оно могло иметь в прежние времена.
Все видели, как княжества Молдавия и Валахия, судьба которых под ручательством великих держав была определена Трактатом и последующими протоколами, прошли через ряд переворотов, которые, будучи противны духу и букве договоров, привели их сперва к соединению, а потом к признанию иностранного принца. Эти события произошли с ведома Порты и были допущены великими державами, которые не сочли нужным заставить уважать свои приговоры.
Только один представитель России возвысил голос, чтобы указать кабинетам, что подобной терпимостью они становятся в противоречие с положительными постановлениями Трактата. Разумеется, что если бы уступки, дарованные одной из христианских народностей Востока, были последствием соглашения между Кабинетами и Портой, основанного вначале, которое могло бы быть применено ко всему христианскому населению Турции, то Императорский кабинет отнесся бы к ним с полным сочувствием, но эти уступки были лишь исключением.
Императорский кабинет не мог не быть поражен, что, таким образом, Трактат (18) 30 марта 1856-го года, спустя лишь несколько лет по заключении, мог быть безнаказанно нарушен в одном из своих существенных частей перед лицом великих держав, собранных на Парижской конференции и представлявших в своей совокупности сонм высшей власти, на который опирался мир Востока.
Это нарушение не было единственным.
Неоднократно и под разными предлогами проход через проливы был открываемым для иностранных военных судов, и в Черное море были впускаемы целые эскадры, присутствие которых было посягательством против присвоенного этим водам полного нейтралитета.
При постепенном, таким образом, ослаблении предоставленных Трактатом ручательств, в особенности же действительной нейтрализации Черного моря, — изобретение броненосных судов, неизвестных и не имевшихся в виду при заключении Трактата 1856-го года, увеличивало для России опасность в случае войны, значительно усиливая уже весьма явное неравенство относительных морских сил.
В таком положении дел государь император должен был поставить себе вопрос: какие права и какие обязанности проистекают для России из тех перемен в общем политическом положении и из этих отступлений от обязательств, которые Россия не переставала строго соблюдать, хотя они и проникнуты духом недоверия к ней.
По зрелом рассмотрении этого вопроса Его Императорское Вели<чество из-волил> прийти к следующим заключениям, которые поручается Вам довести до сведения правительства, при котором Вы уполномочены.
По отношению к праву наш августейший государь не может допустить, чтобы трактаты, нарушенные во многих существенных и общих статьях своих, оставались обязательными по тем статьям, которые касаются прямых интересов его империи.
По отношению же к их применению Его Императорское Величество не может допустить, чтобы безопасность России была поставлена в зависимость от теории, не устоявшей перед опытом времени, и чтобы эта безопасность могла бы подвергаться нарушению вследствие уважения к обязательствам, которые не соблюдены во всей их целостности.
Государь император, в доверии к чувству справедливости держав, подписавших Трактат 1856-го года, и к их сознанию собственного достоинства, повелевает Вам объявить: что Его Императорское Величество не может долее считать себя связанным обязательствами Трактата (18) 30 марта 1856-го года, насколько они ограничивают Его верховные права в Черном море; что Его Императорское Величество считает Своим правом и Своею обязанностью заявить Его Величеству султану о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомянутому Трактату Конвенции, определяющей количество и размеры военных судов, которые обе прибрежные державы предоставили себе держать в Черном море; что государь прямодушно уведомляет о том державы, подписавшие и гарантировавшие общий трактат, существенную часть которого составляет эта отдельная конвенция; что Его Императорское Величество возвращает в этом отношении Его Величеству султану права его во всей полноте, точно так же, как восстановляет свои собственные.
При исполнении этого поручения Вы употребите старание, чтобы определить, что наш августейший монарх имеет единственно в виду безопасность и достоинство своей империи. В мысли Его Императорского Величества вовсе не входит возбуждение восточного вопроса. В этом деле, как и во всех других, он только желает сохранения и упрочнения мира. Он не перестает по-прежнему признавать главные начала Трактата 1856-го года, определившие положение Турции в ряду государств Европы. Он готов вступить в соглашение с державами, подписавшими этот договор: или для подтверждения его общих постановлений, или для их возобновления, или для замены их каким-либо другим справедливым уговором, который был бы признан способным обеспечить спокойствие Востока и европейское равновесие. Его Императорское Величество убежден в том, что это спокойствие и это равновесие приобретут еще новое ручательство, когда будут опираться на основания более справедливые и прочные, чем при том положении, которого не может принять за естественное условие своего существования ни одна великая держава.
Приглашаю Вас прочитать эту депешу и передать с нее копию г. министру иностранных дел.
(Подпись): Горчаков.
Хотя два дня перед сим ходили по городу какие-то неопределенные слухи о готовящемся будто бы с нашей стороны заявлении об уничтожении Парижского трактата, но им мало придавали веры. Поэтому понятно, как поражены были все чтением этого циркуляра. Мое первое чувство было весьма неприятное, ибо во мне преобладало сознание, что в основе затеянного дела нет строгого и верно обдуманного плана. Мне показалось, что этот циркуляр и самая решимость явно и бесцеремонно разорвать силу одного из важных пунктов Трактата как-то мало вяжутся с общим настроением и характером действия нашего правительства. К тому же мне настолько известно общее положение наших финансовых и военных дел, что я решительно и положительно убежден, что мы не готовы встретить случайность вооруженного протеста против нашего заявления. Очевидно, мы заручились не только согласием, но и обещанием поддержки со стороны Пруссии, но можно ли верить ее обещаниям?
Конечно, минута для того, чтобы в мутной воде рыбу ловить, выбрана удобная. Но стоит ли игра свеч? Мы подымаем бурю для того, чтобы восстановить право, которым, в сущности, не только теперь, но и в близком будущем воспользоваться не в состоянии. Не только в Черном море у нас нет никаких морских сил, но и те, которые там были и которые мы по Трактату иметь имели право, мы еще недавно, в видах экономии, уничтожили окончательно. Теперь же, при постоянном дефиците в бюджете, надеяться скоро создать не только флот, но какую-нибудь силу будет невозможно и во всяком случае крайне разорительно для государства. К тому же мне известно, что в течение еще нынешнего года нам нужно будет за границей реализовать значительное количество наших железнодорожных облигаций, что сделается невозможным, ежели миру будет угрожать опасность. Одним словом, мне кажется, что только полная, ни малейшему сомнению не подверженная уверенность, что заявление наше не возбудит не только войны, но и вооружения, только такая уверенность может оправдать внезапный вызов наш. Не знаю, на чем основана эта уверенность. По справке оказалось, что на прошлой неделе был у государя в Царском Селе Совет министров[190], на этом Совете государь объявил министрам о своем намерении, причем прочтена была нота Горчакова. Ни один министр не был заранее предварен о предметах суждения, никто не был приготовлен к обсуждению столь важного вопроса, понятно, что все возражения были крайне слабы. Едва можно поверить, что государь решился на такой решительный шаг, не поговорив предварительно ни с министром финансов, ни с министром военным. Все это потому, что в понятии его, говорят — также и Горчакова, войны быть не может и все кончится дипломатическими переговорами. Дай Бог, чтобы он был прав… Мы живем в какие-то библейские времена, так внезапно и неожиданно совершаются события и так, почти случайно, возникают величайшей важности вопросы, что невольно недоумеваем… Нет сомнения, что восточный, а с ним и славянский вопрос рано или поздно возникнут, но к ним надо приготовиться не только материальными вооружениями, но общей внутренней и внешней политикой. Думать же приступать к восточному вопросу в дружбе с Бленкером и Пруссией и стать во главе славянского мира, враждуя и опасаясь национального элемента, преследуя в России русскую партию, — это такое ослепление, которого понять нельзя. Тут поистине что-то библейское.
8-го ноября. Все державы, подписавшие Парижский трактат, как и следовало ожидать, протестуют против нашего заявления. Кроме, разумеется, Франции, которой теперь не до трактата и которая в восторге, что мы заварили кашу, из которой может выйти для нее доброе. Пруссия, хотя не протестует, но, говорят, выразила сожаление, что не вовремя мы возбудили вопрос и не в надлежащей форме. Оказывается, что мы даже не заручились формальным и точным одобрением и поддержкой Пруссии. Этого я уже никак не ожидал. Петербургские журналы, под внушением начальства, выражают восторг и вполне одобряют решимость правительства. «Московские ведомости», как я и ожидал, очень сухо отзываются о циркуляре, утверждая, что Россия вправе не считать трактат обязательным, выражают сомнение в пользе возбуждения этого вопроса именно теперь. Катков, видимо, не доверяет Пруссии и думает, что Бисмарк подбил нас на эту штуку. Он также не видит большой последовательности в наших действиях, ибо до сих пор мы не только не готовили ничего в Черном море, но и уничтожили все, что было. Сегодняшнюю статью он кончает заявлением одного факта, действительно весьма верно выражающего всю непоследовательность наших действий. Вот что он говорит:
«Московские ведомости», № 30.
«Кстати, для успокоения умов в Европе, непритворно встревоженных принимаемою Россией политикой, мы можем указать на один факт, свидетельствующий о нежелании ее пользоваться даже теми следствиями влияния на Востоке, против которых не было и не может быть возражений. Средства эти небольшие. Есть у нас комитеты, воспитывающие десятка два-три единоверных им детей из европейской Турции и посылающие в тамошние школы по нескольку тюков в год с книгами, собираемыми посредством пожертвований. Проникали туда и русские газеты в самом ограниченном числе. Вообще, дела умственного и нравственного общения России с турецкими славянами подвигались весьма туго, но теперь и этому делу, столь безупречному и скромному, положено препятствие. Почти в одни дни с циркулярною депешей кн. Горчакова почтовым ведомством сделано распоряжение, повышающее таксу на пересылку русских газет в Турцию и Грецию и притом назначающее за пересылку газет в Турцию ту самую таксу, как в Грецию, когда Греция лежит дальше от России. Такса и прежде того высокая — возвышена разом вчетверо, так что почтовую пересылку газет в эти страны можно считать фактически воспрещенною. Мера эта принята с большой строгостью, ибо распространяется даже на газеты нынешнего года, коим подписная цена была назначена ввиду прежней таксы, и, как оказывается, русское почтовое ведомство действовало в этом случае без всякого повода со стороны Турции или Австрии, которые своих такс не изменяли».
Действительно, англичанам нечего бояться нашего чрезмерного влияния на Востоке, пока будет такой ералаш. Я виделся на днях почти со всеми министрами и с удивлением узнал, что почти все они разделяют мои опасения. Им не более моего известны те несомненные данные, на которых основали государь и князь Горчаков свою уверенность, что дела не примут опасный для мира оборот. Я князя Горчакова еще не видел — он в Царском Селе и, говорят, ликует, получая из разных мест России благодарственные и поздравительные адреса. К государю также начинают посылать восторженные адреса. Пишущие их убеждены, что дело сделано разумно и что во всяком случае мы совершенно готовы встретить всякую случайность. Ежели бы я имел эту уверенность, то с радостью бы подписался под таким адресом. Между тем, судя по газетам, Австрия, Англия, Турция и Италия готовят сильный протест, турки даже, говорят, вооружаются. Вероятно, последствием всего этого будут с нашей стороны какие-нибудь разъяснительные депеши, которые смягчат резкость и решительность тона первого циркуляра; в России это примут за попятный шаг, поэтому будут недовольны и адреса, вероятно, приостановятся. Всего более я опасаюсь, чтобы турки по наущению Англии не решились бы попробовать, в какой мере мы готовы с оружием в руках защищать свои требования. Для этого им стоит только теперь послать несколько военных судов в Черное море и остановить нашу торговлю. Ежели мы примем это за объявление войны и действительно пойдем занимать княжества[191] или Галицию, то тогда, буде англичане войны не хотят, — они вмешаются и предложат мирное разрешение вопроса на конференции, а ежели мы ограничимся одним протестом против насилия турок, то, конечно, это будет значить, что мы спасовали, и тогда военный разговор с нами будет другой. Все это возможно, потому что не стоит больших усилий. Ежели бы мы хоть мало-мальски были более готовы к войне, то, конечно, теперь самая благоприятная для нас минута начать бой с Австрией и Турцией, разумеется, призвав на помощь все христианские и славянские силы. И успех не только возможен, но даже вероятен. Но засим меня еще смущает сомнение — что же далее?.. Что будет, когда мы победителями станем или у Константинополя, или у Вены? Отрекаемся ли мы от Сатаны и всех его дел, т. е. откажемся ли мы от всей немецкой политики и от всех ее симпатий, которыми до костей пропитаны все наши правительственные сферы? Ведь тогда придется поднять знамя славянофилов и принять их программу, а, по понятиям Тимашева, Шувалова и самого государя, — это есть знамя красных революционеров. Нет, не время еще поднимать восточный вопрос, а потому не время и играть им.
16-го ноября. Волнение, произведенное в Европе циркуляром князя Горчакова, начинает утихать; есть надежды, что дело до войны не дойдет. Но сегодня пронесся достоверный слух, что мы согласились на собрание Конференции в Лондоне, на обсуждение которой будет предложен возбужденный нами вопрос. Ежели этот слух справедлив и Конференция ограничится рассмотрением только той части Парижского трактата, от которого мы отказались, то я считаю дело с нашей стороны проигранным и во всяком случае выходку нашей дипломатии неудавшейся. Конференция, призванная заниматься специальным вопросом, уже потому для нас невыгодна, что всякая конференция имеет целью дойти до соглашения, а соглашения возможны только при взаимных уступках. В настоящем же случае, как бы малы ни были наши уступки, все же они будут уступками, а мы, заявив требование на одно только отвлеченное право, не имеем в руках своих никаких материалов для уступки. Ежели бы мы материально нарушили Трактат и каким-либо фактом заявили бы пространство и силу наших притязаний, то тогда, конечно, можно было бы в чем-нибудь убавить или смягчить силу нашего нарушения, а так как мы только объявили, что не хотим более терпеть ограничений в праве, и при этом всем известно, что пользоваться этим правом мы не имеем теперь и не можем иметь прежде многих лет никаких средств, то что можем мы уступить на Конференции, в видах соглашения, я решительно не понимаю. Конференция, вероятно, затянется на несколько месяцев и может продлиться до весны. К тому же времени при настоящих событиях в Европе все может измениться, и никто не может отвечать за то, что обстоятельства могут так невыгодно для нас сложиться, что не только за нами не признают права отказаться от Парижского трактата, но еще потребуют каких-либо материальных гарантий в том, что мы и впредь не будем уклоняться от обязательной силы договоров. Я удивляюсь, как князь Горчаков не понял то невыгодное положение, в которое он себя поставил, приводя в доказательство права России не считать Трактата для себя обязательным тот факт, что другие державы нарушили этот трактат. Да, они его нарушили фактически, но потому они его и нарушили именно фактически, потому что не могли не признать его обязательной силы в принципе, а мы стали на самую неблагодарную почву — заявляем, что хотим в будущем нарушить договор, который не считаем в принципе для себя обязательным. Вести на этой почве дипломатический спор во всяком случае крайне неблагоразумно и невыгодно. Наконец, вся эта выходка князя Горчакова оправдывалась тем, что настоящая минута для нас будто бы самая удобная, для того чтобы заявить Европе нашу решительную волю. Хотя я решительно сомневаюсь в выгодности настоящей минуты, но ежели даже и допустить это основание, то мы, соглашаясь на Конференцию, отказываемся в пользу противников наших от этой выгоды. Теперь от воли их будет зависеть выбрать минуту, когда с нами покончить разговоры. Ко всему этому надо еще прибавить печальное сознание, что на всех конференциях представители противников наших действовали всегда с большим талантом, сознанием и хитростью. Не жду я проку от этих конференций. Дай Бог, чтобы опасения мои не оправдались. Замечательно, что «Правительственный вестник», пропечатав циркуляр князя Горчакова, после того молчит и не единым словом не вразумляет публику, которая из иностранных газет узнает все последствия депеши князя Горчакова, а между тем благодарственные адреса из России начинают появляться один за другим и доказывают, что публика поняла все значение возбужденного вопроса. Но «Московскими ведомостями» очень заняты в высших сферах, что они не кричат «ура»…
Между тем осада Парижа затягивается сверх всякого ожидания и положение немцев становится с каждым днем затруднительнее.
Так мало привыкли у нас соображать важные государственные меры, что, решившись, например, послать циркуляр князя Горчакова, не сообразили, что на днях должен выйти манифест о ежегодном очередном наборе и теперь решились остановить объявление этого манифеста, что сопряжено с большими неудобствами. Между тем на сих днях обнародовано следующее высочайшее повеление.
Высочайшее повеление
Государь император, по докладе Его Величеству настоящего положения работ комиссии, на которую возложен пересмотр постановлений о личной военной повинности, высочайше соизволил принять во внимание:
1) Что для полного обеспечения военной защиты государства без обременительного для его финансов увеличения наличного состава армии необходимо постепенное образование резервных или запасных войск, призываемых на службу только в военное время.
2) Что устройство запасных войск должно быть основано на тех же самых коренных началах, на которых основано общее устройство армии, и что необходимость соблюдения этого условия вполне подтверждается современными военными событиями.
3) Что сокращение сроков обязательной службы облегчает исполнение личной военной повинности и должно быть сохраняемо в виду при составлении новых об этой повинности законоположений.
4) Что сокращение военных сроков без ослабления военных сил государства в общем составе запасных и наличных частей армии зависит от численности той доли населения, которая ежегодно призывается или впредь будет призываться на службу.
5) Что все ныне действующие постановления о порядке поступления на службу, несмотря на допущенные в них различия по правам состояний или правам сословным, имеют один общий источник, заключающийся в понятии о всеобщей и священной обязанности защиты отечества.
6) Что для обеспечения надлежащего устройства запасных войск необходимо установление более постоянного и более правильного соотношения между числом новобранцев, вступающих в армию на основании начала обязательного призыва, и числом лиц, которые ежегодно поступают на военную службу на других основаниях и которые, по правам состояния и по степени образования, преимущественно занимают офицерские должности.
Вследствие сего, государю императору благоугодно было 4-го сего ноября повелеть военному министру: составить и представить на высочайшее утверждение, установленным порядком, предположение об устройстве запасных частей армии и о распространении прямого участия в военной повинности, при соблюдении некоторых особых условий, на все вообще сословия в государстве.
Этот малопонятный для большинства набор слов просто значит, что правительство решилось ввести всеобщую обязательную военную службу, уничтожив все сословные привилегии, освобождавшие до сих пор от сей тяжкой натуральной повинности. В какой форме и по какому образцу будет призыв на службу — ничего еще неизвестно, но, вероятно, приближаясь к образцу прусского ландвера, эта одна из важнейших государственных мер будет иметь громадные последствия не только для всякого дела в России, но и во всей общественной и политической жизни государства. Но я имею полное основание думать, что с этой реформой будет то же, что было со всеми реформами, как то: с судом и с печатью, т. е. издадут, не поняв всего ее значения, и засим будут удивляться полученным результатам и негодовать против них.
Чтобы оправдать мое мнение, я должен рассказать историю этого вопроса, как он мне известен, так как я принимал в ходе его некоторое участие. Вскоре после введения крестьянской реформы, не попомню хорошенько, в 1862-м или 1863-м году, учреждена была под председательством члена Государственного совета Н. И. Бахтина Комиссия для составления нового рекрутского устава. Я был назначен в эту Комиссию членом со стороны Морского министерства. Комиссии этой, сколько мне помнится, не дано было никакой руководящей инструкции, а велено было сперва начертать главные основания предполагающейся реформы… Бахтин, хотя вообще был человек довольно поверхностный, принадлежа к числу либералов 20-х годов, удержавшихся на министерской службе при Николае Павловиче, но вел дело весьма успешно, и много приготовленных работ, сделанных под его руководством, послужат теперь хорошим материалом для будущих работ. Когда Комиссия наша коснулась вопроса об изъятии от натуральной рекрутской повинности, то, само собою, пришла к необходимости войти в обсуждение и вопроса об изъятиях сословных. Тут, помнится мне, образовалось два мнения — большинство, к которому принадлежал и я, высказались прямо в пользу уничтожения всяких сословных изъятий. Бахтин, сочувствуя, видимо, нашему мнению, высказывается так неопределенно, что нам ясно было видно, что ему запрещено касаться радикального разрешения этого вопроса. Прежде чем Комиссия выработала свои основания, я из Морского ведомства вышел, поступив в управление Таможенным ведомством… Но мне известно, что работа Комиссии, по высочайшему повелению, была рассмотрена в Государственном совете, причем объявлено было запрещение касаться до изменения ныне существующих сословных прав. Государю было представлено, что проект Комиссии направлен к окончательному уничтожению дворянского сословия. С тех пор Комиссия, которая и до сих пор продолжается, за смертью Бахтина, под председательством сперва Бутенева, а потом графа Гейдена, не издала нового устава, а ограничилась при каждом новом манифесте о наборе издавать отдельные правила в отмену и изменение прежних. Таким образом, вопрос о радикальной реформе воинской повинности, несмотря на неоднократные попытки военного министра Милютина вызвать его к жизни, заглох и лежал под спудом. Он бы, вероятно, долго еще пролежал, хотя организация прусской армии так поразительно оправдалась на деле, ежели бы Петр Александрович Валуев, бывший министр внутренних дел, а ныне находящийся не у дел, не вздумал нынче летом поехать за границу. Война застала его в Германии, и он, будучи свидетелем быстрой и замечательно усиленной мобилизации германской армии, вздумал изложить свои впечатления в записке, озаглавленной: «Записки невоенного о военном деле». Эту записку, по приезде в Петербург, он дал прочесть военному министру Милютину, а этот, возвращая ему, заметил qu’il parle à un converti[192], что лучше бы он подал записку эту государю. Милютин понимал, что Валуева не считают за красного, врага дворянства, а потому рад был пустить его вперед. Он предложил Валуеву передать государю эту записку, на что Валуев согласился. Государь, прочтя записку, в тот же вечер возвратил ее Милютину, заметив, что это те же мысли, которые он уже несколько раз слышал от него, Милютина, и что он вполне это разделяет, и что нужно немедленно им дать ход. Вот происхождение вышеприведенного высочайшего повеления, текст которого, ежели не взят из записки, то по крайней мере сочинен, по всей вероятности, Валуевым, ибо я узнаю его слог, многоречивый и туманный. Итак, государь внезапно, без всякого какого-либо предварительного обсуждения, согласился, по крайней мере в принципе, на меру, крайне важную по своим последствиям. При этом он, вероятно, вообразил только, что с дворянством нечего теперь церемониться особенно… К тому же и в журналах, и в земских собраниях уже слышались голоса дворян, добровольно отказавшихся от своих привилегий. Но все другие стороны этого вопроса ему едва ли известны, и едва ли не только он, но и граф Шувалов, и генерал Тимашев, поставившие себе задачею или по крайней мере выдающие себя за строгих охранителей всех внешних форм самодержавия, едва ли эти господа понимают, что эта реформа, так же как и другие, ей предшествовавшие, вносит новый элемент в политическую жизнь государства.
Сегодня я вводил преемника моего, д<ействительного> с<татского> с<о-ветника> Качалова, бывшего архангельского губернатора, в управление Департаментом таможенных сборов. При этом я видел со стороны бывших моих подчиненных чиновников столько искренних ко мне чувств благодарности и сожаления, что я был глубоко ими тронут. Когда чиновники собрались в залу, чтобы со мной проститься, и я хотел отвечать на сделанное ими приветствие, то так был взволнован, что долго не мог выговорить ни слова. Я действительно оставляю Таможенное ведомство с самыми приятными воспоминаниями и, кажется, заслужил добрую о себе память.
Мне посчастливилось многое сделать, значительно улучшить и возвысить дух управления, обеспечить положение служащих, и все это имело последствием увеличение государственного дохода почти вдвое.
Правда, обстоятельства мне благоприятствовали, и теперь, как вспоминаю все подробности моей семилетней деятельности в Таможенном управлении, то не могу указать ни на одну из особенно удачных или счастливых мер, которыми бы вполне объяснялся достигнутый результат. Но в общем у меня сохранилось сознание, что я искренне и твердо желал лучшего, я, можно сказать, в течение этих семи лет только об одном и думал. Занятия сами по себе, хотя они и отнимали у меня много времени, но независимо собственно от работы я был постоянно озабочен одной мыслью, хотя этого и не высказывал. Я не сомневаюсь, что такое мое внутреннее настроение действовало на служащих, давало мне в глазах их авторитет и незаметно передавалось всему управлению. Вот почему в течение семи последних лет я даже в свободное время мало занимался посторонними предметами, я был поглощен одной работой.
Теперь по отношению к Лесному управлению я нахожусь совершенно в том же положении, в каком находился при поступлении в Таможенное ведомство. Чувствую, что, для того чтобы сделать что-нибудь дельное по этой части, нужно употребить столько же последовательности, энергии и нравственных сил, но вместе с тем чувствую, что сильно постарел, что нет той охоты и решительности начать снова изучать и погружаться в суть нового, сложного и расстроенного дела. К тому же в таможенном деле я приобрел опытность, а эта опытность учит меня не доверять первым впечатлениям. Как бы дело ни казалось ясным и как бы исправление недостатка ни казалось легким и возможным, нужно удержаться от соблазна ломать и менять существующий порядок, не уяснив себе дело во всех подробностях. Я помню, как по Таможенному ведомству мне хотелось на первых порах многое сделать, но благо Рейтерн меня сдерживал своим невозмутимым спокойствием, и я ему за это благодарен, ибо наделал бы много глупостей. Теперь, следовательно, мне предстоит пока покоиться на лаврах и ограничиваться простым исполнением не многотрудных служебных обязанностей или начать вновь серьезно работать, чтобы преобразовать Лесное управление, находящееся во всех частях в самом неудовлетворительном положении. Так как Лесное управление останется во всяком случае, и с преобразованием или даже вовсе с уничтожением министерства Государственных имуществ, то предмет стоит внимания. Пока я все еще всматриваюсь и вчитываюсь, может быть, летом поезжу по России, чтобы взглянуть на дело помимо бумаг. В общих чертах мне даже довольно ясно представляются причины коренных недостатков, но все это довольно смутно и во всяком случае не настолько ясно, чтобы я мог решить себе вопрос — могу ли я и должен ли я взяться за дело или нет.
26-го ноября. На сих днях прислан из Москвы от Московской думы следующий адрес:
Всемилостивейший государь.
Пятнадцать лет сносила Россия унижение небывалое, в твердом уповании, что, возрастая непрерывно под Верховным Вашим радением, она возвратит себе вовремя благопотребно и свободу, и силу, и должный почет в сношениях внешних. По внушению Вашей Царственной Совести, Вы решили, Государь, что эта пора теперь настала, что пришел час для России, и именно теперь, стряхнуть с себя незаконные узы, наложенные врагом. Вы не потаенно, а въявь отвергли некоторые статьи Парижского трактата, уже давно разодранного и попранного теми самыми, кто издал этот трактат во вред России. Ваше слово, торжественно сказанное во имя Русской земли и народа, не останется одним лишь словом, и оно обратится в дело несокрушимое. Какие бы испытания ни грозили бы нам, они — мы уверены — не застанут Россию неподготовленной. Они, несомненно, найдут Россию тесно сомкнутою вокруг Вашего Престола.
Но с большею верой, чем в прежние времена, глядит ныне Россия на свое будущее, слыша в себе непрестанное духовное обновление. Каждое из Ваших великих преобразований, совершенных, совершаемых и чаемых, служит для нее и вместе для Вашего Величества источником новой крепости. Никто не стяжал таких прав на благодарность народа, как Вы, Государь, и никому не платит народ такой горячей признательностью. От Вас принял он дар, и в Вас самих продолжает он видеть надежнейшего стража данных ему вольностей, ставших для него отныне хлебом насущным. От Вас одних ожидал он и довершения благих начинаний и, первее всего, простору мнений и печатного слова, без которых никнет дух народный, и нет места искренности и правде в его отношении ко власти, свободы церковной, без которой недействительна и сама проповедь, и наконец, свободы верующей совести — этого драгоценнейшего для души человеческой. Государь, дела внутренние и внешние связуются неразрывно. Затем успех в области внешней лежит в той силе народного самосознания и самоуважения, которую вносит государство во все отправления своей жизни. Только неуклонным служением началам народности управляется государственный организм, сплачиваются с ним его окраины и создается то единство, которое было неизменным источником заветов Ваших и наших предков и постоянным знаменем Москвы от начала ее существования. Под этим знаменем, Государь, по первому Вашему зову все сословия народные соберутся и ныне и уже без различия звания, дружной ратью, в непоколебимой надежде на милость Божью, на правоту дела и на Вас. Доверие со стороны царя к своему народу, — разумное самообладание в свободе и честность к покорности со стороны народа, взаимная и неразрывная связь царя и народа, основанная на общении народного духа — на основании стремлений и верований, — вот наша сила, вот что поможет России совершить ее великое историческое призвание. Да, Государь, «Вашей воле, — скажем мы в заключение словами наших предков, в ответ их Первовенчанному предку Вашему в 1642-м году, — Вашей воле готовы мы служить и достоянием нашим, и кровью — а наша мысль такова».
Этот адрес, как и следовало ожидать, не был принят, Тимашев возвратил его князю Долгорукову — московскому военному генерал-губернатору — с выговором, как мог он подобный адрес принять для доставления в Петербург. Говорят, государь, очень рассержен, и, разумеется, весь гнев преимущественно сосредоточил на городском голове князе Черкасском, Веймарне и Самарине, которым приписывают редакцию. Нельзя не признать, что слова о свободе печати и совести крайне неуместны, бестактны и помещены в адрес как будто нарочно, чтобы рассердить, без этих слов адрес бы много выиграл и, вероятно, был бы принят, так как не оставалось бы благовидного предлога возвращать его. Не понимаю, как мог решиться Черкасский предложить на подпись подобный акт, за содержание которого вся ответственность, конечно, падала на него. Он не мог не знать, что этим он окончательно лишает себя всякой возможности вступить вновь на службу государственную. Все враги его, во главе которых граф Шувалов и Тимашев, в восхищении от этого промаха и, конечно, пользуются им с особенным удовольствием. Приезжие из Москвы объясняют всю историю этого адреса следующим образом: первоначально не хотели вообще подавать адреса ни дворянство, ни Дума, не видя в настоящих обстоятельствах достаточного повода делать какие-либо заявления, и, кажется, из Петербурга министр внутренних дел дал знать Долгорукову, чтобы он воздерживал от манифестаций. Но потом в Петербурге пожелали, чтобы из Москвы тоже, по примеру других губерний, был прислан адрес. Тогда московское дворянство, в лице своих предводителей, просило позволения прислать сюда депутацию для поднесения адреса. Депутацию отклонили, а адрес изъявили желание принять. Вследствие сего дворянство и прислало весьма невинный и бесцветный адрес, который и напечатан, а Дума, под руководством Черкасского, захотела сказать в адресе нечто такое, чтобы видели, что адрес этот написан не по заказу, и притом выразить некоторый протест против торжествующей вообще в правительственных сферах реакции и, в особенности, против антинационального направления, тем более что за несколько дней перед сим Тимашев, со свойственной ему бестактностью, прислал в Москву какого-то чиновника от Главноуправления по делам печати, чтобы сделать московским журналистам разные внушения и, между прочим, объявить свое запрещение писать против немцев вообще и пруссаков в особенности. Редакцию адреса взял на себя Аксаков и, разумеется, написал передовую статью, без соображения о том впечатлении, которое она здесь произвести может. Редакция эта подробно рассматривалась некоторыми членами Думы и потом единогласно была принята в общем собрании и подписана 105-ю лицами. Удивительно, как Черкасский, зная всю здешнюю обстановку и здешнее направление и дорожа свои положением, по крайней мере настолько, чтобы не сделаться совершенно невозможным в будущем для какой-либо политической деятельности, — удивительно, как мог он решиться принять эту редакцию, но еще удивительнее, как мог князь Долгоруков решиться прислать его сюда. Как ни глуп Долгоруков, как ни податлив влиянию, все-таки мудрено, чтобы он не понял, что в Петербурге будут очень недовольны этой манифестацией, а он, говорят, напротив, пришел в восторг от адреса и, мало не колеблясь, прислал его сюда. Зато, говорят, ему послан сильнейший нагоняй, и он, говорят, теперь в отчаянии. Хуже всего то, что реакционное настроение государя еще больше усилилось, он, говорят, из себя выходит. Некоторые выражения адреса его, говорят, особенно сердят: «Каких, — говорит он, — они преобразований еще чаят? Я знаю, чего они чаят… (разумеется под этим конституция). Я никаких вольностей не давал. Я дал права, а не вольности, (не понимая того, что слово „вольности“ употреблено в адресе в том смысле, в каком оно употреблялось у нас в актах даже во времена Екатерины, т. е. в смысле прав). Что это за проповедь они мне читают под конец?» Он приписывает редакцию Самарину и Аксакову, а ответственность всю возлагает на Черкасского, укоряет людей, которые, как Зеленый, хотели его допустить до занятия высших мест в управлении. Одним словом, не только Черкасский, что называется, окончательно coule[193], но и все реформы, в пользе которых он уже сомневался, еще более ему сделались противны. Императрица на возвратном пути из Крыма должна была остановиться на несколько дней в Москве, но теперь ей приказано не останавливаться там, а прямо ехать в Петербург: все это очень прискорбно. Шувалов и К° неминуемо воспользуются этим настроением царя и станут выкидывать какие-либо безобразия, которые без всякой пользы будут только раздражать публику. Существенных мер все-таки никаких принято не будет, мы от существенной реакции, к счастью, застрахованы неспособностью и крайней невежественностью деятелей в этом направлении. На днях корреспондент «Indépendance Belge»[194], некто г. Загуляев, отправился в Вятку за то, что он сообщил в эту бельгийскую газету известие о том, что Тимашев призвал к себе редакторов русских газет и приказал им не нападать на прусскую политику.
2-го декабря. Как бы нарочно для того, чтобы еще более расстроить нервы государя и оправдать постоянное стремление графа Шувалова и Тимашева представлять Россию в каком-то революционном настроении, открылась вчера новая шайка нигилистов и нигилисток, собиравшаяся в здешнем Земледельческом институте. Шайка эта, образовавшаяся из остатков разбитой шайки Нечаева и Каракозова, так же безобразна, как и все открытые уже подобные шайки.
На этот раз одним из главных руководителей этой мерзости был профессор Земледельческого института Энгельгардт. В стенах института собирались сходки в числе более 100 человек, на этих сходках говорили и читали всякого рода революционные и нигилистические безобразия, в сходках принимали участие не только студенты, живущие в институте, но также приезжали из города молодежь и нигилистки, которые тут же и плясали, пьянствовали и ночевали, — все это оставалось неизвестным начальству института, т. е. директору… Меня это открытие вовсе не удивило. Я еще летом, когда управлял министерством, был раз на экзамене в этом институте и по одному виду слушателей и профессоров вынес полное убеждение, что это — вертеп всякой мерзости и дряни. Засим Совет института, составленный из 17-ти профессоров и преподавателей, из них большинство дряни, настоятельно требовал от меня, чтобы я согласился на предложенную ими командировку студентов института для практических будто бы занятий в разные губернии. Я, предвидя, что эта командировка недоучившихся нигилистов есть не что иное, как средство пропаганды, наотрез и решительно отказал. Засим тот же Совет настоятельно требовал, чтобы выбор секретаря Советов был предоставлен им, тогда как до сих пор он назначался министерством; я в этом отказал. Тогда декан Андреев вышел в отставку, и на место его выбрали Энгельгардта, который поставил условием принятие этого звания, чтобы выбор секретаря был предоставлен Совету; когда же я и на это не согласился, то Совет не хотел выбирать нового декана. Я видел, что этим господам не хотелось вызывать студенческую манифестацию, которая непременно бы и состоялась, ежели бы к концу вакантного времени[195] не был бы выбран декан. Тогда я приказал объявить гг. Андрееву и Энгельгардту, что ежели будет какая-нибудь история, то г. Андреев в тот же день отправится в Пермь, а Энгельгардт — в Вятку, и я в том ручаюсь им своим честным словом. Дело успокоилось тем, что я сам назначил секретаря из профессоров, а Энгельгардт принял звание декана. Положение мое было довольно щекотливое, потому что в случае какой-нибудь истории я должен бы был сам доложить о ней государю, предупреждая донесение Шувалова, но при этом я должен бы был высказать государю откровенно мое мнение об этом заведении, во всех отношениях вредном и бесцельном. Но так как Зеленый сам образовал это заведение и, по-видимому, прежде дорожил им, то мне было крайне неудобно в его отсутствие докладывать государю подобное дело. Поэтому я очень был рад, что оно окончилось мирно.
По приезде Зеленого я сказал откровенно ему все свое мнение, не скрыв ничего, и предсказал ожидавшие его неприятности. Мое объяснение, видимо, смутило Зеленого, он поехал в институт, дал разного рода строгие приказания и, кажется, вернулся с убеждением, что я преувеличил зло. Никак я не ожидал, чтобы мои предсказания так скоро сбылись. Теперь профессора Энгельгардт и Логинов арестованы и около 10-ти главных студентов. Засим заведение теперь закрыто не будет, но я надеюсь, что недолго оно просуществует, ибо исправлять его отдельными мерами нет возможности. В сущности, из всех донесений агентов, которые в виде студентов сами принимали участие во всех сходках, видно, что ничего серьезного, имеющего вид какого-нибудь заговора или чего-либо подобного, не было, все ограничивалось ругательствами на существующий порядок и разговорами о цареубийстве. Большинство постоянно приходило в сознание, что революция теперь невозможна, что народ слишком любит царя, но что нужно сильно пропагандировать и действовать на народ всякими средствами. Все это, говорят, безбожная, безнравственная и крайне невежественная молодежь, в политическом смысле не имеющая ни малейшего значения, но крайне, по моему мнению, вредная, ибо развращает до кости своими материалистическими учениями учащихся юношей. Хотя вообще в гимназиях и в других заведениях теперь в этом отношении заметное улучшение, но есть у нас, к несчастию, целое поколение молодых людей, бывших в гимназиях, семинариях и университетах в 1856–1862 г., которые в корне испорчены, и они еще продолжают в профессорских и учительских местах приносить много вреда. Одними строгими мерами и преследованиями отдельно попадающихся личностей ничего сделать нельзя. Вредному учению должно противопоставить здравое учение, и стеснение печати мешало только до сих пор этой полезной борьбе.
Замечательно, что права административных взысканий за преступление печати, на которых я так сильно настаивал при начертании проекта устава именно с целью вооружить правительство силой для преследования вредных учений, ни разу не были применены к делам подобного рода. Все предостережения и запрещения, которые начинались в административном порядке министрами — Валуевым и Тимашевым, исключительно почти относились к случаям либо резких суждений или личных нападок на правительственных лиц и проч. Социальная же литература, как при цензуре, так и теперь, вполне процветает. Наконец, как не понимают наши правительственные лица, что материалистическому учению нигилистов, в особенности политической стороне этого учения, можно только противопоставить с пользою учение и направление партии национальной, а эта-то партия сердитее всего преследуется правительством, и критическое отношение этой партии или этого учения к правительству и отдельным его органам ставят совершенно в уровень с безобразными, разрушительными и отрицательными возгласами этих социальных башибузуков. Тимашев откровенно сознался, что не видит никакой разницы между прокламациями Бакунина и передовыми статьями Аксакова. Я уверен, что и теперь манифестация на сходке Земледельческого института сливается в понятии государя в одно с московским адресом, и в общем ему представляется Россия каким-то враждебным против него лагерем. Все это производит такую путаницу в понятиях, что со стороны смешно и грустно смотреть. Замечательно, что все речи и сочинения социалистов и нигилистов наполнены бранью против Каткова, Аксакова и проч. так называемых представителей московской партии, и так же точно относится к ним и к учению их и правительство. Les extremes se touchent[196].
В ответ на письмо с вопросом о том, как мог Черкасский, зная здешнее настроение, решиться предложить и провести в Думе непринятый адрес, я получил от Самарина объяснение в следующих выражениях:
«Странно вы судите в Петербурге. Я долго спорил против подачи какого-либо адреса, потому что не верил в серьезность и обдуманность декларации, но теперь я рад, что подписал его. Неужели ты думаешь, что мы все, и в особенности Черкасский, не ожидали того впечатления, которое он произвел, и что никому из нас не пришло на ум все, что можно сказать о несвоевременности такого заявления, о необходимости избегать раздражения, не подавать орудия реакции и т. д. Додуматься до всего этого своим умом, право, не так трудно, а поддаваться ребяческому задору и увлечению на шестом десятке было бы чересчур глупо. Поймите же, наконец, что можно, и не только можно, но и должно служить одному и тому же делу разными способами. Воспитывать общество и вразумлять правительство, ставить вопрос и проводить его, обстреливать слух и облекать созревшее намерение в форму доклада — все это задачи совершенно различные, и из того, что вы в Петербурге заняты одной из них, никак не следует, чтобы люди иного разбора, при совершенно иной обстановке, должны были бы воздержаться от прочих. Тебе удалось несколько лет тому назад выхлопотать для печати полусвободу, которая завтра у нас отнимется, но скажи по совести, не в значительной ли степени помогли в этом случае невоздержанность Герцена и запальчивость нашей заграничной литературы? Если бы русская мысль не отвоевала бы себе полнейшей свободы там, кто бы посмел домогаться полусвободы ее у нас? И к чему, наконец, приводила нас эта хваленая осторожность и житейская мудрость лишней практичности? В сущности, это пренебрежение всем серьезным и крупным и это безусловное подчинение самых разумных требований мелочным соображениям, не выходящим из области придворных низостей и служебных интриг. Сбылось ли хоть одно из ваших ожиданий? Удалось ли вам что-нибудь предупредить? Чему-нибудь помешать? Сколько я ни помню, все сделалось по-своему, вопреки всем вероятностям, в силу каких-то законов, не умещающихся ни в какой программе. Дело об адресе ведено нечестно. Черкасский действовал не нахрапом. Проект был прочитан раз 6 — разобран по волоскам, смысл его и вероятные последствия были <ясны> всем, и после 5-часовых предварительных возражений и толков, через сутки, данные на размышление, подписан всеми, в том числе мещанами и купцами.
Я знаю, что благодаря именно этому во многих темных и сонных умах зашевелилось много несознательных требований и зародилось немало новых понятий, я доволен и этим, хотя очень хорошо знаю, что за этим могут последовать и извинения, и огорчения. Там у вас наши дерзкие надежды озадачили и раздражили — пусть так, но сказанное слово оставляет след, если не в мозгу, то в слуховом органе. Повторение того же слова подействует уже иначе и понемногу с ним свыкнется. У нас теперь заседает земство. Безмозглый Мещерский (князь Александр Мещерский, предводитель московского дворянства, женатый на Строгановой) настаивает на подаче нового адреса и придумывает средства, как бы не допустить до возвращения. Я объявил ему, что без этого не обойдется и что произойдет неминуемый скандал, но он, по глупости, а может быть, по каким-нибудь своим расчетам — упрямится. В Податной комиссии, выбранной земством (о замене подушных сборов другими налогами), дело идет успешно. Но нашему тоже, вероятно, не следует пугать привлечением к обложению имуществ всех сословий».
В этом письме одно лишь неоспоримо верно — это то, что все у нас делается по-своему, в силу каких-то законов, не умещающихся ни в какую программу Доказательством этому может служить следующий на днях бывший факт. Когда возник вопрос о передаче на обсуждение земства всей империи предложения правительства о замене подушной подати другими налогами, то возникло опасение, чтобы земские собрания при обсуждении этого вопроса[197] не увлеклись далее известных пределов. Замечательно, что министр внутренних дел, который первый предложил привлечь земство к обсуждению того вопроса, вовсе не подозревал значения того участия земства в разрешении важнейшего государственного вопроса. Опасения были высказаны министром финансов Рей-терном государю, и хотя Рейтерн вовсе не отрицал пользы участия земства, а, напротив, настаивал на нем, но он счел долгом предупредить государя, что дело это серьезное и что нужно быть заранее готовым к тому, что земские собрания коснутся при обсуждении вопроса и вопросов общих. Государь, поняв важность того дела, собрал у себя Совет министров, и на нем подробно обсуждался вопрос — нужно или нет передать земству обсуждение средств замены подушной подати. Решено было, что нужно, но с ограничениями, и велено было Комитету министров войти в ближайшее обсуждение того, какие пределы положить суждениям земства. Нынче летом в Комитете министров, в моем присутствии, этот вопрос подробно обсуждался. Тимашев предложил ряд ограничений, которые все клонились к тому, чтобы не дать повода земству предлагать распределение подушной подати, лежащей ныне на одних податных сословиях, — на все привилегированные сословия. В этом смысле составлена была редакция журнала Комитета министров. Несмотря на это, сколько мне известно, многие земства хотели заявить о необходимости разложить подушную повинность на имущество всех сословий, и все думали, что это заявление будет неприятно правительству и даже боялись закрытия собрания.
Но вдруг, на сих днях, граф Левашов, здешний губернатор, открывая здешнее губернское Земское собрание, произнес речь и в ней сказал, между прочим, следующее:
«Милостивые государи.
Я уже имел честь в официальных отношениях моих к председателю губернского Земского собрания сообщить о тех предметах, которые предложены г. министром внутренних дел на наше обсуждение в настоящую сессию.
Практическая важность всех этих предметов в кругу сельского хозяйства будет, без сомнения, вполне оценена Вами, милостивые государи, а потому я не стану теперь о них распространяться. Позволю себе лишь обратить особое внимание Ваше на один из этих предметов, а именно — о замене подушной подати надворным налогом или поземельной податью. Вопрос этот связан с коренным изменением всей податной системы, принятой в нашем отечестве. Он имеет целью облегчить тягости так называемых ныне податных сословий посредством переложения налогов с душ на имущества, принадлежащие всем, без различия сословий, жителям империи. Важность этого вопроса для всего государственного строя служит новым свидетельством того доверия, с которым относится к трудам Вашим державный создатель земских учреждений. Лучшим ответом с Вашей стороны на это доверие будет спокойное, добросовестное, практическое обсуждение предложенного Вам вопроса».
Оказывается, что Тимашев не счел нужным предупредить губернаторов о том, в каких пределах правительство намерено допустить суждение земства по этому вопросу, а граф Левашов, не поняв, в чем дело, хватил в речи своей, что называется, не в ту силу, и теперь, совершенно случайно, вопрос перешел далеко за пределы желания правительства. Речь Левашова напечатана в «Правительственном вестнике». Я первый указал на нее всем министрам в последнем заседании Комитета министров, где я присутствовал по случаю болезни Зеленого, и все министры были крайне изумлены. Но теперь уже дело сделано, поправить его трудно, и, таким образом, вся осторожность ни к чему не привела, ибо нет сомнения, что все земские собрания примут заявление, сделанное Левашовым, к руководству.
Вчера было у государя собрание министров для обсуждения главных оснований рекрутской реформы. Эти основания утверждены и, вероятно, будут напечатаны. Над разработкой самого Положения будет, вероятно, еще долго работать особая комиссия, осуществление же самой реформы едва ли может последовать в скором будущем, оно потребует таких громадных денежных затрат, что едва ли финансы наши способны будут их удовлетворить, даже прибегая к чрезвычайным усилиям. К тому же мне все кажется, и я, признаюсь, надеюсь, что исход настоящей войны вызовет страшную реакцию против вооружений вообще и против системы прусского ландвера[198] в особенности. Теперь, видимо, война затягивается, Париж не сдается, вся Франция ополчается, и положение пруссаков становится весьма критическим. Теперь уже можно с достоверностью предполагать, что предложенные пруссаками условия мира не осуществятся, хотя бы и Париж от голоду сдался. Триумф пруссаков во всяком случае не окупит всех принесенных жертв. При системе ландвера вся Германия от продолжительной войны будет вконец разорена. При постоянном войске такого бы разорения не было. Это обстоятельство может вызвать в Германии сильную реакцию против системы ландвера, тогда и мы, может быть, откажемся от принятия этой системы. Одним словом, мне кажется, что по окончании настоящей войны последуют в политическом и социальном устройстве всех европейских держав радикальные перемены, ежели, впрочем, не суждено провидением человечеству истребить друг друга.
5-го декабря. На прошедшей неделе, по случаю отъезда министра в Москву на юбилей Общества сельского хозяйства[199], я управлял министерством и в прошедший вторник был с докладом у государя. При этом я завел речь об истории в Земледельческом институте, которая, по произведенному исследованию, оказалась пустой болтовней недоучившихся мальчишек и не имела никакого значения. Государь заметил мне, что она могла бы иметь значение, но что ее вовремя остановили. Дело в том, что Шувалов с каким-то преступным злорадством представляет государю совершенно в сыром виде, без всякой проверки, донесения своих агентов и, видно, старается держать постоянно в страхе государя. В этом отношении он вполне достигает своей цели и дошел до того, что самый могущественный из всех государей России, самый любимый и популярный из царей, не верит более в свою силу, ни в пользу совершенных им реформ, а полагает и ищет спасения от окружающих будто бы его со всех сторон заговоров и оппозиции в шпионской системе III-го Отделения и на этой системе основывает программу администрации. Общество уже привыкло относиться не только с недоверием, но даже с презрением ко всем попыткам реакционной власти и идет своим путем, пользуясь малой долей дарованной свободы. Для курьеза прилагаю при сем передовую статью сегодняшних «Московских ведомостей».
«Замечательно, что тот самый генерал Тимашев, который действует так строптиво по цензурной части, возбуждает сам вопрос о допущении женщин на занятие должностей на государственной службе. Ему понравились очень телеграфистки, с успехом занимающиеся на телеграфах, и он вошел в Государственный совет о допущении женщин и на другие служебные должности в канцеляриях и управлениях. Со своей стороны, граф Шувалов, получивший отвращение от нигилистов, вошел тоже, по высочайшему повелению, в Комитет министров с представлением о совершенном запрещении принимать женщин на какие-либо должности в управлениях. Ни Тимашев, ни Шувалов не понимают значение возбужденного ими вопроса, на днях будет о нем суждение в Комитете министров. Мне кажется, женщины должны быть безусловно изъяты от занятий каких-либо должностей на службе, но могут быть беспрепятственно допущены к занятиям в Управлениях такими делами, в которые они вносят только личный свой труд, без всяких отношений к гражданским правам и условиям служебной подчиненности. Они могут заниматься по найму в Управлениях, так же точно, как работают на фабриках, и заниматься делом чисто механическим, в котором способности их бесспорно тождественны со способностями мужчин. Таких занятий во всех Управлениях много, например: занятия писца, телеграфиста, сортировщика и проч. Допущение женщин к подобным занятиям не поднимает ни одного из вопросов специальных. Наоборот, всякая служебная должность, связывающая занимающего оную известными обязательствами и ответственностью, несовместна с правами мужа на жену, отца и матери на дочь и требует изменения или ограничения их прав не только в законе, но, главное, в правах, в складе и условиях семейной жизни и т. д…».
31-го декабря. Последние дни нынешнего года опечалены были несчастием, к которому сочувственно отнеслось высшее петербургское общество: третьего дня обер-егермейстер Скарятин на медвежьей царской охоте был убит наповал. Царь выстрелил по медведю, ранил его, но медведь ушел в чащу. Скарятин пошел высматривать след его, и в то время раздался выстрел, которым Скарятин был убит. Сперва думали, что он сам задел ружьем за сук и нечаянно застрелили себя, но сегодня при вскрытии тела, кажется, найдено, что, судя по направлению раны и качества пули, которая оказалась разрывною, выстрел, вероятно, последовал от кого-либо из бывших в цепи гостей-охотников. Кто тот несчастный, нечаянно загубивший хорошего человека, мне неизвестно, вероятно только, что это не государь, потому что после выстрела на медведя он более не стрелял. Скарятин был весьма честный, симпатичный и добрый человек, он был хорошим семьянином и оставляет неутешную вдову, сына и дочь. Государь сильно огорчен этим несчастием. Ежели не объявлены будут точные и подробные сведения о том, кто и как застрелил Скарятина, то, вероятно, молва для эффекта будет приписывать этот несчастный выстрел государю.
Завтра, по случаю Нового года, назначен во дворце большой выход. Особых новостей не ожидаем. Минувший год останется в истории одним из самых памятных годов. Для Франции в особенности этот год, может быть, самый бедственный во всей ее истории, для Германии он славен — но последствия великих подвигов еще не настолько определил, чтобы можно было с полной уверенностью сказать, что истекший год укрепил за Германией ее могущество и первенство в континентальной Европе. По-видимому, Париж долго еще держаться не может, но со взятием его еще война не прекратится. В будущих военных успехах Германии тоже, кажется, сомневаться нельзя. Но какие будут общие результаты этого погрома для Германии — это еще вопрос. Совершающиеся события так велики, успехи Германии так громадны, что последствия их не могут ограничиться пределами осуществления властолюбивых замыслов одного какого-либо человека или одной только нации. Весь строй современной политики и даже социальной жизни должен измениться. Кто же может теперь, даже приблизительно, угадать будущее? Одно только верно — это то, что в скором будущем и даже не далее, как в будущем году, все государства Европы должны будут выступить на свет божий со всем своим запасом материальных, нравственных и умственных сил. Вопросы, которые неминуемо и немедленно по окончании войны будут поставлены всем правительствам Европы, и в особенности нашему, так многосложны, важны и трудны, что никогда, может быть, значение правительства как верного представителя интересов своего государства и своего народа не было так трудно и не требовало такой твердой мудрости, как теперь. К несчастию, беспристрастный и искренний обзор состояния нравственных сил нашего правительства невольно возбуждает во мне весьма основательные опасения за исход будущего участия нашего в общей ликвидации современных событий. Хотя я сам — второстепенный член этого правительства, но по совести могу сказать, что сужу беспристрастно, не имея никаких личных причин к каким-либо неудовольствиям, к тому же я постоянно поверяю свои личные впечатления впечатлениями других, столь же близко и даже ближе меня стоящих к делу, и заношу здесь только те убеждения, которые мне кажутся вполне верными. Повторяю, менее чем когда-либо мы готовы с сознанием и твердостью защищать свои интересы против совокупных усилий врагов наших. Справедливо замечено было, кажется, в «Московских ведомостях», что истекший 1870-й год останется поучительным уроком на будущие времена для всех народов. Он засвидетельствовал ту великую истину, что великие народы Европы могут гибнуть лишь от своих внутренних недугов, а не от воли другой нации. Пример: Франция будет говорить потомству, как пагубно для страны и для ее правителей, если правительство создает для себя отдельные интересы, отличные от интересов государства. Да, это истина несомненная, но послужит ли пример Франции нам уроком — в этом я более чем сомневаюсь.
Внутренние наши недуги с каждым годом слабеют, и общественные силы, бесспорно, крепнут, но чем здоровее становится самый организм государства, тем заметнее выступает главный наш недуг, а именно — разрыв правительства с обществом, и этот разрыв происходит вовсе не от того, чтобы действительно существовали между правительством и обществом какие-либо непримиримые элементы раздора, а единственно потому, что общество в последнее десятилетие благодаря совершенным реформам значительно переросло правительство в умственных и нравственных отношениях. Я уже, кажется, несколько раз высказывал в записках своих убеждение, что все совершенные реформы в последнее время без исключения совершены были правительством без ясного сознания их важности и всех их неминуемых последствий. Теперь государь из частных проявлений видит эти последствия, они смущают его, и этим пользуются лица, выдавшиеся вперед после покушения Каракозова и находящие личную выгоду в бессмысленной реакции. Но и для реакции нужны знания и способности. Ни того ни другого нет в лицах влиятельных. Все прежние деятели, работавшие сознательно в реформах, или вовсе сошли со сцены, или стоят на втором плане без всякого значения. Никогда перлюстрация[200] и шпионство не играли такой важной роли, как теперь. Все интересы края рассматриваются исключительно только с полицейской точки зрения. Все признаки жизни и нравственного развития в обществе заподозрены в красном либерализме. Это начинает возмущать общество, и, несмотря на любовь к государю, внутри России относятся к его правительству с нескрытым презрением и недоверием. Смешно сказать, что даже те учреждения, которые в прошедшем царствовании пользовались известною самостоятельностью, как то Сенат, Государственный совет и Комитет министров, даже и эти учреждения кажутся некоторым министрам и государю слишком либеральными, и их стараются миновать во избежание разногласия. Первый Департамент Сената нарочно наполнили людьми, совершенно послушными всякому влиянию, а дела, подлежащие ведению Государственного совета и Комитета министров, постоянно начинают передавать на обсуждение отдельных комиссий, составленных из лиц одномыслящих. Несмотря на все это, возбужденная совершенными реформами жизнь внутри государства идет вперед и улаживается со всеми затруднениями, искусственно создаваемыми невежественным правительством. Но там, где власть правительства сталкивается лицом к лицу и непосредственно с самими делами, как то по всем вопросам внешней политики, а также по всем мерам, принимаемым на окраинах, — там все ошибки и неловкости правительства имеют гораздо более зловредных последствий. Тут личная симпатия к той или иной национальности, несогласной с видами государства, или личные интересы, неправильно понятые и несогласные с интересами всей земли, могут быть причиною великих зол в будущем.
Наступающий год потому для нас и страшен, что мы вступаем в него с силами далеко не в уровень готовящимся событиям.
1871 год
1-го января. Сегодня был обычный выход в Зимнем дворце, но нового ничего не слыхать. Конференции в Лондоне по черноморскому вопросу еще не начались, но, говорят, начнутся без участия представителей Франции, так как Жюль Фавр отказался оставить теперь Париж.
4-го января. Я обедал сегодня у царя. Разговор был веселый о разных предметах, государь мне показал рисунки Зичи с изображением охотничьих сцен в Лисине, где я изображен в весьма смешном виде вместе с покойным Скаряти-ным. При воспоминании о нем государь говорил со слезами на глазах. Кроме меня, обедали императрица, великая княжна, великие князья Алексей и Владимир, граф Бобринский (министр путей сообщения), граф Строганов (Григорий) и Потапов. Особых политических новостей нет.
9-го января. Сегодня некоторые из моих сослуживцев по Министерству финансов давали мне прощальный обед, на нем присутствовали: товарищ министра финансов Грейг, бывший директор Департамента неокладных сборов, а ныне член Государственного совета Грот, директор Департамента окладных сборов Домонтович, управляющий Государственным банком Ламанский, управляющий Канцелярией министра финансов Кобеко, новый директор Департамента таможенных сборов Качалов, вице-директор этого департамента Тернер, инспектор пограничной стражи граф Толстой, член Совета академик Безобразов и бывший член А. А. Абаза. Обед был роскошный и очень оживленный. На задушевное приветствие, сказанное мне Грейгом, я отвечал кратким приветствием в честь каждого из присутствующих, сии последние мне отвечали, так что обед, начавшийся в 6 часов, кончился только в 11 часов.
27-го января. На сих днях, а именно 22-го числа, русский музыкальный мир понес весьма чувствительную и горестную утрату — автор опер «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила» Александр Николаевич Серов, умер скоропостижно, хотя перед тем и был болен несколько времени желудочным катаром. Серов мне был товарищ по Училищу правоведения, мы вместе с ним поступили в это заведение в 1835-м году при основании оного, но он был несколькими годами старше меня и вышел из училища в 1840-м году одним из первых и поступил на службу по Министерству юстиции. Еще будучи в училище, он много занимался музыкой и, кроме того, имел способности к рисованию, вообще был человек весьма даровитый. В училище он нарисовал карандашом мой портрет, который и теперь находится у Вавочки. На службе он, разумеется, не особенно отличался, занимаясь преимущественно музыкой. Раздражительный и неприятный характер его наделал ему много врагов. Как музыкальный критик он рубил сплеча и злобно враждовал против многих музыкальных авторитетов, не заявив ничем прав своих как композитор и компетентный судья. Публике неизвестно было ни одного даже мелкого его произведения, как вдруг он явился на свет с большой оперой, никто не ожидал от первого опыта особенного успеха, а между тем «Юдифь» с первого представления поразила всех — и друзей, и врагов Серова — оригинальностью произведения и серьезностью музыкальной разработки. Талант Серова еще более обнаружился во второй его опере — «Рогнеда». Благодаря участию великого князя Константина Николаевича и <великой княгини> Елены Павловны, через мое посредство, он получил от государя за эту оперу пенсию в 1000 рублей, и, кроме того, мне неоднократно удавалось выхлопатывать для него пособия от великой княгини Елены Павловны. Последняя, еще не вполне конченная им опера — «Вражья сила» — мастерски им задумана. Едва ли без него можно будет поставить ее на сцене. Серов, как все наши талантливые люди, умер в начале полнейшего развития своего таланта, не успев сказать своего последнего слова. Очень жаль его.
На похоронах его было большое стечении публики, и на них присутствовал великий князь Константин Николаевич — это, кажется, в первый раз, чтобы кто-нибудь из членов императорской фамилии принимал лично участие в выражении сочувствия к утрате талантливого художника. Великая княгиня Александра Иосифовна прислала накануне Рубинштейну лавровый венок с просьбой возложить его на главу умершего Серова в знак ее уважения к его таланту. На другой день смерти Серова был утром концерт у великого князя Константина Николаевича, на котором присутствовали государь, императрица и вся царская фамилия. Исполнили «Stabat Mater»[201][202] Перголезе и отрывки из «Лоэнгрина». По окончании концерта, в память Серова, великий князь заставил артистов пропеть дуэт из «Рогнеды», что было очень кстати и произвело очень приятное впечатление на всех артистов русской оперы.
Все это время здешнее общество было занято следствием о смерти Скарятина. Я уже, кажется, сказал, что при осмотре и вскрытии тела, когда оказалось, что Скарятин убит разрывною пулею, то было возможно сомнение насчет предположений о том, что Скарятин сам себя нечаянно застрелил. За городом начали сильно говорить, что Скарятин нечаянно убит государем, и вместо того, чтобы раскрыть истину правильным судебным порядком, стали придумывать разные тайные, экстралегальные, следственные комиссии для допроса участвовавших на охоте. Граф Ферзен, обер-егермейстер, на которого уже с первых дней молва указывала как на вероятного виновника в этом несчастии, не только не сознавался в этом, но сам и государю и всем своим знакомым рассказывал дело со всеми подробностями, уничтожающими всякое сомнение в его участии. Между тем следственная комиссия из первых допросов егерей получила почти несомненное доказательство, что Скарятин пал от выстрела Ферзена. Когда сей последний увидел, что ему трудно будет оправдаться, он решил объявить государю, что Скарятина действительно он убил нечаянно, спуская курок своего ружья. Но так как это сознание сделано им недели три после происшествия и так как все это время он не только врал без милосердия, но и старался всякими плутовствами и подговорами скрыть свою вину, то из всего этого произошел ужасный скандал, возбудивший против Ферзена ужасное негодование.
Несмотря на это, государь, со свойственным ему благодушием, не выразил Ферзену особенного гнева и согласился отпустить его за границу, куда он и должен был уехать на другой день. Между тем некоторые друзья Ферзена, как то: князь Паскевич и граф Бобринский поняли, что внезапный отъезд Ферзена за границу без всякого окончательного исследования дела будет иметь вид бегства преступника, с умыслом убившего человека. Они уговорили его остаться на несколько дней и государю также объяснили все неприличие отъезда Ферзена под тяжестью нерасследованного обвинения. Государь также приказал Ферзену остаться. Но засим возник вопрос — что делать? На совет призваны были граф Шувалов, Пален и Урусов, а сии услужливые, но неразумные советчики решили, что неприлично давать этому делу обыкновенный законный ход, что нельзя допустить, чтобы суд рассматривал показания великих князей, и что вообще неудобно передавать на рассмотрение суда случай, происходивший в присутствии государя. А потому решили — комиссии продолжать следствие и в состав комиссии назначить министра юстиции. Мне случилось доказывать графу Шувалову, что хуже подобной комбинации ничего нельзя придумать, ибо экстралегальное ведение столь простого дела только даст всем повод предполагать в нем всякую неправду, и что законный порядок в настоящем случае не только самый правильный, но вместе самый удобный и выгодный как для Ферзена, так и для тех, которые желают предупредить скандал. Судебное следствие могло бы начаться с момента сознания графа Ферзена, и, следовательно, весь скандальный эпизод вранья, лжи и обмана Ферзена мог бы быть оставлен в стороне, что дело суда могло ограничиться единственно определением, было ли убийство неосторожным или нечаянным, так как в умышленном убийстве не было даже повода подозревать Ферзена. Все мои доводы не убедили Шувалова. Я решил поехать к Ферзену и уговорить его самого просить законного суда, но Ферзена я нашел в совершенно расстроенном состоянии, беседа с ним живо напомнило мне сцену в тюрьме Чичикова в III томе «Мертвых душ».
Личность Ферзена действительно похожа на личность Чичикова, только в другой сфере. Сомнительная и даже подлая репутация этого господина не помешала ему до сих пор держаться при дворе и получать все знаки отличия. На предложение мое просить суда он отвечал желанием скорее кончить дело, как бы ни было, чтобы уехать за границу. Наконец сегодня, в «Правительственном вестнике», появилась следующая публикация:
Всеподданнейшее донесение комиссии,
высочайше назначенной для дознания причин смерти
покойного егермейстера — Скарятина
Вашему Величеству благоугодно было возложить дознание о смерти Егермейстера высочайшего двора — Скарятина, последовавшей на охоте 29-го декабря 1870-го года, на особую Комиссию в составе генерал-адъютанта — генерала от инфантерии — барона Ливена, генерал-адъютанта — генерала от инфантерии Зиновьева, при уполномоченных от семейства покойного Скарятина свиты Вашего Величества — генерал-майоре князе Голицыне и ротмистре Лейб-гвардии Конного полка Чичерине и при участии министра юстиции — статс-секретаря графа Панина.
Во исполнение высочайшей воли, Комиссия, окончив возложенное на оную дознание, осмеливается всеподданнейшее повергнуть на всемилостивейшее Вашего Императорского Величества воззрение о тех обстоятельствах по означенному делу, какие обнаружены Комиссией.
На первых порах после смерти егермейстера Скарятина, вследствие того что ружье его было найдено разряженным из правого ствола, возникло предположение, что Скарятин упал, зацепясь ногой за сук, причем бывшее у него в руках ружье в упор выстрелило ему в спину, и в таком смысле было доложено о сем Вашему Императорскому Величеству.
Но произведенное 31-го декабря анатомическое исследование трупа покойного егермейстера, обнаружившее, что он убит положительно разрывной пулею, а не обыкновенного, указало на неосновательность вышеприведенного предположения, ибо заключение врачей, производивших медицинское освидетельствование, прямо оное опровергало, определив, что выстрел сделан в Скарятина не в упор, судя по отсутствию копоти и признаков опалення на пальто и принимая во внимание правильность краев отверстия на портупее, пальто и самой ране.
1) Письменное удостоверение врачей: профессора Ландцерта, профессора Красовского и лейб-медика Кареля, н. п. 1 и 3.
Мнение это относительно опалення подтвердилось опытами, произведенными Комиссией, посредством выстрелов в серое сукно одинакового цвета с пальто Скарятина.
2) Акт комиссии об опытах.
Хотя вышеизложенное побуждало уже Комиссию оставить первоначальное предположение в стороне и искать другие обстоятельства, причинившие смерть Скарятину, тем не менее первые изыскания недостаточно изъяснили дело до тех пор, покуда 9-го текущего января бывший обер-егермейстер высочайшего двора — граф Ферзен — не сознался в том, что смерть Скарятина последовала от выстрела его — графа Ферзена — ружья. Ввиду заявления графа Ферзена, Комиссия почитала своею непременною обязанностью проверить таковое со всею тщательностью и посему, чтобы восстановить действительные обстоятельства смерти егермейстера Скарятина с возможной полнотой, приступила к подробным допросам.
Путем таких допросов обнаружилось, во-первых, что когда граф Ферзен, после происшедшего из его ружья выстрела, убившего Скарятина, услыхал стон последнего, то у него явилось сознание в возможности того, что он убил его.
3) Показания графа Ферзена, Василия Кожина и унтер-егермейстера Иванова. Кроме того, оказалось, что после первого устного объяснения, данного перед
Комиссией егерем Василием Кожиным, бывшим свидетелем обстоятельств смерти Скарятина, граф Ферзен склонял Кожина в присутствии унтер-егермейстера Иванова, принять выстрел, убивший Скарятина, на себя, под обещанием не только совершенной за сие безнаказанности, как за несчастный случай, а напротив, сделать его счастие.
4) Показания графа Ферзена, Василия Кожина и унтер-егермейстера Иванова. Во-вторых, сопоставление допросов с подробным осмотром местности, где про-исходила охота, открыты следующие обстоятельства:
В присутствии Вашего Величества, во вторник 29-го декабря, в двух верстах от станции Николаевской ж. д. «Малая Вишера» происходила охота на медведя. Стрелковая линия расположена была в лесу и имела несколько изломанное направление. Всех мест было в линии 12 номеров, и та сторона оной, от которой шел медведь, покрыта густым лесом. На противоположной стороне лес менее густ, причем с этой последней стороны, против № 7-го, лес частый, а против 8-го сажен 10 пространства почти без деревьев.
5) Осмотр местности и показания Василия Кожина, Александра Сухопарова, унтер-егермейстера Иванова и Бабурина.
Ваше Императорское Величество изволили занимать № 7-й, имея при Особе Вашей унтер-егермейстера Иванова, рогатчика Шелагина, № егеря Федора Сухопарова 3-го. Вправо от Вашего Величества занимал № 6-ой великий князь Владимир Александрович, имея при себе егеря Бабурина. В левую сторону от места, занимаемого Вашим Величеством, на расстоянии 10-ти сажен и 1-го аршина, на 8-й версте находился бывший обер-егермейстер граф Ферзен с егерем Василием Кожиным. Налево от графа Ферзена, в 8-ми саженях, поставлен был на 9-й номер егерь Александр Сухопаров и в 9-ти саженях налево от сего последнего, на номере 10-м, находился егермейстер Скарятин с егерем Иваном Кожиным.
6) Осмотр местности и показания Кожина, Иванова, Александра Сухопарова, Шелагина, Ивана Кожина и Фураева.
При таком положении линии, при начале охоты, когда медведь, выйдя против места, занимаемого Вашим Императорским Величеством, после первых выстрелов Ваших перешел эту линию между номерами 6-м и 7-м, то Ваше Величество, Его Высочество великий князь Владимир Александрович, равно граф Ферзен и егерь Кожин обратились назад. С переходом медведя через линию до тех пор, покуда он не скрылся с глаз, Ваше Величество выстрелили в него еще 2 раза и один раз выстрел дал великий князь Владимир Александрович.
7) Показания Василия Кожина, графа Ферзена, Иванова и Шелагина. Затем медведь, отойдя на <расстояние> от 30-ти до 40-ка шагов, был виден с номера 8-го, и тогда стреляли в него егерь Василий Кожин и граф Ферзен. Ружье последнего было заряжено разрывными пулями. Таким образом, всех выстрелов было около 10-ти.
8) Показания Василия Кожина.
Между тем, в промежуток времени до несчастного случая, егермейстер Скарятин еще при первых выстрелах Вашего Величества тронулся со своего места, держа ружье с наведенными на второй взвод курками, стволами вверх, и пошел по тропинке мимо номера 9-го.
9) Показания Александра Сухопарова и Ивана Кожина.
Он не дошел 2-х шагов до 8-го номера, отсюда повернул направо, сошел с линии и принял влево, наискось от 8-го номера, где стоял граф Ферзен, который показывает, что он видел мельком Скарятина.
10) Осмотр местности и показания графа Ферзена. Минуты 2–3 спустя после общих выстрелов —
11) Показания графа Ферзена, Василия Кожина, Александра Сухопарова, Шелагина и Бабурина.
— в числе которых должен был быть и выстрел Скарятина, и в то время, как Ваше Величество изволило разговаривать с подошедшим к Вам великим князем Владимиром Александровичем. —
12) Показания унтер-егермейстера Иванова.
— граф Ферзен, державший свое ружье в левой руке, после слов Кожина, предлагавшего графу отдать его ружье, чтобы спустить курок, перенес из левой руки в правую так, что дуло ружья было обращено в сторону, где шел Скарятин, и, спуская курок, произвел выстрел. Выстрел этот попал в поясницу шедшего на расстоянии 14-ти шагов от графа Ферзена Скарятина и был слышен, как совершенно отдельный от прочих. Мгновенно вслед за ним был слышен стон: «Ох, ох», а затем слова: «Государь, меня убили, Государь, Государь».
Эти слова слышны были только егерям Василию Кожину и Петру Шелагину которые первые поспешили на помощь Скарятину.
Таким образом, дознание восстанавливает обстоятельства этого несчастного случая, не уясняя лишь причин, по которым покойный егермейстер тронулся со своего места на номер 10-й и пошел по направлению к номеру 8-му, а также не определяя времени его выстрела и времени, в течение которого он оставался в 2-х шагах от номера 8-го, и когда сошел с линии вправо.
Однако и эти последние обстоятельства могут быть с вероятностью объяснены, хотя путем и не положительных данных, как это представлялось возможным сделать относительно обстоятельств самого несчастного выстрела, а только лишь предположений. Так, должно полагать, что Скарятин, считая охоту оконченной, тронулся в качестве распорядителя оной с своего места, желая приблизиться к Вашему Величеству; во-вторых, что Скарятин сделал выстрел, и притом одновременно с егерем Василием Кожиным или с графом Ферзеном, последнее основано на том, что ружье его найдено разряженным из правого ствола. Что, находясь на линии в двух шагах от номера 8-го, он только с этого места мог видеть медведя и, следовательно, стрелять по нему, и что все выстрелы по медведю следовали один за другим, и отдельный выстрел был слышен только один, а именно несчастный, последовавший после всех выстрелов по медведю.
Переходя к объяснению ухода Скарятина с линии вправо, представляется вероятным, что Скарятин, видя и слыша выстрелы Кожина и графа Ферзена, в двух шагах от которых он стоял, и потеряв медведя из глаз, мог двинуться за медведем по направлению направо, не подвергая себя опасности выстрелов, и затем пройти 14 шагов в промежуток времени от последнего выстрела по медведю до отдельного выстрела, убившего его самого.
На основании всех изложенных выводов Комиссия приходит к убеждению, что егермейстер Скарятин убит на охоте выстрелом из ружья графа Ферзена разрывною пулею, в то время, когда он проходил в 14-ти шагах от последнего, причем граф Ферзен немедленно сознал в себе, что убил Скарятина.
Обращаясь же к определению свойства этого смертельного случая и имея в виду, что граф Ферзен, хотя видел мельком Скарятина, но спускал курок, держа ружье горизонтально в том направлении, где мог быть Скарятин, и не опустив дуло к земле или не подняв его вверх, Комиссия находит, что настоящее дело имеет все признаки неосторожного обращения графа Ферзена с ружьем, имевшего последствием случайный выстрел, от коего последовала смерть Скарятина.
Государь император, по прочтении такого всеподданнейшего донесения Комиссии, высочайше соизволил написать и на подлинном: «Усматриваю из дела, что смерть егермейстера Скарятина произошла от случайного выстрела графа Ферзена и признавая последнего виновным в позднем сознании, Я, во внимание к его более пятидесятилетней службе, вменяю ему в наказание настоящее его увольнение от службы. За сим считать дело конченным».
Александр.
С.-Петербург, 25-го января 1871-го года.
Эта публикация, как и следовало ожидать, утверждала иных в убеждении, что Ферзен умышленно убил Скарятина, а других — что он принял на себя вину в неосторожности по приказанию, ибо никто не может понять, почему делу не был дан ход законный, т. е. правильный. Все это в высшей степени бестактно и бестолково.
Я забыл упомянуть о совершившемся 15-го числа сего месяца великом событии — сдаче Парижа на капитуляцию. Подобные события сохраняются живо и надолго в памяти истории и без моих записок. Здесь только место указать на то впечатление, которое это событие произвело в нашем обществе. К нему оно готовилось постепенно, а потому впечатление не было особенно сильно. К быстрым и изумительным успехам германцев уже привыкли и даже почти перестали удивляться; насчет последствий этих успехов для нас по-прежнему существуют два противоположных мнения. Государь продолжает, кажется, радоваться этим успехам и верит в солидарность наших интересов с немцами. Вся же журналистика и огромное большинство людей в России предчувствует неизбежность, быть может, скорой борьбы нашей с Германией.
Конференции по Черноморскому вопросу еще не кончены, хотя на бывших в Лондоне трех заседаниях уже решены в смысле наших требований те пункты Парижского трактата, которые мы объявили для себя необязательными… Но так как засим все еще Конференция не закрыта, то, весьма вероятно, идет толк о других вопросах, и, пока не разъяснится окончательно все это дело, трудно сказать — выгодна или нет для нас вся эта поднятая нами тревога. На днях я был у князя Горчакова, который, зная, что я осуждал его неожиданную декларацию, постоянно трунит надо мною. Он прочел мне депешу Брунова, извещающую государя о том, что Конференция изменила ненавистные нам пункты Парижского трактата, но когда я спросил Горчакова — зачем же остановилось дело и почему Конференция не только не кончается, но откладывается изо дня в день с видимой целью протянуть дело, то, конечно, он отвечал мне шуточками. Тогда я объявил ему, что мой благодарственный адрес он получит не прежде, как когда все дело будет кончено и сдано в архив, а пока я сохраняю за собою право думать, что лучше бы было нам вопрос этот не поднимать.
Между тем даже из хода дела, в случае даже для нас благоприятного окончания, кажется, можно видеть, что граф Бисмарк очень неохотно и мало нам содействовал, он с первого раза выразил мнение, что лучше было бы отложить Конференцию до взятия Парижа и открытия английского парламента. Засим нет сомнения, что и эту малую услугу, которую он оказал нам, не протестовав вместе с другими державами против нашей декларации, он, без сомнения, в свое время оценит очень дорого и сочтет ее полным вознаграждением за ту громадную материальную услугу, которую мы оказали Германии нашим строгим и даже сочувственным нейтралитетом.
Между тем один из самых важных пунктов наших возможных столкновений с Германией — Остзейский край — с каждым годом становится нам враждебнее, и никогда еще правительство не доходило в этом крае до таких размеров бессилия, как теперь. Никогда поблажки всем сепаративным стремлениям в этом крае не были так безумно сильны, несмотря на громкие заявления и предостережения как журналистики, так и лиц официальных. Раздражение в русском обществе против непонятной системы правительства по отношению к Остзейскому краю с каждым годом увеличивается. Одна из главнейших причин — всеобщее недоверие к личным тенденциям государя и лиц, на него влияющих.
У нас часто говорят о каких-то династических вопросах и интересах, и это больше из подражания. Les questions dinastiques, les intérêts dinastiques[203] в Европе существуют — как же не существовать им и у нас. Мне даже случалось видеть, что этим пугалом questions dinastiques[204] нередко люди ловкие с умением пользовались. Но я всегда был убежден, что сама мысль о том, что династия наша может подлежать какой-либо опасности или вопросу — есть нелепость. Но, несмотря на это, мне кажется, что ежели правительство долго будет продолжать потворствовать немцам и ежели, сохрани Бог, возникнет у нас серьезное столкновение с Германией, в котором мы будем побеждены, то тогда действительно и у нас может создаться вопрос династический.
Покойный государь Николай Павлович это понимал; когда он призвал к себе в 1847-м, кажется, году Самарина, просидевшего 6 недель в крепости за известные письма из Риги, и стал с ним разговаривать о содержании этих писем, то он ему между прочим сказал: «Ваши письма могут возбудить второе 14-е число» (т. е. декабрьскую революцию), и когда Самарин заметил ему, что он никогда не имел этого намерения, то государь ответил ему: «Я знаю, что у Вас нет этого намерения, но по прочтении Ваших писем всякий русский может подумать, что я и вся моя семья — немцы, ибо терпим такие оскорбления русских».
С тех пор как я по Министерству государственных имуществ постоянно нахожусь в сношениях с тем краем и участвую в разрешении этих вопросов, до того края относящихся, то убедился, что Самарин писал в своих письмах и в своих «Окраинах» не только не преувеличенно, но, скорее, ослабленно против действительности, все предубеждения и предсказания его о значении остзейского вопроса есть чистая истина. Я уже, кажется, сказал, что бездарность правительства для внутренних дел относительно безвредна, но по отношению к окраинам все его ошибки горько отзовутся нам в будущем.
Самый ярый защитник сепаратизма Остзейского края теперь — граф Шувалов, какая его цель — неизвестно, вернее всего, просто изумительная недальновидность.
Давно уже не запомню я таких упорных и жестоких холодов, вот уже 2 месяца, как термометр не поднимается выше 15-ти мороза, но почти постоянно ниже 20, и это повсеместно. Кроме того, вьюги и метели во многих местах, не только в России, но и за границей, останавливают поезда ж<елезной> д<ороги> на несколько суток. Бедствия и тяжесть войны еще увеличиваются. По-видимому, не может быть сомнений относительно заключения мира. Во Франции Республика провозглашена, и во главе ее, вероятно, будет Тьер. Старик этот долго не продержится, а будущее неизвестно. Выборы депутатов в Законодательном собрании обнаружили массу сочувствия французов к республиканской форме правления. Республики, видимо, боятся, и не без основания. Все выборные в Париже депутаты-республиканцы — отчаянные социалисты, и во главе их Виктор Гюго. Этот колоссальный враль и выживший из ума фразер получил огромное число избирательных голосов не только в Париже, но и в остальной Франции. Это доказывает, что все ужасы и бедствия войны не могли еще отрезвить эту несчастную, изолгавшуюся вконец нацию.
14-го февраля. Сегодня в ночь Россия лишилась одного из самых полезных и честных своих деятелей. Государственный контролер Валериан Алексеевич Татаринов умер скоропостижно от разрыва сердца.
Покойный принадлежал к числу, к сожалению, немногих русских людей, с упорством и настойчивостью преследовавших во всю свою службу одну цель, для достижения которой не жалел ни труда, ни воли, ни энергии для борьбы с препятствиями. Задуманное и исполненное им преобразование контрольной части останется памятником его деятельности. Эта реформа не имеет того блеска и видимой той картинности, которыми красуются другие реформы нынешнего царствования, но, не менее того, последствия ее громадны. Они отразились во всех почти отраслях нашего управления.
Судить о важности происшедших перемен в характере деятельности административных мест и лиц по отношению охраны казенного интереса может только тот, кто действовал на поприще административном деятельно, прежде и после реформы нашей системы контроля. Я помню, как при прежнем порядке в качестве директора Комиссариатского департамента Морского министерства легко было осуществить всякую свою более или менее обдуманную фантазию в ущерб Государственному казначейству, и не только свои фантазии, но и фантазии всякого начальника отделения или бойкого столоначальника — достаточно было кое-как сгруппировать цифры, составить всеподданнейший доклад, в котором доказать пользу задуманного расхода, и все беспрепятственно разрешалось высочайшим повелением, а засим все шито и крыто. Легко себе представить, как этим часто пользовались во всех министерствах, и вовсе даже и не с целью злоупотребления, а из похвального желания сделать, по-видимому, хорошее дело. Частный, минутный интерес весьма естественно брал верх над общим интересом, представитель которого не мог вовремя остановиться или предупредить несвоевременный или относительно бесполезный расход. Теперь этой лихости и произволу отдельных начальников положили предел, может быть, даже отчасти слишком ограниченный, но из двух зол, конечно, последнее имеет менее вредные последствия. Я положительно и по опыту удостоверяю, что всякий более или менее знакомый с делом администратор должен теперь прежде окончательного решения какого-либо из ряда вон выходящего вопроса строго обдумать все последствия своего распоряжения и быть готовым оправдать это распоряжение перед Контролем. Эта необходимость крайне докучлива и в особенности не по нутру лицам, имеющим поверхностное понятие о деле. Поэтому борьба с Контролем и жалобы на него слышались по всем ведомствам. И тут личные качества Татаринова были не оценены. Самая реформа встречена была всеми ведомствами не сочувственно и с неодобрением. Татаринов своей упорной настойчивостью не только провел ее, но и привел в исполнение, устранив все громадные препятствия, заключавшиеся преимущественно в крайне сложном механизме отчетоводства и отчетности. Почти разом во всей России введен был новый порядок. Сколько нужно было терпения и энергии, чтобы приготовить к новому делу людей, образовать их и не запутать в самом начале все дело. Засим ежедневные столкновения со всеми министрами, борьба с ними по важным и мелочным вопросам подвергали терпение Татаринова, а также и характер его таким тяжелым испытаниям, что я всегда удивлялся, как мог так спокойно этот человек переносить такие неприятности. Дело в том, что не подкупная никакими влияниями честность Татаринова давала ему нравственную силу и обезоруживала самых ярых его противников. Он к делу относился так объективно, что спорящий с ним никогда не имел повода раздражать спор личностями. При этом Татаринов сам лично очень много работал, отлично знал свое дело, и в этом отношении он незаменим. Дело, им заведенное, не пропадет, но, к несчастию, он его еще не вполне кончил, или, лучше сказать, не вполне его отделал. Опыт указал на необходимость многих упрощений как в счетоводстве, так и в отчетности, самый характер контроля, вероятно, под его руководством сделался бы менее придирчивым к мелочам и проч., но во всяком случае за то, что он сделал, Россия должна быть ему очень благодарна. Замечательно, что в высших сферах потеря Татаринова гораздо менее вызывает сожаления, чем в сфере низших деятелей. В чиновничьем мире заслуга, оказанная Татариновым, лучше понимается и оценивается.
16-го февраля. Сегодня, совершенно неожиданно для меня, назначен на место Татаринова Александр Аггеевич Абаза. Я узнал об этом назначении из следующей записки: «Спешу тебе сообщить, как лучшему моему другу, о совершенно неожиданном для меня событии: сегодня в первом часу прислал за мной государь и объявил мне, что назначает меня государственным контролером. После этого он поехал к великой княгине Елене Павловне просить моего увольнения. Кажется, все дело устроил Рейтерн. Не зайдешь ли вечером? Твой А. А. Абаза. (Указ еще не подписан, а потому лучше не разглашать.)»
Совершенно независимо от моих дружеских отношений к Абазе я очень доволен этим назначением. Для контрольного дела Абаза не будет в состоянии заменить Татаринова, но по всем другим вопросам, рассматриваемым в высших учебных заведениях при участии государственного контролера, Абаза может с выгодою его заменить, ибо имеет больше сведений по финансовой части, способнее его и имеет взгляд более обширный. Замечательно, что я вчера провел вечер у Абазы, и мы много толковали о возможных кандидатах на место контролера, но ни ему, ни мне на мысль не приходила его кандидатура. Это потому, главным образом, что Абаза, состоя гофмейстером при великой княгине Елене Павловне, казалось, отказался от надежд выступить на гражданском поприще, занялся собственными, довольно расстроенными, делами, взял вместе с бароном Унгерном концессию на постройку ж<елезной>д<ороги> от Кременчуга до Полтавы, а потому вышел как будто бы из числа лиц, выставляемых кандидатами на высшие должности. Лет пять тому назад, когда министр финансов Рейтерн серьезно собирался оставить министерство, он предлагал государю назначить Абазу к нему товарищем, с тем чтобы передать ему потом министерство, но государь на это не согласился, и назначен был тогда товарищем Грейг, который до сих пор занимает это место. Впоследствии, в 1864-м году, Рейтери, имея весьма высокое мнение о способностях Абазы и понятие его финансовых кредитных вопросов, поручил ему негоциацию внешнего займа в Париже, и хотя Абаза это дело исполнил с успехом, но во время его пребывания в Париже с ним случился весьма неприятный эпизод, много повредивший ему в общественном мнении и в глазах государя, а именно — он проиграл в карты значительную сумму денег, и хотя состояние его и могло выдержать сию новую брешь, уже не первую по страсти его к игре, но тем не менее проиграть в карты во время исполнения важного финансового поручения было делом крайне предосудительным. Несмотря на это, на другой же, кажется, год Абаза назначен был государем председательствовать в С.-Петербургском земском собрании, так как бывший тогда предводитель дворянства граф Орлов-Давыдов вышел перед тем в отставку, предвидя, что его до председательства не допустят. Настоящее его назначение состоялось по просьбе Рейтерна, но ему содействовал и граф Шувалов. Сей последний, видимо, надеется найти в Абазе способного человека для своей партии, в которой до сих пор не было и нет ни одной личности, мало-мальски способной к делу. Я надеюсь, что Шувалов ошибется, и хотя я не ожидаю от Абазы, чтобы он своим участием в делах Комитета министров и Государственного совета усилил бы партию явных противников Шувалова, но, по всей вероятности, он будет держать себя на нейтральной почве, вроде Рейтерна.
Замечательно, что в воскресенье совсем уже было решено, что государственным контролером будет назначен барон Кистер. Это назначение было бы решительным во всех отношениях скандалом. Барон Кистер — ничтожнейшая и бездарнейшая личность, умевший разными послугами подделаться к Адлербергу — отцу и сыну — и занимает теперь место контролера императорского двора; что он там сделал хорошего — никто не знает, но за несколько лет он нахватал пропасть наград, и денежных, и других, ходит теперь в Александровской ленте, составил себе состояние и, говорят, устроил состояние семейства Адлербергов. Я знал Кистера несколько лет тому назад маленьким чиновником при бароне Мейендорфе — управляющим Кабинета. Он прислуживал баронессе почти как лакей, и когда, вместе с ботаническим садом, которым он, по протекции Мейендорфа, заведовал, он достался министру государственных имуществ, то Зеленый спустил его от себя как человека никуда не годного и неблагонадежного. Замечательно, что барон Кистер сам отказался от места государственного контролера под предлогом, что он боится, что его министры заедят. Он понял, что как только он выйдет из тайны императорского двора на свет Божий — все его увидят и оценят его ничтожность. Сегодня напечатана в газетах следующая телеграфическая депеша:
«Versailles, 26 Février 2 heures 7 min.
A l’Empereur Alexandre II.
C’est avec un sentiment — inexprimable et en rendant grâce à Dieu, que je vous annonce que les préliminaires de la paix viennent d’être signés par Bismark et Thiers L’Alsace, mais sans Belfort, La Lorraine allemande avec Metz sont — cedées à L’ Allemagne; sinq milliards de contribution seront payés par la France. Aprés et ä mesure du payement de cette somme le pays sera evacuée en trois ans. Paris sera occupa en partie jusqu’à la ratification de la paix par l’assemblée Nationale de Bordeaux. Les details de la paix se traiteront à Bruxelles. Si la ratification a lieu, nous voilà à la fin de cette guerre aussi gloriuese que sanglante et qui nous a été octroyée avec une frivolilé sans exemple. Jamais la Prusse n’oubliera, que c’est à vous qu’elle doit, que la guerre n’a pas pris des dimentions extrêmes…»* (окончание срезано).
Итак, постыдный и разорительный для Франции мир заключен. Торжество Пруссии полное, условия, ею предложенные, жестоки, оскорбительны и надолго низводят Францию на степень вассального Пруссии государства.
Эти условия сообщены нам уже после их принятия. Советам и просьбам о снисхождении к тяжкой участи побежденных не дано никакого значения. После всего этого, выражение, употребленное государем в его ответной депеше, — «partage votre joie[205]» — по малой мере есть выражение наивное и неудачное. Кажется, особенно радоваться нам нечего, и в особенности заявлять о своей радости публично — нечего и неприлично. Я уверен, что это выражение: «Je partage votre joie»[206] — произведет во Франции против нас возмутительное действие. Хороша также фраза в депеше Вильгельма: «Guerre aussi glorieuse que sanglante qui nous a été octroyée avec une frivolité sans exemple»[207]. Но эта фраза только смешна. Остается нам надеяться, что «Jamais la Prusse n’oubliera, que c’est à vous qu’elle doit que la guerre n’a pas pris des dimensions extrêmes»[208].
Наконец Конференция в Лондоне по Черноморскому вопросу окончилась, и, кажется, для нас благоприятно, судя по прилагаемой депеше:
«№ 39. Депеша. Лондон, 2-(14-го) марта. Вторник.
В заседании Конференции, происходившей сегодня утром, все уполномоченные, в том числе уполномоченные Франции, подписали трактат, уничтожающий статьи трактата 1856-го года, относящиеся до положения России в Черном море».
* Версаль, 26 февраля 2 часа 7 мин.
Императору Александру II.
С невыразимым чувством и принося благодарение Богу, извещаю Вас, что прелиминарные условия мира подготовлены к подписанию Бисмарком и Тьером. Эльзас, но без Бельфорта, германская Лотарингия с Мецем уступлены Германии, пять миллиардов контрибуции будут выплачены Францией. После полной и постепенной уплаты контрибуции страна будет освобождена в течение трех лет. Париж будет частично занят до ратификации мирного договора Национальным собранием в Бордо. Детали же мирного договора будут обсуждаться в Брюсселе. Ратификация явится концом этой войны, столь же славной, сколь кровавой, которая была нами одержана с легкостью, каковой примера еще не было. Пруссия никогда не забудет, что именно Вам она обязана тем, что война не приобрела слишком больших размеров.
Нельзя не радоваться и не благодарить Бога за то, что эта дипломатическая экспедиция кончилась для нас счастливо. Следы постыдного Парижского мира отчасти сглажены. Народное чувство удовлетворено. Все это досталось нам дешево, но дешево только в том случае, ежели Пруссия не поставит нам в цену оказанное нам содействие и ежели не сочтет эту услугу полным возмездием за громадную помощь, которую мы оказали ей в нынешнюю войну своим нейтралитетом. Только время укажет, в какой мере мы поступили осторожно, дав Пруссии случай с нами так дешево поквитаться. Князь Горчаков очень доволен своей дипломатической победой. До конца своей карьеры ему посчастливилось совершить дело, лестное для народного самолюбия. Теперь только нужно опасаться увеличения желания скорее создать какой-нибудь сильный флот на Черном море. Это может окончиться нашим окончательным разорением, а флота все-таки не будет, ибо флот более, чем даже армия, есть результат успеха и процветания всего государства. К счастию, великий князь Константин Николаевич далеко не так порывист, как прежде, и к морскому делу значительно охладел, а то бы началась у нас сейчас сумасшедшая работа во всех адмиралтействах — и наших и иностранных.
4-го марта. Сегодня напечатана в «Правительственном вестнике» следующая статейка:
№ 40. «В течение 15-ти лет Россия неуклонно выполняла обязательства Парижского трактата, как ни тягостны были некоторые из них для ее достоинства. Политические события вызвали, однако, значительные изменения во многих постановлениях этого трактата, а с ходом времени во многом существенном изменилось и относительное положение европейских государств. Подчиняться долее тем ограничениям, которым Россия была подвержена в Черном море, омывающем ее собственные берега, в то время как отношения между прочими государствами подвергались весьма осязательным переменам, было уже невозможно. Циркуляром от Государственного канцлера, от 19-го октября, императорский Кабинет заявил Европе, что не считает себя более связанным стеснительными условиями на Черном море, что государь император вступает вновь во все верховные права свои на этом море, предоставляя и другому прибрежному владетелю восстановить и свои верховные права во всей их полноте.
Невзирая на неумеренные и пристрастные возгласы во многих органах европейской печати, великие державы, подписавшие Парижский трактат, усмотрели в настоящем циркуляре не вызов Европе, не тайные замыслы против ее спокойствия, а прямодушное и умеренное заявление и решились, по предложению северо-германского правительства, собраться на Конференцию, дабы согласовать эти заявления России с трактатом 1856-го года. Наш кабинет охотно принял участие в этой Конференции, тем более что в самом циркуляре 19-го октября было выражено, что Его Императорское Величество расположен заключить всякий новый международный акт, имеющий целью обеспечить всеобщий мир при обеспечении достоинства России. Занятия Конференции были весьма затруднены и замедлены современными политическими событиями. Но с самого начала уже выразилась со стороны держав единогласная готовность разрешить вопрос в духе миролюбия и справедливости. Во вчерашнем номере „Правительственного вестника“ помещена телеграмма, извещающая о подписании на Лондонской конференции нового трактата, отменяющего те статьи Парижского трактата, которые ограничивали верховные права России и Турции на Черном море.
Не подлежит сомнению, что не только все русские, но и все друзья мира и справедливости искренне порадуются этому делу европейской дипломатии. Это дело, не нарушая ничьих прав, не требуя ни от кого никаких пожертвований, восстановило права нарушенные, устранило символ международного недоверия и скрепило искренние отношения между государствами.
Это дело по преимуществу есть дело мира и справедливости».
6-го марта. Сегодня ровно год, как я представлялся государю в звании товарища министра государственных имуществ. Не могу по совести похвалиться какою-либо особою деятельностью в течение года. С делами министерства ознакомился настолько, что получил о них общее понятие. Лесная часть, окончательно обратившая мое внимание, страдает недостатком средств к ее устройству.
Положение товарища министра вообще весьма деликатное, даже и в том случае, ежели товарищ находится в самых лучших отношениях с министром, мое же положение несколько осложняется тем, что Зеленый пригласил меня вступить в министерство, будучи в столь расстроенном состоянии здоровья, что он положительно был уверен, что не в состоянии будет продолжать управлять министерством, а потому решительно объявил мне, что не пробудет дольше зимы. Но теперь здоровье его совершенно поправилось, и ему нет ни малейшего основания, ни повода проситься на покой. Весьма естественно, ему приходит на мысль, что я считаю себя обманутым в своих ожиданиях, — в этом смысле он сам мне сознался, что получал безымянные доносы, в которых предупреждали его, что я будто бы интригую для того, чтобы скорее сесть на его место. Хотя я верю его заверениям, что он не обращает внимания на эти доносы, но тем не менее я с еще большей осторожностью воздерживаюсь от какой-нибудь серьезной инициативы по делам, по которым следовало бы что-нибудь сделать. По совести могу сказать, что во мне не только нет никакого нетерпения скорее занять место министра, но я даже очень рад, что имею более возможности располагать своим временем.
Я уже настолько вкусил сладости власти при тех условиях, при каких она у нас обставлена, что очарования во мне нет ни малейшего. Я убежден, что особого значения в министерстве при настоящем его составе и характере деятельности я иметь не буду, ибо для того нужны совсем иные способности и нужно быть в хороших отношениях с лицами, к которым, напротив, я питаю глубокое презрение. Мне предстоит весьма серьезная задача, а именно: ко времени упразднения Министерства государственных имуществ приготовить проект образования Министерства торговли и промышленности. Государь еще недавно, по ходатайству Съезда сельских хозяев об учреждении подобного министерства, говорил Зеленому, что он эту мысль совершенно разделяет и что ее нужно разработать, и Зеленый отвечал государю, что я этим занимаюсь, задача эта очень нелегка: начертать проект министерства — не шутка, но желательно предложить что-нибудь дельное, в особенности придумать что-либо толковое для образования местных провинциальных органов министерства, таких органов, которые бы соответствовали потребностям, имели бы жизнь и вместе с тем ладились бы с общим характером наших административно-хозяйственных учреждений. Мысли мои насчет этого вопроса еще далеко не установились. Весьма вероятно, ежели мне удастся выработать что-нибудь дельное и обстоятельства будут благоприятствовать, то я не буду обойден при назначении на место министра нового министерства.
Ежели бы я имел охоту или расположение действовать наобум, то и тогда пример наших самоуверенных и легкомысленных генералов-министров мог бы излечить меня от этого недуга.
Недавно граф Бобринский — министр путей сообщений — представил собою пример, до чего может дойти легкомыслие, самоуверенность и пустота в наших государственных людях. Получив назначение министром путей сообщений вне всякой иерархической постепенности, он, вместо того чтобы серьезно заняться делом, изучить его, начал с того, что переломал все свое управление.
Проект своих изменений внес в Государственный совет, который, признав, что Бобринским предлагаются коренные изменения в самом устройстве министерства, назначил особую Комиссию из представителей всех министерств для обсуждения, в какой мере полезны предлагаемые изменения в общем наказе министров.
Комиссия единогласно отвергла эти изменения. Бобринский понес проект прямо государю, помимо Государственного совета, и выпросил утверждение этого проекта. Засим приступил к ломке своего управления. Разогнал всех знавших дело людей, посадил новых из разных посторонних ведомств, все людей молодых, рьяных и столь же самоуверенных, как и он сам, вот и пошла потеха. Начали ребята валять проект за проектом, но все незрело, необдуманно, так что даже самой поверхностной критики наших высших коллегиальных учреждений ни один проект не мог выдержать. Тут явились проекты передачи Волги на содержание жиду Эпштейну с правом учредить туерное пароходство[209] с субсидией в 7 миллионов рублей от правительства, и все это прямо к царю, помимо Комитета министров, но проект этот в Совете министров под председательством государя, к счастью, был единогласно отвергнут.
Та же участь постигла и проект изменения линии севастопольской и проект передачи шоссе в земство. Наконец, в заключение всего, сам Бобринский чуть не умер от прилива к сердцу. Он просто надорвался, как молодой жеребенок, без толку рвавшийся, чтобы стянуть воз не по силам. Теперь он человек надломленный и едва ли будет в состоянии снова вступить в управление министерством.
Удивительный, право, у нас взгляд на людей, способных занимать высшие должности. Солидный господин с хорошим, честным именем, ни в чем пакостном не замеченный, уже считается годным на все, хотя в жизни своей ровно никогда ничего не делал. К сожалению, самоуверенность невежества всегда отличает этих господ и, не говоря уже о других недостатках, преобладание подобных людей в министерстве до такой степени опускает уровень суждения по всем вопросам в высших коллегиальных собраниях, что, право, не знаешь иногда, что кто такое говорит и где это говорят. Точно в каком-нибудь салоне с дамами поведена речь о текущих делах. Мне не раз приходилось чувствовать, что даже неприлично пробовать поднять вопрос на некоторую высоту Люди даже менее способные и умственно развитые, чем гг. Шувалов, Тимашев, Бобринский, Урусов, Пален, Лобанов, Краббе и проч., но люди деловые, т. е. сами занимавшиеся последовательно каким-либо делом, стали бы говорить непременно о деле серьезно и не останавливаться на одной только анекдотической стороне вопросов. Положительно могу удостоверить, что при таком направлении деятельности наших министров самая легкая обязанность в России — это обязанность министров, она менее всего требует напряжения умственных способностей и усидчивого труда. Мне гораздо труднее быть столоначальником, председателем палаты, директором департамента, чем управлять министерством.
Вчера окончательно ратифицирован был трактат, вследствие лондонских Конференций изменяющий Парижский трактат относительно нейтрализации Черного моря. По этому случаю был парад и пушечные выстрелы, а сегодня в «Правительственном вестнике» напечатаны все протоколы Конференции и следующий рескрипт на имя князя А. М. Горчакова:
Князь Александр Михайлович.
Ныне минуло ровно 15 лет с того дня, как подписан Парижский трактат, на который Россия вынуждена была согласиться в силу обстоятельств. С тех пор ход событий, совершившихся в Западной Европе, настолько поколебал основания сего международного договора, что на одной России оставалось соблюдение тягостных для ее достоинства условий, имевших предметом ограничение исконных ее прав на Черном море. Эти события, изменившие во многом положение дел в Европе и ослабившие тем самым силу Парижского трактата, внушили Мне мысль внушить иностранным державам всю неправомерность условий, тяготевших над Россией, условий, которые не только наносили материальный ущерб ее интересам, но оскорбляли с тем вместе и государственное и национальное достоинство. Выполнение Моей мысли принадлежало Вам. Вы открыли первые по сему отношения циркулярной нотой от 19-го октября минувшего года. Напрасные опасения, вызванные в некоторых иностранных кабинетах сим первым сообщением, поставили Вас в необходимость рассеять все недоразумения ближайшим разъяснением истинного смысла Моих чистосердечных намерений, основанных на чувстве справедливости и на постоянном моем стремлении оберегать честь и достоинство России. Благодаря Вашим усердным и просвещенным стараниям, вопрос, казавшийся одно время спорным, настолько был уяснен, что он мог быть рассмотрен в собранном на сей конец международном совещании в настоящем его виде и значении. Спокойное обсуждение дела повело к тому благоприятному исходу, который заключил переговоры Лондонской конференции. Заслугою Вашей в сем случае, имеющею для отечества значение историческое, — Вы ознаменовали блистательное продолжение всей предыдущей Вашей деятельности. Услуги, оказанные Вами престолу и отечеству во время польского мятежа 1863-го года, когда Вы с полным успехом противодействовали притязательным попыткам постороннего вмешательства во внутренние дела России, затем увеличенные ныне тем же успехом труды ваши по черноморскому вопросу оценены по достоинству общим признательным сочувствием всех ваших соотечественников, дорожащих честью и самостоятельностью русской земли.
Во внимание к столь достохвальным Вашим заслугам, Я признал справедливым украсить носимое Вами и нисходящим Вашим потомством княжеское достоинство титулом светлости. Даруя Вам сие высочайшее отличие, Я желаю, чтобы это доказательство Моей признательности напоминало Вашему потомству о том непосредственном участии, которое с самого Вашего вступления в управление Министерством иностранных дел принимаемо было Вами в исполнение Моих мыслей и предначертаний, клонящихся непрестанно к обеспечению самостоятельности и упрочению славы России. С особою к Вам признательностью и благоговением — пребываю навсегда Вам благосклонный, искренне Вас любящий и благодарный Александр.
С.-Петербург, 18-го марта 1871-го года.
Я вчера был у Горчакова и поздравил его. Старик, кажется, очень доволен и успехом дипломатической атаки, и наградой, хотя и говорит, что on a voulu dorer son cerceuil[210].
При самом начале его дипломатического похода, когда появилась его первая декларация, я не скрывал от него все мои сомнения и опасения. Ему даже кто-то сказал, что будто я театре сказал кому-то, что я его за эту штуку повесил <бы>. С тех пор Горчаков все шутя попрекал меня, что я приговорил его к смерти, я, тоже шутя, отвечал ему, что исполню свой приговор, ежели результатом Конференции и его выходки будет у нас война или какая-нибудь другая пакость. На что Горчаков однажды спросил меня, что же я ему дам, ежели, напротив, все дело обойдется благополучно и к пользе России, тогда я ему ответил, что дам ему сюрприз.
Теперь пришло время исполнить свое обещание, и я придумал поднести ему в шуточном виде адрес от общего нашего с ним предка — князя Михаила Черниговского. Я заказал профессору Шарлеману рисунок для этого адреса, соответствующий тексту. Рисунок очень удался. Текст следующий:
«Князь Александр Михайлович.
Достославный предок наш князь Михаил Черниговский, устами твоих сородичей, взывает к тебе, князь, и шлет тебе свое отчее целование. Подобно ему изрек ты в глаза врагам нашим слово правды, не убоясь ни страха, ни суда людского. Предтечей битвы Куликовской был Святой и Славный предок наш. Будь и ты, князь, Предтечей грядущего восхода зари правды на Востоке».
Адрес этот подписан мною и тремя моими сыновьями. Рисунок изображает герб князя Черниговского, который есть вместе с тем и герб Горчакова, засим по обеим сторонам герба представлена сцена мученической кончины князя Черниговского[211] в орде у Батыя, протест его и казнь. Начальная буква представляет князя Черниговского в иконописном изображении, засим сбоку сцена битвы Куликовской, а внизу представлено Черное море с восходящей зарею и с надписью «19-ый октябрь 1870 год», т. е. дня подписания декларации. На берегу представлена аллегорическая фигура Черного моря в виде женщины, перед которой стоит князь Горчаков в костюме византийского князя и снимает с нее цепи, у ног его надорванный Парижский трактат. Под нашей подписью нарисована печать князей Оболенских. Весь рисунок окаймлен веревкой, в конце которой петля, напоминающая мое намерение его повесить. Весь текст писан славянским шрифтом. Весь этот рисунок удался как нельзя лучше. Шарлеман взял с меня за него 150 руб. В воскресение утром я повезу адрес Горчакову, и со мной будут ассистентами мои три сына: Саша, Алеша и Котя. Надеюсь, что шутка удастся.
21-го марта. Сегодня я отдал Горчакову мой обещанный сюрприз — он очень ему понравился. Шутка удалась как нельзя лучше, дети были со мной. Я уверен, что со временем, когда в архиве Горчакова найдут этот рескрипт, то примут его за серьезную с моей стороны манифестацию.
В Париже началась и продолжается междоусобная резня, в которой я не сомневался, и, по всей вероятности, дело не обойдется без нового вмешательства Пруссии и занятия Парижа.
28-го марта. Сегодня праздник Светлого Воскресения, несмотря на раннее время года, праздник этот имеет вид весенний. У заутрени во дворце все происходило по обычаю, много очередных наград, в том числе и я получил Белого Орла, хотя эта очередная награда следовала мне еще 5 лет тому назад, но я до сих пор мог заменять ее денежной наградой — раз я получил аренду, а в другой раз подарок в 3000 рублей. В прошедшем же году опять приходилось мне Белого Орла, но я перед тем только что был назначен товарищем министра, а потому ничего не получил. В нынешнем же году Орла не миновал, хотя с радостью принял бы взамен его денежную награду. Новостей особенных нет. Во Франции междоусобия продолжаются с возрастающей силой. Не думаю, чтобы какой-либо порядок во Франции мог бы восстановиться без какого-либо внешнего вмешательства, и я думаю, не одни пруссаки вступят в дело, а соединенные силы всех европейских держав.
4-го мая. Весь прошлый месяц прошел бесследно для моего дневника. В общественной жизни у нас ничего особенно замечательного не случилось. В журналистике и в обществе очень много толковали и продолжают толковать об изменении уставов наших гимназий. Внесенный министром народного просвещения графом Толстым проект существенно изменяет всю систему общеобразовательного курса тем, что оставляет только за классическими гимназиями, с двумя классическими языками, значение гимназий с правом поступления из них в университет, ныне не существующие реальные гимназии с одним латинским языком вовсе упраздняются и заменяются реальными училищами, не дающими прав на поступление в университет.
Мнения по сему вопросу выражаются и в прессе, и в обществе с крайней раздражительностью. Я собственно проектов новых уставов не читал и суждения по тому вопросу не принимал. Но для меня очевидно, что большинство не на стороне исключительно классиков и что Министерство народного просвещения увлекается в крайность, которая не поведет к добру. Весьма вероятно, проект министерства, несмотря на сильную оппозицию, будет окончательно принят государем, который смотрит на этот вопрос с точки зрения чисто полицейской. Ему внушили мысль, что классицизм представляет из себя охранительный элемент вообще, а в частности требование знаний двух древних языков для поступления в университет непременно будет иметь последствием ограничение числа лиц, поступающих в университет, что, по мнению многих консерваторов, очень желательно. Я уверен, что проект министерства осуществится, но ненадолго. На практике скоро обнаружатся все неудобства крайности, положенной в основание всей системы, по необходимости скоро будет сделана уступка, хотя бы в пользу гимназий с одним латинским языком, и тогда вся система будет нарушена.
К тому же я не верю, чтобы настоящий министр народного просвещения — граф Толстой — мог что-нибудь создать живучее. Это одна из таких ограниченных субъективных натур, которые не в состоянии ничего ни понять, ни произвести вне личного круга впечатлений и страстей. Я долго служил с Толстым в Морском министерстве и всегда удивлялся его способности много трудиться и работать непроизводительно. Все даже изданные им сочинения обличают усидчивость в труде, но полное отсутствие животворной мысли или убеждения. (Граф Алексей Толстой?)[212]. Он не лишен способностей, недурно пишет, но чрезмерно личен, душонка очень маленькая, завистлив до болезненности — всегда чужим здоровьем болен. Он стал с некоторых пор учиться греческому языку и, как человек, склонный к сухому труду, находит в этом учении удовольствие. Я уверен, что это обстоятельство много содействует его упорству в защите своего проекта. Я вовсе не только не отвергаю пользы классического образования, но полагаю, что оно должно иметь преимущество перед реальным. Но есть бездна других соображений, которых нельзя не принять в расчет, когда дело идет о России, об образовании массы людей для всех потребностей государства, не только по специальностям, но и с общим образованием. Вообще как-то дико и как-то смешно даже отвлеченно и с такой крайностью относиться у нас к системе образования, когда факты так убедительно свидетельствуют, что не в образовательном, не в научном и умственном развитии ищет правительство мерило для оценки людей. Стоит только заглянуть в памятную книгу высших чинов империи, чтобы убедиться в бесспорном факте, невольно наводящем на размышление: из 12 министров наших — 8 военных. Из 61-го члена Государственного совета — 36 военных. Из губернаторов — две трети военных. Все генерал-губернаторы — военные. По роду оружия эти господа все более кавалеристы, по воспитанию по крайней мере все настоящие главные деятели рекомендуют Пажеский корпус[213] и Юнкерскую школу. И эти господа призваны теперь судить о преимуществе классического образования перед реальным… Что за вздор… Одно из двух: или преобладание военного элемента в нашей администрации имеет цель — тогда непонятны те реформы, которые призваны водворить в государстве законность и гражданственность, или это преобладание военного элемента на практике не ощущается, т. е. что все эти военные люди не вносят в администрацию никаких особенностей специальной их службы, тогда это не делает чести нашей армии, которая так мало оставляет следа в миросозерцании своих генералов. Как бы то ни было, но задаваться вопросами об общественном образовании с отвлеченной точки зрения и создавать систему, исключительно преобладающую над всеми другими соображениями, по-моему, есть вред, одна надежда, что перемелется — все мука будет. К сожалению только, что вся эта ломка и неопределенность губит молодое поколение, над которым делают опыты.
15-го мая. Вчера я говорил в общем собрании Правительствующего Сената по делу, в сущности неважному, но которое имеет огромное значение как образец безобразий, с каждым днем увеличивающихся в отношениях наших по Остзейскому краю. Дело в том, что I-й департамент Сената в 1869-м году, по представлению Курляндского губернского правления, разъяснил значение одной статьи (1262) местных законов по вопросу о сроке предъявлений прав на сервитута казенных имений, предписав указом, что срок этот не может относиться к казенным имениям, для которых существует особое положение в Своде законов и для которых срок определен временем регулирования казенных имений. Рижский магистрат к мнению, которое было предъявлено им о сервитуте одного казенного имения, на предъявленный ему указ Сената положительно объявил, что решение Сената неправильно, противозаконно, а потому для магистрата необязательно. О таком дерзком ослушании Сената я во время управления министерством представил Сенату. В данном Сенату объяснении магистрат вновь повторил все доводы свои в опровержение правильности толкования Сената, объявив, что засим он не может изменить взгляда своего на силу значения ст.1262, несмотря на указ Сената, статью ту разъясняющую. Первый департамент в моем присутствии в прошедшем году определил сделать магистрату выговор с опубликованием. Один только сенатор, а именно барон Врангель, который с цинизмом постоянно во всех делах заявляет себя защитником всех неправд Остзейского края, подал особое мнение, полагая возбудить законодательный вопрос. Засим по-настоящему дело это должно было кончиться, ибо во вновь изданном законе дела в Первом департаменте Сената решаются по большинству голосов, но Министерство юстиции потребовало к себе проект определений Сената, продержало почти год и только на днях министр юстиции дал предложение Сенату, в котором он самым невероятным и возмутительным об-разом оправдывает магистрат, попирая власть и достоинство Сената; разумеется, ни сенаторы I-го департамента, ни я с этим предложением не согласились, и дело перешло в первое Общее собрание, где я вчера и ораторствовал.
В составе Общего собрания 14 сенаторов-немцев, все они, как один человек, пристали к министру юстиции, а остальные 6 человек согласились с I-м департаментом, а 12 человек согласились с мнением, представленным сенатором Зарудным, хотя тоже близко подходящим к моему мнению, но не выражающим столь определительно право Сената требовать исполнения его указов.
Теперь дело это пойдет в Государственный совет, где, вероятно, будет слушаться осенью, и тогда вновь мне, вероятно, будет предстоять необходимость защищать достоинство и власть правительства против дерзких покушений остзейских властей. Но и тут я почти уверен, что большинство не на стороне защитников права центрального правительства. Вообще, как это, так и многие дела свидетельствуют, что сила немецкой балтийской партии не только не ослабляется, но, напротив того, крепнет, ибо находит сильную опору здесь, и главное — в лице графа Шувалова. Я не могу себе объяснить циничное упорство этого господина всегда и везде открыто выдавать себя за адвоката всех неправд Балтийского края, как потребностью найти себе поддержку в сильной немецкой партии. Граф Шувалов чувствует, что в России не только в общем мнении, но и в мнении всех лиц царской фамилии и петербургского общества он не имеет сочувствия, поэтому, пользуясь слабостью государя к немцам, он знает, что, защищая при каждом случае балтийцев, он угождает царю и вместе с тем приобретает себе сильных друзей в немецком лагере. Никогда, может быть, немцы не были в такой силе, как теперь. Они хорошо понимают, что будущее царствование не будет им благоприятно, поэтому они стараются, не теряя времени, всеми силами онемечить эстов и латышей и приготовить к будущему элементы для серьезного сопротивления правительству к обрусению края. Так точно, как покойный государь Александр I создал во вред России Польшу, так точно Александр II по какому-то слепому влечению создает балтийский вопрос, с которым в недалеком будущем придется сильно бороться. Все попытки печати обнаруживать вредные замыслы остзейцев преследуются правительством, и даже все лица, по обязанности своей высказывающие мнения в защиту интересов России, заподозрены как вредные демагоги.
К числу лиц, наиболее отличающихся резкостью суждений своих по балтийскому вопросу, принадлежит министр государственных имуществ Зеленый; в качестве члена Остзейского комитета, также по поземельным делам Остзейского края ему часто приходится сильно бороться с интригами немецких баронов, а потому они против него очень озлоблены, и ежели <бы> не личное дружеское к нему расположение государя, то, конечно, его уже давно бы успели прогнать из министерства.
На сих днях, а именно недели три тому назад, был случай, ясно это доказывающий. После одного из докладов, когда Зеленый собирался уходить, государь остановил его и дружеским тоном начал его упрекать за то, что он позволяет себе не скрывать своего нерасположения к немцам, что он как министр должен быть так же беспристрастен, как беспристрастен государь к своим всем разноплеменным поданным. Зеленый, не ожидая подобного замечания и не зная причин, побудивших государя попрекать его, объяснил государю, что взгляд его на балтийский вопрос государю давно известен, что он несколько раз имел случай ему его высказать с полной откровенностью, так, в прошлом году даже решился упрекнуть государя в пристрастии к немецким баронам, и что мнение его не есть инстинктивная ненависть к племени, а основано на полном сознании всех вредных сторон нашей политики по отношению к Остзейскому краю, но что он не понимает, чем именно теперь могло быть вызвано замечание государя, так как он, Зеленый, почти нигде в обществе не бывает и у себя принимает только самых близких друзей, а потому и не имеет случая высказывать своего образа мыслей. На это государь ему ответил, что недавно давали севастопольцы обед князю Васильчикову и что на этом обеде один из присутствующих укорял Пруссию за то, что она не так бескорыстно ведет войну, как Россия, а, напротив, разоряет контрибуциями своего противника. Зеленый заметил государю, что речь эта была сказана не им, что он не был призван ее цензуровать, а потому ни в каком случае за нее отвечать не может. На это государь сказал, что это, конечно, так, но что ему как министру неприлично было выслушивать подобные речи. В заключение самым дружественным тоном государь просил Зеленого быть осторожнее. Эта сцена очень озадачила Зеленого, и к следующему докладу он приготовил государю письмо, в котором просил его уволить от звания министра. Это письмо Зеленый взял с собой и, прежде чем начать доклад у государя, объяснил, что сделанное ему замечание в прошедший понедельник сильно его смутило, и так как он не находит возможным переменить свои убеждения, а с другой стороны, не может отвечать, чтобы и в другой раз не довели до сведения государя какие-либо обвинения, то он опасается, что в другой раз государь уже отнесется к нему не с дружеским упреком, а со справедливым негодованием, до чего он дожить не желает, а потому просит увольнения. Государь на это стал успокаивать Зеленого, уверяя, что ничего против него не имеет и что всегда и впредь не изменит своих замечаний, ежели бы представился случай их сделать. При этом государь решительно отказал отставку Зеленого и просил его об этом и не думать. Тем дело и кончилось. Но, конечно, Зеленый понял, что немцы направили на него все свои батареи, и ему не сдобровать, ежели представятся серьезные случаи столкновения. Мое положение еще опаснее: не имея в пользу свою особого личного расположения государя, я знаю, что со мной расправа будет еще легче. Не менее того, я решился по делу об ослушании Рижского магистрата говорить в Государственном совете так сильно, как я говорил в собрании Сената. В милости я никогда не буду, я это знаю.
19-го мая. Сегодня утром, в то время как я собирался выехать из дому, получил я от экзекутора министерства записку, уведомляющую меня, что сегодня ночью, в 2 часа, Александр Алексеевич Зеленый сильно заболел, и что, по всем признакам, его ударил паралич. Это известие меня сильно поразило, ибо еще накануне я с Зеленым занимался, и он не жаловался на здоровье.
Сейчас же я поехал на квартиру министра и застал его лежащим в постели в полном сознании, но с явными признаками паралича. Язык совершенно свободен, и он весьма ясно и отчетливо рассказал мне, что накануне вечером, перед тем, чтобы ложиться спать, он почувствовал головную боль и онемение руки, стал ходить по комнате и потом лег спать, но, чувствуя себя дурно, встал, пошел в другую комнату, взял склянку с одеколоном, вылил ее себе на голову и опять лег, но потом опять почувствовал, что ему дурно, решился позвонить человека, и когда он вошел, то застал его уже без языка. Прибывший немедленно доктор стал прикладывать к голове его холодные компрессы, и владение языком мало-помалу возвратилось, но глотать он ничего не может. Я сейчас увидал, что положение Зеленого весьма опасное, и что во всяком случае — он человек, для службы и дела конченый. Он должен был сегодня рано утром ехать с докладом к государю в Петергоф, туда послана была депеша с извещением о болезни. Я дал сейчас знать военному министру Милютину, как человеку, дружески расположенному к Зеленому, о случившемся несчастии, и я, по совету его, отправился на станцию Петергофской ж<елезной>д<ороги>, чтобы застать государя при его возвращении из Петергофа и его переезде в Царское Село. Несмотря на проливной дождь, мне действительно удалось подойти к вагону государя, который с одного пути переходил на другой, и передать ему некоторые подробности о состоянии Зеленого. При этом я просил государя назначить мне день для доклада тех бумаг, которые Зеленый должен был ему доложить. Государь назначил мне приехать для этого в субботу, 22-го, в Царское Село.
Совершенно неожиданно вступаю я опять в управление министерством. Все предположения мои рушатся. Я надеялся, что Зеленый окончит дела по земельному устройству крестьян, а я пока займусь проектом преобразования министерства[214], и тогда, ежели прежде этого не сломаю себе шею, то буду министром. Теперь все переменяется — останусь ли я управлять министерством, ежели, сохрани Бог, Зеленый умрет, или нет — мне неизвестно, я имею много шансов, но теперь мои противники в такой силе и действия их так бесцеремонны, что уверенности остаться в министерстве я не имею. По чистой совести говоря, я не горю желанием сохранить за собой министерский портфель. Я настолько уже насладился всеми благами этого положения, что отношусь к ним равнодушно. Буду ждать, что Бог даст. Но теперь меня более всего огорчает положение бедного Зеленого. Он еще человек не старый, всего ему 52 года, и его влияние на государя, хотя за последнее время ослабевшее, было самое прекрасное. Государь его искренне любил и уважал как правдивого и честного человека. Зеленый мог говорить с ним и нередко говорил явно в противоречие его вкусам и инстинктам. Но государь считал его человеком недалеким и потому не стеснялся его мнением, хотя всегда его выслушивал. Такого влияния, как Зеленый, я никогда иметь не буду. Русский элемент в правительстве понесет в лице Зеленого невознаградимую потерю.
21-го мая. Положение Зеленого не улучшается, он не может ничего глотать, и ежели этот признак паралича не улучшится, то положение может сделаться весьма опасным. Сегодня государь был у Зеленого, я его там встретил; спросив, готовы ли у меня бумаги для доклада, он приказал мне вместо завтрашнего дня приехать к нему сегодня с докладом в Зимний дворец. Я только заехал домой, чтобы взять бумаги, и засим немедленно отправился во дворец. При докладе государь выражал неподдельное чувство сожаления о Зеленом, приказал мне ежедневно доносить ему о состоянии здоровья и телеграфировать ему также ежедневно за границу, куда он отправляется на воды — в Эмс — во вторник. В заключение государь приказал вступить в управление министерством и вообще относился ко мне так, что я не могу иметь ни малейшего повода предполагать, чтобы он имел в виду какое-либо другое лицо на министерское место.
24-го мая. Здоровье Зеленого плохо поправляется, хотя ему несколько лучше, но глотание все еще затруднено и признаки паралича не ослабевают. Государь завтра едет в Берлин, а оттуда в Эмс. Граф Александр Адлерберг в первый раз его не сопровождает, по болезни, Шувалов, следовательно, будет один, да еще граф Борис Перовский назначен заведовать походной Канцелярией.
Эти беспрерывные поездки государя, императрицы и всей царской фамилии начинают, кажется, сильно надоедать даже берлинским властям. Из Эмса государь и императрица поедут в Вюртемберг, чтобы праздновать серебряную свадьбу королевы Ольги Николаевны. С отъездом государя и всех почти властей все дела здесь, разумеется, останавливаются на весь летний сезон. Сегодня было последнее заседание Государственного совета, на нем читался проект преобразования гимназий. Большинство членов Совета, в числе 29-ти, против проекта исключительного классического образования, но в меньшинстве 19-ти человек находятся такие лица, по которым можно наверное сказать, что государь утвердит мнение меньшинства.
Мне достоверно известно, что клика Шувалова и К° будет сильно работать против моей кандидатуры на сохранение министерского портфеля. Ежели Зеленый умрет или захочет отказаться от звания министра прежде возвращения государя, то я почти уверен, что министром назначен будет кто-нибудь из клики Шувалова. Со своей стороны, я не могу и не хочу ничего делать, чтобы противодействовать своим недоброжелателям, а потому буду спокойно ждать моей участи.
На днях последовало странное, никем не ожидаемое назначение, также весьма ловко и проворно совершенное в кабинете Шувалова. Граф Владимир Бобринский, министр путей сообщений, не чувствуя себя в силах продолжать быть министром, выпросил себе в товарищи двоюродного брата своего флигель-адъютанта графа Алексея Павловича Бобринского. По отзыву всех близко знающих этого господина, он совершенно полоумный человек, но не лишенный энергии, хитрости и коварства. Говорят, что двоюродный братец перещеголял своего cousin[215] эксцентричными выходками и проектами. Все это делается как-то семейно и без всякого соображения с приличиями и общественным мнением. Еще не прошло 4-х месяцев, как Владимир Бобринский выпросил у государя, помимо Государственного совета, утверждение задуманного преобразования всего своего министерства, при котором не полагалось товарища, а все министерство разделялось на 2 главных управления, — теперь будет вдруг назначаться товарищ. Все это представляется какой-то детской игрой.
28-го июня. Вот уже более недели, что я живу один. Жена уехала в деревню с детьми, и город совсем опустел. Мне же отлучиться, даже на короткое время, нет возможности, потому что здоровье Зеленого все еще плохо, да и вряд ли оно значительно поправится. Государь еще за границей, наследник уехал в Гапсаль[216], в делах совершенный застой. О том, что делается в Эмсе, нам совершенно неизвестно. Вчера получил депешу от императрицы из Петерсталя. Она спрашивает о здоровье Зеленого и графини Протасовой. Государь тоже теперь должен быть в Петерстале, а оттуда вся семья отправляется в Фридрихсгафен к королеве Ольге Николаевне. Германский император не приехал на свидание с государем в Эмс под предлогом болезни. Ежели нет прежней политической причины подобного воздержания, то, вероятно, германскому императору скучно каждый год и по нескольку раз в год принимать незваных гостей. Действительно, каждое лето вся царская фамилия гуляет по всей Европе, и каждый день читаем в газетах, что где-нибудь принимают или провожают какого-нибудь великого князя или великую княгиню. Что эти все путешествия стоят денег — это невообразимо. Насчет этого предмета заметна в государе с некоторых пор значительная перемена, вполне объяснимая влиянием окружающих его господ. С небывалым до сих пор цинизмом тратятся казенные деньги, без всякого законного основания, для удовлетворения личных интересов.
Примером вопиющего злоупотребления власти в этом отношении служит дело флигель-адъютанта князя Витгенштейна, недавно окончательно решенное государем. Этот Витгенштейн имеет огромные поместья в Северо-Западном крае. Сперва отец его, а потом он сам, живя постоянно за границей, наделал пропасть долгов, так что одного казенного долга Опекунскому совету насчитывалось до 180 тыс. рублей на душу, тогда как Опекунский совет, по правилам, не имеет права давать более 60-ти тыс. рублей на душу, но все эти надбавочные ссуды выдавались Витгенштейну по особым высочайшим повелениям, и 7 раз недоимки причислялись к капитальному долгу. Подобной льготой никто никогда не пользовался. Когда приступили в Северо-Западном крае к составлению установленных грамот, а потом к исправлению их поверочными комиссиями, то имения Витгенштейна подверглись всем тем же операциям, как и все другие имения, принадлежащие всем русским в том крае, с той только разницей, что покупные сделки в имениях князя Витгенштейна по большей части сделаны были по добровольному согласию, а потому более выгодно, чем для большинства других помещиков. Не менее того, когда приступили к выкупу, то оказалось, что за обращение всей выкупной ссуды в удовлетворение Опекунского совета еще не хватает около 3-х миллионов руб. для окончательного погашения казенного долга, это доказывает, как велика была сумма, обременявшая имение. Ежели бы долг этот был нормальный, т. е. не превышающий 60 тыс. рублей на душу, то тогда бы, за обращением части откупной ссуды на удовлетворение долга Опекунскому совету, у Витгенштейна оставалось бы свободного капитала до 800 тыс. рублей Следовательно, решительно никто не виноват в том, что, когда пришла минута ликвидировать долги Витгенштейна, оказалось, что он разорен. Не менее того, во время пребывания в прошлом году государя в Эмсе через, кажется, Шувалова и Адлерберга, Витгенштейн обратился к государю с просьбой сложить с него казенный долг, оставшийся за обращением в уплату выкупных ссуд, т. е. до 3-х милл<ионов> рублей. В доказательство, что, будто бы, он разорен вследствие притеснительных действий бывших поверочных комиссий, он представил ходатайство генерала Потапова, который, по приказанию своих патронов, доказывал действительно, будто бы Витгенштейн разорен крестьянской реформой. Государь, не говоря худого слова, приказал сложить с Витгенштейна долг Опекунского совета, и высочайшее повеление было сообщено министерству финансов из Эмса. Получив такое повеление, Рейтерн остановился приведением его в исполнение и, дождавшись возвращения государя, при личном докладе объяснил ему, что слагать долг Опекунского совета нельзя, ибо это деньги не казенные, а деньги вкладчиков, которые прежде раздавались Опекунским советом в ссуду под залог недвижимых имуществ, а потому просто сложить долг нельзя, а нужно, чтобы кто-нибудь заплатил, и ежели государю не угодно, чтобы имение, обеспечивающее этот долг, было пущено в продажу, то должна заплатить казна, т. е. Государственное казначейство, но что в распоряжении министра финансов нет свободных сумм. Независимо от сего Рейтерн доложил государю, что Витгенштейн не только не имеет никакого права на подобное вознаграждение, но что все другие помещики Северо-Западного края понесли значительно более значительные убытки, а потому пример Витгенштейна может вызвать справедливые просьбы всех других помещиков. Государь, уважив соображения министра, согласился приказать рассмотреть это дело в Главном комитете. Такое решение сильно не понравилось ни Витгенштейну, ни его покровителям. Они поняли, что в Главном комитете все единогласно будут против них. Сам Витгенштейн, будучи нашим военным агентом в Париже, выехал из осажденного города и поспешил приехать в Петербург. Здесь скоро удалось ему, опять-таки через Шувалова и Адлерберга, вымолить высочайшее повеление, по которому его дело взято было из Главного комитета и для обсуждения его составлена особая комиссия, под председательством графа Адлерберга, из графа Шувалова, Тимашева, Рейтерна и Потапова. Таким образом, образовались комиссия специально из 4-х друзей, в которую министр финансов был приглашен по необходимости, скорее как ответчик, чем как член. О назначении такой странной комиссии для частного дела в обществе говорили, удивлялись, но скоро перестали говорить и удивляться. Журналы не смели сказать слова; министр финансов, со своей стороны, приготовил подробное и обстоятельное мнение, доказывающее отсутствие всяких прав не только на вознаграждение, но и на милость, ибо жертвовать 3 милл<иона> казенных денег правительство решительно не в состоянии. Дело это тянули до самого отъезда государя за границу, надеясь, вероятно, опять в Эмсе вырвать, под влиянием разных немецких родственников Витгенштейна, высочайшее повеление. Но так как незадолго до отъезда государя решено было, что Адлерберг, по болезни, не будет сопутствовать государю, то и решили дело, без всяких дальнейших обиняков, покончить здесь. Почти накануне отъезда государя министр финансов Рейтерн получил от Адлерберга записочку, в которой он пишет ему, что так как он не успел составить журнала их заседаний по делу Витгенштейна, то он намерен доложить это дело на словах, а потому просит Рейтерна прочесть его мнение. Рейтерн послал, и на другой день получил уведомление, что государь император, согласно большинству комиссии, приказал заплатить из Государственного казначейства долг Витгенштейна Опекунскому совету в 3 милл<иона> рублей на счет остатков от выкупной операции. Итак, одним почерком пера, без всякого основания и уважения, государство платит частный долг в 3 миллиона рублей, и из каких денег?.. Из денег, которые предназначались министром финансов на помощь Смоленской и некоторым другим губерниям, которые, вследствие разных случайностей и разных обстоятельств, обременены недоимками и где крестьяне сильно разорены. Кто же такой, наконец, сам этот князь Витгенштейн, для спасения которого от разорения Россия приносит такую жертву?.. Молодой юноша, красивый собою, служивший прежде в конной гвардии, а теперь военным агентом в Париже, решительно никогда ничего не делавший, вечно гуляющий по всяким увеселительным местам и видам Европы с толпою разных француженок, на которых тратил огромные деньги. Кто же эти покровители подобного господина, которые подводят государя на подобные вопиющие несправедливости и траты?.. Это те самые господа, которые выдают себя за охранителей самодержавной власти и блюстителей доброго имени и чести правительства. Это те же господа, которые ругают французскую Коммуну за ее самовластие и расхищение казны. Ничто так не позорит власть, как подобные пристрастные действия в пользу лиц, не заслуживающих подобных милостей.
Также немало говорят о разных концессиях на устройство железных дорог, которые даются по особым приказаниям государя, помимо лиц, представивших наиболее выгодные условия.
Так, какому-то господину Ефимовичу, которому, говорят, покровительствует княжна Долгорукая[217] и в котором принимает денежное участие принц Гессенский, отдают, говорят, севастопольскую дорогу за цену в несколько миллионов выше, против других предложений. Говорят, граф Бобринский, министр путей сообщений, по этому случаю подает в отставку. Хотя это не потеря, но тем не менее скандал этот усиливается. Все подобные действия не остаются в тайне, а напротив, быстро распространяются, даже в преувеличенном виде. Досадно на все это смотреть; до сих пор, по крайней мере, высшее правительство не было заподозрено в корыстолюбии, а теперь начинает распространяться внутри России мнение, что через посредство известных лиц с деньгами все можно сделать. Воображаю, какое впечатление произведет на русских помещиков Северо-Западного края, действительно много потерявших при крестьянской реформе, известие о таком щедром вознаграждении Витгенштейна только потому, что он наделал долгов более, чем на 3 миллиона рублей серебром.
На днях, говорят, явится сюда депутация от общего собрания Евангелического союза, состоящая из представителей Франции, Швейцарии, Германии и Америки, чтобы вновь просить государя коллективным образом не преследовать протестантов в Балтийском крае. Вот до чего мы дожили. Враги наши так же точно, как и прежде, разными клеветами, выдумками и ложью в защиту Польши возбудили против нас весь мир; теперь, теми же орудиями, возмущают против нас Балтийский край. По всему свету систематическая против нас пропаганда рассылает массу печатных пасквилей и ложных обвинений, а мы не только молчали, но и запрещали в русских газетах говорить что-либо о Балтийском крае, и единственный человек — Юрий Самарин, который печатает за границей опровержения на все клеветы западных и остзейских публицистов, его преследуют как вредного человека, и сочинения его так строго запрещены в России, что ни один министр не может получить недавно его новую, вышедшую в Берлине брошюру о православии в Остзейском крае. Уже в прошедшем году подобная депутация, более скромных размеров, являлась государю в Штутгарт. Государь сперва не хотел ее принять, но потом, по настоянию графа Шувалова, принял. По словам «Hamburgischer Correspondent» 1-го июля 1870-го года, представление этой депутации государю происходило следующим образом:
«Вчера депутация удостоилась самого благосклонного приема у государя в королевской вилле Бере, близ Штутгарта. Это обстоятельство заслуживает особого внимания. Для верного уразумения дела, так как император во время своего пребывания на день не хотел принимать даже дипломатического корпуса, г. пастор Монис держал речь: он обратился к императору с трогательным воззванием, передал ему, что Пасторское собрание[218] союза возьмет крепко в свои руки дело лифляндских латышей и эстов, притесняемых за их веру, и в заключение подал его величеству адрес, который государь удостоил принять от него собственноручно. Затем государь выразил депутации свою добрую волю, сказав, что тем лифляндским латышам и эстам, которые желают перейти из греко-российской государственной церкви обратно в протестантскую, не ставят никаких в том препятствий, но что закон воспрещает обратный переход и что он, государь, не может изменить закона, приемы и способы, какими в былые времена произведены были обращения. На этом император дружески подал руку 4-м членам депутации и тотчас же их отпустил».
В какой степени слова государя переданы верно корреспондентом — мне неизвестно, но не подлежит сомнению то, что ответ государя был в том тоне и смысле, как приведено выше. Замечательно, что я в первый раз узнал об этой депутации от императрицы, у которой я, в отсутствие государя, обедал раз в Царском Селе. Она только что в этот день получила от государя письмо, в котором он ей писал о том, что ему представлялась эта депутация.
Императрица рассказывала это за обедом, я сидел возле нее и решился спросить: «Si се n’est pas indiscret, Madame, qu’a repondu l’Empereur?»[219]. На это она мне ответила: «Il ne me le dit pas. Il dit seulement — que tu comprend que ma reponse n’etait pas difficile»[220].
Впоследствии я узнал от Тимашева, которому рассказывал сам государь, что он действительно сперва не хотел вовсе принимать депутацию, но что его уговорил Шувалов и что ответ государя был уклончивый и нерешительный. Понятно после этого, что агитация не только не уменьшилась, а, напротив, усилилась. Любопытно будет знать, как примет государь эту новую депутацию. По всей вероятности, она постарается опять его поймать где-нибудь за границей. Неужели суждено всей этой лжи торжествовать?.. Ежели бы депутаты приехали сюда, то можно было бы добросовестных из них уговорить съездить самим посмотреть в Балтийском крае — кто кого угнетает… Можно бы было разыграть перед ними всю картину безобразной лжи, которою они обольщены, и показать, как они, сами того не подозревая, служат орудием партии, совершенно враждебной тем либеральным принципам, которым они служат.
Нет, видно, судьбе угодно, чтобы Александр II создал бы во вред России балтийский вопрос так же бессознательно, как Александр I создал вопрос польский. Мы, современники, без особого внимания следящие за ходом совершающихся событий, не можем не видеть ясно и даже почти осязательно, как всегда искусно и однообразно подготовляет наше Провидение материал для будущих бедствий. В балтийском вопросе совершенно так же, как в польском, Провидение дает силу и власть всякой лжи накопляться, накопляться, омрачать рассудок и взгляд людей, и потом разом грянет гром, и вся ложь выступит наружу, и все люди станут удивляться, как могли они быть так обмануты и как могли они так безрассудно действовать. Желал бы я ошибиться, но мне представляется несомненным, что России придется выдержать страшные испытания за слепоту современных ее политических деятелей.
19-го июля. Завтра ожидается возвращение государя и императрицы прямо в Петергоф. На другой же день начинаются разные смотры и маневры в лагере, и нам трудно будет уловить минуту для доклада. Предчувствие мое оправдалось. Депутация протестантов с адресами в пользу латышей и эстов, о которой я уже говорил, не доехала до России, а надеялась поймать государя в Фридрихсгафене. Я уверен, что королева Ольга ежели не прямо содействовала, то по крайней мере не препятствовала этой манифестации, ибо в прошлом году депутация являлась государю в Штутгарте. В нынешнем же году в Фридрихсгафене был съезд всей семьи на семейный праздник серебряной свадьбы, и, вероятно, это обстоятельство тоже было принято в расчет, чтобы смутить сердце царево. О том, что эта депутация являлась, читаем мы сегодня в газетах следующее:
«Уже давно немецкие газеты сообщали, что во время пребывания Его Императорского Величества в Фридрихсгафене ему желала представиться депутация от Евангелического союза с целью ходатайствовать о разрешении протестантам Прибалтийских губерний, перешедших в греко-российскую веру, снова обратиться в протестантскую. Депутации не удалось, однако, достигнуть своей цели по причинам, изложенным в следующем письме цюрихского корреспондента „Кельнской газеты“. Вчера, пишет означенный корреспондент от 22-го июля, я разговаривал в гостинице Бауера с несколькими лицами, принадлежавшими к депутации, которая явилась 14-го июля к князю Горчакову. Вот что я узнал от них: депутация состояла из 37-ми членов, в числе которых 10 было из Англии, 8 — из Северной Америки, 5 — из Швейцарии, 4 — из Швеции, 2 — из Голландии, по 1-му из Бельгии, Дании и Венгрии и 4 — из Германии, а именно: Тишендорф, доктор Зивикинг, барон Гелерт и граф Реке-Фольмерштейн. Император, предупрежденный о прибытии депутации, поручил принять ее князю Горчакову, вследствие чего депутация и представлялась государственному канцлеру. Все очевидцы согласно показывают, что он выслушал с невозмутимым терпением несколько длинные речи депутатов, в которых они выражали доверие, внушаемое им благородным характером Е<го> В<еличества> императора, и уверяли, что поступок их чужд всякого политического характера и что единственно человеколюбие побуждает их просить о дозволении эстам и латышам, перешедшим в греко-российскую веру, снова присоединиться к евангелической церкви. В заключение ораторы-депутаты просили аудиенции у Е<го> В<еличества> императора, чтобы иметь случай вручить ему адреса от своих доверителей. Адресов было 3 — от Американского Евангелического союза, от Общеевропейского союза (этот адрес составлен в Лондоне) и от квакеров. Князь Горчаков ответил депутатам в самых благосклонных выражениях, что принципы религиозной терпимости обеспечиваются как личными воззрениями государя императора, так и русским законодательством и русскими обычаями, в чем может убедиться всякий, побывав в столице и в провинциальных городах России, где не только люди всех христианских вероисповеданий, но даже евреи и магометане имеют свои храмы и пользуются покровительством законов. Гуманный образ мыслей императора (в котором так твердо убеждены податели адреса), прибавил канцлер, служит единственной гарантией в исполнении их желания, которую он может предложить им. Что же касается желаемой аудиенции, то канцлер не взялся ходатайствовать о ней, так как в данном случае дело идет об изменении государственного закона, причем нельзя допустить никакого чужеземного вмешательства. Прием же депутации от стольких национальностей имел бы, во всяком случае, вид подобного вмешательства во внутренние дела России. Как ни огорчила депутатов невозможность быть представленными императору, однако доводы князя Горчакова, по-видимому, убедили их, и они изъявили свое сожаление в самых почтительных выражениях.
Оратор американской депутации просил при этом Горчакова принять адрес и изложить его содержание Его Императорскому Величеству. Князь Горчаков, будучи уже знакомым с содержанием этого адреса, касавшегося в самых умеренных выражениях одних теоретических вопросов, не счел нужным отказать в этом. По примеру американской и женевская <депутация> просила принять ее адрес, который она называла „общеевропейским“ на основании того, что под сим подписалось множество лиц. Но прежде чем принять этот адрес, канцлер пожелал ознакомиться с его содержанием. Пробежав его тут же, он объявил депутатам, что заключающиеся в нем описания религиозных гонений, будто бы претерпеваемых эстами и латышами, основано на неверных сведениях и имеет вид обвинительного акта. Вследствие этого канцлер отказался принять швейцарский адрес и предложил депутатам передать только один американский. Посоветовавшись между собой, депутаты пришли к заключению, что подобное предпочтение принесло бы ущерб достоинству коллективной депутации и потому решили не подавать ни одного из трех адресов. Они попросили канцлера от себя лично изложить им письменно свой ответ, но князь Горчаков отказался, говоря, что он был всегда врагом лишнего писания и что письменное повторение сказанного было бы нужно лишь в том случае, если бы слова его не были поняты, так как это действительно было возможно, потому что князь Горчаков, отвечая депутатам различных национальностей, объяснялся по-французски, по-английски и по-немецки, то он вызвался повторить сказанное. Но депутаты объявили, что они хорошо поняли его, и канцлер отпустил их со следующими словами, которые я выписываю из памятной книжки одного из депутатов: „Alors il dependra de vous de faire à vos commettants le récit de notre entretien“»[221].
Остается узнать, в каком виде они передадут его. Но надо полагать, что в главных чертах он не будет разниться с тем, который я здесь привел, так как он записан со слов моих очевидцев, вполне согласных в своих показаниях.
Уже из этого краткого известия видно, что князь Горчаков спасовал. Но я убежден, зная его легкомыслие и малое знакомство с вопросами внутренней политики, и в особенности с вопросами окраин, что он наговорил депутации всякого вздора, оставя на них впечатление человека, сознательно защищающего une mauvaise cause[222]. Вероятно, немецкая интрига на этом не остановится и пойдет дальше. Этого следовало бы желать, авось они сами помогут нам раскрыть глаза.
Вот уже 3 недели, как продолжается в здешней судебной палате политический процесс по заговору, или, лучше сказать, по тайному обществу, устроенному Нечаевым. Так как в этом несчастном деле замешано очень много молодых людей, слушателей нашей московской Земледельческой академии и здешнего Земледельческого института, то я довольно исправно посещал судебные заседания[223]. Теперь уже первая категория подсудимых приговорена, главные участники в убийстве студента Иванова приговорены к каторжной работе. Участники же в тайном обществе по первой категории или подвергнуты легким наказаниям, или вовсе оправданы. В последнем отчасти виноват прокурор, неправильно определивший характер преступления. Как бы то ни было — это первое дело, производящееся у нас при открытых дверях.
Вообще, и подсудимые, и защитники, вели себя прилично. Сами формы процесса во многих подробностях стеснительны по тонкостям, которые введены в наши судебные уставы и против которых я в свое время сильно работал. Публика очень довольна гласностью этого процесса, и я уверен, что описание всех подробностей этого несчастного дела много принесет пользы и по крайней мере даст мало-мальски развитой молодежи увидеть всю бездну всякого безобразия, в которую влекут ее всякие мерзавцы с помощью лжи, обмана и даже убийства. Престиж таинственности, которым до сих пор прикрывались наши революционные затеи и который возбуждает сочувствие и в тех слоях общества, которые никак бы не сочувствовали бы самому учению, ежели бы знали, в чем оно заключается и кем проповедуется, весь этот престиж исчезает. И ежели правительство успело воспользоваться общим впечатлением негодования, произведенного этим процессом, то много бы можно было сделать хорошего. Но, к сожалению, далеко не все так смотрят на пользу публичности, данной этому процессу, упуская из виду общее, привязываются к частностям, к какому-нибудь смелому слову подсудимого или защитника, и, раздувая это слово, доказывают, что подобные речи могут произвести революцию. Я уверен, что в этом настроении передадут и государю о результате публичного суда. Вместе с тем закрыть суд не решатся, а будет это иметь последствием одно только пустое и бессмысленное раздражение. При всем этом процесс Нечаева наводит на самые грустные размышления. Он обличает в массе молодого поколения теперь такое отсутствие трезвых духовных сил и так мало положительных знаний и определенных понятий, что невольно становится страшно за целое поколение юношей.
К сожалению, правительство смотрит на все это только с точки зрения полицейской — оно просто испугано революционными тенденциями общества, видит в этом растление юношей, опасность <для> власти в государстве вообще, и под впечатлением этого страха собирает целый арсенал всякого рода оружия, дабы ставить материальные преграды революции, будто бы не встречающей никакого сопротивления в России, но, напротив, сочувствие. На этом пути правительство вынуждено не только остановиться во всех своих дальнейших преобразованиях, но даже явно противодействовать уже и тем реформам, которые осуществились и которые требуют правильного развития стараниями и силами самого правительства. Никак не могут наши государственные деятели настолько проникнуться и убедиться в силе и могуществе власти и охранительного начала в России, чтобы смотреть на эти неприятные явления безумных и преступных стремлений молодежи и даже известной части умственного пролетариата как на зло, конечно, нетерпимое, требующее внимания и даже правительственных мер, но не как на преобладающий и гибельный для всего государства элемент, против которого должны быть принимаемы меры даже в ущерб благоустройству всего государства. С одной стороны — крайность подобного воззрения, а с другой стороны — шаткость в принятии самих мер противодействия очень много способствуют усилению революционной партии. Правительство боится даже громко, твердо и ясно сказать слово осуждения этой партии, потому что думает, что никто его не поддержит. Образ французской Коммуны[224] окончательно отуманил взор наших высших сфер. Правительство наше никак не рассчитывает, чтобы оно нашло в России более противодействия силам социальной революции, чем французское правительство нашло его в Париже. И в этом, как по всем почти вопросам, общественное мнение смотрит на дело шире, спокойнее, основательнее, чем правительственные лица, стоящие во главе полиции и администрации. Во всех газетах без исключения передовые статьи по поводу процесса Нечаева строго карают безумное движение, влекущее молодежь на гибель и не имеющее в России никакого сочувственного отголоска. Всем этим благонамеренным заявлениям гг. Тимашев, Шувалов, Левашов, Урусов и вся эта компания не только не верит, но даже утверждают, что это журналисты нарочно пишут, чтобы усыпить недремлющее око III Отделения и проч. Так, эти господа, не давая себе отчета, внутренне сознают, что в их руках власть не может внушать ни доверия, ни сочувствия. Есть одно только явление, которое, по моим понятиям, заслуживает внимания, и то не потому, что я видел в этом явлении какую-нибудь государственную опасность, а меня сокрушает в этом явлении то растлевающее действие, которое производит социальное учение на нашу учащуюся молодежь, и оставляющее на многих из них печать озлобления против всего общества и жизни вообще. Всегда и во все времена молодые люди были склонны увлекаться порывами и идеями общей пользы. Благо народное, осуществление идеи правды на земле — все это во все времена возбуждало юношей к восторженным речам, сходкам и даже тайным собраниям для составления проектов мечтаемых улучшений. В моих понятиях, молодой человек, который никогда не увлекался подобными благородными движениями, гроша не стоит. Собираться вместе молодым людям для обмена мыслей, впечатлений по предметам общего интереса так в натуре человека, что даже те из молодых людей, которые подобны гг. Шуваловым, Левашовым, Бобринским, Тимашевым и всем другим представителям нашего современного консерватизма в правительстве — даже эти люди, когда были юношами, постоянно собирались на сходки, но так как вопросы общеизвестные и политические их не занимали и о них они не имели никакого понятия, то интерес их сосредоточивался на балете, и тут, в качестве театралов, у них были свои нужды, свои масонские знаки, своя солидарность и своего рода отвага для борьбы с театральной дирекцией в пользу той или другой балетнички. Конечно, граф Шувалов теперь был бы очень удивлен, что, в сущности, между ним и Нечаевым по отношению организования кружка — есть только разница в предметах ведения, а не в роли организатора.
В наше время та молодежь, к которой я принадлежал и которая по выходе из училища все молодые свои и свежие силы употребила на служебном поприще, мы, хотя уже и на школьной скамье были приготовлены встретить в жизни и на службе неправду во всех ее проявлениях, не менее того, мы были возмущены состоянием правительства и общества в то время. Мы часто собирались без определенной организации, но всегда, собравшись несколько человек вместе, все наши помыслы, все наши желания обращены были к одной цели — к благу народному, мы искали не только каждый в своей сфере деятельность, действовать по возможности согласно с нашими убеждениями, противоречившими и порядку, и понятиям тогдашнего служебного мира и общества, но каждый из нас придумывал, что бы такое можно сделать для замены прежнего порядка — лучшим. К счастью, все возбуждаемые нами вопросы находили возможность разрешения в известных, определительных формах. Мы мечтали об освобождении крестьян, мы мечтали о лучшем устройстве судов, о возможности более гласного обсуждения общественных вопросов. Мы этими предметами занимались, изучали их исторически и практически. Нас называли красными, республиканцами, социалистами — черт знает чем… Правда, это было нам досадно, но мы твердо верили, что время наше придет, что для этого не нужно разрушать общество до его основания и ожидать в будущем, что из этого выйдет. И вот наступило время, где мечты наши осуществились. Нужно было России пройти через испытание Крымской войны, чтобы стряхнуть сон и взять из выработанного новым поколением людей то, что пригодно для блага государства. Нас по-прежнему продолжали, да и до сих пор продолжают называть красными, но не менее того, Россия в 10 лет преобразовалась, и что бы ни случилось, та эпоха, в которую мы жили и действовали, будет славная эпоха для России. Но не без борьбы далась нам эта победа. Реакция взяла свое, наступило время не то возвращения к старому, не то стремления к чему-нибудь еще новому, так сказать, одно только бесплодное и платоническое сожаление о старом. Между тем все вопросы, даже еще нерешенные, все подняты, стоят на очереди. Что делать новому молодому поколению?.. Старого порядка вещей оно не знало и вообразить себе его не может. Не имея точки сравнения, оно тяготится теми стеснениями, которые положены свободе у нас, на слово веря пустым либеральным фразам иностранной и нашей журналистики, им кажется настоящий режим последним выражением деспотизма и произвола. Сочувствие к благу народному, ежели теперь не живее в молодом поколении, то, по крайней мере, оно больше раздражается разными приправами в социальной литературе. Из блага народного оно превратилось в благо человечества. Хотелось бы современному юноше тоже что-нибудь делать, на чем-нибудь сосредоточить свои помыслы и задаться какой-нибудь задачей для разрешения ее. Оказывается, таких начатых вопросов, какие были в наше время, уже нет. Много и очень много еще предстоит сделать, и даже много таких начатых вопросов стоит на очереди, но чтобы их понять и усвоить их значение, нужно время, знание и спокойствие, а этого в юношах нет. Что же делать. Натура, однако, требует своего. Вот тут-то и является учение, которое говорит: человечество страдает, вы ему сочувствуете, надо ему помочь, как это сделать, этого теперь никто не знает. Верно только одно, что пока сохранится нынешней строй общественной жизни, никакого благополучия ожидать нельзя. Поэтому задача нашего поколения есть истребление всего существующего, мы суть жертвы, потомство оценит ваше благородное самоотвержение. Для того учиться нет особой надобности, все это пойдет к черту, когда время придет. Засим открывается картина будущего благоденствия человечества, и поэтическое чувство молодого человека разыгрывается под обманчивой формой материального учения.
Вот тут способность славянской расы ставить нас в особенно невыгодные условия. В то время, когда немец необыкновенно искусно и независимо для самого себя совмещает в своей личности совершенно отрешенные друг от друга элементы — один из них царствует в сфере мышления, а другой в сфере действия — славянского племени юноша, и в особенности русский, по свойственной ему добросовестности, не может таить в душе и уме свои убеждения и не выражать их в действии. Нигилист-немец может быть прекрасным отцом семейства, спокойным гражданином и собственником. Добросовестный нигилист русский, по благородному свойству своей природы, идет жечь и истреблять для блага человечества. К тому же эта шаткость в сознании правительства, это недоверие, с которым оно относится к силам общества, не только не призывает их на помощь, но даже чуждается их. Все это ставит нашу молодежь в беззащитное положение от всяких нравственных мазуриков. Что делать, как оградить молодежь от этой заразы и как дать ей более плодотворный и нравственный выход для ее потребностей? Это один из важнейших вопросов, которых я, быть может, коснусь, ежели буду, в качестве министра государственных имуществ, призван стоять во главе высших Земледельческих училищ. Но и тут предвижу, что никогда не буду пользоваться доверием настолько, чтобы мог действовать самостоятельно. Стыдно вспомнить, как в прошлом году, после истории в Земледельческом институте, в которой обнаружилось, что студенты собираются и толкуют о социальных вопросах, все меры правительства заключались только в том, чтобы усилить агентов III Отделения в институте и, кроме того, государь велел собраться 7-ми министрам, чтобы обсудить, как устроить столовую в высших институтах, где студенты живут по найму, так, чтобы у них не было общей артели, а чтобы была кухмистерская. Об этом 8 министров толковали часа три и решили пригласить антрепренера устроить кухмистерскую, и хотя студенты и будут обедать вместе — но это не будет сходка, а ежели будут содержать кухни сами и обедать вместе — то это будет сходка. Право, смешно и грустно. Теперь опять я уверен, что по случаю нечаевского процесса будут приняты какие-нибудь подобные меры. Все это — вздор.
21-го августа. Сегодня государь выехал из Петербурга на Кавказ. Из Москвы он едет на Нижний, а там на пароходе по Волге в Астрахань, из Астрахани в Петровск и Тифлис, а потом, через Поти, в Ливадию, и все это должно совершиться в течение одного месяца. Сегодня же выезжает императрица прямо в Ливадию, не останавливаясь в Киеве, как было предположено прежде, по случаю холеры в Киеве. По Волге и на Кавказе давно уже делаются большие приготовления для принятия царя. К сожалению, почти везде холера омрачает радость встречи, не менее того, я уверен, что по всей Волге восторг народный не будет иметь пределов. Одно, что, по всей вероятности, произведет самое дурное впечатление, это быстрота путешествия. Нигде царь не даст на себя посмотреть, а уже сам, конечно, ничего не увидит. Это будет такая суета, что я просто не понимаю, как можно добровольно подвергать себя такой физической и нравственной пытке. Железные дороги и пароходные сообщения не только не облегчили возможность частых и спокойных высочайших путешествий, а, напротив того, превратили эти путешествия в какое-то бесцельное летание от одного полюса к другому на виду восторженного народа, несколько месяцев ожидавшего этого проезда. Дай Бог, чтобы по крайней мере все бы обошлось благополучно в этом путешествии. С государем едут наследник и Владимир Александрович, так что здесь вплоть до ноября никто не останется. С государем едет граф Шувалов, который, по-видимому, более в милости, чем когда-либо.
Я в течение нынешнего месяца имел несколько докладов, два в Красном Селе и один в Петергофе. Царя я нашел по возвращении его из-за границы еще более усталым и равнодушным к делам. Одно его, по-видимому, продолжает сильно смущать — это судебная реформа. Ход нечаевского процесса ему не нравится, чего он и его ближайшие советники ожидали и желали от судебной реформы — остается совершенной загадкой, но дело в том, что он постоянно повторяет и приказывает министру юстиции и князю Урусову[225] что-нибудь сделать, и вот теперь все эти господа придумывают, что бы такое сделать, говорят, даже Тимашев придумал какие-то 4 пункта, но говорят также, что Шувалов сам находит, что эта выдумка слишком глупа. В течение зимы, вероятно, будут изданы какие-нибудь реакционные правила, но все-таки цели своей эти г<оспода> не достигнут, а только возбудят смех и неудовольствие.
Вся штука в том, что не следует свою всю надежду возлагать на дураков и исключительно ими наполнять суды и администрацию. Вот что справедливо говорят «Московские ведомости» в одной из статей своих по поводу нечаевского процесса[226].
Апухтин написал очень удачное четверостишие на Тимашева.
Вот оно:
Тимашев мне ни froid, ни chaud[227], Я в ум его не верю слепо. Он, правда, лепит хорошо, но министерствует нелепо. Я бы выразился сильнее…5-го ноября. Весь сентябрь и октябрь я был нездоров сильными геморроидальными припадками. Хоть этот недуг и не останавливал моих служебных занятий, но всякий посторонний труд был мне не по силам, вот почему я несколько запустил свой дневник. Впрочем, во все это время было полное затишье в общественной жизни. Царь был в отсутствии и только недавно вернулся со своего путешествия по Волге и Кавказу. Министры и Государственный совет собрались только к концу сентября, и никаких особо замечательных дел не было. К 29-му сентября собралось все мое семейство в Петербург, и мы отпраздновали с женою нашу серебряную свадьбу. В конце октября началась обычная деловая жизнь, а теперь она в полном разгаре. В понедельник, 1-го ноября, был мой первый, по возвращении государя, доклад в Царском Селе, а во вторник вечером я отправился в Москву, куда вечером приехал государь на охоту, и весь следующий день охотился в парке, где перебита пропасть разных зверей. Все это происходило обычным порядком — еда, охота, игра в ералаш. В еде я мало принимал участия, ибо все еще хвораю, на охоте застрелил одну козулю. Государь, по-видимому, очень доволен Кавказом и всеми бывшими там встречами и празднествами. Но вынес ли он какое-либо впечатление из своего путешествия по России — это совершенно неизвестно, но надо полагать, что никакого, ибо при докладе он ни одним словом не заявил мне о виденном им по части управляемого мною министерства. Зеленый еще за границей, намерен вернуться в декабре, но в состоянии его здоровья, кажется, особой перемены к лучшему нет.
17-го ноября. Сегодня был я в одном довольно замечательном заседании у великого князя Константина Николаевича. Он приглашал к себе вечером на частную беседу: священников о.о. Васильева и Янышева, обер-прокурора Синода графа Толстого, Осинина, Головнина и меня. Из списков приглашенных я понял, что речь будет идти о поднятом осенью нынешнего года в Мюнхене, на Конгрессе старокатоликов, вопросе о соединении их с православной церковью. Я знал, что этот вопрос сильно интересует великого князя и что по его настоянию был послан от нас на этот конгресс г. Осинин, не в качестве официального представителя православной церкви, а в виде частного любознательного ученого богослова. По первому известию о суждениях, происходивших на этом Конгрессе, можно было видеть, что протест старокатоликов против нового догмата непогрешимости папы принимает в Германии весьма серьезное значение и что старокатолики явно стремятся стать на путь соединения церквей. Факт этот поразителен и не может не радовать людей, серьезно относящихся к вопросам веры. Это первое серьезное движение в Западной Европе в смысле соединения веры, не всеми, однако, оценивается одинаково, многие относятся к нему с недоверием. Первый энергичный голос по этому вопросу подал в Москве Иван Аксаков, напечатав превосходное письмо на имя Деленгера, в котором он, выражая все свое сочувствие движению старокатоликов, высказывает им, однако, с неумолимой логикой много истин, доказывая невозможность оставаться на полпути и призывая их к прямому и безусловному обращению — соединению с восточной православной церковью.
Со своей стороны, профессор Осинин по возвращении из Мюнхена, сперва в частных беседах, а потом на публичных чтениях, излагал подробности бывших на Конгрессе прений. Теперь в Москве и Петербурге с этим вопросом ознакомились многие, и он стал предметом разговоров. Великий князь, как я уже сказал, давно занимавшийся и следящий за ходом этого дела, принял на себя инициативу образования кружка из людей, сочувствующих делу, для того чтобы, помимо всякого правительственного и церковного участия, войти в некоторые общения со старокатоликами. Когда все мы уселись около стола и закурили сигары, великий князь очень основательно и ясно сообщил нам цель нашего собрания; он указал на то важное значение, которое имеет это движение в западной церкви, но при этом он заявил, что движение это так ново, так еще мало созрело, что ни церкви нашей, ни правительству не следует теперь выступать непосредственно и принимать какое-либо участие в пользу этого движения, но зато общество должно сделать все возможное, чтобы помогать движению и направлять его на прямой путь. Для этой цели он и пригласил к себе и духовных лиц, и обер-прокурора, дабы не могли кружок наш заподозрить в каком-либо самовольном стремлении.
Великий князь уверен, что в Москве также найдутся люди, которые также пожелают содействовать общей цели; таким образом, мало-помалу установится между нами и старокатоликами постоянное общение, которое главною должно иметь целью — разъяснить понятия западных старокатоликов относительно восточной церкви, и в особенности искоренить в них закоренелые их предрассудки относительно Российской церкви. Великий князь говорил весьма убедительно и с полным знанием дела, видно, что мысль в нем созрела. Засим адъютант его Корнилов, в роли секретаря, прочел несколько писем от некоторых духовных православных лиц за границей, полученных им. Они признают необходимость нашего участия в движении старокатоликов. По поводу этих писем были весьма интересные толки. Вообще все это заседание было весьма замечательно и любопытно, и оно повторится на будущей неделе. Может быть, это начало великого дела. В Москве есть Общество любителей духовного просвещения, вероятно, наш кружок примкнет к этому Обществу, и, может быть, в него войдут члены из старокатоликов — для них Общество будет издавать книги и брошюры на немецком и французском языках для ознакомления их с восточной церковью. Не знаю, суждено ли нашему поколению увидеть осуществление, хотя отчасти, соединения верующих, но я убежден, что этот вопрос может пробудить и нашу дремлющую церковь, по крайней мере, в частности, те вопиющие недостатки и злоупотребления едва ли устоят перед справедливой критикой тех, перед которыми мы должны будем явиться образцами. Уже в сегодняшнем заседании было указано на некоторые печальные стороны этого дела, требующие немедленного исправления.
23-го декабря. Сегодня, в 1 час дня пополудни, было заседание Совета министров под председательством государя, для обсуждения вопросов о дальнейшем направлении проекта закона о печати и цензуре, так по крайней мере обозначена была цель собрания в пригласительном письме, полученном мною от Корнилова[228]. Обыкновенно товарища министра, временно управляющего министерством, не приглашают в Совет, поэтому обо мне статс-секретарь Корнилов докладной запиской спрашивал особо государя, следует ли меня приглашать, и, получив утвердительный ответ, послал мне извещение, которое я получил вчера в Лисине, где был по случаю царской охоты на медведя. Таким образом, я в первый раз присутствовал на Совете министров под председательством государя. О цели этого собрания я слышал еще прежде от графа Шувалова; несколько дней перед тем он в длинном разговоре со мной выразил мысль, что новая работа по составлению устава печати, в особенности в форме книг, сделанная князем Урусовым, ничего нового не предлагает, что ее рассматривать будут очень долго во всех инстанциях, а между тем печать выходит из всех пределов терпимости и власть совершенно бессильна подавлять законным путем вредные учения, распространяемые книгами. И потому граф Шувалов не надеется, чтобы новый устав печати помог бы правительству, а что, по его мнению, нужно только издать одну статейку, которой бы разрешилось бы министру внутренних дел запрещать всякую вышедшую или имеющую выйти в свет книгу, не начиная никакого судебного преследования. «Значит, Вы хотите восстановить цензуру?» — спросил я Шувалова. «Ну, там как хотите разумейте, — отвечал он, — я всех этих юридических тонкостей не понимаю, а вижу, что иначе ничего сделать нельзя». Я ответил ему, что такого же мнения, что ежели они не могут выносить той доли свободы, которая дана, и ежели не хотят и не умеют противодействовать вредной стороне печати, то цензура есть единственное средство, я это самое писал в особой записке, которую передал Тимашеву прежде назначения комиссии Урусова для составления нового Устава о печати. При этом я только напомнил Шувалову, что цензура у нас была, что с ней возились немало и безуспешно в такое время, когда еще не было публичного суда с адвокатами и земских и других публичных собраний, и что теперь возвращаться к цензуре будет не так легко, как он думает. На это Шувалов объявил мне, что государь желает, чтобы несколько министров условились между собою о том, что делать. Впоследствии я узнал, что Шувалов, Пален, Тимашев и Урусов получили от государя приказание обсудить, какой ход дать новому Уставу. Вот эти-то господа явились в Совет министров, условились между собою и, разумеется, через посредство Шувалова совершенно расположили государя в пользу своего мнения.
Совет открылся вступительными словами государя, который объяснил, что желает, чтобы немедленно были приняты меры к обузданию прессы, и что обширный труд князя Урусова потребует для его рассмотрения много времени, а потому он поручил некоторым министрам, до которых этот вопрос ближе касается, представить ему свои по этому поводу соображения. Засим Урусов рассказал, что они пришли к единогласному заключению о необходимости, не ожидая издания нового Устава о печати, теперь же временно принять некоторые меры, цель и значение которых он предоставил развить графу Шувалову. Засим Шувалов представил безобразную и мрачную картину действий нашей прессы, в особенности книжной, стремящейся возбуждать и волновать к революционным и анархическим стремлениям всю читающую публику. Во время его речи государь часто прерывал его, прибавляя от себя всякие частные указания на вредное направление печати и бессилие власти, будто бы имеющей поддержку в законах. Засим Шувалов формулировал заключение, совершенно тождественное с тем, которое он мне говорил перед тем, т. е. чтобы министру внутренних дел предоставлено было задерживать всякую книгу без судебного преследования. Засим граф Пален стал доказывать, что не есть дело суда рассматривать проступки и преступления печати, и при этом он высказал удивительные юридические афоризмы. Потом граф Толстой в ярких чертах изобразил, как наша учащаяся молодежь гибнет от читаемых книг, и в заключение Тимашев объявил, что все сказанное другими министрами вполне должно его оправдать от обвинения в слабости, которому он нередко подвергался, ибо де теперь, кажется, не может быть более сомнения, что правительство при настоящем положении нашего законодательства совершенно бессильно что-нибудь сделать. Засим государь обратился ко всем присутствующим и спросил, не имеет ли кто что-либо возражать. Всякий из нас чувствовал, что никакое слово возражения не найдет ни в ком отголоска. Много мне нужно было сдерживать себя, чтобы не заговорить, хотя бы только для того, чтобы указать на всю неуместность издания отдельной меры, которая в общем Уставе могла бы получить другое значение. Но фальшивое мое положение и неопределенность будущего удержали меня в пределах молчаливого благоразумия, ибо слова мои неминуемо приняты были бы за неуместное вмешательство в дело, уже решенное. На меня все это заседание произвело самое тягостное впечатление, но вместе с тем я вынес убеждение, что при том направлении, которое теперь преобладает в главных влиятельных лицах, и при том отсутствии всякой возможности и иного способа действия — цензура действительно неизбежна. Она завлечет их далеко, наделает много скандальных выходок, но по крайней мере у них не будет отговорок к отсутствию репрессивных средств. Шувалов мне, впрочем, полюбился последовательностью своей речи и, кажется, искренним убеждением. Не будь этот человек воспитан в растлевающей школе III Отделения, имей он несколько познаний, и в особенности знание России и любви к ней, он мог бы быть полезным человеком. Все его способности обращены теперь в ловкость и в старание приискать экспедиенты[229] для удовлетворения минутных потребностей. Общего взгляда или смысла государственного человека нет вовсе и, вероятно, никогда не будет.
К Новому году ждут новых назначений в Государственный совет. Великий князь видит неотложную необходимость хоть сколько-нибудь освежить состав Совета новыми членами, и действительно пора. Барон Корф — председатель Департамента законов — просится на покой по болезни, на его место назначается князь Урусов, сохраняя должность управляющего II Отделением; Игнатьев, председательствующий в департаменте Гражданском, тоже отказывается от деятельной службы. Один только Чевкин — председатель Департамента экономии — еще бодр и неутомимо деятелен. Остальные же члены всех департаментов, за исключением Грота, совершенно негодны и никуда негодны ни на какое дело, а усилить состав департаментов из членов Общего собрания решительно невозможно, за неимением ни одного живого лица. В Новый год, говорят, будут назначены сенаторами Победоносцев, Зубов, Мансуров и Войцехович, первые три — по предложению великого князя, а последний — по выбору Шувалова и проч. Назначение новых членов, кажется, не понравится реакционной партии, которая не желала бы иметь в Государственном совете членов живых. Мое положение все еще остается неопределенным, и едва ли оно определится к Новому году. Зеленый возвращается из-за границы на днях в том же болезненном положении, в каком выезжал. Серьезно вступить в управление министерством ему будет невозможно, но, по-видимому, он не желает просить увольнения, а, вероятно, попробует заниматься, ибо хочет кончить и направить некоторые дела. В последнее время меня как-то перестали называть его преемником, и в общем мнении все более и более утверждается моя кандидатура. Я сам начинаю думать, что шансы мои довольно велики, и едва ли удастся противникам моего назначения провести своего кандидата. Государь, видимо, лично ко мне расположен, во все время моего управления министерством не было повода к неудовольствию, и миновать меня в предстоящем назначении едва ли он решится без каких-либо уважительных причин. Всего вероятнее, настоящее положение продлится до Пасхи. Зеленый все это время будет рапортоваться больным. Я буду управлять министерством и к Пасхе буду назначен, а Зеленый уедет за границу. Впрочем, это только одни мои предположения — дело разъяснится на днях по возвращении Зеленого. Послезавтра, в понедельник, будет докладываться в Государственном совете государственная роспись. В первый раз после долгого времени, а может быть, вообще в первый раз, ибо прежде правильность росписи не составлялась, она заключается не только без дефицита, но с некоторым остатком, несмотря на экстраординарные расходы, в смету расходов уже внесенных. Это весьма утешительное явление, в особенности знаменательно возрастание дохода от косвенных налогов. Недавно явилась ко мне депутация от прежних моих сослуживцев в Таможенном ведомстве и поднесла мне одну стипендию в память моего управления Таможенным ведомством. Очень меня порадовало это внимание и память людей, уже от меня не зависящих, — тем более, что я со своей стороны ничего не сделал, чтобы вызвать подобное сочувствие. Сегодня уже напечатано известие в газетах об этой стипендии.
Третьего дня воротился Зеленый, на вид ему как будто лучше, но все почти признаки параличного состояния остались почти те же самые. Он сам чувствует, что заниматься не может, поэтому вчера, представляясь государю, решительно объявил ему, что вступить в управление министерством не может, но желает оставаться некоторое время в звании министра, чтобы окончить некоторые дела. Государь на это согласился, приказав мне продолжать управлять министерством. Поэтому положение мое продолжает оставаться неопределенным. Это продолжится, вероятно, до весны.
1872 год
19-го февраля. Сегодняшний день, канун великого дня освобождения крестьян, омрачен был воспоминанием об утрате главного деятеля по этому вопросу. На днях скончался в Москве Николай Алексеевич Милютин. Хотя политическая деятельность его давно кончилась, ибо последние годы он, разбитый параличом, жил за границей и не мог принимать никакого участия в делах, но тем не менее друзья его искренно оплакивали его кончину На досуге запишу свои воспоминания об этой замечательной личности, с которой я находился больше 25-ти лет в самых близких и дружественных отношениях. Мы в одно время были в Московском дворянском институте[230], он был в высшем классе, я — в среднем. Потом судьба нас свела в Петербурге на служебном поприще, и хотя мы служили в разных ведомствах, но часто виделись и вначале сильно расходились в убеждениях, ибо он принадлежал к партии крайних западников, я же всегда был в лагере противников. Впоследствии Милютин сильно переменился и явился деятелем, которому нельзя было не сочувствовать. Мои воспоминания о нем могут быть хорошим материалом для биографии. Сегодня в обычном обеде кружка людей, участвовавших в реформе, будут о нем вспоминать по всей России. Я на обеде этом не был по следующей причине.
Третьего дня является ко мне директор здешнего Земледельческого института и объявляет, что утром того же дня сторож, приставленный к актовой зале института, заметил, что висевший в зале большой портрет государя в нескольких местах изрезан, кем и когда было сделано это безобразие — совершенно неизвестно, но, вероятно, сделано или поздно вечером, или ночью, что до сих пор еще все розыски виновного не привели ни к какому результату, но что есть надежда, что при общем желании всех студентов виновник найдется. Так как никто не указывал на какую-нибудь попытку манифестации, то я не дал никакого особого значения этому делу, полагая, что какой-нибудь негодяй в пьяном виде совершил это бесчинство. Но не менее того, я приказал директору немедленно произвести самое строгое расследование. Между тем, зная, как скоро все подобные мерзости доводятся до сведения государя, я писал директору Департамента сельского хозяйства и графу Шувалову, чтобы просить его <не> докладывать государю об этом происшествии до следующего дня, не узнав еще ничего в подробности и надеясь, что к тому времени все разъяснится. Но вместо того вечером того же дня Шувалов послал государю записку с объявлением о случившемся. Не знаю, что было написано в записке, но, вероятно, все дело было представлено в виде манифестации, ибо вчера утром в 9 часов получил я от государя через фельдъегеря приказание явится к нему в 11 часов утра.
В назначенный час прибыл я в Зимний дворец. Государь сейчас же меня принял в присутствии наследника и весьма грозным и недовольным тоном стал упрекать за новые беспорядки в институте, доказывающие его скверный дух, и что надо принять самые решительные меры. Я старался успокоить государя, доказывая, что обстоятельства, при которых сделано это бесчинство, и самый разрез портрета в ногах убеждает меня в том, что это дело или пьяного, или сумасшедшего человека и что, вероятно, скоро все раскроется, ибо производится самое строгое исследование. Государь отпустил меня, выразив свое неудовольствие. Видимо, он был настроен видеть в этом деле новую против себя манифестацию. На другой же день, т. е. сегодня, все дело объяснилось. Оказалось, что несовершеннолетний сын институтского священника, выгнанный из гимназии, негодяй, в пьяном виде, вечером, проходя через залу к какому-то студенту, сам не понимая, что делает, разрезал портрет, потом буянил на лестнице и в пьяном виде был выведен из института. Сегодня во всем, в присутствии отца, сознался, будучи уличен сторожем. Получив подробное донесение, я поехал об этом донести государю, но не застал его дома и послал письменное донесение, передав дальнейшее производство следствия графу Шувалову.
Этот эпизод может служить примером, как систематически поддерживают государя в страхе всяких манифестаций. Всякую мерзость в сыром виде, не разобрав и не выяснив ее, доводят немедленно до сведения, и в этом отношении три лица[231], один перед другим, хлопочут о том, кто скорее донесет. Трепов боится, чтобы Шувалов не предупредил его, а Тимашев боится обоих. В этом соперничестве доносчиков заключается вся их деятельность. Понятно, что, получая из трех источников доносы ежедневно о всяких мерзостях, государь, кроме этих мерзостей, ничего не знает и под впечатлением их судит об общественном мнении России. Ни один утешительный факт не доходит до ушей его. Чтобы вынести подобный режим, нужны страшные нервы. К тому же отдельные мелочные эти факты суживают взгляды и понятия. Можно ли при этом спокойно и правильно заниматься государственными вопросами?.. Конечно, нет. Вот почему и все вопросы государственные рассматриваются и представляются ему с полицейской точки зрения. Идет ли речь об общественном образовании — о выборе классического или реального образования, обе стороны бьют, главное, на то, чтобы доказать, что противное мнение опасно в политическом отношении. Зайдет ли речь о печати — тут о полезной стороне дела никто и заикнуться не смеет. Как выгодно подобное настроение государя для людей бездарных и властолюбивых! Ничтожные полицейские меры всегда наготове у этих людей для разрешения самых трудных задач управления. Вместе с тем, когда человек доведен до страха за личное свое существование, то невольно безусловно доверяется людям, в которых видит своих единственных и верных хранителей. На этом пути трудно остановиться.
Я думаю, что не далее, как в текущем году, мы увидим в лице Шувалова нового Аракчеева[232]. Мое положение продолжает быть неопределенным — я управляю министерством совершенно самостоятельно. Каждый понедельник бываю с докладом у государя. Он, по обыкновению, милостив, но ни единым словом, ни намеком не дает мне знать, что с уходом Зеленого я займу его место.
23-го февраля. Сегодня напечатана сказанная Заблоцким на обеде в память Милютина речь — она всем друзьям его очень понравилась.
Теперь же все общество занято приготовлением к великопостному маскараду, который должен быть дан на этой неделе во дворце по случаю приезда королевы Вюртембергской Ольги Николаевны, но императрица так серьезно заболела, что, по всей вероятности, маскарад этот не состоится и все издержки на костюмы пропадут даром. У императрицы, говорят, воспаление легких, и она очень слаба. На совет, говорят, призывали Боткина, и он, говорят, решил, что императрице надо немедленно выехать из Петербурга, и советует ехать в Крым.
13-го марта. Императрицу увезли в Крым в слабом состоянии, хотя перед отъездом ей было лучше. На днях туда же едет государь с Ольгой Николаевной. Сегодня был у меня последний у него перед отъездом доклад. Я нашел государя весьма озабоченным здоровьем императрицы, но он намерен скоро вернуться в Петербург, а именно к 9-му апреля. С ним едет и граф Шувалов, но проводит государя только до Одессы и немедленно вернется в Петербург, ибо без него здесь была бы остановка в делах, так как дело печати и реальных училищ ведется под его руководством.
10-го апреля. Сегодня был у меня первый по возвращении государя — и, вероятно, последний — доклад. Государь вернулся вчера и сегодня прислал мне с фельдъегерем сказать — быть у него с докладами к 11-ти часам. Когда я прибыл во дворец, еще шла обедня, после которой по случаю рождения великого князя Владимира было благодарственное молебствие. Во время обедни, увидя Шувалова, стоящего в ротонде перед церковью, я подошел к нему и спросил его, не знает ли он, почему государь вычеркнул из посланного мною ему в Ливадию наградного списка Королева — директора Петровской Академии. На это Шувалов отвечал мне, что предполагает, что государь очень недоволен Академией и потому не хочет награждать ее директора. Я заметил Шувалову, что с тех пор, как Королев директором, не было в Академии беспорядков и что он, напротив, строго смотрит за порядком, чем и возбудил против себя неудовольствие. Тогда Шувалов стал говорить мне, что он про Королева ничего дурного не знает, но что государь дорогою показывал ему новую толстую тетрадь пересматриваемых писем, из которых более половины из Петровской Академии, и что в Москве опять начинается дело, в котором замешаны студенты Академии. Я заметил Шувалову, что странно, почему мы, непосредственное начальство, ничего об этом не знаем и докладываем наши официальные сведения, совершенно противоположные сведениям, получаемым тайным путем. Потом Шувалов объявил мне, что колонисты[233] также очень недовольны своим новым положением, и что он это предвидел, и что там готовятся бунты — на это я опять возражал ему, что мы, напротив того, получаем из разных колоний благодарственные адреса, которые я докладывал государю и которые приняли к нам через губернаторов и генерал-губернаторов, и что, таким образом, наши сведения опять противоречат его заявлениям, что хоть бы он потрудился сообщить нам, на что колонисты жалуются и чем они недовольны, что такое положение дела невыносимо. Во время обедни более объясняться было невозможно, и так как служба кончилась, то я пошел в приемную ожидать выхода государя. Так как было много представляющихся и после обедни был завтрак, то я позван был к государю только в 2 часа. Он встретил меня ласково, спросил о здоровье Зеленого и при этом в первый раз спросил — говорил ли Зеленый мне о своих намерениях. На это я отвечал, что Зеленый неоднократно мне говорил о твердом своем намерении просить увольнения от должности министра, так как чувствует, что не в силах будет управлять когда-либо министерством, и что он намерен просить государя дозволения представиться ему в будущий понедельник. На это государь ничего не сказал, но вспомнив, что будущий понедельник 17-е число — день его рождения, сказал, что в понедельник неудобно и приказал сказать Зеленому, чтобы он явился в будущую субботу, т. е. накануне Светлого праздника. Когда начался доклад, то я сказал государю: «Ваше Величество не изволили утвердить одно мое представление о награде». — «Да, — отвечал государь. — Я имею самые дурные сведения о Петровской Академии». Я заметил государю, что с тех пор, что Королев — директор, не было ни малейшей истории и что в прошлом году Королев тоже был лишен награды. «И на просьбу Зеленого Ваше Величество разрешили предоставить в нынешнем году, ежели все будет благополучно». — «Да, — ответил государь, — но я имею сведения, что там неблагополучно». Я продолжал объяснять, что мы ни от кого неблагоприятных отзывов не получали и что генерал-губернатор тоже мне свидетельствовал, что теперь в Академии все так спокойно, что нам нужно поддержать человека, который старается навести порядок. На это государь, повышая голос, решительным тоном объявил: «Нет, я имею совсем другие сведения, весьма достоверные, и я не могу награждать начальника заведения, которым я недоволен». Я прекратил разговор об этом и начал докладывать другие дела. Сегодня о колонистах мне государь ничего не говорил, но разговор с Шуваловым объяснил мне значение тех слов, которые я слышал при прежних докладах. Он несколько раз мне говорил, но так неопределенно и неясно, что я не мог давать словам этим особого значения. После доклада государь, по обыкновению, подал мне руку, поговорил о погоде, я спросил о здоровье императрицы и проч… и я вышел из кабинета опять без малейшего намека на то, остаюсь ли я — или нет — министром. Но, признаюсь, сегодняшний доклад еще более возбудил во мне желание выйти подобру-поздорову из министерства. При этих условиях не только никакая борьба, но и никакая деятельность невозможна. Рядом с официальным правительством установилось теперь правительство тайное, сведения и действия которого даже неизвестны министрам — что тут делать. Я совершенно беззащитен против нападков, мне неизвестных, и перед человеком, который во все уже утратил веру, кроме доносов и перлюстрированных писем. Никаким делом его, видимо, заинтересовать нельзя более — так ему, видимо, надоело, так он устал и так ему сделались противны все им же совершенные великие реформы. Нет, ничто в положении министра не может вознаградить за ту нравственную пытку, через которую проходишь, будучи во главе управления при таких странных и несчастных обстоятельствах.
17-го апреля. Вот чем разрешилась, наконец, вчера моя судьба. Из всех возможных комбинаций я, признаюсь, не останавливался на предположении о Валуеве. Это назначение удивило всех. Еще третьего дня, т. е. 15-го числа, в Страстную субботу утром, в 11 часов, приехал ко мне военный министр Милютин прямо от государя и объявил, что государь поручил ему написать грамоту на пожалование Зеленому Александра[234], с увольнением от должности. Милютин просил меня сообщить ему какие-либо данные для грамоты; так как я, предвидя возможность скорого увольнения Зеленого, ожидал, что, может быть, мне будет поручено писать рескрипт, то я заранее набросал кое-что для себя, что могло послужить канвой для рескрипта. Эти сведения я и передал Милютину Вслед за Милютиным должен был явиться к государю и Зеленый, так как он призван был к 11-ти часам, о чем Зеленый известил меня следующей запиской: «Государь прислал звать меня к 11-ти часам, это не очень удобное время перед самой обедней. Но, может быть, все удастся».
Отдав приказание Милютину писать грамоту, государь ничего не сказал ему о том, кто назначается на место Зеленого. Я рассказал Милютину о том, что уже несколько дней носятся весьма достоверные слухи о назначении Валуева, Милютин тоже об этом слышал, но считал этот слух неверным.
В 12 часов я отправился к Зеленому и застал его уже дома, только что возвратившегося от государя. Тут он объяснил мне, что министром назначен Валуев, а я — членом Государственного совета. Назначив Валуева, государь спросил у Зеленого: «Что, ты имеешь что-нибудь против этого назначения?». Зеленый отвечал, что против Валуева он ничего не имеет, тем более что он прежде служил в Министерстве государственных имуществ, а потому ему известны и дела его, но что Зеленый думал и надеялся, что государь назначит меня. Государь отвечал ему, что он мною весьма доволен, но что в министерстве предстоят важные реформы, для которых нужен опытный человек, и что Валуев теперь свободен и может с успехом преобразовать министерство. Так как мы несколько раз говорили с Зеленым о моем будущем положении, то я не скрыл от него, что как бы ни определилось мое будущее, все мои денежные дела в таком положении, что крайне буду затруднен продолжать служить без пособия на уплату своих частных долгов. Зеленый согласился просить для меня ссуды из капиталов, находящихся в распоряжении министерства, — 60 тыс. без % на 10 лет. В этом смысле я писал Зеленому и просил повергнуть мою просьбу к стопам государя. Зеленый в точности исполнил свое обещание, и государь без затруднений согласился на ссуду в 60 тыс. рублей Это обстоятельство очень меня устраивает. От Зеленого я поехал в Государственный совет, где было назначено экстренное заседание в Департаменте законов в присутствии всех министров по делу о временных правилах о печати. Тут я видел великого князя Константина Николаевича, который тронул меня своим ласковым и добрым вниманием. Он обнял меня и сказал: «Теперь Вы весь наш, я от души рад и много на Вас рассчитываю, что Вы будете работать». Я просил его пока не назначать меня ни в какой департамент[235], ибо желаю отдохнуть и заняться своими делами, а что после Нового года я весь к его услугам. Из Совета я поехал к Валуеву и застал его только что вернувшимся от государя. Я совершенно искренне и без малейшего неудовольствия поздравил его, выразив при этом удивление, что он принял Министерство государственных имуществ после другого, более важного министерства и променял свое независимое и обеспеченное положение на другое, зависимое и сравнительно менее обеспеченное, так как он должен будет отказаться от участия в частных обществах, где в качестве директора получает хорошее вознаграждение. На это Валуев отвечал мне, что он этого места не искал и не желал, но не счел себя вправе отказаться от непосредственного выбора государя. Из слов Валуева можно было заключить, что предложение ему было сделано Шуваловым еще прежде отъезда государя в Крым и что, следовательно, Шувалов имел довольно времени подготовить и обставить приличным образом свою комбинацию. Я уверен, что назначение Валуева только временное, он выбран был Шуваловым как лицо, которое представляет более прав моего на занятие министерского места, — мог быть скорее принят государем, нежели всякое другое лицо, которое бы он задумал представить мне конкурентом. Я думаю, что это лицо есть Грейг, товарищ министра финансов и друг Шувалова, и что весьма скоро Валуев получит другое назначение, а Грейг будет назначен на его место. Так как я был всегда вполне уверен, что Шувалов употребит все средства, чтобы меня не впустить в министерство, то я никогда и не останавливался долго на мысли о возможности замещения Зеленого — по крайней мере я никогда не имел большой надежды на это. Потому первое неприятное впечатление во мне скоро изгладилось, и я совершенно спокойно и искренно доволен конечным результатом этого эпизода в моей жизни, который вместе с тем — очень решительный и радикальный перелом в моей служебной деятельности. Отныне я поступаю в разряд инвалидов[236] и буду свободен в выборе занятий. Благослови, Господи, тот новый путь, по которому мне предстоит идти. Вчера утром я представлялся государю вместе с другими, получившими награды и назначения. Тут были и Валуев, и Зеленый. Обратясь ко мне, государь сказал: «Благодарю тебя за службу», — я ответил поклоном. Тем дело и кончилось.
25-го апреля. Обстоятельства, предшествовавшие моему новому назначению, все более и более раскрываются. Теперь уже не подлежит сомнению, что назначение Валуева уже было решено перед отъездом государя в Крым. Переговоры шли, и все дело ведено было через Шувалова, который, по всей вероятности, обещал Валуеву в непродолжительном времени место министра иностранных дел, предполагая назначить ему преемником Грейга. При таких обстоятельствах я только могу благодарить Бога, что не попал в министры, ибо меня бы задушили доносами на первом же году и я должен был бы удалиться со скандалом. Теперь же я выхожу со всеми онерами[237], мне назначили содержание в 10 тыс. рублей, и я оставляю деятельную службу с еще не ослабевшими силами и с хорошей репутацией как в деловом мире, так и в обществе. Доказательством последнего может служить то, что меня выберут в директоры Учетного банка вместо Валуева, что в материальном отношении очень меня устроит. В Москве и в Петербурге весьма многие удивляются, почему меня не назначили министром, — это тоже явление довольно необыкновенное, ибо обыкновенно у нас удивляются новому выбору, но редко удивляются тому, что кто-либо не назначен. В среду 19-го числа я сдал Валуеву все оставшиеся на моих руках бумаги, и он окончательно вступил в управление министерством, а я окончательно сделался свободным человеком.
Вчера в первый раз в Государственном совете в звании члена. Великий князь Владимир Александрович также вчера виден был в совете, и мы вместе подписали присяжный лист[238] после прочтении о назначениях наших и после обычных поклонов в ответе на поздравление членов. Мне пришлось сидеть рядом с графом Сергеем Григорьевичем Строгановым, задом к свету, что очень приятно. В этом заседании рассматривался вопрос о судоустройстве и судопроизводстве в Царстве Польском. По этому делу главное разногласие членов Объединенного присутствия, в котором неоднократно и подробно рассматривался проект, состояло в определении значения гласных судов. Как в этом, так и во всех других вопросах два резко противоположных направления и выразились. Большинство, к которому принадлежал и я, стараются сохранить за гласными судами их значение, надеясь найти в них опору против вражды и происков шляхетства, а меньшинство видит в них демократическое начало и опасный принцип. На эту тему, прикрытую разными политическими и юридическими соображениями, настраивают государя, <что ежели граф Пален препятствовать будет>, то он не останется министром. Хотя это заявление было принято государем с неудовольствием, но тем не менее вопрос еще более осложнился личными соображениями. Великий князь Константин Николаевич, видимо, сочувствует мнению большинства, но так как он, как и мы все, почти уверен, что государь не утвердит это, то придумывается какой-то компромисс, а потому дело под самым ничтожным и непонятным предлогом возвращено опять из Общего собрания в Соединенное присутствие[239], куда принц Ольденбургский обещал представить какие-то ему самому еще хорошо не известные предположения. Все это такая комедия, которая становится отвратительною. Эта метода приискивать и добиваться соглашений между мнениями, в основаниях противоположными, гибельно действует на самое дело. В итоге всех этих комбинаций получается всегда такое законодательное уродство, что потом, при исполнении закона, возникают всякого рода безобразия. И все это для того, чтобы дела представлялись государю без разногласия, ибо почти по всем важным делам вперед уже забегает Шувалов и К° к государю и направляют его всегда, разумеется, с чисто только полицейской точки зрения, а так как почти по всем делам этим большинство не на стороне партии шуваловской, то и происходят в Совете всякого рода интриги. Никто не мешает государю соглашаться с меньшинством, но, не менее того, не хотят и на это решиться. Поэтому много вопросов минует теперь Совет, а другие приходят только для проформы, с заранее известным решением. Ежели прибавить к этому отсутствие всех талантов в главных руководителях всех интриг и отсутствие определенной мысли и программы, то сделается понятным, как все это идет бестолково. Всему корень — страх. Все чего-то боятся — и вперед идти боятся, и назад пятиться не смеют и не умеют. Этот все обуявший страх выразился, между прочим, в рескрипте московскому генерал-губернатору князю Долгорукову по случаю поздравления к празднику. На Москву смотрят как на оппозиционную страну, куда государь должен в июне ехать на выставку, а потому счел нужным обласкать жителей следующим рескриптом.
Высочайший рескрипт, данный на имя
Московского генерал-губернатора, генерал-адъютанта,
генерала от кавалерии — князя Долгорукова
Князь Владимир Андреевич,
Всякое новое засвидетельствование истинно верноподданнических чувств жителей Москвы в день Моего Рождения доставляют мне постоянно сугубое удовольствие. Изливаясь из сердца России, Моей любимой Родины, такое искони непреложно искреннее засвидетельствование встречает в Моем сердце всегда верный отголосок. Заветное памятование сего дня сопрягается для Меня с отрадным убеждением, что установленная веками и никогда не ослабевавшая преданность Москвы к престолу растет и крепнет, служа тем самым одним из залогов как настоящей, так и будущей силы и счастия России. С сими неизменными радостными верованиями и мыслями, приняв ныне принесенные Вами поздравления и благопожелания от имени московских жителей, я выражаю им, равно как и Вам лично, Мою душевную за то признательность.
Пребываю к Вам навсегда благосклонный
Александр.
С.-Петербург, 18-го апреля 1872-го года.
Сколько фальши в цели, вызвавшей подобные необычайные слова? Русский царь, пользующийся такой беспредельной любовью, какою еще, быть может, никогда никакой царь не пользовался. Русский царь, в полном обладании такого могущества, которым никогда никакой царь не обладал, не имея тех материальных средств, какими может располагать в настоящее время власть с помощью железных дорог и телеграфов. Такой русский царь считает нужным лебезить перед Москвой. Это не только отсутствие такта, но и признак сознания неправильных отношений к земле[240].
27-го апреля. Мои благоприятели (кто они — мне неизвестно) тиснули сегодня в «С.-Петербургских ведомостях» следующую статейку:
«Немногие читатели знают особого калмыцкого капитала, доходящего до 300 тыс. рублей и собранного с калмыков для устройства больниц, школ и т. п… Мы слышали, что капитал этот уменьшился в настоящее время на 60 тыс. рублей, позаимствованных на легальном основании лицом, недавно еще занимавшим один из административных постов. В прежнее время подобные заимствования, большей частью безвозвратные, не были редкостью, составляя особый вид наших virements de fonds[241]. Но в управлении нынешнего министра финансов случаи эти почти не возникали, и потому повторение их, естественно, обращает на себя общее внимание».
В этой статейке много неверного. 1) Мне разрешено выдать ссуду на 10 лет без % с ежегодной уплатой по равной части не из калмыцкого капитала, а из европейского переселенческого капитала, не имеющего никакого специального назначения и предназначенного в скором времени просто причислению в казну. 2) Эта ссуда не имеет ничего общего и вовсе не похожа на virements de fonds. Самый же капитал не находится и никогда не находился в ведении министра финансов, и сама ссуда мне назначена по докладу Зеленого без всякого сношения с министром финансов. Эти неточности в сообщении доказывают, что газета получила сведения не от чиновников министерства, а из другого источника. Я просил ссуду, не видя в этом никакой особой милости и не думая нарушать какой-либо существенный интерес казны. Не было почти примеров, чтобы люди, занимавшие высшие должности в Министерстве государственных имуществ, оставляли оное без больших материальных наград. Так, Валуев за кратковременное управление им департаментом министерства в должности директора получил в собственность 4700 десятин, Муравьев за кратковременное управление министерством получил 20 тыс. десятин отличной земли[242]. Я уже не говорю о прежних временах, когда земли раздавались почти всем служащим в министерстве. Я не считал себя вправе просить ни земель, ни денежной награды, но не мог упустить представлявшейся возможности уплатить свои частные долги, за которые плачу большие % — казне же возвращу ссуду по частям. Я знаю, что этим пособием будут меня упрекать, но я решился пренебречь этим, потому что не видел другого исхода моему тягостному положению. В течение 20-ти лет я, живя с большим семейством в Петербурге, не только не имел времени заняться собственными делами, но, напротив, должен был по необходимости тратить более, чем получал. К тому же я считаю себя вправе думать, что во время службы моей в Комиссариатском департаменте Морского министерства и в Таможенном ведомстве я доставил казне немало выгод.
30-го апреля. Сегодня единогласно, без баллотировки, меня выбрали директором Учетного банка — на место Валуева, который, получив назначение на должность министра, должен был отказаться в участии в частных кредитных обществах. По предложению некоторых акционеров я выбран без баллотировки единогласно, хотя таким блестящим успехом я обязан тем, что министр финансов Рейтерн выразил частным образом свое желание, чтобы я был выбран. Но, не менее того, я нашел в числе акционеров и влиятельных лиц в Правлении много знакомых мне по прежнему сношению моему с здешним биржевым купечеством во время служения моего в Таможенном ведомстве. Вообще продолжительная моя служба здесь, в Петербурге, и всегда в должностях, ставивших меня в соприкосновение с публикой, приобрела мне ежели не огромное знакомство, то по крайней мере некоторую известность в разных сферах общества. Сегодняшнее единодушие было для меня приятным свидетельством, что общее мнение расположено в мою пользу. В зале акционеров было более 70-ти человек, и большинство мне незнакомых, однако на вопрос председательствовавшего в собрании в последний раз Валуева никто не потребовал моей баллотировки. Этот выбор в материальном отношении очень меня устраивает. Говорят, что при благоприятном течении дела я буду получать от 10-ти до 12-ти тысяч ежегодного вознаграждения. До сих пор все мои попытки нажить что-либо в каких-либо предприятиях так мало имели успеха, что и тут невольно опасаюсь каких-либо неудач, от которых сохрани меня Бог.
1-го мая. Сегодня в Общем собрании Государственного совета читался, наконец, журнал Общего собрания по вопросу о реальных училищах. Очень жаль, что этот журнал не будет напечатан. После продолжительных прений в Особом присутствии, а потом в Общем собрании мнение членов разделилось. Меньшинство — 17 членов — согласились с проектом министра народного просвещения, а большинство предлагало учредить реальные училища с полным образовательным курсом без всяких прикладных наук. Жаль, повторяю, что журналы Общего собрания, в которых прописываются разные мнения и которые, собственно, идут на утверждение государя, не печатаются. Этот журнал будет для потомства настоящим выражением направления дел и того духа, в каком все дела представляются государю. Оба мнения изложены с целью возбудить страх — все собрание редакторов направлено к тому, чтобы доказать страшную опасность и гибельные последствия от принятия мнения противников. Особенно в этом отношении отличается мнение меньшинства — в нем употреблены самые устрашающие выражения и предсказаны самые гибельные последствия, ежели только будет принято мнение большинства. Расчет министра народного просвещения верен, и я не сомневаюсь, что государь согласится с мнением меньшинства. Сегодня объявлено, что государь решился на днях, а именно в субботу, ехать опять в Крым — в Ливадию — и к 30-му мая быть опять назад. Эта поездка не вызвана вовсе какими-либо беспокойствами о здоровье императрицы; напротив, ей, говорят, гораздо лучше, но просто, кажется, от скуки не сидится, и главное — дела сильно надоели.
20-го мая. Вот уже с лишком месяц, что я не у дел, и пока еще не чувствую особой тоски, в которую, говорят, впадают люди, привыкшие к ежедневной служебной деятельности. К тому же занятия в банке хотя не требуют от меня никакого особого труда и не берут много времени, но возбуждают интерес к делу, для меня новому. Обстоятельства, разъясняющие подробности всякой против меня кабалы, более и более разъясняются, и теперь не подлежит сомнению, что Шувалов и К° уже давно обдумали весь план моего устранения от министерства. В окончательном результате все-таки Грейг будет министром государственных имуществ, а назначение Валуева есть только временное. Не менее того, Валуев, вступив в управление, уже начал выкладывать разные штуки. Во-первых, явился в Государственный совет в мундире Лесного ведомства военного покроя, чем возбудил смех и удивление. Во-вторых, при первом же своем докладе представил государю два своих предположения с просьбой рассмотреть их в Совете министров в присутствии государя, но так как государь уехал в Ливадию, то приказал рассмотреть эти предложения в Комитете министров. Первое из этих предположений заключается в том, чтобы назначить под его председательством комиссию для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России. Во всеподданейшем докладе об этом написано много громких фраз вроде следующей: «Вопрос о нынешнем положении сельского хозяйства в России, о его вероятной будущности, о его настоящих нуждах и об органических условиях охранения, преуспевания или упадка нашей сельской производительности есть один из самых трудных, сложных, настоятельных и, несмотря на то, наименее разъясненных современных вопросов» и т. д…
Засим указывается, например, Англия, но это указание вовсе не может служить примером, ибо там, во-первых, парламент, во-вторых — никогда подобные комиссии не находятся под председательством одного из министров, и, в-третьих, самый вопрос, подлежащий исследованию, никогда не ставится в такой общей, всеобъемлющей форме. Сам Валуев не знает, что из этого выйдет, а пустил эту шутку так, для эффекта, в виде фейерверка. Другие его предложения имеют ту же цель, как он мне сказал: «Je veux donner une couleur au Ministère»[243]. Это предложение заключается в том, чтобы в Совете министра государственных имуществ дозволено ему было назначать почетных членов из крупных землевладельцев для обсуждения сельскохозяйственных дел. Надо заметить, что в Совет министра государственных имуществ никаких сельскохозяйственных дел не поступает, и вообще при настоящем устройстве министерства сельскохозяйственная часть вся ограничивается управлением заведениями и утверждением уставов сельскохозяйственных обществ. Все это пуф, и в Комитете министров на всех министров эти предложения Валуева произвели одинаковое впечатление, но это не мешает Валуеву достигнуть цели в глазах государя — этот пуф может показаться признаком полезной деятельности. Я, признаюсь, думал и надеялся, что двухлетнее пребывание Валуева не у дел умудрит его, но, кажется, вышло наоборот — он остался таким же пустозвоном, каким был и прежде. Покойный М. Н. Муравьев в своих записках довольно верно характеризует личность Валуева, называя его государственной ничтожностью. Он говорит: «Валуев — человек не без способностей, но бездушный космополит и преданный одной мысли и желанию воспользоваться европейской известностью и похвалой, хотя бы то было вредом для России, — словом, человек во всех отношениях не верный ни России, ни государю, и можно выразиться — вполне вредный русскому делу». Кстати, о записках Муравьева за время его генерал-губернаторства в Северо-Западном крае скажу, что они в общих чертах справедливы и верно представляют его деятельность, но в суждениях его о великом князе Константине Николаевиче очень много пристрастия. Я это говорю с полным убеждением, ибо, хотя я сам не только не одобряю <ни> действий, ни взглядов великого князя на польский вопрос и даже за это с ним решительно поссорился и разошелся, но тем не менее Муравьев совершенно неправильно судит о побудительных причинах действий великого князя и толкует их пристрастно. Теперь великий князь совершенно изменил свой взгляд и по всем вопросам, до Царства <Польского> и Северо-Западного края касающимся, действует в самом русском смысле. Как произошла с ним эта перемена — об этом я скажу в свое время, когда время позволит мне записать подробную характеристику этого во многих отношениях замечательного человека.
Завтра у нас последнее заседание в Государственном совете — собственно, для подписания журнала прошедшего заседания, а засим начнутся приготовления к празднованию юбилея 200 лет Петра I, который имеет быть 30-го мая.
30-го мая. Сегодня отпраздновали мы двухсотлетнюю годовщину рождения Петра Великого. Праздник удался вполне. Я был в числе прочих членов Государственного совета в крепости, в соборе. По прибытии государя, в 10 часов утра, совершена была на гробнице Петра панихида, по окончании которой государь положил на гроб золотую, выбитую по случаю сегодняшнего празднования, медаль. Исполнив это, государь встал на колени и около минуты стоял с поникшей головой, припав к гробнице. Какой мыслью был он проникнут в эту минуту — неизвестно, но он казался взволнованным.
Через 200 лет и его доблестным делам воздаст благодарность потомство, и его будут величать за освобождение и обновление России, ибо, конечно, после Петра никто не совершил столько коренных реформ, как Александр Николаевич. Но какая разница в характерах, способностях и сознании этих двух властителей! Один был сам творец и исполнитель своих преобразований и умер в работе, скорбя, что не умел совершить все, им задуманное, и увидеть плоды своих преобразований. Другой, как будто случайно и неожиданно, силою вещей влечен был в дело преобразования и уже на полпути устал и готов был отказаться от великих содеянных им дел. Грустно мне было видеть, что из всех деятелей блестящей эпохи царствования государя остались около него только двое — военный министр Милютин и министр финансов Рейтерн, и те не в милости, а держатся по необходимости. Все же прочие близкие теперь люди не только не принимали никакого участия в произведенных реформах, но были и остались к ним враждебными. Не менее того, все-таки дело сделано, и все-таки потомство через 200 лет будет чествовать и славить память Александра II наряду с великими строителями русской земли.
Из крепости, после панихиды, все отправились на пароходах по Неве к Петровской пристани, против памятника Петра I, а оттуда шествие направилось в Исаакиевский собор, где была литургия, а потом молебствие перед па-мятником и парад войск. На Царицыном лугу[244] народные гуляния также очень удались. Всему благоприятствовала погода. Благодаря генералу Трепову народные гуляния с некоторых пор приняли весьма оживленный и благообразный характер.
3-го августа. Вот уже скоро 2 месяца, что я живу в деревне, в Березичах, и наслаждаюсь всеми удовольствиями деревенской жизни. Благодаря вакантному времени Государственного совета я совершенно свободный человек до 15-го сентября и, вероятно, пробуду в отпуску и долее этого времени, ежели поеду за границу. Государь будет в отсутствии, великий князь — тоже, и едва ли к 15-му сентября соберутся все министры, а потому настоящий деловой сезон едва ли начнется прежде октября. Валуев уехал за границу, а на место его назначен управлять Министерством государственных имуществ Грейг — товарищ министра финансов, что и следовало ожидать. Таким образом, вполне справедливы мои предположения, что министром государственных имуществ Шувалов желает сделать Грейга и вся эта комедия с Валуевым сыграна только для того, чтобы облегчить Грейгу возможность заместить меня. Эта весьма ловкая комбинация удалась вполне, и я еще более благодарен судьбе, что вовремя вышел из омута, ибо решительно не считаю себя способным войти в дружбу с компанией Шувалова. Пребывание мое в деревне окончательно успокоило мои нервы, которые, несмотря на мое хладнокровие, раздражались подчас в Петербурге при встрече с лицами не сочувственными. Досихпор я еще не ощущаю ни малейшей тоски от отсутствия занятий служебных, но я чувствовал, в особенности в первое время, какую-то пустоту от отсутствия забот. Меня служебные дела занимали не только во время служебного времени, но я как-то постоянно носил в себе заботу или думу о том или ином вопросе или деле. Теперь же отсутствие всякой заботы о служебном деле есть состояние для меня новое. Деревенская жизнь, с постоянным вниманием к хозяйственным работам и постройкам, так наполняет время, что о другом и думать не хочется. К тому же дела банка, в котором председательствую, очень меня интересуют, и я, по приглашению Гинцбурга, вступил в число учредителей Нижегородского поземельного банка, что может быть весьма полезным и выгодным предприятием. В самом деле я также не намерен играть пассивной роли, а, напротив, приму самое деятельное участие для устройства самого дела на месте. На днях отправляюсь в Нижний. Здесь два раза присутствовал я на мировом съезде и убедился, что мировой суд здесь идет вообще хорошо и народ относится к нему с полным доверием. Мои бывшие крестьяне значительно поправились, мы с ними в самых лучших отношениях. Они поняли и убедились теперь, что я их не обманывал, что устроил быт их лучше, чем по положению, и щедрее всех других помещиков. Они рассуждают теперь со мной о делах с полным доверием как добрые и хорошие соседи. Весьма охотно делают мне за чарку водки всякие прислуги, при этом никаких жалоб, никаких просьб, от которых, бывало, прежде не отобьешься. Так что теперь жить в деревне несравненно приятнее, чем прежде. Постройки мои все еще не кончились — хочется на старость лет приготовить себе теплый угол. Что Бог даст.
14-го ноября. Выехав 30-го августа из Петербурга за границу со старшей дочерью Варварою, я только 28-го октября вернулся обратно. По милости Божией, все благоприятствовало нашему путешествию, и эта прогулка принесла мне и в нравственном, и в физическом отношении большую пользу. В нравственном тем, что доставила мне развлечение, уничтожив последний остаток накопившейся желчи и сгладив самый след неудовольствий и неудач на служебном поприще, так что я чувствую себя совершенно спокойным и примиренным, волновавшие меня вопросы утратили тот раздражительный характер, который вследствие личных столкновений нередко преобладает в делах. И теперь я вступаю на новое для меня — стариковское — поприще со спокойным духом и без малейшего сожаления о прекращении прежней тревожной деятельности. Благодаря Бога, я имею в семье столько утешения, что мне нет надобности иметь лично для себя развлечения в кипучей общественной деятельности, а доброе имя и расположение моих сослуживцев служат мне ручательством в том, что время моей служебной деятельности осталось не бесследным.
В физическом отношении прогулка за границей также доставила мне большую пользу. Я давно не чувствовал себя столь здоровым и бодрым, как теперь.
Не будучи еще совершенно стариком (мне стукнуло 50 лет), я имею утешение в старших детях своих видеть вполне развитых людей.
Мы путешествовали с Вавочкой вдвоем, без человека и без девушки. Два месяца мы таким образом странствовали по Швейцарии, Франции и Италии, я имел утешение ближе видеть и оценить редкие достоинства моей милой Вавочки. Я наслаждался живостью ее впечатлений, дельностью и рассудительностью всех ее замечаний, и при этом она не только не тяготилась всеми трудностями путешествия без прислуги, а, напротив, с большим умением и терпением ухаживала за собою и даже за мной. Прелестная девочка, дай Бог, чтобы она нашла человека, способного ее оценить. Мы из Петербурга, через Берлин, отправились прямо в Швейцарию, в Веве[245], где я оставил Вавочку с княгиней Урусовой, а сам отправился на несколько дней в Париж. Мне любопытно было видеть этот город после недавних еще в нем событий. К удовольствию моему, я нашел в нем очень мало перемены, и по внешнему виду самого города и его жителей едва можно было заметить следы осады и Коммуны. Нельзя сказать того же об остальной Франции. В провинции, и в особенности в южной Франции, как например в Лионе, где мы останавливались с Вавочкой на несколько дней проездом из Женевы в Италию, там отсутствие власти и благоустроенного порядка гораздо заметнее, и общее впечатление, мною из Франции вынесенное, весьма прискорбное. Этой несчастной стране предстоит еще много бедствий. Принцип власти окончательно поколеблен, и нет ни одного живого начала, на которое могло бы опереться правительство. Непримиримый раздор партий есть только внешний признак разложения. В Италии, к моему удивлению, я нашел более живых начал, чем предполагал. Этот народ представляет большие ручательства в том, что победоносно выйдет из временных политических и финансовых затруднений. Единство Италии упрочено, и практический смысл ее тому много содействовал. Из всего романского племени одни итальянцы, кажется, могут еще иметь будущность. Мы жили по нескольку дней в Милане, Венеции, Флоренции, Риме и Неаполе. Везде чудная была погода, и мы вполне наслаждались прелестями природы и искусства. Внезапный разлив нескольких рек в северной Италии замедлил, хотя ненадолго, наш обратный путь. В Вене пробыли мы 3 дня и 26-го октября первый раз почувствовали наступившую осень. На нашей границе и в Варшаве я тронут был вниманием моих бывших сослуживцев[246]. Все они — и в особенности артельщики — встречали и провожали меня со знаками искренней любви. Так как эти манифестации не могли уже теперь иметь никакой корыстной цели, то они были мне очень приятны.
28-го октября мы вернулись благополучно в Петербург, и я застал, благодаря Богу, всех своих здоровыми. В этот же день вернулся и государь из Ливадии. Я поехал в Царское на другой же день и представился царю, причем благодарил его за пожалование во фрейлины дочери моей Елизаветы. Заседания в Государственном совете начались уже давно, а именно 18-го сентября. Но так как я не назначен еще ни в какой департамент, то отсутствие мое не могло иметь никакого значения. Дела же до сих пор в Общем собрании докладываются самые пустые.
Во время моего отсутствия я назначен государем в комиссию под председательством графа С. Г. Строганова для рассмотрения отчета министра народного просвещения. Подобная комиссия назначается ежегодно и не имеет особого значения, тем не менее я был удивлен, что выбор государя пал на меня. До сих пор в делах полное затишье. Цензурное ведомство, пользуясь новым законом, разрешающим ему уничтожить, через Комитет министров, уже напечатанные книги и журналы, широко пользуется этим правом, и Комитет министров, как и следовало ожидать, молчит, хотя, по сознанию всех членов, многие из запрещенных книг не заслуживают этой кары. Общество также, по-видимому, стало равнодушнее ко всем резким проявлениям реакции, это, конечно, еще более поощряет власть имущих без всякого толку и разбору придумывать разные мероприятия.
19-го ноября. Полное затишье в делах общественных. Заседания Государственного совета не представляют ни малейшего интереса, дела на очереди самые пустые. На днях вернулась императрица из Ливадии совершенно здоровою. Двор переехал в Петербург, начинаются общественные удовольствия. Приехала опять пропасть немцев из Берлина к Георгиевскому дню, так как теперь в прусской армии чуть ли не более георгиевских кавалеров, нежели в русской[247].
Валуев выбрал себе товарища — московского гражданского губернатора князя Ливена — человека, кажется, вполне подходящего под стать нынешнего министерства. Хотя Ливен православный, но тем не менее в Остзейских провинциях, конечно, возрадуются этому назначению. Я лично Ливена очень мало знаю, он еще очень молодой человек, но, кажется, без всяких замечательных способностей и вполне безмолвный чиновник. Впрочем, по-видимому, теперь никаких дел, требующих известного направления, в министерствах вообще не производится. Все спорные вопросы обходятся, и возникающие частные случаи разрешаются без отмены изданных постановлений, но в противность им, по соглашению с Шуваловым и по докладу государю; так, закон 10-го декабря о поземельных правах уроженцев Северо- и Юго-Западного края в действительности уже не действует, ибо все просьбы о разрешении завещать и отчуждать имения полякам разрешаются государем по представлению графа Шувалова. Об Остзейском крае и говорить нечего — там уже нет и тени русского правительства.
На днях министр внутренних дел Тимашев, в наивности своей, возбудил, по просьбе редактора «Правительственного вестника», вопрос о том, чтобы в «Правительственном вестнике» печатались бы мотивы издаваемых указов в тех случаях, когда Государственный совет признает это удобным и нужным. Казалось бы, что может быть невиннее подобного предложения? Однако для обсуждения этого вопроса государь назначил особую совещательную комиссию из нескольких министров под председательством великого князя, и когда эта комиссия выработала самые невинные по сему правила, то и тут государю это показалось чересчур либеральным актом, и он, не скрывая этого мнения, велел еще раз рассмотреть этот вопрос в Комитете министров. Самая мера столь ничтожна, что не стоит малейшего внимания. Всегда прежде, не только при Екатерине, Александре, но и при Николае, все указы печатались в «Сенатских ведомостях» и в «Полном собрании» с мотивами, и только в конце царствования Николая граф Панин, будучи министром юстиции, изменил, неизвестно почему, этот порядок и признал более удобным просто писать: «Государь император высочайше повелеть соизволил»… а почему? — Неизвестно. Это неудовольствие государя показывает ясно, в каком духе он настроен, и я убежден, что скоро виновники этого настроения сами раскаются и увидят, что зашли слишком далеко. Ибо на пути недоверия и страха трудно остановиться. С наступлением зимы опять начались аресты разной молодежи, — за что и про что — никто хорошенько не знает. Впрочем, в заведениях, подведомственных Министерству государственных имуществ, все обстоит благополучно, ибо со времени выхода Зеленого и моего из министерства все шуваловские доносы на эти заведения прекратились. Я очень рад за бедную молодежь, невинно страдавшую за нас.
Недавно я слышал от человека, близко знакомого с Шуваловым, что он меня терпеть не может. Я вполне этому верю и вполне разделяю это чувство, хотя между нами никогда не было личных, вне дел, отношений. Его влияние на государя я считаю пагубным, средства употребляемые — в высшей степени безнравственными и бесчестными. Но что всего изумительнее и возмутительнее — это то, что нельзя в действиях его отыскать какой-либо мысли или заботы об общественном благе. Ежели бы я видел в нем человека с каким-либо направлением, даже совершенно мне противным, то мог бы примириться с ним в надежде, что он более меня dans le vrai[248]. Но ничего в нем нет, кроме желания властвовать и держаться, обрабатывать делишки дня, устраняя затруднения, не заботясь нимало о том, что из всего этого выйдет впоследствии. Едва ли кто может сказать, чего он хочет. При полном невежестве он или не хочет, или не может понять смысла произведенных реформ, а потому он и не думает об их отмене или изменении. Вся мелочная реакция его ограничивается проделками частных случаев, он не видит или не хочет видеть, какой хаос готовится в будущем.
3-го декабря. На сих днях я представлялся царице. Она со мной беседовала с четверть часа, и я нашел ее совершенно здоровою. Говорили единственно о моем и ее путешествии. Ни единым вопросом или словом не намекнула она о перемене, происшедшей в моей службе, хотя при назначении товарищем министра она выразила мне свое особенное удовольствие и надежду, что я останусь в составе высшего управления. Впрочем, из любезного ее ко мне отношения я мог заметить, что она по-прежнему ко мне расположена. Это побудило меня сказать ей, что так как теперь у меня много свободного времени, то я прошу ее располагать мною, и что ежели она признает меня на что-нибудь годным, то я готов ей служить. Она с живостью поняла мой намек, благодарила и сказала, что воспользуется моим предложением, потому что она в былое время несколько раз жаловалась мне, что ей трудно найти людей для заведования и управления разными благотворительными заведениями, в ее ведении состоящими, и сожалела, что я слишком занят по другими делам. Однажды даже она призывала меня, чтобы дать ей совет, кого бы назначить, чтобы заведовать Гатчинским институтом, так как граф Ламздорф вследствие каких-то неприятностей отказывается от дальнейшего заведования, а принц Ольденбургский предлагал ей на это место генерала Языкова — директора Училища правоведения, о котором она не имела высокого мнения. Я вообще не думаю, чтобы люди, участвовавшие в реформах первого периода царствования, были ею также заподозрены, как они заподозрены во мнении государя. Она сама в этот период имела все более влияния на государя, более интересовалась делами, чем теперь. Она стоит совершенно в стороне, и на дела семейные даже имеет, по-видимому, очень мало влияния.
Россия ее совершенно не знает, хотя она более русская, чем все, ее окружающие. Она отлично говорит по-русски, и не только усвоила язык русский, но замечательно ясно понимает особенности нашей жизни. В этом помогает ей искреннее православное убеждение. Я имел неоднократный случай удивляться ее верному чутью и пониманию многих вещей, редко доступных пониманию иностранцев. Два года, почти ежедневно, в течение вечеров я читал ей всегда русские литературные произведения и могу положительно сказать, что мало знаю русских женщин, которые так ясно и верно понимали тонкие стороны читанного.
12-го декабря. Завтра я еду в Москву. Получив 9-го известие о внезапной кончине Алексея Александровича Лопухина, я не мог поспеть на похороны, но хочу повидать бедную сестру, которая уже почти год постоянно при смерти больна, и этот окончательный удар, вероятно, поразил ее. Из Москвы намерен заехать в Саратовскую губернию, в имение, где умер управляющий и нужно посмотреть на хозяйство. Уже несколько дней говорят о серьезной болезни наследника, а сегодня положительно сделалось известным, что у него тиф. Говорят, завтра начнут печатать бюллетени. В городе тоже носятся достоверные слухи о том, что английское правительство прислало нам весьма резкую и сильную ноту, протестуя против намерения нашего идти на Хиву. Этого никак нельзя было ожидать, ибо в последнее время Англия как будто совершенно не только успокоилась насчет действий наших в Малой Азии[249], но даже пришла к убеждению, что интересы наши на Дальнем Востоке тождественны. С чего вдруг подымается эта буря — неизвестно. Не может быть, чтобы Англия одна решилась бы на подобный протест. Тут Бисмарк непременно втихомолку действует. Говорят, на днях едет в Лондон с особым поручением граф Шувалов, который, по-видимому, делается делателем по всем частям. Эта поездка или действительно имеет значение, или устроена самим Шуваловым для получения министра иностранных дел.
Горчаков несколько раз говорил мне, что Шувалов метит на его место, но я этому не верил. Как бы то ни было, но, по-видимому, дела усложняются, и ежели Бисмарк действительно тут участвует, то быть беде. Ибо для Пруссии самое теперь удобное время вступить с нами в бой. Он лучше нас знает, как мы мало готовы к войне. Франция теперь не в состоянии оказать нам никакой помощи, а Австрия будет против нас, заодно с Пруссией. Сохрани нас Бог от подобной беды, но самая важность ее не охладит ли нас от безрассудной любви к Пруссии?
31-го декабря. В самый день Рождества Христова воротился я в Петербург. В Москве пробыл я два дня, видел бедную сестру Лопухину, с изумительной силой переносящую горе. Здоровье ее хотя еще в самом жалком положении, но, благодаря Богу, не ухудшилось. В Москве застал я полный санный путь, а в Саратовской губернии, где со станции Ртищевой сели в сани, нашел прекрасный зимний путь при порядочном морозе. В деревне и Пензе пробыл двое суток и тем же путем вернулся в Петербург, где опять нашел совершенное отсутствие снега и погоду осеннюю, которая продолжается до сих пор, к великому всех неудовольствию. Я не запомню такой гнилой зимы — говорят, сегодня Нева местами разлилась. Все это как-то необыкновенно и предвещает что-то недоброе. К счастью, здоровье наследника видимо поправляется, и уже теперь нет никакой опасности. О цели поездки графа Шувалова в Лондон никто хорошенько ничего не знает, и в иностранных газетах о ней ничего не сказано.
Третьего дня получено здесь известие о кончине Наполеона III. Он умер после операции извлечения камня. Так кончилась карьера этого необыкновенного человека, в течение последних 20-ти лет распоряжавшегося судьбою Европы. Постыдный конец его царствования представляется жестокой карою за все совершенные им неправды. Но Франция к нему несправедлива. После 20-ти лет небывалого почти могущества она пала, хотя и под державою Наполеона, но в ошибках последней войны не он один виноват, тогда как ему одному или его инициативе одолжена Франция 20-летним благоденствием. Со смертью его партия империалистов во Франции едва ли ослабеет. Сын его останется знаменем, около которого еще, может быть, с большею силою будут группироваться империалисты. Нам, русским, покойный император много причинил зла, но он в то же время был орудием Провидения и для многого хорошего, ибо без Крымской войны едва ли бы мы очнулись и стали бы на путь тех реформ, которыми преобразовалась Россия в настоящее царствование. Сегодня последний день 1872-го года. Для меня этот год будет памятен. В этот год я перешел за 50 лет своей жизни и, с назначением в члены Государственного совета, вступил уже и по кругу своей деятельности в разряд стариков.
Сегодня получил я от государственного секретаря уведомление, что именным высочайшим указом назначен я к присутствованию в Департамент законов. С этим назначением увеличится круг моей служебной деятельности. Не знаю, хватит ли у меня настолько благоразумия, чтобы подчиниться условиям необходимости и равнодушнее относиться к делу. Мы так радикально расходимся с председателем <Департамента> законов князем Урусовым в направлении и во всех взглядах на дело, что столкновения будут неизбежно. Сила же ни в каком случае не будет на моей стороне, я это вполне сознаю, тем не менее пробую действовать по совести и по крайнему своему разумению.
1873 год
1-го января. По случаю болезни наследника, которому, впрочем, гораздо лучше, не было сегодня при дворе никакого выхода. Новостей тоже никаких нет. О моем назначении в Департамент законов напечатано сегодня в «Правительственном вестнике». В непродолжительном времени будет внесен в Государственный совет новый проект новой реформы военной об обязательной воинской повинности. Этот вопрос, случайно поднятый, так мало вяжется с теперешним настроением правительства, что я решительно не понимаю, что из всего этого выйдет.
9-го января. Грустно для меня начинать год. Сегодня, в 2 ч. пополудни, скончалась великая княгиня Елена Павловна. Вчера, приехав на бал к графу Толстому — министру народного просвещения, я узнал, что государь прислал сказать, что не может быть на бале по случаю весьма опасной болезни великой княгини. Это известие тем более поразило меня, что еще днем, а именно в 4 ч., я заезжал в Михайловский дворец к княжне Львовой узнать о здоровье великой княгини, которая с самого возвращения своего из Флоренции постоянно хворала и очень ослабела. Княжна Львова меня удостоверила, что великой княгине лучше и что ничего особенно серьезного нет. Вечером, в 8 ч., она вдруг почувствовала большую слабость, началась рвота, после которой силы внезапно так упали, что доктора ожидали кончины. Оставив бал, я отправился в Михайловский дворец, было уже около часу ночи, тут застал всех в сильном беспокойстве. Государь и императрица приезжали, но великая княгиня уже никого не узнавала и ничего не говорила. Около 2-х часов, вероятно, вследствие мускуса пульс немного поднялся, и доктор получил некоторую надежду. Я уехал домой. Сегодня утром, в 12 ч., приехав во дворец, я застал всю царскую фамилию, ожидавшую кончины каждую минуту, ибо доктора объявили, что конец близок. Больная никого не узнавала. Ее приобщили святых тайн, и она тихо, по-видимому, без страданий, скончалась около 2-х часов пополудни. В комнату, где покоилось тело, я вошел, как только оттуда вышла царская фамилия. Покойная лежала в кровати еще теплая и со спокойным выражением лица.
Грустно, очень грустно мне было целовать охладевшую руку женщины, которая в течение 26-ти лет была ко мне так добра и так внимательна, что едва ли кто-либо другой из приближенных к ней так долго и постоянно был при ней в милости. Эта замечательная женщина оставит по себе прекрасную память и, конечно, вполне заслуженную. Когда припоминаю прошлое за 25 лет, то не-вольно слезы льются. Не только ко мне, но и ко всему моему семейству она относилась, как нежная мать. К сожалению, в последние 3 или 4 года расстроенное ее здоровье и другие несчастные влияния во многом изменили ее не только ко мне, но и ко всем прежним друзьям ее. Но эта случайная перемена не должна омрачать моих воспоминаний. Сегодня я получил от Головнина записку следующего содержания:
«Вы были более кого-либо близки к великой княгине Елене Павловне и лучше кого-либо знали ее. Ваше чуткое ухо слышало и восприимчивое сердце понимало все прекрасное, которое в ней было, — ее сочувствие ко всему доброму и сильное стремление делать добро, ее любовь изящного, возвышенного, ее уважение к науке и постоянное желание приобретать новые знания. Едва ли можно представить полную картину всего сделанного ею добра и принесенной пользы и назвать всех, которым она оказала то или другое содействие, но дать понять это России и русским Вы могли бы лучше всех. Эта была бы заслуга с Вашей стороны перед всей императорской фамилией, ибо теперь, больше чем когда-либо, полезно рассказать России те хорошие дела и хорошие стороны, которые встречаются у родных государя. Поторопитесь написать, под влиянием Вашего личного горя, некролог усопшей великой княгини».
Подробная, полная биография должна быть трудом продолжительным, огромным, многих лиц, трудным, который займет место в истории России и в истории прекрасного. Головний прав, хорошее бы дело написать такой некролог, но к тому нет у меня надлежащих материалов, не чувствую также за собой довольно талантов, чтобы изобразить личность, подобную великой княгине, т. е. говорить о добре и высоких чувствах и не сделаться пошлым. Но сегодня я попробую написать коротенькую статейку для газеты, чтобы помянуть покойную хотя бы добрым словом.
Вот как объявлено сегодня в газетах о кончине великой княгини. Я послал в редакцию газеты «Голос» маленькую статейку, которая завтра будет напечатана. Сегодня вечером была первая парадная панихида, тело из спальни перенесли во гробе в домовую церковь. В субботу будет вынос в крепость[250], а в понедельник будут похороны. Хотя я ожидал, что о покойной будут вообще сожалеть, но не думал, чтобы скорбь была так вообще сильна во всех классах общества.
11-го января. Сегодня напечатана в «Голосе» статейка, которую я туда послал. Она вылилась у меня из сердца. Вот она:
С.-Петербург. 10-го января 1873-го года. «Голос».
Вчера распространились по городу сперва тревожные слухи о состоянии здоровья, а потом о кончине Ее Императорского Высочества великой княгини Елены Павловны…
Угасла жизнь, полвека посвященная (Ее Высочество изволила прибыть в Россию почти 50 лет назад, а именно в сентябре 1822-го года) добру, милосердию, любви к заботам о благах России. Угасла жизнь, полвека озарявшая России путь наукам, искусствам и всему прекрасному.
Вместе с Царственною Семьею глубоко и искренно скорбит Россия о понесенной утрате.
Высокое имя в Бозе почившей великой княгини так тесно связано со всеми благотворительными и общеполезными учреждениями, что едва ли найдется отдаленный край в России, где имя это не вызвало бы благодарных воспоминаний и молитвенных благословений.
Благотворная деятельность покойной великой княгини видоизменялась такими тонкими оттенками ее пылкого, любящего и, если можно так выразить, умного сердца, что с кончиною ее осиротели не только созданные ею учреждения, но и множество облагодетельствованных ею лиц. Щедрая рука усопшей никогда не оскудевала, но, сверх того, в высоких порывах ее любящего сердца хранилась еще тайна той живительной силы, которая действует на человека нравственно, ободряя и одушевляя его на пути правды.
Жизнь и деяния оплакиваемой нами великой княгини принадлежат Истории. Правдивая и нелицеприятная История укажет на те стороны деятельности и на те черты ее характера, о которых мы ныне, перед отверстым еще гробом, говорить не дерзаем.
Как вся жизнь усопшей была светла, честна и правдива, так да будет светла наша молитва и честна наша о ней память…
Статейка моя вообще понравилась всем близким покойной. Сегодня она переведена в «Немецкой газете».
Завтра назначен вынос из Михайловского дворца в крепость. 20-градусный мороз всех пугает. Я должен буду с Государственным советом идти пешком. Жутко будет.
15-го января. Сегодня похоронили великую княгиню. При перенесении ее из дворца в крепость хотя было холодно, но идти пешком в теплых шубах было весьма сносно. Теперь, кажется, уже не может подлежать сомнению, что покойная не только не оставила никакого завещания, но даже ни малейших слов о каких-либо посмертных распоряжениях. Это меня крайне удивляет, потому что я знаю, как покойница заботилась об обеспечении созданных ею благотворительных и полезных учреждений. Сколько раз она мне об этом говорила. Вероятно, она откладывала со дня на день писание своего завещания и, без сомнения, рассчитывала, что по случаю ее юбилея в нынешнем году ей удастся выпросить у государя какое-либо содействие к обеспечению заведений, так как собственных ее средств к этому не хватало, и она вынуждена была лишить дочь свою — великую княгиню Екатерину Михайловну — части наследства. Это обстоятельство еще увеличивает скорбь об усопшей, и потеря ее делается еще чувствительнее для многих.
29-го января. Сегодня я обедал у государя. Кроме меня, обедали генерал-адъютант барон Ливен, которому сегодня, по случаю его 50-летнего юбилея, дали Андрея[251], фельдмаршал граф Берг и Титов. Императрица со мною была очень любезна и благодарила за мою статейку в «Голосе» о великой княгине. За обедом был, по обыкновению, пустой разговор о разных разностях. Я сидел между великой княжной Марией Александровной и великим князем Владимиром. С княжной я много разговаривал и нашел, что она очень развилась и сделалась много разговорчивее и любезнее. По-видимому, слухи о том, что она выходит замуж за принца Альберта Английского, не оправдываются.
Завтра великий князь Константин Николаевич вступает в должность президента Русского музыкального общества, о чем его просило Общество; он просил меня быть вице-президентом на том основании, как я был три года назад при великой княгине Елене Павловне; я на это охотно согласился, ибо мое посредничество может быть полезно для восстановления согласия в консерватории, где в последнее время развелись личные дрязги.
В Москве вновь прибывший генерал-губернатор Дурново, отличающийся вообще глупостью, наговорил при первом своем приеме дерзостей городскому голове и советникам Губернского правления, после чего городской голова, только что вновь избранный на основании нового Городского положения, подал в отставку Из этого выходит скандал, который, вероятно, не останется без последствий, ибо, говорят, все московское общество обижено этой выходкой.
4-го февраля. Московская история с городским головой Ляминым и губернатором Дурново принимает, как и следовало ожидать, размеры полного скандала. В сегодняшнем номере «Современных известий» описано это событие в хронологическом порядке следующим образом:
Голова и губернатор. (Летопись 10-ти дней)
Нижеследующие сведения большей части московских жителей известны одним в более точном, другим — в преувеличенном и искаженном виде. Мы ограничиваемся почти исключительно фактами, которые уже попали в печать, и, сверх того, воздерживаемся от всякого суждения. Излагаем в хронологическом порядке:
24-го января. Московский городской голова Лямин был с визитом у новопосту-пившего гражданского губернатора — генерала Дурново и оставил ему карточку.
25-го января. Утром общий прием у губернатора. Вечером разносится слух по городу, что губернатор высказал при приеме удивление, что в числе представляющихся нет головы.
26-го января. Идут слухи, что вследствие губернаторского приема два советника губернского правления уходят в отставку. («Русский мир» во вчерашнем номере называет этих советников — это Мейен и Тимирязев. Но на деле, по-видимому, подал в отставку после приема один г. Тимирязев, а г. Мейен подал просьбу еще до приема.)
Представляется губернатору голова. Подробности представления описываются корреспондентом «Русского мира» в следующих словах:
«Когда явился к генералу Дурново городской голова, то Дурново спросил у него:
— Вы здешний городской голова?
— Да, Ваше превосходительство, я городской голова.
— Вы, кажется, уже вторые выборы служите?
— Вторые, Ваше превосходительство.
— Как же Вы, служа вторые выборы, не знаете порядка подчиненности? Как Вы могли себе позволить не явиться на общее представление мне служащих лиц?
— Я, Ваше превосходительство, имел честь у Вас быть третьего дня и, не застав Вас дома, оставил свою визитную карточку.
— Да как Вы могли позволить себе приехать ко мне как частное лицо?
— Ежели бы Ваше превосходительство посмотрел мою карточку, то Вы бы увидели, что к Вам приезжал городской голова, а не частное лицо.
— Так Вам, вероятно, неизвестно, что для подчиненных лиц, не знающих начальника, заведены книги, в которых они расписываются, а не оставляют свои карточки. Потом, позвольте Вас спросить, что значит этот фрак?.. Вы, быть может, тоже не знаете, что городскому голове присвоен мундир, в котором он должен представляться начальнику?
— Ваше превосходительство, на основании Городового положения… заикнулся было городской голова.
— Прошу Вас покорнейше мне не указывать на Городовое положение. Я законы знаю лучше Вас. Потому, вероятно, и поставлен, чтобы наблюдать за исполнением их Вами, а не от Вас принимать указания.
— Я и хотел сказать, Ваше превосходительство, что на основании Городового положения губернатору предоставлен надзор за правильным применением законов по Городовому управлению, и я уверен, что пока я буду городским головой, Ваше превосходительство не будет иметь повода находить действия городского головы неправильными.
— А я бы желал меньше слышать слов, а больше видеть дела… У Вас есть товарищ. Кто у Вас выбран товарищем головы? Скажите ему, чтобы он явился ко мне, и в мундире.
— Ваше превосходительство, я должен…
— Я больше ничего не желаю Вам сказать. Прощайте». Вечером в тот же день разносятся подробности эти по Москве, и притом с разными прибавлениями. С тем вместе переходят из уст в уста подробности вчерашнего приема.
Голова тем же вечером рассказывает своим приближенным о намерении своем выйти в отставку. Слух тоже разносится.
27-го января. «Русские ведомости» передают слух о намерении головы. Объясняют, что это намерение принято непосредственно после представления губернатору, но что передавать подробности еще преждевременно. (Отставка действительно еще не была подана, когда выходил номер «Русских ведомостей».)
В тот же день голова действительно подает просьбу об увольнении. Городские слухи продолжаются и растут, украшаясь разными подробностями.
28-го января. «Московские ведомости» и «Современные известия» повторяют, со слов «Русских ведомостей», слух об отставке головы… «Голос» печатает о московском происшествии телеграмму. «Русские ведомости» дают руководящую статью[252], в которой излагают, что дело стало из-за вопроса, когда быть голове у губернатора — 24-го или 25-го числа, оставить карточку или расписаться в книге, явиться во фраке или в мундире. Газета изъявляет прискорбие, что вопрос о городском самоуправлении поставлен на такую мелкую почву.
Того же числа мировые судьи Москвы, в полном составе — 38 человек, представляются г. Лямину. Почетный мировой судья — Тарасов — произносит речь, в которой выражает сожаление о случившемся событии и о намерении г. Лямина оставить службу.
29-го января. Номер «Современных известий» арестовывается. В городе толкуют, что задержание последовало за статью, очень резкую, об отставке головы, что дело не обошлось задержанием одного номера, но газета-де приостановлена, редакция и типография закрыта, и даже редактор под стражей. (Понятная причина не позволяет нам приводить истинные подробности. Мы ограничимся поправкою сведений, сообщенных вчера «Русским миром». № остановлен <не> на числе 7000, как сообщает газета, а всего 933 экземпляров, из которых притом 500 отпечатаны были только в одну сторону. Редакция предуведомлена была о сомнениях цензуры довольно ранним утром и тотчас же, во избежание излишних убытков, распорядилась не только не выпускать ни одного экземпляра, но приостановить печатание.)
Многих газетных разносчиков берут в 1-й квартал Мясницкой части. Осматривают, нет ли у них задержанного номера «Современных известий», но, не находя, отпускают. Городовые ходят по домам — не поданы ли им «Современные известия», и успокаиваются ответами, что таковых ни у кого не имеется.
30-го января. «Голос» помещает телеграмму о представлении мировых судей и об аресте нумера «Современных известий».
Является руководящая статья в «Московских ведомостях». Она обращает происшествие в смех и готова предположить, что губернатор просто пошутил над головой.
Вольно же было городскому голове столицы ставить себя в подчиненное губернатору положение и являться к нему наравне с чиновниками его канцелярии, но без соблюдения при этом обычных формальностей. Очень может быть, что над ним пошутили, с тем чтобы дать ему почувствовать неловкость добровольно принятого им положения. Рассказывают, что к некоторым профессорам университета, участвующим (добровольно) в комиссии, где председателем губернатор, были разосланы повестки с приглашением, чтобы они явились представиться ему. Но профессора сочли это за ошибку, не приняли приглашения, и потом никакого неприятного столкновения между ними и губернатором не было. Гражданский губернатор есть, бесспорно, начальник губернского правления и вообще тех должностных лиц, которые находятся от него в зависимости. Сверх того, он является во вверенной ему губернии представителем центральной власти и потому пользуется особым почетом и имеет право приглашать для объяснения должностных лиц, не ниже его стоящих в служебной иерархии и не находящихся ни в какой от него зависимости. Но Москва не Харьков. В Москве есть высшее правительственное лицо, представляющее центральную власть. Это лицо есть генерал-губернатор. К нему как к главному органу центральной власти в торжественные дни собираются с поздравлениями не только непосредственно подчиненные ему чиновники, но и все начальствующие лица столицы, в том числе и губернатор. При генерал-губернаторе значение губернатора сокращается до весьма скромных размеров.
Являлся ли представляться новоприбывшему губернатору московский обер-полицмейстер? Конечно, нет. А в Рязани или в Харькове полицейские власти обязаны представляться губернатору как своему начальству.
Напротив, новоприбывший губернатор, по долгу вежливости, поспешил сделать визит и обер-полицмейстеру, и попечителю учебного округа, и его помощнику, и членам судебных учреждений, и многим другим лицам. Нет сомнения, что он сделал бы визит и городскому голове, если бы тот не поспешил представиться ему. А не почтили бы его посещением, он имел бы только одним знакомством менее, что еще не большая беда.
Газета заключает сожалением, что шутка, на которую нарвался голова, задевает в его лице все городское общество, избравшее его своим главным представителем, а это вызывает затруднения. Москва толкует об этой статье, продолжая толковать о происшествии. Более достоверно знающие историю не упускают заметить, что самый факт, на котором строят «Ведомости» свое заключение, неверен, ибо предполагают, что голова явился в общий день приема, и притом по доброй воле.
В тот же день, около вечера (в 4 часа), потянулись к дому городского головы с визитом гласные думы почти в полном составе, и притом единовременно.
31-го января. Появляются о московском происшествии руководящие статьи в петербургских газетах. «Голос» (№ 31) рассуждает о том, в каких отношениях стоит городской голова к гражданскому губернатору по «Городовому положению», и приходит к выводу, что «Положение» обеспечило независимость городского головы и городского управления, но что на практике может происходить иное, потому что никакой мудрый и точный закон не может положить <предел> личной начальственной притязательности. Поводы же к такой притязательности, замечает газета, нетрудно найти на каждом шагу.
Так, например, губернатор, не имея <права> официально делать внушений городскому голове, может, однако, войдя ошибочно в роль прямого начальника, распечь его за непоявление там, где он не обязан быть. Может обойтись с ним повежливее, чем с каким-нибудь писцом уездного присутственного места, и даже наделать ему замечаний насчет его одежды и т. д… Подобного рода факты, каков бы ни был их исход, чрезвычайно прискорбны, т. к. они разрушают ту стройность и то единомыслие, какие современное наше законодательство стремится установить между представителями общественных прав и интересов. В таких актах проглядывают прежде всего старые, отживающие свое время понятия, и очень желательно, чтобы они поскорее исчезли, оставив о себе одно только темное представление…
Другая газета — «Русский мир» (№ 29) — посмотрела на происшествие совершенно обратно. По ее мнению, напротив, голова не имеет и малейшего права видеть в требовании губернатора притязательность, и что губернатор был совершенно прав.
Городской голова, по новому, высочайше утвержденному, Городовому положению, находится в известных случаях даже в прямой подчиненности губернаторам. Так, городской голова состоит только членом губернского по <городским> делам присутствия, председателем которого, по новому Положению, состоит губернатор. Известно, что представители земства находятся в более самостоятельном отношении к губернским административным властям, вследствие чего, например, председатель Губернской земской управы не имеет мундира для ношения его во время исправления своих обязанностей, в то время как коронный мундир[253] обязаны носить новые городские головы.
«Русский мир» изображает притом и самые толки в Москве в ином виде. Он находит в Москве порицателей решения, взятого головою:
«Москва разделилась теперь на два лагеря. Одни безусловно порицают выход в отставку г. Лямина, другие же, сожалея об этом грустном случае, находят, что нельзя не скорбеть при виде того, как у нас, иной раз, никому не обременительной и в сущности невинной форме, некоторые лица, избранные обществом, приносят в жертву лучшее из прав, дарованных выборами, а именно — право прежде всего быть полезными избравшему их обществу. Видно, долго еще мы будем <думать> более о форме, чем о том, что кроется под этой формой».
«Русскому миру» отвечают «Биржевые ведомости» и стыдят ретроградную газету за ее всюду обнаруживающиеся поползновения.
1-го февраля. «Московским ведомостям» отвечают «Русские ведомости», замечая, что до сих пор, сколько известно, никому в Москве занимающая ее история не представлялась в виде шутки. Была бы странная шутка — компрометировать представителя городского управления. Университетская газета[254] нехорошо рекомендует свое отношение к городскому представительству, когда полагает, что достоинство его очень легко может быть подводимо под обух любым шутником.
2-го февраля. «Московские ведомости» защищаются от «Русских ведомостей», что они не думали ничего сказать против городского головы, ни тем не менее против достоинства городского представительства, что всякий в их словах мог усмотреть иронию, с которой они говорили о губернаторе. Газета стоит на том, что голова не есть подчиненный губернатору, хотя губернатор и председательствует в губернском по городским делам присутствии[255].
Надо признаться, что надо особое мытарство наших молодых администраторов-генералов, чтобы заварить такую глупую историю. Высшая же администрация считает своим долгом поддерживать своих агентов во что бы то ни стало, даже во всех творимых ими глупостях. Это называется поддерживать достоинство правительства.
Надо сказать, что Дурново принадлежит к тем юным и светским генералам, которые по связям и богатству вдруг выдвинулись вперед и, никогда и ничем не занимаясь, стали кандидатами на высшие административные места. Не имея никакого понятия ни о новых реформах, ни о прежнем порядке вещей, они по примеру и с голоса старших таких же генералов считают bon genre[256] ругать все новые реформы и относиться к ним враждебно. В губернских должностях они враждуют с судебным управлением и с земством, а теперь, с изданием нового «Городового положения», они считают своей обязанностью видеть в самостоятельности городского управления враждебное правительству начало. Более или менее резкое выражение этого направления зависит от личного характера и такта каждого лица, но общее направление дается сим юным администраторам свыше, от министерства.
Нет никакого сомнения, что и генерала Дурново науськали против московского, будто, дурного духа здесь, в Петербурге, а он сдуру и начал рубить сплеча. При этом же он косноязычен и с виду не только некрасив, но и не представителен и, вероятно, говорил тоном, возмутившим слушателей. Говорят, выбор Дурново в должность московского губернатора сделан самим государем — при этом принято в соображение, что у Дурново 600 тыс. годового дохода, что у него милая жена и что поэтому дом его мог бы быть для московского общества всегда открытым и приятным. Сам же Дурново был уже самостоятельным губернатором в Харькове, а потому считал понижением звание московского губернатора, который при генерал-губернаторе далеко не имеет того значения, как губернатор в провинции. Он надеялся, а может быть, ему и было обещано, что он останется в Москве генерал-губернатором, когда уйдет князь Долгоруков, против которого уже давно и Тимашев, и Шувалов интригуют. Все эти обстоятельства, вероятно, и настроили Дурново на тот фальшивый тон, с которым он отнесся к городскому голове и чиновникам. Надо сказать, что Лямин, новый городской голова, избран был в эту должность при особом старании правительства, которое предпочитало его другому баллотировавшемуся кандидату — князю Щербатову, а потому неловкость выходки Дурново еще становится глупее. Теперь, как и следовало ожидать, начинают здесь распускать слухи и представлять государю, что Лямин действовал по наущению других, что главные действующие лица в этом, как и во всех московских делах, суть: Самарин, князь Черкасский и К°, Щербатов, но в особенности укоряют Долгорукова, что будто он устроил весь этот скандал, желая повредить Дурново. Как бы то ни было, но здесь, кажется, решились официально поддержать Дурново, принять отставку Лямина и затем быть готовыми к новым разного рода манифестациям московского общества. Теперь не может быть сомнения, что ежели Лямин не пойдет вновь баллотироваться в головы, то никого не выберут, а засим, ежели по необходимости назначат голову от правительства, то все члены Думы подадут в отставку.
Хотя в конечном результате все-таки ничего из этого не будет, но вся эта история свидетельствует о ненормальном отношении правительства к совершенным реформам. Вредная сторона этого направления заключается в особенности в том, что всем этим реформам само правительство в самом начале искусственно дает вредное для себя направление — оно создает антагонизм там, где ему нет причины быть. Эту скверную закваску не скоро можно будет исправить даже при разумном действии правительства. С детства самой мамкой зашиблены все наши новые учреждения. Нельзя без досады слушать, как мелко и легко судят почти все высшие наши власти о всех общественных проявлениях. Единственно только одна анекдотическая сторона дела занимает их. Но что всего удивительнее — это то, что при подобном настроении правительства и явном нежелании государя и его присных уступать в чем-либо требованию времени и новых учреждений, казалось бы, надо сидеть спокойно и не подымать новых и существенно важных вопросов, однако — нет… Вопросы эти поднимаются и дают даже такие последствия, которые неминуемо подвинут целый ряд новых вопросов, прямо противоположных духу и намерениям правительства.
Так, например, находится на рассмотрении Государственного совета проект министра внутренних дел о гражданском браке раскольников. Мало того, что этот вопрос, можно сказать, искусственным образом поднят был Валуевым во время управления им Министерством внутренних дел, — он разработан весьма поверхностно, и в самом проекте закона слышится какая-то боязнь назвать дело по имени, чтобы отнюдь не показалось бы оно принятием со стороны правительства принципа гражданского брака, тогда как, в сущности, для раскольников предполагаемая мера есть не что иное, как гражданский брак. Эта боязнь собственного либерализма заставляет идти дальше, чем нужно, таким образом, проект отвергает всякую формальность при регистрации раскольнических браков и при узаконении уже рожденных вне брака раскольников — из этого на практике могут выйти весьма важные последствия и раскол на практике ставится в весьма привилегированное положение. Весь смысл и дух нового проекта так проникнут сознанием необходимости изменить в корне прежнее отношение нашей церкви и законодательства к расколу, и в нем проводится так радикально начало свободы совести, что, казалось бы, что при общем противоположном настроении правительства по отношению ко всем остальным вопросам не должно бы быть места подобному взгляду на свободу совести. Последствия этого противоречия обнаружатся весьма скоро — лишь только закон войдет в силу и логические его последствия выразятся, то к ним правительство отнесется вновь враждебно.
25-го февраля. Вот каким официальным актом разрешается столкновение московского городского головы с губернатором:
Циркуляр министерства внутренних дел губернаторам.
С.-Петербург, 9-го февраля 1873-го года.
№ 385.
Вследствие возникших недавно сомнений по поводу тех отношений, в которых должны состоять городские головы к начальникам губерний, с высочайшего государя императора разрешения, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что по смыслу подлежащих статей закона о пространстве и пределах власти губернаторов — (II т. Св. Зак. Общ. Губ. Учреж.), а равно высочайше утвержденного 16-го июня 1870-го года «Городового положения» (ст. 1, 5, 29, 56, 68, 98 и 106), городские головы подведомственны губернаторам на том же основании, как и другие лица, служащие в губерниях по выбору. Из сущности же этого положения истекает, что городские головы оказывают губернатору, коему присвоено право надзора за законным исполнением городским общественным управлением возложенных на него обязанностей, должное уважение как представителю высшей правительственной власти. На сем основании, а равно и ввиду того, что городским головам, согласно ст. 98 «Городового положения», присвоен мундир по высочайше утвержденному образцу, а именно мундир, установленный для всех чинов ведомства Министерства внутренних дел, званию городского головы приличествует ношение сего мундира во всех тех случаях, когда, согласно общепринятым правилам, все другие служебные чины бывают в присвоенных их должностям мундирах. Нет никаких оснований к тому, чтобы избранные сословиями или обществами представители выделяли себя в этом отношении из общего состава чинов, состоящих на государственной службе.
Сообщая о сем Вашему Превосходительству, покорнейше прошу Вас поставить в известность городских голов вверенной Вам губернии, разъяснив им при этом, что соблюдение ими вышеизложенных отношений к начальнику губернии нисколько не нарушает предоставленных законом городским обществам прав и что, напротив того, устранение всех, даже по сущности своей незначительных недоразумений может лишь способствовать правильному и правомерному течению дел, городским общественным управлениям вверенных.
Этот ничего не разъясняющий циркуляр весьма верно выражает тот сумбур, который царствует в отношениях правительства к им же созданным учреждениям. Во-первых, об отношении городских голов в губерниях не возникало сомнений, а относительно Москвы, где есть генерал-губернатор и где городской голова гораздо менее находится в соприкосновении с гражданским губернатором — ничего в циркуляре не говорится; во-вторых — министр говорит в циркуляре, что городскому голове приличествует надевать мундир, но так как закон представляет только голове право носить мундир, но не обязывает его к тому, что это указание на приличие имело бы смысл, ежели бы генерал Дурново всем тоном своей выходки не обнаружил бы желания на первых же порах оборвать представителя нового самостоятельного учреждения. Эта глупая история этим, вероятно, не кончится. Лямина отставка принята — Дурново остается губернатором, будут назначены новые выборы, вероятно, баллотироваться в головы никто не будет. Ежели назначат голову от правительства, то, вероятно, все или многие гласные выйдут в отставку, и вся эта сумятица — из глупого страха правительства уронить достоинство признанием ошибки в выборе дурака на губернаторское место.
10-го марта. Теперь я занимаюсь прочтением Устава о воинской повинности, который, вероятно, с будущей недели начнет рассматриваться в Особом присутствии Государственного совета, где я и буду присутствовать. Вопрос разработан весьма удовлетворительно, а проект пройдет, вероятно, без существенных изменений.
Нельзя не признать пользы предлагаемой реформы, но важность и громадность социальных последствий ее меня смущают, и тут мне сдается, что правительство все больше и больше запутывается в противоречии. С одной стороны, безумная реакция против всех совершаемых реформ, с другой — неудержимый либерализм в новых мероприятиях. Странное положение…
6-го апреля. С понедельника 2-го апреля начались в Государственном совете заседания Особого присутствия для обсуждения нового «Положения о воинской повинности». Несмотря на Страстную неделю, было уже два заседания, и было назначено на завтра — Страстную субботу — третье заседание, но сегодня получил повестку об отмене. Вероятно, на Святой неделе будут часто собираться, ибо до сих пор дело подвигается тихо. Из 180 параграфов едва рассмотрено в 2 заседания с небольшим 20, а между тем хотят кончить рассмотрение проекта в нынешнюю секцию, которая кончается 15-го мая, а вопрос из общего присутствия должен еще поступить в Общее собрание Государственного совета. Не знаю, как можно успеть это сделать. Как и следовало ожидать, общий вопрос о пользе и своевременности реформы вовсе и не обсуждался. Государственный канцлер князь Горчаков пытался было в самом начале кое-что сказать о важности реформы и о необходимости соблюдать некоторую постепенность при радикальных преобразованиях, но говорил он очень нескладно, не пришел ни к какому заключению, а так, остановился на общих местах и выражениях.
Затем приступлено было к обсуждению проекта по статьям, и на многих статьях довольно долго останавливались. Главным защитником проекта является, разумеется, военный министр, засим Валуев в качестве возбудителя вопроса часто выступает с громом трескучих фраз. Шувалов до сих пор ограничивается замечаниями, из общего смысла которых видно, что он готовится выступить с каким-то предложением, неприятным для военного министра. Из разговоров в курительной комнате можно заключить, что против военного министра Милютина сильно раздражены все сильные мира сего. На днях только окончилось заседание Особого комитета под председательством государя, в котором в присутствии великих князей — обоих фельдмаршалов — и некоторых начальников военных округов рассматривался вопрос об организации армии. По поводу этого вопроса образовалась сильная интрига всех высших военных властей против Милютина. Самая злая критика обращена была на настоящую организацию армии и введенную Милютиным систему военных округов. Уже несколько лет тому назад князь Барятинский (фельдмаршал), подбитый разными недовольными генералами, пытался посредством журнальной полемики возбудить общественное мнение против военного министра и в особой записке, представленной государю, доказывал, что система округов и все реформы, произведенные Милютиным, совершенно уничтожили нашу армию. Тогда много об этом говорили, но государь на первых же порах принял сторону Милютина, и дело кончилось ничем. Теперь же интрига была обставлена искуснее и дело дошло до того, что Милютин решительно просил и настаивал на увольнении. Не подлежит сомнению, что ежели бы враждующая против Милютина партия имела бы в среде своей хоть одного мало-мальски способного и живого человека, то Милютин не удержался бы. Но так как полное ничтожество в особенности отличает всех этих салонных генералов, и так как ни один из них не в состоянии даже формулировать какой-либо план организации, то бедный государь, после продолжительного колебания, не мог решиться уволить человека, с которым 10 лет работал в одном направлении и в полном согласии, и пуститься в неизвестность. В последнем заседании государь решительно объявил, что остается при прежней системе, допустив в ней некоторые частные изменения. Это решение сильно раздражило всю враждебную Милютину партию, но она не утратила надежды восторжествовать при более благоприятных условиях. Теперь действительно время для их замыслов весьма неудобно…
На сих днях ожидается приезд германского императора. Все, в особенности государь и военные, заняты приготовлением всяких торжественных встреч, приемов, парадов и т. д… В такое время нельзя решиться на перемены в личном составе и организации Военного министерства. Но после отъезда императора интрига, вероятно, опять начнется. Я даже уверен, что германский император, со своей стороны, поможет ей, так как князь Рейс, по-видимому, помогал ей прежде, ибо для пруссаков ничто не может быть приятнее, как втянуть нас в какое-нибудь серьезное преобразование организации войск, которая займет нас по крайней мере на 10 лет и расстроит то, что худо или хорошо, но существует и действует. Милютин во всей этой борьбе держит себя прекрасно и с большим достоинством и спокойствием. Мне слишком мало известны хорошие и плохие стороны его управления, поэтому я не могу о них судить. Для меня только очевидно, что Милютин неизмеримо выше по уму и способностям всех своих противников и так предан делу, что ничего другого не знает и знать не хочет. Это последнее обстоятельство и дает ему силу и твердость переносить все неприятности в неравной борьбе. Я тоже не думаю, чтобы он, несмотря на свое теперешнее торжество, долго бы удержался. Ему самому будет легче без него, ибо пока он будет министром, его не оставят в покое. С другой стороны, государь, видимо, поколеблен и едва ли сохранит прежнее доверие к системе Милютина. К тому же Милютин и Рейтерн — два последних министра, участвовавшие в реформах первой половины царствования, — и не принадлежат к партии Шувалова и К°, поэтому так или иначе, не мытьем так катанием, а, весьма вероятно, его скоро выживут. Шувалов пустит в ход систему доносов, а там кончится обычным способом. Между прочим, Шувалову на днях кто-то недурно сострил, сказав, что между известным певцом — Тамберликом и Шуваловым только та разница, что один берет до грудью, а другой — до-носом.
11-го апреля. Сегодня было третье заседание в Особом присутствии Государственного совета по вопросу об общеобязательной воинской повинности. Прочли немного параграфов, ибо вопрос рассматривается внимательно, и великий князь председательствует с замечательным спокойствием и знанием дела. Между прочим, относительно параграфов 39-го и 40-го я сделал предложение, чтобы допущена была мена жребия между лицами, призванными к отбыванию повинности и принадлежащими к одному сословию и одному участку. Предложение это я сделал сперва письменно. Оно было напечатано и предварительно разослано всем членам, я предвидел, что мое предложение не найдет поддержки в военном министре, но надеялся, что по крайней мере те, которые видимо негодуют на всю реформу, отзовутся сочувственно к мере, которая хотя отчасти могла бы ослабить произвол жребия. В печатном мнении я изложил следующее: в действующем законодательстве нашем о жеребьевом порядке отправления рекрутской повинности (I Ут. Ст. 876, п. 2) установлен один специальный вид замены, а именно мена номеров жребия между лицами, призванными к отправлению рекрутской повинности. Этот вид замены с некоторыми ограничениями полезно было сохранить и в предстоящей реформе. С сохранением его, во-первых, не нарушается принцип, положенный в основание нового законодательства, во-вторых, значительно упрощается составление правил об отсрочках и льготах по отправлению воинской повинности, в-третьих, смягчается тягость радикального преобразования и тем обеспечивается дальнейший успех всей реформы. Защита Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного — вот принцип, положенный в основание общеобязательной воинской повинности. Ежели под защитой Отечества разумеется непреложная обязанность защищать его от нападения в военное время, то от сей обязанности не освободится и тот, кто воспользуется правом промена номера жребия, ибо он поступает в состав ополчения и может быть призван в запас. Ежели под священной обязанностью защищать Отечество разумеется обязанность и в мирное время служить в рядах войск, то вся предложенная реформа не остается верной этому принципу, ибо только не более трети призванных поступают на действительную, службу, и эта треть избирается путем жребия.
Так что, в сущности, общий принцип сводится к безусловному обязательству только того из русских подданных, которому выпадет обязательный жребий. Но жребий не есть принцип — он только форма избрания. С ним не может быть связано понятие о каком<-то> нравственном начале, напротив, как всякая игра случая, жеребьевая форма избрания может быть терпима только по необходимости. В особенности в народе нашем жеребьевая форма отправления рекрутской повинности не пользуется сочувствием. Все попытки ввести ее оставались почти тщетными. Народ наш не мог примириться с бездушным приговором в деле, касающемся живого интереса разнообразных житейских отношений. Составители проекта нового «Положения»[257] не оставили без внимания этой темной стороны жеребьевой системы, и в ряде статей об изъятиях и льготах по отправлению воинской повинности старались найти средства уменьшить вредные последствия неразборчивого приговора случая. Но допущенными изъятиями уже значительно усложнилось законодательство, хотя оно едва коснулось самых выдающихся и крупных поводов к исключениям. Чем проще быт, тем ниже уровень образования, тем сложнее и мельче становятся обстоятельства, от которых зависит тягость личной повинности. Наши податные сословия до сих пор пользовались всеми видами замены и найма, и лишить их сразу всякой возможности умалить суровость жребия было бы крайне несправедливо. Что же касается других сословий, впервые призванных к отправлению воинской повинности, то для них некоторая, хотя бы временная мера, сглаживающая крайность реформы, представляется совершенно необходимою. Как ни сочувственно отнеслись к предложенной реформе все привилегированные сословия — нельзя, однако, в одном похвальном и единодушном самоотвержении видеть более того, что оно на самом деле выражает. Из него никак не следует заключать, чтобы правительство вправе было предать полному забвению те начала, которые оно до сих пор тщательно, иногда даже искусственно, охраняло и под сенью которых образовались нравы, обычаи, отношения, которые никаким законодательным актом со дня на день изменены быть не могут. Чем важнее реформа, чем ближе она касается личных, частных и разнообразных интересов, тем с большею готовностью должно правительство встретить неизбежный протест со стороны этих интересов. Поэтому всякая мера без вреда делу и без нарушений коренных оснований может сгладить крайнюю тягость реформы, не только не повредит ей, а, напротив, обеспечит дальнейшее ее развитие, ибо отнимет повод к жалобам, нередко вызывающим реакцию. Допустив мену жребия между лицами, призванными к отбыванию воинской повинности, следует, однако, ограничить это право условиями, ограждающими пользу службы. С этой целью полезно было бы постановить, чтобы мена жребия допускалась только между лицами, принадлежащими к одному сословию и приписываемыми к одному призывному участку. Еще прежде открытия заседания я убедился, что никто не решается присоединиться к моему положению, ибо оно противоречит будто бы принципу. Шувалов сказал мне, что сочувствует ему, но что in hauts lieux[258] боятся, чтобы не возобновить этим путем наем охотников. Когда дошли до 39-го параграфа, то великий князь вызвал меня защищать свое мнение. Я несколько развил то, что сказано свыше и, между прочим, сказал, что я стал весьма недоверчив ко всем реформам, в которых проводится радикально какой-нибудь принцип, без соображения всех его фактических последствий, что, наученный горьким опытом, я знаю, как потом радикальная реформа при первом прикосновении к жизни вызывает реакцию и законодательные причины разных изъятий, и что на этом пути идут дольше, чем следует, что цель моего предложения — открыть, так сказать, один предохранительный клапан для отвращения необузданных порывов реакции, которые я в этом деле предвижу. На это предложение возражал военный министр, объясняя, что в проекте уже достаточно предлагается предохранительных клапанов. Великий князь тоже выразился против моего предложения, и так как никто его не поддерживал, то и я отказался, не желая допускать до баллотировки, хотя я остаюсь уверенным, что предложенная мною мера могла бы быть полезной, в особенности для народа. Засим великий князь, входя в мою мысль о расширении несколько льготы замены, предложил допустить ее не только между братьями, но и между двоюродными братьями, и это понятно.
14-го апреля. Сегодня было четвертое заседание Особого присутствия о воинской повинности. По поводу льготы по образованию возбужден был графом Шуваловым вопрос о том, чтобы всех призванных к повинности и пользующихся льготой по образованию не вводить в состав войска, а образовать из них особые команды. Это предложение вызвало оживленное прение. Военный министр заявил, что он никак не может согласиться на это предложение, и в особенности на то, чтобы оно составило предмет закона. Он соглашался, чтобы выражена была в общих выражениях обязанность командиров иметь особое попечение о лицах, получивших образование, и заявил даже намерение сделать по министерству распоряжение, чтобы краткая служба лиц, пользующихся льготой, происходила в казармах и под особым надзором, но решительно протестовал против обязательного учреждения особых команд.
Военного министра сильно поддерживали великий князь и Чевкин, а Шувалов, Тимашев и Пален были против. Главный мотив Шувалова сперва им скрывался, но наконец он высказал явное опасение, чтобы элемент образования, в лице нашей зараженной нигилизмом молодежи, не возмутил бы всю армию. При этом случае Тимашев, Шувалов и Панин один за другим старались допустить, что революционная пропаганда у нас так сильна, что ничто перед ней устоять не может, и все это производят студенты университетов, Медико-хирургической академии и Технологического института… Эти господа серьезно воображают сами — и, что хуже, убеждают государя, что вся Россия, весь русский народ, все войско способны одним разом поверить молодым людям 21-го года, что не нужно царя, не нужно правительства и проч… что все спокойствие государства держится только тем, что они держат под надзором полиции всю эту учащуюся молодежь. Что сам народ, само общество, само войско неспособны дать отпор безобразным учениям юных нигилистов… Вся Россия в глазах этих господ ограничивается тем кругом, в котором вращается их полицейская деятельность. По окончании заседания я сказал Тимашеву что его заявление очень меня порадовало и успокоило — он сказал, что каждый день получает сведения о пропаганде вредных идей, я заметил, что из его слов я заключаю, что отпор сильнее пропаганды, ибо все, слава Богу, обстоит благополучно, и что ни один гражданин Российской империи и не подозревает, что в ней так силен революционный элемент. Генерал Дрентельн который присутствует в Совете в качестве эксперта[259], на вопрос великого князя, что он думает о влиянии, которое может произвести на солдат новый элемент образованных и недовольных юношей, прямо отвечал, что он так уверен в благоразумии, смысле и твердости русского солдата, что не имеет ни малейшего опасения, чтобы такая пропаганда могла бы на него подействовать, а напротив, не ручается за спокойствие команды, которая вся будет составлена из молодежи, взятой со школьной скамьи. На это граф Шувалов отвечал генералу Дрентельну, что он будто бы не знает этой молодежи. Генерал Дрентельн мог бы с большим основанием заметить графу Шувалову, что он не знает ни русского солдата, ни народа. После долгих прений не пришли ни к какому результату и отложили вопрос до следующего заседания, которое назначено на будущую среду.
Завтра приезжает сюда германский император. Встреча ему готовится великолепная. Пруссомания государя еще усилилась, поэтому, вероятно, не будет пределов всяким унизительным с нашей стороны манифестациям. Весь город, по приглашению полиции, украшен русскими и прусскими флагами и бюстами германского императора. Вот программа празднеств:
«…»[260] сообщает, что на время пребывания германского императора в Петербурге предложена следующая программа празднеств и парадов. В воскресение 15-го апреля — семейный обед в Зимнем дворце. В понедельник 16-го апреля — семейный обед в Аничковом дворце. Во вторник 17-го апреля — большой прием во дворце, парад, семейный обед в Зимнем дворце, большая заря в 10 часов вечера. В среду 18-го апреля — обед в Зимнем дворце и бал в Эрмитаже. В четверг 19-го апреля — обед в Петергофе, бал в зале Дворянского собрания. В пятницу 20-го апреля — большой смотр войскам, вечером даровое представление в театре для войска. В субботу 21-го апреля — прогулка и обед в Царском Селе. В воскресенье 22-го апреля — парад Калужскому полку и торжественный обед. В понедельник 23-го апреля — семейный обед у Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича старшего, вечером бал в Аничковом дворце. Во вторник 24-го апреля — парад полкам имени Его Величества императора германского. В среду 25-го апреля — отдых.
Все празднества в честь германского императора совершены были с маленькими изменениями против приложенной выше программы. Всему содействовала прекрасная погода. Я лично мало принимал участия в этих торжествах. Был только на выходе 17-го числа, на балу в Эрмитаже, на двух обедах в Зимнем дворце, на балу у цесаревича и у германского посланника. При въезде императора я не присутствовал из-за суеверного предрассудка. Я был случайно в Вене в 1865-м году, когда прусский король — теперешний император — въезжал в Вену. Год спустя Австрия была в войне с Пруссией. Потом в год выставки в 1867-м году[261] был я в Париже и присутствовал при въезде прусского короля в Париж. Два года спустя Франция была в войне с Пруссией. Каковы будут последствия визита этого дорогого гостя — одному Богу известно. Пока теперешний король-император жив, можно, кажется, с достоверностью сказать, что у нас с пруссаками войны не будет, но он уже стар, а после него вряд ли продержится долго наша дружба. Наш царь во время пребывания пруссаков был, кажется, весел и доволен, а перед тем приближенные его постоянно жаловались на дурное расположение его духа. Теперь он переехал в Царское Село и опять, говорят, находится в раздраженном состоянии. Отчасти, вероятно, это происходит оттого, что предположенная свадьба великой княжны Марии Александровны с принцем Альбертом Английским как-то не устраивается, а главное потому, что Тимашев и Шувалов продолжают потчевать его всякой полицейской дрянью.
Сегодня, между прочим, в Государственном совете, несмотря на воскресный день, было заседание соединенных департаментов для рассмотрения внесенного Тимашевым проекта с новыми безобразными стеснениями печати. Я, со своей стороны, воевал, сколько мог, по одному вопросу о праве министра внутренних дел — запрещены вовсе обсуждения известных предметов, я произвел разногласие, а по другому вопросу — о праве министра требовать от редакторов указания лиц, сообщавших разные сведения, хотя последовало и единогласие, но совершенно изменена не только редакция, но и первоначальная мысль проекта. Этот проект уже был предварительно доложен Тимашевым государю и им одобрен, причем приказано всем министрам защищать его.
Уже не в первый раз подобные предрешенные проекты вносятся в Государственный совет только для проформы и дабы всякую нелепость прикрыть формой закона, легально рассмотренного.
Несмотря на все это, я ратовал, сколько мог, и, вероятно, мне от этого не поздоровится, но такой гнусной роли, которую принимал на себя Валуев, я даже от него не ожидал. В 1861 году он, будучи министром внутренних дел, вносил в Государственный совет и отстаивал тот проект о печати, который потом окончательно осуществился в указе от 6-го апреля[262]. Тогда он либеральничал до того, что я должен был удерживать его от разных уступок, на которые он соглашался в ущерб власти. А теперь, желая во что бы то ни стало держаться Шувалова и К°, он теми же напыщенными и бессмысленными фразами защищал прямо противоположные мысли и при этом не хочет сознаться в перемене своего взгляда. В первом заседании он говорил всякую чушь, пользуясь тем, что Тимашев будто бы охрип и не может говорить, и что он излагает мысли не свои, а Тимашева, а сегодня, когда я настаивал на мысли, что лучше и честнее было бы прямо восстановить цензуру, чем делать это путем крючкотворных и инквизиционных постановлений, — он самым недобросовестным образом отвергал всякую мысль о том, что будто бы он желает ограничивать ту долю свободы, которая дарована указом 6-го апреля. В моем историческом очерке о реформе печати я опишу подробнее все содержание сегодняшнего заседания. Заседания о военной реформе идут своим чередом, торопятся окончить рассмотрение всего проекта в нынешнюю сессию. Не знаю, правда, как согласовать общий дух всего того, что, например, сегодня говорилось по поводу печати, с общим духом всей, например, военной реформы. Социальный переворот, который неминуемо произведет эта реформа, не останавливает и не пугает всех тех лиц, которые со страхом и ужасом говорят о распущенности нашей будто бы прессы. Газеты печатают, в виде слуха, оглавления дел, которые рассматриваются в Государственном совете, и это представляется столь опасным и вредным, что предусматривается специальный закон для предотвращения подобного бедствия… Черт знает, что такое…
14-го мая. Сегодня было последнее заседание Общего собрания Государственного совета, с сегодняшнем днем кончается сессия. К последнему дню накопилось, как всегда, много дел, и в том числе много важных, некоторые из них под разными предлогами отложили до осени, а проект закона, сочиненного министром внутренних дел, о стеснениях печати подвергнут окончательному обсуждению. Вследствие нашего протеста в соединенном департаменте, гг. Тимашев, Шувалов и К° поняли, наконец, что невозможно и неприлично вносить в Общее собрание закон в той форме, в какой он представлен министром внутренних дел. Они готовы даже были взять все предложение назад. Но так как они вмешали в это дело государя и он выразил положительно свои требования, чтобы закон этот прошел, они стали придумывать способ выйти из этого положения с наименьшим позором. После нескольких предварительных совещаний и переговоров с великим князем они решили вторую часть предложения, обязывающую редакторов выдавать имена лиц, сообщивших им сведения, совсем отложить, а в первой части предложения сделать редакционные изменения, ограничивающие власть министра запрещать суждения по вопросам только государственной важности. Несмотря на эти изменения, я и оставшиеся со мной 4 члена остались при мнении, что такого закона издавать не нужно. В заседании я говорил 3 раза. В первый раз я повторил, с некоторыми дополнениями, все доводы, приведенные в мнении меньшинства, а потом, отвечая на возражение Тимашева, коснулся более существенных сторон вопроса. Между прочим, Тимашев объявил, что он даже не понимает, какая может быть у министра нравственная сила для направления и влияния на печать, я на это отвечал, что против такого непонимания я обезоружен, но что тогда необходимо восстановить цензуру, ибо при отсутствии ее придется для каждого действия министра составлять новый закон. Ежели министр опасается, что редакторы не будут его слушать, ежели он объявит им, в случае особой важности, приказание не говорить о каком-либо государственном вопросе, что он может также опасаться, что без определенного закона редактор не явится на его приглашение или не захочет с ним говорить, — вообще, ежели министр полагает, что в делах мысли и слова можно действовать только прямым применением закона, то он должен отказаться от карательной системы и возвратиться к предупредительной цензуре. Общее настроение большого числа членов Государственного совета было в пользу моего мнения, и ежели неизвестно было бы, что государь выразил уже свое мнение, и ежели бы великий князь, тоже уступая необходимости, не сказал несколько слов в защиту необходимости издать закон, то я уверен, что с нами согласилось бы большинство, но и при этих невыгодных условиях при баллотировке в пользу нашего мнения оказалось 12 членов, а против — 23, в том числе все министры, так как они связаны были объявленной им волей государя. Все это дело, в сущности, не имеет никакого значения, ибо и при законе, и без закона министр внутренних дел всегда имеет и будет иметь право делать и объявлять все, что он хочет, и никто против этого ни протестовать, ни жаловаться не будет, но во всем этом замечательны только те побудительные причины, которые вызывают подобные положения, — все это из желания понравиться государю инициативой реакционных мер…
В том же заседании было еще одно дело, в высшей степени замечательное. Министр внутренних дел ввел предложение об устройстве взаимного земского страхования и, между прочим, полагал предоставить земским собраниям делать постановления о мерах к предупреждению и тушению пожаров. Товарищ министра финансов генерал-адъютант Грейг случайно, за отсутствием министра, бывший в заседании соединенных департаментов, где это дело рассматривалось, нашел удобным воспользоваться этим случаем, чтобы тоже обнаружить свою благонамеренность, и самым резким тоном заявил, что он никогда не согласится предоставить земским собраниям делать какие-либо постановления, ибо это — республиканское начало и поведет нас к страшным последствиям, что народ наш привык исполнять царские законы, а не земские законы. Все это Грейг, оставшись один при своем мнении, написал весьма резко, с явною целью и надеждой, что мнение это будет прочитано государем… Одним словом, просто объявляет «Слово и Дело»… Князь Урусов, председатель Департамента законов, получив это мнение, пришел в ужас и не знал, как пустить его в Общее собрание — начались переговоры, совещания, собрания у Шувалова, который, разумеется, сейчас же принял сторону Грейга и, наконец, при помощи великого князя пришли к соглашению в редакции так, чтобы в Общем собрании не дать повода коснуться щекотливого вопроса. Хотя цель Грейга не достигнута, ибо мнение его не будет прочитано государем, но, не менее того, cela le pose[263]. Со стороны противно на это смотреть, и я с каждым днем все более и более благодарю Бога, что вышел из этого безобразного омута, и не только вышел, но j’ai brulé mes vaisseaux[264], ибо по всем почти вопросам в Совете я имел случай доказать, что на сделки не пойду. Проект воинской повинности окончен рассмотрением в Особом присутствии, остались только несколько отдельных вопросов, которые будут рассмотрены осенью и засим, вероятно, в октябре, поступят в Общее собрание более для проформы, так как к январю месяцу состоится, вероятно, указ.
Все эти дни здесь праздновали приезд персидского шаха, теперь все кончилось, царь уезжает 18-го числа в Вену на выставку, все министры разъезжаются.
15-го июля. Уже скоро месяц, что я живу в деревне и пользуюсь вакантом[265] в полном смысле, ничего не делаю. Предполагал пить мариенбадскую воду, но соблазнился ягодами и грибами и отложил лечение, не чувствуя, впрочем, к нему особой надобности. Урожай всех хлебов и трав превосходный, но погода стоит дождливая и уборка весьма затруднительна. Я наконец решился отдать всю свою непаханную землю исполу крестьянам. Много было хлопот и труда, чтобы уговорить крестьян на столь выгодное для них дело. Отдельно с каждым из них можно иметь дело, но с миром, в котором еще до сих пор имеет влияние сторона крепостного положения, невозможно прийти к какому-либо соглашению.
15-го сентября. Прожив до половины августа в деревне, я отправился с дочерьми в Крым, где мы вместе с графиней Протасовой наняли на осень дачу. До Одессы доехали весьма спокойно железной дорогой, а в Одессе сели на пароход «Аргонавт». К сожалению, пароход оказался весьма неудобным, старым и даже в обыкновенное время укачивал, но, на нашу беду, нас застигла в море весьма ветреная погода, которая на другой день, а именно 21-го числа, обратилась в сильнейшую бурю, какую в настоящее время года старожилы не запомнят. Ночью 20-го числа нас всех укачало и, что хуже всего, — в каютах было так мокро от струившейся отовсюду воды, что Вавочка лежала больная около 20 часов в воде. К утру, подходя к Севастополю, погода стихла и мы благополучно вышли на берег, чтобы отсюда уже сухопутно продолжать путь в Ялту. Но люди с вещами отправились далее на пароходе, и их-то и застала самая сильная буря, которая помешала им пристать к Ялте, и они высадились в Феодосии, откуда уже со следующим пароходом, через 4 дня, они вернулись в Ялту.
Тем временем мы, переночевав в Севастополе, в Херсонесском монастыре у архимандрита Евгения, на славу нас угостившего, поехали через Байдарские ворота по южному берегу и, ночевав по дороге у Байдарских ворот, прибыли благополучно в Ялту 23-го числа при великолепной погоде. Немедленно по приезде в Ялту я поехал в Ореанду[266] к великому князю, который на другой день ждал приезда великой княгини — королевы греческой с детьми. Вся семья его собирается в Ореанду, чтобы праздновать серебряную свадьбу. Великий князь принял меня очень любезно, сам водил показывать все прелести Ореанды, и, наконец, мы с ним поехали осматривать места, которые он раздает своим приятелям в Ореанде с условием, чтобы там строили дачи. Он указал мне на выбор два места, и я взял одно из них в 600 кв. сажен на всякий случай, ибо приятно иметь хотя бы уголок земли в этом восхитительном месте. Ежели не я, то кто-нибудь из детей моих, может быть, будет в состоянии воспользоваться этим местом. Празднование серебряной свадьбы назначено на 30 августа. Праздник этот как-то не вяжется и едва ли будет очень радостен, ибо отношения обоих супругов с каждым годом становятся все более и более натянутыми и неприятными. Благоверная супруга и прежде часто ужасно дурила, а теперь по временам совершенно с ума сходит, живет за границей с меньшими детьми и блажит. Около 20 лет великий князь был примерным мужем и верным, и даже слишком был под командой своей супруги. Но, наконец, и его терпение лопнуло, и он, кажется, махнул рукой на нее.
21-го приехали на пароходе «Ливадия» государь и императрица. Я видел издалека их приезд, но за неимением мундира и не желая вообще представляться, я скрывался и на другой день[267] выехал из Ялты обратно в Березичи, где, пробыв несколько дней, приехал окончательно в Петербург. Здесь еще никого нет, все министры в отсутствии. Вчера было первое заседание в департаменте Государственного совета по пустым делам. Прежде конца месяца не начнется настоящая сессия.
10-го октября. Понемногу начинают съезжаться. В Государственном совете заседания начались не только в департаментах, но и в Общем собрании. Теперь мы занимаемся в Департаменте законов рассмотрением нового устава о гербовом сборе. Много предполагается новых сборов, и отчасти изменяется и система взимания. Все эти преобразования, предпринимаемые главным образом с финансовой целью, усложнят житейские отношения. Вообще, с каждым десятилетием труднее становиться жить, а с введением воинской реформы, а впоследствии, вероятно, реформы податной еще будет труднее. Не знаю, облегчится ли настолько жизнь низших классов народа, насколько утягчится жизнь высших классов. Царь еще в Крыму и, говорят, пробудет там до половины ноября. До сих пор, говорят, он был в хорошем расположении духа. Дети пишут мне, что часто танцуют, гуляют пешком и верхом и что погода там восхитительная. На днях поехал в Крым граф Шувалов и, вероятно, повез с собой разные материалы, чтобы показать, что Россия бунтует. Каждую осень происходит одна и та же история. Открываются какие-нибудь студенческие или другие беспутные сходки молодежи, все это приличным образом раздувается, делаются аресты, высылаются административным порядком несколько несчастных молодых людей из Петербурга и из Москвы, и этим дело кончается. Cela donne le ton pour toute la saison[268]. Из сметы III Отделения видно, что с 1866-го года на одни секретные расходы отпускается более против прежнего почти на 150 тысяч рублей, не считая того, что жандармские команды всяких наименований более чем удвоились. И все это в царствование самого популярного, самого любимого и потому самого сильного государя…
10-го ноября. Зима в нынешнем году так дружно стала, как я не запомню, до сих пор не было ни одной оттепели, и морозы, при достаточном снеге, стоят довольно сильные. Государя ожидают сюда к 20-му числу, а 24-го последует открытие памятника Екатерине.
Очень жаль, что эта церемония не отложена до весны или лета. Никакой нужды нет морозить верноподданных, когда можно было устроить достойный памяти великой императрицы праздник в более благоприятное во всех отношениях время. Канун именин, т. е. 24-го ноября, ровно ничего не значит, ежели бы это еще был день рождения, то был бы резон…
В Государственном совете возобновились заседания Особого присутствия по вопросу о воинской повинности. Завтра, вероятно, будет последнее заседание, и засим дело поступит в Общее собрание, где, вероятно, окончательно пройдет очень скоро, так что к Новому году, вероятно, реформа будет объявлена. Я уже, кажется, писал, что у меня сердце не лежит к этой реформе. В частностях против первоначального проекта комиссии сделаны некоторые изменения, причем несущественные. Я убежден, что большинство членов Совета не сочувствуют главным основаниям реформы, но об этих основаниях почти не было суждений, потому что они решены и утверждены были государем прежде внесения проекта на обсуждение в Государственный совет. Дай Бог, чтобы опасения мои не оправдались бы и чтобы реформа оказалась полезной на деле.
Заимствовать от Пруссии образцы повинностей и чуждаться заимствований оттуда прав и вольностей — значит не понимать связи между всеми различными отправлениями государства, это то же, что строить по образцу каменного дома здание из глины на песчаном фундаменте. По предложению графа Шувалова, лица, поступающие на действительную службу и пользующиеся льготами по образованию, будут состоять в особенных командах, ибо заявлено опасение, что образованная молодежь будет бунтовать и портить солдат. Поэтому часть нашего войска будет под надзором полиции… Все сословия, без различий, подвергаются натуральной повинности, и вместе с тем боятся ввести общую денежную повинность… Во главе реформы поставлен следующий принцип: «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». А между тем, в сущности, принцип этот в новом законе сводится на священную обязанность каждого русского подданного играть в азартную игру, ибо все обязаны только брать жребий, а защищать «Престол и Отчество» будет только треть бравших. Конечно, перемелется — все мука будет, да, но эта мука страшно дорого будет стоить России…
16-го ноября. Сегодня было последнее заседание Особого присутствия по воинской повинности для подписания журнала и проекта. Теперь можно считать дело конченным, ибо в Общем собрании дело будет слушаться 3-го декабря только для проформы и засим поступит на высочайшее утверждение. Не могу выразить, с каким тяжелым чувством я подписывал сегодня журнал и проект. Кажется, не я один имел это чувство. Сама процедура подписания происходила как-то необыкновенно. Великий князь не вставал с кресел и не прекращал заседания, пока все члены не подписали, чего обыкновенно не бывает, ибо журналы обыкновенно подписываются во время разговоров и ходьбы. На этот раз тишина придавала какой-то мрачный вид совершающемуся событию. Приложив руки, все разошлись молча, и на душе каждого, видимо, лежало тяжелое сомнение относительно пользы новой реформы. Я пошел пешком домой с чувством человека, сделавшего недоброе дело. Я более или менее участвовал во всех главнейших реформах настоящего царствования и никогда не испытывал подобного чувства. Это не одно сомнение в пользе новой реформы, а главное, тяжесть от невежественного, неискреннего насилия над внутренним сознанием. Как-то чувствуется, что ни цель не обдумана, ни средства не приготовлены, ни последствия не соображены, и все делается как-то второпях, неизвестно почему и в угоду какому-то безотчетному стремлению. Ежели бы государь мог, хотя бы отчасти, почувствовать то, что я чувствую, то он непременно сделал бы следующее: возвратил бы все дело назад и приказал бы Совету через 6 месяцев приступить вновь к рассмотрению всего проекта, как в основаниях, так и в подробностях.
Только теперь я сознаю всю мудрость и предусмотрительность английской конституции, подвергающей каждый важный проект закона двукратному, а иногда трехкратному обсуждению в парламенте. При первом всестороннем обсуждении каждой важной реформы только под конец становятся для каждого участвующего в суждении ясными все основания, подробности и последствия новой меры. Во время суждения раскрываются такие стороны дела, которые до того оставались закрытыми, мнения группируются около сродных общих понятий, ближе узнаются тенденции, скрытые побуждения и убеждения различных партий и влиятельных лиц, и с этим запасом сведений, когда вновь, по истечении некоторого времени, приступают к новому суждению, то работа идет не только усиленнее, но несравненно плодотворнее. В особенности у нас такой законодательный порядок был бы необходим, ибо все у нас творится порывами, увлечением и модой. Время творит чудеса, когда его умеют употреблять как разумную силу, и напротив, действует разрушительно, когда им пренебрегают. Эту истину мы испытываем в военной реформе. Теперь уже решено, что в январе манифест или указ будет объявлен, а в ноябре 1874 года будет уже первый призыв… Спрашивается, куда такой спех? Народной переписи не сделано, это усложнит процедуру призыва и произведет страшную путаницу. Казарм нет, вооружения и обмундирования нет.
В оправдание наших главных двигателей реформ вообще и в настоящем случае — военного министра — можно сказать только то, что никто из них не может надеяться на продолжительное влияние на государя в одном направлении; сознательно или бессознательно, он так легко изменяет направление, что невозможно отвечать за месяц, не только за годы…
Лучшим доказательством служит, между прочим, то, что неминуемо случится теперь со всей радикальной реформой, произведенной графом Толстым в системе нашего народного образования. Он также с большим усилием, пользуясь настроением государя, заподозрившего всю учащуюся молодежь в мятежных крамольных замыслах, успел провести против мнения большинства реформу всех учебных заведений и приступил к осуществлению ее с лихорадочной торопливостью, без средств. Не имея учителей греческого и латинского языка, насильственно и усиленно стал вводить эти языки во всех гимназиях. Через эту торопливость наделал пропасть вздору и вооружил против себя всех учащих и учащихся, и все это оттого, что боялся упустить время и вызвать реакцию.
Но теперь вдруг вся его реформа будет подкошена, в сущности, реформой воинской повинности. Он это чувствует и потому всеми силами борется против ожидающегося погрома классицизма, но все напрасно, и государь не поймет этих двух противоречий на нашей русской почве. Ему представится, что в Пруссии уживается же классицизм с общей воинской повинностью, почему же ему не уживаться и у нас… Тогда как ничего общего нет между нами и Пруссией в отношении как самой повинности, так и состояния народного образования, социального быта, побуждений к образованию, политического устройства и всех других условий общественной жизни государства. Опыт докажет, что наши классические гимназии опустеют, что университеты придется закрывать. Но к этому времени классическое увлечение пройдет, и останется от всего этого та ломка в народном образовании, которую мы видели и которую вынесли на плечах своих наши несчастные дети.
25-го ноября. Вчера происходило торжественное открытие памятника Екатерине II. Погода была не очень холодная, но неприятная, а потому вид парада не был праздничный. Очень жаль. В хорошую погоду весной или летом можно было устроить приличное народное торжество в память этой великой царицы.
Вечером я был у канцлера князя Горчакова. Он приписывает себе большое участие в решении государя поставить памятник своей прабабке. Известно, что покойный государь Николай Павлович враждебно относился к памяти своей бабки. Все великие дела ее и все добро, сделанное государству, не искупили в глазах его вины ее перед мужем и сыном. Семейные неудовольствия, под впечатлением которых Николай Павлович провел свое детство, оставили на нем неизгладимые следы, и он не только не думал видимым знаком почтить память Екатерины, но, напротив, не любил, чтобы при разрешении государственных вопросов делались ссылки на указы или распоряжения Екатерины. Все бумаги и архивы за время ее царствования оставались закрытыми, и только в недавнее время дозволено печатать документы в обилии, находящиеся как у частных лиц, так и в правительственных учреждениях. Александр Николаевич, напротив того, с самого своего вступления на престол неоднократно высказывал сочувствие свое к великим делам Екатерины, и личность этой великой женщины не имела в глазах его тех невыгодных сторон, которые так смущали отца его. Не менее того, и Александр Николаевич долго не решался выразить то уважение к памяти Екатерины, которое уже давно в России чувствовалось, несмотря на скудость сведений о ее царствовании.
Князь Горчаков рассказал мне, что однажды, несколько лет тому назад, будучи в Царском Селе у императрицы, в тех самых комнатах, в которых жила некогда Екатерина, он заметил императрице в присутствии государя, что ему, Горчакову, всегда кажется, что в этих комнатах невидимо обитает еще дух Екатерины, так все ее здесь напоминает. При этом он сказал, что ему всегда прискорбно, гуляя по Петербургу, не видеть ни одного знака, напоминающего царствование этой великой монархини. Государь понял намек и, подумав, сказал Горчакову: «Mon fils pourra le faire»[269]. Горчаков замолчал, но императрица шепнула ему: «Ne vous laissez pas decourager»[270]. Впоследствии Горчаков несколько раз заводил разговор о том же предмете, и наконец узнал через Адлерберга, что решено поставить памятник в маленьком виде в Царском Селе и что модель памятника уже готова. Горчаков пошел посмотреть эту модель и нашел, что подобный памятник не отвечает вовсе его мысли. Екатерина изображена с лирою в руках и в размере обыкновенной статуи. При свидании с государем на вопрос его — видел ли он модель, Горчаков отвечал, что видел и очень недоволен: «С’est bon pour un confiseur»[271], — и при этом прибавил, что будто бы проходящие при этом мимо модели бабы спросили его: «Зачем матушке царице дали подкову в руки?». — «C’est peutêtre assez pour la famille, mais pas assez pour le pays»[272], — окончил Горчаков и думает, что слова его произвели впечатление, ибо вскоре после того решено было памятник переделать в большом виде, без лиры и поставить в Петербурге. Как бы то ни было, но памятник, вчера открытый, на мой взгляд, очень хорош, и теперь, по крайней мере на некоторое время, войдет в моду говорить, читать и изучать эпоху екатерининского царствования. Много поучительного представляет это царствование, в особенности для царей…
Сегодня было торжественное заседание Исторического общества[273], на котором присутствовал наследник и читались Половцовым, Гротом и Бычковым речи о государственной, ученой и литературной деятельности Екатерины. Всего замечательнее в этой монархине — это ее искренняя и неподдельная любовь к русскому народу. Этим чувством проникнуты были и ее сотрудники — вот разгадка, почему деятельность их была плодотворна. Петр Великий, будучи русским человеком, до глубины костей влюбился в немцев. Екатерина, будучи по природе немкой, влюбилась в русских. Петр не дорожил теми хорошими и отличительными сторонами русского человека, не давая им цены, так как они были ему прирождены, а Екатерина именно потому и была так постоянно верна всему русскому духу и русскому чувству, потому что выработала сама в себе эти чувства и сознательно к ним относилась. Поэтому ни в одном ее указе, ни в одном ее слове нельзя найти фальши против русского духа. Приобретенным добром всегда человек дорожит больше, чем наследственным, так и тут. Мне не раз встречалось примечать, в особенности в женщинах, как они последовательно проводят в жизни те начала, которые вырабатываются или непосредственно опытом, или умом.
Между прочим, нынешняя наша императрица может служить примером. В течение двух лет я почти ежедневно во время зимы был ее чтецом. Во время этих чтений я имел случай близко ее узнать. Я всегда был поражен ее верным пониманием таких вещей и таких сторон русской жизни, которые положительно недоступны нашим не только дамам высшего круга, но и мужчинам. Мария Александровна путем искреннего и серьезного изучения православия пришла к разумению православного русского духа. Разумение это осталось и останется в ней бесплодным по недостатку характера и другим окружающим ее обстоятельствам, но она всегда искренне сочувствует тому, чему может сочувствовать только человек, усвоивший известное миросозерцание. Повторяю, к сожалению, она не оставит по себе следов своего духовного настроения. В первые годы царствования влияние ее еще было заметно, а теперь, кажется, оно вовсе не существует. Но я никогда не забуду всех ее суждений, например, при чтении мною записки Карамзина о старой и новой России и др., а также сочинений Гоголя и проч. Имей эта женщина талант, ум и волю Екатерины, она бы так же имела влияние на среду, ее окружающую, и умела бы устранить те нелепые страхи отвращения ко всему национальному, от которых мы теперь бедствуем.
10-го декабря. В прошедший понедельник было первое заседание Общего собрания Государственного совета по делу о воинской повинности. По-видимому, государь знает, что реформа эта возбудила разные мнения и опасения, и потому приказал великому князю не торопиться проведением ее через Общее собрание и не стеснять подробное обсуждение. Вследствие сего великий князь при открытии заседания приглашал всех высказывать свое мнение — как об общих основаниях проекта, так и о подробностях. Министр народного просвещения разослал за несколько дней особую записку всем членам Совета, в которой он сильно критикует проект в том виде, в каком он вышел из Соединенного присутствия, и доказывает необходимость сделать только один разряд льгот для жеребьевых, для одних грамотных, без всяких особых льгот для высшего образования, а для вольноопределяющихся допускает опыты только для первых двух разрядов. Военный министр, в свою очередь, накануне заседания разослал свою записку в опровержение мнения министра народного просвещения. По поводу этого разногласия происходили оживленные споры, в которых я принимал участие, доказывая, что, по моему мнению, институт вольноопределяющихся представляется лишним, ежели жеребьевым трех разрядов будут предоставлены льготы. Одно из двух — или дать льготы трем разрядам жеребьевых, или вольноопределяющимся, ибо в двух местах льготы не могут распределены быть так, чтобы они друг другу не мешали. Главная приманка жеребьевым будет всегда та, что с лишком 75 % шанса совершенно быть освобожденным и от действительной службы, и от запаса, и ежели к этому прибавить еще сокращение срока действительной службы до 9-ти месяцев для первого разряда, до 18-ти месяцев для второго, до 3-х лет для 3-го, то приманка для вольноопределяющихся будет столь незначительна, что никто не пойдет в вольноопределяющиеся. Все почти первое заседание прошло в спорах о различных формах этого вопроса, и, в сущности, ничего еще не решено. Завтра будет второе заседание, которое обещает быть еще оживленнее, потому что на предварительном заседании у графа Шувалова, куда и я был приглашен, в присутствии редактора «Московских ведомостей», возникли новые вопросы о социальном значении реформы, о легкости получения официального звания разночинцами и проч… Все эти вопросы, вероятно в разных видах, заявлены будут завтра и еще более запутают и усложнят дело. По-видимому, только теперь главные влиятельные лица раскусили все важное социальное значение реформы, но ничего не могут придумать, чтобы остановить ее. Вероятно, и завтра не кончится спор по главным вопросам, а там пойдет рассмотрение проекта по параграфам, что займет еще несколько заседаний, так что к Новому году ни в каком случае дело не будет окончено.
11-го декабря. В сегодняшнем заседании, несмотря на продолжительные прения, окончили рассмотрение всех статей проекта; остались еще не рассмотренными приложения, так что в будущем заседании, вероятно, все будет кончено. Вследствие моего предложения для вольноопределяющихся уменьшен срок состояния в запасе на 9 лет, я предлагал 7 лет, но должен был уступить.
18-го декабря. Вчера окончено в Общем собрании рассмотрение проекта об общеобязательной воинской повинности. Прения касались вопросов второстепенных, но, по сильному настоянию великого князя, все пришли к соглашению, и государю был представлен журнал без всяких разногласий. Этим, по-видимому, очень доволен великий князь, хотя, без сомнения, потомству покажется странным, как вопрос подобной важности мог встретить такое единомыслие. Но прения в Государственном совете теперь так обставлены — вследствие желания государя, чтобы приходили к соглашению, — что решительно нет места даже для желающих отличиться гражданским мужеством, они представились бы глупым донкихотством. В заключение прений великий князь сказал несколько слов, выразив надежду, что эта реформа будет новым полезным событием, ознаменовавшим настоящее царствование, и что все члены Государственного совета могут со спокойной совестью сказать себе, что исполнили долг свой, ибо подробно и всесторонне рассматривали проект.
По поводу этих слов я, воротясь домой, написал великому князю письмо, которое и послал сегодня:
С.-Петербург, 18-го декабря, 1873-го года.
Ваше Императорское Высочество.
Заключая сегодня прения по вопросу об общеобязательной воинской повинности, Ваше Императорское Высочество изволили выразить надежду, что все члены Государственного совета могут со спокойной совестью ожидать последствий этой реформы, потому что она подверглась в Совете всестороннему рассмотрению, причем дана была возможность всем мнениям и сомнениям высказаться с полной откровенностью. Действительно, Ваше Императорское Высочество вправе были выразить эту надежду, ибо благосклонное и терпеливое внимание Ваше ко всем мнениям было столь же изумительно, как и достойно нашей благодарности.
Но само разнообразие возбужденных при обсуждении этой реформы вопросов, живость и некоторая странность споров, возникших в Совете, указывают уже отчасти на те трудности, с которыми предстоит бороться при введении в исполнение меры, непосредственно касающейся до жизненных интересов общества. Сознание этого невольно нарушает то спокойствие совести, с которой могли бы ожидать последствий реформы лица, принимавшие в ней более или менее непосредственное участие. Поэтому я приемлю смелость представить ныне на благоусмотрение Вашего Императорского Высочества те мысли, которые не могли быть мною заявлены в заседаниях Государственного совета — отчасти потому, что они не входят в круг вопросов, предстоящих разрешению, а главное, потому, что гласное возбуждение их сопряжено было со значительными неудобствами.
Приведение в исполнение реформы общеобязательной воинской повинности ляжет на обязанность почти всех министров и ведомств империи. Поэтому необходимо прежде всего, чтобы все министерства и ведомства не только в букве, но и в духе были совершенно согласны относительно всех подробностей реформы. Можно ли этого ожидать?
Ежели припомнить, сколько нужно было Вашему Императорскому Высочеству употребить времени, усилий, твердости и такта, чтобы достигнуть соглашения по вопросам даже второстепенным, то невольно рождается сомнение в продолжительности однообразного понимания разными ведомствами предстоящей им задачи. Правда, соглашение последовало по всем вопросам, но не нужно от себя скрывать, что соглашение это последовало больше в букве правил, чем в духе их. Природе человеческой свойственно, не нарушая прямо истины, хранить в задней мысли важность приходить к соглашению. Нередко даже без воли человека, со временем, эта задняя мысль выступает при благоприятных обстоятельствах, и дело изменяется в существе.
Вашему Императорскому Высочеству лучше меня известно, сколько новых вопросов будет поднято новой реформой, о которой еще не было, конечно, места судить. Справедливо замечено было г. военным министром, что много есть таких вопросов, которые, касаясь даже непосредственно военной реформы, не могут и не должны быть предметом закона. Такие вопросы возникнут непременно во всех ведомствах.
На чьей исключительной обязанности лежать будет общее охранение одного общего направления?
Я не осмеливаюсь и не решаюсь предполагать, чтобы гг. министры могли, собственною властью или с высочайшего утверждения, издавать какие-либо противоречивые друг другу постановления.
За этим во всяком случае надзор возможен, но масса частных случаев применения неясного или непонятного закона ускользает неминуемо от всякого контроля, ежели контроль этот не сосредоточен в каком-либо постоянном учреждении, централизующем дела, пока практика, опыт и закон не утвердятся окончательно в общем и однообразном понимании.
Главный комитет по крестьянским делам бесспорно доказал эту истину. Чтобы опровергнуть всякое сомнение в пользе этого учреждения, достаточно только вообразить себе, что бы такое было с крестьянской реформой, ежели бы все дела, бывшие в его рассмотрении, на первое время реформы подлежали бы обыкновенному течению? Для лиц беспристрастных и сколь-нибудь знакомых с ходом дел в наших управлениях не может быть ни малейшего сомнения в том, что Главный комитет служит в крестьянском деле тем камертоном, под лад которого были настроены все инструменты при исполнении этой великой симфонии.
Но, скажут, военная реформа далеко не имеет того значения, какое имела реформа крестьянская. На это осмеливаюсь возразить, что в крестьянской реформе правительство имело за собой массу народа, общественное мнение, восторженное настроение деятелей и исполнителей. В военной реформе, напротив того, все будет наоборот.
Великодушное самоотвержение всех сословий, выразившееся во всеподданнейших адресах, должно скорее усиливать, чем ослаблять заботливость правительства при введении тяжелой натуральной повинности. В крестьянской реформе правительство являлось сдерживающим элементом, оно должно было, в большей части случаев, удерживать исполнителей и оберегать частные интересы. В военной реформе, напротив, строгий надзор за точным исполнением обязанностей всех органов власти и охранение правительственного интереса составит существенную задачу правительства.
При таких условиях всякое колебание или шаткость мероприятия гибельно отзовется на деле и может сильно повредить достоинству правительства.
Не стану утруждать внимание Вашего Императорского Высочества подробным развитием моей мысли и указанием на те дела и вопросы, которые с первого же дня издания Манифеста должны были бы подлежать рассмотрению Главного комитета по воинской повинности. Цель настоящего моего представления заключается только в том, чтобы указать на мысль, подвергнув ее на благоусмотрение Вашего Императорского Высочества.
24-го декабря. Вчера великий князь сказал мне, что получил, очень сочувствует, но положительно отказывается от председательства в этом Главном комитете, хотя чувствует, что, кроме него, никто не может председательствовать.
Но я сегодня узнал через Сольского (государственные секретарь), которому великий князь передал мое письмо, что мысль моя занимает великого князя и что он поручил Сольскому переговорить о ней с военным министром.
27-го декабря. Сегодня было экстренное заседание Государственного совета для утверждения сметы на 1874 год и для подписания журнала о воинской повинности. Тут я узнал, что мысль моя об учреждении постоянного присутствия для сосредоточения всех дел по воинской повинности, по всей вероятности, осуществится: военный министр с радостью на нее соглашается и, вероятно, будет представлена государю о сохранении en permanence[274] Особого присутствия по воинской повинности в сокращенном виде.
На сих днях был у государя Совет министров, на котором, неизвестно по какому поводу и по какой причине, возбужден был вопрос о ближайшем надзоре за народными школами. Результатом этого заседания Совета министров вышел сегодня следующий неясный, бестолковый и безграмотный рескрипт.
Высочайший рескрипт.
На имя министра народного просвещения,
графа Д. А. Толстого
Граф Дмитрий Андреевич.
В постоянных заботах о благе Моего народа, Я обращаю особое внимание на дело народного просвещения, видя в нем движущую силу всякого успеха и утверждение тех нравственных основ, на которых зиждутся государства. Дабы способствовать самостоятельному и плодотворному развитию народного образования в России, Я утвердил в 1871 и 1872-х годах, согласно с такими моими видами, уставы средних учебных заведений вверенного Вам ведомства, долженствующих дать вполне основательное общее образование юношеству, готовящемуся к занятиям высшими науками, а не предназначающих себя к оным приспособлять к полезной практической деятельности. Заботясь равно о том, чтобы свет благого просвещения распространялся во всех слоях населения, Я повелел учредить учительские институты и семинарии для приготовления наставников народных училищ, городских и сельских. Сами училища эти должны получить указанное им правильное устройство и развитие, сообразно с потребностями времени и замечаемым в настоящую пору повсеместно в империи стремлением к образованию. Я надеюсь, что ожидаемое вследствие сего размножение народных училищ распространит в населениях, вместе с грамотностью, ясное разумение божественных истин учения Христова с живым и деятельным чувством гражданского долга.
Но достижение цели, для блага народного столь важной, подлежит предусмотрительно обеспечить. То, что в предначертаниях моих должно служить к истинному просвещению молодых поколений, могло бы, при недостатке попечительного наблюдения, быть обращаемо в оружие нравственного растления народа, к чему уже обнаружены некоторые попытки, и отклонить его от тех верований, под сенью которых в течение веков собиралась, крепла и возвеличивалась Россия.
Как лицо, призванное Моим доверием к осуществлению Моих предначертаний по части народного просвещения, Вы усугубите всегда отличавшее Вас рвениє к тому, чтобы положенные в основу воспитания начала веры, нравственности, гражданского долга и основательности учения были ограждены и обеспечены от всякого колебания. Согласно с сим, Я вменяю в полную обязанность непременно оказывать в сем деле Вам полное содействие.
Дело народного образования — в духе религии и нравственности — есть дело столь великое и священное, что поддержанию и упрочению его в сем истинно благом направлении должно служить не одно только духовенство, но и все просвещеннейшие люди страны. Российскому дворянству, всегда служившему живым примером доблести и преданности долгу гражданина, по преимуществу предлежит в сем попечение. Я призываю верное мое дворянство стать на страже народной школы. Да поможет оно правительству бдительным наблюдением на месте к ограждению оной от тлетворных и пагубных влияний. Возлагая на него и в сем деле мое доверие, Я повелеваю Вам, по соглашению с министром внутренних дел, обратиться к местным предводителям дворянства, дабы они, в звании попечителей начальных училищ в их губерниях и уездах и на основании прав, которые им будут предоставлены особыми о том постановлениями, способствовали ближайшим своим участием к обеспечению нравственного направления этих школ, а также их благоустройству и размножению.
Александр.
По прочтении этой ерунды всякий спросит: «Что сей сон означает?». Действительно, трудно понять, что хотят сказать этим рескриптом. Из подробных расспросов нескольких лиц, бывших в Совете, оказывается следующее: Толстой, Шувалов, Тимашев с содействием Валуева приготовили рескрипт, который был прочтен в Совете у государя. Никто из присутствующих, кроме упомянутых лиц, не был предупрежден об этом. Все были в недоумении и не могли объяснить себе ни цели, ни повода рескрипта, тем более что в настоящее время находится на рассмотрении в Государственном совете целый проект об устройстве инспекций за народными школами, и в том проекте ничего не говорится о дворянстве. Говорят, князь Горчаков сильно возражал против издания акта, который, не имея никакого практического применения, произведет недоумение. Он умолял государя отказаться от этой мысли, доказывая, что за границей невольно подумают, что наши народные школы находятся в каком-то буйном настроении, когда понадобилось сделать воззвание к целому сословию дворянства и призвать его на помощь правительству. В смысле непрактичности этой меры говорили Урусов, Строганов и великий князь Константин Николаевич, сей последний, говорят, с большим жаром и толком. Государь настаивал на необходимости, между прочим, показать дворянству какой-либо знак доверия в ту минуту, когда при общеобязательной воинской повинности у него отнимается последняя привилегия. Кроме того, он указал на необходимость принять самые решительные меры против революционной пропаганды, будто бы сильно распространяющейся в России через народные школы. В заключение государь обратился к наследнику и спросил его мнение. Говорят, до сих пор не было примера, чтобы государь в присутствии других вызывал наследника на ответ. Он сконфузился, но, не менее того, ясно и положительно ответил, что не ожидает от этой меры никакой пользы, а полагает, что она, напротив, произведет замешательство. На это государь с видимым неудовольствием сказал, что он другого мнения, и, обращаясь к наследнику, сказал: «Я делаю это для тебя и для твоего сына более, чем для себя», и затем объявил, что, несмотря на мнение сына и брата, он остается в убеждении, что рескрипт будет полезен, но что редакцию этого рескрипта можно будет смягчить, по соглашению с князем Горчаковым. Из этого соглашения и вышла та редакция, которая обнародована, из которой ясно только то, что писавшие ее — плохие редакторы. Не подлежит сомнению только одно, что в умах Шувалова и К° что-то бродит, что они, видимо, около чего-то вертятся, но не умеют даже приняться за осуществление какой-либо мысли. В основании же всего лежит какой-то страх каких-то несуществующих опасностей, на котором плетут постоянно всякую канитель. Из газет одни только, вероятно, «Московские ведомости» решатся сказать что-нибудь об этом рескрипте, а так как Катков, положительно, уже решительно предался Шувалову, то, вероятно, и сам рескрипт вышел с его ведома, а потому он и даст ему какое-нибудь объяснение. Посмотрим…
30-го декабря. В Новый год объявлены будут назначения: Абазу — на место Чевкина председателем Департамента экономии; Грейга — на место Абазы государственным контролером и Шамшина — на место Грейга товарищем министра финансов. Это последнее назначение очень всех удивляет. Шамшин ни по способностям своим, ни по положению, занимаемому им в Министерстве финансов, где он уже несколько лет директор Кредитной канцелярии, не заслуживает такого повышения. Но что же делать — с каждым годом поневоле общий уровень людей, выступающих вперед, должен, по необходимости, падать, ибо из людей не заподозренных т. е. не участвовавших в прежних реформах, нет никого, чем-либо заслуживающего повышения, и клика, ныне господствующая, не допустит в дело никого мало-мальски способного и с характером.
Грейг принял место государственного контролера с неудовольствием, считая его ниже своего достоинства. Он мечтал быть или министром финансов, или министром государственных имуществ. Честолюбие и крайняя самоуверенность Грейга заставляла его желать получить портфель финансов, но теперь он видит, что Абаза имеет больше шансов получить это министерство, ежели оно будет вакантным, а к Министерству государственных имуществ его влечет желание комфорта и приятной, нетрудной обязанности. Вероятно, он получит это министерство, когда по каким-либо причинам его оставит Валуев. Никакого прока я от Грейга не ожидаю. Ежели бы он был не столь самоуверен, невежествен и, в особенности, не относился бы с таким презрением к изучению России, то из него мог бы выйти полезный человек, потому что он не лишен способностей. Он начал свою службу на гражданском поприще, под моим начальством, в Комиссариатском департаменте Морского министерства. Великий князь, уезжая, кажется, в 1855-м или 1856-м году за границу, просил меня взять Грейга, бывшего при нем адъютантом, для ознакомления с делами. По возвращении великого князя я аттестовал Грейга как способного молодого человека. Делу я его, разумеется, в короткое время научить не мог, но он без моего содействия был тверд в другой науке, в которой я был совершенный невежда, а именно он оказался великим мастером прокладывать себе дорогу не работой, а ловкостью, так что скоро сделался директором Канцелярии Морского министерства, сломал шею Милютину, управляющему Морским министерством, и посадил на его место Краббе, также ловкого господина, и, не будучи никогда моряком, получил чин и мундир. Потом, не участвуя ни в какой работе, ни по какой реформе, держал себя в стороне, сделался другом великого князя и притом сохранил дружеские отношения с Шуваловым. Его сильной поддержкой пользуется и теперь, умеет вовремя представляться благонамеренным, вовремя либеральничать и с необыкновенным мастерством лавирует теперь между партией великого князя и Шувалова, так что тот и другой считают его своим человеком. Повторяю, ничего путного из этого не выйдет.
Абаза будет вполне на своем месте. Этот человек оказался даже более годным, чем я ожидал. Он отлично себя поставил и будет очень полезен и в настоящем, и в будущем.
Сегодня был у государя Совет министров, в котором окончательно решено составить общее присутствие Государственного совета для рассмотрения всех законодательных мер по исполнению воинской реформы и по надзору за исполнением. Великий князь назначается председателем этого присутствия… Таким образом, заявленная мною мысль осуществилась. Я рад этому, ибо уверен, что она полезна. Манифест об общеобязательной повинности завтра еще не выйдет, ибо государь еще не подписал его, но, вероятно, на днях будет обнародован. Замечательно, что государь, даже на словах, не выразил Милютину — военному министру — благодарности за его работу…
1874 год
2-го января. Сегодня вышел прилагаемый при сем Манифест. Он очень хорош. Его писал Сольский. Вчера выхода не было, потому что на днях приехал жених — принц Альфред[275] — и хотят отдохнуть перед праздниками и разными встречами иностранных гостей.
Манифест
Божиею милостью
Мы, Александр Второй,
император и самодержец всероссийский,
царь польский, великий князь финляндский
и прочая, и прочая, и прочая
Объявляем всем верным нашим верноподданным.
В постоянной заботливости о благе нашей империи и даровании ей лучших учреждений Мы не могли не обратить внимание на существовавший до сего времени порядок отправления воинской повинности. По действовавшим доныне узаконениям, повинность эта возлагалась лишь на сословие мещан и крестьян, и значительная часть русских подданных изъята была от обязанности, которая должна быть для всех одинаково священна. Такой порядок, сложившийся при иных обстоятельствах, не согласуясь с изменившимися условиями государственного быта, не удовлетворяет и настоящим военным требованиям. Новейшие события доказали, что сила государств не в одной численности войска, но, преимущественно, в нравственных и умственных его качествах, достигающих высшего развития лишь тогда, когда дело защиты Отечества становится общим делом народа, когда все, без различий званий и состояний[276], соединяются на это святое дело.
Признав необходимым преобразовать устройство военных сил империи, на основании указаний современного опыта, мы, в 1870-м году, повелели военному министру приступить к составлению предположения о более совершенном способе пополнения наших войск, с привлечением к воинской повинности всех вообще сословий.
Испытанная готовность наших подданных приносить себя в жертву Родине служила нам ручательством, что призыв наш встретит в русских сердцах сочувственный отголосок. Мы в этом не ошиблись. Наше доблестное дворянство и другие не подлежащие рекрутству сословия в многократных заявлениях выразили нам радостное желание разделить с остальным народом тягости обязательной военной службы.
Мы приняли эти заявления с отрадным чувством гордости и благоговейною признательностью к Провидению, вручившему нам скипетр над народом, в котором любовь к отечеству и самоотвержение составляют заветное, из рода в род переходящее состояние всех сословий. Для предначертания на указанных новых началах нового устава о воинской повинности была затем образована Комиссия особая из чинов разных ведомств и других лиц, обладающих надлежащими по этой части сведениями. Составленный Комиссией и после подробного обсуждения исправленный Государственным советом устав вполне соответствует нашим видам. Исходя от основного положения, что защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного, устав сей привлекает к участию в отправлении воинской повинности все мужское население, без допущения денежного выкупа для замены охотниками. Действие нового закона не должно распространяться лишь на казачье население, несущее военную службу в установленном для него порядке, а также на некоторых инородцев, на Кавказский край и другие поименованные в указе нашем Правительствующему Сенату отдаленные местности, для которых будут изданы особые положения. За сими исключениями и некоторыми в том же указе означенными временными льготами, мужское население империи и Царства Польского по достижении 20 лет будет подлежать жребию, которым определяется один раз навсегда, кто обязан идти на действительную службу и кто остается от нее свободным. Для поступивших в сухопутные войска хотя полагается общий 15-летний срок службы, но по истечении 6-ти лет, а в случае возможности и ранее того, они будут распускаемы по домам с обязанностью являться под знамена по призывам правительства лишь в случаях чрезвычайной военной надобности. Поступающим во флот и в войска, в некоторых отдаленных местностях расположенные, назначаются особые сроки службы. Для молодых людей, обучавшихся в училищах, не исключая и начальных, продолжительность пребывания в войсках в мирное время значительно сокращается, соответственно степени и роду полученного им образования, и, сверх того, предоставляются им другие важные облегчения.
Утвердив составленный, согласно с сими основаниями, устав о воинской повинности и призывая подданных наших именем дорогой всем нам отчизны к ревностному исполнению возлагаемых на них обязанностей, Мы не имеем намерения отступать от начал, которым неуклонно следовали во все наше царствование. Мы не ищем, как не искали до сих пор, блеска военной славы и лучшим жребием, ниспосланным нам от Бога, почитаем вести Россию к величию путем мирного преуспевания и всестороннего внутреннего развития. Устройство могущественной военной силы не остановит и не замедлит этого развития; оно, напротив, обеспечит правильный и непрерывный ход оного, ограждая безопасность государства и предупреждая всякое посягательство на его спокойствие. Даруемые же ныне важные преимущества молодым людям, получившим образование, да будут новым орудием к распространению в народе нашем истинного просвещения, в котором мы видим основание и залог его будущего благоденствия.
Дан в С.-Петербурге, января в 1-ый день,
в лето от рождества Христова 1874, Царствования же
нашего в 19-ое.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано:
«Александр».
Печатано в С.-Петербургской, при Сенате, типографии,
января, 2-го дня, 1874 года.
4-го января. По поводу рескрипта Толстому уже начинаются разные агитации. В Москве дворянство приготовило благодарственный адрес. Притом, говорят, князь Щербатов и Самарин протестовали, но безуспешно.
А вот что пишет «Голос» в передовой статье:
«Голос» от 7-го января 1874 г.
«Первый день прошлой недели ознаменовался изданием закона о воинской повинности, важность и значение которого для нашей культуры едва ли в настоящее время могут быть определены даже приблизительно. Начало прекращения сословной розни и уничтожения несправедливых привилегий положено незабвенным Манифестом 19-го февраля 1861-го года, который касался двух крайних общественных состояний — дворянства и крестьян. Следовавшая за этим преобразованием судебная реформа уравняла перед судом и законом всех граждан Русской земли. В том же направлении совершились преобразования земского и городского самоуправления, где высшее, среднее и низшее сословия привлечены были к равному участию в делах. Манифест 1-го января 1874-го года дополняет дело уравнения сословий, давая применение этому принципу в самых широких размерах и в более рельефной форме».
Видимо, эта статья написана в ответ адресу. Действительно, странно — на деле у дворянства отнята последняя привилегия, а на словах говорят еще о каком-то призвании дворянства. Дворянство же отвечает надеждою, что последует какое-то обновление самого учреждения дворянства, и на это также государь отвечает, что он очень доволен. Что из всего этого можно понять… Говорят, на днях государь прочел адрес московского дворянства в присутствии представлявшихся ему предводителей других губерний и сказал, что в московском адресе выражены именно те чувства и мысли, которые он имеет.
11-го января. Сегодня отпраздновали с подобающим великолепием свадьбу великой княгини Марии Александровны с принцем Эдинбургским Альфредом. Что-то принесет нам этот союз…
Праздникам нет конца. Герцог и герцогиня Гальские, по-видимому, очень любят танцевать и веселиться, а герцог, кроме того, говорят, большой охотник выпить, и наши молодые князья — Владимир и Алексей, и в особенности первый, ему не уступают, поэтому попойкам и кутежам нет конца. В особенности, говорят, молодежь отличалась в Москве, где каждую ночь во все время их пребывания происходил кутеж с цыганами. Редко двор приезжает в Москву, и потому каждое действие каждого лица строго замечается и судится. Скандал последнего пребывания, говорят, произвел самое неприятное впечатление. Хорошо, по крайней мере, то, что ни государь, ни наследник, ни молодой муж не принимали участия в этих вакханалиях. Теперь, на днях, ожидают приезда императора Австрийского, и по этому случаю начнутся вновь официальные празднества и торжества. Не знаю, насколько все эти дружеские излияния царственных особ могут упрочить мир и согласие, но, к сожалению, они не уменьшают усиленного вооружения, и все государства Европы продолжают разоряться на преобразование и вооружение огромных армий. Для нас большой прилив иностранцев, и в особенности англичан, имеет ту хорошую сторону, что иностранцы уносят от нас благоприятные впечатления, по крайней мере те, которые посерьезнее. В числе сих последних замечателен декан Вестминстерского аббатства Станлей, совершавший здесь английский обряд венчания герцога Эдинбургского.
Этот ученый муж уже прежде бывал в России и занимался изучением православной церкви, он очень сочувственно относится к многому тому, что у нас хорошего, и с его слов многие «русские» начинают думать, что действительно в нашей церкви и в духе нашего народа не все мерзость, варварство и запустение. Сегодня Станлей был в заседании Общества духовного просвещения и Победоносцев приветствовал его речью на французском языке, весьма хорошо составленною.
10-го марта. С лишком два месяца не заносил ничего в свой дневник, потому что за это время не происходило ничего особенного в общественной жизни и в правительственных сферах.
Праздники по случаю бракосочетания Марии Александровны наконец кончились, все разъехались, наступило относительно спокойное время. В Государственном совете законодательная работа сильно отодвинулась. Съезд Земельных банков кончился, труды его будут напечатаны. Вопрос о раскольничьих браках не только уже решен в Общем собрании Государственного совета, но уже утвержден в самом либеральном смысле государем. Из совокупности различных эпизодов, возникших при обсуждении этого вопроса в Общем собрании Государственного совета, выяснилось, что руководители всего этого дела — граф Шувалов и Валуев — опасались противодействия со стороны государя, ежели дело будет представлено в настоящем его виде, т. е. что этим законом, с одной стороны, официально признается раскол за законное явление, а с другой, — допускается в нашем законодательстве принцип гражданского брака; чтобы маскировать эти проявления либерализма, не вяжущиеся с общим настроением государя и его современных важных и облеченных довериєм слуг, придумывались разные комбинации, более реакционные, чем касающиеся до существа. В мотивах журнала написаны такие рассуждения, которые, конечно, удивят будущего историка своей несообразностью и своим противоречием. Когда читал журнал Общего собрания, мне постоянно хотелось спросить: «Qui est се qui on trompe ici?»[277]
Как бы то ни было, но дело сделано, и на нем не остановятся. В непродолжительном времени представлены будут меры, уже прямо устанавливающие равноправие всех раскольнических сект с православной церковью. Но так как равноправности между церковью, находящейся в полном и рабском подчинении светской власти, и церковью, вне всякого подчинения состоящей, быть не может, то на деле церковное устройство раскола будет иметь столь огромное преимущество перед господствующей православной церковью, что преобладание первой, по моему мнению, несомненно, ежели господствующая православная церковь тем или другим путем не выйдет из своего униженного и порабощенного состояния.
Мне кажется, в недалеком будущем православная церковь должна будет пробудиться или слиться с расколом, чтобы этим путем получить свободу. Не думаю, чтобы главные руководители раскольнического вопроса сознавали всю важность этого вопроса, но, по моему мнению, можно скорее радоваться, что так сложились обстоятельства. Конечно, можно было бы желать, чтобы православная церковь освободилась бы более правильным и мирным путем от своих мертвящих оков, но так как, по-видимому, без внешнего толчка ничего нельзя ожидать от нынешних представителей нашей церковной иерархии, то, может быть, и недурно, что гром наконец грянул — авось Синод и перекрестится. Любопытно будет посмотреть, какой modus vivendi[278] будет приискан для совместного существования двух церковных православных иерархий — раскольничьей и православной. Я не сомневаюсь, что лучшие представители нашей церкви станут во главе раскольничьего движения, когда увидят ясно, что этим путем они могут восстановить свободную православную церковь, они очистят раскол от его грубых и невежественных элементов, и тогда неудивительно будет, ежели в недрах официальной православной церкви <останется> лишь одно придворное духовенство с его паствой. Как бы в подтверждение моего предсказания представляются факты, все более и более предвещающие близкое ослабление официальной силы, под охраной которой заглохла наша православная церковь.
Свадьба великого князя Владимира Александровича на принцессе Мекленбург-Шверинской, о которой говорили 2 года тому назад, теперь уже решена. Принцесса — протестантка и решительно отказалась принять православие, это непреодолимое до сих пор препятствие только отсрочило на время эту свадьбу. Наконец, государю надоело стесняться этим, будто бы ничтожным и варварским, препятствием, и он согласился на брак, хотя императрица явно ему не сочувствует. Тут дело вовсе не в религиозной терпимости, а в соображениях другого рода, на которых остановиться не хотят не только по легкомыслию, но и по непонятному отсутствию чувства собственного достоинства. Прежде всего, нужно знать, что принцесса Мекленбургская потому, главное, упорствует в своем желании остаться протестанткою, что под влиянием прусской политики она считает для немецкой принцессы теперь, когда все немцы после погрома Франции подняли головы, унизительным подчиняться каким-либо условиям. Эту мысль прямо мне высказал два года назад принц Август Вюртембергский, которого я видел проездом в Берлине, где перед моим приездом уже шла речь об устройстве этой свадьбы. Он мне сказал: «Vous pouver etre sur que maintenant aucune Princese Allemande ne voudra changer de religion en epousant Vos Princes»[279].
Этому, следовательно, политическому, а не религиозному упорству мы беспрекословно подчинились… Понятно, что все наши великие княгини должны бы быть этим оскорблены. Наконец, в основных законах наших об императорской фамилии именно определено, что все члены императорской фамилии, к которым может перейти право престолонаследия, должны быть женаты не иначе, как по принятии женами их православия. Все статьи основных законов утверждают за членами императорской фамилии разного рода льготы и преимущества, только эта одна статья определяет некоторое ограничение — ее-то и обходят… Этим создалась трудность, которая поставит в самое трудное положение будущего наследника престола в приискании себе невесты, ибо, конечно, уже нельзя будет требовать от какой-либо принцессы, чтобы она прилично подчинилась правилу, от которого уже допущено отступление. К тому же, ежели сделано исключение для протестантки, почему не допустить его и для католички?.. И вот с католической принцессой явится в придворный мир новый элемент всяких интриг и пакостей. Я уже не говорю о том, какое невыгодное положение произведет известие об этой свадьбе в России, — на это уже давно не обращают внимания; баррикад не будет — и довольно. Защитники этой новой проделки прусского влияния (нужно прибавить, что принцесса Мекленбургская — родная племянница принца Рейса, прусского посланника и любимца государя), защитники эти говорят, что лучше согласиться на этот брак, чем оставлять Владимира Александровича холостым и терпеть его бесчинства, публичный разврат и разгульную жизнь. Точно как будто бы уже нет никаких других средств, чтобы унять безобразия и разгул почти всей царственной семьи. В этом отношении распущенность действительно дошла до колоссальных размеров, и никакие цензурные запрещения не в состоянии оградить царственный престиж от унижения, когда разгульная молодежь, не сдержанная ни страхом ответственности, ни чувством приличия, ни собственным достоинством безнаказанно и публично топчет в грязь свое царственное звание.
На днях в особенности обнаружилось одно мерзкое дело, о котором говорит теперь весь город. Великий князь Николай Константинович, старший сын Константина Николаевича, обличен в краже бриллиантов с образов своей матери и других вещей в разных местах, кроме того, в разных других мерзостях, о которых говорят различно. Живя открыто в связи с какой-то американкою, он ей передавал эти вещи и вместе с нею пьянствовал. Это несчастное дело обнаружилось почти накануне отъезда государя и великого князя Константина Николаевича на свадьбу дочери Ольги Константиновны. Государь и великий князь, естественно, поражены и огорчены этим делом. Решено признать Николая Константиновича сумасшедшим, что, может быть, отчасти и правда, ибо мать его была положительно сумасшедшей и теперь по временам сумасшествует. Дальнейшая участь этого мерзкого дела будет, вероятно, решена по возвращении великого князя из Штутгарта. Я глубоко скорблю за бедного Константина Николаевича, для которого это будет весьма чувствительный удар, ибо он, кажется, этого сына любит. Ужасно подумать, сколько горя имеет этот человек в своей семье. Но и он не может быть освобожден от доли ответственности за все эти безобразия.
Вообще уже сам опыт указывает на необходимость изменить положение императорской фамилии, она так размножается, что в весьма непродолжительном времени никакие финансы не в состоянии будут выдержать огромных расходов, производимых из казны и из Удельного ведомства[280], на содержание всех лиц столь многочисленной фамилии. Ежели не положен будет предел этому возрастанию вне общих законов состоящих многочисленных семейств, то скоро образуется целое племя особо привилегированных лиц, не подлежащих никаким повинностям и безответственным перед законом за свои дела. При той обстановке, при которой воспитываются и живут наши великие князья, только строгая дисциплина или строгий этикет могут поддержать какой-нибудь порядок. При покойном государе Николае Павловиче страх держал всех в пределах приличия, но при нынешнем государе великие князья мало-помалу освободились лично от всех стеснений и притом сохранили все льготы и преимущества, освобождающие их от тех обязательств и условных стеснений, которым невольно подчиняются все частные люди, над поведением которых существует контроль общественного мнения, гласности и, наконец, полиции и суда. Последствием этого является ряд скандалов, даже уголовных преступлений среди царского семейства, которые остаются почти безнаказанными. Так, несколько лет тому назад старший сын принца Петра Георгиевича Ольденбургского — принц Николай, командуя каким-то армейским полком, бросил без разрешения полк, увез какую-то барышню, обвенчался с нею, представив подложные документы, и скрылся. Его поймали, лишили майората[281], на короткое время разжаловали, а теперь он опять на службе генералом и живет с женой в Петербурге. Потом, сын Марии Николаевны, Евгений Лейхтенбергский, будучи в военной службе, бежал за границу с француженкой, обманул на границе чиновников, его поймали в Берлине, возвратили назад, продержали некоторое время в Петергофе, а потом опять простили и позволили ему жениться на девице Опочининой. Старший брат его — Николай Лейхтенбергский — также, будучи на службе флигель-адъютантом, бежал за границу с замужней женщиной, г. Акинфиевой, где и живет до сих пор безнаказанно и считается в отпуске. Засим, великий князь Алексей Александрович связался с фрейлиной Жуковской, дочерью поэта, сиротой, принятой под особое попечение государя и императрицы, и во дворце безнаказанно был с нею в связи, пока она <не> забеременела, тогда ее услали за границу, где она и родила, а его послали в кругосветное плавание, где он пропутешествовал почти 3 года, что также немало стоило денег, а теперь опять здесь и открыто живет с француженкой. Теперь, наконец, новый и самый крупный скандал, который не может быть скрыт признанием Николая Константиновича сумасшедшим. Все эти факты должны же, наконец, заставить подумать серьезно о сохранении ежели уже не престижа, то хотя бы репутации честных людей за семейством, к которому привыкли до сих пор обращаться с благоговением.
13-го мая. Сегодня было последнее заседание Общего собрания Государственного совета. В течение сессии нынешнего года много было рассмотрено важных дел, не говоря уже о воинской повинности и вопросе о раскольнических браках. Сегодня прошло положение о гласных судах в Царстве Польском, об отмене натуральной постоянной повинности, об уничтожении мировых посредников, о вредных сообществах. Теперь же до октября законодательное сражение закрывается, к общему удовольствию законодателей и, я думаю, без особого вреда государству.
Прием, сделанный государю в Англии, превзошел все ожидания. Его приветствуют восторженными заявлениями как освободителя и реформатора. Здесь он сердился, когда напоминали ему о славных реформах его, быть может, там он опять очнется и перестанет раскаиваться в увлечениях первой половины своего царствования. Теперь, по случаю вакантного времени, я совершенно свободен от служебных обязанностей и мог бы ехать в деревню, но меня задерживают экзамены детей и необходимость хоть раз в неделю быть в банке, где дела идут, благодаря Богу, успешно, и ожидания мои относительно денежных выгод вполне оправдались; благодаря этому обстоятельству я кое-как, без больших долгов, свожу концы с концами. В течение лета должен буду много читать и готовиться к возложенной на меня работе — составлению нового законоположения об отчуждениях для общественной пользы.
Пользуясь вакантным временем, я совершил весьма приятную и полезную прогулку. Я съездил в Лондон, пробыл там неделю, побывал в Париже и в Брюсселе и вернулся на прошедшей неделе весьма благополучно в Петербург. Жена с детьми проводит лето в Никольском.
Я очень доволен своей поездкой в Лондон. Все, что я там видел, превзошло мои ожидания, не говоря уже о громадности самого города, о своеобразности его жизни. Я поражен величием и целостностью народного духа, проявляющегося во всем, как в государственных учреждениях, так и в подробных мелочах общественной и частной жизни. Я еще более убедился в том, что Англия не может служить образцом ни для одного континентального государства, что всякий административный и даже полицейский порядок так тесно связан с особенностями народного духа и характера, что, перенесенный на другую почву, этот порядок теряет всякий смысл и значение. В неделю едва можно успеть обозреть главные достопримечательности Лондона, но даже после этого краткого обозрения останется впечатление весьма глубокое и совершенно отличное от того, которое я до сих пор выносил из моих путешествий по Европе. Хотя я знал, что воскресный день строго чтится в Англии, но я никак не воображал, чтобы целый народ и город в 3 миллиона жителей мог бы так единодушно подчиниться такому, в сущности, довольно тягостному условию для проявления своего уважения к отвлеченному принципу и обычаю, никаким законом не предписанным. В воскресный день весь Лондон точно вымирает — на самых оживленных улицах, где в обыкновенные дни едва можно пробраться, не видим ни одного экипажа. Все дела останавливаются, почти все рестораны заперты, и даже почта не разносит писем. Во многих местах телеграф не действует. Нет ни одного народа на континенте, который в состоянии бы был представить образец подобного серьезного подчинения своего комфорта какой-либо отвлеченной идее. К сожалению, не зная языка, я не мог подробно ознакомиться даже с теми предметами, которые видел. В парламенте мог только наглядно утвердиться во мнении, что это учреждение соответствует величию народа. Внешнее устройство парламента великолепно. Я осмотрел все его залы, библиотеку при вечернем освещении. Погода во все время пребывания моего в Лондоне была великолепная, ночи теплые, и к довершению очарования новая, неожиданная комета блистала в полном блеске. При первой возможности вновь поеду в Лондон, чтобы ознакомиться с частной, семейной стороной английской жизни. Эта сторона представляет много оригинального. В Лондоне во время сезона, когда я был, вся жизнь мужчин сосредоточена в клубах, и ежели судить по этому времени, то можно бы ошибочно предполагать, что семейной жизни не существует. Даже на улицах редко встречаем мужчин вместе с женщинами. Мне кажется, что начала, на которых зиждется политическая и социальная жизнь Англии, так крепки, что они еще долго выдержат напор новых идей и учений.
Совсем иное впечатление производит сейчас несчастная Франция. Я поехал в Париж, узнав, что там готовится бурное заседание в Национальном собрании по поводу предложения Казимира Перье об объявлении республиканской формы правления во Франции. Мне удалось получить от князя Орлова, нашего посланника, письмо к председателю Национального собрания. Он принял меня очень любезно в Версале и дал мне билет на своей трибуне, так что я с 2-х часов и до 6-ти часов вечера мог насладиться самым курьезным зрелищем распадающегося государства. Кроме внешнего безобразия, неприличных криков и хохота толпы представителей различных пожирающих друг друга партий, меня поразило отсутствие серьезности и каких-либо убеждений со стороны лучших представителей интеллигентности нынешней Франции. Я вынес убеждение, что только новая Коммуна, которая бы с большей против прежнего силой и могуществом пронеистовствовала бы над Францией, может спасти ее от конечной гибели. Только сильная реакция в пользу порядка, вызванная страхом, может теперь соединить французов к какому-нибудь единодушному действию. Нет ни одного нравственного начала, во имя которого они могли бы соединиться. Нет ни одной формы правления, которая не была бы ими испробована. Остается одна надежда — это страх, под гнетом которого реакция может получить силу для ограничения свободы, при которой никакое правительство во Франции немыслимо. Я убежден, что всякая партия, которая возьмет теперь верх и захочет утвердить что-нибудь прочное, ежели ей не подготовит почву новая Коммуна, не будет долговечна. Одним словом, мне кажется, что Францию может спасти только новое внутреннее сильное междоусобие со всеми ужасами Коммуны и социального переворота.
Здесь у нас, во время моего отсутствия, произошли весьма важные перемены: граф Шувалов — шеф жандармов — назначен в Лондон посланником на место Брунова; на место Шувалова — Потапов[282]; на место Потапова — Альбединский. Граф Бобринский — министр путей сообщений — уволен со скандалом, без всякого назначения, зачислен по запасным войскам, а адмирал Посьет назначен на его место.
О новом назначении Шувалова я еще знал перед отъездом, а потому известие это меня не удивило. Только здесь объясняют его назначение охлаждением и как бы нерасположением к сему фавориту. А я не видел и не вижу до сих пор оснований к подобному объяснению. Говорят, будто государю было неприятно, будто Шувалов стал в последнее время слишком откровенно принимать на себя роль первого министра, что будто бы Игнатьев, председатель Комитета министров, подавал даже государю какую-то записку об этом. Что будто бы княжна Долгорукая враждебно относилась к Шувалову и повредила ему, что, наконец, самому государю надоело вмешательство Шувалова в чужие дела. Все это, на мой взгляд, неправдоподобно. Напечатанный вчера рескрипт не подтверждает это мнение.
Хотя рескрипты пишутся в услужливых канцеляриях, но тем не менее говорить об услугах России и называть опытным и умным советником по всем делам государственного управления нельзя без воли подписывающего рескрипт. Кроме того, собственноручная приписка «и благодарным» — есть во всяком случае признак милости, а не охлаждения. Мне дело представляется совершенно иначе. Я знаю, что Шувалов, и в особенности жена его, тяготились положением обер-шпиона, и когда он почувствовал, что орудие, которым он пробил себе дорогу к власти, ему уже услужило и он может обходиться и без него, то он пожелал передать его в другие руки, но только с тем, чтобы эти руки были безопасны. Положение министра иностранных дел ему улыбалось. Это действительно в обыкновенное мирное время — самое спокойное и независимое положение, совершенно в стороне от всех других министерств, ни за что не ответственное, огражденное от всяких столкновений и неприятностей администрации. Министр иностранных дел, ежели лично приятен государю и пользуется его доверием, может легко приобрести в общем управлении государством, как член Комитета министров и Совета, первенствующее значение и сделаться de facto[283] первым министром[284]. Вот этого-то положения и желает получить Шувалов. Расчет его верен — Горчаков стар, а ежели сам скоро не уйдет, то напакостить ему будет немудрено. Пост посланника дает право на занятие места министра иностранных дел. Все это может совершиться через год, много через два. А между тем государь будет ощущать отсутствие Шувалова.
Во-первых, он так набалован Шуваловым по части доносов, что Потапов едва ли сумеет удовлетворить этой потребности государя читать и слышать ежедневно разные сплетни по разным министерствам, нередко сочиняемые pour les besoins de la cause[285]. Во-вторых, Шувалов является каким-то примирителем различных столкновений разных министров и в той роли действовал успешно, имея многих министров своими послушными рабами. Он сам как будто возбуждал поводы к разным преткновениям, чтобы потом являться перед государем мудрым и умным советником и примирителем. Теперь все подобные случаи будут приходить к государю в сыром, так сказать, виде. Ему нужно будет приложить более усилий, чтобы придумать разрешение. К тому же личные вопросы всегда щекотливы и неприятны. Не раз государь пожалеет, что нет Шувалова, и когда, наконец, Шувалов явится в качестве какого-нибудь министра, то он сделается более, чем когда-либо, сильным человеком. Вот, мне кажется, в чем заключается безошибочный расчет Шувалова. Кроме того, он человек честолюбивый и желал бы что-нибудь сделать, оставив о себе память. К сожалению, крайнее невежество, незнание России и отсутствие всякой житейской опытности, взамен которой в нем развита способность к придворной интриге, а с нею умение пользоваться только малыми средствами, с мелким взглядом на вещи. Эти недостатки делали бесплодными все его попытки сделать что-нибудь серьезное. Он великий либерал в совершенно отвлеченном западном смысле, и потому бесплодном для России. Про него можно сказать: «Quii est liberal en gros et tres despote au detail»[286]. И это потому, что не развита у него, вследствие крайнего невежества, способность понимать отношение частного к общему. Он — великий поклонник конституционной формы правления и не прочь завтра же придумать для России какую-нибудь комедию или призрак конституции, но в то же время сам будет предлагать меры против необходимых последствий реформы. Он широко понимает принцип liberté de conscience[287]; в приложении его готов будет дойти до инквизиции. Он враг принципа национальности не менее самого передового нигилиста, но это только потому, что презирает свою национальность и готов защищать всякую другую в ущерб своей. Притом, к сожалению, не умеет выбирать людей, боится способных и не доверяет им. При таких недостатках — я не верю, чтобы когда-нибудь из Шувалова вышел бы государственный, полезный для России человек. Природный ум его испорчен и, так сказать, развращен полицейской службой, в которой он сделал всю свою карьеру. Про него можно сказать, что его с детства мамка зашибла, а эта мамка — III Отделение. Это может замутить самый светлый ум. Во все время своего владычества Шувалов не выдвинул ни одного мало-мальски способного человека. Я произношу свое суждение о Шувалове совершенно беспристрастно. Я не имел с ним лично никаких таких столкновений, которые бы объяснили его вражду ко мне. Но мы друг другу не сочувствовали. Он имел случай мне повредить и, вероятно, делал это с убеждением, что я вреден буду тому направлению, в котором он действовал. На его месте, вероятно, я сделал бы то же. История оценит его деятельность, относя ее ко второй половине настоящего царствования. Мне отрадно считать себя хотя второстепенным деятелем первой половины, чем быть главным деятелем второй.
О графе Бобринском[288] можно только удивляться, как его долго терпели министром, — это полоумный, бессовестный и нахальный человек, он держался только Шуваловым, который предполагал в нем большие государственные способности, потому что он обо всем судил и рядил и не лишен был, действительно, ума, но от матери своей унаследовал безмозглость, отличавшую поляков, т. е. сумбур и путаницу во всем, что говорит и делает.
Прежде его двоюродный брат, Владимир Алексеевич Бобринский, напутал так в этом несчастном Министерстве путей сообщений, что никто ничего не мог сообразить, а теперь окончательно Алексей Павлович довел это управление до такого безобразия, что едва ли адмирал Посьет[289], ничем никогда не управлявший и никогда в администрации не служивший, способен будет ввести какой-нибудь порядок. К тому же Посьет — моряк, а сколько я знаю наших моряков по долгому служению в их ведомстве, ни один из них ни на какое дело, кроме морского, не годится. Очень для меня будет удивительно, если Посьет кончит без скандала свое управление. Выбор Посьета — самого государя. Он сказал, что ему нужен в Министерстве путей сообщений моряк, чтобы устроить водные сообщения. Хорош резон…
Назначение Потапова[290] меня удивило, хотя я знал, что Шувалов будет всеми мерами стараться, чтобы место его не досталось в руки ловкого, подобного ему человека, который стал бы орудовать системой доносов для разных целей способом, им же указанным, но все-таки я не думал, чтобы государь остановил свой выбор на Потапове, ибо этот человек, кроме крайней ограниченности ума, не имеет также никаких привлекательных качеств для близких отношений. Потапов во всяком случае будет менее вреден в III Отделении, чем Шувалов, он будет ограничиваться чисто шпионской должностью, без особой хитрости. Но он не в состоянии будет отучить государя от привычки ежедневно лакомиться всякими вздорными доносами и сплетнями, которые до него и доходить никогда не должны были. Великий князь Константин Николаевич не может видеть Потапова. Он его терпеть не может и имеет о нем такое гнусное мнение, какоего он и не заслуживает. Наследник тоже не благоволит к Потапову. Все министры, пользовавшиеся поддержкой Шувалова, пали духом: граф Панин, граф Толстой, да, я думаю, и Валуев, и Тимашев недовольны этой переменой. Все эти господа боятся, что значение великого князя Константина Николаевича еще усилится. По окончании каникул, когда соберется Совет, все это разъяснится. В половине будущего месяца будет свадьба великого князя Владимира Александровича, говорят, не будет особенных празднеств. Во всяком случае я на них не буду, ибо намерен отправиться 29-го числа в Березичи, а потом, в августе, в Никольское.
По случаю экзамена детей я возвратился из Березичей к 10-му августа и, таким образом, попал в самый разгар свадебных празднеств при дворе. 15-го числа был торжественный въезд невесты великого князя Владимира Александровича, а на другой день — свадьба по обрядам православному и лютеранскому. В манифесте о свадьбе ничего не сказано, но великая княгиня остается лютеранкой, и в России узнают об этом только из церемониала.
Здесь, разумеется, этот факт остался как бы незамеченным. Невеста, а потом уже молодая, подходила к кресту без крестного знамения, на ектений[291] ее просто называли великой княгинею, а не благоверной. В царской семье, кажется, надеются, что она сама поймет свое фальшивое положение и перейдет в православие, а я никак не разделяю этой надежды, потому что в настойчивости этой немецкой принцессы сохранить лютеранскую веру более играют роль соображения политические, чем религиозные. Я уверен, что все меры будут приняты со стороны германского посольства, столь сильного при дворе, чтобы отклонить принцессу от этой мысли, ежели бы и действительно она к ней явилась. Расчет немцев очень верен. Теперь уже ни одна принцесса не пойдет замуж за русского великого князя с переменой религии. Таким образом, у нас не будет ни императриц, ни великих княгинь православных. И таким образом, единственная связь, которая хотя искусственно, но несомненно приобреталась ими с Россией, окончательно будет уничтожена. А так как религиозный элемент в семействе обыкновенно сосредоточивается в женской половине, которая и на первоначальное воспитание детей имеет самое решительное влияние, то несомненно, что в самом непродолжительном времени царственный дом наш совершенно будет чужд православию. И все это делается самими ими, без всякой нужды, по непонятному ослеплению.
Новая великая княгиня некрасива собою, великий князь, кажется, не особенно влюблен, да едва ли он способен на какое-нибудь серьезное чувство. Поэтому ничто не заставляло прибегнуть к важному отступлению от основного закона империи.
Вчера был в Царском Селе бал, а сегодня государь уезжает в Крым. Императрица также на сих днях туда едет, а оттуда в Англию, на родину великой княгини Эдинбургской. Эта поездка тоже просто смешна и, говорят, не одобряется самим государем, но уже привычка взята ни в чем себе не отказывать. Многие замечают, что с отсутствием Шувалова государь гораздо менее озабочен и смотрит веселее.
20-го ноября. Три месяца я ничего не заносил в эту тетрадь. В политическом мире — полное затишье, а у нас — полная остановка в делах. Только в начале месяца собрались министры и начались обычные заседания. Государь же только завтра возвращается из Ливадии, а императрица из Лондона, куда ездила к родам дочери, отправилась в южную Италию, где, вероятно, пробудет всю зиму. О ней только на днях появилась в «Правительственном вестнике» краткая заметка, что она по болезни должна была выехать из Лондона в Италию, но в течение почти 2-х месяцев ни одна русская газета ни словом не упоминала о том, где она, так что русская публика могла думать, что она без вести пропала. Впрочем, цель, которую преследуют, по-видимому, противники всякой гласности о действиях царской фамилии, кажется, заметно достигается. Публика, уже даже в провинции, перестает интересоваться ими. Хорошо ли это и согласно ли с интересами династическими — это скажет время.
Во многих местностях России производятся в усиленном виде аресты молодежи[292], все по поводу каких-то прокламаций. Газетам запрещено об этом говорить, а потому никто ничего хорошенько об этом не знает, и даже местные власти в губерниях совершенно не знают, за что арестуют, и даже не подозревают, чтобы в крае было какое-либо политическое волнение. Говорят, что большинство арестованной молодежи принадлежит к числу несчастных жертв крутой и в особенности круто и со злобой исполненной реформы в гимназиях. По этому поводу со всех сторон слышаться обвинения министра народного просвещения графа Толстого и говорят о его близком падении. Но эти слухи не имеют никакого основания[293]. Правда, Толстой в лице графа Шувалова лишился весьма сильной и, можно сказать, единственной опоры, но нет никаких признаков, чтобы государь решился теперь уволить Толстого, когда все реформы, им произведенные, утверждены были государем, вопреки мнению большинства Совета и сильной оппозиции других министров. В этом случае государь сделал величайшую ошибку, что оставил Толстого проводить эту реформу. В крестьянском деле, и даже в деле судебной реформы он поступил иначе, и хотя нам тогда казалось крайне абсурдным и вредным, что от исполнения крестьянской реформы устранены были все почти главнейшие деятели Редакционной комиссии и все дело было передано в руки людей, стоявших, в некоторой степени, в оппозиции этой реформе, однако на поверку надо сознаться, что это было очень хорошо, и ежели можно было отнести эту меру к сознательным действиям государя, то следовало бы назвать эту меру гениальною. В самом деле, лица, в течение нескольких лет работавшие усиленно над делом, в постоянной борьбе с препятствиями всякого рода, выносят столько накопившейся желчи и страсти, что от них нельзя ожидать нужного в деле спокойствия, беспристрастия и примирения. Я убежден, что ежели бы крестьянское дело оставлено было в исполнении в руках Милютина[294], то оно менее удачно и спокойно приведено было к окончанию. В большей, может быть, еще степени, следовало бы и в учебной реформе поступить так, как поступлено было в крестьянской. Толстой, уже по природе своей крайне желчный, упрямый, больной чужим здоровьем, еще более ожесточился в борьбе со встреченной им оппозицией не только в Государственном совете, в обществе, но даже и в своем ведомстве. Поэтому он приступил к делу с таким азартом, страстью и поспешностью, что положительно принес существенный вред и заслужил всеобщую ненависть. Реформа сама по себе не могла и не должна бы иметь таких последствий, но теперь она испорчена худым направлением и едва ли переживет своего творца.
Я уже 2 раза был назначен государем в комиссию для рассмотрения отчета министра просвещения. Комиссия эта обыкновенно назначалась под председательством графа С. Г. Строганова и состояла из 2-х членов Совета — Титова и меня. В первый год я воздержался от всяких замечаний, но в прошедшем году, при рассмотрении отчета графа Толстого за 1872 год, я решился высказать комиссии все, что у меня на душе. К сожалению, граф Строганов, который, вероятно, бы меня поддержал, так как из частных моих разговоров с ним я имел возможность убедиться, что он в многом разделял мой взгляд, граф Строганов, говорю, отказался от председательства, сказавшись больным, и уехал за границу, а на место его назначен был председателем комиссии принц Петр Георгиевич Ольденбургский. Хотя после этого назначения я убедился, что мне невозможно будет добиться никаких серьезных результатов от моих замечаний на отчет, но я все-таки решился их сделать и на первом же заседании прочел свою записку, в которой, по поводу жалобы графа Толстого, что вводимая им учебно-воспитательная реформа встречает со стороны некоторых ведомств систематическое противодействие, я указывал комиссии необходимость потребовать от министра подробного объяснения и представить государю заключение по столь знаменательному факту; а между тем я изложил в записке обстоятельства, которые, по моему мнению, независимо от каких-либо противодействий от других ведомств возбуждают в обществе неудовольствие и сомнения по поводу реформы. Я указал на все поспешные, неосторожные и односторонние меры, которые принимаются самим министром народного просвещения и которые могут иметь самые печальные последствия. По выслушании моей записки принц Ольденбургский, как и следовало ожидать, смутился. Со стороны других членов комиссии, гг. Титова и Делянова, я не надеялся найти поддержки. Но все-таки решено было пригласить министра на заседание и потребовать от него объяснений. Так необычно было для принца Ольденбургского слышать серьезную критику действий министра, что он неоднократно принимался меня уговаривать, чтобы я примирился и не оспаривал бы министра. Его, видимо, озабочивал исход нашего предстоящего спора с Толстым в заседании, и, чтобы успокоить нас, он придумал следующую шутку. В назначенный для заседания день, вечером, в 8 часов, мы — члены комиссии и министр — собрались во дворце у принца, и как только все были в сборе, он вдруг предложил нам пойти посмотреть в его доме церковь. Войдя в нее, к общему нашему удивлению, мы нашли ее освещенною adjiorno[295] и священника с диаконом в облачениях и певчих на клиросе. «Благослови, владыко», «Царю Небесный», и затем начался краткий молебен, окончившийся какою-то примирительной молитвой. Приложившись к кресту, мы с удивлением посмотрели друг на друга, не понимая, что все это значит и для чего такая торжественная религиозная обстановка. В кабинете был приготовлен стол заседания. Едва мы уселись, нам начали подавать мороженое и конфеты. Все это было в высшей степени комично, и, конечно, ежели бы мы были действительно в мрачном настроении духа, то эта комедия могла бы нас развеселить. Наконец, приступили к обсуждению. Принц робко, путаясь в словах, заметил Толстому, что он в отчете жалуется государю на разные ведомства и что следовало бы это объяснить. Тогда Толстой, с обычным своим резким и нахальным тоном, объяснил, что он разумел Военное ведомство, которое ему будто бы противодействует своими заведениями, и что государь это знает. Принц Ольденбургский обрадовался этому объяснению и объявил, что этим комиссия может удовольствоваться. Тогда я стал опровергать Толстого и стал доказывать, что не другие ведомства, а он сам виноват, ежели в обществе дурно отзываются о мерах, принимаемых министерством. Тут у нас начался довольно жаркий спор, к величайшему отчаянию бедного принца. Наконец, Толстой, видя, что я ставлю au pied du mur[296], вдруг спросил: «Да я не помню хорошенько, что у меня в отчете сказано?», и когда ему прочли то место, которое я выбрал мотивом для своей атаки, то он, со свойственным ему цинизмом, объявил, что он от этих слов отказывается и готов их взять назад. Принц несказанно обрадовался такому повороту дела и стал мне доказывать, что после того, как министр сам отказался от своих слов, то мне нельзя уже больше настаивать. Хотя я и протестовал против возможности отказываться от своих слов, которые написаны и не могут быть исключены из отчета, уже представленного государю и нам от него переданного, но Толстой стал уверять, что государь этого отчета еще не читал и что он будет напечатан только в извлечении. Я чувствовал всю глупость подобного положения и, не видя возможности подавать особое мнение при таком обороте, какой приняло дело, плюнул и решился до следующего раза отложить непременное мое намерение сказать по поводу отчета министра народного просвещения все, что, по моим убеждениям, необходимо знать царю. Тем и кончилась вся эта глупая история. Журнал комиссии представлен государю без всяких замечаний, и мы, все члены комиссии, получили за усердное рассмотрение отчета высочайшее благоволение, которое мне противно было читать. Копию с проекта моей записки я оставил у себя, она пригодится в будущем году, ежели меня опять назначат рассматривать отчет Толстого.
23-го декабря. Вчера я только закрыл заседание 2-го съезда представителей российских Земельных банков, где опять, по высочайшему назначению, председательствовал. Много было труда для приготовительных работ, а последние две недели я был занят с утра до вечера. Утешительно то, что польза от этих съездов несомненная. Отчеты заседаний, по примеру прошедшего года, будут напечатаны. Со стороны всех членов съезда я видел к себе внимание. Назначая меня в прошлом году председателем, государь повторил требование, чтобы представители съезда не выходили из пределов программы. В нынешнем году то же приказал мне через министра финансов. Исполнить эту задачу было немудрено, ибо никому и в голову не приходило говорить о чем-либо другом.
Но меня всегда поражает в подобных собраниях представителей разных специальностей тот сравнительно высокий уровень образования, знания и способности. Правительственные деятели стоят в этом отношении несравненно ниже, и можно сказать, что чем выше теперь иерархическое положение собрания или учреждения, тем ниже уровень его нравственного развития. На съезде представителей Земельных банков было несколько лиц, которые отличались и даром слова, и знаниями, и общим образованием. Вопросы в подобных собраниях обсуждаются не только подробнее, но с более общей и высшей точки зрения, чем в Государственном совете, где почти всякий вопрос вращается в тесной рамке поверхностных и легких суждений. Вообще очень заметно, что общество перерастает нравственно правительство. В прежние времена лица, привязанные к высшим должностям, ежели не отличались особенно блестящими способностями или высоким образованием, то по крайней мере в них часто встречалось, при здравом уме, гражданское мужество и сознание важности государственного служения делу. Теперь же как-то все мельчает, стойкость во мнениях осуждается как глупость или дерзость, и общий тон отношения к делу близок к совершенному равнодушию. Опасности противоречить или быть в оппозиции гораздо меньше, чем прежде, последствия немилости или царского неудовольствия гораздо менее страшны, а между тем гораздо реже являются примеры самостоятельной твердости в исполнении обязанностей. Недавно, разбирая бумаги деда моего — Нелединского-Мелецкого, я нашел черновое, им писанное письмо к государю Александру І, в числе четырех сенаторов 4-го департамента Сената, в котором он прямо жалуется государю на то, что Государственный совет извратил в одном всеподданнейшем докладе, по одному делу, обстоятельства дела. И государь, получив это письмо, приказал вновь рассмотреть это дело в Государственном совете, и хотя прежнее постановление Совета оставалось в своей силе, но тем не менее нельзя не признать со стороны сенаторов, решивших послать подобную жалобу, и со стороны государя, принявшего ее, — мужественное и верное понимание ответственного дела. Теперь подобный факт был бы просто невозможен. Никому даже в голову не могло бы прийти постоять за свое мнение в интересах дела, но ежели бы подобная попытка и была бы сделана, то ее приняли бы за бунт. Я почти не знаю членов Государственного совета и Комитета министров, которые бы относились к делу с горячим интересом действительной пользы, без примеси других побуждений, и те члены, как, например, князь Урусов, барон Корф и прочие, которые более равнодушны к окончательному решению в том или ином смысле всякого дела, — те члены более всего имеют влияния, потому что за ними слепо идут другие, зная, что вожаки чуют, куда ветер дует.
В эпоху реформ, т. е. в первое десятилетие царствования, всеобщее возбуждение расшевелило несколько и самые равнодушные натуры, но теперь все замерло…
1875 год
Что-то Бог даст в наступающем году?
2-го января. В официальном мире новостей немного. Вчера объявлено о назначении 4-х новых членов в Государственный совет: сенатор Стояновский, статс-секретарь Заблоцкий[297], сенатор Торнау и статс-секретарь[298] Корнилов — вот на кого пал в нынешний год выбор.
Двое первых будут полезными членами. Стояновский был при Замятнине товарищем министра юстиции и проводил в Государственном совете судебную реформу, вследствие чего он попал в немилость и был в числе заподозренных в неблагонамеренности лиц. Заблоцкий еще более заподозренный человек. Он некогда был одним из любимцев графа Киселева и с тех пор прослыл красным демократом и прочее. При Николае Павловиче князь Меншиков, видя в Английском клубе вывешенное имя Заблоцкого, предложенного в кандидаты членов клуба, сказал громко: «А, это адъютант Пугачева?». Эти слова мгновенно разнеслись по всему клубу, и Заблоцкий был забаллотирован. Впоследствии Заблоцкий был статс-секретарем в Государственном совете и был членом Редакционной комиссии по крестьянскому делу. Это исключительно заподозрило его в глазах государя, и на неоднократное предложение великого князя о назначении Заблоцкого членом Совета государь постоянно отвечал отказом. Вместо того он сделан был членом Финансового комитета[299]. Настоящее его назначение последовало вследствие настоятельной просьбы великого князя, которому Абаза и Рейтерн доказали, что в Департаменте экономии в настоящее время нет ни одного не только живого человека, но хотя бы мало-мальски понимающего финансовое дело. Государь согласился на это назначение, видимо, по необходимости.
На днях открывается, под председательством Валуева, комиссия для рассмотрения проекта или, лучше сказать, проектов правил о найме рабочих. Эта комиссия составлена из вызванных по выбору правительства председателей земских управ, предводителей дворянства и городских членов. Эта комиссия есть та мышь, которую родила гора, задуманная в прошлом году Шуваловым и Валуевым, и которая должна была осуществить какое-то новое представительное учреждение для рассмотрения законодательных вопросов прежде поступления в Государственный совет. В настоящей скромной своей форме комиссия эта едва ли сделает что-либо толковое. Первоначальный проект о найме рабочих составлен был в комиссии под председательством Игнатьева. Затем в Министерстве внутренних дел выработан был свой проект, а затем Валуев в прошлом году летом, во время пребывания своего за границей, составил, как он называет, сводный проект, который, в сущности, есть его собственный, им составленный проект. Этот валуевский проект Валуев и испросил высочайшее разрешение рассматривать в комиссии, которая будет рассматривать его (собственно, им сочиненный) проект. Из этого, кроме вздору, ничего выйти не может…
15-го января. По примеру предшествовавших лет я назначен опять в комиссию для рассмотрения отчета министра народного просвещения за 1873-й год. Кроме того, я получил высочайшее повеление быть членом комиссии для рассмотрения отчета министра государственных имуществ под председательством ген<ерал>-ад<ъютанта> Г. А. Чевкина. К чтению отчета министра народного просвещения я уже приступил. Все, что не удалось мне сказать в прошедшем году о деятельности министра народного просвещения, все это я решился во что бы то ни стало сказать теперь. В отчете много сказано такого, что нельзя оставить без замечания. На словах принц Ольденбургский также как будто возмущен некоторыми действиями Толстого по введению учебной реформы и хочет заявить свои осуждения, но я уверен, что когда дело дойдет до развязки и до объяснения с Толстым, то принц спасует и мне опять придется воевать одному.
27-го февраля. На днях было первое заседание комиссии под председательством принца Ольденбургского для рассмотрения отчета министра народного просвещения. Я принес целую тетрадь отдельных замечаний и, кроме того, пространное мнение по возбуждаемому министром вопросу о существующем недоверии прочности предпринятых преобразований. Случилось то, что я ожидал: все в существе со мной согласны, но никто не решается включить в журнал для доклада государю те замечания, которые обобщают вопрос. Бедный принц твердит все одно, что не следует делать оппозиции министру, назначенному государем, и все мои возражения, что мы для того именно и назначены государем, чтобы рассматривать отчет министра, критиковать его и представить наше мнение государю, — все эти возражения бессильны поколебать желание представить все государю в отличном виде, чтобы не беспокоить его. В других членах я не нахожу никакой поддержки. Титов совсем стушевался, и от него никакого толку добиться нельзя, на словах он со мной согласен, а на деле ничего не высказывает.
Делянов — по природе подленький армяшка — был сам в 1873-м году, т. е. в том же году, за который рассматривается отчет, товарищем министра народного просвещения, а потому ему уже ни в каком случае не приходится критиковать его собственный отчет. Совестно, право, слушать, что говорится в комиссии; когда подумаешь, что эта комиссия назначена самим государем из высших государственных сановников, ни от какого министра не зависящих, и что они призваны сказать государю свое мнение о ходе дел в целом управлении, то невольно становится стыдно видеть, какими ничтожными соображениями руководствуются эти царские советчики и как мало в них желания пользоваться своим независимым положением, чтобы честно исполнить свой долг. Как мне ни противно донкихотствовать и как ни глупо положение одного воина в поле, но, не менее того, я по совести не могу решиться говорить одно в обществе, в салонах, с товарищами везде, где толкуют и судят строптивые действия министра народного просвещения, а другое — в комиссии. Следующее заседание будет происходить в присутствии министра — графа Толстого. Я при нем прочту свое мнение и, конечно, вызову с его стороны бурю…
Мнение мое следующего содержания:
«В заключение обзора состояний средних учебных заведений в 1873-м году министр народного просвещения во всеподданнейшем докладе своем высказывает следующее тревожное заключение:
„Как бы ни размножились учебные заведения (говорит он), и какие бы ни принимались меры для доставления им возможно лучших преподавателей, учебно-воспитательное дело не может идти успешно и принести все ожидаемые от него выгоды, если однажды установившаяся учебно-воспитательная система не будет иметь надлежащей прочности и устойчивости или если даже уверенность в ее прочности будет поколеблена в умах как наставников, так и родителей и целого общества, ибо при недостатке уверенности в совершенной прочности принятой учебно-воспитательной системы, при ожидании возможности перехода от нее, быть может, к совершенно противоположной, ни наставники не могут действовать с полной энергией в указанном направлении, ни родители не будут вести своих детей, ввиду установленной системы, ни, наконец, сами учащиеся никогда не будут исполнять своих ученических обязанностей с полною добросовестностью и не будут приобретать в такой колеблющейся школе тех добрых навыков, которые необходимы для того, чтобы они вышли впоследствии истинно полезными гражданами[300], соединяющими с привычкою к добросовестному труду и твердостью характера безусловную преданность и покорность закону. Таким образом, прежде всего и более всего для преуспевания наших учебных заведений необходима столь долго недостававшая им прочность и устойчивость положенной в их основы учебно-воспитательной системы; без этого первого и важного условия напрасны были бы все материальные пожертвования и все нравственные усилия правительства надело общественного воспитания, ибо как бы ни были совершенны и учебные планы, и преподаватели учебных заведений, коль скоро заведения эти колеблются в самых своих основах — из них могут выходить молодые поколения не иначе, как бесхарактерные, без твердых нравственных правил, нравственно расслабленные и распущенные и неспособные ни повиноваться, ни повелевать, буде впоследствии им выпадет на долю действовать на более высокой череде служения престолу и отечеству“.
Подобные сетования на отсутствие доверия общества к осуществляемой министром народного просвещения реформе и даже жалобу на явное ей противодействие — как со стороны некоторых ведомств, так и со стороны общества и печати — излагал г. министр народного просвещения государю императору и в прошлогоднем своем всеподданнейшем отчете. Поэтому нельзя комиссии со вниманием не остановиться перед этим знаменательным явлением и не попытаться исследовать его действительное значение и настоящую причину. В отчете г. министра народного просвещения причины эти не указаны, а напротив того, представленная им сторона успешного введения реформы так убедительно свидетельствует о пользе предпринятого преобразования, что, казалось бы, не должно быть места никаким колебаниям в сознании как общества, так и родителей и наставников относительно прочности вводимой учебно-воспитательной системы.
Между тем нельзя не признать, что выраженные в отчете г. министром народного просвещения опасения имеют некоторое основание и что действительно не установилось еще в общем сознании той твердости, убеждения в прочности принимаемых мер, которая во всех благих начинаниях правительства всегда служила и служит надежным ручательством успеха.
Правдивое указание на те причины, которые независимо от общих затруднений, всегда встречаемых в новом деле, могли иметь влияние на упомянутое колебание в общественном доверии, может принести существенную пользу, и, во всяком случае, мне кажется, что задача высочайше назначенной комиссии не будет вполне выполнена, ежели не разъяснены будут по возможности те стороны дела, на которые сам г. министр народного просвещения счел долгом дважды обращать внимание государя императора.
Разъяснение это тем более необходимо и полезно, что сущность самой системы, положенной в основание высочайше утвержденной реформы, не может составлять и не составляет уже в настоящее время какого-либо спора, напротив того, можно с достоверностью сказать, что в замеченном г. министром народного просвещения колебании скорее слышится опасение, чтобы неосторожными и крайними мерами не вызвана бы была реакция в другую, противоположную сторону.
Поэтому, оставляя в стороне исследование тех причин общих, которые представляются общими во всех нововведениях, как то: общий малый уровень педагогических и учебных вопросов, малая привычка к усиленным занятиям и проч…, следует остановиться только на тех явлениях, которые, оставаясь во власти исполнителей, могли иметь более или менее влияния на утверждение в обществе убеждения в прочности и плодотворности реформы.
Нельзя не признать всю мудрость установившегося по воле государя обычая возлагать надзор за приведением в действие важных реформ на особые комиссии и комитеты. В этом установлении ясно видна благая цель предупредить возможность всякого увлечения или одностороннего направления мер исполнительных, и нет сомнения, что заботам этих комиссий и комитетов обязаны многие реформы настоящего царствования успешным ходом их исполнения.
Весьма естественно было ожидать, что реформа учебно-вспомогательной системы, которая уже в высших правительственных сферах, при обсуждении ее, не нашла полного единомыслия, — встретит при обнародовании ее то же разномыслие и в обществе. Печать наша, насколько она служит отголоском различных мнений, разделилась по этому вопросу также на два враждебных друг другу лагеря. При этом задача официальных и полуофициальных органов Министерства народного просвещения могла бы заключаться в примирении крайних мнений и в популярном, по возможности, разъяснении всех возникших сомнений и недоразумений; на место того, к сожалению, в самом начале вопрос о необходимости реформ поставлен был на весьма невыгодную почву. Взводя на противников реформы подозрение в политической неблагонадежности и приписывая классическому образованию какую-то специфическую силу охранения порядка в государстве, официальные и полуофициальные органы министерства сузили вопрос до пределов, до которых опасно бы было говорить о системе реального образования, не подвергаясь обвинению в нигилизме. Этим объясняется, почему журнальная полемика по этому вопросу продолжала, в особенности в первое время, иметь односторонний и страстный характер, всегда вредный для дела.
Первые затем приемы министерства к введению реформы обнаружили такую тревожную и спешную заботливость о повсеместном преобразовании всех старых гимназий по новому Уставу, что возникло сомнение, оправдавшееся потом на деле, что наличных средств совершено недостаточно для того, чтобы дух и смысл реформы мог бы проникнуть в наскоро принятые преобразования.
К началу второго года по утверждении Устава утверждены были министерством новые учебные планы и предписано было ввести их в большее число гимназий. Хотя попечителям округов и директорам гимназий и дана была некоторая свобода изменять эти учебные планы, применяясь к обстоятельствам, но тем не менее почти во всех гимназиях одновременно последовали замешательства, приведшие и учеников, и преподавателей в крайнее недоумение. К тому же, по отзыву самого министра народного просвещения (Отчет 1872-го года, стр. 46 и 50), ни большинство окружных инспекторов, ни директоров, ни инспекторов гимназий не принадлежали к классикам, а в преподавателях греческого и латинского языков оказался значительный недостаток (более 70-ти), а из тех, которые и были, многие не соответствовали вовсе требованиям новой программы и системы преподавания.
Как бы то ни было, но почти во всех гимназиях, по словам самого г. министра (Отчет 1872-го года, стр. 44), пришлось сделать более или менее значительные, и притом различные, отступления от предложенных учебных планов. Но так как изменения, опыты и прилаживания различных нововведений производимы над организмом живого учащегося юношества повсеместно, то понятно, почему родители их и сами наставники повсеместно колебались в вере в успех преобразования, не подготовленного надлежащими средствами.
Лучшим доказательством того, что не строгость требований новой классической программы преподавания возбудила неудовольствие родителей и детей, а слишком поспешный и резкий прием внедрения в действие всех потребностей реформы, может служить Лицей цесаревича в Москве, где курс строго классического преподавания введен был правильно, установлен надлежащими средствами, разумно направленными. Заведение это пользуется большим сочувствием не только общества и родителей, но также единогласный отзыв всех его учеников свидетельствует, что усиленное преподавание древних языков не только не противно
природе учащегося юношества, а напротив, это юношество с любовью занимается изучением классической древности, когда сама метода преподавания древних языков осмыслена и к ней приготовлены как преподаватели, так и учащиеся.
В похвальном желании скорее заместить более 70 вакансий учителей древних языков министерство вынуждено было усилить призыв из-за границы преподавателей-славян. Эта мера, сама по себе полезная, произвела, в свою очередь, некоторую смуту среди сословия преподавателей. В то время, когда еще ни инспектора, ни директора, ни учителя наших гимназий не успели примениться ко всем требованиям новой реформы, в среду их поступило разом значительное число совершенно чуждых учительскому кругу людей, с другими взглядами, привычками, нравами, и притом принятых под особое покровительство министерства, которое, отличая исключительным доверием славян, не успело отвратить вредного антагонизма в среде преподавателей и даже некоторыми мерами возбудило оный. Так, например, требованием, чтобы в должность классных наставников исключительно назначались бы учителя, имеющие в классе наибольшее число уроков, — фактически почти все славяне сделались классными наставниками, и в сей должности за ними признано некоторое право инспекции и надзора за другими преподавателями. В нравах наших эти функции связаны с понятием начальнических отношений, и, как ни странно в таком деле упоминать о табели о рангах, но, не менее того, нельзя упускать из виду, что в России, а в особенности в провинции, чиновное местничество еще сохранило свое социальное значение. В настоящее время уже многие из славян занимают должности директоров и инспекторов, так как места сии даются исключительно преподавателям древних языков.
Успех реформы главным образом зависит от дружного и единодушного содействия всех деятелей. Потому для приобретения этой силы следует со вниманием относиться даже и к второстепенным условиям личных интересов. Сосредоточив в центральном управлении все мельчайшие подробности исполнения, министерство общим характером циркулярных распоряжений, в особенности относительно экзаменов, заявило какое-то недоверие к местным ценителям успехов учеников. Это немало содействовало к ослаблению энергии, духа и усердия деятелей.
Но каковы бы ни были меры, принятые министерством при введении реформы, они, без сомнения, не подлежали бы критической оценке общества и не возбуждали бы недоверия, ежели бы добытые в течение 3-х лет результаты ясно бы свидетельствовали о преимуществах новой системы перед старой.
Сущность этой реформы такова, что судить о ней по результатам 3-х лет, конечно, невозможно, но не нужно терять из виду, что общество, мало посвященное во все конечные и общие виды правительства, естественно, принимает свои впечатления извне, судит, заключает и устанавливает свое доверие к новому делу по внешним, осязательным для него признакам. Оно видит, что правительство жертвует огромные суммы, более чем удваивает смету по народному образованию, дает различные льготы разным степеням образования; со своей стороны, общество и материальными пожертвованиями, и усиленными ходатайствами заявляет об увеличении средств к образованию массы техников и специалистов по разным отраслям науки и промышленности.
Новая реформа ответила до сих пор на все эти ожидания следующими результатами:
1) Число учеников в гимназиях, несмотря на прибавку одной гимназии, уменьшилось против 1872-го года на 2781 чел., а число учеников в прогимназиях, несмотря на открытие 10-ти новых прогимназий, увеличилось только на 896 чел.
2) Число студентов в университетах уменьшилось против 1871-го года на 1106 чел.
3) Число оставляющих гимназии до окончания курса увеличилось в 1873-м году против 1872-го года на 3432 чел.
Вот те данные, по которым общество может осязательно и наглядно судить до сих пор о результатах реформы.
Все другие соображения — вполне, может быть, основательные, убеждающие в превосходстве малого по числу, но лучшего по качеству образования, — недоступны для большинства. Ввиду насущной потребности в медиках и техниках всякого рода, общество готово было бы помириться и с менее совершенным знанием и ни в каком случае не может признать, чтобы Россия могла бы довольствоваться 685-ю лицами для пополнения всех университетов и всех высших специальных невоенных заведений.
Неосновательность всех этих рассуждений может быть вполне доказана с точки зрения Министерства народного просвещения, а потому они приводятся здесь не в виде какой-либо непреложной истины, а только как оправдание или как объяснение того недоверия, или, лучше сказать, того отсутствия доверия в прочность реформы, на которое сетует г. министр народного просвещения.
Другой осязательный и прискорбно отозвавшийся в обществе повод к недоразумению возбужден был при самом начале введения в действие новых требований классической программы для учеников, бывших уже в 5-х, 6-х и 7-х классах. Не будучи подготовленными с низших классов к строгим требованиям новой программы, они на глазах родителей выбивались из сил, и многие из них, не выдержав борьбы, с горьким чувством испытанной неудачи бросились в ряды озлобленных, несчастных безумцев зловредной пропаганды.
Быть может, и это зло не обнаружилось бы так повсеместно, ежели бы постепенность в требованиях поставлена была главным залогом успеха реформы.
Новым Уставом определена было норма числа учеников в классе (не более 40). Эта вполне основательная и полезная в педагогическом отношении мера могла быть приведена в исполнение постепенным уменьшением ежегодного приема в те гимназии, в которых эти классы оказались переполненными, а также открытием параллельных классов; так это и делалось в большей части гимназий в России, но в Царстве Польском при самом начале введения нового Устава в 1873-м году в один год уволено было 1380 гимназистов. Открытие частных учебных заведений не могло облегчить участь изгнанных, потому что эти частные заведения едва могли быть достаточны для принятия нового ежегодного контингента поступающих в гимназии.
Подобные меры, естественно, поддерживают неудовольствие в обществе. Можно ли, в самом деле, ожидать, чтобы 1380 семейств, разом пораженных исключением детей из гимназий, могли молча сознавать справедливость такой меры? Можно ли даже желать, чтобы они поверили и утвердились в убеждении, что такой результат реформы вполне согласен с видами и желаниями правительства?
Вот настоящие и истинные причины продолжающихся до сих пор колебаний, недоверий и нерасположений общества к учебно-воспитательной реформе.
Смею думать, что указание на эти причины вполне входит в задачу высочайше назначенной комиссии для рассмотрения отчета г. министра народного просвещения и что признание хотя бы некоторой доли правильности высказанных соображений может устранить в будущем все невыгодные последствия, так верно очерченные г. министром народного просвещения, об отсутствии сознания обществом прочности и устойчивости или даже уверенности в устойчивости новой учебно-воспитательной системы.
Не может и не должно быть речи о каком-либо коренном, но и существенном изменении самой системы, раз принятой и высочайшей волей утвержденной. И прежде всего само Министерство народного просвещения должно в том убедиться. Сила подобного убеждения даст всем действиям его по приведению в исполнение реформы то спокойствие и ту твердую, благоразумную и неторопливую последовательность, которые вызывают доверие, примиряют с необходимыми иногда жертвами и соединяют разрозненные силы в стремлении к одной цели.
Дав такое направление своей, бесспорно полезной, деятельности, министерству нетрудно будет путем частных, иногда неизбежных уступок сглаживать все резкие противоречия, не удаляясь от главной цели. Ему доступнее будет верное понимание действительных нужд края, отрешенное от всякой односторонности в оценке пределов, формы и практической потребности народного образования.
На этом пути министерство вполне обеспечит себя от всегда опасных последствий реакции, обезоружив ее вовремя, а не полагаясь на одну только охрану вынужденного безмолвия.
Желать следует, чтобы сии общие соображения были постоянно присущи сознанию главных деятелей Министерства народного просвещения и чтобы меры, ими принимаемые для цели, бесспорно полезной, умерялись бы тем духом терпимости и беспристрастия, который упрочивает нововведения и в общественном сознании, и на самом деле».
3-го марта. Как и следовало ожидать, принц Ольденбургский в совершенном отчаянии и боится предстоящего заседания с графом Толстым. Он опасается скандала, хотя я его уверял, что с моей стороны не дано будет никакого повода к скандалу Принц уверяет меня, что вполне со мной согласен, но это достаточно будет сказать в журнале, что колебания быть не должно, так как реформа высочайше утверждена. Он так тревожится этим разногласием, что даже жаловался моей жене на мое упорство.
Это побудило меня ему написать следующее письмо, которое я завез ему сегодня утром:
«Ваше Императорское Высочество.
С юных лет привык я относиться с искренним уважением к советам и указаниям Вашим, а потому весьма естественно мое желание оправдать перед Вашим Высочеством мою настойчивость в удержании за мною мнения, не вполне согласного с соображениями Вашими.
Не могу, в особенности, не скорбеть при мысли, что, Ваше Высочество, видимо[301] относите мою настойчивость к какому-то предосудительному чувству пристрастия, раздражения и упорства. Я так свободен от подобных чувствований, что готов сейчас отказаться от всякого со своей стороны заявления, ежели бы нашел возможным согласовать это с долгом совести, данной мной присягой и убеждением в положительной пользе дела. Долг совести и присяги повелевает мне свято исполнить возложенное на меня, в числе прочих членов комиссии, поручение государя.
Быть может, разномыслие наше происходит от различного понимания значения и цели возложенного на нас поручения, а потому и требование совести каждого из нас относительно пределов обязанностей исполнения этого поручения могут быть различны.
По моим понятиям, правдивый отчет министра о состоянии вверенного ему ведомства есть один из самых важных государственных актов, дающих верховной власти возможность державным оком обозреть общий результат его благих попечений.
Этот единственный законный и вполне целесообразный способ поверки общего хода дел в государстве не заменяется у нас никаким другим контролем общественного мнения или прессы. Он служит поэтому государю императору единственным регулятором собственных его требований и повелений.
Смею думать, что таков также взгляд государя императора на значение министерских отчетов.
В этом убеждает меня его воля поручать предварительное рассмотрение отчетов министров нескольким высшим государственным сановникам, по собственному его избранию, — лицам, не зависимым ни от какого министра и связанным единственно обязанностью всеми силами ума и совести облегчить труд сведения частных указаний и данных отчетов к одним общим верным результатам и выводам.
Так понял я задачу, доверием государя на меня возложенную.
При таком понимании задачи я считаю преступным стесняться второстепенными соображениями при исследовании причин явно обнаруженного зла, я считаю предосудительным уклониться от правдивого и ясного изложения их перед государем императором.
Деятельность Министерства народного просвещения требует в настоящее время особого внимания со стороны правительства, так как она готовит России ее будущее. Коренные преобразования в системе учебно-воспитательной, какое бы ни было мнение об относительном их достоинстве, должны быть признаны неизменными в своих основаниях и твердо охраняемы. Но одностороннее отклонение от цели главной реформы может быть замечено только при исполнении ее. В отчете министра народного просвещения, по моему мнению, есть данные, объясняющие общее нерасположение к принимаемым мерам. Вовремя предупредив развивающееся зло, можно предотвратить гибельные его последствия.
Не есть ли прямой и священный долг того, кто видит это зло, указать его? И указать так, чтобы государь император мог ясно видеть пределы и причины зла. Этого краткими намеками, полусловами, междустрочными отговорками сделать нельзя и не следует, уважая достоинство монарха, на благоусмотрение которого представляется заключение комиссии.
Я твердо убежден, что будет огромная польза для дела, ежели министр народного просвещения усвоит себе те общие соображения, которыми я заключаю особое мое мнение. Но мы не призваны быть руководителями министра — это всецело принадлежит власти государя. Наш долг — только подвергнуть замечания наши на благоусмотрение Его Величества.
Со своей стороны, я твердо решился это сделать. Не стесняя никого из гг. членов в принятии или непринятии моего мнения, я вправе просить и Ваше Императорское Высочество благосклонно устранить мысль о каком-либо с моей стороны упорстве или личном недоброжелательстве к кому-либо.
С истинным почтением и проч…».
5-го марта. Сегодня принц пригласил меня к себе. Говоря о полученном им моем письме, уверял, что он не намерен стеснять моего мнения, но что он, хотя, со своей стороны, и разделяет его, но не может подписать, потому что Толстой столько ему лично наделал неприятностей, что всякое с его стороны заявление может показаться личностью. Все это, разумеется, вздор. Бедный принц просто трусит и боится Толстого. От беспокойства он даже заболел и не знает, когда будет в силах назначить заседание с министром. Я предлагал принцу взять назад свое мнение, ежели он согласится хотя часть его, и в более мягких выражениях, поместить в журнал. К сожалению, и в простых делах очень трудно понять принца, а теперь он несет такую чепуху, что ничего понять нельзя. Беспрерывно переходя от одного предмета к другому, нет возможности остановить внимание его на каком-либо положительном решении. Он только постоянно повторяет, что никогда не было ни одного разногласия ни в одном комитете, где он председательствовал, и что никак не следует опорочивать действия министров, которые выбраны государем. Я могу сказать, que les comités se suivent, mais ne se ressemblent pas[302].
В другой комиссии, где я тоже членом, председательствует Чевкин для рассмотрения отчета министра государственных имуществ. Там, наоборот, председатель настаивает не только на том, чтобы все подробности сделанных министром распоряжений были критически изменены, но чтобы комиссия сделала и на будущее время разные указания, как действовать министру. Тут мне приходилось, напротив, доказывать, что комиссия не может и не должна принять на себя обязанности советами своими участвовать в будущих административных распоряжениях министра. Все это какая-то пустая комедия.
23-го марта. Наконец моя борьба в комиссии подходит к развязке. На днях было 3 заседания с министром. На первом заседании я прочел свое мнение и возбудил, как и следовало ожидать, ярость Толстого. Он доказывал мне неверность приводимых мною цифр, и когда я указал эти самые цифры в приложении к отчету, то он просил председателя поручить докладчику Шубину вместе с г. Георгиевским, пославшим отчет, проверить эти цифры, что и было исполнено ко второму заседанию. К третьему заседанию Толстой вызвал из Варшавы начальника округа — де Витте, чтобы объяснить причину внезапного увольнения 1380 гимназистов. К этому заседанию Толстой привез письменный ответ на мое мнение. Эта толстая записка была им читана в заседании, на что потребовалось один час с четвертью времени. В ней, кроме общих соображений и возражений на доводы, вовсе мною не приводимые, и кроме различного сопоставления и группировки цифр, искажающих истину, находится пропасть самых неприличных инсинуаций на мой счет в выражениях самых резких, и вообще тон всей записки до такой степени неприличный, что я, по окончании Толстым чтения, обратясь к принцу, сказал: «Вашему Высочеству подлежит судить о том, в какой мере тон подобного возражения соответствует достоинству комиссии». Я же, со своей стороны, не убедился ни одним доводом графа Толстого и остаюсь при своем мнении. В заключение решено было обе записки — и мою, и графа Толстого — приложить к журналу комиссии и представить государю. Я, однако, счел нужным прибавить после отзыва Толстого коротенькую записочку следующего содержания:
«Выслушав с глубоким прискорбием замечания г. министра народного просвещения на представленное мною в комиссию особое мнение, я успокоен надеждою, что государь император благоволит сам прочитать мое мнение.
Ежели хотя только одна тень приписываемых мне г. министром народного просвещения предосудительных намерений и побуждений могла пасть на меня в глазах Его Величества, я считал бы себя недостойным того высокого доверия, которым почтен был назначением членом в несколько комиссий для рассмотрения отчета министров.
Это высоко ценимое мною назначение, само собою, ограждало неприкосновенность моих личных искренних и чистосердечных убеждений от нареканий, несовместимых с достоинством того учреждения, в состав которого я призван по воле государя. Поэтому я смело решился с искренним убеждением в пользе дела сказать откровенно мое мнение по вопросу, самим министром возбужденному.
В полном убеждении, что исполнил долг совести и присяги, я не нарушал пределов обязанностей моих как члена высочайше утвержденной комиссии, я сохраняю упование, что правдивое слово мое не подвергнется осуждению и не ослабит доверия к чистоте и искренности моих намерений».
12-го апреля. Сегодня я получил от председателя Комитета министров Игнатьева следующее официальное письмо:
«Милостивый государь
князь Дмитрий Александрович.
По высочайшему повелению внесен в Комитет министров журнал Комиссии, рассматривавшей отчет министра народного просвещения за 1873-й год, со следующими к сему журналу приложениями.
Государь император высочайше соизволил положить по означенным бумагам следующие, между прочим, собственноручные резолюции:
1) На докладе Его Императорского Высочества — принца Петра Георгиевича Ольденбургского, при котором был представлен государю императору журнал Комиссии, против объяснения, что возникшая между Вашим Сиятельством и д<ействительным> т<айным> с<оветником> графом Толстым полемика по вопросу об учебно-воспитательной системе приняла оборот весьма прискорбный: Д а, потому, что она носит на себе характер личности.
2) На записке Вашей с изложением мнения касательно новой учебно-воспитательной системы:
Требую от c<татского> c<оветника> князя Оболенского, чтобы записка его, кроме членов Комитета министров, не была никому сообщаема, что и возлагаю на его ответственность.
3) В отзыве Вашего Сиятельства на объяснение министра народного просвещения, под заключительными словами, выражающими упование, что правдивое Ваше по настоящему предмету слово не подвергнется осуждению: „Не могу не подвергнуть его осуждению за характер личности, которым оно переполнено“.
О таковых высочайших Его Императорского Величества резолюциях поставляю уведомить Ваше Сиятельство, покорнейше прося принять уверение в моем совершенном почтении и преданности.
Павел Игнатьев.
№ 554. Апреля 11-го, 1875-го года».
Итак, вот чем кончилась моя первая попытка серьезно отозваться в качестве члена комиссии на отчет, предложенный обсуждению учреждения, специально для сего назначенного… Много знаменательного в этом факте, ясно характеризующем общий дух и настроение настоящего времени. Прежде всего, замечательно, что председатель комиссии, принц Ольденбургский, в представлении государю называет особое мнение одного из членов комиссии и ответ министра на это мнение — полемикой, и притом «прискорбной». Это доказывает, что в понятиях принца (и не одного принца) разногласия в оценке действий министра существовать не может и что задача комиссии заключается единственно в представлении государю экстракта отчета с приличными похвалами и одобрительными отзывами, с которыми министр, естественно, должен согласиться. Это до такой степени справедливо, что когда в журнале комиссии граф Толстой заметил одну фразу, где слово «только» ему не понравилось, то он требовал, чтобы это слово было уничтожено, и когда принц стал защищать эту редакцию, то граф Толстой, со свойственным ему нахальством, объявил, что ежели в журнале будет оставлено слово «только», то он на это слово напишет 10 листов возражений. При этой угрозе принц сейчас же спасовал и приказал слово «только» уничтожить. Я заметил на это, что на будущее время полезно было бы просить графа Толстого вместе с отчетом представлять и проект журнала комиссии с замечаниями на этот отчет, это сократит работу, а в сущности будет то же. При таком понимании дела и при таком направлении понятно, что мое особое мнение показалось и принцу, и принято государем как нечто выходящее из правильного хода формального производства; а потому название «прискорбной полемики» оказалось приличным выражением действия, явно противоположного смыслу этого выражения. Засим, очень замечательна общая резолюция, положенная государем на моей записке: «Требую от князя Оболенского, чтобы записка его, кроме Комитета министров, не была никому сообщаема, что и возлагаю на его ответственность».
Прежде всего, эта резолюция показывает, что записка моя произвела впечатление, и ежели бы ее содержание показалось преувеличенным или неверным, то едва ли бы она вызвала такое опасение, которое слышится в словах резолюции. Ребяческий страх, что моя критика сделается известною и что она вызовет сочувствие, выразился в строгом требовании, с личной ответственностью, чтобы никому эта записка сообщаема не была, а исключение в пользу членов Комитета министров доказывает, что государь признает пользу ознакомить министров с выводами, мною сделанными.
Замечательно также и то, что, требуя строгой тайны, тем самым как бы свидетельствует, что высказанные мною замечания не составляют общего мнения, тогда как я, в сущности, ничего не сказал такого, о чем не говорят от одного края России до другого. Последняя резолюция государя на моем кратком отзыве вследствие ответа графа Толстого есть явная несправедливость.
Читая и перечитывая и сам, и другим свою записку, я решительно не нахожу в ней ничего личного против графа Толстого. Критикуя его действия как министра, я не коснулся ни прямо, ни косвенно его личности. Я объясняю себе эту резолюцию государя тем, что он, читая толстую записку графа Толстого, вероятно, даже не будучи в силах одолеть ее сразу, был действительно неприятно настроен общим тоном и личностями, которыми она против меня переполнена, и когда потом дошел до моего короткого отзыва, то, забыв тон и содержание моей записки, выразил гнев свой на меня. Я, признаюсь, ожидал совершенно противоположного результата. Я думал, что государь положит неодобрительную резолюцию на мою записку за ее существенное содержание, чтобы поддержать Толстого, а что на моем коротком отзыве он скажет что-нибудь одобрительное чистоте моих намерений или, по крайней мере, что он в них не сомневается. Я, признаюсь, для этой цели и написал этот отзыв, чтобы дать, так сказать, государю удобный выход из затруднительного положения, а именно, поддержать министра и не оскорбить члена, исполняющего возложенные на него поручения. Вышло же совершенно наоборот. Сущность и содержание моей записки не осуждены, а осуждена записка за характер личности, которым будто бы она «переполнена». Мне достоверно известно также, что Толстой все это время прибегал ко всем возможным средствам, чтобы очернить меня в глазах государя. Он обращался даже с этой просьбой к разным лицам, к Потапову, между прочим, и к Шувалову (который теперь здесь), но они ему отказали в содействии. Не менее того, он употребил все время (не менее двух недель), пока доклад комиссии был у государя на столе, чтобы убедить государя, что будто бы я к нему, Толстому, имею личную вражду, еще сохранившуюся от времени совместного служения моего с ним в Морском ведомстве, что будто бы я писал свою записку под влиянием Головнина — бывшего министра народного просвещения и явного врага Толстого, что будто бы вся враждебная Толстому партия и великий князь во главе их употребляет меня как оружие против него. Вся эта при разных случаях и при личных докладах пущенная клевета, несомненно, подействовала на государя. Он даже, говоря о моей записке Титову, выразился, «что это старые счеты». С моей стороны я не имел никаких способов, да и не имел никакого желания опровергать клевету. Никогда я с Толстым во вражде не был, никогда не имел никаких личных столкновений. Напротив, до прошлогоднего заседания и даже после этого сохранял с ним самые лучшие отношения. Негодование мое против него основано единственно на убеждении, что он много сделал и еще сделает вреда, и еще более в качестве обер-прокурора Синода, чем министра народного просвещения. Человек в высшей степени завистливый, честолюбивый и желчный, он, по моим понятиям, ничего живучего создать не может. В деле воспитания, в особенности где нужна душа и спокойная, ясно сознанная последовательность в действиях, у него ничего не видно, кроме желчи, обмана и лукавства. Окружает он себя или идиотами, или такими же подобострастными и желчными креатурами.
13-го апреля. Сегодня, по случаю Светлого праздника, последовали разные милости и награды, и, между прочим, министр народного просвещения граф Толстой получил бриллиантовые знаки на Александра. Хотя это очередная награда, и Толстой был в числе министров, стоявших на очереди для получения награды, тем не менее все уверены, что Толстой мне обязан своей наградой. Это несправедливо, но в рескрипте, видимо, помещено несколько фраз ввиду эпизода с отчетом, так, например, ему выражена благодарность за стойкость в приведении в исполнение новой реформы и проч…
Большая часть министров и председатель Комитета министров очень сочувственно относятся к моей настойчивости. В публике распространились самые разноречивые слухи о содержании моей записки. Таинственность, в которую она, по воле государя, облечена, возбуждает общий интерес. Я настоятельно просил Игнатьева, чтобы моя записка была прочтена целиком в Комитете министров, а также чтобы записка Толстого тоже была прочитана, дабы гг. министры могли сами судить, кто из нас более подлежит осуждению в личности. Толстому очень не хочется, чтобы записки наши читались в Комитете, и он, вероятно, будет об этом хлопотать.
21-го апреля. Сегодня Игнатьев сказал мне, что он был у государя и спрашивал его, прикажет ли он читать в Комитете министров одни только разномыслия свои по журналу комиссии или также и наши записки, и что государь приказал читать обе записки, только, по возможности, не допускать до суждения. Игнатьев уверял меня, что он сказал государю, что, по его мнению, в моей записке нет никакой личности. Не знаю, говорил ли он это, но, во всяком случае, его слова никакого значения иметь не могут. Для меня любопытно только одно — назначит ли меня государь на будущий год в комиссию для рассмотрения отчета Толстого. Игнатьев утверждает, что непременно назначит, что с ним, Игнатьевым, был эпизод гораздо хуже моего, а именно: несколько лет тому назад он, Игнатьев, назначен был рассматривать отчет военного министра, и что по некоторым вопросам, возбужденным в комиссии по этому отчету, Игнатьев, Сумароков и Гринвальд подали особое мнение, по прочтении которого государь велел им объявить, в присутствии Комитета министров, выговор, и что, несмотря на это, на следующий год его опять назначили рассматривать отчет военного министра. Нельзя не признать, что это весьма странный способ узнавать истины и поощрять правдивость. Я спросил Игнатьева, что как же он поступил? Подавал ли он после этого выговора особое мнение? Он сказал, что нет, не представлялось случая… Какая комедия… а когда подумаешь, что так ведутся государственные дела. Я хотел было сообщить копию с моей записки наследнику и великому князю, которые, вероятно, сочувственно о ней отозвались бы, но отдумал — не стоит. Я свое дело сделал и в нем не раскаиваюсь, а там — что будет, то будет… Принц Ольденбургский уехал за границу совсем больной. Заседания нашей комиссии очень его расстроили.
22-го апреля. Сегодня в Комитете министров читали мою записку и возражения Толстого. Все министры были налицо. Чтение продолжалось с лишком полтора часа. Я в заседание приглашен не был. Несмотря на утомительное чтение, начавшееся в конце заседания, министры слушали со вниманием, и Толстого, видимо, коробило. Никаких рассуждений не было, и все принято к сведению.
24-го мая. На сих днях я обедал у императрицы. Царя не было. Он уже уехал в Берлин и в Эмс. Разумеется, не было и речи о моем эпизоде с Толстым, но, вероятно, императрица об этом знает и хотела мне своим приглашением показать, что не осуждает мое действие. На днях я тоже провел 2 вечера у императрицы. Читал ей приготовленные мною к изданию письма дедушки Нелединского и записки батюшки. Очень интересовалась она этим чтением. Я ездил на несколько дней в Березичи, чтобы приготовить к летнему пребыванию семьи в деревне. Сам же я буду жить между Петербургом и деревней, так как по делам банка мне нельзя надолго отлучаться отсюда.
26-го июля. С мая месяца я уже три раза ездил в Березичи, где живет вся семья. Постройки мои там почти кончились, и теперь там жилье просторное и удобное. Свободное время здесь употребляю на исправление корректур издаваемых мною писем и записок дедушки и батюшки. Погода повсеместно в России стоит жаркая, на юге страшная засуха и потому неурожай. Даже в Петербурге стоит постоянно отличная погода.
22-го ездил в Петергоф поздравить императрицу. Издали, на выходе, видел государя, но он ко мне не подходил, и я не знаю, в каком он расположении ко мне. Теперь начинаются маневры и всякие обычные летние удовольствия. В городе нет ни одной души. На днях опять был в Сенате политический процесс. Судили двух несовершеннолетних студентов: одного флейтщика[303] Московского полка и одного отставного фельдшера, за распространение возмутительных книг и воззваний на фабриках и в Семеновском полку. Нельзя было без отвращения и вместе без сожаления смотреть на незрелых юношей, смеющихся над судом и отказывающихся от всякой защиты.
Революционная пропаганда среди недоучившейся молодежи принимает все более и более серьезные размеры, и строго карательные меры не только не останавливают зла, но увеличивают оное. Тут, мне кажется, нужны совсем иные средства, я об этом думаю и составляю об этом записку собственно для себя, а ежели удастся выработать что-нибудь дельное, то пущу в ход.
4-го декабря. С каждым годом деловой сезон начинается у нас позднее. Только к концу ноября съехались министры и вернулся государь из Ливадии. Я также часть сентября провел за границей. Был в Гамбурге для свидания с князем Петром Андреевичем Вяземским[304], с которым необходимо мне было переговорить о приготовляемом мною издании «Хроники». Я нашел князя Петра Андреевича необыкновенно бодрым и здоровым, несмотря на преклонные лета (ему 84 года) и тяжкие болезни, два раза доводившие его до сумасшествия. Он так теперь здоров физически и нравственно, что заморил меня прогулками по Гамбургу и Франкфурту. По словам его, климат Гамбурга произвел над ним чудо, и он уже два года почти неотлучно зиму и лето проводит в Гамбурге. Доказательством его умственной бодрости может служить письмо, написанное им для моего издания, с воспоминаниями о Нелединском. Он горячо принял к сердцу мое предложение участвовать в моем издании и, конечно, ежели бы дело было не к спеху, то он написал бы еще более пространную статью.
Я пробыл с ним три дня и потом отправился в Париж, где прожил 10 дней, пользуясь чудной погодой и весьма разнообразными удовольствиями парижской жизни. Внешних следов бывшего еще недавно над Францией погрома нет никаких.
То же довольствие, та же веселость, тот же наплыв иностранцев и тот же политический сумбур при совершенном полицейском порядке. Нет следов также и потери пяти миллиардов, так же точно, как нет следов и в Германии приобретения сих капиталов, напротив — бедность и скука как будто увеличились в Германии после войны. Никто еще хорошенько не объяснил причину этого изумительного явления.
Во время моего пребывания в Париже вышла там книга, наделавшая много шуму: «Fanny Lear, Memoires d’une Americaine»[305]. Это рассказ одной американки, которая под именем Miss Phenix жила в Петербурге и была на содержании у несчастного великого князя Николая Константиновича, который был в нее по уши влюблен, поверял ей свои и семейства своего тайны, путешествовал с ней за границей и по России и, наконец, кончил так печально свою карьеру, уличенный в краже и признанный сумасшедшим. После ареста великого князя ее выслали из Петербурга, и она поселилась в Париже, где продолжала вести развратную жизнь и, наконец, напечатала все подробности скандальной ее связи с великим князем и все его письма из Ташкента и Хивы, куда он ходил во время первой экспедиции. Скандальная публикация эта возбудила большой интерес, так что книжка, продававшаяся в первый раз за 5 франков, стоила уже через три дня 100 франков. Французское правительство в угоду нашему запретило книгу и выслало американку из Франции. Все парижские газеты отзывались более или менее с негодованием об этом издании, и так как дружба и приязнь к России теперь вообще à l’ordre du jour[306] во Франции, то скандал, произведенный этой книгой, продолжался недолго. К тому же можно было ожидать, что наглая американка пойдет гораздо далее в своих некрасивых повествованиях, что, вероятно, и будет впоследствии.
Нельзя не пожалеть о бедном молодом человеке, которого жизнь не только исковеркала окончательно, но еще дает повод оглашать весь позор распущенности нашей царской фамилии. К сожалению, это не есть исключительное явление. При тех условиях, при которых растут, воспитываются и живут наши великие князья, не может быть иначе. Эти условия таковы, что только необыкновенно возвышенные и нравственные, от природы развитые натуры могут безвредно вынести их и не сделаться мерзавцами. Начиная с искусственного, в заколдованном кругу придворных, воспитания вся жизнь великих князей обстанавливается иначе, чем всех других людей. С достижением совершеннолетия, т. е. менее 20-ти лет, они почти свободно располагают своими доходами, простирающимися до огромной цифры, окруженные льстецами и поклонниками всякого рода, среди возможных женских и других соблазнов, они не стеснены никакими внешними преградами для обуздания кипящих в молодом человеке страстей. Полное отсутствие семейной жизни и всяких занятий, отсутствие всякого опасения со стороны публичного мнения, так как всякое оглашение о действиях лиц царской семьи строго воспрещается, полное обеспечение от преследования полицейского за нарушение правил благочиния и порядка — все это ставит молодого человека в 20 лет в такие особенные от других людей условия, что никак нельзя удивляться, что большинство юношей, к царской фамилии принадлежащих, не удерживаются на добром и честном пути, а срамят и себя, и свое звание, собственными руками подкапывая самое основание принципа, которым они существуют. При этом невнимание к общественному мнению так велико, что тайная и явная полиция не церемонится в выборе средств в пресечении явного скандала… Хотя отчасти это происходит от неумения действовать осторожно и от излишнего усердия явной и тайной полиции, постоянно соперничающих в желании угодить, но, конечно, полная уверенность в безмолвии возмущенного скандалами общества облегчает роль исполнителей мер, вызванных крайнею необходимостью. Так, например, на днях танцовщицу г-жу Числову, которая уже давно живет с великим князем Николаем Николаевичем старшим и прижила с ним нескольких детей и которая публично, самым нахальным образом, разоряла и компрометировала великого князя, выслали из Петербурга в Венден[307], пользуясь отсутствием великого князя и без его ведома. Для этой операции приезжал сюда из Ливадии нарочно сам шеф жандармов Потапов и распорядился так, что весь город на другой день узнал об этом скандале, и великий князь теперь опозорен так, что возвращаться ему в Петербург и стать во главе гвардии становится невозможным.
К великому моему удовольствию, я не назначен в нынешнем году членом комиссии для рассмотрения отчета министра народного просвещения графа Толстого — это меня освобождает от весьма скучного труда, но главное — выводит меня из весьма затруднительного положения, ибо я твердо решился, в случае ежели бы был назначен, написать государю письмо, в котором намерен был сказать, что принимаю это назначение за доказательство, что государь изменил свое мнение о том, что при подаче в прошлом году своего мнения я будто бы руководился личностями, ибо не могу думать, чтобы при таком мнении мог бы государь вновь назначить меня на такое дело. Конечно, это письмо не могло бы доставить удовольствия и, вероятно, еще более мне бы повредило. Как бы то ни было, но изменение принятого порядка — каждый год назначать одних и тех же лиц для рассмотрения отчетов — заслуживает внимания и доказывает, что государь помнит и продолжает негодовать на меня за мое мнение. Искренно об этом сожалею, но не раскаиваюсь в своих словах и вновь сказал бы их при случае.
Со своей стороны, граф Толстой, как бы в ответ на приведенные мною доказательства существования им же самим указанного недоверия общества к его реформе, предпринял путешествие по югу России и устроил себе, через посредство своих креатур, манифестации в Таганроге, Одессе и других городах: ему давались обеды, подносилась хлеб-соль, к нему приводились благодарные матери семейств, и все это сопровождалось такими преувеличенными похвалами, спичами, что возмутительно и гадко читать. «Московские ведомости», конечно, печатали эти спичи in extenso[308] и не преминули упомянуть, что эта манифестация явно доказывает, что дело противников графа Толстого окончательно проиграно. Все другие газеты, конечно, весьма осторожно и полусловами решились, однако, выразить сомнение в искренности подобных манифестаций. Нельзя, кажется, представить более сильного свидетельства слабости общественного мнения в противодействии лицам, власть имущим. Нет ни малейшего сомнения, что в настоящее время, справедливо или нет — это другой вопрос, но не подлежит сомнению, что в настоящее время граф Толстой как министр народного просвещения и как прокурор Синода[309] не только не популярен, но на нем, можно сказать, сосредоточивается ненависть всех слоев общества. Вышедшая недавно из-за границы брошюра князя Васильчикова «Письмо к графу Толстому», в которой, в сущности, говорится то же, что и в моем мнении, и которая с жадностью и с сочувствием читается в России, также немало способствовала к оправданию неприязненного к графу Толстому чувства. И в это время этот господин разъезжает по России, ему дают обеды и говорят восторженные спичи, и не только никто не протестует против этого ни словом, ни делом, но даже периодическая печать почти безмолвствует. Я сказал на днях министру юстиции графу Палену, что, по моему мнению, у нас является новый вид преступления, который бы должен подлежать преследованию прокурорской власти. Это преступление — есть публичная подлость. Ежели публичный разврат может подлежать преследованию, хотя никому нельзя под страхом уголовного закона воспретить быть развратным человеком, лишь бы он не оскорблял чувства приличия, так точно публичная подлость, оскорбляя нравственное чувство общества, действует возмутительно и не должна быть терпима.
1876 год
4-го января. Новый год я встретил под впечатлением неожиданного сюрприза. Я получил орден Св. Александра Невского. Это первая награда, о которой я не знал заранее и которую не ожидал, во-первых, потому, что для членов Государственного совета нет срока для получения очередных наград, ибо они назначаются по инициативе самого государя, и, во-вторых, главное — потому, что я думал, что гнев государя по моему мнению на отчет графа Толстого выразится в более продолжительном обходе меня всякими наградами. Чтобы не дать повода предполагать с моей стороны какого-либо искательства или желания оправдаться, я нарочно избегал случая представляться государю и даже попадаться ему на глаза. По собранным мною сведениям, оказалось, что никто за меня не ходатайствовал и что я получил награду по собственному соизволению. 1-го числа я поехал во дворец к обедне и после обедни благодарил на общем представлении. Государь не сказал мне ни слова, а только подал руку. Все это весьма соответствует характеру Александра Николаевича — весьма вероятно, что я теперь не получил бы награду, ежели бы ей не предшествовало выражение неудовольствия. Вместе со мной получил Александра Невского и Головний, это даже довольно замечательно, потому что мне достоверно известно, что Толстой уверял государя, будто бы я писал и подал свое мнение под влиянием Головнина, тогда как в действительности из всех лиц, которым я читал свое мнение, только один Головний отговаривал меня подавать его, хотя и был согласен с его содержанием. Замечательных новостей нет. Суворов[310] праздновал свой пятидесятилетний юбилей и по этому случаю получил портреты при великолепном рескрипте, но все это не поможет ему в действительности заслужить ту популярность, о которой он так хлопочет. Добрый по сердцу человек, но пустой, бестолковый болтун и в искусственной простоте своей не без хитрости царедворец. Его очень верно очертил покойный Ф. И. Тютчев следующим четверостишием:
Два разнородные стремления, В себе соединяешь ты, Юродство — без душеспасения И шутовство — без остроты…Засим Новый год ознаменовался кончиной двух сановников: графа Модеста Андреевича Корфа и управляющего Морским министерством Николая Карловича Краббе. Обе личности, в разных родах, довольно замечательные.
О первом, т. е. графе Корфе, мне, кажется, уже доводилось говорить мое мнение в записках. Прилагая за мерило для оценки государственных людей только положительные результаты их деятельности, я кладу в актив графа Корфа только одно дело — это устройство Императорской Публичной библиотеки. Вся его остальная деятельность сводится на нет. Он принадлежал к школе государственных грамотных деятелей прошедшего царствования. Эта школа выработала так называемую официальную редакцию, заменившую ясный и точный слог правительственных актов гладким, бесстрастным и лишенным содержания словотечением. Это искусство редакции, впрочем, не было случайным явлением. Оно было естественным последствием отсутствия содержания, бесстрастности и вицемундирной выправки, составлявших отличительную черту деятельности высших правительственных сфер в последней половине царствования Николая I. Граф Блудов, Бутаков, барон Корф, Суковкин были представителями этой школы. Все внимание обращалось на редакцию, чтобы она была гладка и красна (это технические выражения). Сущность дела оставлялась совершенно без внимания. Когда я был назначен директором Комиссариатского департамента Морского министерства, то застал одного вице-директора, который занимался исключительно переправкою редакции не только всех исходящих бумаг, но также и докладов. При вступлении в должность директора Таможенного департамента я нашел еще более любопытный факт. Департамент платил особое жалование академику Некитаеву за исправление редакции разных бумаг. Стоит только сравнить язык двух манифестов, указов и рескриптов времен Екатерины с подобными же актами второй половины царствования Николая I, чтобы увидеть и понять всю разницу. Текст законов, в особенности под пером Блудова и Корфа, утратил совершенно ясность, определительность и краткость. Помню, как много мне перепортил крови Корф, когда начал исправлять редакцию статей Устава о печати, выработанного в комиссии под моим председательством[311]. Как я ни бился ему доказывать, что его редакция изменяет смысл самого закона, что суду будет трудно руководствоваться текстом туманным и неопределенным, ничто не могло поколебать его желания огладить редакцию. Могу также сослаться на текст статей закона о печати в первоначальной их редакции и сравнить их с текстом статей, вышедших из Государственного совета[312].
Про Корфа обыкновенно говорили, что он отлично владеет пером. Справедливее было бы сказать, что перо им владело. Никакой своей мысли он не выразил этим пером, а перо в руках его получало силу нанизывать фразы закругленные, гладкие, приличные и скромно бесцветные. В рескрипте при пожаловании его в графы упомянуто в числе достоинств, что он умел с большой находчивостью приводить к соглашению различные мнения в Государственном совете. Это действительно отличительная черта деятелей, подобных Корфу. Им легко дается эта способность соглашать различные мнения, потому что ни одним мнением они не дорожат, совершенно безучастно относятся к вопросу, как бы он ни был решен. При этом, изучив характер лиц, с которыми имеют дело, чуя инстинктом, куда дует ветер, они без труда и без всякого насилия своим убеждениям направляют дела. К несчастию, успех людей, подвизающихся в этом смысле, заразителен и характер индиферентизма к общественному делу сделался у нас в высших сферах преобладающим, он в корень развратил многих способных деятелей. Корф постоянно был кандидатом во всевозможные министерства. В конце царствования Николая и при начале царствования Александра при всякой вакации[313] какого-либо министра его называли преемником.
Однажды, в 60-х годах, когда я был в ходу и в числе кандидатов на пост министра юстиции в общественном мнении, подходит ко мне на балу у княгини Юсуповой Корф и поздравляет меня. «С чем?» — спрашиваю я. «Да как же, ведь Вы назначены министром юстиции», — отвечает он. «Нет, Вы ошибаетесь, я еще пока поступил на Ваше место», — говорю я. «Как это?» — удивляется он. «Да так, — отвечаю, — ведь Вы 20 лет стоите кандидатом в министры, ну а теперь я занял ваше место». Эта шутка, впрочем, его не рассердила, ибо вскоре после действительно ему открылась возможность быть почти министром. Ему поручено было государем образовать на новых началах Главное управление по делам печати (это происходило еще прежде новых законов о печати, когда еще существовала цензура при Министерстве народного просвещения). Это Главное управление должно было составлять особое ведомство с личными докладами государю и со всеми атрибутами министерства. На другой же день Корф явился ко мне и предложил мне место члена в этом управлении. Удивленный этим, я захотел узнать, что именно побудило его обратиться ко мне, а потому завел речь о том, как он думает повести дело, мне хотелось понять хотя бы только его общую мысль о предстоящей деятельности. Но на все мои вопросы <я> получал столь уклончивые и неопределенные ответы, что во мне не осталось ни малейшего сомнения в том, что он сам еще и не думал об этом предмете. Ему только ясно представлялась вся внешняя обстановка этого министерства, с департаментами, курьерами и проч., и эту сторону устройства он мне объяснил в мельчайших подробностях. Тут же мне объявил, что он предложил другое место Соболевскому, которому уже написал в Москву. Соболевский — известный остряк, друг Пушкина, поэт, хотя не печатавший своих сочинений, бесспорно, ученый и образованный человек, большой библиофил и библиоман, никогда или давно нигде не служивший — выражал собою направление, совершенно не сходное с направлением правительственным. Все это мне показалось как-то странно и каким-то расчетом на эффект, без серьезной мысли. Я не дал никакого ответа Корфу и просил времени, чтобы обдумать его предложение. Я действительно два дня обдумывал его, собирал разные сведения и пришел к Корфу, чтобы еще раз с ним переговорить. Я начал речь свою с того, что выразил ему убеждение, что дело, в котором нам придется идти с ним рука об руку, не есть просто служебное дело, где обязанности лиц могут быть точно определены, что мы должны будем орудовать в области мысли, нравственности и убеждений и что поэтому мне бы хотелось знать, будет ли мой взгляд на дело достаточно близок к его взгляду и возможно ли какое-либо единомыслие. При этом я сказал ему в главных чертах, что я думаю о современном состоянии печати, какому направлению я сочувствую, какому — нет. Корф слушал меня с полным равнодушием, и не потому, что не хотел высказываться, а просто потому, что он об этих предметах не думал. Он весь был погружен в обдумывание нынешнего устройства министерства и, между прочим, тут же заявил мне, что прежде всего нужно непременно купить особый дом и что он уже приискал таковой у Фонтанки около Аничкова моста, и засим пустился в такие подробности относительно различных личных отношений, что окончательно убедил меня, что с этим господином дела иметь не следует. Я объявил ему, что не могу дать ответа без согласия великого князя Константина Николаевича, под начальством которого я тогда служил, и потому попросил отсрочки до следующего дня.
На другой день я объяснил все великому князю и, не видя в нем также большого доверия к Корфу, я просил у великого князя позволения сослаться в моем отказе на него, представя Корфу нежелание великого князя, чтобы я оставил службу в Морском министерстве, и невозможность соединить службу в двух министерствах. Так я и сделал. Вскоре затем <об>рушилось и самое образование особого управления. Корф так лебезил и так суетился о покупке дома, что возбудил против себя всех, вышла какая-то глупая история из-за этого дома, которая кончилась тем, что государь отменил свое повеление, хотя уже объявленное указом, и Корф опять остался ни при чем. Мне известно, что он пишет свои записки. Любопытно, как он расскажет этот эпизод для потомства. Впоследствии мне было поручено составить новый устав о книгопечатании, и, по моей мысли, эта часть передана в Министерство внутренних дел, при котором учреждено особое управление по делам книгопечатания. История хода работ в двух комиссиях под моим председательством и рассмотрения самого проекта в Государственном совете, наполненная необходимыми подробностями, изложена мною особо. Корф в Государственном совете председательствовал в Соединенном департаменте при рассмотрении проекта моего устава и много вредил несерьезностью своих возражений на редакцию. После того я никаких, особенно личных, отношений не имел с Корфом. Вскоре по вступлении моем в Министерство государственных имуществ и потом членом Государственного совета он заболел, оставил председательство в Департаменте законов и редко ездил в Совет.
Только два года назад я должен был возобновить с ним сношения, и на этот раз по делу, слишком близкому моему сердцу. Сын Корфа, Модест Модестович, влюбился в дочь мою Варвару и, в отсутствие отца, явился ко мне с предложением и просил руки Вавочки. При этом он объявил мне, что родитель его отговаривал вступать в брак с девицей без состояния и что у него также состояния нет, что он не может иметь более 4-х тысяч дохода.
Молодой человек — во всех отношениях очень порядочный, и хотя Вавочка не чувствовала к нему никакого особого расположения, но тем не менее я бы с охотою согласился бы на предложение, ежели бы в будущем молодой Корф мог бы представить какую-либо надежду на улучшение своего положения службою или другими занятиями. Но, к сожалению, молодой человек не одарен особыми способностями и сам не надеется сделать никакой другой карьеры, кроме придворной. Для этой карьеры должны быть средства, которых я дочери дать не смогу, к тому же, зная хорошо Вавочку, я не надеялся, чтобы в придворной карьере своего мужа она могла бы найти счастие. С мужем небогатым она могла бы быть счастлива, ежели бы муж этот был бы годен на какое-нибудь дело, и она могла бы быть ему хорошей помощницей. При таких обстоятельствах я, не дав решительного отказа, написал молодому Корфу письмо, которое бы он мог показать своим родителям, в котором я высказывал откровенно, что решение мое будет зависеть от согласия и отзыва его родителей. Засим, по возвращении графа Корфа в Петербург, я имел со стариком объяснение, из которого я ясно видел, что он, не надеясь на способности своего сына, возлагает надежду на богатую невесту и придворную службу. Так дело у нас и разошлось. Признаюсь, с моей стороны без особого сожаления, хотя молодой человек и имеет много хороших достоинств. Теперь он вдался, под влиянием лорда Редстока[314], в пиетизм[315] и удаляется от света. Не знаю, как подействует на него кончина отца, которому он был очень предан. Не знаю также, оставил ли покойный какое-либо состояние.
Другой окончивший свое земное поприще сановник — морской министр адмирал Краббе — близко был мне знаком, мы вместе служили в Морском министерстве. Я был уже директором департамента, когда он поступил в министерство, состоя прежде при князе Меншикове одним из любимых адъютантов. Он сделан был вице-директором Инспекторского департамента и потом, вскоре, выжил графа Гейдена, который был директором Инспекторского департамента, и сел на его место. Засим через несколько лет, когда адмирал Матюшкин управлял министерством, он и его мастерски спустил с помощью Грейга, управляющего тогда канцелярией, и сделан был тогда управляющим Морским министерством. Тут он скоро-скоро пошел в гору, получил чины, ордена и всякие отличия, был очень любим государем и великим князем. Последние два года постоянно болел, но оставался министром и умер, оставив память, в сущности, по сердцу, сердечного человека. Отличительная черта его, которой он главным образом обязан своему успеху и возвышению, — балагурство. Этим он угождал князю Меншикову и этим также успел он и впоследствии поставить себя в интимные отношения и к великому князю, и к государю. Специальность его состояла в собрании коллекций всяких неприличных вещей, рисунков и книг. Говорил он постоянно шутками и циническими выражениями, называя этот язык «языком будущности». В Государственном совете он, разумеется, никогда не говорил, но и не имел малейшей претензии на государственного человека, а сознавал и не скрывал от других своей ловкости, шуточками и балагурством обделывая разного рода дела и делишки. Хотя он никогда ничем во флоте не командовал, но его во флоте любили за доброе сердце и простоту. Я недолго служил во время управления им министерством, а потому не могу судить верно о том, показал ли он впоследствии какие-либо административные способности. При мне он только начинал и не проявлял еще никаких даже претензий на серьезное управление. Не думаю, чтобы и впоследствии он сам что-нибудь сделал дельное, но полагаю, что он не мешал людям дельным делать дело. Хотя Краббе носил немецкую фамилию, но имел много сторон с чисто русским отпечатком: юмор и балагурство его близко подходили к тону русского балагура, который себе на уме. Он был большой охотник до русской музыки и до всякой охоты. Он искал и достиг власти, чтобы жить в свое удовольствие, и в этом отношении достиг своей цели, устроив свою жизнь комфортабельно. Отделал себе великолепную квартиру в Адмиралтействе, но, к несчастию, не смог долго ею пользоваться, ибо мучительная болезнь приковала его к постели. В сущности, он вреда не сделал, ежели не считать вредом эксплуатацию человеческих слабостей в лицах, власть имущих. Помню, однажды в Государственном совете, после заседания, в котором выражали разные мнения о законе, предложенном графом Шуваловым о печати, и по которому было предварительное суждение в Совете у государя, где я и присутствовал, управляя тогда министерством[316], великий князь собрал в своем кабинете всех министров, чтобы условиться в одинаковом понимании воли государя по этому вопросу. Тут возникли сильные споры о смысле того заключения, которое министры, по воле государя, должны были поддержать в Совете. Великий князь доказывал, что государю угодно было, чтобы вопросы об уничтожении вредных книг рассматривались в Комитете министров по существу, а граф Шувалов доказывал, что государю угодно было только, чтобы об этих книгах доводилось до его сведения через Комитет министров. Государь был в отсутствии, и нельзя было обратиться к нему для разрешения недоумения. Так как самая мера эта казалась многим, а в том числе и мне, противною, и так как обставлена она была графом Шуваловым самым недобросовестным образом, то суждения были весьма странные. Совещание происходило стоя, ибо не имело характера формального совещания. Я стоял, слушал и молчал. Вдруг Краббе дернул меня за полу платья и на ухо прошипел: «Пожалуйста, молчите». — «Да я молчу», — отвечал я. «На роже все видно», — прошипел опять мне на ухо Краббе. Я невольно засмеялся и подивился его сметливости и тонкому званию министерской тактики.
Наконец вышла в свет книга, над приготовлением к изданию которой я долго трудился. Я дал заглавие, соответствующее содержанию: «Хроника недавней старины». Издание вышло изящное, и я надеюсь, будет иметь успех и принесет пользу. В предисловии я высказал мысли свои по поводу этого издания. Здесь же скажу, что я душевно радуюсь, что удалось почтить память дедушки, батюшки и матушки. Привлекательные личности их несомненно возбудят к себе сочувствие читателей. Мне случилось в прошедшем году читать отрывки из «Хроники» у императрицы. На это потребовалось два вечера, и на всех присутствующих чтение мое произвело самое приятное впечатление. Императрица очень интересуется этим изданием и просила меня непременно дать ей книгу, когда она выйдет. Любопытно будет, как отзовется общество и журналистика на мое издание. Я соберу особо все письма и статьи, которые буду получать по этому поводу.
6-го февраля. Сегодня я поднес императрице свое издание, а также представил экземпляр государю. И царь, и царица были очень любезны. Государь оставил книгу у себя на столе и сказал, что непременно будет читать ее на досуге.
На днях я обедал у королевы Вюртембергской Ольги Николаевны, которая приехала сюда по случаю отчаянной болезни великой княгини Марии Николаевны. Тут был государь и императрица, и оба они спрашивали меня, скоро ли выйдет моя книга. Поэтому я и поспешил ее представить, а также королеве и другим лицам императорской фамилии. Вообще отзывы о книге я получаю самые благоприятные.
Болезнь великой княгини Марии Николаевны хотя все усиливается, но нельзя предвидеть конца. Так что в свете опять начались балы и собрания, готовится даже большой бал во дворце.
Кроме нескольких близких великой княгине людей, никто не скорбит о ней. Ничего она путного в жизни своей не сделала и ничего не оставила после себя, чем бы Россия или общество могли бы помянуть ее добром.
Помню, однажды покойная великая княгиня Елена Павловна, говоря со мною о своих предложениях, об устройстве разных будущих благотворительных заведений, ею учрежденных, и о том, что будет с ними после ее смерти, сказала мне, что она старается внушить дочери своей — великой княгине Екатерине Михайловне — il faut se faire pardonner d'etre grande Duchesse de Russie[317]. До такой высоты сознания своего долга, конечно, могла дойти только такая необыкновенная женщина, какою была покойная Елена Павловна. Но между этой высотой и тем ничтожеством, в котором пребывают Мария Николаевна, Александра Иосифовна, Мария Павловна и проч… есть еще и обширная середина. Одна великая княгиня Александра Петровна отличается действительно необыкновенными качествами души и рвением на пользу общественную и делает это тихо, умно и последовательно.
19-го марта. Сегодня я вернулся из Москвы, куда ездил на несколько дней с великим князем Константином Николаевичем, по его приглашению, для присутствования при сценических упражнениях воспитанников и воспитанниц Московской консерватории. Давали «Фрейница», и очень удачно. Перед отъездом было у меня сильное объяснение с великим князем, который в пику за то, что с него берут в Кремлевском дворе деньги за содержание, хотел непременно остановиться в Москве в гостинице «Славянский базар». Уже все распоряжения к тому были сделаны. Я доказывал ему все неприличие подобного поступка, но он не соглашался, и тогда я объявил ему, что не поеду в Москву, чтобы не быть участником такого неприличного действия, от которого я должен был его отговорить. Хотя он мне объявил, что не изменит своего намерения, однако накануне отъезда своего изменил и остановился в Кремле.
31-го марта. Ужасная весть о кончине Юрия Самарина в Берлине дошла до меня из Москвы по телеграфу от Маши Саллогуб. Перед тем я получил телеграмму от Дмитрия Самарина, который проездом в Берлин, по первому известию о болезни брата, звал меня на свидание на Варшавскую <железную> дорогу. Там я его не нашел и, воротясь домой, узнал уже, что все кончено. Нет человека, которого я любил, кажется, более всех на свете, который более всех имел на меня влияния и которому более всех я обязан своими нравственными и гражданскими качествами, ежели таковые во мне есть. Чем был Самарин для меня, об этом напишу со временем, но теперь постараюсь собрать все, что будет о нем говориться и печататься. Скорбь от утраты Самарина — общая…
Статей из попадающихся мне под руку газет достаточно, чтобы видеть, какое общественное значение получила смерть Самарина. Ничего подобного я не видел. Я тем более поражен этим явлением, что мне казалось, что ценность достоинства, способность и высоконравственный его характер могли ценить только люди, близко его знавшие. Между тем и здесь, и на похоронах в Москве проливали по нем неподдельные, искренние слезы лица, никогда его не знавшие и даже никогда не видевшие. Самарина оценят еще более, когда будет обнародована его многотомная переписка с разными лицами. Я, со своей стороны, передал братьям Самариным все письма его ко мне, из них некоторые весьма замечательные. У меня также сохранилось в копии письмо его к государю после издания «Окраин». Все это со временем будет напечатано. Тогда увидят, какой Самарин был глубокий мыслитель, честный, верующий христианин и русский человек. Я не знал человека умнее и талантливее его. С первой молодости был с ним в самых близких и дружественных отношениях, он был для меня почти по всем вопросам политических и религиозных убеждений верным камертоном, по которому мне не раз случалось проверять собственные свои впечатления и убеждения. Корреспонденция его более, нежели изданные его сочинения, объяснит тайну его влияния на людей, с которыми он имел дело. Господствующая мысль и дух реформы крестьянской принадлежат ему, и хотя имя его ставится наряду с именами Милютина и Черкасского, но без него, по сознанию самого Милютина, характер реформы был бы совершенно иной, ибо направление Милютина до знакомства его с Самариным было столь узко-демократическое и исключительно западноевропейское, что реформа без участия Самарина лишена была бы тех твердых основ, которые составляют ее достоинства.
Из переписки Самарина увидят, почему он не служил и почему он действительно был негоден для административной деятельности. Но что правительство не дорожило человеком, столь талантливым и способным, и не умело извлечь из него пользу — это останется навсегда делом постыдным. Ввиду общего выражения сочувствия к памяти замечательного общественного деятеля, правительство не только не нашло приличным, со своей стороны, каким-либо, хотя самым скромным, способом выразить скорбь свою, а напротив, замеченное всеми отсутствие на похоронах в Москве генерал-губернатора получило значение манифестации, противной общему настроению. Это, впрочем, общий прием наших представителей власти. Они не только не ищут случая сойтись с обществом в одном чувстве негодования, или радости, или печали и тем заявить хотя чем-либо свою нравственную связь, а, напротив, нарочно как бы избегают случая показать возможность этой связи и считают как бы несогласным со своим достоинством и унизительным увлекаться общим настроением. К тому же в настоящем случае надо было забыть те частные неудовольствия и неприятности, которые наносил Самарин своим резким пером и цельностью своих убеждений, а на подобную жертву не могло, конечно, хватить духа. Рядом с этим весьма замечателен следующий факт: преосвященный Викторин, никогда не видавший Самарина, 5-го апреля, после благодарственного молебна за спасение жизни государя в Витебском соборе[318], остановившись на амвоне, обратился к пастве со следующей речью:
«Христос воскресе. Чем занять мне ваше внимание ныне, благочестивые слушатели? Конечно, не воспоминанием о несчастном изверге, покусившемся на бесценную жизнь возлюбленного нашего монарха. Нет, лучше я вас ознакомлю с личностью светлою, привлекательною, о которой так хотелось бы, чтобы знал ее и никогда не забывал русский человек, каждый преданный сын родной нашей земли.
Кто из образованных людей не слыхал имени Ю. Ф. Самарина? Потомок древнего русского боярского рода, муж высокообразованный, труженик в деле освобождения крестьян русской земли и Привислинского края, защитник своей родной народности, оберегатель славы и чести русского имени, истинный христианин и преданнейший сын православной церкви… Но его не стало; могила сокрыла уже бренные его останки. Теперь обнародоваются прекрасные качества его души и жизни, восхваляются его заслуги Отечеству. Послушайте, что говорят о нем и служители церкви, и мужи науки, и общественные деятели…»
После сего преосвященный прочитал выдержки из речей о почившем И. Л. Янышева, М. И. Горчакова, князя Васильчикова и почти все слово, кроме приступа и заключения, А. И. Ключарева и, наконец, сказал:
«Зачем, скажет кто-нибудь из вас, повествую вам с церковной кафедры не о жизни которого-нибудь святого, а о жизни смертного, хотя и выходящего из ряда обыкновенных людей?
Затем, скажу вам, что жизнь многих древних угодников Божьих многие считают теперь для себя неудобоподражаемой; а от подражания доблестям современных нам людей мы не должны отказываться; затем еще, чтобы показать вам, как можно совместить в себе знатность происхождения с любовью к простому народу, с высокостью умственного образования, непоколебимую веру в святейшие богооткровенные истины, с жизнью среди светского общества, преданность святой православной церкви и всем ее установлениям, с богатыми средствами ко всем мирским наслаждениям — жизнь аскетическую, с свободою мышления деятельность, всю посвященную на пользу Отечества.
Да не отговаривается современный наш человек, видя пред собою такой привлекательный образец, чтобы невозможно было и в наши дни, среди многоразличных соблазнов и искушений, быть доблестным сыном земли русской, преданным сыном церкви православной.
Приступим же к молитве за возлюбленнейшего государя нашего, пожелаем от всей души, да исчезнут с земли русской все враги его и да порождает она поболее таких деятелей, каков был благочестивый русский боярин, воспоминаемый нами раб Божий Юрий. Аминь».
Что за странный факт. Правительство постоянно держит человека под полицейским надзором, считает его своим врагом, запрещает все сочинения. Ни словом, ни намеком не высказывает сожаления о том, что этого человека не стало, и вдруг архиерей, в полном облачении, в соборе, приглашает свою паству помолиться за возлюбленного государя и пожелать, чтобы у него было поболее таких людей, как этот умерший раб Божий Юрий.
Этот факт, по-моему, в высшей степени замечательный и весьма красноречиво выражающий все противоречие в нашей общественной жизни. Вот что называется: «Своя своих не познаша». И это действительно так. В Москве и в Петербурге вышли к сороковому дню кончины Самарина брошюры, в которых собраны все речи и статьи, сказанные и писанные по случаю этой кончины[319]. Я ездил в Москву к сороковому дню, так как к похоронам приехать не мог. В Москве застал все семейство Самариных в сборе. Тетушка переносит свое несчастие необыкновенно спокойно и как будто не сознает всей тяжести понесенной утраты. Мария Федоровна Саллогуб собирает все письма и рукописи покойного для издания. Аксаков собирается писать биографию. Вот что он мне по этому случаю писал:
«Дорогой, старый друг, Митя.
Только что я сел писать тебе, как подали мне письмо твое. В нем каждая строка и каждое слово — как будто выхвачены у меня из-под пера. Нам нечего с тобою толковать о значении нашей потери. Смерть Самарина — это не то что потеря, а целое опустошение, в том смысле, что образуется страшная пустота и в личной нашей, и в общественной жизни, которую ничто и никогда заполнить не может. Это убыль нас самих, искалечение. Мы, конечно, ценили его и при жизни, но тем не менее теперь живее чувствуется, как много и чего мы в нем лишились. Блеск его талантов вносил в нашу обиходную жизнь что-то праздничное. Всякое соприкосновение с этим необычайным умом доставляло неизменно высокое духовное наслаждение, которым мы привыкли пользоваться как даровым добром, даже несознательно. Присутствие среди нас человека, осененного таким богатством Божиих даров и с таким возвышенным строем души, приподнимало нравственно уровень целой среды; как на поверхности морских глубин играют на солнце волны, струится золотистая зыбь, так в нем под блестящей игрою ума, иронией, забавными шутками и светской внешностью чувствовалось глубина духа, и в этой глуби — основная стихия его духа — стихия трагическая, героическая, аскетическая. Шутя и смеясь, не становясь никогда в позу, не разыгрывая ни жреца, ни проповедника, он постоянно „священнодействовал“ и духом горяще, Господеви работающе, постоянно совершал жертвоприношение.
Да, мой друг, я обратился теперь совсем в могильного сторожа, в кладбищенского надсмотрщика. Каждый ящик моего стола, когда я в нем роюсь, как могила, в которой я роюсь. Без всякого сомнения, я обязан и подчиняюсь этой обязанности беспрекословно, хотя и не сознаю в себе для того достаточно умения и сил — воспроизвести, в назидательную память потомству, нравственный образ Самарина, брата Константина и Хомякова. Биография каждого из них истекает из общего источника. Я хочу сказать, что они имеют значение, прежде всего, как трое, и потом как каждый порознь. Это было созвездие. Это было созвездие, от которого сначала оторвались и угасли 2 звезды, оставалась одна одинокая, и та, наконец, закатилась. „Мы трое жили одною жизнью, — писал Самарин брату, вслед за кончиной Хомякова, — теперь мы остались двое, и только мы можем понять друг друга, когда мы говорим о нем: есть целый мир воспоминаний, которые никогда не отойдут в прошедшее, а вечно будут властвовать в настоящем, — и этот мир доступен только нам одним, он нам завещан“. Вот что писал Самарин моему брату почти накануне смерти брата. И эти воспоминания вечно властвовали в жизни Самарина, они были его святыней, он продолжал жить одной жизнью с обоими друзьями, и мысль о смерти была для него неразлучна с мыслью о воссоединении с ними.
Ты понимаешь, друг Оболенский, что биография Самарина немыслима, по крайней мере с моей точки зрения, вне того, что дало определение и направление всей его жизни, с чем 20 лет жил он, по его словам, одной жизнью. Задача усложняется. К счастию, материалов довольно. У меня сохранились не только письма, но даже записки его к брату, чуть не с первого дня их знакомства. Затем Самарин лично заслуживает целого психологического этюда. Все это я постараюсь исполнить, насколько сумею и не откладывая в долгий ящик, потому что мешкать некогда, без меня никому не справиться с моими материалами, да и ни у кого нет этой руководящей нити воспоминаний. Затем, у Самарина есть целая сторона жизни: внешней, служебной, общественной деятельности, которая подлежит особому, специальному описанию, хотя характер ее внутренний дан ей предшествующим духовным развитием, так сказать, славянофильским. Для этой части биографии у меня мало данных, я уже писал Черкасскому о том, что на нем лежит обязанность написать записки о трудах Самарина в Редакционных комитетах, в польском вопросе, духовенстве, земстве. Публика жаждет, собственно, этой биографии. Я ничего до сих пор нигде не произносил, никакой „речи“ о Самарине, и, признаться сказать, охотно бы не произнес никакой, потому что передо мною носится тот его образ, который может воспроизвести только биографический труд и психологический тщательный анализ, а всему этому не место в речи, которая может быть только плачем или похвальным словом. Я понимаю, почему Самарин сам никогда не выступал с надгробной речью или статейкой о Хомякове, ни о моем брате. Но, кажется, трудно будет обойтись без чего-нибудь подобного и на скорую руку изготовленного: от меня требуют, чтобы я сказал что-нибудь о нем в Обществе любителей р<усского> слова (в которое Самарин никогда не ездил)[320]. Я бы отказался, тем более что для меня важно именно то, что не мы, а все другие, посторонние, наперерыв спешат выразить свое сочувствие и уважение к Самарину. В его лице, как и ты замечаешь, чувствуется все направление, так называемое славянофильское. Но, с другой стороны, следует поддержать в обществе то благотворное нравственное действие, которое произведено на него кончиною Юрия Федоровича. Он силою своих нравственных достоинств разом приподнял все общество до высокого строя, до единодушного порыва скорби и уважения, он дал ему прожить несколько нравственных, очистительных мгновений. Это явление утешительное, и вызвать его было дано только Юрию Самарину. В этом сказалась его сила, это его последняя служба родной земле.
То же, что происходило в Петербурге, происходило и здесь. Со времени похорон Гоголя не было таких похорон, такой давки в университетской церкви. Все, у кого хоть какая-нибудь душонка есть, все отозвались на общее горе, без различий партий, лагерей и мнений. Никто не был зван, никто не явился только приличия ради: чувствовалось слияние тысячи сердец в одном чувстве. Но и здесь официальный мир резко выдавался своим отсутствием. Тем хуже для него, но тем лучше для чистоты и цельности общественного чувства. Остроумно заметила одна дама: „Администрация боялась демонстраций, и единственная демонстрация была произведена ею: отсутствием генерал-губернаторов и генералитета в мундирах“. Умилительно было видеть в церкви и на кладбище ветеранов-антагонистов, людей некогда противного лагеря.
Я так пишу, постоянно употребляю выражения: „смерть“, „кончина“, „похороны Самарина“ — и чувствую, что все эти выражения употребляются мною как-то отвлеченно, еще не вошедши вполне в сознание, так трудно мирится в мысли и в сердце образ смерти с этой жизненностью воли, силою ума, ярким блеском дарований, с этим металлическим словом, под впечатлением которого остался я при расставании с ним. Но когда сделаю над собой усилие ощутить всю реальность этого события, вместить в себя всю грубость правды смерти, на душе становится так горько, что перо выпадает из рук.
Когда ты приедешь в Москву, захвати с собой все письма Юрия Федоровича. Мне говорил князь Васильчиков, что ты читал ему и другим письмо Самарина Черкасскому по поводу введения Положения о крестьянах в действие. Я помню, он мне сам рассказывал нечто в этом роде. Нельзя ли это письмо прочесть публично в Обществе любителей русского слова: это было бы лучше многих риторических речей. Прощай, любезный друг Оболенский, как обрадуешь ты меня своим приездом. С нетерпением стану тебя ожидать. Крепко и нежно тебя обнимаю.
Твой И. Аксаков.
В какие тусклые, серые будни, обратилась теперь жизнь… Жена тебе дружески жмет руку. Она вчера писала Эдите Федоровне Раден еще до получения твоего письма.
Последнее, что читал Самарин, именно в четверг утром, 18-го марта, было мое письмо к нему, о содержании которого я тебе именно и рассказывал. Я приглашал его вместе со мною издавать критический журнал. За чтением этого письма застал его доктор, и оно найдено на столике совершенно измятое его рукою — левою рукой…
Я читал и собрал все номера газет, в которых напечатаны статьи и речи, произнесенные в Петербурге. Самое лучшее — бесспорно, Градовского, о чем и собираюсь ему написать.
Но все, вместе взятые, представляют из себя замечательнейшее событие нашей истории — высокого нравственного характера, венчающее нравственный подвиг жизни и общественное служение Юрия Самарина.
Ох, как тяжело и грустно, друг Митя…».
5-го мая. Господь послал мне великое утешение… Сегодня мы помолвили Вавочку за Михаила Михайловича Бибикова — молодого человека, во всех отношениях, кажется, достойного и влюбленного в Вавочку уже более года.
Как справедливо говорит пословица: «Суженого конем не объедешь». Так и эта свадьба решилась довольно неожиданно, сопровождалась разными эпизодами, расстроившими нервы жены. Но я вполне надеюсь на милость Божью, и он благословит этот брак, пошлет мне утешение видеть счастье дочери, которую люблю от всего сердца. Свадьба, вероятно, будет не прежде конца июня или первых чисел июля.
20-го июня. Роковой восточный вопрос опять поставлен Провидением и грозит всей Европе, и нам в особенности, страшными бедствиями. Опять застает он нас врасплох. Опять не готовы мы к войне для поддержания единоверных нам славян, но, что всего хуже, мы теперь менее, чем прежде, способны дать политике нашей какой-нибудь ясный, определенный характер, заявить какую-нибудь мысль и, хотя бы нравственной силой твердого убеждения, завоевать себе право на внимание Европы к руководящим нами началам. С самого начала уцепившись за сочиненные австрийцами несбыточные предложения об умиротворении турецких славян посредством обещания реформ, мы сдерживали всеми средствами восстание в Герцеговине, не давали ему распространиться, хотя простой здравый смысл убеждал в невозможности осуществления реформ, которыми потчевали вышедших из терпения славян.
Теперь несостоятельность этой политики обнаружилась: война сербов и черногорцев с турками уже началась, и что будет дальше — одному Богу известно… Я не верю в окончательное торжество нашей политики, даже в том случае, ежели бы славяне одержали окончательную и решительную победу над турками, и это потому, что не верю в торжество лицемерия. Политика отвлеченных принципов и неискренность убеждений не может окончательно торжествовать. В ней нет силы правды. Мы поддерживаем единоверных и единоплеменных нам братии и в силу этого нравственного и духовного родства предъявляем свои права на защиту их. Но сами мы, т. е. все те, которые руководят политикой, настолько ли уважаем и любим свою веру, что можем одушевлять требования наши силою искренних убеждений? Но сами мы настолько ли любим собственное свое племя, чтобы искренно сочувствовать своим единоплеменным? Не чуждаемся ли мы, напротив, сами своей народности? Не презираем ли мы ее? Не милее ли нам всякий немец, особенно пруссак, француз или англичанин? Так ли мы относимся к славянскому племени, как немцы к германскому, итальянцы к итальянскому? Настолько ли Горчаков — русский, насколько Бисмарк — немец; и так, восходя выше и выше на всех ступенях нашей правительственной иерархии, можно задавать себе подобный вопрос и, к сожалению, отвечать отрицательно. Покойный государь Николай Павлович не только природой своей и вкусами был более русским человеком, чем настоящий государь, но, кроме того, он искренно верил в свое призвание быть покровителем православных и в этом смысле смотрел на свою политическую деятельность как бы на некое священнодействие. Теперь ничего этого нет. Преобладающая во всем и во всех усталость, равнодушие, желание мира и покоя, опасение компрометировать свое прошедшее дает, несомненно, характер всем нашим словам и действиям. Apres nous le deluge[321] — вот внутреннее чувство всех наших главных политиков. К тому же сам вопрос весьма труден, и для изыскания способов для разрешения его нужны не рядовые способности, а таковых в наличии не имеется. Очень тяжелые времена опять наступают для России. На днях ждут возвращения государя из-за границы, где неудавшаяся конференция и неудавшееся лечение, вероятно, еще более ослабили его организм.
1-го июля. Сегодня я имел продолжительный разговор с канцлером — князем Горчаковым. Он вернулся вместе с государем и не пользуется своим обычным летним отдохновением в Швейцарии. Политические замешательства слишком важны, и мы, к сожалению, в них до сих пор не имеем блестящего положения. Из всех слов Горчакова я вынес то убеждение, что восточный вопрос нимало не продвинулся к своему разрешению. Военные действия в Сербии и Черногории остановили политическую болтовню, но она скоро опять начинается, и с той же неопределенной с нашей стороны программой, с какой началась. Я предлагал устроить совершенно тайную денежную передачу пособия Сербии без официального или неофициального вмешательства правительства, о чем настоятельно ходатайствует сербское правительство через своего уполномоченного — Протича, рекомендованного мне Аксаковым. Но, кажется, дело это не состоится, и не только потому, что финансовый наш кризис сейчас в полном разгаре, но главное потому, что боятся протеста Англии, которая, в свою очередь, не имеет подобных опасений и оказывает несомненную помощь туркам. Та главная причина шаткости нашей политики, о которой я писал выше сего, — более, чем когда-либо, лежит в основе всех наших неудач. В разговоре, между прочим, мы вспоминали о Самарине, и князь Горчаков спросил меня, знаю ли я, что родство мое с Самариным и дружба с ним лишили меня министерского портфеля[322]. Я отвечал, что хотя, наверное, не знал, но предполагал всегда, что дружба Самарина была, между прочим, поводом и оружием Шувалову, чтобы заподозрить меня в глазах государя. Горчаков сказал, что он это наверное знает. Меня это нисколько не удивляет и ни минуты не заставляет сожалеть о том, что не отказался от сочувствия к человеку, с убеждениями которого я всею душою сроднился, и в потере и в превратном понимании которого вижу большое несчастье для России.
Государь едет завтра на выставку в Финляндию. Все видавшие его единогласно утверждают, что он сильно похудел и болезненный вид его вызывает сожаление. Как-то он перенесет зиму? Горчаков и Адлерберг утверждают, что в Эмсе ему было гораздо хуже, но что он поправился в Югенгейме.
26-го августа. Гроза на Востоке не утихла, а принимает все более и более опасный для Европы, а в особенности для нас, характер. Несчастные сербы и черногорцы, несомненно, будут скоро окончательно подавлены вооруженной силой турок, и действительной помощи <ни> от нас, ни от Европы они для продолжения борьбы не получат. В России все классы общества возбуждены ненавистью к туркам, и пожертвования деньгами и вещами приносятся в огромных размерах. Кроме того, со всех концов России волонтеры разных сословий и званий идут в Сербию и вступают в ряды сербского войска. Уже более 50-ти офицеров русских пало на поле битвы. Народное движение в России быстро распространилось и теперь представляет весьма замечательное и важное по своим последствиям явление. Еще недавно, а именно 20-го июня, писал мне из Москвы Аксаков, между прочим, следующее:
«Вспомни 1853 год, когда собиралась гроза восточной войны: какое движение, какой одушевленный подъем мыслей, стихи, статьи, письма, взаимные посещения, — вспомни, хотя переписку твою именно с братом Константином… А теперь? Не такие же ли, и даже не пущие ли громы собираются на небе? Не восточный ли вопрос поднимается во весь рост? Не грозит ли России худшая опасность? Опасность не войны, хотя бы и губительной, но опасность бесчестия, но измена своим преданиям и своему призванию. И что же?… Тишь да гладь, все смирно, никто не тревожится. Общество молчит, да и общества-то нет. Я, как старый конь, запертый в стойло, только топчу ногами и ржу одиноко…».
Месяц спустя тот же Аксаков в речи к Славянскому комитету говорил следующее:
«Еще ни разу до сих пор не приходилось московскому Славянскому комитету собираться в минуту подобной важности. Никогда не выдвигалось так ярко его значение и его призвание. Все его 19-тилетнее существование было как бы только приготовлением к настоящей поре. Созванный сначала усилиями небольшого кружка людей, осмелившихся считать себя перед лицом славянского мира представителями и носителями, а Комитет — органом истинной русской народной мысли по отношению к славянству, преодолев постепенно не только противодействие, но и равнодушие, Комитет возведен теперь ходом событий на степень естественного и законного орудия русского, общественного и, можно сказать, всенародного мнения по славянскому вопросу. Ничего бы так не желали, как того, чтобы факел, некогда зажженный нами, долго еще мерцавший и воспылавший теперь ярким пламенем, дождался наконец солнца и потонул в лучах его, по выражению поэта. Не солнце ли уже восходит нам в этом всеобщем пробуждении в народе такого сочувствия к братьям по вере и по крови, такого сознания тесной связи своих исторических судеб с современными событиями на Балканском полуострове, что скоро, кажется, вся Россия превратится, и слава Богу, — в один Славянский комитет, или, другими словами, упразднит прежнее значение комитета как проповедника и органа славянской идеи… Всем сердцем призываем мы это мгновение, но и теперь нашему Славянскому комитету выпала на долю высокая историческая служба — быть преимущественно не столько руководителем, сколько, повторяю, — практическим орудием русского общественного мнения и чувства при настоящих великих событиях. В самом деле, перед нами свершается явление необычайное. В прежние времена, когда так называемый восточный вопрос или то, или другое из угнетенных в Турции славянских племен домогалось свободы, Россия вступала на историческую арену всегда прямою защитницей славянства, но всегда одной своей официальной стороною, т. е. как государство, посредством дипломатии или вооруженной силы: народ оставался, по-видимому, в стороне: до его слуха и ведения немногое доходило о положении и страданиях его братьев славянских. Русское историческое предание со славою блюлось и без его участия. В настоящее время мы видим совершенно иное. События несравненно важнее, именно потому, что наступает роковой час, от которого зависит все будущее России. Но кто же выдвигается главным передовым деятелем, историческим фактором со стороны России? Откуда исходит клик сочувствия к восставшим славянам, вопль негодования к врагам Христа и славянской свободы? Кто ободрил герцеговинцев нравственно и помог их борьбе вещественно? Кто обеспечил семейства доблестных борцов? Русский народ, не только образованные классы, но весь русский народ, с простонародьем включительно. Такое отношение к славянскому делу, такое положение было благодушно представлено русскому обществу самим правительством. В этой помощи восстанию, через призрение страждущих, было бы совершенно несправедливо обвинять русскую официальную власть, и иностранная печать, упрекая русское правительство в тайной поддержке восставших славянских племен, клевещет. Русская дипломатия согласилась подвергнуться нареканию со стороны наших единоплеменников, самого русского общества, подвергнуться даже страшному риску: утратить симпатии славян и лишиться старых надежных союзников на востоке, только бы не подать повода западным державам усомниться в искренности ее миролюбия и бескорыстия и сохранить верность дружеских отношений. Нам недоступны высшие соображения, руководившие действиями нашей дипломатии, но мы не можем не чувствовать искренней признательности к правительству за то, что оно не стесняло общество в выражениях сочувствия, хотя, конечно, без могущественного содействия государства это сочувствие едва ли может само по себе выполнить историческую задачу, указанную России промыслом.
Тем более приобретает значение усилие русского народа помочь христианским племенам в их борьбе с исконным врагом своим, тем сильнее выступает важность общественного русского участия в современных событиях. Русскому обществу приходится поддержать честь и обаяние русского племени, значительно компрометированного и ослабленного в последнюю пору, сохранить единственно надежных нам союзников среди недоброжелательной нам Европы, сохранить верность тому историческому призванию, от которого ищут отклонить нас западноевропейские державы. Русское общество, вполне соболезнуя страданиям болгар, босняков и герцеговинцев, ясно сознает в то же время, что задача вовсе еще не в том, чтобы так или иначе облегчить их участь и обеспечить материальное благоденствие, а в том, чтобы вопрос восточный, или, вернее, славянский, или, еще точнее, — русский, был решен славянами, под водительством России и для славян, т. е. в интересах славян и России, а не в интересах Австро-Венгрии и Англии. Ужасны бедствия, претерпеваемые нашими единоплеменниками в Турции, но еще гораздо горше будет судьба православно-славянского мира, если Россия уклонится от своего долга славянской державы, если ее призвание по отношению к славянам переймут у нее западноевропейские кабинеты, если им, а не России будут обязаны славяне своим освобождением и возрождением. Если, предоставляя России утешаться славою миролюбия и бескорыстия, какая-либо иная чужеплеменная держава утвердит в той или иной стране свое владычество над проливами — этим ключом русского Черного моря. Я счел нужным очертить политическое положение дела для того, чтобы яснее представить вам, м<илостивые> г<осудари>, ту великую историческую повинность, которую приходится теперь нести русскому обществу, великое историческое значение его деятельности, высокую важность наших трудов как членов Cлавянского комитета. Что будет — то будет, лишь бы мы сделали все, доступное нашим силам. Благо же всем жертвователям крупным и малым — от богатого, жертвующего 1 тыс. рублей, до деревенской бабы, кладущей на церковное блюдо платок с головы, за неимением денег; благо же в особенности тем доблестным русским людям, которые, в благородном порыве, ежеминутно жертвуют за святое дело славянских племен, за честь русского имени. Русский братский союз со славянами окрещен недавно русской кровью. Общественная панихида по А. Н. Кирееву — члену нашего Комитета — имеет глубокий смысл, ибо сам подвиг его имеет общественное значение. Не по обязанности, не по любви или привычке к военному ремеслу отправился он биться со славянами против турок. Он был один от нас и бился за нас. В нем говорила честь и русская совесть всех нас, всего русского народа, он своей смертью искупил грех, ложащийся на Россию благодаря величию европейской дипломатии.
Вы помните, м<илостивые> г<осудари>, что ввиду таких великих событий, ввиду тех усилий, которые требуются от русского общества, и ввиду продолжающейся еще и теперь верности русского правительства его дружеским отношениям к западноевропейским державам, нашему Комитету предстоят большие расходы, для которых нужны большие средства. Благодарение Богу, рука дающего не оскудеет. Напротив того, пожертвования, притихшие было весною, с открытием военных действий со стороны Черногории и Сербии хлынули с необычною силою.
„Несомненно, — писал один из жертвователей, приславших свою помощь Московскому <славянскому> комитету, словами коего я и закончу свою речь, к вам обращенную, несомненно, что Славянский комитет, по мере своих средств, составляемых из частных приношений, питает свое желание и употребляет возможные усилия облегчить ужасные бедствия, тяготевшие над несчастным населением целых славянских областей Турции, но несомненно также и то, что для этого далеко и далеко не достаточно одних частных порывов — благородных, но, как показывает дело, увы… бессильных направить симпатии более значащих сил в народе более деятельной помощи гибнущим несчастным страдальцам. Но уже в высшей степени несомненно и то, что эти приношения отдельных единиц великого народа, притекающие ныне в кассу Комитета и его отделений, как бы они велики ни были, служа громким выражением горячих симпатий великого народа, не выражают даже в слабой степени той безмерной скорби, которая ныне угнетает каждое русское сердце при живом представлении всей беззащитности единоплеменников великой и могущественной России, обращающих к ней единой свои молящие о помощи взоры и… тем не менее умирающих страшной смертью, при слишком болезненном для народного чувства сознания бессилия одних частных симпатий — сделать то, что есть совесть России, ее священный долг среди славянства и ее будущее в истории“».
Правительство, ввиду такого настроения общества, видимо, не знает, что ему делать. Сперва оно разрешило находящимся на службе офицерам выходить в отставку и входить в ряды сербской армии. Потом поощряло даже отправку волонтеров, обещая возвратившимся офицерам прежние их чины и места. Потом разрешало всякие сборы в пользу славян и манифестации сочувствия, лишь бы оставаться самому в стороне. Таким образом, общество более и более воодушевляется помимо правительства и начинает чувствовать свою силу Иностранная пресса обратила на этот подъем общественного мнения внимание, и восточный вопрос в России теперь мало-помалу выхвачен из рук правительства, и положение его сделалось еще более затруднительным, ибо, кроме соображений дипломатических и условий, в которые оно себя поставило конференциями в Берлине и в Рейхстаге, при свидании с австрийским императором, ему приходится теперь еще сообразовываться с общественным мнением в России. А это мнение с каждым днем становится все более и более требовательным, доказательством чему могут служить следующие выписки из газет.
«СПб. ведомости», 28-го августа.
«Вчерашняя депеша из Алексинаца от ген. Черняева говорит, что сербские войска, заняв покинутые турками позиции, нашли там трупы сербов, привязанные к деревьям и обугленные. Но что же это такое, наконец? Неужели нам придется продолжать быть зрителями подобных неслыханных фактов и выражать только одно сожаление о несчастных жертвах? Ведь обстоятельства теперь значительно изменились. В рядах сербской армии находятся теперь сотни, а в скором времени, быть может, будут и тысячи русских бойцов. Неужели же мы будем смотреть, сложа руки, как, страшно подумать, наших родных братьев, мужей наших жен, сыновей наших матерей будут вешать, распинать и жечь на медленном огне? Шансы войны изменчивы, поле сражения может остаться за неприятелем, а вместе с тем раненые и пленные турки напрягают все силы, чтобы подавить Сербию. Абдул-Керим 14-го числа вновь телеграфировал о медленной присылке подкреплений. Турецкое правительство стягивает все оставшиеся войска из Малой Азии, Сербии и Аравии и направляет их на театр действий, между тем как у сербов все население, способное носить оружие, призвано уже в ряды армии. Переговоры о перемирии тянутся и, может быть, протянутся еще долго, так как для турок это выгодно: армия их отдыхает тем временем от полученных поражений, получит подкрепление, устроится и двинется вперед. Выдержат ли тогда сербы новый напор — еще неизвестно. Что же делать? Мы говорим, что не можем принять непосредственное участие в войне, потому что против нас вооружится тогда вся Европа. Быть может, это справедливо, если бы начали так, как в 1853-м году, с занятия Румынии, так как у Австрии тогда явились бы опасения за свои провинции. Но у нас есть азиатская граница, отдаленная от Австрии на тысячи верст. Движение наших войск к Карсу и Эрзеруму не может иметь такого влияния на Европу, как поход в Румынию, и можно наверное поручиться, что ни Австрия, ни Германия не объявят нам за это войны. Под Александрополем стоят сейчас две дивизии — если двинуть их вперед, то восточный вопрос будет решен. Европа нам будет благодарна за то, что мы окончим то напряженное и томительное положение, в котором дела находятся уже больше года».
«Русский мир», 17-го августа 1876 г.
«Одно из важнейших несовершенств русской жизни заключается в отсутствии надлежащих, прочно организованных способов внешнего проявления внутренних сил, стремлений и чувств русского народа. Недостаток этот с особенной резкостью дает себя чувствовать в настоящее время, когда общественное настроение России могло бы, при известных условиях, оказать решающее влияние на судьбу родственных нам южнославянских племен.
Несмотря на всю разрозненность и несистематичность сочувственных районам действий русского общества, несмотря на крайнюю ограниченность и мирность тех форм, в которых выражаются эти действия, — для бойцов Сербии и Черногории сделано уже весьма много русским народом, без всякого участия правительства, сохраняющего нейтралитет в силу существующих международных отношений. Русский народ дал и продолжает давать славянам средства для ведения войны: он дал им опытных вождей и усилил их ряды лучшими из сынов; он, наконец, спас от голодной смерти тысячи бедствующих семейств, лишившихся крова и пристанища среди разоренной башибузуками[323] родины. Все это сделано частными усилиями общества, не привыкшего к совокупной политической деятельности. Все это плоды отдельных порывов, не возведенных в систему и не соединившихся еще в одно могучее, внушительное целое.
Если действуя, так сказать, вразброд, поодиночке, мы все-таки достигли таких результатов, которые успели уже заметно напугать европейских друзей Турции, то что же бы было, если бы наши политические чувства могли бы проявляться в более организованной форме? Какою неодолимою силой явилась бы тогда перед лицом Европы единодушная сила великого восьмидесятимиллионного народа… Заграничная печать не смела бы тогда отделять официальную Россию от неофициальной, не смела бы отрицать существование у нас самостоятельного народного мнения, не смела бы толковать о подстрекательствах, не смела бы толковать, наконец, и приписывать все это возбуждение „интригам“ славянофильской партии или каким-то честолюбивым невозможным замыслам. Голос целого народа, голос русской земли, подействовал бы на подозрительную Европу совсем иначе, чем едва доходящий до нее хор русской печати вместе с незаметными издали фактическими проявлениями русских народных сочувствий.
Московский славянский комитет уже обратил внимание на тот общественный недостаток, о котором мы говорим; но устранить эту общественную слабость нашу можно только мерами, более обширными, чем какие указаны названным Комитетом. Естественное право почина в предложении этих мер принадлежит Москве — этой исконной представительнице настоящей Руси, скрывающей свою мощную народную жизнь под оболочкой внешнего спокойствия».
За эту последнюю статью газета «Русский мир» запрещена на 3 месяца. Но это не поможет. С каждым днем негодование против зверств, чиненных турками, увеличивается, и все классы народа, помимо газетных статей, воодушевляются воинственным духом, ропщут на вялость, слабость и бессилие правительства. Уже начались попытки уличных манифестаций, как это видно из следующей телеграммы:
«Телеграммой из Москвы нам извещают, что вчера, 28-го августа, вечером, выехал по железной дороге Смоленской в Сербию отряд добровольцев с походной церковью и хором певчих, предназначенных для армии генерала Черняева. На вокзале железной дороги собралась масса народу. При прощании с добровольцами публика пела „Спаси, Господи, люди Твоя“ и кричала „ура“, и энтузиазм был невообразимый. После проводов толпа прошла с криками „ура“ по Тверской, спела „Спаси, Господи, люди Твоя“ у дома генерал-губернатора и мимо часовни Иверской Божьей Матери дошла до монумента Минину и Пожарскому, после чего спокойно разошлась».
Виктор Гюго, который вообще с некоторых пор говорит и пишет много глупостей и бессмысленных и напыщенных фраз, сказал на днях довольно верно:
«Il devient necessaire d’appeler l’attention des gouvernements Europeens sur un fait tellement petit, à ce qu’il parait, que les gouvernements semblent ne point l’apercevoir. Le fait — le voici: on assassine un peuple. Oú? En Europe! Ce fait a-t-il des temoins? Un temoin — le monde entier! Les gouvernements le voient-il? Non! Les nations ont au dessus d’elles quelque chose qui est lui dessous d’elles — Les gouvernements. A de certains moments ce contre-sens eclate, la civilisation est dans les les peuples, la barbarie — dans les gouvernements. Cette barbarie est-elle voulue? Non! Elle est simplement professionelle. Ce que le genre humain sait, les gouvernement l’ignorent. Cela tient àce que les gouvernements ne voient qu’à travers, cette myopie — La Raison d’Etat. Le genre humain regarde avec un autre oeil — La Conscience!»[324].
Очень любопытно припомнить и перечитать все, что говорили наши передовые поэты и писатели по славянскому вопросу. Хомяков, Киреевский, Аксаков, Тютчев и Самарин были носителями славянской идеи в ту пору, когда не только правительство, но и общество относилось к этой идее со злобной насмешкой. Не раз замечал я, что в ходе мировых идей есть какой-то низменный закон, в силу которого передовые носители идей сходят с лица земли перед тем временем, когда идее этой суждено воплощаться и переходить в общественное сознание. Великие события предчувствуются и предсказываются и ныне своего рода пророками и предтечами, и ныне, как и прежде, глас их — есть глас вопиющего в пустыне. Но наступает время, и воочию совершаются события. То общественное настроение, которое в настоящее время соединяет всех русских людей в одном чувстве, в высшей степени замечательно, и хотя до сих пор оно, так сказать, внешнее, вызванное озлоблением против жестокости турок и патриотическим негодованием против врагов России, но скоро общество уразумеет и весь внутренний смысл предстоящей общей борьбы славянского мира с германским, а в частности, увидит всю глубину нашей национальной несостоятельности. Уже теперь почти все газеты и журналы наполнены статьями, под которыми могли бы подписаться Хомяков, Самарин и другие представители направления, неправильно называемого «славянофильским». До сих пор дипломатия не сделала еще ни одного решительного шага для разрешения восточного вопроса. Последние предложения Англии, на которые и мы согласились, в сущности, возвращают вопрос к прежним предложениям Австрии. Но ежели Турция их и примет, то они все-таки будут не исполнены, и вопрос нимало не продвинется вперед.
20-го октября. Еще месяц прошел в бесплодной переписке дипломатов и бесцельной гибели сербов и наших добровольцев[325]. Положение сербов отчаянное. Все крепости теперь заняты турками, которым открыт теперь свободный путь в Белград. Сопротивление невозможно. Наконец, третьего дня, во время заседания Совета министров, министром иностранных дел была получена следующая депеша из Ливадии:
«Его Величество Государь император, сегодня 18-го (30-го) октября, изволил послать генералу Игнатьеву повеление объявить Порте, что, если в течение 3-х дней она не примет шестинедельного или двухмесячного перемирия и не даст немедленно приказание остановить неприязненные действия, генерал Игнатьев выедет из Константинополя со всем русским посольством и прекратит всякие дипломатические отношения с Портой».
Сегодня, следовательно, должен решиться вопрос о мире или войне. Ввиду несомненных успехов турок на поле битвы и двусмысленном положении других европейских держав, кажется, мало надежды на то, чтобы турки согласились теперь прекратить военные действия. Поэтому надо ожидать разрыва. Государь, весьма вероятно, немедленно вернется в Петербург, ибо оставаться в Ливадии под выстрелами первого турецкого корабля — невозможно. Ежели до сих пор чувство приличия и сознание долга своего быть в такую важную для России минуту в центре правительственной администрации не побудило государя вернуться в Петербург, то теперь, из чувства самосохранения, он должен будет вернуться.
Первое решительное слово, сказанное нашей дипломатией, произвело хорошее впечатление, не потому только, что большинство, может быть, необдуманно, желает войны, а потому, что это слово является как бы признаком жизни в организме, мертвящее ослабление которого начинает приводить всех в отчаяние. Еще никогда общественное дело и государственный интерес не были так возведены в степень личных интересов, как бы касающихся только Ливадии и ее обитателей.
Третьего дня в Государственном совете рассматривались два весьма важных законоположения: о воинской повинности и об ополчении. Проект о воинской повинности должен был вызвать много существенных замечаний, ибо он без нужды очень стеснителен и трудно исполним. Но при самом начале рассуждений великий князь Константин Николаевич, в качестве председателя, объявил, что проект этот уже приводится в исполнение и его останавливать нельзя. Причем он неоднократно заявлял, что нужно только, чтобы он прошел через формальность Государственного совета. Это слово формальность, несколько раз повторенное, действительно выражает довольно верно весь характер деятельности высших государственных учреждений. Все обратилось в формальность, и это вовсе не оттого, чтобы государь сам был бы очень властолюбив, но просто оттого, что как-то исчез во всех интерес к общему делу, к сущности его, к общему благу. В этом отношении изумительно, какими быстрыми шагами мы пошли назад против еще недавно прошедшего духа всех суждений, и споров, и мнений. Государственный совет был совсем иной во время Сперанского, Мордвинова[326] и проч… Ежели эти лица теперь были бы живы, то голоса их были бы подавлены общим равнодушием, да и сами они бы почувствовали неловкость положения разыгрывать из себя Дон-Кихотов. В прежнее время, я не сомневаюсь, что при подобных обстоятельствах, как теперь, Государственный совет нашел бы приличную форму выразить государю желание видеть его здесь. Наконец, невозможно было бы принятие тех губительных для наших финансов и торговли мер, которыми гг. Рейтерн и Грейг с Ламанским разорительно действовали все это лето, не опасаясь никого. Нашлись бы люди, которые особыми записками или мнениями протестовали бы против этих мер. А теперь, ежели бы и нашелся такой смельчак, который бы на это решился, то ему бы просто, без разговоров, объявили бы выговор. Признали бы, что протест этот есть личность, и запретили бы сообщать кому-либо этот протест. Как бы то ни было, но ни в какую эпоху не было такой распущенной вялости во всем, как теперь. Никогда интерес государственный не был так подавлен равнодушием и бездарностью. Это летаргическое состояние хуже войны и опаснее, потому что растлевает сам организм государственный и деморализует даже крепких и способных людей. Война может быть целебным средством против этого зла.
21-го октября. Сегодня получено известие, что турки согласились на наше требование и что перемирие будет заключено на два месяца. Итак, война отсрочивается. В Сербии она, вероятно, уже и не возобновится, потому что едва ли сербы будут в состоянии поднять вновь оружие. Следовательно, теперь начнутся переговоры о гарантиях. Из этих переговоров может возникнуть война, но уже для нас она будет иметь другой характер, не столь жгучий. До сих пор общественное чувство требовало нашего вмешательства для защиты наших братьев, которых душили. Теперь, когда речь зайдет о том, как устроить, чтобы их впредь не душили, то вооруженное наше вмешательство будет уже не так неотложно, и я начинаю думать, что войны не будет. Время радикального разрешения восточного вопроса еще не пришло. Теперь, как и прежде, дипломаты найдут какой-нибудь компромисс, на котором временно покончат дело. А затем, через несколько лет, опять вопрос поднимется, а к этому времени в России, может быть, будет русское правительство, а тогда разговор будет другой.
1-го ноября. Слова, произнесенные государем императором при приеме московского дворянства и городского общества в Москве 29-го октября 1876 года:
«Благодарю вас, господа, за чувства, которые вы желали мне выразить по случаю настоящих политических обстоятельств. Они теперь более разъяснились, и потому Я готов принять Ваш адрес с удовольствием. Вам уже известно, что Турция покорилась Моим требованиям о немедленном заключении перемирия, чтобы положить конец бесполезной резне в Сербии и Черногории. Черногорцы показали себя в этой неравной борьбе, как всегда, истинными героями. К сожалению, нельзя того же сказать о сербах, несмотря на присутствие в их рядах наших добровольцев, из коих многие поплатились кровью за святое дело.
Я знаю, что вся Россия, вместе со Мной, принимает живейшее участие в страданиях наших братьев по вере и по происхождению, но для Меня истинные интересы России дороже всего, и Я желал бы до крайности щадить дорогую русскую кровь.
Вот почему Я старался и продолжаю стараться добиться мирным путем действительного улучшения быта христиан, населяющих Балканский полуостров.
На днях должны начаться в Константинополе совещания между представителями шести великих держав для определения мирных условий.
Желаю весьма, чтобы мы могли прийти к общему соглашению. Ежели же оно не состоится, и Я увижу, что мы не добьемся таких гарантий, которые бы обеспечивали исполнение того, что мы вправе требовать от Порты, то Я имею твердое намерение действовать самостоятельно и уверен, что в таком случае вся Россия отзовется на Мой призыв, когда я сочту это нужным и честь России того потребует. Я уверен также, что Москва, как всегда, подаст всем пример. Да поможет нам Бог исполнить наше святое призвание».
В этих словах упрек, обращенный к сербам, при первом чтении, поразил меня своей неожиданностью и неуместностью. Но, говорят, в Москве, под впечатлением общего настроения и одушевления, даже этот упрек не ослабил общего восторга.
Итак, невидимая сила влечет нас, против нашей воли, бессознательно в неведомую даль. О чем будут конференции, на чем будем мы на них настаивать — все это еще неизвестно. Место, избранное для конференции, свидетельствует, что мы согласны на принцип неприкосновенности Турции, а при этом условии какие могут быть найдены и предложены гарантии для обеспечения христиан — решительно не понимаю. Все вопросы, которые остались нерешенными в 1856-м году и о которых, при заключении тогда мира, я недоумевал и о чем тогда же и отметил в своем дневнике, — все эти вопросы теперь вновь поднимаются. Теперь, конечно, пойдут адреса со всей России. Слова государя тем, в особенности, и хороши и пришлись кстати, что общество устало от долгого ожидания и как бы томительного искания правительства в это тревожное для всех время. Вся Россия уже более двух месяцев волнуется, жертвует, посылает добровольцев. Одни сочувствуют движению, другие его ненавидят, все толкуют, копошатся и орут, кто во что горазд, а правительство молчит, и где оно — никто не знает. Наконец правительство, в лице государя, откликнулось, и все успокоились, или, лучше сказать, не успокоились, а всем как-то сделалось лучше, что отыскалась власть. Что эта власть будет делать и как поведет дело — это еще неясно, но возбужденное состояние общества уже успокоилось тем, что обнаружилась жизнь в законной власти.
Несколько корпусов мобилизируются. Великий князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим: на этого великого князя, не знаю почему, я возлагаю великие надежды. Он, говорят, хороший кавалерийский генерал, и его солдаты любят. Ума он большого не имеет, но прост, без претензий, и хотя слаб по женской части и этим много себе повредил, но смотрит молодцом. О стратегических его способностях, разумеется, судить нельзя, но ежели Богу угодно будет благословить наше дело, то он даст способности и не имеющему оных, и ежели сам великий князь не заслужил милостей от Бога, то зато жена его — великая княгиня Александра Петровна — уже, несомненно, на хорошем счету у него… Эта женщина — необыкновенное явление. Здесь над нею в высшем обществе и при дворе смеются, и она подает к этому повод, ибо относится ко всем светским и придворным приличиям с открытым презрением. Она является среди двора какою-то юродивою или блаженною. И она действительно такова, и это в ней неподдельно. При этом она не просто юродивая, а русская юродивая, со всеми инстинктами, вкусами и симпатиями самой простой русской женщины. Но сколько она делает добра и как она это делает — про то знают только ею облагодетельствованные. Все это представляется мне столь необыкновенным, что я готов думать, что в этом чудачном юродстве есть что-то предзнаменательное.
28-го декабря. Ожидая с каждым днем известий о каком-нибудь решительном шаге, я более месяца не заносил на страницы своего дневника ничего замечательного из обыденной жизни. А между тем вот уже мы приблизились к началу нового года, и политический горизонт так же смутен и неясен, как 2 месяца тому назад. В Константинополе разыгрывается какая-то комедия, в которой сменяются сцены, а развязка продолжает быть загадочною. До очевидности сделалось ясным только одно, что мы во всей этой комедии играем самую печальную и, вероятно, трагическую роль. Все соглашения держав обрываются на упорном отказе турок. Это упорство объясняется полным убеждением турок, что в конце концов все наши союзники от нас отступят.
Но прежде доведут нас до таких уступок, при которых не будет смысла вести войну, и мы со страхом откажемся от всего. Роль скрытых врагов наших — Германии и Австрии — начинает все более и более обрисовываться. Они заманили нас своими сладкими речами и уверениями в дружбе и неизменном союзе, но как только дело доходит до какого-либо практического вывода из их платонических желаний, то они отказываются помогать нам. Объявленная в Турции либеральная конституция вносит комический элемент во всю эту дипломатическую комедию. Слова государя, что он решился действовать самостоятельно, мешают теперь только нашему быстрому отступлению. Все стремление нашей дипломатии заключается теперь только в том, чтобы вырвать у турок какую-нибудь уступку или даже фиктивную гарантию для того, чтобы дать нам благовидный предлог отказаться от дальнейших воинственных замыслов, но и этого турки дать не хотят. И друзья — союзники наши, которых мы не раз спасали от гибели, нам в этом не только не помогают, но, видимо, турки под их влиянием упорствуют. Неужели и теперь еще государь может продолжать верить в союз трех императоров[327] и на этом союзе основывать свою политику? Завтра ожидают здесь решительных известий о том, принимают ли турки вновь измененные предложения держав, и ежели не примут, то, вероятно, наш посол выедет из Константинополя. Послы других держав тоже обещали выехать, но теперь, говорят, изменили свое намерение.
С выездом Игнатьева из Константинополя, вероятно, война еще не начнется, ибо, говорят, теперь невозможно начинать зимнюю кампанию. Что за сим будет происходить — одному Богу известно. Наше положение еще усложнилось тем, что великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий, очень серьезно заболел и едва ли будет в состоянии продолжать командовать армией. Здесь в высших сферах и при дворе господствует теперь такое мирное настроение и страх войны так велик, что неудивительно будет, ежели решатся покрыть себя срамом перед Европою и перед Россией. Этого можно было ожидать, ибо то же отсутствие мысли, плана, цели, какие были вначале, существуют и теперь, и, быть может, в еще большей степени. Ежели проследить и припомнить все, что делалось у нас в июне нынешнего года и по сие время, то решительно невозможно доискаться никакого смысла; возможно ли надеяться при таком колебании, при таком отсутствии какого-либо убеждения, при таком уродливом союзе с национальностями, нам враждебными, — возможно ли надеяться с успехом поднять славянский вопрос? Нет, повторяю, только тогда Россия в этом вопросе не будет играть глупую и смешную роль, когда в ней будет русское правительство, которое сознательно будет относиться к тому, что есть в славянском вопросе русского.
В числе главнейших современных затруднений наших финансовый вопрос стоит на первом плане. Совершенно независимо от общих причин, по которым финансы наши, при всем, впрочем, заметном и замечательном улучшении их в последнее время, не пришли еще в такое положение, при котором возможны без существенного разорительного кризиса экстраординарные громадные военные издержки. Наше настоящее финансовое положение и совершенный застой в торговле и промышленности вызваны еще отчасти и искусственными мерами, принятыми Министерством финансов в течение нынешнего лета. С непонятным ослеплением министр финансов упорно и непроизводительно израсходовал в течение летних месяцев более 80-ти миллионов металлического фонда для поддержки вексельного курса. И вся эта операция производилась в то время, когда уже ясно было для каждого мало-мальски понимающего всю важность поднимающегося в европейской Турции вопроса, что ежели нам не предстоит неминуемо и скоро быть готовыми к войне, то по крайней мере дела политические усложнятся и примут острый характер. В это время ослаблять металлический фонд для фиктивной поддержки курса и производить страшную пертурбацию на денежном рынке, уже и без того весьма расстроенном вследствие банкротства Московского учетного купеческого банка[328], — значит как бы нарочно отнимать у себя средства не только воевать, но даже готовиться к войне. Министр финансов действовал, без сомнения, под впечатлением уверений канцлера и государя, что войны не будет, хотя уверение это его не оправдывает, потому что очевидность приближающейся грозы должна была поселить в нем сомнения в прочности положения. Надо и то сказать, что все это дело, начиная с дипломатических разговоров и кончая всеми финансовыми мерами, велось тайно, никто, кроме канцлера и министра финансов, ничего не знал. О Государственном совете уже и говорить нечего, но даже в Комитете министров не возбуждался ни один из этих вопросов — ни общей политики, ни финансовых мер.
Только уже в октябре месяце остановлена была операция поддержки курса. Собран был Финансовый комитет, который решил внутренний 5 %-й заем в 100 миллионов, на который подписались только 60 миллионов, и, кроме того, решено принимать платеж потом только золотом. Эту меру я предлагал 10 лет тому назад, при издании нового тарифа, и тогда она была бы своевременна.
Вдруг на днях я получаю от министра финансов совершенно неожиданно следующее письмо:
«Милостивый государь, князь Дмитрий Александрович.
При настоящем положении политических дел и трудов Константинопольской конференции не представляется еще возможным определить: приведут ли дипломатические переговоры к мирному исходу, причем мобилизация части нашей армии будет иметь характер лишь демонстрации или России придется взяться за оружие.
В последнем случае правительству, очевидно, предлежит трудная задача изыскать для войны средства, и весьма значительные, и поступление которых было бы обеспечено в скором времени.
Опытность Ваша в делах финансового управления, заведование кредитным учреждением и близкое знакомство с промышленными и экономическими средствами России побуждает меня обратиться к Вам за советом по этому делу.
Согласно сему, имею честь просить Вас сообщить мне мнение Ваше о том, каким наилучшим и скорейшим способом можно было бы, по Вашему мнению, приискать средства для ведения войны в случае, если в скором времени Россия вынуждена будет принять в ней участие.
В надежде, что Вы не откажете выразить мне Ваше по этому вопросу мнение с полной откровенностью, покорнейше прошу ответ Ваш на это письмо адресовать мне в собственные руки.
Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении и преданности.
Рейтерн».
На это письмо я отвечал следующее:
«На почтеннейшее приглашение Вашего превосходительства о сообщении Вам мнения моего о том, каким наилучшим способом можно было бы приискать средства на ведение войны, я, при полном сознании неготовности своей отвечать на столь трудный и важный вопрос, не смею уклоняться от изложения пред Вами того мнения, которое сложилось во мне вследствие частных и личных сношений и разговоров с людьми, специально занимающимися денежными оборотами и близко знакомыми с положением нашего денежного рынка.
В том виде, как поставлен Вашим высокопревосходительством самый вопрос, нет места для выражения каких-либо соображений об общих мероприятиях с целью улучшения наших финансов или с целью изменения системы налогов, или открытия новых источников доходов в более или менее отдаленном будущем.
Поэтому я ограничусь только изложением мнения моего о том, каким наилучшим и скорейшим способом в настоящее время достать денег для насущной потребности войны.
Едва ли можно сомневаться в том, что выпуск бумажных денег есть в настоящее время единственное средство для достижения указанной цели. Вопрос может состоять только в том, какую форму дать этому выпуску и какие своевременно, и даже одновременно, могут быть приняты меры для ослабления вредных последствий от сей операции.
Не имея в руках своих точных данных ни для определения количества уничтоженных кредитных билетов при последней операции продажи Государственным банком золота, ни о количестве вновь выпущенных билетов для военных и других потребностей, я не могу сказать, в каком размере и в какой форме может быть совершен в настоящую минуту выкуп новых кредитных знаков[329]. Нужен ли для этого особый указ, или будет ли это производиться простым подкреплением новыми билетами расходных касс. Но, судя по ощущаемому еще до сих пор сильному недостатку в деньгах внутри края, можно предполагать, что даже прямой, самый гласный выпуск бумажных денег до 100 милл. рублей не произведет еще значительного изменения в курсе этих бумаг на внутреннем рынке, а с объявлением войны заграничный курс наш и без того значительно понизится, и вообще с открытием военных действий можно будет оставить всякую заботу о заграничном курсе, так как внешняя торговля наша по необходимости сократится в весьма значительной степени, а правительственные платежи за границу во всяком случае потребуют искусственных и убыточных мер, о которых говорено будет ниже.
Но порядок выпуска бумажных денег в той или иной форме необходимо обставить мерами для консолидации хотя бы части сего выпуска. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что со времени упадка за границей цен на наши внешние металлические займы наши здешние капиталисты стали покупать из оных преимущественно консолидированные облигации и билеты 5 %-го 1-го займа 1862 года, и на значительные суммы, для чего они выписываются из-за границы и преимущественно из Лондона. Таким образом, происходит <отток> из России движимых или оборотных капиталов, который не только действует неблагоприятно на промышленность страны, но и затрудняет правительство в изыскании ресурсов для чрезвычайных надобностей. Этому отливу капиталов, с одной стороны, и чрезмерному увеличению разноименных знаков, с другой, можно препятствовать у нас здесь выпуском консолидированных облигаций, к выпуску которых за границей было бы уже, вероятно, приступлено, ежели бы не помешали политические обязательства. Подобный выпуск облигаций должен представить выгоду в цене по крайней мере на 3 %. Если при курсе на их консолидированные облигации в Лондоне в 79 % и при вексельном курсе 29 % они обходятся и покупаются здесь по 102 % (считая 640 р. в 100 фунтов номинально), то новый выпуск должен бы быть сделан на 100 % в кредитных с разверсткою при типе взносов, представляющее сбавку в 1 %.
Но так как можно предвидеть дальнейшее понижение наших фондов за границей, то для восстановления соотношения 102–79 придется действовать на соразмерное понижение вексельного курса.
Цена в Лондоне Вексельный курс Цена здесь
79 % 29 % 102%
74 % 27,16 % 102%
и т. д.
Для этого правительство должно покупать римессы[330] в значительном количестве. Впрочем, я уверен, что и во время войны русские государственные фонды не настолько утратят к себе доверие, чтобы следовать за безграничным понижением курса, в особенности после того, как металлические наши бумаги получили как бы специальную гарантию приемам их исключительно в платеж таможенных пошлин.
Вот те мысли, которые мне показались достойными внимания Вашего высокопревосходительства и которые при разговорах моих с людьми знающими не встречали резких возражений; быть может, они не осуществлены потому, что правительство связано с Ротшильдом в свободе выпуска консолидированных облигаций. Быть может, что отсутствие <имени> барона Ротшильда на консолидированных облигациях нового выпуска повредит впоследствии достоинству их за границей. Все это мне неизвестно, но думаю, что большого вреда от того, что один выпуск облигаций навсегда останется в России, не будет, и ежели этому выпуску будут еще представлены какие-либо особые льготы при залогах в банках, то невыгода от отсутствия барона Ротшильда легко вознаградится для владельцев этих облигаций.
Дай Бог, чтобы сама потребность в чрезвычайных мероприятиях миновала и чтобы опять наступило время, благоприятное для более прочных мер к устройству наших финансов посредством развития производительных сил и правильного устройства системы налогов, согласно предначертаниям Вашего высокопревосходительства».
Последнюю фразу я поместил в письме своем в виде любезности, хотя уверен, что ежели войны не будет и обстоятельства несколько улучшатся, то Рейтерн[331] не останется министром финансов. Он непременно будет просить увольнения. Он устал, слаб здоровьем, в последнее время действительно действовал неблагоразумно, но главное — он утратил доверие государя. Доказательством этого может служить, между прочим, и письмо его ко мне с просьбой о совете. Я узнал, что письма подобного содержания были написаны им и еще нескольким другим лицам, и это было вызвано государем, который пожелал узнать мнение других лиц о средствах для ведения войны… Не знаю, что ответили другие советчики, но все это как-то несерьезно и бестолково.
Это отсутствие серьезности, разумной последовательности, ясно сознанной цели, твердой воли хотя бы в ком-либо из главных деятелей все более убеждает меня, что нам воевать теперь нельзя. Многие думают, что, когда решатся на войну, все воодушевится и будет какой-нибудь толк.
У меня этой надежды нет, быть может, я слишком близко вижу вещи и ничтожность отдельных личностей не в меру мною преувеличивается. Но не думаю, чтобы я ошибался. Мое сомнение основывается на полном отсутствии тех сил, без которых восточный вопрос в наших руках просто не может быть решен. Я знаю, что денег у нас нет. Знаю, что генералы все плохи. Знаю, что войско в новой своей организации еще не испытано, но все это меня нимало не смущает. Все это может при невыгодных условиях только увеличить наши случайные преходящие бедствия или неудачи. Но не в этом дело. Ведь главный вопрос — что мы такое… Во имя чего или в силу какого законного или кровного убеждения или чувства выступаем мы в бой. Все, что слышу и вижу кругом себя, с каждым днем все более и более убеждает меня в том, что целая бездна отделяет наш правительственный, политический и весь почти культурный петербургский мир от того мировоззрения, при котором восточный вопрос — не в тесном смысле славянском, в общем — имеет для православных русских значение. И не только целая бездна отделяет эти два воззрения, но, главное, наше правительство и петербургское культурное общество относится и по инстинкту, и по убеждениям прямо враждебно к этому воззрению. Вследствие сего и весьма умные люди приходят в совершенный тупик при вопросе, для чего нам воевать… Какая может быть цель войны, какое нам дело до подлых славян… Из чего мы должны разоряться и проливать кровь без малейшей надежды на какое-либо приобретение… И действительно, что можно отвечать на эти вопросы, когда не чувствуешь их фальши? Какими умными словами и речами можно объяснить то, что в душе каждого русского связывается с чувством истинного и единоверного родства? Как объяснить, что «не одним хлебом человек жив бывает»? И что без национальной гордости и человек, и общество — жалкие явления… Как объяснить все это? Поневоле отмалчиваешься, и победа остается за благоразумным политиком, гражданином абстрактного государства, неподвижно стоящим на утилитарной почве своих личных интересов… Напрасно указывают на англичан, у которых национальная политика, основанная на материальных интересах, заставляет упорно поддерживать Турцию, и они держатся упорно этой политики, все — как один человек, без уступок и без колебаний, и не верят нам, несмотря на все наши уверения, что политика наша в восточном вопросе бескорыстна. Но есть ли это прямое указание на то, что англичане вполне сознают, что интересы наши несовместны с существованием Турции и что как бы ни открещивались, как бы чистосердечно ни уверяли себя и других, что ничего не хотим для себя, мы не можем и не в нашей власти изменить свойство сложившихся интересов. Можно искренно и чистосердечно желать не стареть и не седеть, можно даже заблуждаться до того, чтобы уверять других в возможности остановить ход естественных событий, но верить подобному заблуждению никто, конечно, не будет.
Вот почему это беспрерывное с нашей стороны, клятвенное во всех видах обещание, что мы ничем не воспользуемся в случае падения турецкого владычества в Европе, представляется мне тем глупее, что оно искренно.
Четвертый том 1877, 1878 и 1879 годы
1877 год
10-го января. С новым годом вступает восточный вопрос в новый лабиринт недоразумений. Вчера получена из Константинополя следующая депеша:
9 / 21 Janvier 1877. (Dépêche particulière), Constantinople, Samedi, 20 Janvier 1877.
Dans la seance d’aujourd’hui de la conférence les plénipotentiaires ont constaté le refus de la Porte et l’unanimità de l’Europe. lis ont rendu le gouvernement Ottomane la Serbie ou le Montenegro comme aussi de toute violence contre les chrétiens non seulement en Bosnie, Herzogovine et Bulgarie, mais aussi en Epire, Théssalie, Grèce, etc… lis ont déclaré, qui la Porte son obstination à repousser les voeux unánimes, des puissances invalidait les traités, qui ont guaranti son existence et son integrité en la faisant entrer dans le consert européen. Les ambassadeurs et plénipotentiaires des six grandes puissances quittent Constantinople[332].
Хотя эта депеша не имеет официального характера, но она, несомненно, свидетельствует, что конференция кончилась и дальнейшие переговоры с Портою и Европой прерваны. Но о том, в какой степени остаются в силе все трактаты относительно неприкосновенности турецких владений, об этом едва ли можно вывести безошибочно заключение на основании частной депеши, а едва ли уполномоченные держав имели право сделать заявление об уничтожении трактатов. Что же касается до ответственности турок, то смешно об этом говорить. Менее чем когда-либо они могут бояться какой-либо ответственности, а что они выходят будто бы из Concert Européen[333][334], то тем для них лучше, ибо они очень хорошо понимают, что они существуют только благодаря этому фальшивому концерту и будут, что бы они ни делали, существовать, пока этот концерт будет настроен на тот лад, как теперь. А ежели этот лад изменится, то участие их в концерте не спасет их.
Мне кажется, это так ясно, что нельзя иначе видеть вещи, и я думаю, все это так видят, но это нимало не помешает всем придумывать разные выходы и объяснения и доказывать всю важность успехов дипломатии. Что касается до нас, то я вполне убежден, что в России все будут крайне возмущены этим исходом, и при той неизвестности, в какой находится большинство нашего общества о тех обстоятельствах, по которым нельзя желать, чтобы мы начали теперь войну, в России будет большое раздражение. Мне кажется, есть только один способ выйти с честью из этого дела и успокоить умы. Это откровенно и торжественно сознаться, что мы обмануты в надеждах на наших друзей и потому далеко одни идти не можем, но зато решаемся наконец искать в будущих союзах наших действительную опору нашим национальным интересам, а не хранителей отвлеченных принципов и семейных связей. Князь Горчаков должен теперь сказать, que la Russie ne se recueille plus, mais elle boude[335][336]. Я уверен, что тот день, когда Англия поверит, что мы не верим более Союзу трех императоров, она с нами пойдет заодно. Но и этого мало. Нужно, чтобы отрезвление последовало бы общее и чтобы переписка политики была бы делом не случайным, а результатом искреннего сознания всей фальши нашей политической жизни, как внутренней, так и внешней. Этого мы не увидим…
20-го марта. Сегодня годовщина смерти Ю. Ф. Самарина. Мы служили панихиду в Троицком подворье[337], в присутствии собравшихся в значительном числе друзей и почитателей покойного.
Политический горизонт продолжает быть не столько мрачным, как запутанным, и притом не к выгоде нашего достоинства. Поездка Игнатьева[338] ко всем европейским дворам прежде получения нами ответа на циркуляр князя Горчакова с вопросом о том, что намерены делать теперь державы, участвовавшие в неудавшихся конференциях, представляется многим унизительным выпрашиванием каких-либо поводов, чтобы после новых уступок отказаться от дальнейших действий.
В Москве Аксаков сказал в заседании Славянского комитета речь, которая была напечатана в «Московских ведомостях» и наделала больших тревог. На почте номера газеты были остановлены, а в Москве полиция отбирала уже розданные номера. Кроме укорительных нескольких фраз петербургскому обществу[339], в этой речи нет ничего, кроме напоминания о речи, сказанной государем в Москве, и указания на то, что настроение теперь совершенно изменилось не к чести достоинства правительства. В петербургских салонах и высших сферах очень озлоблены против этой речи Аксакова, она задела за живое[340].
Но все это озлобление ни к чему не приведет. События идут совершенно против воли призванных руководить ими, и чем сильнее желание мира, тем неизбежнее представляется мне война.
Манифест о войне
Божиею милостью
Мы, Александр Второй,
Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, великий князь Финляндский
и прочая, и прочая, и прочая…
Всем нашим любезным верноподданным известно то участие, которое мы всегда принимали в судьбах христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить его разделял с нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова. Кровь и достояние наших верноподданных были всегда нам дороги, все царствование наше свидетельствует о постоянной заботливости нашей сохранять России благословение мира. Эта заботливость оставалась нам присуща, ввиду печальных событий, совершившихся в Боснии, Герцеговине и Болгарии. Мы первоначально поставили себе целью достигнуть улучшений в положении восточных христиан путем мирных переговоров и соглашения с союзными и дружественными нам великими европейскими державами. Мы не переставали стремиться в продолжение двух лет к тому, чтобы склонить Порту к преобразованиям, которые могли бы оградить христиан Боснии, Герцеговины и Болгарии от произвола местных властей. Совершение этих преобразований всецело вытекало из прежних обязательств, торжественно принятых Портою перед лицом всей Европы. Усилия наши, поддержанные совокупными дипломатическими настояниями других правительств, не привели, однако, к желаемой цели. Порта осталась непреклонной в своем решительном отказе от всякого действительного обеспечения действительной безопасности своих христианских подданных и отвергла постановление Константинопольской конференции. Желая испытать, для убеждения Порты, всевозможные способы соглашения, мы предложили другим кабинетам составить особый протокол с внесением в оный самых существенных постановлений Константинопольской конференции и пригласить турецкое правительство присоединиться к этому международному акту, выражающему крайний предел наших миролюбивых настояний. Но ожидания наши не оправдались: Порта не вняла единодушному желанию христианской Европы и не присоединилась к изложенным в протоколе заключениям.
Исчерпав до конца миролюбие наше, мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного достоинства. Турция отказом своим поставляет нас в необходимость обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте нашего дела, мы, в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего, объявляем всем нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное в тех словах наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия. Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда мы сочтем это нужным и честь России того потребует. Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска наши, мы повелеваем им вступить в пределы Турции.
Дан в Кишиневе, апреля 12-го дня, лета от рождения
Христова в тысяча восемьсот семьдесят седьмое,
царствование же нашего в двадцать третье.
Александр.
Великий русский Бог… Несмотря на все видимые признаки нашего внутреннего политического разложения, несмотря на все разнородные влияния, страхи и противные интересам России симпатии, несмотря на совершенное оскудение духа в высшем петербургском влиятельном обществе, царь каким-то чудом остался верен своему призванию. Как ни бесцветен и плох манифест, он переносит вопрос на почву, на которой уже нет места пустым разноглагольствова-ниям. Сам Бог, видимо и наперекор всем человеческим предположениям, ведет нас на путь тяжелых испытаний.
Никто, конечно, не в состоянии теперь даже гадательно судить о том, какое развитие может принять война и долго ли она продлится. Но верно то, что независимо от военных результатов от предстоящей борьбы мы призваны теперь к поверке собственных своих сил, как материальных, так и нравственных. В этом хаосе различных мнений, взглядов и политических сочувствий, в этой бездне всяких недоразумений, неустройств и ложных сведений о действительном положении России после всех произведенных реформ, очень трудно опознаться и прийти к какому-нибудь верному заключению. Теперь наступает пора решительного экзамена и проверка всего того, что есть живого в России. Чего бы нам война ни стоила — все с избытком вознаградится, ежели она откроет нам истину, т. е. нас самих. Ежели, по примеру Крымской войны, она обнаружит нашу несостоятельность, то можно надеяться, что опять, с помощью Божией, примемся за дело. Ежели же, напротив, по поверке на деле, окажется, что мы сильнее и духом, и войском, чем о нас думают и чем мы сами о себе думаем, то, может быть, мы сами начнем уважать себя и, заслужив уважение других, не будем более стыдиться ни своей народности, ни политики.
28-го апреля. Ответ[341] государя московским депутациям в Москве очень хорош. Энтузиазм в Москве, по словам очевидцев, был необыкновенный.
15-го августа. Война в полном разгаре. Я не записывал до сих пор подробностей военных действий. Блестящий переход через Дунай, переход через Балканы, взятие крепости Никополь — все это совершилось в течение июня месяца и воодушевило Россию. Отличное мужество, стойкость и изумительная храбрость нашего войска, замечательная дисциплина, отличное снабжение всех частей приводили нас в восторг, и, действительно, можно было радоваться, видя, что во многих отношениях мы против прежнего далеко ушли вперед. Государь сам находился среди армии и, ободренный успехами и удачными стратегическими соображениями главнокомандующего — своего брата[342] — и уместными действиями Кавказской армии, также состоявшей под главным начальством своего другого брата, поддерживал энтузиазм и пошел еще дальше в передаче судьбы армии и России своему семейству. Наследнику поручено начальствование над армией, перешедшей через Дунай и стоящей у Рущука, а Владимиру Александровичу поручено командование корпусом. Сам же государь остается за Дунаем как бы зрителем всех происходящих событий, и при нем огромная свита, требующая более 500 подвод.
После неожидаемых, весьма дешево нам доставшихся удач наступила с июля месяца самая несчастная для нас эпоха на обоих театрах войны. Началось на Кавказе, где все сделанные нами приобретения при необдуманном скором наступлении мы должны были потерять и теперь вынуждены принять оборони-тельное положение близ нашей границы, имея за собою часть Кавказа, занятого неприятелем, и восставших местных жителей. Неуспех этот все объясняют не-способностью главнокомандующего, интригами между начальствующими и дурным управлением войском и краем[343] в мирное время. Главнокомандующий, Михаил Николаевич, прибывший в армию с супругою и сыном, должен был на некоторое время удалиться к себе на дачу в Боржом, но теперь опять отправился к армии и, получив из России подкрепления, до сих пор еще во всех отдельных делах терпит неудачу.
За Дунаем два кровопролитные приступа нами на Плевну обнаружили ге-ройство войск и непростительную оплошность и легкомыслие главнокоманду-ющего, приказавшего после первого неудачного нападения сделать второй при-ступ со средствами, несоразмерно низшими против средств неприятеля. С этой минуты турки обратились в наступление, и везде мы уступаем превосходству сил, несем значительные потери и обречены ждать подкреплений из России, чтобы с надеждою на успех начать наступление на силы неприятеля, с трех сторон нам угрожающие. При этом со стороны военных знатоков слышится обвинение главных начальников в неумении пользоваться обстоятельствами и орудовать массами. Теперь идет бой не на живот, а на смерть у Балканского прохода Шипки. Сегодня, между прочим, в газете «Голос» напечатано:
«Сегодня уже шестой день боя в Шипкинском проходе… В первые 4 дня мы потеряли 27 офицеров и около 900 нижних чинов. Сколько за эти дни легло наве-ки на поле брани — сведений еще нет…
Погибают и сотни, и тысячи смертью героев, и новые сотни и тысячи даст русский народ — героями не оскудела земля русская. Но что особенно тяжело, о чем можно искренне и глубоко сожалеть, — это смерть генерала Дерожинского, достойного начальника балканских орлов. Случай выдвинул-таки севастопольцев. Их еще много на Руси, немало их в рядах русского воинства, и если не слышно было о них до сих пор, значит, не случалось им показать себя.
При нашей молодой армии должна быть дорога всякая боевая опытность, тем более такая, какую имели участники Севастопольской обороны. Чем труднее военные обстоятельства, тем более надо иметь спокойствия и готовности самопожертвования, тем большую ответственность приходится нести начальникам.
Здесь-то, при таких-то обстоятельствах, легче всего оценивается боевая опытность и правильнее определяется боевая способность».
Эти последние слова ясно намекают на недоверие к главнокомандующему и главноначальствующим. Это недоверие уже не раз и в более или менее резкой форме высказывалось в разных газетах, а в обществе о нем говорят громко и прямо приписывают все неудачи молодым, неопытным царственным военачальникам. Ежели неудачи наши еще продлятся, то заговорят громче, и уже без того давно упавший престиж царственного семейства окончательно обратится в презрение.
Положение государя за Дунаем также становится весьма и весьма трудным. Выехать ему оттуда под впечатлением неудач — будет иметь вид постыдного бегства, а оставаться ему также и опасно, и гибельно для дел управления государством. Все, что я прежде неоднократно замечал об отсутствии серьезного отношения к делу общему — государственному, и о том, так сказать, персональном взгляде на все дела общие, никогда так ясно не выражается, как теперь. Война, в которую народ положил, можно сказать, всю свою душу, от исхода которой зависит вся наша будущность, — эта война обставлена так, как будто она есть предприятие одного благородного семейства.
Все депеши главнокомандующего — великого князя — при успехах отличаются каким-то неприличным ухарством и бесцеремонным отношением к России, которая ждет с напряженным вниманием подробностей об участи войска. Эти возгласы «Ура», «мои молодцы работали штыками, твои моряки, мои герои…» и проч… — все это делает какой-то тон, совершенно не приличный важности совершающихся событий.
Одно время, после Плевненского сражения, известия из армии вовсе прекратились, и более двух недель Россия не знала из официальных источников ничего, что делается на театре военных действий. А между тем частные депеши и известия, приносимые иностранными газетами, возбуждали сильное беспокойство. Я в это время был в деревне и видел, какое отчаяние производило на всех это упорное молчание правительства, в особенности, когда сделалось известным, что вся гвардия мобилизуется и отправляется на войну и что призывается ополчение первых трех возрастов для пополнения запаса. Наконец, после настоятельного требования Тимашева, который телеграфировал и писал государю и великому князю и объяснял им, что вся Россия начинает сильно роптать на отсутствие официальных известий, появилась телеграмма великого князя, который просил в ней не верить иностранным известиям и обещал доводить до общего сведения все примечательное. Действительно, с этой поры почти каждый день печатаются в газетах хотя краткие и малоутешительные известия, но все-таки удовлетворяющие отчасти понятное любопытство публики.
Дела принимают, кажется, такой печальный для нас оборот, что едва ли можно ожидать в нынешнем году окончания военных действий, а ежели нам придется зимовать на Дунае, то это будет величайшее бедствие и в военном, и в финансовом положении. Надо признаться, что мы совершенно обмануты относительно сил и политической устойчивости Турции. Меня еще прежде объявления войны поражал тот знаменательный факт, что Турция обнаруживает необыкновенную живость и крепость в правительственном организме. Несмотря на смену двух султанов и бесконечного числа визирей, Турция 2 года борется и дипломатически, и с оружием в руках в Черногории, Сербии, Азии и, наконец, с нами на Дунае. Армия ее оказывается отлично вооруженною, войска везде вовремя поспевают, а дипломатические ее действия замечательны своей обдуманною последовательностью, стойкостью и искусством. Едва ли какое-либо европейское государство в состоянии было бы столько выдержать внутренних переворотов в правительстве и оставаться столь крепким и удовлетворять все потребности. Несмотря на банкротство, Турция находит средства вести войну в трех местах[344]. Хотя все приписывают живучесть Турции поддержке Англии и хотя, действительно, отрицать нельзя, что поддержка эта, и нравственная, и материальная, существует, однако же не в такой степени, чтобы этой поддержке можно было бы приписывать всю силу Турции. Все же нельзя предполагать, чтобы английское правительство секретно, без гласного разрешения парламента, могло бы тратить столь огромные суммы для уплаты турецких военных расходов. Как ни велико число англичан, руководящих военными делами Турции, но все же они не могут быть в таком числе, чтобы дать существенную силу турецкому войску. Главная сила Турции и главное ее перед нами преимущество заключается в том, по моему мнению, что она, т. е. Турция, плюнула на Европу, знать ее не хочет и не стесняется никакими протестами и заявлениями разных европейских кабинетов. Она ясно осознает свое дело и делает его, употребляя все подручные ей средства. Мы же, напротив того, не только в дипломатических сношениях и действиях более всего стараемся угодить и Австрии, и Пруссии, и Англии, но теперь в военных действиях своих стеснены на каждом шагу в движениях стратегических. Мы дали слово Австрии не проходить с войском через Сербию; мы обещали не допускать сербов вновь начать войну с Турцией; мы обещали не волновать греков и, в особенности, не поднимать славянского знамени. Все эти обещания стоят нам очень дорого, и купленный этой ценой нейтралитет Австрии — очень, впрочем, сомнительный в будущем — связывает нас по рукам и ногам. При подобных условиях безумно было начинать войну. Можно было предполагать, и я это думал, что, начав войну, уже мы предварительно обеспечили себя от всех внезапных требований Австрии, нарушающих все наши стратегические соображения. Оказывается на деле, что ничего не сделано, что мы, напротив, связали себя разными обещаниями, как будто при всех случайностях войны можно давать обещания, не зная, чтó будет стоить строгое исполнение этих обещаний.
Ужасная ответственность лежит на государе, и перед правдивой историей он не в состоянии будет сложить и разделить эту ответственность с другими своими советчиками, ибо таковых у него, в сущности, нет. Он распорядился так, что нет ни одного учреждения и ни одного лица, которое бы имело какое-либо значение. Государственный совет даже и не знает официально, что есть война, — все министры без всякого значения, и на совет по вопросу о мире или войне и по внешней политике они и не призывались. Общественное мнение не организовано, и трудно его уловить. Все сделалось как-то случайно. Уже теперь почти пришло время, чтобы какое-нибудь государственное учреждение высказало бы государю просьбу вернуться в Петербург, ибо он может за Дунаем подвергнуться опасности. Наследник — тоже, и, кроме того, требования стольких царских дворов с огромными свитами составляют ужасную тяжесть для довольствия и стоят страшных денег. Но ежели дела скоро не пойдут лучше, а сам государь не вернется, то подобный призыв государю послышится со всех сторон России. В былое время Государственный совет или Сенат приняли бы на себя инициативу подобного приглашения, но теперь этого ожидать нельзя. Ни Государственный совет, ни, в особенности, Сенат не имеют того значения, какое имели прежде. Сохрани Бог от дальнейших важных неудач, последствия могут быть ужасны.
8-го сентября. Гнев Божий, видимо, на нас тяготеет. Неудачи наши и на Дунае, и на Кавказе продолжаются. Шипкинский проход на Балканах ценою страшных потерь мы пока оттягали[345]. Но под Плевною было опять страшное кровопролитие без особых успехов. Наших выбыло из строя более 8 тысяч человек. А между тем осень приближается и с нею новые трудности для снабжения войск довольствием. Зимняя кампания неизбежна и может быть для нас при самых бедственных условиях… Турки обнаруживают чудеса храбрости и распорядительности. Кто мог этого ожидать? Не только мы, но и вся Европа удивлена. Бог карает нас рукою нечестивого мертвеца[346] и каким-то чудом воскрешает в нем все казавшиеся умершими силы. Общее негодование на начальствующих усиливается. Здесь никто ничего не знает о действительном положении вещей и о будущих планах и предположениях государя. Он, видимо, ждет какого-либо успеха, чтобы воротиться сюда. Но этот успех не дается. Такого позора, какой мы теперь испытываем, никогда еще не было. Мы боялись европейской коалиции, а о том, чтобы с одними турками нам не сладить, — об этом даже никому и в голову не приходило. А между тем мы находимся теперь в таком критическом положении, что все возможно. Сохрани Бог…
12-го декабря. Три месяца я не имел духа взяться за перо. Таинственная неизвестность, скорбные известия о страданиях от холода, голода и болезней нашей армии, перечень чудес храбрости, отваги и терпения нашего солдата, сетования на отсутствие каких-либо достоверных сведений о том, что делается для того, чтобы вывести нас из нашего ужасного положения, — все это в течение трех месяцев повторялось во всех газетах и наводило на душу неизъяснимую тоску. Наконец Бог смиловался над нами и помог нам сделать решительный победоносный шаг.
Взятием Плевны и Карса[347] и разгромом главной части турецкой армии мы опять ожили с надеждой на скорое окончание войны и на восстановление нашего национального достоинства. При таком важном счастливом событии забыты все тяготы предшествовавших неудач, и вся Россия опять ликует.
Третьего дня вернулся в Петербург государь. Встречен он был здесь восторженно. На станции железной дороги собрались все власти и приветствовали его криками «ура». Обратясь к нам, государь сказал: «Благодарю Бога, что привел меня видеться с вами после многих испытаний и особенно после того утешения, которое я имел в последние дни под Плевной и у моих детей. Многое нами сделано, но нам еще предстоит многое впереди. Да поможет нам Бог привести к концу это святое дело». Я нашел, что государь очень похудел и имеет болезненный вид, страдает удушьем и, будучи взволнован, говорит задыхаясь. Говорят, что освободившиеся из-под Плевны войска пойдут далее, несмотря на зимнее время, через Балканы. Несчастный 1877-й год кончается под хорошим знаменованием. Что-то Бог даст в будущем…
1878 год
18-го января. Новый год ознаменовался для нас рядом блистательных побед. Переход через Балканы и разбитие всей турецкой армии — суть великие подвиги, которым решительно нет примера в истории. Читая реляции и частные корреспонденции о трудностях перехода в зимнее время через Балканы, не веришь в возможность борьбы с подобными неестественными препятствиями. Нет ни малейшего сомнения, что ни один народ, кроме русского, не в состоянии вынести стольких физических страданий, и ни один опытный полководец не решился бы подвергать свою армию таким ужасным испытаниям. Никто в Европе, конечно, не ожидал таких быстрых с нашей стороны успехов, а потому злоба и ненависть к нам со стороны англичан и австрийцев еще, конечно, усилилась. Мы теперь почти стоим у самого Константинополя, и уже начинаются разговоры о перемирии.
Теперь наступает самая решительная и опасная для нас минута. Теперь нужно нам пустить в дело уже не силу материальную, представляемую войском, его самоотвержением, храбростью и увлечением. Теперь уже не в народном сочувствии к святому делу должны полагать мы успех. Теперь все зависеть будет от того, в какой мере руководители нашей политикой стоят на высоте своего призвания, в какой мере они проникнуты в правоте нашего дела и в силе нашего права и в какой мере они останутся непреклонными перед требованиями врагов наших, и в особенности врагов, скрывавшихся под личной дружбы. Признаюсь, все, что я здесь слышу и вижу, все наводит на меня сильное сомнение в том, чтобы мы окончательно воспользовались бы всеми выгодами наших побед. Уже теперь начинают высказываться сильные опасения, что мы зашли слишком далеко. Во всех влиятельных сферах высшего общества в Петербурге слышится одно только желание скорее окончить войну как-нибудь. Я также уверен, что теперь, вдали от театра военных действий, царь все более и более будет забывать все виденные им ужасы войны и охлаждаться в своем первоначальном порыве, будучи окружен тлетворною сферой петербургской жизни. На искусство наших дипломатов не надеюсь. Князь Горчаков во всем этом восточном вопросе показал себя совершенно неспособным, и притом он совершенно выжил из ума. А от графа Шувалова, который призван теперь в Лондоне играть самую первостепенную роль для защиты русских интересов, я ничего не ожидаю, кроме мелких интриг и изобретений каких-либо вредных компромиссов.
24-го января. Предчувствие мое оправдалось. Мы остановились перед грозными манифестациями Англии[348]. Мы продолжаем верить в поддержку нашего святого дела на Конгрессе со стороны Германии. Мы остановились перед самым Константинополем; мы подписали 19-го января предварительные условия мира, с которыми бы можно было нам действительно помириться, ежели бы эти условия были окончательны. Но, силою заставив турок подписать условия мира, мы, не обеспечив себя занятием Константинополя, будем ждать позволения Европы воспользоваться правами победителя. Чтобы решиться на такой образ действия, надо быть уверенным, что мы получим это позволение, иначе мы без всякой пользы утратим приобретенное нами ценою великих жертв выгодное и стратегическое, и политическое положение. Уже мы его отчасти утратили, не предупредив занятием Константинополя и Галлиполи вступление английского флота в Дарданеллы.
Говорят, мы остановили вступление наших войск в Константинополе вследствие депеши, полученной от графа Шувалова. Это очень вероятно, как бы то ни было, но объявление о предварительных условиях мира не произвело никакого особенного впечатления, и все относятся к этому миру с каким-то особым недоверием. В Петербурге было разрешено <вывесить> несколько флагов, а в Москве, по полученным мною сведениям, объявление это скорее произвело на всех какое-то уныние. Впрочем, и здешние газеты высказываются в этом смысле. Все эти мысли и речи вызывают на устах наших дипломатов и высших государственных сановников только одну улыбку самодовольного презрения образованного европейца к дикому патриотическому фанатизму русского общества. Как бы то ни было, но эти предварительные условия мира изложены в форме договора и представлены сюда для ратификации. Но в чем заключаются эти предварительные условия мира — еще официально не объявлено.
28-го января. Вчера напечатано в «Правительственном вестнике» следующее.
«Правительственный вестник». 27-го января 1878 года.
«Предварительные основания к заключению перемирия, которое приостановило неприязненные действия, были приняты и подписаны турецкими уполномоченными в нашей Главной квартире, вследствие чего может быть обнародовано их подлинное содержание. Мы напомним, что эти основания имеют целью лишь определить почву, на которой можно будет вести переговоры об окончательном мире или между воюющими сторонами, касательно вопроса, который исключительно до них относится, или же с участием великих держав по вопросам, касающимся европейских интересов.
Предварительные условия мира, врученные великим князем главнокомандующим турецким уполномоченным.
Если бы турки попросили бы на аванпостах мира или перемирия, то Его Императорское Высочество главнокомандующий должен будет им объявить, что неприязненные действия не могут быть приостановлены иначе, как с предварительным принятием нижеследующих оснований:
1) Болгария, в пределах, определенных большинством болгарского народа, и которые ни в коем случае не могут быть менее пределов, указанных на Константинопольской конференции, будет возведена в автономные княжества, платящие дань, с правительством народным, христианским, и туземною милицией. Оттоманской армии не будет там находиться (за исключением нескольких пунктов, которые будут определены по общему соглашению).
2) Независимость Черногории будет признана. Увеличение владений соответственно тому приращению, которое отдала в ее руки судьба оружия, — будет за нею утверждено. Окончательные границы определятся впоследствии.
3) Независимость Румынии и Сербии будет признана. Первой из них будет назначено достаточное поземельное вознаграждение, а для второй произведено исправление границ.
4) Боснии и Герцеговине будет даровано автономное управление с достаточными обеспечениями. Подобного же рода преобразования будут введены в прочих христианских областях Европейской Турции.
5) Порта примет обязательство вознаградить Россию за ее издержки на войну и за потери, которым она должна была себя подвергнуть. Способ сего вознаграждения — деньгами, либо поземельную уступкою, либо чем иным — будет определен впоследствии. Его величеству султану предстоит войти в соглашение с его величеством императором Всероссийским для охранения прав и интересов России в проливах Босфорском и Дарданелльском.
В удостоверение принятия этих существенных оснований оттоманский уполномоченный немедленно отправится в Севастополь или в Одессу для переговоров там с русскими уполномоченными о предварительных условиях мира.
Как только принятие этих предварительных условий будет официально извещено главнокомандующим императорскими армиями — условия перемирия должны быть установлены на обоих театрах войны, и неприязненные действия могут быть временно приостановлены. Оба главнокомандующие будут иметь право дополнить вышеизложенные условия назначением известных стратегических пунктов и известных крепостей, которые должны быть очищены как материальное обеспечение в принятии Высокой Портою наших условий перемирия и ее вступление на путь переговоров о мире».
29-го января. Видимо, происходит что-то неладное в наших дипломатических переговорах о перемирии и мире. Сегодня опять напечатано в «Правительственном вестнике» следующее:
«Предварительные основания о перемирии были опубликованы не в том виде, как они были изложены в Главной квартире в минувшем ноябре. От этого происходит упоминание Одессы и Севастополя как мест последующих переговоров, предназначенных для развития этих оснований. В настоящее время ход событий привел к подписанию предварительных условий перемирия в Адрианополе, а потому в этом городе будут происходить также и дополнительные переговоры».
А между тем английский флот стоит в Дарданеллах, а войска наши томятся перед Константинополем, ни сроки перемирия, ни демаркационные линии не определены.
19-го февраля. Сегодня вечером разнесли по городу следующую телеграмму:
«Депеша от Его Императорского Высочества главнокомандующего армией в Сан-Стефано, от 19-го февраля, 5 часов пополудни.
„Имею честь поздравить Ваше Величество с подписанием мира. Господь сподобил нам, государь, окончить предпринятое вами великое, святое дело. В день освобождения крестьян вы освободили христиан из-под ига мусульманского“».
В чем заключаются условия мира — неизвестно. Окончательный ли он или предварительный — также никто не знает. Судя по словам депеши, великое, святое дело кончено, христиане освобождены от ига мусульманского.
Ежели это не фразы, приноровленные ко дню 19-го февраля, то, слава Богу, Россия исполнила свое призвание. Какой приличный случай поднести государю титул «Освободителя», какою высокою историческою личностью явится он перед потомством…
20-го февраля. Сегодня по случаю заключения мира был во дворце большой выход и благодарственный молебен. Все происходило по обычаю, и государь, видимо, очень доволен. Проходя мимо раненых офицеров, поздравлял их со славным миром. На днях, вероятно, узнаем официально об условиях мира. Я, слыша, что князь Черкасский был нездоров, осведомился во дворце у военного министра о его здоровье. Милютин мне отвечал, что накануне получил от Черкасского письмо, из которого видно, что он, по-видимому, здоров. Едва я успел из дворца приехать домой и переодеться, как получил от Милютина следующую записочку:
«Вчера скончался внезапно князь Черкасский от апоплексии мозга. Еще третьего дня он со мной занимался около часу времени. Спешу сообщить Вам об этом, искренне уважаемый князь Дмитрий Александрович, так как Вы были с ним дружны и сегодня еще спрашивали меня о нем.
Жаль потерять умного, хорошего человека.
Душевнопреданный — Д. Милютин.
20-го февраля. 4 часа пополудни».
Как громом поражен я был этим известием. В настоящее время утрата способного человека, может быть, единственного на театре военных действий деятеля для будущей организации края[349] и полезного советчика в предстоящих дипломатических переговорах представляется мне каким-то знаменательным событием.
Самый день смерти Черкасского — 19-го февраля, канун великого события — освобождения крестьян, в котором он принимал такое деятельное участие, очень замечательно.
По уму и способностям князь Черкасский стоял далеко выше того уровня, какой терпится теперь в людях, употребляемых правительством. Поэтому усилия всех влиятельных на назначение лиц были направлены к тому, чтобы не давать ему хода. К сожалению, сам Черкасский несколько строптивым своим характером и неумением обращаться с людьми давал часто повод к справедливым нареканиям и отталкивал от себя людей резкостью и колкостью своей речи. В последнее время в особенности, будучи не у дел, он был раздражен. Но этот самый человек мог бы быть с большой пользою для дела употреблен в администрации или в дипломатии. Когда начинался восточный вопрос и была речь о конференции, то я в разговоре с Горчаковым убедительно уговаривал его взять с собою Черкасского, проживавшего тогда без дела в деревне. Я доказывал ему, что Черкасский обладает весьма тонким дипломатическим умом, отличный редактор и притом знакомый с общественным настроением, может быть весьма полезным сотрудником и что привлечение его, в качестве хотя бы второстепенного участника на конгрессе, произведет весьма хорошее впечатление в России, где Черкасский пользуется репутацией весьма умного и дельного русского человека. Горчаков, как и следовало ожидать, принял весьма холодно мой совет. Но я счел на всякий случай нужным уведомить Черкасского о моем разговоре с Горчаковым. В ответ на мое письмо я получил от Черкасского следующее письмо:
«5-го августа, 1876 г. Вчера, любезный князь Дмитрий Александрович, получил я Ваше письмо и сегодня спешу отвечать, чтобы ответ этот, не блуждая по столичным почтам, мог застать Вас в полусонном, я думаю, Козельске. Пускай эта поспешность докажет Вам также, сколько я ценю Ваше доброе расположение и дружбу, внушившие Вам те мысли, которые Вы мне сообщаете. Письмо Ваше застает меня как бы врасплох, далеко, далеко от тех предположений, которые Вы возбуждаете. К тому же оно вызывает на ответ искренний и откровенный, а потому не удивляйтесь, если в ответе на выраженное Вами так мало сбыточных для меня, даже в самом общем виде, надежд, я буду говорить обстоятельно и разбирать их, как нечто не невозможное и даже осуществимое. Поразмыслив поболее, я, вероятно, удовольствовался бы выражением моей самой горячей Вам признательности за добрую память, которая ценится мною тем выше, что я не привык ее встречать со стороны даже многих из тех, от которых мог бы довольно естественно ожидать ее. Но возвратимся к Вашим предположениям.
Скажу Вам откровенно, что постоянная служба вне России меня не привлекает. Прежде всего, я убежден, что внешняя политика определится сама собою, по правильным или неправильным ходам дела внутри. Человек с мыслью может и должен, покуда он в силах, стараться выйти на этот последний механизм, который двигает все прочие. Но подвергаться изгнанию из отечества ради почета, денег, связанных с занятиями иностранной миссии, не следует человеку уже немолодому и для которого подобный путь не может уже служить почином дальнейшей деятельности, но предоставляется скорее каким-то почетным убежищем. Я твердо решился или — что всего вероятнее — окончить жизнь свою не у дел, или принять участие в них лишь в самом Петербурге, у того самого центра, который один только имеет у нас действительную силу и значение. Эта мысль руководила мною отчасти и девять лет тому назад, когда я покинул службу[350]. И все сбывшееся с тех пор не убедило меня ни в ошибочности тогдашнего моего поступка, ни в неосновательности общего моего воззрения. И ныне остаюсь я при той же мысли: иначе, как у самого центра, служить и тратить жизнь свою и плодить свою нравственную ответственность решительно не стоит. Если это кому не удается, если кому суждено век свой оставаться бессменным, более или менее признанным кандидатом на политическое влияние, в действительности выпадающее на долю других, совмещающих в себе с избытком все ныне требуемые для того условия, то остается по крайней мере одно, быть может, не вполне достаточное, но тем не менее действительное утешение — это плуг и свобода. Гораздо заманчивее другая Ваша мысль, правда, никогда не приходившая мне в голову, но далеко не лишенная для меня прелести, по крайней мере в некоторых из своих сторон, — это призвание к участию в Конгрессе[351]. Отсюда по крайней мере можно будет в короткий срок извлечь для себя и для будущего личное знакомство с людьми, так или иначе заправляющими судьбами мира; к тому же тут несколько шире поле для личного почина. Но, независимо от тяжелой нравственной ответственности, которая едва ли не неизбежно ляжет на русских участников первого наступающего Конгресса, в тех обстоятельствах, в которых мы ныне находимся, самая польза дела едва ли не требует, чтобы на это дело с князем Горчаковым вместе был призван Игнатьев, который один знает вполне все восточные дела и который, сколько мне кажется, ожидает этого назначения и имеет на него право. Я почти уверен, впрочем, что и его не допустят туда, а пошлются: Назимов и Гамбургер или Жомини[352]. К тому же не забудьте, что участие в новом деле не может быть импровизированно; оно должно быть подготовлено открытием архивов и предварительным изучением истории вопросов, подлежащих обсуждению. Вы видите, как это все несовместимо с нормальным ходом дел у нас. Вспомните, как решались крестьянское, польское и др<угие> у нас дела. Никогда, никого, ни к чему правительство у нас не готовило. Неужели Вы полагаете, что оно теперь поступит иначе?..
Меня поражает еще одно обстоятельство: во всем разговоре князя Горчакова с Вами мне слышатся все давно знакомые мне звуки: „Черкасскому нельзя-де дать синекуру[353]; ему нужно дать место с положительною деятельностью, а такого места свободного у нас и нет“. Поверьте, любезнейший князь, что его никогда не будет. Те же самые слова о синекуре говорились 9 лет тому назад князю П. П. Гагарину высшим из авторитетов в государстве, и предлагалось назначение меня в польский комитет, до поры до времени, вместе испрашивалось для меня в то время назначение в Сенат.
На деле не состоялось ни первое, ни второе, ибо против меня был легион, и даже высшая власть в государстве оказалась бессильна победить его. Враждебный мне легион существует и доныне, он даже и сильнее, чем когда-либо. С этой мыслью я помирился в глубине души моей уже давно, и давно порешив сам с собою, что до коренного изменения в положении дел нет мне места в официальной России. А эта коренная перемена наступит, конечно, нескоро, и что сулит она нам в будущем — еще неизвестно. Мне сдается, что в то время сгруппируются новые созвездия, и этих звезд и их неизбежных спутников будет так много и окажутся они так требовательны, я же буду настолько забыт и так мало будет у меня охоты просить, искать и докучать, что и в то время, если останусь я еще в живых, едва ли приобрету я более того, чем теперь пользуюсь невозбранно и чем, к счастию, удовлетворяюсь. Вот Вам, любезнейший князь, моя искренняя исповедь. Еще раз горячо благодарю Вас за Вашу дружбу и надеюсь как-нибудь свидеться в течение зимы. Жена усердно кланяется княгине и Вам, а я дружески жму Вам руку.
Душевно преданный — князь В. Черкасский.
Если Вы увидите Грота, потрудитесь сказать ему, что я получил его письмо и не прочь приехать на совещание о самаринских прениях, но за земскими собраниями никак не могу приехать раньше октября».
Впоследствии, когда началась война, то сам государь в бытность свою в Москве пригласил Черкасского, под видом управляющего Красным Крестом, состоять при Главной квартире и быть в распоряжении главнокомандующего по управлению завоеванным краем. Для получения надлежащих инструкций и составления правил по управлению будущими нашими завоеваниями Черкасский прибыл в Петербург, был очень обласкан, имел несколько аудиенций у государя, на него возлагались большие надежды, что крайне возмущало здешних царедворцев — и Тимашева, и Валуева, и Урусова и пр. Они боялись после окончания войны возвращения Черкасского в Петербург. Но в видах Провидения, вероятно, нужно было отнять у нас и этого способного человека в самую нужную минуту, к несказанному удовольствию всех врагов России.
28-го февраля. Условия мирного договора до сих пор хорошо не известны. Судя по сведениям иностранных газет, условия эти вообще довольно удовлетворительны для нашей чести, но, кажется, достоверно, что во многих и главных частях будут еще подлежать рассмотрению на европейском Конгрессе, а так как вся Европа, без исключения, относится к нам враждебно[354] и наши блестящие победы еще усилили эту вражду, а наши политики и дипломаты очень ненадежны, то в обществе и вообще в России известие о мире не производит того радостного впечатления, которое следовало бы ожидать. Вексельный курс наш мало поправляется, и вообще чувствуется какое-то опасение.
На днях объявлен «прелиминарный мирный договор»[355], который хотя прелиминарный, но подписан турецким султаном и привезен сюда турецким посланником для ратификации государем.
Все как-то необычайно делается в настоящую войну. Не знаю, был ли когда-либо случай, чтобы две воюющие державы заключали между собой мир, ратифицировали бы условия мира и затем представляли бы этот мир на утверждение, или на одобрение, или на изменение (не знаю, как сказать) других европейских держав, а пока останавливались бы приводить в исполнение те условия, которые до других государств не касаются.
Как бы то ни было, но, по общему чувству, война еще не кончена и грозит, напротив, принять весьма широкие размеры. Дипломаты наши теперь спорят о том, в какой форме предложить мирный договор Конгрессу, а между тем время проходит, Англия и Австрия вооружаются, Турция укрепляет Константинополь, так что занятие его нашими войсками становится с каждым днем невозможнее. Румыния явно против нас враждует, отказывается отдать часть Бессарабии, о которой, по непростительной оплошности наших дипломатов, не умели в свое время сговориться с румынским правительством. С каждым днем наша военная позиция стесняется врагами всех возможных национальностей. Болезни в войске усиливаются, заразительный тиф свирепствует, и мы теряем без войны более людей, чем во время войны. Самый мирный договор был составлен наскоро Игнатьевым в Сан-Стефано. Наскоро, потому что хотели подписать непременно к 19-му февраля. Эта страсть — приноравливать всякое радостное событие к какой-нибудь царской годовщине — очень дорого нам стоит. Штурм Плевны — 30-го августа — единственно затеян был, чтобы отпраздновать день Александра Невского. Многие промахи и недомолвки в Сан-Стефанском договоре также объясняются торопливостью. Вообще, мирным договором все довольны, но мало верят в его осуществление. Видимо, турки на все согласились и даже сделали более уступок, чем от них требовали. Так, например, о сдаче Варны и Шумны в договоре перемирия ничего не было сказано. Видимо, они согласились на все в надежде, что чем сильнее будет наше торжество, тем более враждебно отнесутся к нам Англия и Австрия, и расчет их оказывается верным.
Этот отказ от деятельности князя Черкасского, хотя сделан человеком, состоящим с покойным в дружеских отношениях, свидетельствует, что Черкасский принадлежал к числу передовых государственных деятелей.
Во всяком случае его деятельность была и плодотворнее, и просвещеннее многих официальных представителей власти. Он оказал несомненные услуги нынешнему царствованию, как по крестьянской реформе, так и по польскому вопросу, и мог бы еще быть полезнее, ежели бы интригами Шувалова и других он не был отстранен от дела и от служебного поприща. Когда, после болезни Н. А. Милютина, Черкасский отказался возвратиться в Варшаву, не чувствуя себя в силах одному бороться с наместником[356] графом Бергом и со всеми петербургскими врагами, государь желал сделать Черкасского сенатором и еще приказал князю Урусову, исправляющему тогда должность министра юстиции, заготовить указ об этом назначении, то граф Шувалов, узнав об этом, с испугом приехал к Урусову и стал уговаривать его исключить это назначение. «Неужели, — говорил он Урусову, — Вы не видите, какая опасность грозит нам, ежели князь Черкасский останется в Петербурге? Разве много в нашей партии умных и способных людей? Зачем же хотите Вы поставить во враждебной нам партии способного человека? Ежели он останется в Петербурге, его будут назначать в разные комиссии и давать ему разные поручения, призывать на совет и проч… Этого нельзя допустить, я всеми мерами буду противиться и постараюсь устроить, чтобы это назначение не состоялось, пожалуйста, не мешайте мне».
Конечно, князь Урусов не помешал, и назначение Черкасского сенатором не состоялось. Я думаю, однако, что государь, помня заслуги Черкасского, выразит при кончине его какое-нибудь внимание к его памяти, и действительно, в газетах напечатан следующий рескрипт:
«Княгиня Екатерина Алексеева Черкасская удостоилась получить следующий рескрипт от его Величества государя императора.
27-го февраля 1878 г. СПб. Княгиня Екатерина Алексеевна.
В тяжелом горе, которым Господь посетил Ваше любящее сердце, Вы, несомненно, будете искать облегчения в покорности его неисповедимым судьбам и в воспоминании той глубокой привязанности, которая связывала Вас с покойным супругом вашим. Присоедините к этому и воспоминание о тех заслугах Отечеству, которые оказаны были им всякий раз, когда интересы государственные вверялись мною его просвещенному и честному труду.
Среди многих утрат, понесенных мною в настоящую войну, сердечно соболезную о Вашей; желал бы искренно смягчить вашу скорбь мыслью, что в деле, еще так недавно особою доверенностью моею возложенном на Вашего супруга, он, жертвуя собою, спешил положить прочное ему основание и успел связать свое имя одинаково и с борьбою за освобождение христиан, и с христианским попечением о жертвах этой борьбы»[357].
Этот рескрипт писал генерал-адъютант Исаков в комнате председателя управления Красным Крестом[358]. Он прислал мне проект рескрипта с просьбою его просмотреть или составить новый. Мне показалось, что рескрипт имеет характер сочувственного обращения к вдове об утрате мужа. Я предложил другую редакцию, более отвечающую, по моему мнению, общественному значению прискорбного случая. Обе редакции были представлены государю, и, разумеется, была принята редакция Исакова.
Дело о покушении на жизнь Трепова вполне разъяснилось. Преступница оказалась девица Засулич, уже прикосновенная к делам о преступной пропаганде и находившаяся под судом по делу Нечаева, решилась на убийство Трепова из мести за то, что Трепов в прошедшем году приказал наказать розгами приговоренного к каторжным работам политического арестанта Боголюбова. Дело это будет рассматриваться общим порядком с участием присяжных. По последнему делу, по которому было привлечено более 300 подсудимых и содержалось под стражей более 1000 человек, огромное большинство судом оправдано[359].
Дело это ведено было неестественным союзом III Отделения и Министерства юстиции самым безобразным порядком. Полная несостоятельность суда по подобным делам обнаружилась явно. К тому же самый порядок преследования и система обвинения, соединившая отдельные дела в одно общее, до того были нелепы, что невозможно было ожидать другого исхода. Власть в руках неспособных дураков есть самое сильное революционное средство.
22-го апреля. Оправдательный приговор Засулич так встревожил все общество и будет иметь, вероятно, столь важные последствия, что я считаю необходимым внести в летопись все подробности этого несчастного дела.
С.-Петербург, 21-го марта.
Сегодня в здешнем Окружном суде рассматривалось дело дочери капитана Веры Засулич, 28 лет, покушавшейся на убийство генерал-адъютанта Трепова. В обвинительном акте, между прочим, сказано: относительно предъявленного Засулич обвинения в покушении на убийство с. — петербургского градоначальника, она объяснила, что преступление совершенно ею с заранее обдуманным намерением, при чем последствия произведенного ею выстрела, смерть генерала-адъютанта Трепова или нанесение ему тяжкой раны, были для нее безразличны, так как она тем или иным способом желала отомстить градоначальнику за его распоряжение наказания розгами арестанта Боголюбова.
Сведения о наказании Боголюбова, которого Засулич, по ее показаниям, совершенно не знала, были получены ею первоначально летом 1877 г. в Пензенсеой губернии из газет, и затем в Петербурге из рассказов разных лиц. Слух о наказании Боголюбова, по объяснению обвиняемой, хорошо знакомой с душевным состоянием лиц, лишенных свободы, произвел на нее сильное впечатление, под влиянием которого у нее родилась и созрела мысль об отмщении градоначальнику. С этой целью Засулич в конце декабря 1877 г. через посредство одного из своих знакомых, ничего не знавшего о ее намерениях, приобрела пяти-ствольный револьвер и утром 24-го января, находясь в приемной с. — петербургского градоначальника, на расстоянии одного или полутора аршин от генерала-адъютанта Трепова, выстрелила в него один раз из означенного револьвера. Из справки, доставленной к делу управляющим домом предварительного заключения, видно, что 13-го июля 1877-го года, по предписанию С.-Петербургского градоначальника за номером 6641, лишенный по суду всех прав состояния и приговоренный к ссылке в каторжные работы Архип Боголюбов был наказан 25-ю ударами розог как главный виновник беспорядков, происшедших в этот день в доме предварительного заключения. Около 9-ти часов вечера присяжные вынесли для Веры Засулич оправдательный приговор.
От нашего корреспондента. С.-Петербург, 1-го апреля.
В зале заседания суда по делу Засулич присутствовали высшие административные власти и избранная публика. Когда присяжные вынесли оправдательный приговор, раздался гром рукоплесканий. Перед зданием суда стояли огромные толпы.
С.-Петербург. 1-го апреля.
Вчера случилось прискорбное происшествие. С утра у здания суда толпилась публика, не попавшая в заседание по делу Засулич, так как в зале суда могло поместиться не более 200 человек.
К вечеру число ожидавших на улице приговора увеличилось. К толпе примыкали мимо проходившие лица. Когда приговор был объявлен, значительная толпа собралась на Шпалерной улице и стала против и вокруг ворот, из которых должна была выйти подсудимая. Немногочисленных полицейских офицеров свободно пропускали, расступаясь перед ними. После долгого промежутка растворились ворота, и показалась Засулич, которую встретили приветствиями и поздравлениями. Засулич, а за нею публика двинулись по Шпалерной улице по направлению к Воскресенской. Немедленно их догнал отряд жандармов при офицере, который предложил посадить Засулич в позванную им карету, для того, чтобы отвезти ее домой к матери. Из Шпалерной публика, провожавшая карету, повернула на Воскресенский проспект, дошла до Фурштатской, но возле углового дома Шуленбур-га толпу остановили градские и пешие жандармы. Засулич должна была выйти из кареты. Полицейские стали осаживать публику. Вдруг раздался выстрел, вслед за тем другой. Большинство разбежалось на тротуары. Дело происходило на самом перекрестке Фурштатской и Воскресенской. Засулич и какой-то студент упали. Засулич оказалась раненной в правое предплечье. Студент, говорят, убит. Засулич отнесли к доктору Чудновскому, живущему на углу Фурштадтской, в доме Овсянникова. Так как для перевязки раны нужен был хирург, то тотчас был приглашен профессор Богдановский, не замедливший приехать.
С.-Петербург, 1-го апреля. «Северный вестник». Сообщают, что при вчерашнем столкновении убит некто Сидорацкий и ранены швейцар соседнего дома и две женщины. Начато следствие.
Телеграмма от нашего корреспондента. С.-Петербург, 2-е апреля.
«Новое время».
«Новое время», исправляя вчерашние свои сведения, сообщает, что ранена не Засулич, а Рафалович. Дело произошло так.
Когда Засулич была посажена в карету, чтобы ехать домой, на козлах поместился некто Сидорацкий, молодой человек 20-ти лет, которого перед тем видели у здания суда в крайне возбужденном состоянии. Едучи на козлах, он махал платком. Когда полицейские жандармы остановили публику, сопровождавшую карету, где сидела Засулич, то к карете подошел жандарм, чтобы открыть дверцу. В эту минуту сидевший на козлах Сидорацкий вынул револьвер и выстрелил. Пуля ударила в каску жандарма и в ней засела.
Тогда Сидорацкий выстрелил второй раз, и пуля попала в стоявшую около кареты женщину — г-жу Рафалович, которая упала. После этого Сидорацкий соскакивает с козел, подбегает к соседнему дому, несколько секунд рассматривает толпу как-то рассеянно и безумно, приставляет револьвер к виску, раздается выстрел, он падает мертвым. При нем найден шестиствольный револьвер, в котором оставалось 3 заряда. Вынутые из раны Рафалович, из каски жандарма, из черепа самого Сидорацкого пули все одного калибра, все, очевидно, выпущены из одного револьвера. Рана, нанесенная г-же Рафалович, оказывается неопасною.
«Голос».
Во время столкновения арестовано несколько человек, утверждают, будто бы аресты продолжаются. Куда уехала Засулич — неизвестно[360].
3-го апреля. Воспрещена розничная продажа за распространение ложных известий «Нового времени» и «Северного вестника».
Правительственное сообщение.
31-го марта, при исходе 7-го часа пополудни, окончилось в С.-Петербургском окружном суде заседание по делу о покушении на жизнь генерала-адъютанта Трепова. Толпа молодежи, собравшаяся на Шпалерной улице, встретила оправданную Веру Засулич сочувственными криками и провожала ее по Шпалерной улице. Близ дома предварительного заключения Засулич поместилась вместе с какою-то женщиной и молодым человеком в карету, приведенную околоточным надзирателем. Толпа сопровождала экипаж, направившийся по Воскресенскому проспекту. Достигнув угла Фурштатской, карета повернула по этой улице, но была остановлена полицией, просившею толпу разойтись и предоставить Засулич уехать. Во время этих переговоров раздались последовательно два выстрела, почти без промежутка, через минуту и третий. Оказалось, что один выстрел пробил каску жандарма, стоявшего около кареты, второй ранил в правую руку мещанку Рафаилову, стоявшую там же, третий убил дворянина Григория Сидорацкого, найденного на Воскресенском проспекте, против дома Шуленбурга, шагах в 20-ти от угла Фурштатской и Воскресенского проспекта. Ввиду сих обстоятельств, судебный следователь 13-го участка г. С.-Петербурга приступил к производству предварительного следствия. Означенным следствием установлены следующие данные: свидетельскими указаниями установлено, что два первых выстрела последовали с угла Воскресенского проспекта и Фурштатской улицы от дома графа Шуленбурга и направлены были в лиц, окружавших карету. Так, по показанию Анны Устиновой-Рафаиловой, слушательницы женских курсов при Мариинском родовспомогательном институте, она была ранена близ самого экипажа. Рядовой жандармского дивизиона Федор Иванович Микулин, каска которого оказалась пробитою, стоял тоже у кареты рядом с полицмейстером Дворжицким и приставом Хоменко с правой стороны кареты, т. е. на пространстве между домом Шуленбурга и экипажем. Остальные жандармы находились на противоположной стороне Фурштатской улицы, около дома Овсянникова, ныне дома Елисеева. Дворянин Григорий Сидорацкий застрелился на Воскресенском проспекте, шагах в 20-ти от угла Фурштатской, пройдя дом Шуленбурга, на глазах у свидетелей — рабочего патронного завода Сергея Владимирова и городового Петрова. Около него найден револьвер системы Смит-Вессон, среднего калибра. Из бокового кармана покойного следователь вынул кобуру от этого револьвера, из кармана — 10 патронов к нему же. В барабане револьвера оказались только два заряженных патрона и 3 пустые гильзы. Доктор Чудновский представил следователю пулю, вынутую профессором Богдановским из правой руки раненой Рафаиловой. К делу приобщена следователем каска рядового Микулина, имеющая значительную вдавленность в гербе, разбитом с левой стороны на полвершка, причем весь передний левый щит герба с левой стороны вогнут внутрь и разбит с края. Сама пуля засела между колпаком каски и медною лапкой арматуры. Врач литейной части, производивший по требованию судебного следователя 13-го участка, в присутствии дежурного ординатора Мариинской больницы Сыренского, судебно-медицинское вскрытие тела покойного Сидорацкого, представил пулю, вынутую из черепа умершего, высказал при этом по данным, обнаруженным вскрытием, следующее мнение: смерть Сидорацкого последовала от огнестрельной раны в полость черепа и повреждения головного мозга. По свойству кожи, которая обуглена в окружности раны, можно предположить, что выстрел был сделан в упор или на очень близком расстоянии. Направление выстрела было не горизонтальное, а снизу вверх. Пули, представленные доктором Чудновским, врачом Горским и засевшая в каске жандарма оказались тождественными как между собою, так равно и с двумя оставшимися в барабане револьвера и десятью пулями патронов, вынутых из кармана пальто Сидорацкого. Карета, в которой сидела Засулич, уехала по Фурштатской тотчас после первого выстрела. Свидетели происшествия удостоверили, что последовали только три выстрела. Толпа начала разбегаться после первого выстрела. Конные жандармы прибыли после окончания происшествия и были отпущены немедленно полицией.
Чтобы понять причину столь безобразного решения суда, а также чтобы понять то сочувствие, с которым часть присутствующей в суде публики приняла оправдательный приговор, и то почти единодушное прославление во всех газетах этого решения, необходимо прочесть во всех подробностях все бывшие на суде прения. Привожу целиком весь процесс как образец, до чего может быть доведен суд, когда реформою его и направлением руководят люди неспособные и неопытные.
Стенографические отчеты[361]. Из одного только чтения стенографического отчета судебного заседания по делу Засулич можно легко себе представить, как сильно и возбудительно должно было действовать на присяжных и на публику все судебное следствие и прения сторон. Но чтение далеко не оставляет того впечатления, какое производит вся живая драма, на суде происходившая. Все было как бы нарочно устроено, чтобы суд над преступницей, покусившейся на жизнь человека, был обращен в суд над возмутительными действиями не только Трепова, но вообще всей полицейской и преследовательной власти. Я пришел в суд довольно поздно, я не слыхал всего судебного следствия, в котором, судя по стенографическому отчету, напечатанному с пропусками, раскрывалась вся безобразная и возмутительная картина тюремного неустройства. Я не слыхал первой половины защитительной речи и аплодисментов публики. Тем не менее, когда я увидел состав присяжных, услышал отказ прокурора возражать на речь защитника и услышал отвлеченно-беспристрастную речь председателя, я, не дождавшись вердикта присяжных, вышел из суда с полным убеждением, что Засулич будет оправдана, и так был в этом уверен, что держал с Димитриевым пари, которое и выиграл. Я был убежден в оправдательном приговоре по следующим причинам.
1. Будучи близко знаком с разными слоями петербургского общества, я сейчас узнал, какой господствующий дух в группе 12-ти лиц, составлявших собрание присяжных, и увидел ясно, что со стороны обвинительной власти и председателя суда ничего нельзя было придумать верного для достижения цели оправдания, как то, что было сделано, допущено и сказано на суде как прокурором, так и председателем. Оставляя даже в стороне всю силу влияния на нервы присяжных пятичасового слушания самых возмутительных вещей и присутствие подсудимой, державшей себя все время весьма прилично, нельзя сомневаться в том, что многие из присяжных могли вынести из всего ими слышанного и виденного полное убеждение, что сама обвиняющая власть желает оправдания. Нигде, а тем более у нас, где суд присяжных есть еще дело новое, нигде слова председателя не принимаются иначе, как за руководство. Такого идеального беспристрастия, какое показал председатель г. Кони[362] в своей заключительной речи, конечно, никто не ожидал, в особенности после отказа прокурора возражать защитнику, говорившему с большим талантом и увлечением. Идеальное беспристрастие председателя, противопоставление резкому, страстному слову защитника, показалось всем как бы умышленным желанием направить присяжных к оправданию. Можно ли было думать, что в таком важном политическом деле суд, в лице своего председателя, решился бы без цели действовать по всем тонким правилам отвлеченной юридической науки и, оставя совершенно без внимания действительность и грозящую опасность, заботился бы только о теоретически верном соблюдении форм судопроизводства? А между тем я вовсе не предполагаю ни в прокуроре, ни в председателе какого-либо злого умысла и действительного желания вызвать оправдательный вердикт присяжных. Отчего же произошел этот скандал? Оттого, что делу Засулич, очевидно, по существу своему имеющему характер дела политического, дано было направление простого преступления — покушения на убийство, и председателем суда назначен был человек, хотя весьма способный, но неопытный в председательском звании. Он был прекрасным прокурором, и в этом звании мог бы быть весьма полезным, ибо обладает несомненным талантом обвинения.
Граф Пален — министр юстиции — вместо того, чтобы сохранить подобного человека в прокурорстве, сделал его сперва вице-директором Департамента юстиции, где способности и талант его напрасно истощались в канцелярской работе, а потом сделал его председателем окружного суда, не понимая того, что совершенно иные свойства требуются от председателя суда. Г. Кони не имеет ни фигуры, ни положения, ни характера, ни сознательного спокойствия, нужных для руководства судом. Лопухин, бывший перед тем председателем, гораздо менее способный, чем Кони, был несоразмерно лучшим председателем. Его же граф Пален сделал прокурором — и тоже наперекор его способностям. Я не сомневаюсь, что ежели бы Кони был прокурором, а Лопухин был бы председателем, то дело Засулич получило бы иной исход. Сам Лопухин не обвинял, а поручил одному из товарищей своих, весьма малоспособному, после того как два способных товарища отказались от обвинения, потому что нашли, что потерпевшая сторона не внушает симпатии. Этот один факт доказывает, до какой распущенности дошла судебная власть, в особенности в Петербурге, где все назначения делаются непосредственно министром. Граф Пален добрый и честный человек, но вовсе не способен быть в настоящее время министром юстиции. Неудачными назначениями и частными распоряжениями он не только не устранил народного антагонизма между судебного и административными властями, который возник, к сожалению, при самом начале введения судебной реформы, а напротив, усилил этот антагонизм, и суд принял у нас весьма прискорбное направление, поставив себя в какое-то особое положение вне круга общих государственных интересов и ставя себе как бы в заслугу не сообразоваться с действительным ходом и явлениями жизни. Это отрицательное отношение к действительности, с одной стороны, и безыскусственное пристрастие к форме, преобладающей в решениях Кассационного департамента Сената, с другой стороны, дали суду нашему какое-то болезненное и безжизненное направление, которое очень трудно будет исправить. Об этом я имею в виду на досуге составить особую записку.
Другая причина, по которой я, по выходе из суда, был убежден, что дело Засулич будет решено оправдательным вердиктом присяжных, заключается в том, что я не сомневался в восприимчивом и легко увлекаемом характере нашей публики, а следовательно, и присяжных. Требовать от русской публики, чтобы она, после десятичасового напряжения и возбужденного состояния нервов, могло бы тут же, без перерыва, без отдыха для физического и нравственного успокоения, сама сказать себе, что теперь наступает минута спокойного и хладнокровного обсуждения факта преступления, совершенно независимо от причин, вызвавших его, что настала минута, где нужно перестать чувствовать, а только спокойно и хладнокровно обсуждать практическую сторону дела, требовать такой внезапной метаморфозы от русских людей — значит не знать русской натуры. Ежели бы такой трезвый и спокойный темперамент преобладал бы в русском обществе, то мы, конечно, не перешли бы Балканы. Нельзя требовать от людей, чтобы они только в известных случаях увлекались и в нравственных порывах находили силы творить чудеса безумной отваги, храбрости, великодушия, самоотвержения, доброты и снисхождения, а в других случаях внезапно заглушали бы в себе все эти чувства. Дело в том, что всякое учреждение, а тем более суд, при сохранении тех же принципов и тех же форм, должен в каждом народе искать свои особенности, сообразно особенностям и характеру народа. Эти особенности не всегда могут быть выражены в законе. Они осуществляются на практике людьми, руководящими реформами. К сожалению, у нас руководителями при введении реформы суда были люди, во всех отношениях неискусные. Они не только <не> устранили на практике, но даже усилили недостатки законодательства. Так что можно сказать, что нашу судебную реформу мамки с детства зашибли. С грустью пишу все это, ибо в лучшие годы моей жизни судебная реформа была мною чаема, и я много содействовал к возбуждению вопроса об этой реформе. Конечно, я никогда не мечтал идти так далеко и так радикально, как пошли наши реформаторы, захвативши в свои руки дело и сами не зная, что делают. Но как бы то ни было, и с такими капитальными недостатками, какими отличались наши судебные уставы, я надеялся, что жизнь и практика исправят эти недостатки, но вышло наоборот. И мне кажется, что недалеко то время, когда потребуется приступить опять к новой существенной реформе многих частей нашего судопроизводства и судоустройства. Я, конечно, и не мечтаю быть когда-либо призван к этому делу, но на досуге я постараюсь изложить свои по этому мысли. Может быть, кому-нибудь со временем пригодятся. Теперь, без сомнения, вследствие оправдания Засулич начнутся всякого рода попытки для изменения каких-либо частностей, но все это вздор, и граф Пален решительно неспособен предложить и сделать что-либо дельное[363].
А между тем внутреннее брожение в России с каждым днем усиливается, и чтобы бороться с ним, правительство должно явиться во всеоружии. Суд должен быть верным и надежным орудием для ограждения общества. По политическим делам решительно настоящий порядок производства следствия и суда непригоден. Полиция, со своей стороны, не имеет ни умения, ни опытности для предупреждения даже случаев открытого сопротивления, даже на улицах. Эпизод побоища, происходившего на улице после окончания процесса Засулич, окончившийся исчезновением оправданной подсудимой, которую, впрочем, решено было на всякий случай задержать, может служить образцом нераспорядительности полиции и жандармского ведомства.
Во все время процесса близ здания суда стояла толпа, ожидавшая окончательного приговора, можно было наверное сказать, что будет какая-нибудь манифестация. А между тем для предупреждения не было принято никаких мер. И только, как будто на смех, на днях министр внутренних дел изрек следующие бессмысленные слова:
«Правительственный вестник», 12-го апреля.
1. Когда соберется народ в шумном и беспорядочном скопище, то полиция должна заставить толпу разойтись по домам и в случае нужды требовать содействия от местных батальонов или команд.
2. Полиция имеет надзор, чтобы никто в противность должного послушания законным властям ничего не предпринимал. Она пресекает в самом начале всякую новизну, законам противную.
3. В случае покушения, клонящегося к нарушению спокойствия, полиция обязана уведомить о том губернское правление и губернатора, не допускать такого приведения покушения в исполнение и смирить нарушителей покоя по мере данной ей власти, в чем всякий, по силе и возможности, обязан ей содействовать.
4. Полиция наблюдает, чтобы благочиние, добронравие, порядок и все, пред-писанное законом для общей и частной пользы, было исполняемо и сохраняемо, а в случае нарушения приводить всякого, несмотря на лицо, к исполнению предписанного законом[364].
Это наивное напоминание действующих законов без всяких комментариев внушительными словами изобличает какую-то непонятную вялость. Между тем брожение молодежи, на которую влияют, без сомнения, и современные политические события, и безнаказанность, принимает все более и более наступательный характер.
С.-Петербург. 10-го апреля. (От нашего корреспондента).
В «Правительственном вестнике» напечатано следующее сообщение о беспорядках в Киевском университете:
«По поводу арестования прокурорским надзором в Киеве некоторых лиц, привлеченных в дознании о преступной пропаганде, в том числе одного из студентов университета Св. Владимира, обвиняемого по делу о покушении 23-го февраля на жизнь товарища прокурора Киевской палаты Котляревского, происходили между некоторыми студентами означенного университета волнения, получившие довольно значительное развитие. Кружок студентов, принимавших участие в этом волнении, начал 15-го марта собираться в сходки в здании университета для обсуждения, по-видимому, только мер, которые можно было принять со стороны их, студентов, для освобождения их товарища, взятого под арест. Некоторые из этих студентов являлись в этот период развития настоящего дела к ректору университета и попечителю учебного округа с просьбой принять участие в судьбе их товарища, арестованного, по их убеждению, без вины, и вместе с тем жаловались на притеснительные и оскорбительные, по их, студентов, мнению, действия киевской полиции по отношению к ним. Как ректор, так и попечитель обратили внимание на неуместность их просьбы, так как виновность или невиновность их товарища может быть раскрыта лишь следствием и определена судом, причем попечитель в объяснениях своих с явившимися к нему студентами присовокупил, что дело студентов — заниматься науками, а не толковать о том, что до них не касается, и указал им на все прискорбные последствия для тех из них, которые будут продолжать идти по тому ложному пути мысли и дела, которые замечаются в настоящем их поступке.
Что касается действий полиции, в случае оскорбления ею кого-либо из студентов каждый обиженный может жаловаться за себя, и тогда жалоба его, без сомнения, будет выслушана и принята во внимание. Самое верное средство избежать так называемых придирок полиции — не давать ей повода к тому нарушением порядка где бы то ни было. Несмотря на эти увещания, сходки продолжались в здании университета и приняли характер более шумный. Число участвовавших в них студентов значительно увеличилось, посему ректор университета видел себя вынужденным войти 20-го марта в университетскую лекторию, где происходили сходки, объявив находящимся там студентам, что они нарушают весьма известные им правила, и потребовал, чтобы они немедленно разошлись.
Когда требование это было исполнено только меньшинством присутствующих, то в лекторию прибыл попечитель — генерал-лейтенант Антонович. На вопрос попечителя, зачем студенты собрались, ближайшие к нему объявили, что они обсуждали средства к освобождению товарища, которого считают невиновным, и что, получив отказ от всех, к кому обращались, ищут средства взять его на поруки. На вопрос попечителя, кто им разрешил избрать лекторию местом сходки для обсуждения каких бы то ни было дел, тогда как им известно, что сходки не только в университете, но и вне его воспрещены правилами, в соблюдении которых каждый из них дал подписку при вступлении в университет, послышался из задних рядов ответ: „Мы разрешили, студенты разрешили“, сопровождаемый возбужденным движением в массе. Для прекращения такого возбуждения попечитель объявил студентам еще раз существующее правило о недопущении сходок в стенах университета и предании виновных за сходки университетскому суду, присовокупил, что он пришел исполнить свой долг и исполнит его во что бы то ни стало, что он признает присутствующих виновными в сходке в здании университета и в неповиновении университетскому начальству и что виновные будут преданы университетскому суду, для чего тотчас была сделана перепись всех присутствовавших. Засим студенты разошлись, и лектория была заперта с вывешиванием объявления о ее закрытии впредь до распоряжения. В последующий затем день, 21-го марта, студенты собрались в университете опять в довольно значительном числе, и из них более 50-ти не бывших на сходке предшествовавшего дня записали свои имена в число тех, которые отказались от повиновения университетскому начальству. После сего сходок в здании университета больше не было и между студентами возобновилось спокойствие. Впрочем, чтение лекций все это время не было прерываемо, и студенты посещали оные по обыкновению.
Университетский суд по настоящему делу открыл свои действия 28-го марта. Число привлеченных к суду простиралось до 142 студентов. Рассмотрению суда подлежали, как видно из предыдущего, два факта нарушения университетских правил: воспрещенные сходки в стенах университета и открытое неповиновение университетскому начальству. При вызове и опросе на заседаниях суда отдельно каждого из привлеченных студентов все они, за немногими исключениями, отказались от дачи каких-либо объяснений, находя незаконным опрос каждого обвиняемого без присутствия других обвиняемых по тому же делу, по крайней мере тех, которые вызваны на то же заседание и уже опрошены. Так как на основании действующих в отношении к университетскому суду постановлений такой порядок допроса допущен быть не мог, то суд должен был прибегнуть к другим данным для определения виновности определяемых студентов. 29-го марта университетский суд постановил следующее решение: 49 студентов, изобличенных в сходках и неповиновении университетскому начальству, сверх того, замеченных уже прежде в неодобрительном поведении, — исключить из университета с тем, чтобы в течение трех лет, считая в том числе текущий академический год, не принимать в другие учебные заведения. 75 студентов, изобличенных в том же, но прежде не замеченных в неодобрительном поведении, — удалить из университета на два года с тем, чтобы в течение двух лет, считая в том числе текущий год, не принимать их в университет Св. Владимира, ни в какое другое учебное заведение. 10 студентам, признанным виновными в том же, но имевшим одобрение за прежнее поведение и занятия — предложить самим оставить университет Св. Владимира. 8 студентам, объяснившим перед судом, что, хотя они были прежде на сходках, но вышли по требованию начальства, — сделать строгий выговор. Решение университетского суда, утвержденное Советом университета большинством 35-ти голосов против 4-х, попечителем учебного округа приведено в настоящее время в исполнение, и для прекращения дальнейших беспорядков приняты меры к удалению исключенных студентов из Киева. В заключение необходимо изъяснить, что, по общему убеждению, господствующему в Киеве, весьма прискорбные беспорядки, вынудившие университет для собственного своего ограждения принять строгие меры против виновных в этих беспорядках лиц, возбуждены извне людьми известного направления, враждебного существующему порядку, к которому примкнули некоторые из студентов. Под предлогом ходатайства за товарища, которого эти лица провозгласили невинно арестованным, они искали случая произвести беспорядки, которые повели бы к закрытию университета и возбуждения этим средством в молодежи общего неудовольствия. Очень может быть, что большинство студентов из привлеченных к суду чистосердечно увлекались желанием помочь товарищу будто невинному, вовсе не подозревая, что они служат орудием в руках неведомых им личностей, стремящихся к иным целям. Вероятно, теми пагубными влияниями следует объяснить поведение обвиняемых при допросе их в университетском суде — поведение, которое, не говоря о полной незаконности оного, лишило университет отнестись к обвиняемым не иначе, как он это сделал. В отношении к другим студентам университета Св. Владимира справедливость требует заявить, что они в беспорядках, произведенных их товарищами, не участвовали, даже, по достоверным сведениям, многие приходили на первые сходки с намерением образумить увлекающихся и, не успев в этом, отказались от всякой с ними солидарности».
Сегодня в 3 часа пополудни с почтовым поездом Курской железной дороги были привезены в Москву 15 студентов Киевского университета, высланных оттуда за беспорядки по университетскому суду в разные губернии под надзор полиции. Ко времени прибытия поезда на станции собралась толпа разных молодых людей известной категории, около 150 человек, и при выходе пересылаемых студентов из вагона встретила их громкими криками сочувствия. Пересылаемые студенты были посажены в 4 кареты, которые под конвоем были направлены в пересыльную тюрьму. Толпа молодых людей последовала за каретами и своими криками «Ура» и «Шапки долой» возбуждала внимание прохожих, присоединявшихся к шествию. Когда кареты повернули к Охотному ряду, толпа быстро увеличилась массами народа, предполагавшими, что «Ура» раздается в честь раненых. Когда же люди из народа на свои вопросы получили ответ, что везут в ссыпку «пострадавших за правду», то картина мгновенно изменилась. С криками «бей изменников Белого царя» народ бросился на толпу агитаторов и мгновенно смял ее. Она была оттеснена до старого университета, где народ совершенно окружил ее, продолжая свою расправу… Раздражение усилилось, когда у некоторых молодых людей оказались револьверы. Бежавших народ преследовал по окрестным улицам. Кареты с пересылаемыми между тем безостановочно продолжали путь на Колымажный двор.
Полиция восстановила порядок, а появление генерал-губернатора совершенно успокоило народ, который громадной массой окружал университет, держа его как бы в осаде. Толпы разошлись, и занимавшиеся в химической лаборатории студенты могли, наконец, под покровительством генерал-губернатора безопасно выйти на улицу и разойтись по домам. Это ответ русского простого народа на скандал «избранной публики», бывший 31-го марта в Петербурге[365].
По поводу дела Засулич, как и следовало ожидать, начали придумывать разные законодательные меры второпях, без всякого смысла. Граф Пален внес, по высочайшему повелению, две меры:
1) О новой подсудности по государственным преступлениям и по преступлениям против управления.
2) О предоставлении министру юстиции права лишать присяжных защитников права защиты на суде.
Оба эти представления, наскоро написанные, не выдерживают ни малейшей критики и, не достигши никакой цели, были рассмотрены в Совете. В департаменте я принимал деятельное участие в рассмотрении этих представлений. Первое из них, о новой подсудности дел по преступлениям государственным и проч…, по моему мнению, будет иметь особенно вредные последствия. Дела по преступлениям государственным и весь почти четвертый разряд передаются в судебные палаты с участием сословных представителей. Я сильно против этого восстал, полагая во всех отношениях более удобным производить их просто без участия присяжных в окружных судах и палатах. Когда дело перешло в Общее собрание, то великий князь перед заседанием призывал меня в кабинет и настоятельно выражал желание, чтобы я не протестовал, указывая на то, что государь уже меру эту одобрил. По этому случаю я имел весьма неприятный и грустный разговор с великим князем и не отказался от права своего выражать свое мнение. В Общем собрании вышло разногласие: с мнением, которое я поддерживал, согласилось несколько членов, более, чем можно было ожидать, ибо все знали, что этот вопрос уже решенный. Государь, конечно, утвердил мнение большинства, и эта бессмысленная и на практике невозможная подсудность теперь уже превратилась в закон. Но я уверен, что ненадолго, ибо все неудобства ее скоро обнаружатся.
Вторая мера, о присяжных поверенных, даже не дошла до Общего собрания. Пален взял назад свое представление после суждения в департаменте. Он слишком «морализован» и, вероятно, не останется министром юстиции. Тимашев и Валуев, со своей стороны, сильно на него нападали, хотя в предварительном совещании сами вызвали его на эту меру. Говорят, Пален ждет только отмены Кассационным департаментом приговора по делу Засулич, чтобы подать в отставку.
Депеша 20-го мая.
«Сегодня в уголовном Кассационном департаменте Правительствующего Сената, в составе 25 господ сенаторов, слушался кассационный протест товарища прокурора Петербургского окружного суда г. Кесселя по делу Засулич. Председательствовал первоприсутствующий сенатор Μ. Е. Ковалевский, дело докладывал сенатор П. А. Дейер, заключение давал исправляющий должность обер-прокурора Η. Н. Шрейбер, который полагал отменить решение суда и присяжных заседателей. Публики в зале заседания собралось весьма много, не считая даже тех, которых впускали по билетам. Защитник Засулич — присяжный поверенный Александров — представил свои возражения.
Правительствующий Сенат по делу Засулич определил: решение присяжных заседателей и решение суда за нарушением 575 и 576 статей Устава уголовного судопроизводства отменить и дело передать для нового рассмотрения в Новогородский окружной суд».
Это решение не имеет никакого значения, потому что подсудимая скрылась и ее не могут никак отыскать, да, вероятно, и не ищут, ибо было бы глупо начинать опять это несчастное дело.
На Берлинских конференциях[366], по всем газетным известиям, нас топчут в грязь. Стыдно и плачевно читать, какую роль играют наши дипломаты…
Аксаков прислал мне из Москвы речь, сказанную им в Славянском комитете[367]. Вот она.
Речь, произнесенная
председателем Московского славянского благотворительного общества
в общем собрании членов 22-го июня
Милостивые государи.
Надгробным словом начались наши последние два собрания. Четыре месяца тому назад хоронили мы человека[368], знаменитого дарованиями, самоотверженно послужившего святому русскому делу — делу освобождения и созидания славянского мира. Мы оплакивали преждевременную смерть гражданского устроителя вновь исхищенной из турецких когтей Болгарии, последовавшую в самый день подписания Сан-Стефанского договора, и прославляли имя, связавшее себя неразрывно с одним из «величайших христианских деяний современной истории». В самом деле, вся Болгария была призвана к новой жизни, не было уже ни одного христианина-раба на всем пространстве болгарского расселения от Дуная до Марицы.
Не опять ли хоронить собрались мы сегодня, но уже не человека, а миллионы людей, целые страны — свободу болгар, независимость сербов? Хоронить великое, святое русское дело, заветы и предания предков, наши собственные обеты, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совесть?
Нет, нет и нет… Скажите вы все, здесь собравшиеся, неужели это не сон, не просто страшные грезы, хотя бы и наяву? Неужели и впрямь на каждом из нас уже горит неизгладимое клеймо позора? Не мерещится ли нам все то, что мы видим, слышим, читаем?
Или наоборот, прошлое было грезой? Галлюцинация, не более как галлюцинация все то, чем мы утешались и славились еще менее полугода тому назад… и пленные турецкие армии под Плевной, Шипкой и на Кавказе, и зимний переход русских войск через Балканы, и геройские подвиги наших солдат, потрясшие мир изумлением, и торжественное шествие их вплоть до Царьграда, — эти необычайные победы, купленные десятками тысяч русских жизней, эти несметные жертвы, принесенные русским народом, эти порывы, это священнодействие народного духа, — все это сказки, миф, порождение распаленной фантазии, может быть, даже измышление «московских фанатиков»? Не было ни побед, ни победоносных вождей, ни пролитой русской крови, ни избиения турками христиан, ни избавления русскими христиан… Однако же полсотни тысяч солдат, раненных, больных, изувеченных, призреваются теперь на всем пространстве России, однако победоносные вожди возвратились и всенародно, во свидетельство русских побед возведены в сан фельдмаршалов[369]… Это уже, кажется, не мечта, а действительность. Однако еще недавно, в самом Петербурге, с флагами, пением народного гимна на улицах, с торжественным молебном и пальбою из Петропавловской крепости праздновалось официальное обнародование Сан-Стефанского договора, скрепленного подписью нашего Кабинета и ныне разрываемого в клочки.
Но если все это было, возможно ли же быть тому, что есть, что творится теперь там, на Конгрессе, что служит прямым отрицанием, противоречием, надругательством всему бывшему? Ужели хоть долю правды должны мы признать во всех этих корреспонденциях и телеграммах, которые ежедневно, ежечасно на всех языках, во все концы света разносят теперь из Берлина позорные вести о наших уступках и, передаваясь в ведение всего народа, ни разу не опровергнутые русской властью, то жгут его стыдом и жалят совесть, то давят недоумением. Какую же картину рисуют перед ним все эти публичные сказания? Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, молишь простить тебе твои победы? Едва сдерживая веселый смех, с презрительной иронией похваляя твою политическую мудрость, западные державы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, склоняешь под нее свою многострадальную голову…
Ложь, если в таком чудовищном образе и представляется Россия из берлинских писем и телеграмм, то самая чудовищность служит лучшей порукой, что этому не бывать. Не то чтобы мы сомневались в справедливости сообщений о замыслах и притязаниях Англии с Австрией, руководимых пресловутой маклерской честностью[370] германского канцлера. Нисколько. Кривде и наглости Запада по отношению к России и вообще к Европе Восточной нет ни предела, ни меры этой исторической аксиомы, как и никаких уроков истории не ведают только русские дипломаты да петербургские руководящие сферы…
Более чем вероятными — увы — признаем мы также сообщения о действиях наших представителей на Конгрессе: навеки не забыть нам услуг, оказанных русской дипломатией России в эти последние два года. Но каких бы щедрых уступок во вред России и к выгоде наших врагов ни натворили русские дипломаты, разве Россия, в лице своего верховного представителя, сказала свое последнее слово? Не верим, чтобы все эти щедроты на счет русской крови и чести были одобрены высшей властью; не верим и не поверим, пока не появится о том официальное правительственное извещение.
Но даже и предположить подобное извещение было бы преступлением против достоинства власти…
И в самом деле, мыслимо ли, чтобы весь этот колоссальный абсурд, эта ошеломляющая нелепость решений Конгресса, это сплошное надругательство над Россией могло бы когда-либо стать совершившимся фактом?..
Посудите сами: из-за чего возгорелась война, из-за какого ближайшего повода? Из-за турецкой повальной резни, совершенной над населением Болгарии. Какая главная возвещенная задача войны? Вырвать болгарское племя из-под турецкого ига. Никакая и никогда война не возбудила такого всеобщего на Руси сочувствия и одушевления, не вызвала столько жертвоприношений любви, не заслужила названия «народной», как именно эта война, благодаря именно этой задаче. При переходе наших войск через Дунай императорская прокламация объявляет болгар свободными. Немедленно, по высочайшей воле, полагается[371] правильное начало гражданской организации края и всюду, по мере его занятия, вводится нами не временное военно-полицейское, а прочное гражданское управление. После исполинских усилий русские войска преодолевают Балканы, русские власти водворяют новый строй и по всей южной Болгарии. Сан-Сте-фанским договором, скрепленным подписью императора России и подписью самого турецкого падишаха, вся Болгария по обе стороны Балкан возводится в княжество. Российский императорский верховный комиссар торжественно водворяется в главном южно-болгарском городе Филиппополе и делает уже приготовления к созыву народного собрания…
Поверила, наконец, несчастная страдалица-страна своему избавлению, с радостью отдалась вере в свою будущность, вздохнула свободно — и вдруг… С соизволения той же самой великодушной избавительницы России, как по живому телу, распиливается Болгария на две части, и лучшая и плодороднейшая ее часть, та именно, которая наиболее истерзана, осрамлена турецкими зверствами, возвращается в турецкое рабство… Русские же победоносные войска, те самые, что ценою своей крови добыли свободу Болгарии, приглашаются вновь закрепостить их побежденному извергу и, так сказать, собственноручно отвести христианских жен на поругание, детей на посрамление, всех на лютую турецкую месть за то, что верили в русскую власть, за братское сочувствие к русским…
А еще в Петербурге, как пишут в газетах, многое множество легкомысленной военной молодежи и всяких государственных недоростков, вращающихся в петербургских гостиных, позволяют себе повально глумиться над болгарами и бранить их <за> недостаток будто бы доверия и радушия к русским… Не говоря уже о том, как несправедливо, как бессердечно относиться таким образом на оснований частных случаев огульно ко всему народу, да еще к народу нравственно забитому, удрученному пятивековым гнусным рабством, спрашиваешь их: как, по их мнению, после всех наших торжественных и нарушенных обещаний достойны оказываемся мы любви и доверия болгар?..
Бедный русский солдат, тебе стыдно будет и глаза поднять на этих твоих «братушек»… за что же, благодаря русской дипломатии, будешь ты заклеймен в памяти болгарского народа ненавистным названием предателя….
И осмелится кто-нибудь поверить, чтобы такие результаты Конгресса были освящены согласием русской власти… Да что же такое случилось?.. Не претерпели ли мы поражения, страшного, поголовного, хуже даже Седана, потому что и после Седана Франция не пошла на мир и отбивалась пять месяцев. Ничего не случилось, только притопнул лорд Биконсфильд[372] да Австрия погрозила пальцем: так, по крайней мере, повествуют наши газеты. Русская дипломатия, пожалуй, и могла испугаться, но только она одна, и никто больше…
Все это тем более невероятно, что русскому правительству менее, чем кому-либо, можно убаюкивать себя надеждою, что участь южных болгар вполне обеспечивается назначением христианского губернатора и введением некоторых реформ. Оно слишком богато историческим опытом, да и не оно ли само, на Константинопольской конференции с такою силою обличало несостоятельность всех гарантий такого рода? Тем более, что Англия не дозволила истолкования этих реформ в широком смысле административной автономии и допустила их единственно приличия ради и для облегчения России ее политического отступления. Не только не в интересе Англии оградить южных болгар от всякого посягательства на их права личные и общечеловеческие, но вся задача поставленного ею на Конгрессе вопроса в том только и состоит, чтобы вытравить их из южной Болгарии, всякий след болгарской народности уничтожить. Ей запрещается даже и именовать себя Болгарией. Ведь христианским губернатором может быть назначен и англичанин вроде Бекер-Паши и известного английского консула бол-гароубийцы. Ненависть и ожесточение британского первого министра к Болгарии, невинной виновнице последней войны, доросли до таких размеров, что лорд Биконсфильд не прочь был бы видеть повторение турецкой резни 1876-ГО года, только с меньшим скандалом и в более легальной форме. Он заботливо обеспечил себе возможность повального истребления болгарского в Румелии племени при первом признаке мятежа.
Именно для того, как официально разъяснено самой Англией, чтобы предоставить туркам все средства к немедленному подавлению всякого восстания христиан в самом начале его, по всей южной Болгарии будут тянуться турецкие этапные пункты, и Балканы послужат постоянным местом пребывания турецких полчищ, которые, таким образом, могут во всякую минуту низринуться как в долину Тунджи и Марицы, так и в придунайскую Болгарию. Признаки мятежа… Да и теперь в Румелии только присутствие двухсоттысячной русской армии едва-едва сдерживает взрывы мести и озлобления между турками и болгарами… Вот какая перспектива открыта решением Конгресса для болгарского населения, а официозный, на казенные деньги издающиеся в русской столице орган чужестранных интересов — «Журнал С.-Петербургский»[373], смеет извещать, что России нечего беспокоиться, что ее жертвы принесены не напрасно, что свобода и безопасность христиан вполне обеспечены… Бывают самообольщения, хотя и грубые, но искренние и невольные: они еще могут служить каким-то извинением человеку. Им нет места в настоящем случае: здесь может быть только один вольный, преступный обман собственной совести.
Не такова совесть русского народа. И если после не совсем торжественной ретирады императорского комиссара из Филиппополя в Тырново, после удаления русских войск за Балканы возобновятся случаи турецкого зверства, и вновь прольется христианская кровь, и вновь надругается турок над христианскими женщинами, и дойдет о том до слуха России, не воспрянет ли она, как уязвленная, вся, как один человек, и ринется, посылая проклятия своим дипломатам…
Ринется?.. Как бы не так. Именно против этих великодушных русских народных порывов и приняты меры лордом Биконсфильдом сообща с русскими дипломатами. Британский министр, с бесцеремонностью сознающий свои силы, так прямо и объявил, что вся его задача — оградить Турцию от новой победоносной русской войны, как бы там ни мучились христиане. Одним словом, что весь Конгресс — не что иное, как открытый заговор против русского народа. Заговор с участием самих представителей России… Так как опыт показал, что Балканы, считавшиеся до сих пор непреодолимою естественною преградою, не могли сдержать стремления наших войск, то, по решению Конгресса, по всему Балканскому хребту будут возведены, конечно, с помощью английских денег и инженеров, такие турецкие укрепления с надежными турецкими гарнизонами, которые сотворили бы из Балкан твердыню, действительно непреоборимую.
Вот к чему послужила вся балканская отрада русским солдатам. Стоило для этого отмораживать ноги тысячами во время пятимесячного Шипкинского сидения, стоило гибнуть в снегах и льдинах, выдерживать бешеные атаки сулеймановских полчищ, совершать неслыханный, невиданный переход через досягающие до неба скалы. Не успели герои Шипки, имя которой стало так любезно, так сродни народному слуху, не успели они вернуться домой и утешиться благодарностью соотчичей, как воочию перед ними, против них же, русских солдат, преодоленные ими преграды обращаются в непреодолимые… Без краски стыда и жгучей боли нельзя уже будет теперь русскому человеку даже произнести имя Шипки, Карлова, Баязета и всех тех мест, прославленных русским мужеством, усеянных русскими могилами, которые вновь теперь передаются туркам на осквернение… Добром же помянут эту кампанию и русских дипломатов возвратившиеся солдаты.
И мы отважимся поверить, что на все это последовало одобрение верховной власти? Никогда…
Наша дипломатия хочет утешиться тем, что она добилась на Конгрессе: возведения Придунайской Болгарии в княжество. О, простота, простота… Неужели можно думать, что после такого открытого заявления своих замыслов Англия и Австрия позволят свободное и самостоятельное, в национальном духе, развитие Придунайского болгарского края? Неужели можно ожидать, что Англия и Австрия не примут всех нужных им мер для того, чтобы парализовать всякое значение этого княжества и поработить его себе в политическом и экономическом отношении? Англия уже заявила свое требование участвовать в гражданской организации княжества.
Затем все второстепенные подробности, все «детали» решено установить после Конгресса посредством особых комиссий и посольства в Царьград: уступив в главном, стоит ли препираться о мелочах? Русские дипломаты за мелочами гоняться не любят. Но сеть мелочей, систематически сотканная Англией и Австрией, так окутает Придунайское болгарское княжество, как будто оно сжато железными обручами, и не высвободиться ему из них.
Да меры уже и приняты. Если Сан-Стефанский договор, по сознанию всего русского общества, грешил явною несправедливостью по отношению к Сербии,
Боснии и Герцеговине, то Конгресс взялся исправить эту ошибку. Сербии при-нарежется несколько квадратных миль, но зато австрийские войска вступят в Боснию и Герцеговину. С умилительным единодушием все державы, исключая Турцию, но не исключая России, благословили Австрию на оккупацию, без сомнения бессрочную, этих двух славянских земель, а потом на подчинение себе, в той или иной благовидной форме, в военном, политическом и экономическом отношении и независимой Сербии, и независимой Черногории, и всей балканской продольной полосы полуострова, вдоль Западных границ Болгарии вплоть до Эгейского моря. Русская дипломатия видит в этом даже какое-то особенное торжество своей политики, и с увлечением, которому граф Андраши даже не вдруг поверил, приветствовали, как новую эру, разграничение влияний Австрии и России на Балканском полуострове.
Нет таких и слов, чтобы заклеймить по достоинству это предательство, эту измену историческому завету, призванию и долгу России. Согласиться на такое решение — значит подписать свое самоотречение как главы и верховной представительницы славянского и всего восточнохристианского мира, значит утратить не только свое обаяние, не только сочувствие, но и уважение славянских племен, наших естественных, наших единственных союзников в Европе. Свобода, самобытное развитие и преуспевание духовных стихий для славян только в единении любви с русским народом… Иначе решает русская дипломатия. Для того только православный русский народ, единый, могучий и независимый из всех славянских народов, для того только и пролил ты свою драгоценную кровь, принес в жертву сотни тысяч твоих сынов, для того ты разорялся и временно обнищал, стяжал себе поистине венец страстотерпца и мученика, чтобы собственными победами унизить себя как славянскую державу, расширить владения, умножить силу врагов твоих и всего славянства и подчинить православных славян господству немецкой и католической стихии… Напрасный мученик, одураченный победитель, — полюбуйся на свое дело…
Если во время Константинопольской конференции мы говорили в таком же собрании, что щеки пылают у России от получаемых ею пощечин, что же сказать теперь, при этих ежедневных, торжественных заушениях?
А русские дипломаты, если верить газетам, только расписываются в получении и просят взамен для России лишь аттестата о «бескорыстности». Поистине бескорыстно, и в аттестате им не отказывают.
Слово немеет, мысль останавливается, пораженная перед этим колобродством русских дипломатических умов, перед этой грандиозностью раболепства… Самый злейший враг России и престола не мог бы изобрести чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира. Вот они, наши настоящие нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни предания, которые, как нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и К°, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого национального чувства. И те и другие — иностранцы в России и поют с чужого европейского голоса; и те и другие чужды своего народа, смотрят на него как на Tab и 1 a rasa[374], презирают его органические духовные начала, стараются сдвинуть его с пути, заповеданного ему историей, и направить насильно на путь противоестественный. Все они — близкая друг другу родня, порождения одного семени, хотя и различествуют бытом, воспитанием и нравом, доктринами и, главное, степенью самосознания. Предоставляю вам самим решить, кто же, однако, из них, сознательных и бессознательных, грубо анархических и утонченных государственных нигилистов, — в сущности, опаснее для России, для ее народного духовного преуспевания и государственного достоинства.
Неужели же, в самом деле, Турции, грозящей в своем смелом сопротивлении обратить в ничто всемудрый Конгресс, суждено явиться ангелом-спасителем русской чести?
Нет, что бы ни происходило там, на Конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее вечный оберегатель, он же и мститель… Если в вас, при одном чтении газет, кровь закипает в жилах, что же должен испытывать царь России, несущий за нее ответственность перед историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны «святым», не он ли, по возвращении из-за Дуная, объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских народов, что святое дело будет доведено до конца? Страшны ужасы брани, и сердце государя не может легкомысленно призывать возобновления смертей и кровопролития для своих самоотверженных подданных, но не уступками в ущерб совести и чести могут быть предотвращены эти бедствия. Россия не желает войны, но еще менее желает позорного мира. Спросите любого русского из народа, не предпочтет ли он биться до истощения крови и сил, только бы избежать сраму русскому имени, только бы не предать христиан-братьев… Еще не стыдно уступить превосходной соединенной силе врагов, после долгих героических побоищ, как уступили мы в 1858-м году, без урона для своей славы, как уступила недавно Франция. Но уступать предупредительно, без боя и выстрела, это было бы уже не уступкою, а отступничеством. Да и кто бы в Европе действительно теперь отважился на войну? Не Англии же, в самом деле, с ее индийскими чудищами можем мы опасаться на суше, а от войны на море она потерпит сильнее, чем мы. Не Австрия же, у которой, по выражению покойного Тютчева, все тело — ахиллесова пята, которая войны с Россией пуще всего боится, потому что только от одной решимости России зависит вызвать на свет божий «Австрийский вопрос». Несокрушим и непобедим русский царь, если только он с ясностью исторического сознания, с твердою верою в предназначение своего народа, отложив в сторону попечение об интересах западноевропейских держав, интересах своекорыстных и нам враждебных, возденет, по выражению наших древних грамот, «высоко-грозно и честно» в своей длани знамя славян и всего восточного христианства.
Волнуется, ропщет, негодует народ, смущаемый ежедневными сообщениями о Берлинском конгрессе, и ждет, как благой вести, решения свыше. Ждет и надеется.
Не солжет его надежда, потому что не переломится царское слово: «святое дело будет доведено до конца».
Долг верноподданных велит всем нам надеяться и верить, долг же верноподданных не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающие средостение между царем и землею, между царскою мыслью и народною думою. Неужели и в самом деле может раздаться нам сверху в ответ внушительное слово: «Молчите, честные уста», «гласите лишь вы, лесть да кривда»…
Эта речь была сказана прежде, чем были известны протоколы Берлинской конференции, и прежде ратификации самого договора. Она была, несмотря на запрещение, напечатана в «Гражданине», за что газета эта была приостановлена на 6 месяцев. Несмотря на сомнения Аксакова, выраженные им в последних словах его речи, «раздалось сверху внушительное слово: молчите, честные уста».
Сперва ему объявлен был через московского военного губернатора, по высочайшему повелению, строгий выговор. Потом велено было отправиться в деревню и оттуда не выезжать, а потом велено было совсем закрыть московский Славянский комитет. Раздражение против Аксакова в высших административных сферах не имеет предела. Сознание бесплодности подобных одноличных резких заявлений должно было бы, по-моему, удержать Аксакова от публичного выражения справедливого негодования в столь резкой форме. То, что сказано в речи, все это повторяется во всей России на все лады. Факты сами по себе так громко говорят, что общество не нуждается в их разъяснениях. Война обнаружила беспримерную силу русских войск и силу народного духа, но вместе с тем обличила перед всей Россией полную несостоятельность правительства и его дипломатии. Она доказала ясно то, в чем я не сомневался в начале войны, а именно, что война начинается и ведется без определенной мысли и для целей отвлеченных, к которым со стороны правительства нет ни малейшего сочувствия[375], что идут защищать народность, которую презирают, охранять веру, к которой более чем равнодушны, племя, к которому стыдятся принадлежать. Когда, наконец, пришло время формулировать, в чем же, наконец, заключаются нравственные и материальные интересы России в восточном вопросе, тогда ясно обнаружилось, что лица, стоящие во главе правления, не только не сочувствуют и не понимают этих интересов, но прямо столько же им враждебны, как англичане и австрийцы. Этим вполне объясняется легкость, с которой делались все уступки. В глазах государя самым существенным сделался вопрос о возвращении нам части отторгнутой от нас в его царствование Парижским трактатом Бессарабии. Это удовлетворило его личному пониманию чести царствования, и он за этот вопрос стоял твердо, и дипломаты наши только об этом заботились. И этого достигли: все прочее им представилось делом пустым — выдумкою Аксакова и К°.
Слепое и ни на чем не основанное доверие в силу политического союза с Пруссией и Австрией вызвало с нашей стороны желание конференции, на которую мы в действительности явились как подсудимые, не имея за себя ни одного голоса. Правда, что, допустив англичан войти в Дарданеллы и остановив движение наших войск в Галлиполи и в Константинополе, мы уже окончательно и безвозвратно потеряли дело, но самая эта капитальная ошибка была последствием шаткости сознания цели войны и действительного расположения к нам наших союзников. Англичане ясно сознавали, в чем заключаются их интересы на Востоке, а потому действовали смело и решительно. Мы же, напротив, как бы ощупью <шли> по дороге, не ведая, куда она нас приведет и зачем мы идем. История обнаружит всю крайность нашего несчастного заблуждения. Можно бы было приписать какому-нибудь особому чуду, ежели бы в царствование Александра Николаевича, которому инстинктивно противны все национальные начала, министры, подобные Горчакову, Уварову, Тимашеву, Валуеву и Грейгу и проч. и проч., могли бы осуществить какую-либо заветную мысль русского народа и идти по стопам Петра и Екатерины. Подняв знамя славянства, передать охрану его людям, прямо враждебным, — значит надеяться на какое-нибудь сверхъестественное чудо. Я, признаюсь, в начале войны несколько на это надеялся. Мне казалось, что Бог так все устраивает, чтобы ни в ком не осталось бы ни малейшего сомнения в непосредственном вмешательстве его в судьбы русского народа. Но чуда этого не последовало, а вот теперь на Аксакове вымещается вся злоба, накопившаяся в наших правителях на славянский вопрос. К общему чувству негодования за унизительные условия мира и за торжество англичан присоединяется, однако, также общее желание скорейшего наступления мирного времени. Усталость и, главное, отсутствие всякого доверия к правительству останавливает воинственные порывы самых воинственных людей. Газеты наполнены статьями, в которых выражается негодование против Англии и указывается на непрочность мира. Войска также устали и желают скорейшего возвращения на родину. Поэтому можно ожидать, что война прекратится, только, конечно, ненадолго.
Говорят, государь получил по городской почте следующие стихи:
Свершилось. Опять на съеденье зверям Европой мы брошены, братья, И скоро вослед вновь послышатся нам И стоны, и плач, и проклятья… Великий предательский подвиг свершен… Ликуйте же вы, мужи совета… Христос вами снова к кресту пригвожден… Жидами — и в честь Магомета… И Вы, Вы, любимцы врагов и молвы, Вы с именем Русским ликуйте, Как Иуда бессмертен — бессмертны и вы, Победу врагов торжествуйте… Ура… Вы сумели низвергнуть во прах, В кровавую грязь затоптали Венец лучезарный, что в грозных боях Орлы наши кровью стяжали.Берлинский договор будет объявлен указом Сената, но без манифеста.
Граф Пален подал в отставку, и она принята. На место его назначен министром юстиции статс-секретарь Набоков, бывший некогда моим товарищем по училищу, а потом приглашенный мною в вице-директора Комиссариатского департамента Морского министерства.
Все время служения моего по Морскому министерству он был при мне вице-директором, и по выходе моем из сего министерства занял должность мою директором. Потом, когда великий князь Константин Николаевич был назначен в Варшаву[376], он взял Набокова к себе в качестве секретаря. По возвращении великого князя он состоял при нем, а когда Николай Алексеевич Милютин заболел, то Набокову поручено <было> занять его место начальником канцелярии Управления по делам Царства Польского. В этом звании он состоял до прошедшего года, т. е. до упразднения этой канцелярии, после чего он сделан был членом Государственного совета. Выбор Набокова при настоящих обстоятельствах можно считать удачным. В обществе и Министерстве <юстиции> очень рады этому назначению, особенно потому, что слух прошел о назначении на пост министра юстиции князя Ливена — товарища министра государственных имуществ, заслужившего к себе всеобщее нерасположение и неуважение.
Набоков принадлежит к школе людей, работавших в первое десятилетие настоящего царствования; без особенно блестящих способностей, в нем есть добрые начала, которые он не утратил, несмотря на то что удержался в управлении при всех переменах в людях, последовавших в последнее десятилетие. Он этому обязан частью скромности своих способностей и скромностью своего положения. Его в России не знают, он не имел в России никакой репутации, не принадлежал ни к какой партии. Государь к нему привык, так как он имел у него доклад по делам Царства Польского, он считает его лично ему очень преданным, что в его глазах составляет главное и будто бы в настоящее время редкое достоинство. Особенно выдаваться какими-либо способностями ни в дурную, ни в хорошую сторону Набоков не будет, а потому, ежели будет здоров, то, вероятно, долго усидит на своем месте. С давнего времени я нахожусь с Набоковым в самых дружественных отношениях. Мы с ним в свое время много работали вместе в Морском министерстве, когда это министерство стояло во главе всех реформ и занималось вопросами, не до одного морского дела относящимися, но принимало на себя инициативу и разработки всех общих государственных вопросов. Это время останется надолго памятным, и оно оставило по себе заметный след в истории. Люди того времени хотя и не обладали равными способностями и не имели равного успеха, но, несомненно, движимы были равными чувствами и стремлениями к общему благу. Характер этой деятельности совершенно изменился, и, к сожалению, в деятелях настоящего времени преобладает стремление совершенно иного свойства. Набоков принадлежит к числу людей, в которых еще не иссякла живая струя, оплодотворяющая человека. Он не обратит себя всецело на потворство всякой лжи для личных честолюбивых целей. Насколько способности его ему дозволят, он будет служить общему делу, и вот почему я приветствую назначение его на должность министра юстиции.
10-го июня. Вот ряд назначений, о которых объявлено сегодня в газетах.
Именные высочайшие Указы. Правительствующему Сенату.
I.
Нашего статс-секретаря, действительного тайного советника Рейтерна всемилостивейше увольняем, согласно прошению его, по расстроенному здоровью, от должности министра финансов с оставлением членом Государственного совета и в звании статс-секретаря.
II.
Государственному контролеру, сенатору, нашему генерал-адъютанту, полному генералу Грейгу всемилостивейше повелеваем быть министром финансов с оставлением в званиях генерал-адъютанта и сенатора.
III.
Государственному секретарю, статс-секретарю нашему, действительному тайному советнику Сольскому всемилостивейше повелеваем быть государственным контролером с оставлением в звании статс-секретаря.
Государственному совету.
Нашему статс-секретарю, управляющему делами Департамента законов Государственного совета и Особого присутствия о воинской повинности, тайному советнику Перетцу всемилостивейше повелеваем быть государственным секретарем с оставлением в звании статс-секретаря.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
Александр.
В Царском Селе.
7-го июля 1878-го года.
Об отставке Рейтерна давно уже говорили[377], но о назначении ему преемника мнения были различны. Все эти назначения были замечательны и вполне характеризуют время, в которое мы живем.
Рейтерн выходит из министерства с честным именем и с доброю памятью. Он вполне заслужил следующий рескрипт:
Высочайшая грамота.
Нашему статс-секретарю, члену Государственного совета, действительному тайному советнику —
Михаилу Рейтерну.
С искренним сожалением, снизойдя на просьбу Вашу об увольнении Вас, по расстроенному трудами здоровью, от должности министра финансов, мы вменяем себе в сердечный долг почтить воспоминанием доблестную деятельность Вашу, и в особенности те важные услуги, которые Вы оказали государству в течение 16 лет управления министерством финансов. Вы были призваны в министры в трудное время, когда, вследствие оконченной недавно перед тем войны и обширных внутренних преобразований, требовались чрезвычайные усилия, дабы вывести финансы империи на путь правильного развития. К выполнению возложенной на Вас задачи Вы приступили с твердою верою в будущность России, с ясно сознанною мыслью, что благосостояние государственного хозяйства зиждется на богатстве народа и обусловливается увеличением производительных сил его. Рядом мер, по указаниям нашим, Вами непосредственно или при ближайшем содействии Вашем настойчиво и неуклонно приведенных в исполнение, достигнуты были замечательные результаты: в несколько лет построена обширная сеть железных дорог; промышленное и торговое движение приняло небывалые дотоле размеры; государственные доходы стали быстро возрастать, и ежегодный избыток их против расходов сменил прежние хронические дефициты наших бюджетов; наконец, кредит государства, несмотря на увеличившуюся сумму обязательств казны, значительно возвысился и упрочился. Благодаря сим успехам страна могла вынести и огромные тягости последней войны с непоколебимым доверием и внутри, и извне к ее силам.
Признавая справедливым ознаменовать столь плодотворное по своим последствиям достославное служение Ваше изъявлением особенного нашего благоволения, мы пожаловали Вас кавалером императорского ордена нашего святого апостола Андрея Первозванного, знаки коего, при этом препровождаемые, повелеваем Вам возложить на себя и носить по установлению. Знаки сии, свидетельствуя перед лицом России о государственных заслугах Ваших, да будут для Вас выражением и нашей душевной признательности за неутомимо-ревностные, просвещенные, блестящими успехами отмеченные труды Ваши на пользу престола и отечества.
Пребываем к Вам императорскою нашею милостью неизменно благосклонны.
На подлинной собственною его императорского величества рукою подписано:
Александр.
В Царском Селе.
7-го июля 1878 г.
Об отставке Рейтерна я узнал в деревне, куда ездил на днях. По возвращении в Петербург я написал Рейтерну письмо следующего содержания:
«Вчера, по возвращении из деревни, почтенный Михаил Христофорович, прочел я рескрипт, Вами полученный. Он порадует всех честных людей, хотя в нем не сказано того, чем особенно отличалась Ваша государственная деятельность и чем умели Вы приобрести доверие, любовь и уважение всей России. В Москве и в провинции слух о Вашем выходе из министерства уже пришел, и я могу Вам засвидетельствовать, что такого искреннего и единодушного отзыва о высоких качествах человека я давно не слыхал.
От всей души поздравляю Вас, почтенный Михаил Христофорович, и с монаршей наградой, и с честною памятью, оставляемою Вами в министерстве. Лично я никогда не забуду все, чем я Вам обязан. Примите мою искреннюю, сердечную благодарность за искреннюю дружбу, за то внимание, которым я пользовался, служа под начальством Вашим. Все время этой службы я считаю лучшим временем моей жизни, и это потому, что, сочувствуя Вашему благородному направлению, я думаю, что со своей стороны также успел принести некоторую пользу. Круг деятелей нашего понимания редеет, мы начинаем уже жить воспоминаниями. В моей памяти Вы живете светлым и отрадным воспоминанием. Теперь уже, вероятно, Вы очень заняты, но на днях я явлюсь к Вам, чтобы лично поздравить Вас».
В ответ на это письмо я получил от Рейтерна следующее:
«От души благодарю Вас, любезный князь Димитрий Александрович, за Ваше письмо. Я вступил в период воспоминаний и все эти дни думал о том, что я прожил эти годы, не без грусти, но вместе с тем часто вспоминал о Вас и невольно считал Вашу дружбу приобретением неотъемлемым, мне принадлежащим.
От души Ваш — М. Рейтерн».
То, что я писал Рейтерну, то истинно думаю. Мне подробно известна вся прежняя служба и, можно сказать, вся жизнь Рейтерна. Он окончил курс в Лицее и поступил на службу в Министерство юстиции, служил в Сенате. Когда Головний начал подбирать людей, чтобы формировать управление в Морском министерстве для великого князя Константина Николаевича, с целью окружить его, по возможности, честными и дельными людьми, он пригласил Рейтерна, почти единовременно со мною, поступить в Морское министерство, предварительно предупредив его, чтобы он особенно занялся финансового частью, так как желательно было бы образовать из Рейтерна будущего финансового деятеля. В Морском министерстве Рейтерн сперва занимался в Строительном департаменте преобразованием системы, изменением квартирного довольствия и потом, по окончании войны[378], Рейтерн командирован был за границу в Европу и Америку для изучения финансов. По возвращении его в Россию ему поручено было заведование эмеритальной кассой Морского ведомства, между тем он продолжал заниматься финансами и при содействии графа Нессельроде и князя Орлова назначен производителем дела в Комитете железных дорог и в Финансовом комитете. После увольнения Княжевича Рейтерн был назначен управляющим Министерством финансов, а я на место его был назначен управляющим эмеритальной кассой Морского ведомства. Теоретическое образование Рейтерна давало ему полное право на должность министра финансов. Но малое знакомство с Россией возбуждало во многих опасения за успех его деятельности. Этот недостаток, однако, пополнялся тем, что Рейтерн добросовестно и внимательно относился к особым явлениям русской жизни и не грешил излишней самоуверенностью, в особенности в первое время. Несмотря на то, коммерческий и финансовый мир наш не был к нему расположен в начале. В особенности после неудачной попытки восстановления ценности кредитного рубля[379] посредством открытия размена. Общее мнение к нему было весьма недоброжелательно, и все действия его подверглись критике. Но скоро все изменилось, в состав министерства были призваны им люди способные и деятельные. Усилия его увеличить производительные силы государства посредством усиленной постройки железных дорог, развития кредита, улучшения тарифа, уравновешения бюджета — увенчались успехом. Рейтерн стал пользоваться большим доверием и уважением в финансовом мире. Личные его качества безусловно этому содействовали. Он — человек честный, правдивый, на слова которого можно было всегда полагаться. Одним словом, он человек дела. И ежели бы не особенно невыгодные обстоятельства, при которых приходится действовать министру финансов в самодержавном государстве, в особенности в нынешнее царствование, то результаты деятельности Рейтерна были бы благодетельны.
Преемник его Грейг (генерал) — совершенно иных свойств и качеств человек. На нем стоит остановиться, ибо этот господин есть поистине герой нашего времени и представляет собою тип современных государственных деятелей. Отец Грейга, по народности англичанин, некогда известный и заслуженный адмирал. Мать его — жидовка, самого низшего происхождения, еще и до сих пор жива. По происхождению своему, следовательно, Самуил Грейг связи с Россией никакой не имеет. Воспитывался он в Пажеском корпусе и, по выходе в офицеры в Конногвардейский полк, вместе с графом Петром Шуваловым занимался исключительно балетом, вместе с Шуваловым связались они с танцовщицами, от которых прижили детей. Шувалов впоследствии бросил эту танцовщицу и детей и женился на вдове графа Орлова-Денисова, а Грейг продолжал свою связь, и только года три тому назад, когда дочери его выросли, он женился на своей любовнице, и этот бесспорно благородный поступок, конечно, делает ему честь… С первых шагов своей службы Грейг обнаружил большую ловкость. Умел приладиться к князю Меншикову, который взял его к себе в адъютанты, и он был при нем в начале Крымской войны. Меншиков прислал его к государю Николаю Павловичу с известием о несчастном Альманском сражении. Это известие так поразило Николая Павловича и передано было ему так резко Грейгом, что государь, говорят, в самых строгих словах разразился гневом на него. Другой человек попал бы в немилость после такого приключения, но Грейг сумел повернуть дело в свою пользу и вскоре попал в адъютанты к великому князю Константину Николаевичу. Но прежде этого он вернулся в Крым к князю Меншикову и под Инкерманом был, кстати, контужен в голову, вследствие чего он до сих пор носит фуражку как инвалид и более в военных действиях не участвовал. При великом князе он в первое время занимал должность походного гофмейстера, т. е. заведовал буфетом и проч… но никаким серьезным делом не занимался. Великим князем в то время управлял Головний, и Грейг чувствовал, что ему тут хода не будет. После войны великий князь поехал за границу, а Грейг, неизвестно мне, почему, с ним не поехал и просил великого князя прикомандировать его для занятий в какой-нибудь департамент. Великий князь просил меня взять его к себе, ибо я был тогда директором Контрольного департамента[380] Морского министерства. Предлагая мне Грейга, великий князь сказал мне, что Грейг желает ознакомиться с администрацией и производством дел, а потому просил меня, чтобы во время своего отсутствия я ознакомил его с делом. Я охотно согласился, и Грейг занимался у меня несколько месяцев. В это время он очень часто бывал у меня, и я давал ему читать не только дела, но и книги и часто с ним беседовал о разных общих вопросах. Мне он казался способным, любознательным молодым человеком, и когда по возвращении великого князя Грейг просил меня написать о нем аттестацию великому князю, я засвидетельствовал о его занятиях и прибавил, что он мог бы с пользою быть употреблен по административной части. Вскоре потом Грейг был прикомандирован к Канцелярии Морского министерства, которой управлял тогда граф Толстой[381], нынешний министр народного просвещения. В отсутствие его Грейг замещал его и, мало-помалу входя в доверие великого князя, подвигался, а с назначением адмирала Краббе морским министром Грейг сделался директором Канцелярии. Тут начали они с Краббе хлопотать и интриговать об удалении от великого князя всех лиц, к которым он по Морскому министерству имел доверие. Вели они свои дела так ловко, что скоро, в особенности после назначения Головнина министром народного просвещения, они сделались лицами совершенно полновластными. В это время я тоже перешел в Министерство финансов директором Таможенного департамента. Главным руководителем был Грейг; Краббе, пустой балагур, держался его ловкостью и умением. С удалением всех лиц, близких великому князю, Грейг сделался единственным фаворитом. Чтобы достичь этого, он не пренебрегал никакими средствами и, между прочим, с особенным успехом пользовался слабостями великого князя к прекрасному полу. Он ввел его в балетный мир, и так как великий князь склонен всему предаваться с увлечением, то Грейгу нетрудно было устранить великую княгиню от всякого влияния и положить начало тому семейному раздору, который и до сих пор продолжается. Но все это Грейг делал так ловко, что участие его во всех этих мерзостях было почти незаметно. Между тем приятель его, граф Шувалов, со своей стороны, лез в гору, и несмотря на то, что Шувалов принадлежал к совершенно другому лагерю, чем великий князь, Грейг сумел сохранить с обоими и даже со всеми разнородными личностями приятельские отношения. При этом он не упустил ни одного случая, чтобы внешними и необыкновенными отличиями поставить себя в какое-то исключительное положение. В 60-х годах, когда после упорной, безуспешной борьбы с военным министром за сокращение расходов по Военному ведомству Рейтерн решительно просил государя о своем увольнении[382] и когда на предложенных им двух кандидатов на должность министра финансов — Н. А. Милютина и А. А. Абазу — государь не согласился, то Рейтерн назвал Грейга, и государь сейчас же заявил согласие свое с тем, чтобы Рейтерн взял Грейга на некоторое время себе товарищем, для того чтобы ознакомиться с делами. Впоследствии Рейтерн остался министром, а Грейг при нем товарищем, управляя в отсутствие министра министерством. Я, в качестве директора, ходил к нему с докладом. Будучи совершенно самостоятельным начальником части, я не ощущал ни малейшего неудовольствия, и мы постоянно были с Грейгом в самых лучших отношениях. После смерти Чевкина Абаза — бывший государственный контролер — был назначен председателем Департамента экономии[383], а Грейг — на его место государственным контролером. Судить о способностях и деятельности государственного человека у нас весьма трудно, ибо редко представляются случаи, в которых бы проявилась личная инициатива деятеля.
Во всю мою жизнь Грейг ничего такого не сделал, ничего не сказал, ничего не написал, из чего бы можно было судить о его финансовых или других познаниях. Несомненно только одно, что много потратил ума, энергии, ловкости, находчивости и нахальства для личной своей пользы, и ежели он хотя половину этих качеств приложит к делу, то можно ожидать успеха. Но, к сожалению, на том пути, по которому шел Грейг для достижения личных своих целей, нельзя было не утратить качества, необходимые для государственного человека. Чтобы получить чин полного генерала, единственно ему одному присвоенный (есть генералы от инфантерии, генералы от кавалерии, инженеры-генералы, есть адмиралы, но чин полного генерала имеет только один Грейг, потому что он носит морской мундир, но во флоте никогда не служил); чтобы носить морской мундир адмирала, никогда не будучи моряком; чтобы иметь двух дочерей, прижитых до брака фрейлинами; чтобы ежегодно получать чины, звезды и денежные награды; чтобы со всеми противоположными мнениями быть в согласии и при этом дерзко высказываться, когда нужно, — для всего этого нужно столько ловкости и акробатического искусства, что для дела едва ли останется много честных сил и ума. Особенно замечательна способность Грейга вывертываться из затруднений и обращать их в свою пользу. Разительный пример представляет действие в качестве контролера. В одном из отчетов своих, разбирая действия морского министра, он с изумительною дерзостью и правдивостью изобразил разные неустройства в этот министерстве. В это время
Краббе был еще жив, но лежал разбитый параличом и не мог ни говорить, ни писать. С искусством выгородив великого князя, он всю ответственность взвалил на Краббе, хотя он был главным виновником всего уничтожения флота, ибо они с Краббе действовали заодно. Ежели бы Краббе умер, он не решился бы это написать, ибо государю лично не понравится такое обвинение покойника. Ежели бы Краббе был здоров, он также бы воздержался от обвинения его, боясь его оправданий, но он воспользовался безответным состоянием еще живого человека и показался в глазах государя правдивым контролером, не щадящим даже приятеля.
Несравненно способнее и достойнее во всех отношениях занять место министра финансов было бы Александру Аггеевичу Абазе, ныне занимающему должность председателя Департамента экономии, но именно потому, что все признают за ним эти способности, и что он пользуется известностью, владелец больших имений и потому имеющий связь со страной и принимающий горячо к сердцу ее интересы — именно потому его и не назначают.
Точно так же Островский, как товарищ контролера и как человек, работающий в контроле вместе с основателем его — Татариновым, обладающим большими познаниями по этой части, человек, во всех отношениях почтенный и добросовестный, составивший себе репутацию в России, имел полное право занять место Грейга в Комитете[384], но именно потому, что он обладает этими достоинствами, — он не назначен, а призван на должность государственного контролера Сольский, занимавший до сих пор место государственного секретаря.
Сольский не имеет ни малейшего понятия о контроле, ни вообще о финансах, никогда по этой части не занимался и назначением своим единственно обязан своей бесцветности и неизвестности. Кроме Петербурга, он нигде в России не был, никаких отношений и интересов в крае он не имеет. Он выведен был в люди покойным графом Корфом и принадлежал совершенно к его школе сухих бюрократов-редакторов. Когда он сделан был при Корфе товарищем начальника II Отделения[385], я обрадовался этому назначению, ибо имел случай удостовериться в его способностях как редактора и человека, обладающего даром слова. Я надеялся, что из него выйдет полезный деятель, так как он был тогда еще весьма молодым человеком, но впоследствии я совершенно в нем разочаровался. Он убил все свои способности в бесплодной канцелярской деятельности, утратил всякую самостоятельность и теперь представляет из себя тип высшего петербургского чиновника, в котором угасла всякая искра одушевления. Он принял с удовольствием место контролера только потому, что будет пользоваться хорошим содержанием, квартирой и всеми атрибутами министра. На месте его государственным секретарем назначен Перетц — еврейского происхождения, человек способный для канцелярской работы и больше ничего.
Все эти рекомендации на новые назначения сделаны великим князем Константином Николаевичем, на которого, в свою очередь, влияет та гнусная среда, в которой он теперь вращается. Этот человек, вышед<ший> из рук и влияния хороших людей, сделался теперь решительно одним из самых вредных людей в России. Видит Бог, что я произношу такое резкое и строгое суждение о людях без малейшего озлобленного личного чувства, я не имею ни малейшей претензии на какое-либо деятельное участие теперь в управлении и решительно не принял бы никакого места, на которое прежде мог бы себя считать кандидатом.
Теперь мало общего между мною и всеми другими лицами, стоящими во главе управления. Ни способности мои, ни характер не выдержали бы бесплодной борьбы. Я настолько был близок к центру власти, чтобы убедиться, что власть в настоящее время лишена всякого обаяния. Я для того заношу в летопись мою суждение свое о лицах, чтобы показать, какими путями власть, в форме самодержавной, сама подкапывает свое основание и быстро стремится в пропасть. Теперь можно сказать, что между неспособными и чуждыми России органами правительства и кинжальщиками нет середины.
В течение последних 9-ти или 13-ти лет правительство с таким недоверием и презрением относится ко всему, что только мыслило, чувствовало и возбуждало доверие в России, что все полезные деятели разошлись по своим углам и уровень во всех ступенях управления понизился до ничтожества. При этом те учреждения, которые еще сохраняли за собою некоторый авторитет, как то: Сенат и Государственный совет, лишились всякого значения, а личный престиж власти, представляемый министрами, совершенно утрачен ничтожностью занимавших сии должности людей. Доказательством тому, как низко упало звание министра, может служить тот факт, что Павел Иванович Шамшин, товарищ министра финансов, — человек, который в прежнее время не имел бы протекций и не шел бы дальше должности начальника отделения[386], теперь решительно отказывается оставаться в должности товарища министра, доказывая, что ему оскорбительно и унизительно оставаться в этой должности при новом министре. Он мне это доказывал на днях самым убедительным образом. Но еще удивительнее то, что Грейг не отпускает Шамшина и уговаривает его оставаться, ибо не может найти ему преемника.
Вот до чего мы дожили…
10-го августа. Вот до чего мы дожили… Так кончил я свою последнюю летопись, не предвидя тогда того безобразия, до которого мы действительно дожили:
С.-Петербург, 5-го августа. Правительственное сообщение.
«В 9 часов утра, 4-го сего августа, шеф жандармов, генерал-адъютант Мезенцов, во время обычной своей утренней прогулки шел по Михайловской площади, от часовни у Гостиного двора на Невском, в сопровождении отставного полковника Макарова. На углу Большой Итальянской улицы и Михайловской площади, близ дома кондитера Кочкурова, на него неожиданно бросился неизвестный молодой человек, прилично одетый, в сером пальто и очках, сильно ударил его кинжалом в нижнюю часть живота и побежал по Большой Итальянской улице. За ним в погоню бросился полковник Макаров с криками „держи, держи…“, причем, размахивая зонтиком, бессознательно ударил убийцу. В ту же минуту другой молодой человек, тоже прилично одетый, в длинном синем пальто и в черной пуховой шляпе, с черными усами, выстрелил из револьвера почти в упор в полковника Макарова. Пуля пролетела мимо головы последнего. Оба убийцы, пользуясь многолюдством Итальянской улицы, вскочили на ожидавшие их на Итальянской дрожки, запряженные хорошею вороною лошадью. На козлах сидел молодой кучер с черными усами без бороды. Сев в дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись.
Полковник Макаров, безуспешно кричавший „ловите, держите…“, возвратился к раненому, который, не потеряв присутствия духа, на вопрос испуганных приказчиков Кочкурова „кого ранили?“, отвечал, что рана нанесена ему, причем указал на свою окровавленную одежду. При помощи полковника Макарова и вышедшего из соседнего дома камергера Бодиско генерал-адъютант Мезенцов дошел до угла Малой Садовой, где его посадили на извозчика. Оттуда он доехал до своей квартиры у Цепного моста на Фонтанке. Значительное истечение крови вскоре обессилило раненого. Приглашенный в 11 часов доктор Мамонов, осмотрев больного, нашел его положение весьма серьезным. Весть о катастрофе быстро разнеслась по Петербургу. Изумленная и негодующая толпа народа, собравшаяся на месте происшествия, долго не расходилась, толкуя об ужасном событии. Прибывшие вслед за доктором Мамоновым врачи оказали все должные пособия раненому, но, несмотря на все их усилия, шеф жандармов, генерал-адъютант Мезенцов в 5 часов 15 мин. дня 4-го августа скончался».
С.-Петербург, 7-го августа.
«Отпевание тела генерал-адъютанта Мезенцова назначено завтра в церкви Штаба отдельного корпуса жандармов. Толпы народа приходят поклониться телу.
Лицо покойного выражает полное спокойствие. Вскрытие показало, что удар кинжалом нанесен был опытной рукой и прошел немного ниже последнего ребра с правой стороны груди. В отверстие раны входят свободно два пальца. Печень и часть желудка насквозь пробиты».
Правительственное сообщение
«Ряд возмутительных и преступных деяний, предпринятых горстью злонамеренных людей с целью поколебать существующий в России строй государственного правления, достиг 4-го августа крайней степени злодеяния совершением в здешней столице убийства шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцова. Правительство, несмотря на обнаруживавшиеся по временам проявления пропаганды преступного свойства, с особенным долготерпением направило все подлежавшие дела о пропагандистах путем, указанным законом, воздерживаясь от принятия каких-либо особых чрезвычайных мер.
Ныне терпение правительства исчерпано до конца. Ныне оно считает долгом и своей святой обязанностью по отношению к каждому честному и доброму гражданину русского государства оградить частную общественную жизнь и права собственности от тех правонарушений, которые, по их зловредному и преступному свойству, задерживают спокойное и равномерное развитие государственной жизни и правильное исполнение разнородными органами управления возложенных на них законом обязанностей.
Правительство не может и не должно относиться к людям, глумящимся над законом и попирающим все, что дорого и священно русскому народу, так, как оно относится к остальным верноподданным государя. Еще менее может оно оставаться равнодушным к тем кровавым преступлениям, которыми люди, выделившиеся из среды добрых граждан государства, ознаменовали свою возмутительную деятельность. Требуя прав гражданства своим извращенным, лишенным здравого смысла идеям, они попирают идею о законности и законах государственных; проповедуя свободу, они угрозами и подметными письмами вознамерились угнетать свободу тех, которые исполняют свои обязанности по чувству долга и совести; ратуя за принцип своей личной неприкосновенности, они не гнушаются прибегать к убийству из-за угла…
Ввиду сего, правительство отныне с неуклонной твердостью и строгостью будет преследовать тех, которые окажутся виновными или прикосновенными в злоумышлении против существующего государственного устройства, против основных начал общественного и семейного быта и против освященных законом прав собственности.
Русский народ во всеуслышание провозглашает нарушителей государственного и общественного спокойствия и виновников совершенных преступлений отверженниками и с негодованием отворачивается от их кровавой деятельности. Он громко требует и ожидает защиты от законных властей и просит правительство вырвать с корнем позорящее русскую землю зло.
Представители наших сословных общественных учреждений высказывались уже в том смысле, и целый ряд полученных разными правительственными учреждениями частных писем и заявлений от лиц всех классов населения, не исключая крестьянского, свидетельствует, что население империи возмущено до глубины души деятельностью преступников и пропагандистов лжеучений, чуждых русскому народу.
Но как бы ни были тверды и стойки действия правительства, как бы строго и неуклонно ни действовали исполнители правительственных мер велениям их долга и совести, с каким бы презрением и гражданским мужеством ни относились правительственные власти к повторяемым угрозам шайки злодеев, правительство должно найти себе опору в самом обществе и потому считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений.
Русский народ и его лучшие представители должны на деле показать, что в среде их нет места подобным преступникам, что они действительно считают их отверженниками и что каждый верноподданный русского государя будет всеми зависящими от него мерами способствовать правительству к искоренению нашего общего врага.
В заключение правительство считает свои долгом обратиться к молодому, учащемуся поколению с напоминанием и просьбою зрело обдумать прискорбные и тяжкие последствия, которым оно себя подвергает, увлекаясь распространяемыми в его среде лжеучениями. Добросовестное и здравое отношение к науке, соединенное с трудолюбием, всегда было и будет надежнейшим охранителем от вступления на путь соблазна. Встречавшиеся же до сего дня уклонения от этой непреложной, освященной опытом истины, к величайшему прискорбию, уже сгубили безвременно немало жертв из среды молодых людей, по своим способностям подававшим надежды на более светлую и полезную для общего дела будущность».
Наконец-то взялись за ум. Но как же и взялись…
Что может быть безжизненнее и бесцветнее этого сообщения, и что за странные формы такого обращения, или, лучше сказать, воззвания к обществу. Что такое правительство? Кто оно? Где оно? У нас есть царь, и все обращения или манифесты подобного рода делались к обществу от царя. Редактирующие подобные сообщения не видят, до какой степени смешно употреблять конституционные формы без конституции. Общество приглашается содействовать правительству всеми средствами, но какие средства могут вдруг явиться у общества, у которого до сих пор отнимались все возможные средства чем-нибудь заявлять свою пригодность и способность участвовать в общем деле и к которому до сих пор относились презрительно и подозрительно.
Я уверен, что манифест, хорошо написанный и глубоко прочувствованный, мог бы теперь принести пользу.
Екатерина II отлично понимала силу царского слова, обращенного к народу, и она им пользовалась при всех смутных обстоятельствах. Приведу пример, весьма поучительный и достойный подражания. Какая разница с нынешним бесцветным языком министерских канцелярий!
Манифест императрицы Екатерины II, 4-го июня 1763 г.
Нет в свете государства, о благополучии которых не прилагали бы владетели и правители их всевозможного старания и трудов к восстановлению на высшую степень благоденствия всех живущих в оных обитателей. Нет таких и подданных, кои бы, имея благоразумные мысли, не желали бы себе всякого добра, тишины и спокойствия тем, что благополучие подданных есть прямое и истинное благополучие всех государей. А единодушное и неразвратное попечение прямых сынов отечества о пользе общей, непоколебимое тому утверждение. Мы, со дня самого вступления Нашего на Всероссийский престол, сему правилу и последуем и Богу, содействующему в сердце Нашем, никогда, о пользе и всеобщем добре Наших подданных пещись, яко мать о детях своих, не оставим в чем, да управит и укрепит Нас его же рука святая. Вследствие чего равное же желание и воля Наша есть, чтобы все и каждый из Наших верноподданных единственно принадлежал своему званию и должности, удаляясь от всяких предерзких и непристойных разглашений.
Но, противу всякого Нашего чаянья, к крайнему Нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие развращенные мыслию и нравом люди, которые не о добре общем и о спокойствии помышляют; но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных, и даже до того допускают свои слабости в безрассудном стремлении, что касаются дерзостно своими истолкованиями не только гражданских прав и правительства, и Наших издаваемых уставов, но и самих божественных узаконений, не воображая внятно себе мало, каким таковые непристойные умствования подвержены предо-суждениям и опасностям. И хотя такие зловредные истолкователи правильно заслуживают себе казнь, яко спокойствию Нашему и всеобщему вредные, Мы, прежде употребления в сем случае всей строгости, по природному Нашему человеколюбию, всех таковых, зараженных неспокойною мыслью, матерински увещеваем удалиться от всяких вредных рассуждений, нарушающих покой и тишину, прилежа единственно званию своему и препровождая время не в праздности, или невежестве, или буянстве, но в полезных и свойственных каждому упражнениях на пользу свою и ближнего. А если сие Наше матернее увещевание и попечение не подействует на сердца развращенных и не обратит на путь истинного блаженства, то ведал бы всякий из таковых невеждей, что Мы тогда поступим уже по всей строгости закона, и неминуемо преступники почувствуют всю тяжесть нашего гнева, яко нарушители тишины и презрители Нашей высочайшей воли. Однако, Мы надеемся прежде от всех наших верноподданных, что они, видав нашу к себе материнскую любовь и попечение, взаимною друг другу помощью и с христианскою любовью поживут в спокойствии и тишине и истребят всякую вредность и непристойные званию их развращенные истолкования и, конечно, всех таких речей и выражений неприличных удалятся, к особенному своему спокойствию, а тем самым приобретут себе щедроту и благословение Божие и Нашу Монаршую Милость, доверенность и благоволение, яко умножению всеобщего благоденствия. Всем верно Нам подданным объявляем. Каждый ведает благоразумный и благонамеренный сын отечества, что власть, над ним предержащая, для его же добра, установлена от Бога, которой он повиноваться должен для своего и ближнего своего благоденствия. Почему и оскорбители оные, яко противящиеся Богу, и яко нарушители покоя, суть такие преступники, которых слово Божие и закон гражданский осуждают быть не только извергами своего отечества, но и в роде человеческом нетерпимыми. Мы можем, не похвалиться перед Богом, целому свету сказать, что от руки Божией приняли Всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном Нашем отечестве. К сему достохвальному намерению Мы приступили не словом, но истинным делом, и о добре общем ежедневно печемся, едино полагая то в намерение, чтобы радостью, удовольствием и порядком Наших подданных, принимая Себе оные воздаянием, видеть внутреннюю тишину и благосостояние Нашей империи. Таковым средством Мы желаем прославить Бога, и таковым путем Мы желаем достигнуть вечного Себе от него воздаяния. Но при сих Наших чистосердечных намерениях, к чувствительному Нашему сожалению, нашлись в самом Нашем столичном городе такие неспокойные люди, которые, возненавидя свое и общее блаженство, и будто бы не токмо прилежные изобретатели своего заключения, но и живота своего отчаянные злодеи, презрев страх Божий и не помышляя о потере временного и вечного своего живота, покусились и дерзнули делать умысел к ниспровержению Божия с Нас промысла и к оскорблению Нашего Величества, и тем безумно вознамерились похитить у Богом врученного Нам народа общее блаженство, о котором Мы беспрестанно трудимся с материнским попечением и т. д…
За сим следует рассказ о преступных замыслах Хрущова с товарищами.
Вот каким языком и в какой форме выражалось правительство, т. е. царь, когда между властью и народом была связь и когда в этой связи власть искренно искала опоры. Форма выражения, сила речи имеет огромное значение, по ним безошибочно можно судить об искренности и ясности сознания говорящего. Кто живо чувствует, тот живо и сильно выражается. В сознании всего русского народа правительство, т. е. органы власти, резко отделяются от источника власти, т. е. царя, и можно положительно сказать, что насколько нынешний государь любим и популярен, настолько органы его к себе утратили всякое доверие и уважение. Необычайный призыв такого правительства едва ли произведет какое-либо действие. Оно само объявляет, что терпение исчерпано и что оно ныне с неуклонною твердостью и строгостью будет преследовать тех, которые окажутся виновными или прикосновенными к злоумышлению против государственного устройства, против основных начал общественного и семейного быта и против освященных законом прав собственности. Но правительство это делало и до сих пор. Оно прибегало ко всем экстраординарным средствам преследования. В какой форме ожидает оно теперь содействия общества — остается тайной. Все газеты на разный лад толкуют этот призыв. Все более или менее видят в этом призыве намек на конституционную реформу, а это ужасно сердит авторов воззвания генерала Тимашева и К°. Дело в том, что при настоящем сумбуре в органах правительства всякое действие его, хотя бы по мысли верное, в приложении делается фальшивым, подобно тому как на расстроенном инструменте всякая, даже красивая мелодия звучит фальшиво и не производит никакого эффекта.
Мне случалось в прошедшем году, во время отсутствия государя за Дунаем, быть у императрицы и говорить с нею о социалистическом движении в России по поводу производившегося тогда большого процесса. Я старался особенно обратить внимание императрицы на участие молодых женщин и девиц в этом движении. Я был поражен тем фактом, что в этом движении принимают участие только девицы с высшим образованием, образованных слоев общества и пользующиеся известным достатком. Иные — даже обладающие хорошим состоянием, и многие из них чистейшей нравственности. Нигде, кроме России, мы не видим подобного факта. Есть какая-нибудь причина, по которой у нас женщины восторженно предаются отвлеченной идее, с необычайно твердым характером и волей подвергают себя страшным лишениям и принимают мученический венец. В числе подсудимых по всем политическим процессам пропаганды нет ни одной католички, ни одной протестантки — все русские. Как не обратить внимание и не исследовать причин такого поразительного факта? Для доказательства умственного развития девиц, принимающих участие в пропаганде, я сослался на стихотворения одной из них — девицы Бардиной, приговоренной к каторжной работе. Императрица пожелала прочесть эти стихи и просила прислать их фрейлине Милютиной[387] вместе с запиской моей, составленной уже давно, в которой я сделал краткий исторический очерк возмутительных воззваний в России и принятых в разные царствования мер против них. Я послал эти стихи и записку фрейлине Милютиной при следующем письме:
Посылаю Вам, добрейшая Елизавета Дмитриевна, три стихотворения г-жи Бардиной, присужденной так же, как и г-жа Фигнер, к каторжным работам. Неужели не любопытно и не поучительно было бы знать историю жизни и развития сих несчастных девушек? Кто такая ее мать, которая «в слезах и горе вся изныла»? Ни в предварительном следствии, ни на суде ни слова не было говорено о внутренней психологической жизни этих девушек, а только известно и доказано, что сии ходили в рубищах к мастеровым, с ними жили, терпели насмешки, укоризны и страшные физические лишения, и это продолжалось несколько лет, а теперь на суде не выразили ни малейшего сожаления о своих неудачах и ни малейшего страха ожидаемого их наказания. Как и при каких условиях могли образоваться подобные натуры? К чести или бесчестию тех заведений, где они воспитывались, нужно отнести подобные явления? Ежели г-жа Бардина и Фигнер могли закалиться до такой степени для деятельности вредной, то, может быть, найдутся женщины той же школы, которые направят свои способности и силы на хорошее дело. Одним словом, столько неразрешенных вопросов возбуждают эти неразрешенные явления, что грех было бы оставить их без исследования. Посылаю Вам также записку о прокламациях и тайных обществах, я составил ее уже давно, вскоре после нечаевского дела, и не давал ей никакого хода, ибо знал, что мое предложение легкого телесного наказания возбудить слишком большое негодование, и я в этом не ошибся, слыша сегодня Ваш энергичный протест. Я смиряюсь и покоряюсь перед Вашим гневом, вместо розог придумайте что-либо другое, но на том же основании, как одна знакомая мне целомудренная маменька, читая своим дочкам повесть, заменяла везде слово Amour словом Tambour. Тут не в розгах дело, а в мысли, а главное, войдите в дух и смысл манифестов императрицы Екатерины — это образец власти, опирающейся на нравственную поддержку общества. По прочтении благоволите возвратить мне записку, у меня нет другого экземпляра, и я имею ее переделать.
Преданный Вам,
князь Оболенский.
Стихотворение
Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский, Суди, судья, но проще, поскорей, Без мишуры, без маски фарисейской, Без защитительных речей… Крестьянские вериги вместо платья Одев и сняв преступно башмаки, — Я шла туда, где стонут наши братья, Где вечный труд и бедняки… Застигнута на месте преступления, С поличным я на суд приведена… Зачем же тут свидетели и прочие? Ведь я — кругом уличена… Оставь, судья, ненужные допросы… Взгляни — я вся в уликах: на плечах — Мужицкая одежда, ноги босы, Видны мозоли на руках… Тяжелою работой я разбита… Но знаешь ли, в душе моей на дне Тягчайшая из всех улик сокрыта… Любовь к родимой стороне… Но знай и то, что, как я ни преступна, Ты надо мной бессилен, мой судья, Нет, я суровой каре недоступна, И победишь не ты, а я… Пожизненно меня ты покараешь, Но мой недуг уж написал протест, И мне грозит, сам видишь ты и знаешь, Лишь кратковременный арест… А я умру — все с тою же любовью… И уронив тюремные ключи, С молитвою приникнут к изголовью И зарыдают палачи… С. Бардина[388]Посвящается Л. Н. Фигнер
Милая девушка, сильно влияние Внешней, чарующей нас красоты… Так, но сильнее ее обаяние, Прелесть душевной твоей чистоты… Много в изящной фигуре гармонии И благородства в движениях твоих, Чувства ж движенья еще благороднее Сердце великое чуется в них… Полон Спасителя взор состраданья, Скорби божественной много в чертах, Но еще больше любви и страданья В этих бездонно-глубоких глазах… Пыток, костров были страшны мученья, Долго зато не страдали тогда, Пытки ж Твои — бесконечны томленья В муках безмолвных проходят года… С. БардинаМатери
Когда несчастье надо мною Нависло крышкой гробовою, Одна лишь любящая мать Сумела, ты, меня понять… Эгоистичная семья Об арестантке позабыла, Лишь ты, родимая моя, В слезах и горе вся изныла. За то могу я уважать Тебя, родная, беспредельно И образ твой благоговейно В святыне сердца сохранять… С. БардинаЭто письмо, стихи и записку я получил только на днях обратно от секретаря императрицы г. Морица, который получил их от императрицы перед отъездом ее в Ливадию в числе прочих бумаг, оставшихся в ее кабинете. Вероятно, все это было читано, но последствий не имело. Записка, о которой я говорю в письме моем Милютиной, была составлена мною давно, при самом начале социалистического учения и пропаганды между молодежью. В этой записке, в числе разных мер, я предлагал заменять для несовершеннолетних тяжкие уголовные наказания легким исправительным, и в том числе розгами. Эта последняя мера во многих возбуждала негодование. В записке я подробно мотивировал необходимость и пользу этой меры для большинства юношей и девиц, привлеченных к пропаганде единственно одним престижем политического деятеля.
В то время, когда я написал записку, эти меры могли бы остановить заразу. Теперь уже поздно. Но главное, я предлагал обратиться к обществу в торжественном манифесте и разъяснить ему всю безнравственность и опасность пропаганды, и вообще снять тайну, в которую до сих пор облекаются все действия пропагандистов, и выставить их на показ и негодование всего общества. Эта мысль осуществилась теперь, но в такой форме, от которой нельзя ожидать ничего хорошего.
20-го сентября. На днях я вернулся из Парижа, куда ездил на несколько дней, чтобы посмотреть выставку, а главное, чтобы присутствовать на концертах русской музыки, которые, под руководством Николая Рубинштейна, давало Русское музыкальное общество в зале Трокадеро. Меня эти концерты интересовали не только потому, что я, в качестве вице-президента этого общества, вообще крайне интересуюсь русской музыкой, но также потому, что по моему настоянию выбран в дирижеры этих концертов Н. Рубинштейн, от которого от одного можно было ожидать успеха. И действительно, успех превзошел все ожидания. Многие номера Глинки, Даргомыжского, Серова и Бортнянского приводят публику в восторг. Я счастлив этому успеху. Русская музыка сделалась, наконец, известна в Европе и сразу приобрела себе право гражданства.
Воспоминания об основании Русского музыкального общества. Вообще Русское музыкальное общество, основанное под покровительством покойной великой княгини Елены Павловны, есть одно из самых удавшихся и полезных учреждений. Почти с самого основания я был вице-президентом этого общества при великой княгине, а теперь — при великом князе Константине Николаевиче. Много было хлопот и забот для учреждения консерваторий в Петербурге и Москве. Дело быстрыми шагами развивалось, и сообразно с сим нужно было приискивать средства и людей для ведения его.
Из переписки моей с великой княгиней видно, какое живое участие принимала она в устройстве консерваторий. Никогда не забуду драгоценных слов ее, обращенных ко мне в одном из многочисленных писем ее ко мне по поводу разных недоразумений и неприятностей, возникших при окончательном устройстве консерватории в Петербурге. «Г espére que comme moi, — заключила она длинное письмо свое от 3–15-го августа 1867 г. из Карлсбада, — vous ne perdrez pas courage malgré les experiences fàcheuses que nous avons faites et que vons continuerez à donner vos soins à une instiuution, que nous leguerons — j’aime à le croire — à la Russie dans toutes les conditions d’une longévrite qu’ on lui conteste et d’un developpement étistique digne de l’art et de notre Patrie»[389].
Эти слова обязывают меня продолжать, по мере сил и возможности, при новом президенте общества участвовать в администрации общества и консерватории. Если бы покойная великая княгиня была жива, как бы она порадовалась успеху парижских концертов!
1879 год
18-го августа. Скоро год, что я не писал ничего в этой тетради. Отчего? Трудно сказать. В течение нынешнего года, однако, свершилось много замечательных событий, но все они таковы, что наводят на душу неизъяснимую тоску. Они сами о себе говорят, и фактическая сторона их известна всем из газет. Судить же о них — значит петь заунывную песню все на один и тот же мотив.
Неудавшийся мир, заключенный в прошлом году Берлинским договором, осудит история и без всяких комментариев определит характер и политическое достоинство руководителей нашей политики.
К сожалению, все, что я предчувствовал и предсказывал в своих записках в начале войны, все то сбылось с математическою верностью (см. 20-го июля и проч. 1877-го года).
Ожидаемого чуда не свершилось, а потому дела приняли естественный оборот. Ложь и лицемерие обнаружились. Правительство вело войну за идею, в которую оно не только не верит, но которой оно по инстинкту своему враждебно. Сам государь увлекся словами и даже, может быть, одну минуту заразился общим народным настроением и энтузиазмом к идее, которая ему в сущности, инстинктивно противна[390]. Что же мудреного, что при первых рассуждениях и в дипломатической борьбе с противниками, ясно сознающими свой интерес и важность мыслей, лежащих в основе славянского движения в России, наши дипломаты сейчас почти без боя готовы были все уступить, от всего отказаться, лишь бы покончить скорее несчастное дело. С небывалою до сих пор легкостью принимались важнейшие политические решения. Никто никогда не был призываем на совет. Даже министры все, кроме военного, были в совершенном неведении о том, что делается. И действительно, нужно было во что бы то ни стало кончить войну и переговоры о мире. Этого не могли не желать даже люди, понимающие и сочувствующие восточному вопросу, ибо, без сомнений, можно было ожидать еще бóльших бед при этой полной во всех отношениях несостоятельности правительства к какой-либо разумной деятельности. Эта несостоятельность, вполне сознаваемая нашими врагами, все более и более переходит в сознание общества. Неудовольствие во всех слоях увеличивается и принимает различные формы. Странно сказать, но это верно, что в настоящее время, что удерживает общество от выражения своего неудовольствия, — это нигилисты. Их безобразные учения и действия поддерживают власть и сдерживают массу недовольных от справедливого негодования. Неискусное отношение правительства к нигилистам и вся внутренняя полицейская политика под охраной тайны дали жестокие плоды. Политические заговоры и самые крайние учения и партии[391] приняли огромные размеры и вступили в явную борьбу с властью. На стороне первых хоть безобразная, но определенная мысль, воля, характер, решительность. На стороне второй — одна материальная сила без всякого умения действовать иначе, как мечом. Понятно, почему борьба еще продолжается.
Приведу здесь вкратце официальные известия об ужасном событии 2-го апреля.
В особом прибавлении к «Правительственному вестнику» напечатано следующее сообщение:
Сегодня, в 9-м часу утра, в то время, как государь император изволил, по обычаю, прогуливаться в местности, окружающей Зимний дворец, на тротуаре, прилегающем к зданию Штаба Петербургского военного округа, навстречу Его Императорского Величества с противоположной стороны здания вышел человек, весь прилично одетый, в форменной с гражданской кокардой фуражке. Подойдя ближе к государю императору, человек этот вынул из кармана пальто револьвер, выстрелил в Его Величество и вслед за этим сделал еще несколько выстрелов. Проходившие вблизи люди, а равно и городовые, немедленно бросились на злоумышленника и схватили его, причем неизвестный успел дать еще один выстрел, который легко ранил в щеку одного из окружающих его людей. Божие Провидение сохранило невредимо драгоценные для России дни августейшего нашего государя. Злодей арестован, расследование начато.
Как сообщает «Правительственный вестник»:
2-го апреля, во второй день Пасхи, после литургии в малой церкви Зимнего дворца было совершено благодарственное Господу Богу молебствие за спасение жизни государя императора, охранение его десницею Всевышнего от руки злодея, дерзнувшего посягнуть в это утро на августейшую особу Его Величества. Весть об этом быстро разнеслась по городу, и не прошло двух часов времени, как Зимний дворец наполнился собравшимися туда военными чинами и гражданами, а также и дамами, желавшими видеть государя и выразить ему свои верноподданнические чувства. По окончании молебна Его Величество изволил войти в Белую залу, где все съехавшиеся были уже собраны. При вступлении в залу государь император был встречен громкими, восторженными и долго не умолкавшими восклицаниями. Вслед за тем государь изволил произнести следующие слова:
«Я глубоко тронут и сердечно благодарю за чувства преданности, высказанные вами. Сожалею только, что поводом послужил столь грустный случай. Богу угодно было в третий раз избавить меня от верной смерти, и сердце мое преисполнено благодарности за его милости ко мне. Да поможет он мне продолжать служить России и видеть ее счастливою и развивающеюся мирно, как я того желал бы. Благодарю вас еще раз».
Сообщаем подробности этого покушения, проверенные, насколько это было возможно: государь император изволил выйти из Зимнего дворца 2-го апреля, в исходе 9-го часа утра, на прогулку по Миллионной улице, мимо Эрмитажа, вокруг здания Гвардейского штаба. От угла дворца Его Величество прошел до конца здания Штаба 230 шагов, по тротуару с правой стороны Миллионной до Зимней канавки государь дошел до Певческого моста, сделал еще 170 шагов. Таким образом, государь император прошел от угла дворца до Певческого моста 400 шагов, на что потребно обыкновенной прогулки около 5-ти минут.
На углу Зимней канавки и площади Гвардейского штаба находится будка городового, т. е. помещение городового для ночлега, с печью и складом небольшого количества дров. Самого городового в будке в это время не было: он находился на своем посту, невдали, на площади. Повернув от здания Главного штаба, от Певческого моста и Зимней канавки к Александровской колонне, т. е. обратно ко дворцу, государь император сделал по узкому тротуару Штаба еще 15 шагов. Здесь, находясь против 4-го окна штаба, государь заметил идущего навстречу ему высокого, худощавого, темноволосого, с темно-русыми усами человека лет 32-х, одетого в статское приличное пальто и в фуражке с гражданскою кокардою, причем обе руки этого прохожего были в карманах пальто.
Было 9 ч. 10 м. утра. Подойдя к государю на расстояние 6–7 шагов, незнакомец вынул из правого кармана пальто револьвер и выстрелил в государя. Вторая пуля ударилась в щеку и вышла у виска шедшего за государем пожилого, с сильною проседью статского господина, уроженца Остзейских губерний, по фамилии Милошевич. Раненный, обливаясь кровью, Милошевич бросился на злодея, стрелявшего в священную особу государя императора. Сделав еще два выстрела, причем пуля попала в стену здания Штаба, злодей увидел, что его 4 выстрела в упор в государя не попали, бросился бежать по площади Гвардейского штаба, направляясь по площади к тротуару противоположного здания — Министерства иностранных дел. Спасаясь бегством, злодей сбросил с себя фуражку и пальто, очевидно, чтобы скрыться неузнанным в толпе. Его настигли шедшие случайно невдалеке за государем молодой солдат 6-й роты Преображенского полка и фельдфебель гвардеец Рагозин. Они первые схватили и повалили преступника на землю. Сбежавшийся народ порывался растерзать злодея. Подоспевшая полиция спасла его от рук негодовавшей толпы и, окружив, взяли его под арест.
Преступник, полураздетый, избитый, с помутившимся от ужаса взором, был отведен с площади, где с ним началась рвота, давшая повод к толкам в городе, что он отравился и даже будто бы умер. Мы можем утвердительно сказать, что схваченный преступник, которому, на всякий случай, были даны противоотравные пособия, жив и не представляет более опасности самоотравления.
Государь император, спасенный в третий раз Божьим промыслом для любящей его и им любимой России, сохранил полное спокойствие духа. Когда из здания Штаба выбежали, в чем были, без пальто и фуражек, живущие там военные высшие чины и государю была подана подъехавшая случайно к подъезду частная коляска, государь в нее сел только тогда, когда злодей уже был схвачен и обезоружен. Спросив околоточного Дворцового участка, унтер-офицера Неледина, apecтован ли преступник и в безопасности ли он, достаточно ли его берегут, государь сел в коляску и медленно возвратился во дворец среди восторженно провожавшей его толпы. Пуля ударила в здание Штаба, отбив штукатурку до кирпичей на четверть аршина под окном подвальной квартиры наборщика типографии Гвардейского штаба унтер-офицера Лоста и на 3/4 аршина ниже окна верхней квартиры (на первом этаже) аудитора Штаба Ченцова. Милошевич был сперва доставлен для перевязки во дворец, потом помещен в придворном (Конюшенная улица) госпитале, причем ему были оказаны все нужные пособия с замечательной быстротою. Злодей схвачен у левого фонаря, в 15 шагах от квартиры канцлера князя Горчакова, куда он перебежал от тротуара Штаба через площадь.
Зимний дворец быстро наполнился высшими чинами, гвардейскими офицерами и генералитетом, спешившими к государю. После благодарственного молебна в малой церкви дворца государь изволил выйти к собравшимся. Восторженные крики долго не давали государю говорить. Когда крики смолкли, он изволил сказать, что новым избавлением своей жизни он в третий раз[392] обязан милосердному промыслу Божьему и что в этом он видит указание свыше, что его жизнь еще нужна для горячо любимого Отечества, которому он с тою же любовью и преданностью посвятит и последние дни свои, с какими он служил Отечеству и всю прежнюю жизнь свою.
Дворцовая площадь быстро наполнилась народом. Во втором часу дня на балконе Зимнего дворца, выходящем на разводную площадку, показался государь император. Его Величество был в пальто и в каске. Рядом с государем стояли: по правую руку — наследник-цесаревич, в мундире с непокрытою головою, по левую — великий князь Николай Николаевич, также в мундире без каски.
Собравшийся народ пел «Боже, царя храни», «Коль славен» и «Славься». Когда члены императорской фамилии стали разъезжаться, толпа приветствовала их восторженными криками; когда же показался государь император — восторг народа не знал пределов. Все спешили увидеть чудесно спасенного Богом монарха. Часу в четвертом император один в открытой коляске ездил помолиться в Казанский собор, возвратившись по Невскому, провожаемый восторженным «ура».
Старообрядцы, приемлющие священство, прихожане петербургского Громовского кладбища[393], услышав о дерзком покушении на жизнь богохранимого государя императора, немедля собрались на кладбище для принесения Господу Богу благодарственного молебствия для принесения благодарения за спасение драгоценной жизни августейшего своего монарха. По окончании молебствия была пропета «Многая лета» государю императору. Общество старообрядцев положило написать на память о чудесном избавлении обожаемого государя святую икону и повесить неугасаемую лампаду.
Вечером город, с утра расцветившийся флагами, был иллюминован. Кроме газовой иллюминации на улице, во многих домах на окнах горели свечи.
Французский спектакль в Михайловском театре начался гимном «Боже, царя храни», который артисты и артистки труппы спели с большим одушевлением два раза кряду. Публика, находившаяся еще под свежим впечатлением об ужасном злодействе, выслушала гимн с видимым волнением. По опущении занавеса в зале раздались громкие одушевленные крики «ура».
В Благородном собрании[394] шла вчера известная пьеса «Фру-Фру»[395] (в русском переводе «Ветерок») с г-жою Савиной в главной роли. Перед началом спектакля собравшаяся в значительном числе публика из театральной залы была приглашена в столовую, где отслужен был благодарственный молебен за спасение государя от угрожавшей ему опасности. Потом, при поднятии занавеса, певчими, участвовавшими в богослужении, и труппою артистов исполнен народный гимн, повторенный по требованию публики.
Общественное негодование выразилось сильно во всех краях России. Все, естественно, ожидали со стороны правительства решительных мер против распространяющихся ежедневно тайных заговоров.
6-го апреля был объявлен следующий именной Указ Правительствующему Сенату:
«События последнего времени с очевидностью указывают на существование в России если не многочисленной, то упорной в преступных заблуждениях своих шайки злоумышленников, стремящихся подорвать все основы государственного и общественного быта. Не ограничиваясь распространением путем печати, в рассылаемых тайно прокламациях, самых возмутительных учений, клонящихся к ниспровержению догматов религии, союза семейственного, прав собственности, злодеи эти неоднократно покушались на жизнь высших сановников империи и других лиц, облеченных правительственною властью. Наконец, ряд злодейств за-вершился преступным покушением на цареубийство. Такие злодеяния, отсутствие всякого раскаяния в злоумышленниках, которые до настоящего времени были обнаружены, обратили внимание Наше и заставили Нас прибегнуть к исключительным временным мерам, как для примерного наказания виновных, так и для предоставления лицам, облеченным правительственною властью, особых прав в видах охранения общественного порядка. С этою целью мы признали за благо:
1) Назначить генерал-губернатора в Петербурге, Харькове, Одессе с особыми чрезвычайными правами, означенными в нижеследующих статьях; те же права предоставить временно генерал-губернаторам в Москве, Киеве и Варшаве.
2) Генерал-губернаторам: Петербургскому, Харьковскому и Одесскому — под-чинить губернии: Петербургскую, Харьковскую и Херсонскую. Независимо от этого как сим генерал-губернаторам, так генерал-губернаторам подчинить некоторые местности из смежных губерний, которые будут указаны впоследствии.
3) Во всех названных местностях подчинить генерал-губернаторам все мест-ные гражданские управления в том размере, в каком, на основании 46-й статьи Положения о полевом управлении войск в военное время, подчиняются главноко-мандующему армией губернии и области, объявленные на военном положении, а также учебные заведения всех ведомств по предметам, относящимся до охране-ния порядка и общественного спокойствия.
4) Предоставить генерал-губернаторам лиц гражданского ведомства подведом-ственным им местностям предавать военному суду с применением к ним наказа-ний, установленных для военного времени независимо от случаев, упомянутых в указе нашем от 9-го августа минувшего года[396], и за другие виды преступлений государственных или против порядка управления, равно за совершение других преступлений, общими уголовными законами предусмотренными, когда они при-знают это необходимым, в видах ограждения общественного порядка и спокойствия. По делам сего рода присвоить генерал-губернаторам права, предоставленные ст. ст. 1831, и 1838, и 1841, — 24 ст. военных постановлений 1869-го года главнокомандующему в военное время.
5) Указанный порядок применить по всем делам, по коим не последовало доныне предания обвиняемых суду.
6) Предоставить генерал-губернаторам право: а) высылать административным порядком из вверенных им местностей всех тех лиц, дальнейшее пребывание которых в тех местностях они признают вредным; б) подвергать личному задержанию по непосредственному своему усмотрению всех лиц, несмотря на звание и состояние, в тех случаях, когда они признают это необходимым; в) приостанавливать или вовсе воспрещать издание журналов и газет, направление которых будет ими признаваемо вредным, и вообще принимать те меры, которые они признают не-обходимыми для охранения спокойствия во вверенном им крае. Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит сделать надлежащее распоряжение.
Александр.
5-го апреля 1879 г.».
В Петербург назначен генерал-губернатором Гурко, в Харьков — граф Лорис-Меликов, а в Одессу — генерал Тотлебен. Я забыл сказать, что в начале года произошла перемена в составе министерства[397]: на место Тимашева назначен товарищ его — Маков. «На безрыбье и рак — рыба…». Маков — человек работающий, понимающий дело, но не проявивший ни в чем государственных способностей. Он горячо рекомендован и Тимашевым, и Валуевым. Из этого только можно заключить, что он человек уживчивый и из ряда вон не выходящий.
В начале года совершилось еще одно важное событие, наделавшее много шума и много вреда в России. В Астраханской губернии открылись в станице Ветлянке признаки чумы. Все взбудоражилось. Туда послали графа Лорис-Меликова с особыми полномочиями. К счастью, развитие болезни остановили — как вдруг испуганные власти в разных местностях, как-то: в Москве и Рязани, не удостоверившись ни в чем обстоятельно, стали доносить о появившихся в этих местностях будто бы признаках чумы. Все это оказалось вздором, но произвело и в России, и за границей страшный переполох.
Как вдруг появилось в здешних известиях, что будто лейб-медик Боткин обнаружил здесь, в Петербурге, признаки чумы, и вслед за этим появилось правительственное сообщение следующего содержания.
Правительственное сообщение
13-го сего февраля, в 10 часов утра, в терапевтическое отделение профессора Боткина Михайловской клинической больницы баронессы Вилье поступил на излечение дворник Артиллерийского училища — крестьянин Наум Прокофьев 50-ти лет, по заключению профессора Боткина, с припадками легкой формы болезни, которая была в 1877 году наблюдаема в городе Астрахани доктором Бекнером.
У Прокофьева, который в течение 4-х лет не выезжал из Петербурга, 15-го января сего года появилось лихорадочное состояние. На другой день обнаружилась большая опухоль в левом паху (бубон), перешедшая впоследствии в нагноение. 10-го февраля опухоль скрылась, а 12-го февраля обнаружился новый приступ лихорадки, и в течение одной ночи развилась новая опухоль — в правом паху. 13-го февраля лихорадочное состояние довольно значительно. Температура 39,20. Пульс — 120. Кожа покрыта мелкой «петехиальной»[398] высыпью. Упадок сил незначителен.
Случай этот, по мнению профессора Боткина, по медленности течения и по тому, что он не повлек за собой других заболеваний в том помещении, где проживал Прокофьев, принадлежит к легким и доброкачественным формам вышеназванной болезни. Терапевтическое отделение клиники, в котором помещен больной, строго изолировано, и всякое сообщение с другими отделениями совершенно прекращено. Для наблюдения за больным оставлены при нем: врач Васильев, 2 студента 4-го курса — Кононасевич и Дмитриев, и два служителя. Все вещи больного сожжены.
Одновременно с сим сделаны следующие распоряжения:
1) Все 48 лиц, которые жили с Прокофьевым в том же подвальном этаже и которые все совершенно здоровы, переведены в особо устроенное Городскою думою обсервационное помещение в Екатерингофе. Туда же перевезено все имущество для дезинфекции, а если окажется необходимым — то и для сожжения.
2) Назначен особый врач, фельдшер и прислуга в обсервационное помещение, которое будет оцеплено, согласно карантинным правилам, на 42 дня.
3) Часть подвального этажа, где жил Прокофьев, в здании Артиллерийского училища, будет дезинфицирована.
4) Равным образом будет подвержена дезинфекции остальная часть подвального этажа и учрежден врачебный надзор за живущими в тех отделениях, которые не имеют прямого сообщения с жильем Прокофьева. Для достижения этой цели признано необходимым на некоторое время вывести всех в более обширные и здоровые помещения.
О дальнейшем ходе болезни Прокофьева будет ежедневно доводимо до всеобщего сведения.
Можно себе представить, какой переполох последовал и здесь, и за границей. Курс наш[399] еще более упал. Везде на границах стали устраивать карантины.
Между прочим, вся эта тревога оказалась чистою выдумкою Боткина, которого поведение во всем этом деле, по малой мере, было весьма странным. Признав признаки чумы в своем больном[400], он, не менее того, поехал во дворец, и, несмотря на опровержение особой комиссии из официальных представителей, он продолжал вводить в заблуждение общественное мнение, в особенности за границей.
Началась престранная и неприличная полемика, доказавшая только отсутствие здравого смысла и понятия об общественном деле. К счастью, признаки чумы и в самой Ветлянке скоро прекратились, а в Петербурге ни одного сомнительного случая не было, и вся эта тревога, стоившая очень дорого России, прошла бесследно и еще более убедила всех в опасности терять голову при всяком выходящем из ряду случае.
Последовательный ряд политических процессов передается Военному суду, кончающийся смертными приговорами, начинает уже представляться делом обыкновенным, и к ним публика уже привыкает.
В Государственном совете с каждым годом дела рассматриваются менее серьезно, и важнейшие из законодательных вопросов даже вовсе не передаются на его рассмотрение. Они решаются или в Комитете министров, или в Особых комиссиях[401]. Многие, даже новые, законы вовсе не объясняются, как, например, так называемый закон 1-го сентября[402], установивший порядок по производству следствий и дознаний по политическим делам, вовсе никогда обнародован не был. Проекты новых налогов, внесенные Грейгом в Совет, велено было непременно рассмотреть в несколько дней, и всякое возражение или даже частное замечание принималось с неудовольствием. Одним словом, Государственный совет как самостоятельно подающее совет учреждение более не существует. Его слабую оппозицию не может выдержать бездарность министров. Во всем застой полный.
Под председательством Валуева учреждена Особая комиссия из нескольких министров (юстиции, внутренних дел, шефа жандармов, финансов и князя Урусова), которой поручено обдумать, какие необходимо принять меры при теперешнем тревожном состоянии России. Результаты совещаний этой Комиссии замечательны. Они могут служить мерилом для оценки способностей нашей администрации. Ребяческие, ничтожные отдельные меры, общие фразы с пожеланиями — вот и все. Ни мысли, ни взглядов на общее положение вещей и на причины обнаруженных явлений — просто смешно и возмутительно читать…
Мы положительно вступили в эпоху полного расслабления духовного. Никакая борьба невозможна против равнодушия, бессилия и безмыслия. Остается ожидать, что из всего этого выйдет.
Быть может, сила — в немощи совершится.
Ил. 1. Коллаж из двух картин, хранящийся в семейном архиве Гагариных-Оболенских. В центре за сто супружеская чета Оболенских — Аграфена Юрьевна и Александр Петрович. Первая четверть XIX
Ил. 2. Семья Дмитрия Александровича и Дарьи Петровны Оболенских. Стоят (слева направо): Дмитрий Александрович, Николай Дмитриевич, Варвара Дмитриевна, Алексей Дмитриевич. Сидят (слева направо): Александр Дмитриевич, Дарья Петровна, Мария Дмитриевна, Елизавета Дмитриевна. Петербург. Начало 1870-х годов[403].
Ил. 3. Дети Дмитрия Александровича и Дарьи Петровны Оболенских. Стоят: Варвара Дмитриевна и Александр Дмитриевич; сидят: Елизавета Дмитриевна и Алексей Дмитриевич; сидят на полу: Мария Дмитриевна и Николай Дмитриевич. Петербург. 1880-е годы.
Ил. 4. Семья Оболенских-Гагариных в имении Бельское Устье Псковской губернии.
В центре сидит хозяйка имения Елизавета Дмитриевна Новосильцова (урожд. Оболенская) с воспитанницей.
Слева сидит Мария Дмитриевна Гагарина (урожд. Оболенская) с сыном Сергеем на руках.
Справа сидит Андрей Григорьевич Гагарин с сыном Андреем.
Рядом стоит Николай Дмитриевич Оболенский. Бельское Устье. 1888 г.
Ил. 5. Семья Андрея Григорьевича и Марии Дмитриевны Гагариных.
Стоят (слева направо): Мария Дмитриевна с сыном Дмитрием на руках и старший сын Андрей. Сидит Андрей Григорьевич в окружении детей — Льва (слева), Сергея (справа) и Софьи (в центре). Шательро. Франция. 1895 г.
Ил. 6. Андрей Григорьевич Гагарин в домашнем кабинете. Петербург. 12 (25) марта 1912 г.
Ил. 7. Мария Дмитриевна Гагарина (урожд. Оболенская). Петербург. Конец 1880-х годов.
Ил. 8. Алексей Дмитриевич Оболенский с семьей: жена — Елизавета Николаевна (урожд. светлейшая княжна Салтыкова), дети — Дмитрий (справа), Николай (слева). Петербург. Конец 1890-х годов.
Ил. 9. Александр Дмитриевич Оболенский. Петербург. 1903 г.
Ил. 10. Свадьба внука Дмитрия Александровича Оболенского — Петра Александровича Оболенского и Ольги Ивановны Оболенской. Стоят (слева направо): жених — Петр Александрович, его брат — Александр Александрович, их отец — Александр Дмитриевич Оболенские, Любовь Петровна Оболенская (урожд. княжна Трубецкая), Дмитрий Александрович Оболенский (младший). Сидят (слева направо): Алексей Александрович Оболенский с дочерью Александрой, Александр Дмитриевич Оболенский (младший), Анна Александровна Оболенская (урожд. Половцова) с внучкой Еленой Дмитриевной, невеста — Ольга Ивановна Оболенская, Андрей Дмитриевич Оболенский. Имение Петровка Пензенской губернии. 1912 г.
Ил. 11. Андрей Андреевич Гагарин — сын Андрея Григорьевича и Марии Дмитриевны Гагариных, внук Дмитрия Александровича Оболенского. Петербург. 1915 г.
Ил. 12. Лев Андреевич и Софья Андреевна Гагарины — внуки Дмитрия Александровича Оболенского. Петербург. 1916 г.
Ил. 13. Семья Алексея Дмитриевича Оболенского. Сидят: Елизавета Николаевна и Алексей Дмитриевич. Стоят (слева направо): их дети Николай, Дарья, Анна, Дмитрий. Дрезден. 1923 г.
Ил. 14. Григорий Андреевич Гагарин — внук Дмитрия Александровича Оболенского, с сыном Григорием. Париж. 1927 г.
Ил. 15. Летом на даче. Слева направо: Евгения Алексеевна Михайлова, Василий Михайлович Шешин, Екатерина Васильевна Трофимова, Петр Андреевич Гагарин и Варвара Васильевна Шешина, Мария Дмитриевна Гагарина, Мария Дмитриевна Шешина (урожд. Главанакова), Кристина Нильсовна Степанова, Алексей Алексеевич Степанов. Луга. 1933 г.
Ил. 16. Мария Дмитриевна Гагарина (сидит в центре) с сыном Сергеем Андреевичем (стоит в центре) и внуками — Андреем (слева), Сергеем (справа) и Петром. Лонг-Айленд. США. 1940 г.
Ил. 17. Петр Андреевич Гагарин — сын Андрея Григорьевича и Марии Дмитриевны Гагариных, внук Дмитрия Александровича Оболенского, и Варвара Васильевна Гагарина (урожд. Шешина). Ленинград. 1936 г.
Ил. 18. Петр Андреевич и Варвара Васильевна Гагарины с сыном Андреем. Ленинград. 1937 г.
Ил.19. Анна Алексеевна Герсдорф (урожд. Оболенская) — внучка Дмитрия Александровича Оболенского, с дочерью Елизаветой. Дрезден. 1929 г.
Ил. 20. Елизавета Николаевна Оксеншерна (урожд. Герсдорф) — правнучка Дмитрия Александровича Оболенского. Стокгольм. 1952 г.
Ил. 21. Анна Алексеевна Герсдорф. Стокгольм. 1960-е годы.
Ил. 22. Анна Алексеевна и Николай Николаевич (старший) Герсдорфы с дочерью Александрой. Стокгольм. 1960-е годы.
Ил. 23. Николай Николаевич Герсдорф (младший) с детьми Иоханом и Агнес. Стокгольм. 2004 г.
Ил. 24. Николай Николаевич Герсдорф (младший) с сестрами — Марией Николаевной Дэвис (урожд. Герсдорф) и Александрой Николаевной Бультман (урожд. Герсдорф). Стокгольм. 2004 г.
25. Алексей Николаевич Оболенский и Александра Николаевна Бультман-Герсдорф — правнуки Дмитрия Александровича Оболенского. Санкт-Петербург. 1999 г.
Ил. 26. Правнуки Дмитрия Александровича Оболенского. Слева направо: Агнес Николаевна Герсдорф, Николай Николаевич Герсдорф, Андрей Петрович Гагарин, Мария Николаевна Девис (урожд. Герсдорф). Санкт-Петербург. 2004 г.
Ил. 27. 75-летний юбилей Николая Николаевича Герсдорфа. Слева направо: Иохан Николаевич Герсдорф, Александра Николаевна Бультман-Герсдорф, Николай Бультман, Николай Николаевич Герсдорф. Стокгольм. 2004 г.
Ил. 28. Герцог Константин Георгиевич Лейхтенбергский с невестой Дарьей Алексеевной Оболенской. Париж. 1929 г.
Ил. 29. Дочери Константина Георгиевича и Дарьи Алексеевны Лейхтенбергских — Ксения Константиновна Граббе (слева) и Ольга Константиновна Гайдебурова (справа). США. 2000 г.
Ил. 30. 70-летие Джейми Гагариной. Стоят (слева направо): Донна Гагарина (урожд. Картер), Рауль Пуджоль, маркиз де Санта Лючиа, Гейл Гагарина (урожд. Кокс). Сидят (слева направо): Питер Андреевич Гагарин, Майкл Андреевич Гагарин, Джейми Гагарина (урожд. Портер), Андрей Сергеевич Гагарин — правнук Дмитрия Александровича Оболенского, Евгения Андреевна Гагарина. Сидят на полу: Александра и Дэниел Гагарины. Коннектикут. США. 1988 г.
Ил. 31. Григорий Григорьевич Гагарин — правнук Дмитрия Александровича Оболенского (сидит справа), с сыном Расселом (стоит) и племянниками — Николаем Николаевичем (сидит слева) и Дмитрием Андреевичем (сидит в центре) Гагариными. Вашингтон. 2001 г.
Ил. 32. Дети Григория Григорьевича Гагарина, праправнуки Дмитрия Александровича Оболенского. Слева направо: Рассел Григорьевич, Екатерина Григорьевна, Григорий Григорьевич Гагарины. Вашингтон. 1994 г.
Ил. 33. Александр Оксеншерна — праправнук Дмитрия Александровича Оболенского. Стокгольм. 2002 г.
Ил. 34. Правнуки Дмитрия Александровича Оболенского. Слева направо: Андрей Петрович Гагарин и Алексей Николаевич Оболенский. Справа — художник Евгений Шефнер. Санкт-Петербург. 2002 г.
Ил. 35. Варвара Васильевна Гагарина-Бурлакова (урожд. Шешина). Санкт-Петербург. 2005 г.
Ил. 36. Андрей Петрович Гагарин за письменным столом, который был подарен его бабушке Марии Дмитриевне Гагариной (урожд. Оболенской) к ее 16-летию. Санкт-Петербург. 2005 г.
Ил. 37. Андрей Петрович, Татьяна Валентиновна и Варвара Васильевна Гагарины с детьми, внуками и правнучкой
Слева направо: Мария Андреевна (дочь), Дмитрий Андреевич (сын), Андрей Петрович, Александр Станиславович Коротков (зять), Юлия Андреевна (дочь), Варвара Александровна Короткова (внучка), Татьяна Валентиновна, Варвара Васильевна. Санкт-Петербург. 2005 г.
Примечания
1
Шилов Д. К. Государственные деятели Российской империи: 1802–1917. Библиографический справочник. СПб., 2001. С. 470–472; Федорченко В. Императорский Дом: Выдающиеся сановники. В 2-х тт. Красноярск, 2002. Т. 2. С. 145–148.
(обратно)2
Мшашевский В. А. Вчера, позавчера… воспоминания художника. М., 1989; Чуковский К. И. Дневник 1901–1929 гг. М., 1991.
(обратно)3
Воспоминания Г. А. Гагарина // Звезда. 1994, № 2.
(обратно)4
Аксаков И. С. Письма к родным: 1844–1849. М., 1988. С. 284–285.
(обратно)5
Никитенко A. B. Дневник: В 3-х тт. Л., 1955. Т. 1. С. 360.
(обратно)6
Подробнее об этом см.: Шевырев А. Л. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы. М., 1990. С. 14–48.
(обратно)7
1857–1861 гг.: Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. Дневник великого князя Константина Николаевича. М., 1993. С. 55, 176, 195 и др.
(обратно)8
Шереметев С. Д. Мемуары. М., 2001. С. 66.
(обратно)9
Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 г. в России: Сущность и социально-правовой механизм формирования. Воронеж, 1994. С. 71–82.
(обратно)10
Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 116–117.
(обратно)11
Подробнее см.: Чернуха В. Г. Всеподданнейший доклад Комиссии П. А. Валуева от 2 апреля 1872 г. как источник по истории податной реформы в России // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1969. Т. 2. С. 262–269.
(обратно)12
Это отмечено в его формулярном списке. См. также: Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886. С. 7.
(обратно)13
Подробнее см.: Чернуха В. Г. Борьба в верхах по вопросам внутренней политики царизма: Середина 70-х гг. XIX в. // Исторические записки. М., 1988. Т. 116. С. 161–186.
(обратно)14
Оболенский Д. А. Мои воспоминания о великой княгине Елене Павловне // Русская старина. 1909. № 3–5.
(обратно)15
Хроника недавней старины: Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876.
(обратно)16
Русский архив. 1886. Т. 1. Кн. 4. С. 536–544.
(обратно)17
Переводы с французского языка сделаны д. и. н. С. Н. Искюлем.
(обратно)18
Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752–1829) — князь, статс-секретарь императора Павла I, в это время в отставке.
(обратно)19
Ошибка автора: А. Ю. Оболенская скончалась в феврале 1829 г.
(обратно)20
Относится к маю 1826 г., когда вдовствующая императрица Мария Федоровна приехала в Калугу для встречи с вдовствующей императрицей Елизаветой Алексеевной, чтобы сопровождать невестку на коронацию Николая I. Но Елизавета Алексеевна умерла по дороге в г. Белеве. Скорее всего, Д. А. Оболенский рассказывает об этом на основании семейных преданий, ибо ему в начале 1826 г. было немногим более 3-х лет. Интерес Марии Федоровны к семейству Оболенских был связан, очевидно, с тем, что Ю. А. Нелединский-Мелецкий был близким помощником императрицы и императора Павла I.
(обратно)21
Пушкин Василий Львович (1766–1830) — старший брат С. Л. Пушкина, дядя А. С. Пушкина, в то время известный поэт.
(обратно)22
Обычно типовое здание губернского города, где помещались местные губернские учреждения, через которые губернатор осуществлял свои властные полномочия. Среди этих учреждений — рекрутское присутствие, канцелярия, занимавшаяся сбором и отправкой в армию рекрут — лиц податных сословий от 20 до 35 лет, обязанных служить в армии.
(обратно)23
Предмет церковной утвари, металлический сосуд, где курится ладан.
(обратно)24
Имеется в виду статья А. С. Хомякова «Об общественном воспитании в России», напечатанная впервые в газете «День» в 1861 г. Упоминание о ней говорит о том, что этот фрагмент «Записок» написан не в 1853 г., а после 1861 г.
(обратно)25
Так в тексте.
(обратно)26
Магазины с товарами из южных, «колониальных», стран — кофе, чаем, специями и проч.
(обратно)27
Они же — «богемские братья» — религиозная секта, возникшая в Богемии (Чехия) в XV в. Проповедовали жизнь «по справедливости». В России группа «гернгутеров» обосновалась в Сарепте (Поволжье) в качестве колонистов с особыми правами.
(обратно)28
Учреждение для приема и воспитания подкидышей, возникшее в России в XVIII в.
(обратно)29
Особый род жучков, использовавшихся в медицине как пластырь. Питается листьями деревьев.
(обратно)30
прилично, порядочно
(обратно)31
Ассигнации — бумажные деньги, введенные Екатериной II и ходившие сначала наряду с металлическими, а затем и вытеснившие последние. Падали в цене вследствие роста массы бумажных денег, доходя до 1/4, 1/3 номинала.
(обратно)32
Так в тексте.
(обратно)33
Французы пришли в Россию не как завоеватели, а как грабители.
(обратно)34
Далее пропуск.
(обратно)35
Выпускники университета, окончившие его с отличием, сдавшие, согласно Уставу 1804 г., экзамен и представившие сочинение на избранную ими научную тему.
(обратно)36
«Повещательный» — т. е. предупредительный.
(обратно)37
Имеются в виду командующие объединенным англо-французским флотом (английский адмирал Д. У. Дондас и французский — Ф. А. Гамелен).
(обратно)38
Я рад узнать, что Ваши друзья из Потсдама воодушевлены добрыми чувствами. Передайте им от меня, что я тронут выражением этих чувств и надеюсь, что мы всегда будем шагать вместе, оставаясь добрыми друзьями.
(обратно)39
Праздник водосвятия, церемония выхода к Неве для обряда освящения воды.
(обратно)40
Журнал — здесь: дневник.
(обратно)41
Парки — особые войсковые части, пополнявшие в войсках боеприпасы и запасные части к ним.
(обратно)42
Вероятно, имеются в виду выборы предводителя дворянства.
(обратно)43
Отъезд послов означал разрыв дипломатических отношений, получение послами «паспортов» для отъезда — этап такого возможного разрыва.
(обратно)44
Т. е. из окна Адмиралтейства, где помещался Комиссариатский департамент Морского министерства — место службы Д. А. Оболенского в 1855 г. Часть окон Адмиралтейства выходила на Зимний Дворец.
(обратно)45
Это очень мило, мадам Мишель, что Вы пришли повидать меня и попрощаться. Я, кажется…
(обратно)46
Передайте мои наилучшие пожелания Екатерине и ее супругу.
(обратно)47
Великая княгиня Александра Иосифовна (1830–1911) — жена великого князя Константина Николаевича, брата Александра II.
(обратно)48
Великая княгиня Мария Николаевна (1819–1876) — сестра императора Александра II.
(обратно)49
«Северная пчела» — газета Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, в то время — единственная частная общественно-политическая газета, официоз. Имела право на публикацию получаемой от правительства политической информации и потому широко распространенная.
(обратно)50
Первая пасхальная неделя.
(обратно)51
Фабрить — смазывать специальным кремом.
(обратно)52
Речь идет об Александре II, которому было в 1855 г. 36 лет. Здесь «юный» — в смысле «новый».
(обратно)53
Но для нас, находящихся в курсе дел.
(обратно)54
Это препятствует действиям правительства.
(обратно)55
Граф, Вы, кажется, забыли, что позади нас Россия, честью которой не следует торговать. Берегитесь, как бы она Вам о себе не напомнила.
(обратно)56
В XIX в. так назывался артиллерийский обстрел.
(обратно)57
Жена Д. А. Оболенского, Дарья Петровна Оболенская (урожд. Трубецкая) (1823–1906).
(обратно)58
В дневнике Д. А. Оболенского фигурируют два Горчакова: военный — М. Д. Горчаков и дипломат — А. М. Горчаков. Здесь речь идет о генерале.
(обратно)59
В связи с тем что старший сын Александра II Николай еще не достиг совершеннолетия, регентом был официально назначен — до совершеннолетия наследника на случай смерти царствующего монарха — брат Александра II великий князь Константин Николаевич.
(обратно)60
Скорее всего, имеется в виду брейд-вымпел — особый флаг, поднимаемый на военном корабле в знак присутствия высочайших особ.
(обратно)61
Стрельна (Стрельня) — пригород Петербурга, где находилась летняя резиденция семьи великого князя Константина Николаевича — Константиновский дворец.
(обратно)62
Члены императорской семьи Романовых.
(обратно)63
В это время речь идет о разработке общего плана железнодорожного строительства с целью соединения обеих столиц с портами Балтийского и Черного морей.
(обратно)64
Заторенный — здесь: выгнанный на охотника.
(обратно)65
Бомбарда — военное парусное судно, оснащенное артиллерийскими орудиями.
(обратно)66
Журнал Морского министерства, во второй половине 1850-х годов имевший огромное общественное, а не только специальное, значение.
(обратно)67
Изданию сочинений Н. В. Гоголя Д. А. Оболенский посвятил воспоминания (О первом издании посмертных сочинений Гоголя // Русская старина. 1873. № 12. С. 940–953).
(обратно)68
Помещение при полицейском участке для содержания арестованных.
(обратно)69
Таратайка — двухколесная повозка.
(обратно)70
Дормез — старинная дорожная карета, приспособленная для дальней дороги с возможностью ночевки в ней.
(обратно)71
Склады обмундирования.
(обратно)72
Блиндированный — укрытый, защищенный (фр.).
(обратно)73
Алармист — здесь: паникер.
(обратно)74
Дек — навесная палуба на морском (речном) судне.
(обратно)75
Помещение для хранения боеприпасов на корабле.
(обратно)76
Корзина или ящик для хранения пороха.
(обратно)77
Инвентари — документы, регламентирующие поземельные отношения помещи-ка и крепостного крестьянина.
(обратно)78
Сражение на р. Черной в Крыму 4 августа 1855 г.
(обратно)79
любовь к родине
(обратно)80
так как это явится триумфом варварства над цивилизацией.
(обратно)81
что они защищают скверное дело.
(обратно)82
ненавистник Пруссии (нем.).
(обратно)83
Эпизод войны 1853–1856 гг., которая имела не только крымский, но и кавказский театр военных действий, где одним из мест противостояния была крепость Каре.
(обратно)84
Департамент герольдии Правительствующего Сената, занимался вопросами численности, службы и прав дворянства.
(обратно)85
В тексте — только одно стихотворение.
(обратно)86
Восис — американец, с которым Клейнмихель заключил контракт на ремонт железной дороги на 12 лет. Этот контракт был так невыгоден, что никто не мог понять, как можно было решиться его заключить. Об этом в свое время много было говорено (примечание автора).
(обратно)87
Лаж — разница, образующаяся при обмене одного вида денег на другой.
(обратно)88
Мне необходимо сказать Вам несколько слов.
(обратно)89
Я знаю, что Вы пытаетесь обвинить мое министерство, но мне это совершенно безразлично и я выше этого. Я первым признаю, что мы погрязли в злоупотреблениях, но это не повод, чтобы сообщать это публике. В отношениях между министерствами необходимо соблюдать приличия и поступать соответствующим образом.
(обратно)90
целование руки
(обратно)91
Известный циркуляр великого князя Константина Николаевича от 26 ноября 1855 г., согласно которому отчеты по Морскому министерству должны были отражать реальное положение дел.
(обратно)92
См.: выше, комм. 37 к т. I.
(обратно)93
Аксельбант — наплечный шнур на мундире, имеющий металлические наконечники. В русской армии присвоен адъютантам, а также офицерам Генерального штаба, корпуса топографов, жандармам, фельдъегерям; здесь — адъютанта Николая I, на наконечнике аксельбанта находился вензель императора.
(обратно)94
Религиозный обычай поста и молитвы перед обрядом исповеди и причастия.
(обратно)95
Протасов Николай Александрович (1799–1855) — обер-прокурор Святейшего Синода (1836–1855), генерал-адъютант, который в 1834 г. перешел на гражданскую службу.
(обратно)96
Очевидно, М. А. Бажанов — чиновник Комиссариатского департамента Морского министерства.
(обратно)97
Команда увечных и негодных к строевой службе по болезни или ранению нижних воинских чинов. Использовалась в уездных городах для несения полицейских функций.
(обратно)98
Одно из названий Турции.
(обратно)99
В царствование Николая I несколькими указами была создана обстановка почти полной невозможности отъезда за границу, и все ждали отмены этих запретов.
(обратно)100
Так называется официальное послание Папы Римского
(обратно)101
Речь Александра II московскому дворянству 30 марта 1856 г., считается первым публичным заявлением императора о его готовности начать освобождение крестьян. Ее толковали по-разному и в противоположных смыслах, ибо император заявил, с одной стороны, о том, что он не намерен отменять крепостное право, а с другой — предупредил дворянство, что лучше освободить крепостных «сверху», чем ждать, когда они сами освободят себя «снизу».
(обратно)102
Рескрипт — форма официального письма императора к подданному. Его признаками были: обращение по имени-отчеству, личная подпись монарха. Рескрипт обычно посылался человеку, состоявшему на государственной службе, при его назначении на должность, уходе в отставку, награждении орденом. Чаще всего имел узкое назначение — выразить монаршее благоволение; публиковался в официальной печати.
(обратно)103
Поживем — увидим!
(обратно)104
Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного, высшего ордена Российской империи.
(обратно)105
Отзвук споров о том, каким должно было быть направление обучения наследника престола великого князя Николая Александровича — военное или светское.
(обратно)106
очень слабая (нем.)
(обратно)107
Согласно Манифесту 1856 г., из эмиграции было разрешено вернуться полякам — участникам восстания 1830–1831 гг.
(обратно)108
Чарльз Непир, сэр (1786–1860) — английский дипломат.
(обратно)109
Остров в Балтийском море, ныне о. Сааремаа, территория Эстонии.
(обратно)110
Вероятно, имеется в виду Ф. П. Врангель (1796–1870), в то время управляющий Морским министерством.
(обратно)111
Оболенский Александр Дмитриевич (1847–1917) — старший сын Д. А. Оболенского.
(обратно)112
Дорогой мой, на Невском проспекте говорите по-французски, говорите по-французски!
(обратно)113
Прием в царском дворце (устар.).
(обратно)114
Обычно придворные балы открывались медленным торжественным танцем — полонезом, о котором действительно уместнее говорить «ходили», а не «танцевали».
(обратно)115
Шарль Морни (1811–1865) — французский дипломат, в 1856–1857 гг. — посол Франции в России. Оказал большое влияние на заключение Парижского мира 1856 г.
(обратно)116
Бриллиантовые знаки, которые дополняли орден Св. Андрея Первозванного.
(обратно)117
Претекст — предлог (фр.).
(обратно)118
Солдатские дети (от фр. cantone — округ), которые обучались в гарнизонной полковой школе военному делу и ремеслам.
(обратно)119
В 1856 г., в связи с утратой российского флота после Крымской войны и запретом держать в Черном море военные корабли, было учреждено коммерческое Российское общество пароходства и торговли, которое обеспечивало торговое мореплавание.
(обратно)120
Имеются в виду княжества Молдавия и Валахия.
(обратно)121
«Партизан» — здесь: приверженец какого-либо движения.
(обратно)122
II Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, учрежденное 31 января 1826 г. для осуществления кодификации российского законодательства.
(обратно)123
Шемяка — неправедный судья из старинной русской повести «Шемякин суд».
(обратно)124
Газета Военного министерства «Русский инвалид».
(обратно)125
Поживем — увидим!
(обратно)126
Знак внимания (фр.).
(обратно)127
Правительственный совет (комитет) — условное название группы государственных деятелей, всякий раз назначаемых для решения дел текущего управления в случае отсутствия императора в столице.
(обратно)128
Комитет об эмансипации — Секретный комитет по крестьянскому делу (1857–1858), готовивший отмену крепостного права. В 1858 г. преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу.
(обратно)129
В. И. Назимов (1802–1874) — генерал-губернатор Северо-Западных губерний. Представил Александру II ходатайство дворян этих губерний об освобождении крестьян. Опубликованный рескрипт на имя В. И. Назимова положил начало гласному обсуждению крестьянской реформы.
(обратно)130
Б. П. Мансуров (1826–1910) — чиновник особых поручений Морского министерства. Был командирован великим князем Константином Николаевичем в Иерусалим для организации приема православных паломников из России.
(обратно)131
Никогда эти господа не будут достойны доброй воли, каковая движет императором, Ваше Высочество.
(обратно)132
Имеется в виду, что автор был в деловом платье, а не в парадном официальном мундире, как полагалось для визита в великокняжеский дворец.
(обратно)133
Имеется в виду высшее законосовещательное учреждение России — Государственный совет.
(обратно)134
Речь идет о рысистых бегах по льду Невы.
(обратно)135
Речь идет о Гроховском сражении между русскими войсками и польскими повстанцами 13 февраля 1831 г.
(обратно)136
Подразумевается двухлетний срок, отведенный Положениями 19 февраля 1861 г., для оформления новых отношений между помещиками и крестьянами.
(обратно)137
Здесь: назойливой мухи.
(обратно)138
П. А. Шувалов был назначен главноуправляющим III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии и шефом жандармов в апреле 1866 г. вместо подавшего в отставку В. А. Долгорукова.
(обратно)139
Имеется в виду корпус министров, ибо он до 1905 г. не был объединен в единый кабинет министров во главе с премьером.
(обратно)140
Вы могли бы, князь, прислать великой княгине манифест императрицы Екатерины. Ее высочество намерены нанести визит его величеству и хотели бы передать его императору.
(обратно)141
Газета «Голос» — одна из двух (вторая — «Санкт-Петербургские ведомости») наиболее распространенных столичных универсальных газет умеренно-либерального направления.
(обратно)142
«Органических реформ» — т. е. принципиальных, сущностных реформ (дефиниция, в XIX в. весьма распространенная).
(обратно)143
Положения 19 февраля 1861 г. предусматривали запрет для крестьян отказываться в течение первых девяти лет после провозглашения отмены крепостного права от предоставляемых им в пользование земельных участков. Это правило имело в виду дать землевладельцам возможность приспособиться к новым отношениям с бывшими крепостными, сделать процесс освобождения их максимально мягким.
(обратно)144
Нижняя судебная инстанция, созданная судебными уставами 20 ноября 1864 г.; занималась рассмотрением незначительных уголовных преступлений и гражданских исков на сумму менее 500 рублей. Назначением мирового института являлось освобождение создаваемого нового суда от множества мелких дел. Мировые судьи избирались земствами на основании образовательного и имущественного ценза. Решение принимали единолично, вели дела при упрощенном судопроизводстве. Решения мирового судьи утверждались съездом мировых судей уезда. Институт мировых судей существовал до ноября 1917 г.
(обратно)145
Т. е. в Царстве Польском.
(обратно)146
Униатская комиссия занималась делами так называемой «униатской церкви», созданной ради объединения церквей православной и католической на основании унии. К 1870 г. униатские комиссии везде, кроме Царства Польского, были упразднены в связи с ликвидацией униатской церкви, и перенесение такой комиссии из Царства Польского в Петербург было следующим шагом в деле утверждения православной церкви.
(обратно)147
После присоединения Финляндии к России (1809 г.) ей была предоставлена широкая автономия, в том числе и права на функционирование составленного из представителей сословий сейма, созываемого российским императором в качестве великого князя Финляндского. Однако до 1863 г. сеймы в Финляндии не собирались, и только в этом году, чтобы подчеркнуть высокое доверие императора к лояльной по отношению к нему Финляндии, впервые был созван такой сейм. В 1869 г. был принят закон, по которому Финляндия получала право сама раз в три года созывать сеймы.
(обратно)148
Вольноопределяющиеся — лица, добровольно поступающие на военную службу в качестве нижних чинов, несмотря на то, что они были от воинской службы освобождены.
(обратно)149
Военные прогимназии — средние учебные заведения, созданные в 1860-е годы по плану военной реформы вместо ряда кадетских корпусов. Это означало перенесение акцента с военной подготовки на общеобразовательную и приближение полученного в них образования к гимназическому, что давало затем возможность выбора как военной, так и гражданской службы.
(обратно)150
То есть жреческой (лат.). Здесь — духовенство.
(обратно)151
В 1863 г. польские повстанцы создали в Варшаве свое правительство (Ржонд). Генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьев (1796–1866), назначенный в этот регион для подавления повстанческого движения, считал, что среди российских государственных деятелей слишком много людей, сочувствующих польскому дворянству и противодействующих крутым мерам. Вслед за ним это выражение о петербургском «ржонде» неоднократно повторял редактор «Московских ведомостей» Μ. Н. Катков (1818–1887). Он представлял ту часть российского общества, которая считала, что польский «сепаратизм» должен пресекаться быстрыми и очень жестокими мерами.
(обратно)152
М. Н. Муравьев после покушения Д. В. Каракозова (1840–1866) 4 апреля 1866 г. был назначен председателем Верховной следственной комиссии, но, несмотря на свои устные заявления о причастности к покушению высшей петербургской бюрократии, доказать ничего не мог, ибо она, разумеется, не имела к этому отношения.
(обратно)153
Мировые посредники — должность, созданная в ходе крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Избирались из местных помещиков для составления уставных грамот — документов, фиксировавших размер земельных участков, предоставляемых крестьянам, и следующие за него обязанности. Кроме того, они выступали в качестве инстанции, рассматривавшей спорные вопросы отношений крестьян и их бывших владельцев. Деятельность первой группы мировых посредников (так называемых посредников «первого призыва») очень высоко оценивалась общественным мнением России, признававшим их заслугу в том, что реформа была проведена без значительных столкновений двух сторон.
(обратно)154
Административная юстиция занималась случаями нарушения чиновниками публичных прав частных лиц.
(обратно)155
Правовая разработка военной реформы.
(обратно)156
Лечебный мясной бульон, названный так по имени его изобретателя — химика Ю. Л. Либиха.
(обратно)157
крайней степени (лат.)
(обратно)158
Речь идет о трехзвенной системе мировых по крестьянским делам учреждений, основу которых составлял выборный институт мировых посредников, чья должность была создана как независимая от администрации — губернатора, министра внутренних дел. Это создавало для последних неудобства в случаях недовольства местных помещиков решениями мировых посредников. Поэтому постоянно шел процесс изменения их состава: часть из них сама покидала эту должность, частью об этом заботилось Министерство внутренних дел, постоянно отыскивая правовую основу превращения их в назначаемых чиновников.
(обратно)159
Речь идет об указе Александра I (1801 г.), в очередной раз упразднявшем учреждение политического сыска — Тайную экспедицию, созданную Екатериной II в 1762 г. Ее функции были переданы департаментам Сената.
(обратно)160
Великий князь Московский (1479–1533), правил в 1505–1533 гг., отец Ивана IV («Грозного»).
(обратно)161
Точное название — «Императорское Московское общество истории и древностей российских», учрежденное в 1804 г. при Московском университете. Занималось поиском, изучением и публикацией документов российской древней истории; издавало научные труды — «Временник» и «Чтения».
(обратно)162
Газета Московского университета «Московские ведомости» была отдана Μ. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву в аренду, т. е. по условиям договора университет мог сменить арендатора; на деле университет всегда поддерживал редакторов газеты.
(обратно)163
Благерство — шутовство, балагурство (от фр. Blague — «шутка»). Φ. Ф. Берг — наместник в Царстве Польском, ему в это время было почти 80 лет.
(обратно)164
Речь идет о походе в Венгрию 1849 г.
(обратно)165
Рассказ из истории Древней Греции о ее государственном деятеле Алкивиаде, отрубившем хвост у своей дорогой красавицы-собаки и объяснившем свой поступок так: афиняне будут заняты собакой и не станут сплетничать о самом Алкивиаде (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2-х томах. М., 1987. Т. 2. С. 248).
(обратно)166
Здесь: узкий кружок.
(обратно)167
завтрак с танцами
(обратно)168
Так в Прибалтике называлось собрание местного дворянства, немецкого по происхождению.
(обратно)169
Здесь — в значении «утвержденные».
(обратно)170
То есть с Царством Польским, созданным по решению Венского конгресса (1815 г.).
(обратно)171
Директор Таможенного департамента князь Оболенский, которого польская газета объявила арестованным как заговорщика, только что назначен товарищем министра государственных имуществ. Это лучший ответ на постоянную ложь, распространяемую польской прессой.
(обратно)172
Имеется в виду старший сын Александра II великий князь Николай Александрович (1843–1865), скончавшийся в Ницце 13 апреля 1865 г.
(обратно)173
У наследника престола великого князя Александра Александровича был сын Александр, родившийся в мае 1869 г. и скончавшийся младенцем в апреле 1870 г.
(обратно)174
«Вся польская партия» — условное наименование группы министров, считавших необходимым проводить по отношению к Царству Польскому более мягкую политику. Их сочувствие не Пруссии, а Франции в данном случае означает, что эти министры симпатизируют Франции как стране, приютившей в очередной раз польскую политическую оппозицию.
(обратно)175
Кстати
(обратно)176
Здесь имеется в виду польское восстание 1863 г.
(обратно)177
В условиях капитуляции французской армии в Париже началось массовое движение. Парижские рабочие потребовали провозглашения республики; она была провозглашена, и из буржуазных республиканцев, главным образом правой ориентации, создано так называемое «правительство национальной обороны». Его и имеет в виду Д. А. Оболенский.
(обратно)178
правительство фактически
(обратно)179
Придворная должность человека, отвечающего за организацию императорской охоты.
(обратно)180
Здесь: помещение или место с кустарником для содержания дичи.
(обратно)181
Если бы ему посчастливилось служить подобному монарху, он никогда бы не возражал против режима личной власти.
(обратно)182
что никто не заставит его сдержать слово.
(обратно)183
Далее неразборчиво.
(обратно)184
Д. А. Оболенский имеет в виду время существования Священного союза европейских монархов, созданного после разгрома Наполеона Бонапарта, в котором ведущую роль играла Россия. Священный союз существовал в 1815 — начале 1830-х годов, после чего внутренние проблемы его участников и межгосударственные противоречия привели к фактическому распаду Союза, сложившегося перед лицом общей опасности.
(обратно)185
А. Тьер — не только государственный деятель Франции, но и крупный историк. Самые известные его сочинения — «История французской революции» и «История консульства и империи», т. е. собственно история Наполеона Бонапарта, которого он очень высоко ценил. Российское образованное общество было знакомо с сочинениями А. Тьера, читавшимися в оригинале.
(обратно)186
А. Тьер после переворота 2 декабря 1851 г., когда был уничтожен институт республики и разогнано Законодательное собрание Франции, членом которого он являлся, был выслан.
(обратно)187
Европейские державы, в том числе Франция, в 1863 г., в период разворачивавшегося польского восстания, своими дипломатическими нотами пытались поддержать Царство Польское.
(обратно)188
французская горячность
(обратно)189
Подразумевается, что после летних вакаций и обычных летних поездок Александра II возобновится рутинное течение государственной жизни, а с тем вместе и деятельность шефа жандармов как лидера консервативной политической группировки в правительственных кругах.
(обратно)190
Высшее государственное учреждение России, впервые созданное в 1857 г. и официально оформленное в 1859 г. с целью обсуждения в узком кругу самых важных вопросов. Председательствовал в Совете министров сам император, а членами Совета министров являлись все министры и немногие из лиц, специально императором назначенных. На заседания по повелению монарха приглашались и сановники, не являвшиеся членами Совета, если их присутствие признавалось полезным при рассмотрении данного вопроса. Совет во второй половине 1860-Х-1870-Х годах собирался крайне редко.
(обратно)191
Подразумеваются Молдавия и Валахия.
(обратно)192
он говорит об этом единомышленнику
(обратно)193
пошел ко дну
(обратно)194
Имеется в виду газета «Indépendence Belge».
(обратно)195
То есть времени летних каникул (вакаций).
(обратно)196
Крайности сходятся.
(обратно)197
К концу 1860-х годов при Министерстве финансов был выработан проект замены подушной подати подворным и поземельным налогами. При этом менялся принцип обложения: налог из личного превращался в имущественный, и это было шагом вперед. Однако контингент его плативших и сумма налогов сохранялись — это означало, что положение налогоплательщиков (а большинство их составляли крестьяне) не изменится. Поскольку изменение налогового принципа было важнейшей проблемой, затрагивавшей обеспечение российского бюджета, то было решено как следует обсудить проект. А так как Александр II хотел наладить отношения с земскими учреждениями — местным самоуправлением, против которого недавно принимались репрессивные меры, то проект был передан на рассмотрение земств, с тем чтобы они высказались относительно целесообразности его обсуждения. Однако земства единодушно указали на его слабые места и предложили расширить круг налогоплательщиков за счет сословий, в тот момент от прямого обложения освобожденных, и проект был отложен. Подушная подать была отменена только во второй половине 1880-х годов по инициативе министра финансов Н. X. Бунге.
(обратно)198
Имеется в виду прусская система мобилизации в армию во время войны подготовленных людей из запаса 2-й очереди; вид ополчения.
(обратно)199
Имеется в виду Московское общество сельского хозяйства — одно из первых научно-практических обществ, занимавшихся внедрением в сельское хозяйство передовых методов хозяйствования. В 1870 г. отмечало 50-летнюю годовщину своей успешной деятельности.
(обратно)200
Перлюстрация — вскрытие на почте частной корреспонденции. Хотя закон неоднократно подтверждал строгий запрет на это, но тем не менее перлюстрация практиковалась, и одним из ее мотивов были заявления органов политического сыска о необходимости следить за общественными настроениями и пресекать возможные антиправительственные заговоры.
(обратно)201
«Матерь стояла» (лат.) — начальные слова католического гимна.
(обратно)202
Первые слова католической мессы.
(обратно)203
Династические вопросы, династические интересы
(обратно)204
династических вопросов
(обратно)205
разделяю Вашу радость
(обратно)206
Я разделяю Вашу радость
(обратно)207
Война столь же славная, сколь кровавая, которая нами одержана с легкостью каковой примера еще не было.
(обратно)208
Никогда Пруссия не забудет, что именно Вам она обязана тем, что война не приобрела слишком больших размеров.
(обратно)209
Туерное пароходство — особый способ провоза грузов против течения реки с помощью прокладываемого по дну реки механизма.
(обратно)210
хотели позолотить его гроб
(обратно)211
Князь Черниговский — общий предок Горчаковых и Оболенских.
(обратно)212
Так в тексте.
(обратно)213
Намек на то, что все руководящие деятели того времени — выпускники Пажеского корпуса, готовившего либо к придворной, либо к военной службе, но отнюдь не к административной деятельности. В частности, П. А. Шувалов — выпускник Пажеского корпуса.
(обратно)214
Имеется в виду преобразование Министерства государственных имуществ в Министерство торговли и промышленности. Проект не был осуществлен, а Министерство торговли и промышленности было учреждено в России только в октябре 1905 г.
(обратно)215
кузена
(обратно)216
Гапсаль — современный Хаапсалу (Эстония).
(обратно)217
Екатерина Михайловна Долгорукая (Долгорукова) (1847–1922) в течение многих лет была фавориткой Александра II, с июля 1880 г., после смерти императрицы — его морганатическая жена.
(обратно)218
Общее собрание Евангелического союза протестантов.
(обратно)219
Если это не секрет, Ваше Величество, что ответил император?
(обратно)220
Он мне этого не говорил. Он сказал только — ты понимаешь, что ответить было нетрудно.
(обратно)221
От вас зависит передать вашим доверителям рассказ о нашем разговоре.
(обратно)222
скверное дело
(обратно)223
Оба учебных заведения — Московская земледельческая академия и Петербургский земледельческий институт — находились, как специальные учебные заведения, в ведении Министерства государственных имуществ, где служил Д. А. Оболенский.
(обратно)224
Д. А. Оболенский имеет в виду только что подавленную, просуществовавшую 72 дня Парижскую Коммуну, созданную восставшим парижским пролетариатом. Парижская Коммуна (18 марта — 28 мая 1871 г.) — избранное восставшими жителями Парижа революционное правительство, преследовавшее, прежде всего, две цели — организацию отпора прусским войскам в условиях разгрома французской армии и проведение демократических преобразований. Парижская Коммуна сильно встревожила российскую верхушку, и предполагавшиеся в это время российскими правительственными кругами меры подавались неизменно с аргументами, напоминающими о необходимости предотвращения развития событий, аналогичных парижским.
(обратно)225
Сергей Николаевич Урусов (1816–1883) официально тогда занимал должность главы II (кодификационного) Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Но обращение императора к С. Н. Урусову объясняется не его должностью, а тем, что он доверял этому очень близкому ему и императрице человеку, образованному юристу, и считал его способным провести законодательную корректировку судебной реформы.
(обратно)226
Не приведено в тексте.
(обратно)227
ни холодно, ни жарко
(обратно)228
Федор Петрович Корнилов (1809–1895) был управляющим делами Комитета и Совета министров, и в его обязанности входила организация заседаний Совета министров, в частности извещение членов Совета и приглашенных о предстоящем заседании.
(обратно)229
Т. е. средства, способы.
(обратно)230
Московский дворянский институт (или пансион) — среднее учебное заведение при Московском университете для детей среднесостоятельного дворянства. В нем преподавали университетские профессора.
(обратно)231
За общественную безопасность в это время отвечали: III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Министерство внутренних дел и градоначальство, в ведении которого находилась городская полиция. Глав этих институтов и имеет в виду Д. А. Оболенский.
(обратно)232
Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834) — временщик Павла I и Александра I, которому доверием монархов была вверена огромная власть. Его имя стало символом полицейского деспотизма. Шеф жандармов П. А. Шувалов напоминал современникам А. А. Аракчеева своей ролью при Александре II, и его нередко называли «вторым Аракчеевым».
(обратно)233
Для освоения пустующих земель российские монархи приглашали иностранцев, которые компактно («колонией») заселяли отводившиеся им казенные земли.
(обратно)234
Имеется в виду награждение орденом Св. Александра Невского министра государственных имуществ. Награждение государственного деятеля орденом такого высокого достоинства обычно сопровождалось личным обращением монарха к награжденному, что особенно подчеркивало его благосклонность.
(обратно)235
Государственный совет состоял из нескольких департаментов, рассматривавших законопроекты и готовивших их для окончательного обсуждения в Общем собрании.
(обратно)236
Д. А. Оболенский констатирует тот факт, что должность члена Государственного совета была гораздо более спокойной и свободной, нежели административная, сопряженная с ежедневными многочисленными обязанностями.
(обратно)237
Онеры — здесь: честь, почести (фр.).
(обратно)238
Члены Государственного совета приносили присягу с подписанием особого листа, где фиксировался этот факт. Подписание листа входило в ритуал введения в корпус членов Государственного совета нового их коллеги.
(обратно)239
В особо сложных случаях законопроект мог обсуждаться в собрании членов двух департаментов Совета; такое собрание называлось «соединенным присутствием».
(обратно)240
Т. е. к народу, к обществу. Термины «земля», «земство» раньше часто употреблялись в этом именно смысле.
(обратно)241
перемещение фондов (с одной статьи на другую).
(обратно)242
Министерство государственных имуществ ведало казенными землями, и одной из форм награждения высокопоставленных чиновников было предоставление им в долгосрочную аренду участков казенных земель. Награждение всегда производилось с разрешения Александра II.
(обратно)243
Я хочу придать направление министерству.
(обратно)244
Царицын луг (Потешное поле, Марсово поле) — площадь в Петербурге, где проходили народные увеселения в праздничные дни, а также военные парады.
(обратно)245
Город в живописных лесах у Женевского озера.
(обратно)246
Д. А. Оболенский имеет в виду таможенников, находившихся под его начальством в 1860-е годы, когда он был директором Таможенного департамента Министерства финансов.
(обратно)247
В XIX в. существовал обычай награждения российскими орденами иностранных подданных, чаще всего, разумеется, членов августейших фамилий и государственных деятелей. Д. А. Оболенский говорит о том, что Александр II раздал слишком много боевых орденов (а орден Св. Георгия давали только участникам боев) прусским военным во время последней (1870–1871 гг.) войны Пруссии с Францией.
(обратно)248
Здесь: близок к истине.
(обратно)249
Так в тексте.
(обратно)250
Имеется в виду Петропавловская крепость Петербурга, где хоронили монархов и членов императорской фамилии.
(обратно)251
Речь идет о награждении орденом Св. Андрея Первозванного.
(обратно)252
Принятое во второй половине XIX в. название передовой статьи, написанной от редакции и отражавшей ее точку зрения на какую-нибудь проблему.
(обратно)253
Государственная служба российских чиновников часто называлась «коронной», т. е. подчеркивалось, что они служат монархии, «короне». Отсюда и наименование «коронный мундир», т. е. официальное платье человека, находящегося на службе.
(обратно)254
См. выше, комм. 25.
(обратно)255
В 1-м примечании к II статье Городского положения говорится, что когда в губернском присутствии обсуждается дело города Москвы, председательство может принять генерал-губернатор, а губернатор тогда обращается в простого члена (примечание автора).
(обратно)256
хорошим тоном
(обратно)257
Подразумевается закон о всеобщей воинской повинности.
(обратно)258
в высших сферах
(обратно)259
В высшие государственные учреждения иногда призывались эксперты с ограниченной задачей и правами. Они могли только отвечать на поставленные им вопросы, а не высказываться по своему усмотрению. К тому же на заседании они не участвовали в голосовании.
(обратно)260
Так в тексте.
(обратно)261
Имеется в виду Всемирная промышленная выставка в Париже в 1867 г.
(обратно)262
Речь идет о законе, который вошел в историю как цензурная реформа 6 апреля 1865 г.
(обратно)263
это его позиция.
(обратно)264
я сжег мои корабли
(обратно)265
Вакантом — каникулами (вакациями).
(обратно)266
Крымское имение великого князя Константина Николаевича.
(обратно)267
Так в тексте.
(обратно)268
Это задает тон на весь сезон.
(обратно)269
Мой сын сможет это сделать.
(обратно)270
Не позволяйте себе приходить в уныние.
(обратно)271
Это хорошо для кондитера.
(обратно)272
Это может быть довольно для фамилии, но еще недостаточно для страны.
(обратно)273
В 1866 г. было учреждено Императорское Русское историческое общество, почетным председателем которого был наследник великий князь Александр Александрович (будущий император Александр III). Общество было создано с целью публикации исторических материалов и исследований; в него входили крупнейшие российские историки. Оно издавало сборники документов и статей (до 1917 г. было издано около полутора сотен) и Русский биографический словарь. Русское историческое общество дало толчок поискам исторических документов на местах, поддержав создание губернских ученых архивных комиссий.
(обратно)274
постоянно
(обратно)275
Альфред-Эрнест-Альберт (1844–1900), принц Великобританский, герцог Эдинбургский — жених великой княжны Марии Александровны (1853–1920).
(обратно)276
Здесь «состояний» — синоним «сословий».
(обратно)277
Кого же здесь обманывают?
(обратно)278
образ жизни (лат.)
(обратно)279
Вы можете быть уверены, что теперь никакая немецкая принцесса не захочет менять религию, выходя за ваших великих князей.
(обратно)280
Удельное ведомство занималось землями, принадлежавшими членам императорской фамилии и составлявшими основу доходов последних.
(обратно)281
Порядок наследования имущества старшим из сыновей, чтобы не дробить собственность.
(обратно)282
Александр Львович Потапов (1818–1886) — в это время генерал-губернатор Северо-Западных губерний — Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Могилевской
(обратно)283
фактически (лат.)
(обратно)284
Д. А. Оболенский имеет в виду, что внешняя политика была исключительной прерогативой императора и министр иностранных дел работал преимущественно с ним. Такие внешнеполитические решения не обсуждались в Комитете министров и Государственном совете.
(обратно)285
для пользы дела.
(обратно)286
Он либерал в целом и деспот в деталях.
(обратно)287
свобода вероисповедания.
(обратно)288
Речь идет о графе Алексее Павловиче Бобринском, сменившем Владимира Алексеевича Бобринского на этом посту.
(обратно)289
Д. А. Оболенский не ошибся: адмирал К. Н. Посьет (1819–1899) занимал пост министра путей сообщения 14 лет (1874–1888) и получил отставку после известной катастрофы царского поезда возле ст. Борки в 1888 г., уже в царствование Александра III.
(обратно)290
Считается, что Александр II назначил А. Л. Потапова как раз после активности П. А. Шувалова потому, что захотел показать, что он не нуждается в поводыре и может обойтись человеком заурядным.
(обратно)291
Ектения — «просительная» часть церковной службы, когда диакон или священник возглашают обращение к Богу (например, «Господи, помилуй!»).
(обратно)292
Аресты молодежи последовали после массового хождения молодых людей, придерживавшихся революционных воззрений, «в народ», преимущественно в Поволжские губернии.
(обратно)293
Д. А. Оболенский был прав: Д. А. Толстой был уволен в отставку только в 1880 г.
(обратно)294
Имеется в виду Николай Алексеевич Милютин (1818–1872) — товарищ министра внутренних дел, главный деятель в период разработки крестьянской реформы.
(обратно)295
ярко, как днем (итал.)
(обратно)296
в тупик
(обратно)297
Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1807–1888) — экономист, статистик, чиновник Министерства государственных имуществ (1837–1859), затем чиновник Государственного совета (статс-секретарь Департамента экономии), автор четырехтомной биографии графа П. Д. Киселева и истории проведенной им реформы государственной деревни. В 1875 г. стал членом Государственного совета.
(обратно)298
Статс-секретарь — в российской государственной жизни — и должность, и почетное звание, не сопряженное с исполнением каких-либо конкретных обязанностей. Статс-секретарь Государственного совета — должность секретарская.
(обратно)299
Финансовый комитет (Комитет финансов) — одно из высших государственных учреждений дореволюционной России (1806–1917), собиравшееся нерегулярно и только по распоряжению императора для рассмотрения вопросов экономики, бюджета, займов, денежной реформы, налогов и пр. Министерству финансов не подчинялся, собственного канцелярского аппарата не имел. Члены Финансового комитета назначались монархом.
(обратно)300
Имеется в виду идея Д. А. Толстого, Μ. Н. Каткова и некоторых других, что нужным идеологическим и религиозным воспитанием можно создать молодое поколение с устойчивыми консервативными взглядами.
(обратно)301
Здесь «видимо» — в значении «явно».
(обратно)302
комитеты следуют чередой, но не напоминают один другого
(обратно)303
Флейтщик — флейтист музыкального полка.
(обратно)304
П. А. Вяземский (1782–1878) поместил в подготовленном Д. А. Оболенским издании «Хроника недавней старины» свое письмо Д. А. Оболенскому с благодарностью за присылку ему корректуры.
(обратно)305
Фанни Лир. Воспоминания американки.
(обратно)306
в повестке дня
(обратно)307
Уездный город тогдашней Лифляндской губернии (теперь Латвия), в живописной местности, называвшейся условно «Ливонская Швейцария».
(обратно)308
в целом, полностью (лат.)
(обратно)309
Д. А. Толстой занимал одновременно две должности — министра народного просвещения и обер-прокурора Святейшего Синода.
(обратно)310
Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882) — внук А. В. Суворова. В 1875 г. — член Государственного совета, генерал-инспектор пехоты.
(обратно)311
Д. А. Оболенский был назначен в марте 1862 г., будучи еще директором департамента Морского министерства, председателем Комиссии для пересмотра, изменения и дополнения постановлений по делам книгопечатания. Комиссия работала до осени 1862 г. и представила «Проект Устава о книгопечатании» (СПб., 1862). Поскольку к тому времени цензура частично, а в начале 1863 г. и окончательно, была передана из Министерства народного просвещения в Министерство внутренних дел, то начался новый этап разработки проекта и вновь создана комиссия, которая должна была представить новую редакцию проекта. Ее председателем был снова назначен Д. А. Оболенский. Он считал созданную этой комиссией редакцию проекта сбалансированной и болезненно относился к попыткам изменить законопроект.
(обратно)312
Имеется в виду закон 6 апреля 1865 г., так называемая «цензурная реформа» (ПСЗ II. Т. XL. № 41.990). Современники оценивали его как предоставляющий министру внутренних дел слишком большие возможности для административного произвола.
(обратно)313
Вакации — следует: вакансии (свободная должность, место).
(обратно)314
Лорд Г. Редсток — английский проповедник евангелизма. В России середины 1870-х годов его проповеди пользовались большим успехом в среде российского высшего света, и у него появился российский ученик В. А. Пашков. Поэтому последователей редстокизма в России называли «пашковцами». Увлечение евангелизмом приняло такие заметные размеры, что оно стало темой повести-памфлета князя В. П. Мещерского «Лорд-апостол в большом петербургском свете», вышедшей в 1876 г.
(обратно)315
Пиетизм — благочестие.
(обратно)316
Имеется в виду Министерство государственных имуществ. Когда министр А. А. Зеленый (1818–1880) был в отъезде или болел, его замещал — по своей должности товарища министра — Д. А. Оболенский.
(обратно)317
надобно приучить себя к тому, чтобы чувствовать свою вину уже за одно только свое положение великой княгини.
(обратно)318
Имеется в виду церковная служба 5 апреля 1876 г. с благодарственным молебном в память о десятилетии спасения Александра II от первого на него покушения Д. В. Каракозова (1842–1866) 4 апреля 1866 г.
(обратно)319
Имеется в виду издание «В память Юрия Федоровича Самарина. Речи, произнесенные в Петербурге и Москве по поводу его кончины» (М., 1876).
(обратно)320
Имеется в виду Общество любителей российской словесности, основанное при Московском университете в 1811 г. Ю. Ф. Самарин (1819–1876) был выпускником словесного отделения Московского университета и членом этого Общества.
(обратно)321
После нас хоть потоп
(обратно)322
Очевидно, подразумеваются события 1872 г., когда Д. А. Оболенский должен был стать либо министром государственных имуществ после отставки или смерти болевшего А. А. Зеленого, либо министром торговли и промышленности; проект создания министерства был ему поручен Александром II.
(обратно)323
Башибузуки — иррегулярные турецкие отряды, получавшие от правительства вооружение, амуницию и продовольствие, но не получавшие жалования. Были известны отсутствием дисциплины и грабежом мирного населения.
(обратно)324
Становится необходимым привлечение внимания европейских правительств к факту, который на первый взгляд представляется столь ничтожным, что правительства, кажется, отнюдь его не замечают. Факт этот заключается в том, что убивают народ. И где? В Европе! Нуждается ли этот факт в свидетелях? Свидетель тому — весь мир! Видят ли это правительства? Нет! Народы находятся выше правительств. Цивилизация сосредоточена в народах, варварство — в правительствах. Этого варварства они хотели? Нет! Они просто профессионалы. То, что простые люди видят, правительства не ведают. Эта близорукость именуется соображениями государственного порядка. У простых людей другой взгляд — совесть.
(обратно)325
Вступлению России в войну с Турцией предшествовало широкое общественное движение помощи славянским народам, в частности восставшим против Турции сербам. Несколько тысяч российских добровольцев отправились туда воевать.
(обратно)326
Имеется в виду Государственный совет в царствование императора Александра I.
(обратно)327
Соглашение 1873 г. Александра II, Франца-Иосифа и Вильгельма I о совместных действиях в случае военной угрозы со стороны какой-либо третьей державы.
(обратно)328
Следует: Московского коммерческого банка.
(обратно)329
Форма изъятия из обращения обесценившихся (в результате усиленного их печатания) бумажных денег.
(обратно)330
Римессы — финансовые операции погашения долга в иностранной валюте.
(обратно)331
М. X. Рейтерн (1820–1890) действительно просил отставки и по настоянию Александра II сохранил пост до окончания войны, после чего в 1878 г. по прошению был уволен.
(обратно)332
9 / 21 января 1877. (Частная депеша). Константинополь, суббота, 20 января 1877.
На сегодняшнем заседании конференции полномочные представители заявили о единстве европейских государств в отношении Порты. Они признали, что Оттоманское правительство ответственно за всякое нападение на Сербию или Черногорию, также за всякое насилие над христианами не только в Боснии, Герцеговине и Болгарии, но также в Эпире, Фессалии, Греции и т. д. Они заявили, что Порта своим упрямством вынудила великие державы признать недействительными договоры, которые гарантировали ее существование и ее целостность в европейском концерте. Послы и полномочные представители шести великих держав покидают Константинополь.
(обратно)333
Европейский концерт
(обратно)334
Concert européen — «Европейский концерт» (фр.), дипломатический термин: содружество великих европейских государств, никак не оформленное. Здесь: державы, подписавшиеся под Парижским трактатом 1856 г.
(обратно)335
Россия более уже не собирается с мыслями, она сердится.
(обратно)336
«Россия более не сосредоточивается, она сердится». «Россия сосредоточивается» — выражение из первого программного циркуляра А. М. Горчакова — как министра иностранных дел — от 21 августа 1856 г.
(обратно)337
Троицкое подворье — очевидно, Троицкий собор Александро-Невской лавры.
(обратно)338
Н. П. Игнатьев оставил об этой поездке записки, вышедшие в 1914 г. сначала в журнале «Русская старина», а затем отдельным изданием: «Поездка графа Н. П. Игнатьева по европейским странам перед войной 1877–1878 гг.».
(обратно)339
Имеется в виду Петербургское славянское благотворительное общество — организация, занимавшаяся частной поддержкой славянских народов Балканского полуострова, находившихся под турецким игом.
(обратно)340
Речь И. С. Аксакова от 6 марта 1877 г. была последним актом его длительных усилий принудить правительство оказать балканским славянам военную поддержку. Подробнее об этом см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 232–235.
(обратно)341
23 апреля 1877 г. Александр II принимал в Кремлевском дворце депутатов московского дворянства и Городской думы и в ответ объяснил собственную позицию: «Я желал донельзя щадить дорогую русскую кровь, но старания мои не увенчались успехом… Манифест Мой… возвестил в России, что минута, которую Я предвидел, для нас настала, и вся Россия, как Я ожидал, откликнулась на Мой призыв» (Татищев С. Император Александр Второй: Его жизнь и царствование. М., 1996. Кн. 2. С. 350).
(обратно)342
Главнокомандующим на Балканском театре военных действий был назначен великий князь Николай Николаевич, по общему признанию, оказавшийся не на высоте своих обязанностей, что проявилось в ходе войны. Но Александр II не захотел ни обижать брата, ни менять командующего во время военных действий, несмотря на оказываемое на него давление, в том числе и со стороны наследника престола великого князя Александра Александровича. Кавказской армией командовал другой его брат — великий князь Михаил Николаевич, наместник Кавказский.
(обратно)343
Речь идет о Северном Кавказе и Закавказье.
(обратно)344
Подразумеваются военные действия на Дунае, Балканах и на Кавказе.
(обратно)345
«Пока оттягали», т. е. отстояли принципиально важный перевал через Балканский хребет к побережью, к важнейшим центрам Турции, в частности к Константинополю.
(обратно)346
«Нечестивый мертвец» — мусульманская Турция, считавшаяся накануне войны государством агонизирующим, смертельно больным.
(обратно)347
Имеются в виду две решающие победы российской армии на Балканах и на Кавказе. Крепость Плевна, где находилась наиболее боеспособная часть турецкой армии, капитулировала после долгой осады 28 ноября (10 декабря) 1877 г. Несколико ранее, 6(18) ноября 1877 г., российская армия штурмом овладела на Кавказе крепостью Каре. Это предопределило завершение военных действий.
(обратно)348
Англия не только давала понять, что не допустит окончательного разгрома Турции, но и ввела свои корабли в Мраморное море, демонстрируя готовность силой воспрепятствовать занятию Константинополя и одновременно настаивая на пересмотре предварительных условий мира. Англия была поддержана Австро-Венгрией, проведшей мобилизацию.
(обратно)349
В. А. Черкасский был назначен заведующим гражданской частью в Болгарии и должен был влиять и на будущее устройство ее, и на ее отношения с Россией.
(обратно)350
В 1866 г. В. А. Черкасский подал в отставку с поста главы правительственной Комиссии внутренних и духовных дел Царства Польского, после того как с Н. А. Милютиным, лидером целой группы российских деятелей в Царстве Польском, произошел апоплексический удар. Министр внутренних дел так передает слова Черкасского, сказанные им Александру II: «Его с жандармами не заставят возвратиться в Царство и что Н. Милютин — то же в польском деле, что был Ростовцев в крестьянском» (Балуев П. А. Дневник. М., 1961. Т 2. С. 173).
(обратно)351
Имеются в виду приближавшиеся переговоры европейских держав с Турцией (в канун русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) с целью мирным путем добиться от нее некоторых устных гарантий безопасности славянского населения Балкан.
(обратно)352
Перечислены чиновники российского Министерства иностранных дел.
(обратно)353
Синекура — хорошо оплачиваемая, не требующая труда должность (лат). Здесь — должность ниже возможностей В. А. Черкасского.
(обратно)354
Все ведущие европейские державы с обостренным вниманием следили за тем, чтобы ни одна из них не усиливалась, не имела никаких преимуществ, и оберегали свои собственные территориальные интересы. Поэтому при каком-либо конфликте европейские державы сплачивались и довольно дружно противостояли вырвавшемуся вперед государству, в данном случае — России.
(обратно)355
Сан-Стефанский мирный договор. «Прелиминарии» — особая коллизия в дипломатической практике, когда мирный договор заключался не окончательно, а поэтапно. В данном случае прелиминарность (предварительность) договора России с Турцией объясняется тем, что их отношения определялись Парижским договором (трактатом) 1856 г., подписанным не только этими двумя империями, но еще и другими европейскими государствами, являвшимися гарантами нерушимости условий соглашения.
(обратно)356
Имеются в виду два возможных решения вопроса о генеральном направлении в аграрной, социальной и пр. политике в Царстве Польском, являвшемся в то время частью Российской империи.
(обратно)357
Этот рескрипт Е. А. Черкасской отличается тем, что направлен не государственному деятелю, как обычно адресовался рескрипт, а женщине, официальным лицом не являвшейся. Поэтому рескрипт следует считать знаком особого монаршего внимания.
(обратно)358
Место составления рескрипта обусловлено тем, что В. А. Черкасский в самом начале войны с Турцией был назначен уполномоченным Красного Креста при действующей армии (наряду с должностью заведующего гражданской частью в Болгарии).
(обратно)359
Имеется в виду так называемый «большой процесс» или «процесс 193-х» — суд над участниками революционных народнических кружков в Особом присутствии Правительствующего Сената в октябре 1877 — январе 1878 г.
(обратно)360
В. И. Засулич эмигрировала в Швейцарию.
(обратно)361
Очевидно, Д. А. Оболенский намеревался приложить стенограмму (или часть ее) к дневнику, но на самом деле далее следуют его личные воспоминания в связи с судом над В. И. Засулич, который действительно взбудоражил всю Россию.
(обратно)362
А. Ф. Кони (1844–1927) оставил объемистые мемуарные очерки, в том числе и «Воспоминания о деле Веры Засулич». В них он очень скрупулезно восстановил обстановку подготовки и проведения судебного процесса и объяснил свою позицию как вполне корректную и ничем не нарушавшую судебные уставы 1864 г. и существовавшую судебную практику. Воспоминания эти неоднократно переиздавались и включены во 2-й том его Собрания сочинений (М., 1966).
(обратно)363
Так же считал и Александр II, и министр юстиции в мае 1878 г. был отставлен от должности.
(обратно)364
В данном случае Д. А. Оболенский иронизирует над циркуляром, повторившим полиции, находившейся в ведомстве этого же министра, содержание ее прямых обязанностей.
(обратно)365
Речь идет о вынесении оправдательного вердикта В. И. Засулич и сочувственное отношение к ней как присутствовавших на суде, так и ожидавших его решения возле здания суда.
(обратно)366
Речь идет о Берлинском конгрессе, обсуждавшем статьи мирного договора России с Турцией. Он открылся 13 июня 1878 г., следовательно, запись сделана Д. А. Оболенским уже после этого времени, но дата не поставлена. Задачу Конгресса европейские державы видели в том, чтобы свести к минимуму те выигрышные для России условия создания на Балканах независимых славянских государств, находящихся под российским влиянием, которые были сформулированы в прелиминарном Сан-Стефанском договоре.
(обратно)367
Имеется в виду речь, произнесенная И. С. Аксаковым 22 июня 1878 г. в качестве председателя Московского славянского благотворительного общества. В этой речи он резко порицал деятельность российских дипломатов на Берлинском конгрессе за их уступки нажиму европейских государств. Поскольку российское правительство не имело обыкновения объяснять российскому обществу мотивы своих действий, оно оказалось в положении обвиняемого и могло действовать только репрессиями: Московское славянское общество было закрыто, а сам И. С. Аксаков выслан из Москвы.
(обратно)368
Имеются в виду похороны князя В. А. Черкасского.
(обратно)369
Фельдмаршал — высший военный чин императорской России, в это время он был присвоен обоим главнокомандующим — великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, братьям Александра II.
(обратно)370
Накануне отъезда на Берлинский конгресс О. Бисмарк публично заявил, что будет занимать позицию «честного маклера». И, поскольку он был озабочен тем, чтобы поддержать оппонентов России — Англию и Австро-Венгрию, И. С. Аксаков иронизирует над сомнительной беспристрастностью Бисмарка.
(обратно)371
Полагается — здесь: устанавливается.
(обратно)372
Биконсфилд — Бенджамен Дизраэли, с 1876 г. — лорд Биконсфилд, премьер-министр Великобритании.
(обратно)373
Имеется в виду газета Министерства иностранных дел, издававшаяся на французском языке и, с точки зрения И. С. Аксакова, недостаточно заботившаяся о российских интересах.
(обратно)374
чистая доска (лат.)
(обратно)375
Д. А. Оболенский имеет в виду, что российская власть и дипломаты более заинтересованы в хороших отношениях с европейскими державами, нежели со славянскими народами. Это вызывает осуждение автора «Записок», поскольку в его воззрениях идея славянского единения является приоритетной.
(обратно)376
Речь идет о назначении летом 1862 г. великого князя Константина Николаевича наместником Царства Польского. В Польше в это время поднималось национально-освободительное движение, и Александр II рассчитывал этим назначением снять напряжение и ценою либеральных тактических уступок не допустить развития событий до прямого столкновения. Однако усилия Константина Николаевича не привели к успеху: в январе 1863 г. началось вооруженное восстание. В России многие обвиняли его в мягкости, попустительстве полякам, и он уехал за границу, ощущая себя непонятым и несправедливо обвиненным. Он вернулся в Петербург в конце 1864 г. и был назначен Александром II, всячески подчеркивавшим свое доверие к брату, председателем Государственного совета, т. е. первым чиновником империи.
(обратно)377
Отставка М. X. Рейтерна была предрешена еще осенью 1876 г., когда он резко отрицательно высказался против войны на Балканах и даже отказался выдать деньги на военные нужды. Последовал окрик Александра II, и Рейтерн, полтора десятилетия добивавшийся бюджетного равновесия и с огромным трудом его достигший, просил отставки. Она была отсрочена до окончания войны, и после ее завершения Рейтерн ушел в отставку. Восстанавливать бюджет, которому был нанесен чудовищный удар, пришлось его преемникам.
(обратно)378
Имеется в виду Крымская война (1853–1856).
(обратно)379
Имеется в виду акция 1862 г., подразумевавшая свободный обмен бумажных денег на металлическую монету. Для этого был заготовлен золотой запас, но реформа была сорвана, в частности, начавшимся в январе 1863 г. польским восстанием. Понеся значительные убытки, правительство объявило о прекращении обмена.
(обратно)380
Здесь ошибка: Д. А. Оболенский был директором Комиссариатского департамента Морского министерства.
(обратно)381
Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) в 1866 г. был назначен министром народного просвещения, в качестве которого провел реформу гимназического образования с усиленным изучением в гимназиях древних языков. Только выпускники таких гимназий без экзаменов принимались в университеты, и они-то должны были составить часть лояльной молодежи, на которую может опереться правительство. Д. А. Толстой был уволен в 1880 г., и эта отставка вызвала в российском обществе ликование.
Одновременно Д. А. Толстой являлся главой Святейшего Синода. На этом посту его сменил К. П. Победоносцев.
(обратно)382
Д. А. Оболенский имеет в виду события 1866 г., когда финансовый кризис в России и мире подорвал репутацию М. X. Рейтерна и обусловил резкие нападки на него. Однако он сумел составить убедительную программу экономического развития России, представил ее в сентябре 1866 г. на обсуждение и был оставлен на посту министра финансов.
(обратно)383
Департамент экономии — подразделение Государственного совета, где предварительно, перед вынесением в Общее собрание членов Совета, рассматривались законопроекты, касающиеся всех вопросов экономики, торговли и науки.
(обратно)384
Имеется в виду учреждение Государственного контроля.
(обратно)385
II Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, в 1826–1882 гг. занимавшееся кодификацией российского законодательства и издававшее Полное собрание законов и Свод законов Российской империи.
(обратно)386
Подразделение департамента, на которые разделялось каждое министерство. Здесь — чиновник среднего ранга.
(обратно)387
Имеется в виду дочь военного министра Д. А. Милютина.
(обратно)388
Бардина Софья Илларионовна (1853–1883) — дворянка, народница, образование получила в Цюрихе, проходила по «процессу 50-ти». Приговорена к каторге, замененной ссылкой.
(обратно)389
Надеюсь, что как и меня, Вас не покинет мужество, несмотря на те досадные опыты, кои достались на нашу долю, и Вы и далее будете продолжать Ваши усилия в том, что касается того учреждения, которое мы завещаем, я с радостию верю — России при всех тех условиях, что обеспечивают долгоденствие и художественное развитие, достойное искусства и нашего Отечества.
(обратно)390
Д. А. Оболенский имеет в виду, что Александр II по своему мировоззрению — человек западнической ориентации, не сочувствующий ни славянофилам, ни «славянской идее».
(обратно)391
Партия — часто применявшееся в XIX в. обозначение группы лиц одних взглядов.
(обратно)392
Имеются в виду три покушения — 1866, 1867 и 1879 гг.
(обратно)393
Громовское кладбище в Петербурге — центр религиозной деятельности старообрядцев, признававших необходимость участия в богослужении священников. Кладбище названо так по имени богатых лесопромышленников Громовых, получивших от казны землю под кладбище. Ныне — закрыто, находится в Московском районе, между линиями Балтийской и Варшавской железных дорог.
(обратно)394
Петербургское Благородное (Дворянское) собрание — здание нынешней Петербургской филармонии.
(обратно)395
«Фру-Фру» — французская пьеса А. Мельяка и Л. Галеви, с которой начинала свою карьеру в Императорском Александрийском театре в 1874 г. М. Г. Савина.
(обратно)396
Указ 9 августа 1878 г. о предании военному суду всех лиц, обвиняемых в вооруженном сопротивлении власти.
(обратно)397
Имеется в виду — в числе министров, ибо в России не было единого объединенного «министерства» и «Кабинета министров»
(обратно)398
Вероятно, «пестехиальной»: Pest — чума, моровая язва.
(обратно)399
Имеется в виду курс российского рубля.
(обратно)400
Боткин мог добросовестно заблуждаться, ибо появление опухоли паховых желез может быть вызвано различными болезнями, а не только бубонной чумой.
(обратно)401
Таких комиссий было несколько на протяжении 1878–1879 гг. Они учреждались каждый раз после крупного политического события, требовавшего определения правительственной реакции на происшедшее. Заседания этих комиссий и их рекомендации подробно рассмотрены П. А. Зайончковским в монографии «Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов» (М., 1964).
(обратно)402
Речь идет о законе 1 сентября 1879 г. — о принятии особых правил, расширяющих права местной власти по пресечению и наказанию участников беспорядков.
(обратно)403
При написании своих «Записок» Дмитрий Александрович Оболенский надеялся, что они будут интересны потомкам. Потомкам пришлось ждать публикации «Записок» более ста лет. Публикаторам хотелось бы, чтобы читатель увидел лица нескольких поколений рода Оболенских-Гагариных-Герсдорфов. Поэтому в книге помещены фотографии из семейного архива Андрея Петровича и Татьяны Валентиновны Гагариных. Им же принадлежит и атрибуция персонажей, и датировка фотографий. (Примечание публикаторов.)
(обратно)
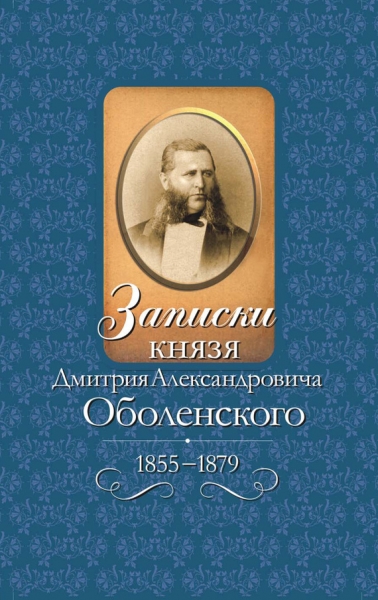



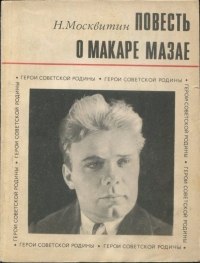

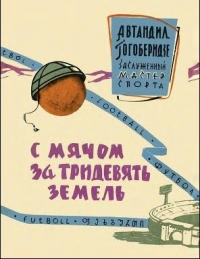

Комментарии к книге «Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского, 1855–1879», Дмитрий Александрович Оболенский
Всего 0 комментариев