Рудольф Баландин Сальвадор Дали. Искусство и эпатаж
© Баландин Р. К., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
* * *
Предисловие. Самый крупный из пигмеев
В наше время, когда повсеместно торжествует посредственность, все значительное, все настоящее должно плыть или в стороне, или против течения.
Сальвадор Дали1
«Другие так плохи, что я оказался лучше».
«Наше время – эпоха пигмеев. Остается только удивляться тому, что гениев еще не травят, как тараканов, и не побивают камнями».
«Кинематограф обречен, ибо это индустрия потребления, рассчитанная на потребу миллионов. Не говоря уж о том, что фильм делает целая куча идиотов».
«Я пишу картину потому, что не понимаю того, что пишу».
«Сюрреализм – полная свобода человеческого существа и право его грезить. Я не сюрреалист, я – сюрреализм».
Так говорил Сальвадор Дали.
По его словам, он писательством занимался из-за своей недостаточной одаренности в живописи. Называл себя гением:
«Я часто думаю, что ведь куда труднее (а значит, и достойнее) достичь того, что я достиг, не обладая талантом, не владея ни рисунком, ни живописью. Именно поэтому я считаю себя гением. И от слова этого не отступлюсь, потому что знаю, чего это стоит, – без никаких данных сделаться тем, что я есть».
Он был всемирно признанным чудаком – в полном соответствии с его целью будоражить и эпатировать, возмущать и восхищать публику. «Дон Сальвадор всегда на сцене!» – восклицал он. Создавая свои многочисленные картины, играл со зрителем, предлагая разгадывать символы или находить изображения, возникающие из соединения разобщенных фигур.
Дали называл свой метод параноидально-критическим, хотя не страдал паранойей, да и критицизмом тоже, если не считать его отдельных высказываний. В Америке шокировал публику, написав «Декларацию независимости воображения и прав человека на свое собственное безумие».
Имитация духовного недуга приносила ему не только славу, но и значительные доходы. (Два его постулата: «Я брежу, следовательно, я существую. И более того: я существую, потому что брежу». И еще: «Простейший способ освободиться от власти золота – это иметь его в избытке».)
Его раздражали те, кто бездарно разыгрывает свои эпатирующие роли: «В Нью-Йорке я видел панков, затянутых в черную кожу и увешанных цепями… Нам выпало жить в дерьмовую эпоху, а им хочется быть дерьмее самого дерьма».
Сам он любил позировать в экзотическом виде, закручивая усы двумя стрелками вверх до вытаращенных глаз. Артист в жизни, творец в мастерской, имитатор и провокатор; писатель среди художников, художник среди писателей. Признанный – прежде всего самим собой – гений, а потому заставляющий сомневаться в этом. Тем более что о нем слагали мифы, и первым – он сам.
«Более полувека, – пишет филолог-испанист Н. Р. Малиновская, – Дали олицетворял для нашего искусствоведения “разложение буржуазного искусства”. Нисколько не сомневаюсь, что Дали – узнай он об этой формулировке – оценил бы выразительное определение (ведь именно он ввел в эстетический обиход термин “тухлятина”) и даже, полагаю, авторизовал бы его, как авторизовал прозвище Авидадолларс, “Деньголюб”.
О прозвище мы наслышаны. Как и о том, что Дали заявился на бал в свою честь, украсив шляпу протухшей селедкой; сошел с корабля, таща на голове двухметровый хлеб, испеченный ради такого случая; окунул в краску морскую звезду и принародно пустил ее ползать по холсту, уверяя, что собравшиеся присутствуют при рождении шедевра. Дошла до нас и информация об аудиенции, данной Хачатуряну, – о танце с саблями, исполненном в чем мать родила. Балетное искусство семидесятилетнего художника впечатляло, но все горше становилось оттого, что его судьба – блистательный трагифарс длиною в жизнь, заслонивший подвижническое служение искусству, стал непременным атрибутом салонной беседы, а его творчество все отчетливее присваивается масс-культурой».
2
Биография Дали – как многих мастеров – сосредоточена прежде всего в творчестве, а уже затем – во внешних событиях. Хотя порой он чрезмерно заботился о том, чтобы обескуражить окружающих, ошеломить, шокировать, заставить говорить о себе, словно компенсируя свою болезненную застенчивость в молодости.
Говорят, в искусстве все жанры хороши, кроме скучного. Такой принцип ему вполне подходит. Впрочем, о его взглядах трудно судить: они были разными в различные периоды его творчества, а порой в одно и то же время.
Ян Гибсон, автор объемистой книги «Безумная жизнь Сальвадора Дали», заклеймил его автобиографию, на которую нам придется нередко ссылаться:
«“Тайная жизнь” – это мемуары охваченного манией величия человека, написанные без оглядки на факты или с тщательным пропуском оных. Дали, например, не вспоминает о своем неистовом марксизме юношеских лет. Он не объясняет причины своего изгнания из семьи в 1929 году (не упоминается оскорбительная надпись на картине “Священное Сердце”). Едва упоминает о Бретоне, хотя известно, что он испытал сильное влияние основателя сюрреализма. Кроме того, читателя уверяют, что, вступив в сюрреалистические ряды, Дали выдвинул идею “завоевания иррационального”, отвергнув автоматизм, хотя в действительности свою идею он сформулировал только в 1935 году. […]
Дали приписал себе заслугу создания моды на сюрреалистические объекты без ссылок на своих предшественников в этом жанре, придав забвению настойчивые призывы Бретона к повсеместной пропаганде этих “объектов”. Он насмехается над политическими убеждениями сюрреализма, хотя долгое время их разделял (“Лично меня политика никогда не прельщала”, – убеждает он нас, очевидно забыв о своем сотрудничестве с “Рабоче-крестьянским фронтом” Каталонии). Вся вина за антиклерикализм “Золотого века” возложена на Бунюэля. Дали утверждает, что к 1930 году – времени выпуска фильма – был уже “ослеплен и охвачен величием и пышностью католицизма”… Дали выдает Пикассо за одного из своих ближайших друзей. Говоря о смерти Лорки, он утверждает, что этот “самый аполитичный человек на свете” был расстрелян фашистами исключительно как “искупительная жертва”, которой требовало всеобщее “революционное помешательство” … Предательство следует за предательством; отказ от старых друзей, от собственных слов и поступков, от правды, наконец, предательство заявленного в начале книги обещания, что она явится “честной попыткой автопортрета”».
Отдельные упреки Яна Гибсона более или менее обоснованны, однако общий вывод сомнителен. Во-первых, свою манию величия Дали мог имитировать. Во-вторых, он никогда не предавал двух самых любимых людей: себя и жену Галу. В-третьих, он не клялся в верности каким-либо убеждениям, а потому менял их без мучительных раздумий. В-четвертых, он постарался честно написать свой словесный автопортрет, но только в свойственной ему сюрреалистической манере.
Приходится считаться со стилем жизни в жизнеописании Сальвадора Дали. Как говаривал знаменитый французский натуралист Жорж Бюффон, «стиль – это человек».
3
Противоречий в своих воспоминаниях и высказываниях Сальвадор Дали даже не старался избегать. Таким он был. Если в природе и общественной жизни мы наблюдаем единство в противоречиях и разнообразии, то почему бы не признать это естественным качеством личности? Так мог возразить Сальвадор Дали на упреки некоторых его критиков.
В 1928 году он – один из авторов «Каталонского антихудожественного манифеста» – утверждал: «Спортсмен, не тронутый знанием и не ведающий художеств, лучше поймет современное искусство, чем подслеповатые умники, отягощенные ненужной эрудицией. Для нас Греция жива в чертеже авиационного мотора, в не претендующей на красоту фабричной спортивной ткани».
Тогда же Дали воспел техническое достижение: «О фантазия фотографии! Она удачливее и проворнее мутных процессов подсознания!..
О фотография, свободное творчество духа!»
В ту пору он призывал «раскрыть глаза на простую и волнующую красоту волшебного индустриального мира, красоту техники… Телефон, унитаз с педалью, белый эмалированный холодильник, биде, граммофон – вот предметы, полные истинной и первозданной поэзии!»
Слова его, повторяющие лозунги футуризма, расходились с делом. Он стал создавать сюрреалистические картины – синтез бреда и яви, сновидений и продуманных фантазий. В них ощущается увлечение автора не техникой, а духовным миром человека и фрейдизмом, в угоду которому Дали вносил в картины эротические символы, сюжеты и ассоциации.
«Механизм, – писал он, – изначально был моим личным врагом, а что до часов, то они были обречены растечься или вовсе не существовать».
А как же его прежние восторги перед техникой? Никак! На свои противоречия он не обращал внимания. Чтобы Сальвадор Дали подчинялся механическим законам логики? Никогда! Дон Сальвадор выше логики! Свобода бреда не менее важна, чем свобода слова, если это бред гения…
Пожалуй, так мог бы ответить он. Что при этом он мог подумать – остается загадкой.
На одном из поздних снимков он запечатлен на фоне своеобразного «иконостаса»: за ним красуются справа налево фотографии жены и музы Галы, Джоконды Леонардо да Винчи, Гитлера, Сталина. Вряд ли Дали лукавил: он был решительным приверженцем культа личности. В первую очередь – самого себя.
Глава 1. Детство как диагноз
В детстве я был злым, злым я и рос и оттого до сих пор еще страдаю… Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Как оказалось, это золотая жила!
Сальвадор ДалиГений и помешательство
Сальвадор Дали вряд ли стал бы возражать против того, чтобы его назвали «безумным гением». Однако если кто-то и доставил ему такое удовольствие, то по недоразумению.
Можно возразить: не он ли сам называл свои картины «Параноидально-критическое одиночество», «Окраины параноидально-критического города», «Великий параноик»?..
Да, многие его произведения наводят на мысль о душевном недуге автора. Во всяком случае, к такому выводу пришел бы психиатр XIX века. А один из них – Чезаре Ломброзо – в книге «Гениальность и помешательство» попытался доказать сходство этих двух состояний.
Дали жил и творил в XX веке, когда удивить странными картинами его кисти можно было разве только профана. От абстрактных композиций из линий и пятен, от супрематических (в переводе – наивысших) «Черного квадрата» и «Белого квадрата на белом фоне» Казимира Малевича работы Сальвадора Дали отличаются именно продуманностью.
Придирчивый критик мог бы упрекнуть его в излишней смысловой нагрузке некоторых его произведений, в нарочитой изощренности многих подписей к картинам – свое образной «литературщине» и «философщине» в живописи. Ему нравилось и даже стало принципиальной установкой удивлять и шокировать почтеннейшую публику, загадывать ей головоломки, порой не имеющие определенного решения.
Многое из того, что произошло с ним как со знаменитым художником и талантливым писателем, корнями уходит в детство. В этом он не оригинален. Но далеко не всегда можно понять, где его подлинные детские переживания и мысли, а что придумано им, когда он писал воспоминания.
В книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» есть «внутриутробные мемуары». Что это? Судите сами:
«Полагаю, что мои читатели не помнят ровным счетом ничего или же сохранили самые смутные воспоминания о том, что предшествовало их рождению и имело место в материнской утробе. Я же помню все, и так явственно, словно это было вчера. И потому полагаю нужным начать книгу о моей тайной жизни с самого начала, с истинного начала моей жизни, иначе говоря, с текучих, странных воспоминаний о внутриутробной эпохе. Вне всякого сомнения, я первый пишу внутриутробные мемуары – сочинений такого рода в строгом смысле слова история литературы еще не знает».
Он это писал в 1940–1941 годах, когда в художественной литературе еще не было принято сочинять воспоминания о своем существовании в утробе матери. В психологии было принято считать, что все происходившее с малышом до двух-трех лет забывается напрочь. Выходит, Сальвадор Дали был единственным исключением из этого правила! Перед нами открывается фантастическая, но, возможно, похожая на правду картина:
«И действительно, если меня спросят, как там было, я отвечу: “Божественно! Как в раю!” Каков же он, тот рай? Не беспокойтесь, узнаете, причем во всех подробностях. Начну же я с краткого общего описания. Внутриутробный рай цветом схож с адом: он – огненно-алый, мерцающий, оранжево-золотой, вспыхивающий синими языками, текучий, теплый, липкий и в то же время недвижный, крепкий, симметрично выверенный. Какое блаженство, какой восторг испытывал я в те дивные времена, когда перед глазами у меня реяла яичница из двух яиц без всякой сковороды! С тех пор душа моя всякий раз повергается в трепет при виде этого галлюциногенного блюда.
Яичница из двух яиц без сковороды, увиденная мною во внутриутробном раю, была великолепна: желтки сияли, а белки, пронизанные еле заметными жилочками, отливали голубизной. Эта яичница-глазунья реяла надо мной: то нависала, то отплывала куда-то в сторону, вверх или вниз, и застывала перламутровыми шарами – а то и драгоценными жемчужинами! – а после пропадала во тьме – постепенно, как луны, клонящиеся к ущербу. Я и сейчас могу вызвать этот образ, вернее, слабый его отблеск, лишенный того величия и колдовской силы, – надо только сильно нажать пальцами на глаза. Наверное, и то внутриутробное видение тоже возникало из-за давления, ведь плод свернут в комочек так, что кулачки вдавливаются в глаза. Не зря дети любят надавливать пальцами на глаза, а когда перед глазами начинают плавать цветные круги, говорят, что “видели ангелочков”. Не замечая боли, они все сильнее давят себе на глаза затем только, чтобы воскресить свои внутриутробные видения и хоть на миг погрузиться в тот дивный мерцающий мир потерянного рая.
Всякий раз, когда мы подвергаемся опасности, в душе воскресают образы внутриутробного бытия – как знак спасения. Помню, в детстве в грозу мы прятались под столом, укрытым длинной, свешивавшейся почти до полу скатертью. А когда играли, устраивали себе из стульев и покрывал нечто вроде хижины. Какое наслаждение, пребывая в укрытии, слушать шум дождя и грохот бури! Как счастливы мы были, играя, и как сладко об этом вспоминать! Спрятавшись за пологом, мы сосали леденцы, пили сладкий лимонад и наслаждались имитацией рая.
Память о внутриутробном рае и изгнании из рая воплотилась в образы, которые и поныне сохраняют для меня свою привлекательность. В детстве я вызывал их так: вставал на четвереньки и изо всех сил мотал головой, как маятником, до тех пор, пока не оказывался на грани обморока, и тогда перед глазами в непроглядной тьме, которая чернее всякой ночи, загоралось два сияющих круга – та самая, уже описанная мною яичница без сковороды. В конце концов горящая яичница лопалась, заливая все, проникая во все поры, обволакивая все бугорки, – и все мое существо ликовало, торжествуя победу текучей, мягкой материи. Если б мог, я остановил бы это мгновение».
Вряд ли мог Сальвадор Дали вспомнить о своем пребывании в «утробном раю». Опыты психологов и гипнологов показали, что так называемые пренатальные (перед рождением) воспоминания пациентов, находящихся под гипнозом, фиксируют и тяжелые, а то и страшные переживания – в зависимости от состояния матери. Хотя до сих пор неясно, действительные или воображаемые подобные экскурсы в далекое прошлое. Проблема интригующая, сложная, а для наших целей не существенная.
Обладай Дали феноменальной памятью, он вспомнил бы многое из того, что произошло с ним в возрасте до трех-четырех лет. Однако об этом у него ничего не сказано. Судя по всему, он рассуждал о пребывании в раю перед появлением на свет, зная о соответствующих психологических опытах. Он умел убедить себя в реальности того, что могло быть. У талантливого художника воображаемые образы могут быть яркими и красочными, как сновидения, и грань между ними и воспоминаниями теряется.
Впрочем, и без «утробных» воспоминаний, и без шизофренических видений Дали был яркой личностью. Прославился он как оригинальный художник и большой чудак только потому, что о его картинах и чудачествах постоянно трезвонила пресса. А ведь он был одаренным писателем (хотя и не всегда ладившим с литературным языком) и незаурядным мыслителем.
При всем своем увлечении фрейдизмом он не обратил внимания на то, что высказал мысль, по-новому объясняющую любовь детей к матери. Фрейд предполагал существование «комплекса Эдипа», связывая с этим сексуальное тяготение мальчика к матери при подсознательной вражде к отцу (мы еще поговорит об этом). По мнению Дали, тут проявляется тоска по потерянному раю, чувство былого блаженства и покоя. На мой взгляд, такое мнение предпочтительнее, хотя и оно не бесспорное.
Миф о рождении гения
«Дитя, рожденное утром 11 мая в восемь часов сорок пять минут и поименованное Сальвадор Фелипе Хасинто, является законным сыном заявителя и его жены, доньи Фелипы Доменеч, 30 лет от роду, уроженки города Барселоны, ныне проживающей в доме заявителя. По отцовской линии дитя продолжает род деда – дона Гало Дали Виньяса, уроженца Кадакеса, ныне покойного, и доньи Тересы Куси Марко, уроженки Росаса, а по материнской линии – род дона Ансельмо Доменеча Серры и доньи Марии Феррес Садурни, уроженцев Барселоны».
Так было формально зарегистрировано событие статистически заурядное, но выдающееся как появление на свет того, кого многие, а прежде всего он сам, нарекут гением. Свершилось это в небольшом городке Фигерас 13 мая 1904 года в 11 утра. Отец ребенка – дон Сальвадор Дали-и-Куси, уроженец Кадакеса (провинция Жерона), владелец нотариальной конторы, сорока одного года, проживающий на улице Монтуриоль в доме № 20. Обо всем этом приходится говорить подробно, ибо сам гений сообщил о своем появлении на планете Земля так:
«Родился Сальвадор Дали – пусть в честь его звонят все колокола! Пусть крестьянин, склоненный над плугом, распрямит искореженную, как ствол оливы, спину, присядет, подперев натруженной рукой свою изрытую бороздами морщин щеку, и задумается.
Родился Сальвадор Дали! Ветер стих, и небо прояснилось. Средиземное море спокойно – на его гладкой рыбьей коже играет семь солнечных бликов, семь золотых чешуек. Именно семь – больше Сальвадору Дали и не нужно.
Должно быть, таким же утром пристали к нашим берегам греки и финикийцы и под небом, отчетливее и пронзительнее которого нет на свете, выстругали колыбель средиземноморской цивилизации и разостлали те чистейшие пелены, что приняли меня, новорожденного.
Распрямись и ты, рыбак с мыса Креус, выплюнь, да подальше, свой жеваный-пережеванный окурок, подними весла – пусть стекут капли, смахни тяжелую медовую слезу, застывшую в уголке глаза, и посмотри сюда – я родился!..
Смотрите же! Смотрите все! Не зря в доме на улице Монтуриоль царит радостная суматоха, а умиленные родители не сводят глаз с новорожденного».
Рождение гения!
А может быть, так следует приветствовать появление на свет почти любого новорожденного? Ведь утверждать о врожденной, генетически предопределенной гениальности нет никаких оснований. На генеалогических древах выдающихся творцов они почти всегда красуются одиноко, словно диковинные плоды не от мира сего.
Гениями рождаемся все мы, а негениями становимся по прихоти судьбы и по собственной инициативе.
Полагаю, с таким утверждением многие не согласятся. Даже в «Философском словаре» сказано: гениальность предполагает «врожденную способность к продуктивной деятельности в той или иной области». Говорят, Сократ на вопрос об источнике его мудрости ответил: ему подсказывает мысли демон (в Древнем Риме демона-покровителя называли гениусом). Но что это за способность и как она появляется в человеке, остается загадкой.
Эта загадка имеет прямое отношение к жизнеописанию Сальвадора Дали. Его миф о рождении гения заслуживает пояснения. Обратим внимание на то, что появился на свет младенец в состоятельной семье Дали, а не в ветхой лачуге пастуха или рыбака. Это – важное обстоятельство.
Дважды рожденный?
Он с младенчества был под ласковой опекой матери, тети Каталины, бабушки Аны, доброй няни Лусии. Им любовались и восхищались, его баловали, потакали всем его прихотям. Ему доставалось любви и заботы вдвойне – еще и за умершего старшего брата (тоже по имени Сальвадор). Позже к восторгам и умилениям вокруг Сальвадора присоединилась его младшая сестра Ана Мария.
В книге «Дали великий параноик» французский искусствовед Жан-Луи Гайеман отметил: «Избалованный ребенок в руках трех женщин: мамы, бабушки, затем и младшей сестры, если не считать многочисленных нянек – таким был малыш Сальвадор. Это был тиран, страстно обожаемый в семье, которая находилась под величественной властью отца».
Казалось бы, в столь прихотливой тепличной среде может вырасти лишь «несчастный плод любви безумной», как пелось в жестоком романсе. Это вынуждает присмотреться к детским и юношеским годам Дали. Почему и как преодолел он давление среды?
Сам он много позже ссылался на богатство и силу своих ощущений: «До сих пор мне памятны эротические восторги младенца – сколь неистово, с какой не знавшей удержу страстью я приникал к источнику наслаждения, и горе тому, кто осмеливался мне перечить! Однажды я зверски исцарапал булавкой няньку, которую обожал, только за то, что лавка, где надлежало купить вытребованные мною сласти, была заперта. Проще говоря, я оказался жизнеспособнее брата. Этот первый набросок к моему портрету: я страдал избытком совершенства, избытком свободы».
О каком избытке свободы можно говорить в подобных случаях? Да, ему слишком многое дозволялось. Но ведь находился он не в цыганском таборе, а в условиях богатой (для тех мест) буржуазной семьи. Постоянная опека – это и есть главный признак несвободы. А капризы ребенка – не признак избытка совершенства или свободы, а результат определенного воспитания.
Показательно, что капризничал он только в присутствии женщин, а при отце сдерживал себя. Такая сдержанность многое определила в его жизни. Но сказалась и распущенность разбалованного ребенка.
«Свобода, – по словам Дали, – если определять ее как эстетическую категорию, есть органическая неспособность обрести форму, сама аморфность. А форма – это особая реакция материи, подвергнутой давлению. И чем совершеннее эта материя, тем больше у нее шансов погибнуть, в то время как несовершенные виды приспосабливаются, используют все оставленные им возможности, переливаются, заполняют все ниши, тем на свой лад противясь гнету и обретая в итоге форму, свой неповторимый облик.
Мой брат, наделенный свободным, ясным и, следовательно, аморфным умом, не выдержал гнета – в отличие от меня, последыша, анархиста, многоликого блудодея. Я жадно и яростно набрасывался и на сласти, и на умозрительные понятия. Я поминутно менялся – и оставался собой. Я был гибок, трусоват, податлив; моему текучему мозгу еще предстояло испытать великую пытку инквизиторскими тисками испанской метафизики, и в результате моя редкостная гениальность обрела свой облик.
Родители дали мне то же имя, что и брату. Меня зовут Сальвадором – Спасителем – в знак того, что во времена угрожающей техники и процветания посредственности, которые нам выпала честь претерпевать, я призван спасти искусство от пустоты. Только в прошлом я вижу гениев, подобных Рафаэлю, – они представляются мне богами. Сегодня, может быть, только я один понимаю, почему никому и никогда не удастся их превзойти. Я знаю, что сделанное мною рядом с ними – крах чистой воды. И все-таки я предпочел бы жить в другое время – когда не было такой нужды спасать искусство. Но, глядя по сторонам, в тысячный раз убеждаюсь, что, сколько бы ни обреталось вблизи меня величайших умов (а они есть), ни за что не согласился бы я ни с кем поменяться местами. Проницательный читатель, наверное, уже догадался, что скромность не числится в списке моих добродетелей».
…Помню свое давнее высказывание: скромность – достоинство тех, у кого нет других достоинств. В этой шутке есть доля истины. Талантливый человек, создатель выдающихся произведений, оригинальных работ, научных или философских открытий по отношению к своим творениям не должен быть скромным. Хотя и преувеличивать свои достижения не следует.
Упомянув умершего брата, Дали затронул тему непростую. Младенец Сальвадор, судя по его имени, фамилии, родителям, явился на свет вторично! Незадолго до этого события у доньи Фелипы Доменеч и дона Сальвадора Дали-и-Куси в том же городе Фигерасе умер малыш по имени Сальвадор.
Само по себе повторение имени еще ни о чем не говорит… Если не учитывать характер того Сальвадора, которому будет суждена долгая жизнь. Ему в повторении имени чудился мистический знак. На лекции в Париже 12 декабря 1961 года он признался:
«Все мои эксцентричные выходки, все нелепые представления объясняются трагическим желанием, которым я был одержим всю жизнь: я всегда хотел доказать самому себе, что существую, что я – это я, а не покойный брат».
Судя по некоторым его признаниям, призрак брата маячил перед ним, тревожил, заставлял усомниться в собственном существовании. Это выглядит странным, если учесть, что они жили в разное время. Вспоминая брата, которого он не знал, Сальвадор Дали допускает немало вольностей.
«У меня был брат, – писал он, – в семь лет он заболел менингитом и умер, а случилось это за три года до моего рождения. Его смерть повергла родителей в отчаяние, и только мое появление на свет примирило их с утратой. Мы с братом, такие разные, походили друг на друга как две капли воды. Лицо его тоже отметила печать гениальности – ее ни с чем не спутаешь».
В этом месте он сделал примечание: «В 1929 году я осознал, что гениален, и до сих пор не имел случая в том усомниться. Напротив, убежденность моя крепла; должен, однако, признаться, что никаких особых восторгов по этому поводу я никогда не испытывал, разве что легкое удовлетворение».
Надеюсь, он не кривил душой. Да и какие могут быть восторги, если человек психически нормален и отдает себе отчет в том, что среди своих современников может считаться корифеем! По его словам, подлинные гении остались в прошлом; нет оснований для радости и гордости, если возвышаешься над пигмеями…
То, что он имел склонность выпячивать свое «я», – бесспорно. Вот только его ссылки на умершего брата не следует воспринимать как бесспорную истину. У него слишком многое зависело от настроения и от впечатлений, которые производили прочитанные им книги по психоанализу.
Испанский писатель Карлос Рохас в книге «Мифический и магический мир Сальвадора Дали» с чрезмерным доверием к учению Зигмунда Фрейда попытался разобрать, словно часовой механизм, строй личности художника. По мнению Рохаса, мнимое «предсуществование» Сальвадора в лице его умершего брата имело поистине магический эффект:
«Если верить заявлениям художника, во множестве разбросанным по страницам “Тайной жизни” и “Невыразимых признаний”, а также тому, что он говорил доктору Румгэру, психиатру, которого предпочитал другим, – да, впрочем, и не только ему, – Сальвадор Дали, по всей видимости, был действительно убежден, что брат его умер от менингита в семилетнем возрасте – за три года до того, как будущий маэстро появился на свет. Как подтверждают метрические записи, даты эти ошибочны, да и причина смерти младенца была иной.
В действительности первенец нотариуса умер в пять часов вечера 1 августа 1903 года от острой желудочной инфекции, возможно сопутствующей туберкулезу, что и записано в свидетельстве о смерти. Но, хотя в официальном свидетельстве и значится острая желудочная инфекция как причина смерти, вполне вероятно, что ребенок скончался от туберкулеза и смерть его ошибочно объясняют желудочным заболеванием, одним из наиболее распространенных в то время диагнозов. Тогда становится понятным, почему мысль об агонии брата ассоциировалась у Дали с сильнейшим приступом кашля, который так пугал родителей.
И было младенцу не семь лет, а всего лишь без малого двадцать два месяца, поскольку родился он 12 октября 1901 года… Младенец этот испустил последний вздох за девять месяцев, девять дней и шестнадцать часов до того, как на свет появился его брат и тезка – Божественный Дали, так похожий в раннем детстве на первенца. Отец, по всей видимости, был настолько убит горем, что не смог сам сделать официальное сообщение о смерти ребенка. Вместо него отправился некий Антонио Виньолас… Однако, судя по всему, безутешное горе не помешало дону Сальвадору Дали-и-Куси и супруге его, донье Фелипе, немедленно – возможно, в тот же вечер, когда первенец их ушел в мир иной, – зачать другого ребенка, словно таким образом они хотели воскресить малыша».
С последним предположением трудно согласиться. После кончины первого Сальвадора прошло больше девяти месяцев, а второй Сальвадор мог родиться чуть раньше среднего срока беременности.
Почему Сальвадор Дали упорно сдвигал дату смерти старшего брата на три года назад? По мнению Карлоса Рохаса, это было сделано сначала бессознательно, затем осознанно: так художник боролся с призраком брата за своеобразие собственной личности. На мой взгляд, вряд ли следует придавать такой «двойственности» слишком большое значение.
Призрак умершего брата – один из мифов, сочиненных Сальвадором Дали. Ими он завораживал слушателей, а то и самого себя. Заманчиво быть как бы дважды рожденным!
Брат его умер слишком маленьким, чтобы проявить свой ум или таланты. О нем, судя по всему, в семье предпочитали не говорить, во всяком случае, при детях. Тем более что был второй Сальвадор. Отец не верил в воплощение душ, а потому не мог подсказать сыну мысль о старшем брате-двойнике. По-видимому, ее придумал сам художник, и не в детстве и юности, а в зрелые годы, создавая миф о самом себе.
Идея оказалась продуктивной. Ради нее художник сочинил для умершего брата мифическую биографию с такими же годами рождения и смерти. Опровергнутый фактами, миф не был отброшен и забыт. Как часто бывает, он обрел новый смысл, и некоторые исследователи, подобно К. Рохасу, основали на нем свои гипотезы о своеобразном психическом «комплексе» художника.
Реальность проще и убедительнее. Сальвадор Дали пустил в оборот миф о своей борьбе с призраком умершего брата, чтобы скрыть в этом мистическом тумане то, что ему пришлось преодолевать в действительности.
Борьба за индивидуальность
Отца художника тоже звали Сальвадором. Он был человеком незаурядным – атеистом и республиканцем, в начале XX века в испанской провинции такие убеждения встречались редко. Преодолеть интеллектуальное и моральное влияние отца – сильной личности – было для Сальвадора, художника и мыслителя, необычайно важно и столь же трудно.
Дали-и-Куси пользовался большим уважением в городе, был честным, справедливым человеком приятной, располагающей наружности. На портрете кисти сына (1920–1921) он изображен суровым, грузным, буржуазного (старомодного?) облика на фоне залива, города и неба с облаками, подобными языкам пламени. Его тяжелая рука держит трубку, а на кисти какие-то грязно-синие пятна.
В те же годы Сальвадор написал портреты матери, тетушки, юноши, мужчины, и ни в одном из них не проявляется тяжелое тревожное чувство, возникающее при взгляде на портрет отца. Картина «Бабушка Ана за шитьем» и вовсе полна умиротворения и нежности.
«Не знаю, – писал он, – ничего прекраснее, чем восхитительно морщинистые лица моей кормилицы Лусии и бабушки, двух чистеньких белоголовых старушек. Лусия – огромная, похожая на римского папу. И бабушка – махонький белый клубочек. Старость изначально пробуждала во мне благоговение. Да разве могло сравниться с этими старушками, феями из сказки, какое-нибудь юное существо! С этой пергаментной кожей, хранящей письмена целой жизни, – румяные, гладкие, пышущие неведением щеки моих однокашников, которые позабыли, что однажды уже пережили старость в материнской утробе. Старики же в отличие от них помнят, что были молоды, и долго – всю жизнь – заново учатся старости».
Благоговение перед прожитыми жизнями – великолепно. Его любовь к двум старушкам ответная, благодарная за их любовь и ласку. Об отце ничего подобного он не писал.
Фрейдист тут же припомнит комплекс Эдипа – с тайной страстью к матери и ревностью, доходящей до смертельной вражды, к отцу. Проще предположить иное, отвлекаясь от надуманных патологий. В отличие от изнеживающего, ослабляющего у ребенка характер, интеллект и волю (кроме упорства в капризах) влияния любящих женщин, отец олицетворял силу, сдержанность, твердость характера.
На портрете снизу и сзади него – фигурка девочки или мальчика в красном балахоне. Она устремлена прочь от отца, словно стремясь вырваться из-под его влияния. Этот образ, так же как огненные сполохи на небе, выражают движение, изменчивость, отчасти эфемерность. Фигура отца, напротив, устойчива, непоколебима, облачена в темный строгий костюм.
Трудно сказать, сознательно ли молодой художник создал такую композицию. Если интуитивно, то проявил и скрытые от самого себя мысли и чувства о взаимоотношениях с отцом. Враждебности в портрете нет.
Облик отца напоминает позднего Наполеона. Как тут не вспомнить, что в детстве будущий художник мечтал стать именно Наполеоном. И на незавершенном портрете отца и сестры (1925) художник вольно или невольно подчеркнул сходство отца с Наполеоном – в действительности весьма отдаленное, – его суровый взгляд и тяжелую длань.
Только отец мог сурово наказать избалованного сына. Но это не ослабляло, а, пожалуй, усиливало сыновью любовь и стремление к вниманию и заботе со стороны отца. Сальвадор вспоминает:
«Мне было тогда шесть лет. В гостиной шел разговор о комете (комета Галлея появилась в 1910 году), которую все намеревались наблюдать, когда стемнеет, если, конечно, небо не затянут тучи. Кто-то сказал, что комета может задеть землю хвостом и наступит конец света.
И хотя в ответ почти все иронически заулыбались, я ощутил, как во мне поднимается страх. В ту же минуту на пороге появился служащий отцовской конторы и объявил, что комету прекрасно видно с верхней террасы. Все ринулись к лестнице, я же, парализованный ужасом, так и остался сидеть на полу. Потом, собравшись с силами, встал и очертя голову побежал на террасу и уже у самой двери увидел свою трехлетнюю (ей было два года. – Р. Б.) сестренку – она степенно, на четвереньках двигалась за гостями. Я остановился и после секундного замешательства ударил ее ногой по голове – как по мячу. И, подхваченный бредовым ликованием, которым преисполнило меня это злодеяние, кинулся было на террасу. Но отец, оказывается, шел позади – он схватил меня, поволок в кабинет, запер там и не выпускал до самого ужина.
Я не видел кометы. Мне не дали посмотреть на нее – эта рана не зажила до сих пор. Запертый, я орал так громко и долго, что совершенно потерял голос. Родители перепугались. Заметив это, я пополнил диким ором свой арсенал и с тех пор орал дурным голосом по любому случаю. Расскажу еще об одной уловке. Я подавился рыбьей костью, и отец – не в силах выносить это зрелище – схватился за голову и выбежал в коридор. Впоследствии я не раз симулировал судороги, кашель и хрип затем только, чтобы увидеть, как отец схватится за голову и кинется прочь, я же наслажусь столь желанным знаком исключительного внимания к своей персоне».
Со стороны женщин исключительное внимание к нему было обеспечено изначально. Но ему хотелось значительно большего – отцовской любви. В 1952 году Сальвадор писал: «Отец был для меня человеком, которым я не только больше всего восхищался, но и которому более всего подражал, что, впрочем, не мешало мне причинять ему многочисленные страдания».
Пожалуй, так он поступал именно из-за своего восхищения отцом, желанием привлечь его внимание, почувствовать его любовь к себе, стать таким, как он. Но в то же время надо было оставаться самим собой, отстаивать свои желания и капризы.
Говоря о постоянном стремлении «доказать самому себе, что существую, что я – это я, а не покойный брат», художник не хотел признаться в мощном влиянии «высшего авторитета» – отца. Ссылка на покойного брата, которого знал только понаслышке, призвана была, пожалуй, добавить мистические мотивы в характер собственной персоны (не только для слушателей, но и для самого себя). Тем более что у него в молодые годы произошел резкий разрыв с отцом и сестрой.
…Сторонники привлекательного, романтичного и нелепого мифа о врожденной гениальности не дадут никаких разумных объяснений тому, что Сальвадору Дали удалось преодолеть силу семейного воспитания и стать выдающейся личность. Чего проще – дар Божий (в которого Дали не верил) или Природы (которую он чтил, но не стремился познавать). Это в действительности отказ от объяснения, отсутствие желания обдумывать всерьез непростую проблему.
Место рождения гения
Астрологи гадают о судьбе человека по месту, дате, часе, а то и минутам его рождения. Над этой верой потешался еще блаженный Августин, да и до него – философы Античности. Но место рождения и детства безусловно влияет на формирование личности ребенка.
Те, кто провел детство в больших городах, обретают определенные более или менее стандартные черты (особенно во второй половине XX века). Для Сальвадора Дали родные места детства вошли в его творчество так, словно он почти всю свою жизнь оставался здесь.
Жан-Луи Гайеман пишет: «Эта каталонская семья происходила из Барселоны или из окрестностей Фигераса, крупного сельскохозяйственного пригорода, расположенного в богатой долине Ампурдан.
Быть каталонцем – значит бороться за автономию своего края, за право пользоваться каталонским языком, но чувствовать себя интернационалистом благодаря Барселоне, крупному портовому городу, куда прибывали кубинские богатства, основными владельцами которых были каталонцы. Быть каталонцем – значит (как в семье Дали) свободно мыслить и исповедовать антиклерикализм, окрашенный социализмом…
Семейство Дали живет в Фигерасе, у подножия Пиренеев, недалеко от французской границы. В базарные дни пригород заполняют крестьяне из окрестных сел, а по воскресеньям по всей округе разносится мелодия «Кабальеро рустикана». Зимние каникулы – это предлог посетить барселонскую родню, в том числе дядю Доменеча в его книжной лавке, и прогуляться по фантастическому парку Гуэль…
Летом семья собирается в Кадакесе, труднодоступном порту, расположенном на полуострове. Когда-то это был край виноделов. После того как его опустошила филоксера (виноградная тля), он с большими мучениями освоил рыболовство.
…Террасы, когда-то устроенные для виноградников, выразительно подчеркивали бесплодные склоны окружающих холмов. Чтобы завершить свою достопримечательность, мыс Креус, крайняя восточная точка Испании, сформировался из слюдяных сланцев, изрезанных северными ветрами. Это наложило на него отпечаток “грандиозного геологического бреда”, по определению самого Дали, который был очарован этими полиморфными чудовищами, напоминавшими ему то петуха, то верблюда, то наковальню, а то и женскую грудь».
Будущий художник в детстве вряд ли был очарован причудливым обликом скал. Такое отстраненное чувство природы для детей не характерно. Они воспринимают ее именно как родное, как данность – подобно родителям. Творения природы врезаются в память и способны пробуждать воображение. Но это происходит без обдумывания впечатлений. В юности Сальвадор писал портреты и жанровые сцены, а не причудливые скалы.
В картине «Венера и амурчики» (1925) присутствуют горы. Но их изломы и резкие грани показаны для контраста: преобладают водная гладь и мягкие теплые тела женщины и детей. Позже у Дали природа никогда не была самоцелью; пейзажи как таковые были ему чужды.
Это, конечно же, не означает, что он не обращал внимания на грандиозную и загадочную грацию скал. В тридцать шесть лет он писал: «Скалы мыса Креус – вот запечатленная суть метаморфозы. Ты видишь орла, верблюда, петуха, льва, женщину, но стоит чуть изменить угол зрения – и все меняется, с каждым шагом… Меняется непрестанно, а ведь это скала – застывший голый камень!
Поразительно схож с этими скалами мой дух, моя мысль, вечно углубленная в себя – в меня самого, несокрушимая, как бриллиант… И сила моя и умение совладать с миром рождены той землей, что выпестовала меня, тем пейзажем, единственным во Вселенной… Я убежден, что я сам и есть эта земля, я – скала мыса Креус, переменчивая и вечная. А пески и туманы, которые я напускаю по временам, служат моим гранитным тайнам живописным покровом… Здесь, на самом краю каталонской земли, сливаются два потока: глубинный, взметенный волной из морских бездн, и внешний – пролитый на нашу землю с небес. Здесь на этом перекрестье, в средоточии тайны и родилась моя паранойя».
Он гордо провозгласил: «Я плоть от плоти каталонской земли».
Возникает образ Антея, припадающего к матери Земле для возрождения своей силы. Но это у Дали – литература, отчасти философия. Напрасно мы будем искать проявления этих мыслей и чувств в его картинах. Там часто увидишь пляжи, скалы, море, горы, но лишь как фон или элемент композиций, а не проявление величественных природных стихий.
Да, конечно, это же не натурализм, а сюрреализм, запечатленные образы не только сознания, но и бессознательного, проявления духовного бытия и т. п. Но ведь не уродился же Дали таким. В детстве и юности он и не слыхивал о подобных причудах. Его первые самостоятельные работы тоже не демонстрируют стремление отразить величие и красоту родной природы.
Жан-Луи Гайеман привел одну из картин юного Сальвадора с таким комментарием: «Этот вид на пляж Поал был написан Дали в 1920 году. Кадакес, расположенный в центре полуострова, отрезан от материка ущельем, но выходит к Средиземному морю множеством бухт. В поисках вдохновения Дали будет всю свою жизнь возвращаться к этому пейзажу, который воплотил его первые эстетические переживания и душевный трепет… Стены террас, устроенных когда-то для виноградников, образуют неправильной формы уступы, отчего кажется, что вся гора величаво спускается к морю. Этот архитектурный аспект будет “объективно” воплощен художником в 1925 году. В 30-е годы пейзаж с нагромождением скал будит воображение Дали, как некогда и Гауди, черпавшего здесь формы своего Саграда Фамилия. Мыс Креус сформирован из мягких скальных пород фантастической формы. Одна из скал, похожая на лицо, опирающееся на свой нос, подскажет Дали ключевой образ его мифологии: “Великого Мастурбатора”».
Вряд ли была такая подсказка, хотя очертания одной из выветренных глыб этого мыса отдаленно напоминают упомянутый профиль. Это еще ни о чем не говорит. Для Сальвадора Дали не столько объекты вокруг него, сколько воображаемые образы служили материалом для творчества. Он сознательно или интуитивно избегал непосредственных зарисовок с натуры. В юности склонялся к импрессионизму. Затем пробовал творить в разных стилях, но природа как таковая его всерьез не интересовала.
На картине, упомянутой Жан-Луи Гайеманом, на переднем плане лодка и стена дома, а на другой стороне залива – на склоне холма – плоскости городских строений, освещенные солнцем. Эту прекрасную по колориту работу воспринимаешь вовсе не как изображение каменных террас, «величаво спускающихся к морю». Волшебный город детства – так можно назвать эту картину.
Наконец, немного о родине Сальвадора Дали.
Он был рожден в Каталонии – приморской области на северо-востоке Испании. Здесь отроги горного массива Пиренеев спускаются в море. В этих местах более двух тысячелетий назад обитали племена иберов, побывали финикийцы и критяне, римляне, варвары, арабы… Конкретных предков современных каталонцев (как, впрочем, едва ли не всех более или менее цивилизованных народов) назвать невозможно.
Смешение племен и народов – приносящее пользу в генетическом аспекте – не мешало каталонцам с давних пор бороться за свою самобытность и свободу (в октябре 1934 года была даже провозглашена Каталонская республика, просуществовавшая лишь два дня). Среди них было немало «вольнодумцев», атеистов и республиканцев, к которым принадлежал и отец художника, почтенный нотариус дон Сальвадор Дали-и-Куси. Вольнодумцем был и его сын.
Как признавался Сальвадор Дали, «из-за отца многие мои первые порывы оказались обречены. Это был человек устоявшихся, довольно старомодных взглядов, который совершенно не хотел, чтобы я становился художником. В конце концов я избавился от его влияния и заменил в глубинах моей души образ отца образом кузнечика».
В действительности отец не препятствовал его желанию стать художником; напротив, помогал ему (не на свои же деньги покупал Сальвадор краски, кисти, учился рисовать). Старомодными взгляды отца тоже не были. Иное дело – представления о поведении сына. Главная причина напраслины, возведенной на отца: Сальвадор мучительно стремился избавиться от его влияния.
Память детства
Предоставим слово главным образом Сальвадору и его сестре. Это – документы, как говорится, из первых рук. Вряд ли есть смысл пересказывать то, что он о себе написал (и отредактировала при переводе Наталья Малиновская: он не слишком заботился о чистоте стиля и порой переходил на каталонское наречие).
Важно не только то, что из детских впечатлений обращают внимание, но и то, как написано. Правда, не всегда разберешь, где у Сальвадора ирония, где нарочитый эпатаж, а где откровенные признания. Хотя в любом случае он остается самим собой.
«В шесть лет я хотел стать кухаркой, в семь – Наполеоном. С тех пор мои амбиции неуклонно росли.
Стендаль, не помню где, рассказывает об итальянской герцогине, которая, лакомясь в жаркий закатный час мороженым, горестно восклицала: “Как жаль, что в том нет греха!” Для меня в семь лет пробраться на кухню, схватить что-нибудь и съесть было величайшим грехом. Ни под каким видом мне не позволяли заходить на кухню… И я, пуская слюни, часами выжидал удобный момент. Но наступал вожделенный миг, я проникал в заповедное царство и на глазах у визжащей от восторга прислуги хватал кусок сырого мяса или жареный гриб и, давясь, млел от наслаждения – ничто не сравнится с тем волшебным, пьянящим привкусом вины и страха!
То был единственный запрет – все прочее мне дозволялось. Так, до восьми лет я мочился в постель исключительно потому, что находил в этом удовольствие. В родительском доме я установил абсолютную монархию. Все готовы были служить мне. Родители боготворили меня.
Однажды на праздник Поклонения Волхвов в куче подарков я обнаружил королевское облачение: сияющую золотом корону с большими топазами и горностаевую мантию. С тех пор я не расстаюсь с этим одеянием. Сколько раз я, изгнанный из кухни, так и стоял во тьме коридора, не в силах пошевелиться: с плеч моих ниспадала королевская мантия, одной рукой я сжимал державу, другой – скипетр, душа же моя кипела гневом – о, если б я мог растерзать обидчиц моих, служанок!»
Он бывал не только обидчивым, но и злобным. Вспомним, как он ударил сестренку ногой по голове по самому пустячному поводу. Был и другой случай.
«Как-то мои родители позвали врача проколоть уши сестренке. Во мне с тех пор, как я ее ударил, пробудилась острая болезненная нежность, и, узнав, что ей будут прокалывать уши, я решил, что не допущу этого зверства ни за что.
Врач расположился у стола, надел очки, взял иголку – и тут я напал на него. Веником изо всех сил я колотил его по лицу. Очки упали, разбились, старик закричал от боли, и только появление отца положило конец расправе.
– Как он мог! За что? Я же его люблю! – всхлипывая, повторял старик, припадая к отцовской груди, и голос его дрожал, как соловьиная трель. С тех пор я не упускал случая заболеть хотя бы ради удовольствия повидаться со старичком, которого довел до слез».
Младшая его сестра Ана Мария признавалась: «Я так и не нашла нужных слов, чтоб описать характер Сальвадора – яростный и затаенный, чувствительный до крайности и буйный, настырный. Нрав его выносили с трудом, но все в доме его любили, потому что было за что, а капризы и прочие вредности приходилось терпеть – не они же, в конце концов, определяют натуру!»
Нет, детские капризы сказываются на формировании характера. Хотя многое зависит от окружающих и личности растущего ребенка. Сальвадор был упрям, и в своих капризах доходил до крайности, устраивая истерики. Он постоянно требовал внимания и любви к себе, порой заставляя мать полночи сидеть с ним на коленях.
«Опишу одну из его выходок, – вспоминала Ана Мария. – Ею ознаменовалась наша поездка в Барселону. Ежегодно мы проводили Рождество, Новый год и праздник Трех Королей в Барселоне, в доме дяди – Жозепа М. Серраклары (в ту пору он был алькальдом Барселоны). Точнее говоря, мы навещали бабушку по отцовской линии. Ее звали Тереса…
Дело было в Барселоне на Рождество. В праздники брат вообще непременно устраивал сцены – кричал, плакал, закатывал истерики. Чтоб успокоить, его задаривали немыслимым количеством игрушек. Он же, облюбовав какую-нибудь вещицу, уже с нею не расставался. Помню, как-то… одарили нас сверх всякой меры: чего только там не было, целая куча подарков! Но Сальвадор, как вцепился в одну игрушку, так больше ни на что и не взглянул. Как же он носился с этой заводной обезьянкой, что лазила вверх-вниз по веревочке!
Именно тогда, в эпоху обезьянки, он и закатил ту памятную сцену. Дело было на прогулке – мама вела Сальвадора за руку… Вдруг брат увидел в витрине кондитерской Массаны сахарную косу, сплетенную словно бы из лука, традиционное зимнее лакомство. Увидел – и возжелал. Кондитерская была закрыта, и Сальвадор недовольно заворчал. Дурной знак – так всегда начинается сцена! Однако мама, будто бы ничего не замечая, ведет его дальше, но брат вырывается, сломя голову несется назад к кондитерской и начинает орать благим матом:
– Хочу лука! Хочу лука! Хочу лука!
Уж и не знаю, какими силами удалось маме оторвать его от витрины.
Чуть не волоком тащила она его по тротуару, брат же орал, не переставая, да так, словно его резали:
– Хо-о-о-очу лу-у-у-у-ука!
И, вопя, вырывался и несся назад к витрине.
Тем временем заветная луковая коса, и вправду похожая на русую девичью косу, по-прежнему недосягаемая и желанная, преспокойно висела на своем месте.
– Хо-о-о-чу лу-у-у-ука!
Прохожие стали останавливаться, зеваки – глазеть, и вскоре собралась такая толпа, что уличное движение прекратилось. Однако дверь кондитерской была заперта, и удовлетворить каприз сына мама не могла при всем желании. Но она твердо решила не потакать ему и не покупать вожделенное лакомство ни за что, хоть бы дверь и распахнулась».
Его капризам даже мать потакала далеко не всегда. И все-таки он упорно продолжал доказывать свое право на «хочу!». Вряд ли это как-либо существенно повлияло на его творчество, но на его поведении в последующие годы, безусловно, сказалось. Он научился привлекать к себе внимание неожиданными выходками, не смущаясь присутствием зрителей или даже еще более возбуждаясь при этом.
Проявились ли тогда его таланты? Ана Мария вспомнила такой эпизод: «В один из вечеров произошло нечто, изумившее всю семью. Отец за оформление каких-то бумаг получил крупную сумму, всю одинаковыми купюрами. Он уже знал, что одна попалась фальшивая, и спросил Сальвадора:
– Сумеешь отличить?
Брат, нисколько не сомневаясь в успехе, взял деньги, осмотрел их, купюру за купюрой, безошибочно выбрал фальшивую, положил на стол и спокойно сказал:
– Вот эта.
Все поразились – ведь подделка была на редкость искусной. И только потом, когда у Сальвадора обнаружились необычайные способности к рисованию, поняли, что ему ничего не стоило углядеть мелкие погрешности в рисунке фальшивой купюры».
Не знаю, насколько были поражены домочадцы, однако не вижу ничего удивительного в подобной зоркости ребенка. Сумел же отец распознать фальшивку, хотя никакой склонности к живописи вроде бы не проявлял. А у детей наблюдательность развита достаточно хорошо.
Вообще, авторы воспоминаний о детстве и юности выдающихся людей невольно исходят из того, что данному молодому человеку суждено стать тем, кем он стал. Можно сказать, идет подгонка под готовый ответ.
«Когда у нас в Фигерасе в Замке устраивали праздник, – продолжает Ана Мария, – отец всегда порывался взять с собой Сальвадора. К Замку вела прямая дорога, обсаженная соснами, и вид с нее открывался великолепный – вся Ампурданская долина как на ладони… Отец брал Сальвадора за руку, и полпути они проходили совершенно спокойно, но, когда дорога поворачивала в гору, являя взорам замковую башню с развевающимся красно-желтым знаменем, Сальвадор начинал ныть, потом орать:
– Хо-о-очу зна-а-а-амя-я-я-я!
И отец с полдороги тащил его домой – праздник в Замке смотрели другие.
Но все же однажды удалось привести Сальвадора на праздник и обойтись без воплей. Всю дорогу отец рассказывал ему какую-то занимательную историю. (Тогда-то родители и поняли, что брату нельзя говорить «нет», можно только отвлечь каким-нибудь хитрым способом.) Заслушавшись, он в тот раз и не поглядел на знамя, которое, как и полагалось, победно развевалось на башне».
Характерная черта воспоминаний сестры: много внимания уделено капризам Сальвадора, который был уже вовсе не малышом. Он рос эгоистом, подчас остервенелым. Вот один из примеров:
«По воскресеньям мы с родителями и Лусией обычно гуляли и часто ходили прямо по железнодорожным шпалам. Лусия надевала платок, закалывая его повыше пучка шпильками, а брат так и норовил платок сдернуть. Отец строго говорил:
– Прекрати! Уколешься!
Но это только сильнее раззадоривало брата – как бы все-таки сдернуть платок, да вместе со всеми шпильками и булавками! Однако платок держался крепко, хотя шпильки царапались, и Лусия от боли громко стенала. Отец пытался оттащить Сальвадора – но куда там! Мама оттаскивала отца, и в итоге прямо на дороге разыгрывался грандиозный скандал: кричали все разом, истошно и самозабвенно.
Лусия кричала, потому что ей было больно. Отец – потому что сын ему не повиновался. Сальвадор – потому что хотелось сорвать платок, а не получалось. Кричала даже мама – потому что боялась, что за скандалом они не увидят поезда и попадут под колеса.
Итак, прогулка испорчена. Все еще переругиваясь, семья возвращается домой. Надо сказать, Сальвадор питал особенное пристрастие к забаве с платком и при виде его каждый раз впадал в неистовство. Все в доме мучительно искали способ прекратить безобразие, но безуспешно, пока случайно не обнаружилось, что брата можно отвлечь – только ни в коем случае не ругать и не запрещать! Можно постараться переключить его внимание, и тогда он (может быть!) забудет, что собирался закатить истерику».
Вновь повторю: детство Сальвадора Дали складывалось так, чтобы сделать из него никчемного, разбалованного, слабовольного и разболтанного человека, невротика, которых во множестве производит буржуазное общество. Как же смог пробудиться и пробиться на свет, подобно ростку из-под дорожной брусчатки, талант художника? Ведь для этого требуются упорная учеба и напряженный труд.
Сказалось влияние отца. Он воспитывал в детях уважение к научным знаниям, познанию природы. «Поздними летними вечерами, – вспоминала Ана Мария, – отец иногда давал нам уроки астрономии. В мощный бинокль мы разглядывали небо – созвездия были совсем близко… Эти августовские ночи – одно из самых драгоценных воспоминаний моего детства».
Другой надежной опорой для становления таланта Сальвадора Дали стало… самолюбие. Это чувство проявляется по-разному, в зависимости от темперамента и умственного уровня человека. Если оно не переходит в самодовольство, упоение собой таким, как есть, а заставляет преодолевать трудности и свои недостатки, такое чувство помогает формировать личность незаурядную.
«Брат, – писала Ана Мария, – можно сказать, с пеленок говорил, что хочет стать Наполеоном. И вот однажды, когда взрослые решили показать нам часовню Святого Себастьяна, Сальвадор уже на полдороге выбился из сил. Тогда тетушка смастерила из бумаги треуголку, надела ему на голову и сказала:
– Ты же Наполеон!
И брат немедленно воспрянул духом. Он схватил палку, оседлал ее и понесся вверх по горной круче, прямиком к часовне. А тетя, зная, что его все же одолевает усталость, стала выстукивать по деревяшке барабанную дробь, и этого оказалось достаточно. Сальвадор пришпорил коня, то есть тоненькую свою палку, и пустился вскачь, хотя просто валился с ног. Словно крылатый Пегас, конь его могучего воображения домчал брата до самой вершины – до часовни».
«Детские воспоминания о том, чего не было»
Так назвал Сальвадор Дали подглавку автобиографии «Тайная жизнь…». Трудно сказать, почему он решил считать, что рассказанного им не было. Например, такой эпизод:
«Когда мне исполнилось семь лет, отец решил отвести меня в школу. Я сопротивлялся изо всех сил – ему пришлось тащить меня волоком до самой школы, я же вырывался, вопил и закатывал такую истерику, что на всем пути следования нас сопровождали толпы любопытных».
Это подтверждает сестра: «В ту пору брат ежедневно закатывал сцены – он категорически отказывался ходить в школу сеньора Трайта, обычную муниципальную школу, где, как и везде в правление Альфонса XIII, старательно преподавали катехизис. Уже одно только слово “школа” наполняло его диким ужасом, немедленно изливавшимся воплем».
В принципе не так уж важна степень достоверности. Важно то, что Дали решил об этом сообщить. И нам есть смысл пересказать его воспоминания. Когда его определили в школу, он умел читать и писать свое имя, а окончив первый класс, к изумлению родителей, разучился тому и другому.
По его словам, этим достижением он полностью обязан учителю Эстебану Трайту, «который являлся в школу исключительно затем, чтобы спать… Свою длинную бороду, достававшую до колен, когда он садился, сеньор Трайта расчесывал на пробор и делил на две симметричные, в потеках седины пряди. Чистый тон слоновой кости на концах прядей сменялся грязно-бурым с отливом в желтизну, как ноготь заядлого курильщика или клавиша старого рояля (хотя рояли вроде бы не курят).
Впрочем, сеньор Трайт тоже не курил – это мешало бы ему спать.
В лице учителя было что-то толстовское с примесью Леонардо – поэтические мечты туманили его яркие голубые глаза. Одевался он как попало, от него дурно пахло, и в довершение всего он иногда появлялся в цилиндре, что поражало воображение (то был единственный цилиндр на всю округу). Но сеньор Трайта, которого у нас по неведомым причинам почитали за великий ум, мог позволить себе всё».
Необычайный облик и странное поведение учителя до глубины души потрясли Сальвадора. Он понял: вовсе не обязательно быть, как отец, строго одетым и учитывать то, что о тебе подумают другие. Оказывается, когда человек ведет себя не так, как все, от этого он выигрывает в глазах окружающих.
У Трайта было увлечение стариной. По воскресеньям он обычно отправлялся на промысел и возвращался с добычей: его повозка была заполнена обломками церковных рельефов, украшенных резьбой оконных рам, статуй святых. Что-то он покупал или находил на свалках, а кое-что «изымал» из заброшенных часовен. Все это он свозил в башню, которую выстроил в пригороде. Эта коллекция, так же как ее собиратель, тоже крепко врезалась в память Сальвадору.
Почему его отдали в школу для бедных? «Для моего отца, вольнодумца, – пояснил Дали, – выбор школы был вопросом принципа. Он не желал отдавать меня ни в одну из монастырских школ, где обучались обычно дети нашего круга (напомню, что отец мой, местный нотариус, принадлежал к самым уважаемым людям Фигераса). Итак, он твердо решил отдать меня в муниципальную школу – поступок несуразнейший и лишь отчасти объясняемый баснословными дарованиями сеньора Трайта, о педагогических талантах которого ни сам отец, ни его друзья, обучавшие своих отпрысков в иных местах, не имели ни малейшего понятия».
Судя по всему, отец вовсе не уповал на педагогический талант Трайта. Настала пора познакомить ребенка, избалованного в тепличных условиях благополучной семьи, со сверстниками-бедняками. Результат был отчасти не такой, на который рассчитывал отец. Сальвадор Дали писал:
«Целый год я проучился вместе с детьми из самых бедных семей, что возымело огромное значение и, полагаю, способствовало росту изначально присущей мне мании величия… Ежедневно я, сын богатых родителей, получал все новые доказательства своей исключительности, своего отличия от всех прочих. Только я один мог вынуть из суконного чехла с собственными инициалами восхитительный термос с горячим шоколадом и молоком. Только мне на всякую царапину накладывали чистейшую повязку, только у меня одного были матроска с вышитым золотой нитью якорем на рукаве и шапочка с помпоном, расшитая звездами. Только меня одного ежеутренне тщательно причесывали и умащивали туалетной водой – не зря же весь класс становился в очередь понюхать мои лелеемые кудри и испытать легкое головокружение. Наконец, только мои ботинки сияли, как зеркало, и вдобавок были украшены серебряными пуговками. И всякий раз, когда пуговка отрывалась, схватить ее тянулось множество рук, и, случалось, дело доходило до драки, ведь большинство моих соучеников даже зимой ходили босиком или в дырявых башмаках…
В довершение всего я – единственный – никогда ни с кем не играл и не разговаривал. Одноклассники явственно ощущали гнет моей уникальности и, робея, приближались разве что затем, чтобы получше разглядеть кружевную оторочку платка, высунутого из кармашка, или мою бамбуковую трость, увенчанную серебряным набалдашником в виде собачьей морды…
Один, посреди бешеного круговорота вопящих мальчишек, я не понимал, что происходит. Они резвились: дрались, играли, хохотали до слез, орали дурными голосами, гонялись друг за другом, влекомые той темной надличной силой, что правит всякой живой тварью, если это нормальная здоровая особь, и велит ей кидаться на жертву и рвать ее в кровь когтями и зубами. Не будь этой силы, помянутая тварь неминуемо захирела бы и сгинула – вот он, корень жизнеспособности и залог развития. Имя той силе – действие, действие во что бы то ни стало!..
Меня потрясали сноровка и сообразительность этих человечков – откуда они знают, с какого боку браться за гвоздики и молоточки, чтобы починить расколотый красный пенал? Словно их кто-то надоумил. А каких птиц они мастерят из листка бумаги!.. Я могу заблудиться где угодно, даже у себя дома, и не способен сам снять матроску – я пробовал и только чудом не задохнулся. Практическое действие стало моим заклятым врагом, и ужас, который внушали мне обычные вещи, рос день ото дня…
Именно тогда я узнал всемогущую власть сна и воображения; тогда миф вторгся в мою жизнь, проник во все поры обыденности, и с тех самых пор для меня граница между тем, что было, и тем, чего не было, исчезла».
Один учебный год, проведенный в начальной школе для бедных, обогатил духовный мир мальчика и в немалой степени предопределил его творческие устремления – не столько в окружающий мир, сколько в глубины самосознания.
После окончания уроков, на которых учитель не огорчал первоклашек учебным процессом, сеньор Трайт уводил Сальвадора в свой кабинет. Для мальчика он был самым таинственным местом в мире. На книжных полках стояли толстые пыльные фолианты вперемежку с диковинными вещицами.
С потолка свешивалась на шнуре лягушачья шкурка. Сеньор Трайт говорил:
– Я только посмотрю на нее и уже знаю, какая будет погода.
В зависимости от давления и влажности воздуха шкурка меняла позы. И хотя лягушачья шкурка была мальчику противна, он смотрел на нее как зачарованный. Но больше всего поразила его, приводя в экстаз, квадратная коробка с оптическими иллюзиями. В ней среди странных видений увидел он русскую девочку и тотчас влюбился в нее: «Мою русскую девочку, укутанную в белый мех, куда-то уносила тройка – почти чудом моя девочка спасалась от стаи свирепых волков с горящими глазами. Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости было в ее лице, что сердце мое сжималось от восхищения».
Вспоминая это видение, он решил, что было предопределение: перед ним предстала его будущая жена Гала. «В театрике сеньора Трайта я увидел Россию, и меня заворожили призраки ее сияющих куполов и снежные горностаевые поля, отливавшие всеми огнями Востока. Эта дальняя белая страна как нельзя лучше отвечала моей патологической страсти ко всему совершенно необычайному».
Тогда же у них впервые выпал снег и запорошил – словно заворожил – привычные картины родного города и долины.
А в классной комнате над грязными стенами, на высоком сводчатом потолке проступали от сырости темные пятна. Сальвадор вглядывался в их прихотливые очертания и угадывал то один, то другой образ – дерево, цветок, фантастическое животное, профиль человека… «Эти превращения стали одним из краеугольных камней моей эстетики».
Кроме России, Галюшки, кормилицы, пустынного берега моря, в его память врезалась сцена: «Бьется в агонии конь, рухнувший прямо во время парада, – я едва успел отскочить и все еще боюсь, что, дергаясь, он ударит меня золоченой подковой. Прут от повозки пропорол ему бок, и кровь хлещет фонтаном, забрызгивая все вокруг.
Двое солдат кидаются к коню. Один поднимает ему голову, а другой выхватывает нож и, примерившись, всаживает коню в лоб лезвие до самой рукоятки.
Конь дергается в последний раз и застывает, воздевая в последнем усилии уже не гнущуюся ногу к небу, усеянному звездами.
На земле огромной птицей, распластавшей крылья, растекается кровавое пятно».
…Если маленький Дали разучился в первом классе начальной школы читать и писать свое имя – утрата невелика и легко восполнима. Большое ли достижение, что он уверовал в свою особенность, величие и решительное отличие от сверстников из бедных семей? Он и без того был преисполнен чувства собственного достоинства.
Было ли на самом деле столь простым его чувство превосходства? Вряд ли. Ведь маленькие оборванцы превосходили его кое в чем весьма важном. Ему стало ясно: он – другой, не такой, как многие, и это различие надо поддерживать, подчеркивать, чтобы на тебя обращали внимание, с тобой считались и тобой восхищались (к чему он привык с младенчества).
И все-таки нечто чрезвычайно полезное обрел он во время недолгого пребывания в этой школе. Трайт своим экстравагантным обликом и чудачествами удивил, а возможно, и восхитил маленького Сальвадора, как антипод отца. Открылся путь избавления от отцовского авторитета.
Но более важно, что Трайт пробуждал у Сальвадора изумление перед миром не только видимым, но и мнимым. Мальчик ощутил чудо воображения, свободного полета фантазии.
«Детские воспоминания о том, что было»
Данное заглавие также заимствовано у Дали. Чем эти воспоминания отличаются от предыдущих, понять трудно. Если даже чего-то и не было, оно возникло по его воле, придумано им – тогда или позже. Значит, для автора это важно, существенно и для него существует.
В 1916 году Дали отдали в местный коллеж при монастыре братства Пресвятой Девы. Отец желал приобщать сына к католической церкви. Однако настала пора приобретать знания, а в школе Трайта это было по меньшей мере затруднительно. Строгая дисциплина в монастырском училище должна была сказаться на воспитании избалованного в семье мальчика, приучая его к порядку, послушанию, смирению.
Подобные надежды оправдались лишь отчасти. К тому времени личность ребенка уже в значительной мере сформировалась. Он рос эгоистом и мечтателем – отличное сочетание для того, чтобы в конце концов появился очередной невротик, не способный противостоять первым же серьезным столкновениям с суровой действительностью, не способный к упорному труду, обвиняющий всех и вся в своих неудачах.
Он вовсе не был из числа тех, кого считают необычайно одаренными детьми, «вундеркиндами», ныне «индиго». Но у него сохранялось чувство собственного достоинства, переходящее, можно сказать, в своеобразный «комплекс полноценности». Не имея на то веских оснований, он считал себя не таким, как другие.
Можно возразить: каждый из нас – неповторимая индивидуальность.
Так, да не совсем. Вопрос и в качестве, и в количестве самобытности. Каждый сходящий с конвейера автомобиль кое в чем неповторим. Это относится к атомно-молекулярному составу материалов, качеству отделки, к некоторым дефектам, порой различимым лишь в микроскоп.
С этих позиций их можно считать индивидуальностями. Но мелкие характерные черты не имеют принципиального значения. Стандартные изделия отличаются только дефектами от своих идеальных моделей.
Сходная ситуация и при сопоставлении личностей. В аспекте биологическом все здоровые люди более или менее одинаковы. А вот устремления, образ жизни, идеалы и свершения могут отличаться принципиально. В особенности когда речь идет об интеллектуальных, творческих способностях. Они определяются не отличной учебой, не успехами в детстве и юности, а только по достижениям за всю жизнь, по свершениям, выделяющим человека из массы всех прочих.
«По делам их узнаете их», – говорил Иисус Христос. Что создал человек? К чему стремится? Какие ценности для него главные: материальные или духовные?
Вот воспоминания Дали о пребывании в коллеже, где его менее всего интересовала учеба. Он предпочитал смотреть в окно, которое раскрывали вечером, на два кипариса во дворе: «Все прочее для меня переставало существовать: я следил за игрой бликов в ветвях и сумрачным прямоугольником тени от монастыря, которая все росла, росла и в конце концов добиралась до деревьев. Уже догорая, закат на какой-то миг озарял острую вершину кипариса – того, что справа, – багряным винным пламенем, а второй кипарис, уже неразличимый, тонул во тьме. И почти сразу же колокольный звон напоминал о вечерней молитве – весь класс вставал, и, склонив головы и сложив руки, мы вторили отцу настоятелю.
Те кипарисы, что весь вечер горели, как два языка темного пламени, стали моими часами – не будь их, в монотонности школьной жизни я не ощутил бы хода времени… Отцы-наставники с изрядным пылом… возвращали меня к действительности, гоня прочь мои благословенные грезы. Но мой сновидческий дар лишь укреплялся. Ничто не трогало и не занимало меня, кроме моих видений, и оттого что реальный мир угрожал им, я цеплялся за них изо всех сил, как утопающий за спасительный плот…
Сразу после молитвы, когда в окне повисала темень, в коридоре зажигали лампу, освещая путь из классной комнаты, а заодно – стены, увешанные литографиями. Оттуда, где я сидел, сквозь стеклянную дверь можно было разглядеть только две: одна изображала лисицу у пещеры, с придушенным петухом в зубах, вторая оказалась репродукцией “Вечернего звона” Милле. Эта картина всегда отзывалась во мне смутной острой тоской – две ее недвижные фигуры раз и навсегда врезались мне в память, растревожив своим скрытым смыслом мое воображение. Но не только тоска и тревога – меня осенила тайная благодать, исходящая от картины; серебряным сиянием клинка в лунном луче эта светлая нота реяла над моим смятением».
Можно лишь удивляться, насколько прочно сохранились впечатления детства у Сальвадора Дали. Такова одна из важных составляющих таланта – дорожить памятью детства, формировать свою личность, имея надежную духовную опору в себе самом.
Но эта опора может обернуться мышеловкой. Она захлопнется, если человек замкнется в себе. Слишком многие не смогли избежать такой опасности. Был философ – Макс Штирнер, выразивший и упоение самим собой и на личном опыте доказавший печальные последствия этого мировоззрения. Впрочем, об этом есть смысл поговорить позже более обстоятельно.
Был ли Сальвадор Дали ребенком, обладавшим каким-то необычайным даром, выдающимися способностями? Не больше, чем почти любой ребенок. Или даже – чуть меньше. Он вспоминал:
«Как-то раз за завтраком отец вслух прочел адресованное ему письмо из коллежа, извещавшее родителей о моем беспримерном прилежании и отменном поведении. В письме говорилось, что на переменах я сторонюсь товарищей и не принимаю участия в шумных играх, а стою себе в углу, разглядывая картинку с конфетной обертки (я до сих пор помню тот фантик с мученической кончиной Маккавеев). Подводя итог, наставники сообщали, что умственная лень укоренилась во мне так сильно, что надеяться хоть на какие-то успехи в учении просто невозможно.
Тот день моя мать провела в слезах. Надо сказать, что я действительно был обречен остаться на второй год, ибо не выучил и десятой доли того, что в азарте соперничества освоили мои одноклассники, приступом взявшие очередные ступени лестницы, ведущей вверх.
Отчуждение становилось моим знаменем, моей навязчивой идеей. Во славу ее мне даже случалось притворяться, что я не умею того, чему волей-неволей выучился. Так, я нарочно писал как курица лапой, хотя мне ничего не стоило представить образцы каллиграфии, что я и сделал однажды. И тем поверг окружающих в такое изумление, что возжелал и далее следовать по пути притворств и мистификаций. Я занялся созданием своей системы навыков поведения в обществе».
Описание этой системы вызывает изумление: неужели ребенок дошел до такой степени лицемерия и актерства? Он ведь начал притворяться психически ненормальным. А так, заигравшись, недолго и стать таким. Вот как это было:
«Предвидя, что отец настоятель вот-вот вызовет меня к доске, а отвечать, естественно, не хотелось, я вдруг вскакивал с ошалелым видом, вскидывал руки, словно защищаясь, и отшвыривал учебник, который будто бы прилежно изучал уже битый час, и, дрожа как осиновый лист, лез под лавку, спасаясь от невидимой угрозы. Потом, бессильно уронив голову на руки, замирал. Исполнив вышеописанную пантомиму, я обычно получал позволение погулять в саду вместо урока, а по возвращении меня поили пахучим травяным чаем. Родители, узнав о моих псевдоприпадках, просили наставников отнестись ко мне бережнее, вследствие чего я утвердился в своих привилегиях, и монахи в итоге прекратили попытки научить меня хоть чему-нибудь.
Довольно часто меня водили к врачу – тому самому старику, которому я расколотил очки, мстя за попытку проколоть уши моей сестренке. В ту пору я довольно часто падал в обморок, и безо всякого притворства: достаточно было просто взбежать по лестнице. Столь же часто у меня носом шла кровь, а что до ангин, то с ними я просто сроднился. Болезнь протекала всегда одинаково: высокая температура держалась один день, затем постепенно спадала, и в итоге неделю я проводил у себя в комнате. Я поправлялся не торопясь».
Он боролся за самого себя. По его признанию, над ним «реяло самовластное ощущение всепоглощающего одиночества, которое завладевало моей душой и возносило ее на недосягаемую высоту». Болезни позволяли ему оставаться наедине с собой или своими близкими – кормилицей Лусией и бабушкой Аной. (У многих выдающихся людей долгие болезни в детстве способствовали самопознанию.)
С тех пор он испытывал, по его словам, благоговение перед старушками и стариками: «До конца своих дней я останусь тем, кем пребываю изначально, – воплощенной противоположностью Фаусту, его антиподом. С младых ногтей я поклоняюсь старости. С какой охотой я – мальчишка – поменялся бы обличьем со стариком! Как страстно хотелось мне постареть – сразу, в мгновение ока! А Фауст? Жалкое существо! Ему открывалась высшая мудрость – старость, а он продал душу за юношеский румянец и младое невежество».
Для Сальвадора католические учебные заведения стали еще одной своеобразной школой жизни, расширили его представления о людях и нравах. Автор книги, посвященной Дали (серия «Галерея гениев»), Н. В. Геташвили отметила: «Из них молодой Дали вышел таким же атеистом, как и отец, однако полностью обученный внешнему ритуальному декоруму католичества (“Катехизис” будущий сюрреалист сдал на “отлично”). И яд лицемерия в существовании “не по правде” (семья и школа) в ранние годы становления личности художника вовсе не следует сбрасывать со счетов в понимании дальнейших событий его творческой биографии».
Придется уточнить. То, что Сальвадор неплохо выучил «Катехизис», свидетельствует о его хорошей памяти, а не о лицемерии. То, что он вышел из католической школы атеистом, показывает основательность его убеждений, нежелание поддаваться внешним влияниям и легко менять свои взгляды.
Глава 2. В поисках самого себя
Вначале был мятеж, Мятеж был против Бога, И Бог был мятежом. И всё, что есть, началось чрез мятеж. Максимилиан ВолошинБунтарь-одиночка
Эпиграф, приведенный выше, – из философской поэмы «Путями Каина. Трагедия материальной культуры».
В чем суть такого мятежа? В порыве к новому, неведомому, в стремлении преодолеть косность окружающего мира и самого себя, в обретении свободы творчества:
Лишь два пути раскрыты для существ, Застигнутых в капканах равновесья: Путь мятежа и путь приспособленья. Мятеж – безумие; законы Природы неизменны. Но в борьбе За правду невозможного безумец — Пресуществляет самого себя. А приспособившийся замирает На пройденной ступени…Максимилиан Волошин написал это в 1923 году после революционных переворотов в России. Тогда же в Каталонии Сальвадор Дали, сочувственно следивший за событиями в Советской республике, с маниакальным упорством боролся за свою самобытность. Словно для него написал Волошин:
Настало время новых мятежей И катастроф: падений и безумий. Благоразумным: «Возвратитесь в стадо!» Мятежнику: «Пересоздай себя!»Сальвадор Дали отстаивал себя как индивидуальность, противостоя влиянию отца, семьи, Трайта, мальчишек-школяров. Конечно же, он не ставил этой цели. Но его поведение было именно таким:
«В юности все мифы моего детства, все мои мании, вывихи и таланты лишь укрепились – искры гениальности разгорались.
Я не хотел меняться, не хотел исправляться, наоборот – я взращивал свою неповторимую индивидуальность. Я не удовольствовался стоячей водой свойственного мне детского нарциссизма и соорудил целую оросительную систему; мое пылкое и могучее “я” вплотную подошло к проблеме социального действия, и, раздираемый противоречиями (такова главенствующая моя особенность), я стал анархистом, антиобщественным элементом.
Дитя-король обернулся анархистом. “Наперекор всему и всем!” стало моим девизом и руководством к действию. В детстве я всегда поступал не так, как все, но не задумывался над этим. Теперь же я осознал исключительность своего поведения и стал нарочно поступать против всех ожиданий. Стоило кому-нибудь сказать: «Черное!», как я парировал: «Белое!» Стоило кому-нибудь приподнять приветственно шляпу, и я не упускал случая публично плюнуть и выругаться. Я ощущал себя настолько другим, что всякое случайное совпадение моих действий с чьими-то повергало меня в транс – я мог разрыдаться от ярости. Я не такой, как все! Я – другой, чего бы это мне ни стоило, я не похож ни на кого и ни в чем! Я – один-единственный! Слышите – один!
Знамя с этим девизом развевалось над неприступной сторожевой башней, воздвигнутой моей юностью. Эта крепостная стена и доныне – до старости – хранит в неприкосновенности кровоточащие рубежи моего одиночества».
Он был бунтарем. Но, в отличие от революционеров социальных, оставался бунтарем-одиночкой. Искусствоведы и писатели, завороженные теоретическими фантазиями Зигмунда Фрейда, приписывают Дали психологические комплексы и верят в его параноидальный бред. На мой взгляд, все было проще, реальнее и нормальнее. Как всякий талантливый человек, он боролся за свою индивидуальность в очередном переходном возрасте, прощаясь с детством.
Учеба на вечерних курсах школы рисования открыла Сальвадору направление творческих порывов, проявлений бурного темперамента и укрепления веры в себя. Не менее важно то, что преподаватели ввели его в мир изобразительного искусства. Он смог оценить величие старых мастеров и меру своего неумения рисовать.
Тогда же у него появились друзья, с которыми он организовал рукописный журнал «Студиум», состоящий из четырех разделов: история Каталонии, поэзия, наука и «Великие живописцы», который вел Сальвадор. Ему исполнилось 15 лет, но к искусству он относился с полной серьезностью и, судя по всему, твердо решил стать художником.
Он продолжал отстаивать свою непохожесть от всех прочих самым примитивным способом: внешним видом (как некогда говорили – мелким пижонством). Но в отличие от тех, которых в СССР называли стилягами, он не подражал какой-либо заморской моде, а старался демонстрировать свою принадлежность к художникам: отращивал волосы, повязывал широкий галстук, носил фетровую шляпу с широкими полями.
Но главное, конечно, в другом. Он действительно выделялся из среды сверстников своим упорством в овладении ремеслом рисовальщика и серьезным интересом к истории живописи.
Сам он не дорожил своими очерками, помещенными в «Студиуме». К счастью, их сохранила его сестра Ана Мария. Они демонстрируют, можно сказать, профессиональное отношение к живописи с учетом, конечно, его возраста, а также простой рациональный взгляд на произведение искусства и увлечение импрессионизмом (см. Приложение).
Почему он не счел нужным сохранить эти первые свои литературные работы? По-видимому, из-за проявления в них ученичества. Однако не менее явно показывают они его продуманное отношение к искусству, стремление понять и объяснить особенности старых мастеров.
Позже он резко выступал против «интуитивистов» и абстракционистов, творящих по наитию, выплескивая краски на холст, давая свободу движениям руки, держащей кисть, и т. п. Дали упорно учился и рисовать, и думать. Он видел в великих мастерах не только живописцев, но и мыслителей.
Позже он без ложной скромности признавался: «Особенность моей гениальности состоит в том, что она проистекает от ума». Но только ли у него была такая особенность? Как показывают приведенные выше его юношеские очерки, он рано понял, что всех подлинных великих творцов отличает прежде всего сила разума.
(В эпоху европейского Возрождения многие науки еще не сложились или находились в младенческом состоянии и все выдающиеся художники были исследователями.)
Другая черта его личности проглядывает в очерках: сила впечатлений, полученных в детстве, и верность им на протяжении долгой жизни. Скажем, упомянутую в очерке о Веласкесе картину «Менины» он в 1960 году повторил в собственном варианте, дав ее анализ. Год спустя создал «Твист в мастерской Веласкеса» по тем же мотивам. Копия «Джоконды» Леонардо стояла у него на видном месте, а на одном из автопортретов Дали изобразил себя в ее облике.
Учась у великих мастеров, он старался преодолеть их влияние, так же как стремился противостоять влиянию отца, отстаивая свою личность.
В молодости его удивили и увлекли цветовые поиски и решения импрессионистов. Он счел это направление в живописи новым и оригинальным, еще не зная, что уже появились футуристы, кубисты и прочие авангардисты, расшатывающие напрочь устои классического искусства.
Однако Дали – отдадим ему должное – при всех своих изысках и поисках лишь изредка позволял себе отрицание великого прошлого ради утверждения далеко не великого настоящего. На всю жизнь сохранил он глубочайшее уважение, а то и преклонение перед мастерами былых эпох.
«Только в прошлом, – признавался он, добившись признания и став мировой знаменитостью (отчасти скандально известной), – я вижу гениев, подобных Рафаэлю, – они представляются мне богами… Я знаю, что сделанное мною рядом с ними – крах чистой воды».
Можно считать это кокетством, желанием поразить собеседника своей скромностью на фоне откровенного самовосхваления. Но, по сути, он был прав.
Сторонники новых направлений в искусстве возмутятся: а как же тогда расценивать творения авангардистов, искателей новейших выразительных средств? Разве не произвели революционный переворот в живописи те, кто преодолел окаменелые каноны классицизма? Кому-то могут не нравиться иные течения, школы, стили, но разве не замечательно их многообразие?
Да, безусловно, и поиски, и разнообразие – хорошо. В особенности для самих деятелей искусств. Аналогичным образом ученые проводят бесчисленные эксперименты, ведут наблюдения, добывают факты. Но разве этим исчерпывается суть научного познания? Оно с этого (и не только) лишь начинается. Так, груда строительных материалов еще не является архитектурным сооружением.
Ньютон, приводя в «Математических началах натуральной философии» многочисленные результаты своих и чужих наблюдений, расчетов, делал это только для доказательства своих выводов. Тем-то и отличается наука: она требует убедительных доказательств.
В искусстве – иначе. Зрителя не интересует, на какие ухищрения пошел художник, чтобы написать картину; какие созвучия использовал в своей симфонии композитор; какой словесный запас у поэта. В искусстве доказательством служит завершенное произведение. Оно предстает зрителю, слушателю, читателю подобно греческой богине любви и красоты Афродите из пены, как данность.
Впрочем, в искусстве XX века все чаще стала присутствовать особая эстетическая категория – безобразное, отвратительное (как говорил один сатирический персонаж, мерзопакостное). И это не карлики Веласкеса, не фантасмагории Босха или чудища Гойи, не отдельные вкрапления в произведение (скажем, диссонансы в симфонии), а разрушение самих образов, отсутствие красоты и гармонии изначально.
Это уже не Афродита, выходящая из пены морской, и даже не какая-то неказистая купальщица, а просто – грязная пена.
Кто-то скажет: так проявляется протест художника против уничтожения в наше время красоты и гармонии! Это же лучше, чем слащавые лицемерные произведения «лжеискусства»!
Да, может быть, протест; может быть, он лучше, чем откровенная ложь. Но все-таки это, пожалуй, просто-напросто не искусство. Протестом против засилья пошлости и безобразия может быть только то, что им противостоит, – высокое искусство, красота.
Найдется немало желающих оспорить это мнение. Однако полезно вспомнить о картинных галереях, где народ толпится перед шедеврами Леонардо и Рафаэля, и отрешенных одиноких посетителей среди творений абстракционистов и других течений.
«Абстракционизм, – писал Сальвадор Дали, – унылейшее искусство; участь художника-абстракциониста плачевна, и тем плачевнее, чем сильнее он верует в абстрактное искусство, но всего хуже – я того и врагу своему не пожелаю – посвятить жизнь изучению абстрактного искусства и писаниям о нем».
Авангардистам он предложил: «Начните с того, что выучитесь писать, как старые мастера; после можете писать, как вам заблагорассудится, но уважение уже будет завоевано».
Это не благой совет, не поучение, а принцип, которому следовал он сам. Хотя научиться технике живописи необходимо, но недостаточно для того, чтобы стать не просто хорошим ремесленником, но – мастером. А это означает – быть незаурядной личностью.
Но был ли сам Сальвадор Дали творцом прекрасного? Мало ли в его произведениях уродливых, искаженных образов, а то и нарочитого эпатажа, стремления пробудить у зрителя или читателя не восхищение прекрасным, а чувство отвращения мерзостью разложения, гнили?
Впрочем, это нам еще придется обдумать на примере некоторых его картин. Хотя можно сразу сказать, что в своей жизни он претерпел немало метаморфоз и порой позволял себе творить то, что в обиходе называют халтурой. Несмотря на свою яркую индивидуальность, он во многом оставался частицей того общества, в котором существовал.
Путь к творчеству
Можно сказать, Сальвадор Дали рано «постарел»: не участвовал в детских играх, не дружил с мальчишками. Позже он объяснял это своим высокомерием, чувством своего превосходства: «Внизу – все прочие: пушечное мясо, и не подозревающее, что есть такая способность – тосковать, вся эта шушера, шелуха, размазня, сброд, стадо недоумков, которым можно вдолбить все, что угодно».
Но было, пожалуй, иначе. Его останавливал страх оказаться хуже, слабее, нелепее других мальчишек. Он был трусоват. Этому способствовало «женское воспитание», постоянная опека.
В его случае трусость – серьезный недостаток – принесла некоторую пользу. Он не стал приспосабливаться к среде сверстников и предпочел одиночество. Это обернулось возможностью оставаться один на один с будущей своей страстью – живописью.
Поистине судьбоносным для Сальвадора Дали стало событие на первый взгляд заурядное: поступление на вечерние курсы муниципальной школы рисования. Это посоветовал сделать друг семьи Пепито Пичот.
Сколько тысяч, миллионов детей поступают в художественные школы, обучаются рисованию, достигая при этом немалых успехов. Но многие ли из них могут гордиться творческим успехом, подобно Сальвадору Дали? И чем объяснить его, как бы он сказал, необычайный гений?
На мой взгляд, вовсе не каким-то врожденным талантом. Да и в чем же может выражаться талант художника? Каким-то особенным чувством цвета и форм, гармонии зримых образов? Возможно, кто-нибудь и раскроет эту тайну, но мне она недоступна. Не потому ли, что ее нет?
Однажды мать спросила его: «Миленький мой, скажи, чего тебе хочется, скажи!» Больше всего ему хотелось получить крохотную комнатку на чердаке – бывшую прачечную, превращенную в чулан. Он ее получил и превратил в мастерскую.
Там стояла огромная цементная ванна. В нее он поставил стул, поперек положил доску – получился стол. В жару раздевался, открывал кран и, не отрываясь от кисти и красок, принимал ванну. «Я уже начинал понимать, пусть смутно, – писал он, – что играю в гения. Тогда еще Сальвадор Дали не знал, что гением можно стать, играя в гения, – надо только заиграться».
В комнатке-мастерской он проводил почти все свое свободное время. Мир улицы его манил и пугал: «Как мучительно мне иногда хотелось спуститься вниз, на улицу, смешаться с возбужденной ночной толпой! Оттуда, снизу, до меня доносились веселые возгласы. Мальчишеские и девичьи – главное, девичьи! – голоса вонзались в меня, как стрелы в тело мученика, и ранили мою гордую грудь. Нет, нет и тысячу раз нет! Ни за что! Я, Сальвадор, останусь там, где мне назначено быть, – наверху, без никого, один на один с химерой, окутанной смутным флером, наедине со старостью – ведь я, по сути дела, уже состарился».
Однажды по дороге в коллеж он мельком увидел девочку с тонкой талией, перехваченной серебряным пояском, и влюбился с первого взгляда. Звали ее Дуллита. Он мечтал, что она придет к нему в мастерскую. По-видимому, в одиночестве его обуревали не только художественные, но и сексуальные фантазии, которые позже он показал на картинах.
Родители отправили его на отдых в имение Пичотов «Мельница у Башни». Здесь любовь к Дуллите слилась для него с любовью к великолепной природе. О своем распорядке дня он писал:
«Десять утра. Пробуждение, эксгибиционистские штучки, далее завтрак в компании импрессионистских полотен Рамона Пичота. С одиннадцати и до половины первого – мастерская, мои художественные находки: я заново изобретаю импрессионизм и возрождаю маниакальное самосознание художника».
В курятнике он устроил свой зоопарк: два ежа, двадцать разновидностей пауков, два удода, черепаха и мышонок, пойманный на мельнице. Пауков он поместил в картонную коробку, разделив ее на отсеки. Гордостью его зоопарка была двухвостая ящерка. Он часами наблюдал за животными. Он был любознательным и умел удивляться, а не только восхищаться увиденным, стремился не только зарисовать, но и познавать увиденное.
Если верить его рассказу, там, у мельницы, он впервые испытал экстаз свободного творчества и эксперимента. На старой, изъеденной древоточцами двери он изобразил натюрморт. Сначала вывалил на стол вишни из лукошка и стал создавать картину тремя красками, выдавливая их из тюбиков прямо на дверь: киноварь для светлого бока вишни, кармин – для тени, белила – для солнечного блика.
Картина изумила всех. Кто-то заметил, что у вишен нет хвостиков. Сальвадор стал торопливо есть вишни, вдавливая хвостики в краску. И тут обратил внимание на то, что вишни с червяками. Тогда он принялся пинцетом вытаскивать червячков из вишен, а древоточцев из двери и менять их местами. Сеньор Пичот молча наблюдал эти манипуляции и, наконец проронил: «Это гениально!»
Именно такие слова мечтал услышать Сальвадор.
На закате он поднимался на башню. Это были долгожданные и торжественные минуты. Под косыми лучами солнца предметы обретали четкий рельеф и необычайно яркие краски. А за пологими холмами, словно вырезанная резцом на темном небе, розовела кромка гор.
Однажды молодежь отправилась собирать липовый цвет. Когда они поднялись на чердак за приставными лесенками, среди всяческой рухляди он увидел предмет, поразивший его воображение. Это был костыль!
«Я тут же схватил костыль и понял, что не расстанусь с ним никогда – в одну минуту я стал фанатиком-фетишистом. Сколько величия в костыле! Сколько достоинства и покоя!.. Костыль венчала опора для подмышки – раздвоенная подпорка, обтянутая тонким вытертым сукном в темных пятнах, и я нежно и благодарно приник к выемке щекой, потом лбом и погрузился в раздумье. А после вскочил и, торжествуя, проковылял в сад, опираясь на костыль. С ним я обрел уверенность в себе и даже невозмутимость, дотоле мне недоступные».
Через несколько лет подобные костыли – разных размеров – станут часто встречаться на его картинах. Что бы это значило? Неужели они потребовались ему, уже признанному мастеру, для обретения уверенности в себе?.. Позже мы еще поразмыслим над этим, а пока отметим его верность впечатлениям детства. Не таково ли проявление «художественной натуры»?
В саду он не расставался с этим костылем. Сбором липового цвета себя не утруждал. Но успел влюбиться в девочку, помогавшую матери. Развилкой костыля он тронул ее плечо. Она обернулась и услышала тихое взволнованное заклинание: «Ты будешь Дуллитой!»
Девочка испугалась и бросилась бежать к матери. А он пошел бродить по саду, выбирая дальние аллеи, и наткнулся на мертвого ежа.
«Я содрогнулся от отвращения, но подошел ближе. Шкурка, покрытая иглами, ходила ходуном, раздираемая клубящимся алчным месивом червей… В приступе дурноты я затрепетал всем телом и едва устоял на ногах. Искры дрожи холодным бенгальским огнем взбегали вверх по позвоночнику и разлетались колючим кружевом стоячего испанского воротника. То был апофеоз омерзения и страха, но, повинуясь какому-то мучительному притяжению, я подошел еще ближе… Дикое зловоние вынудило меня отступить, и я со всех ног кинулся к липам – вдохнуть их аромат и вычистить легкие… Как в истерике, как в лихорадке, я метался от ежа к липам и обратно, пока не вздумал перескочить через ежа и едва не свалился прямо на терзаемый червями черный шар. Ком омерзения подкатил к горлу, и я, обороняясь, ткнул костылем в это кишащее месиво – в самое сердце ежа, набухшее тьмой и смертью. И оказалось, что выемка моего костыля и эта раздутая падаль просто созданы друг для друга…
Я ткнул посильнее, еж перевернулся, и волна сладостной гадливости окатила меня с головы до ног. Я был на грани обморока. Окоченевшие лапы зверька торчали прямо, как палки, а между ними, разрывая тонкую лиловатую стенку брюшка, извиваясь и тесня друг друга, лезли черви. Это было уже выше моих сил. Я бросил костыль и побежал прочь…
Превозмогая гадливость и стараясь не глядеть на ежа, я вернулся за костылем. Сейчас, сейчас же я побегу с ним к реке и там, за мельницей, где сильное течение, где вода пенится и бурлит, я омою оскверненную развилку, а после высушу ее, возложив костыль на липовый цвет, рассыпанный по полотну, нагретый полуденным солнцем…
С того дня костыль стал для меня и пребудет, пока я жив, в равной мере символом смерти и символом воскресения».
В этом фрагменте воспоминаний Дали соединение мерзости и восторга показывает один из принципов его эстетики. Другой – изменчивость образов, фантастические превращения, увиденные в детстве при взгляде на небо: «Все мои детские фантазии воскресли в клубящихся валах облаков и заполонили небо: крылатые кони, дыни, женская грудь, серебристый шарик на резинке – моя игрушка, осиная талия Дуллиты. Но вдруг… я увидел борцов. Оба бородатые, сильные, злые, они готовились к схватке и играли мускулами, а призрачный петух, раскинув крылья, так и норовил клюнуть одного из бойцов в спину…
И бой грянул – они столкнулись и вздыбились уже единым слитным телом; месиво поглотило обоих. И в ту же секунду из облака выбился и заклубился смерч, творя новый образ. Я узнал его – узнал в тот же миг. То была громадная голова Бетховена, глыбой нависшая над равниной. Через секунду лоб Бетховена, темнея и ширясь, поглотил лицо и вспучился, явив уже не голову, а гигантский, отливающий свинцом череп. Сверкнула молния – и он раскололся надвое, точно посередине, и в трещине, словно мозг, мелькнула небесная синь. Следом грянул гром и взбеленился ветер – душный, горячий, он разметал и липовый цвет, и раскричавшихся ласточек… Хлынул дождь. Его плети безжалостно хлестали кающийся сад, истерзанный ужасом и жаждой. Тем разрешилось долгое противостояние земли и неба, жаждавших друг друга».
Из-под ига Эго
«Как личность я куда крупнее своего таланта», – считал Сальвадор Дали. Если иметь в виду только его талант художника, он прав. Но невольно обращаешь внимание на его настойчивое подчеркивание своего величия, своей гениальности. Например: «Когда все гении перемрут, я останусь в гордом одиночестве», «Через века мы с Леонардо да Винчи протягиваем друг другу руки».
Что это означает? Кто-то скажет: он действительно был гением, а стало быть, говорил правду. Даже если так, зачем это твердить, как заклинание, на разные лады? Если уж ты такой необыкновенный, пусть об этом трезвонят другие. Что за странная страсть к бахвальству? Предположим, ты гений. И что тут такого? Помните, как у Гоголя: Александр Македонский был великий полководец, но зачем же стулья ломать?
В случае с Дали дело обстоит хуже. Он не только высоко оценивал свои таланты (по сравнению с современниками). Некоторые его признания свидетельствуют о далеко не лучших чертах этой незаурядной личности:
«Я никогда не был пацифистом. Я не выношу детей, животных, всеобщее голосование», «Я – иезуит высшей марки – испытываю истинное наслаждение, когда умирает кто-нибудь из моих друзей: я чувствую себя если не убийцей, то виновником его смерти».
На это можно возразить: он хотел просто шокировать публику, кривил душой, выставляя себя не таким, как все. Нет, не совсем так. Например, когда погиб его близкий друг Гарсиа Лорка, Сальвадор Дали реагировал на это почти так, как сказал здесь.
И еще из его откровений: «Я употребляю людей в свое удовольствие, и если они перестают меня интересовать, тут же забываю». Если в этом случае он преувеличивал, то не существенно. Есть все основания утверждать, что он действительно был эгоистом, чему способствовало воспитание в семье. И в этом, увы, не был оригинальным, как бы он ни старался демонстрировать свою оригинальность в том, что лелеял и выпячивал свой эгоизм, выставляя его напоказ.
Наш известный поэт Борис Пастернак писал: «Цель творчества – самоотдача». С этим утверждением трудно согласиться. Самоотдача – не цель творчества, а его суть. Цели могут быть разными, но для их достижения необходимы творческое напряжение, горение, проявление своей личности. Но какая может быть отдача от эгоиста? Он же стремится больше получать, а не давать!
Да, эгоист таков. Но – не каждый. Сальвадор Дали был редким исключением из этой не очень-то симпатичной массы.
Он был честолюбив и амбициозен. Большинство таких молодых людей стремятся проявить себя как отличники, удостоенные похвальных грамот и почетных дипломов. Сальвадор и тут выделялся: для него подобные отличия не имели значения. Ему надо было выделяться во всем – начиная с внешности и поведения и кончая достижениями в творчестве. Последнее – самое важное, существенное.
«Я продолжал учиться – кое-как, – вспоминал он. – Все знакомые уговаривали отца смириться с тем, что я стану художником, в особенности учитель рисования сеньор Нуньес, который ни дня не сомневался в моем таланте. Но отец тянул с решением – его пугала свободная профессия, он предпочел бы занятие понадежнее. Однако отец всячески способствовал моему художественному образованию: покупал мне нужные журналы, книги, кисти, краски, холсты и вообще все, что я просил и без чего спокойно мог обойтись, повторяя при этом: “Ладно. Кончишь институт, а там посмотрим”».
Нормальный эгоист послушает совет отца, поступит в институт ради собственного благополучия, получит выгодную профессию, а в свободное время займется чем-то в свое удовольствие. Выбор «свободной профессии» художника – большой риск. Нормальный эгоист рисковать своим благополучием не станет: он же Единственный, и ему нужна собственность!
Сальвадор Дали готов был идти на риск. Для него многое значила материальная помощь отца. И все-таки его не останавливала перспектива лишиться ее. Возможно, об этом он и не задумывался всерьез. У него была цель – стать выдающимся художником. И он шел к ней с маниакальным упорством. Понимал, что ее невозможно достичь одним лишь усердным ученичеством.
Он много читал – все подряд книги обширной отцовской библиотеки. Сильнейшее впечатление произвел на него «Философский словарь» Вольтера. Но больше всего нравились ему сочинения Иммануила Канта: «Я не понимал почти ничего, но уже одно то, что я читаю Канта, наполняло меня счастливой гордостью. Как очарованный странник, блуждал я по лабиринту его построений, и мои едва прорезавшиеся мозговые извилины ловили музыку сфер.
Мне казалось, что такой человек, как Кант, автор столь значительных и совершенно бесполезных книг, должен быть по крайней мере ангелом. Как голодное животное, дорвавшееся до пастбища, я набрасывался на книги, недоступные моему пониманию. Это было сильнее меня – так недостаток кальция в организме заставляет нас жевать мел, отколупывая от стен побелку».
Отлично сказано! Замечательное качество, достойное гения: жажда познания! Человека не удовлетворяет то, что он знает и что ему преподают. Он стремится к высшему.
Интересно, сумел ли Дали осилить знаменитую «Критику чистого разума» Канта. Ведь сам великий философ признавал: «Книга суха, темна. Противоречит всем привычным понятиям и притом слишком обширна».
Великое достоинство Канта: он был не только философом, но и естествоиспытателем. Ему принадлежит одна из первых космогонических теорий; в университете он читал курсы лекций по физике, математике, минералогии, антропологии, физической географии.
Кант высказал, помимо всего прочего, одну важную мысль: «Легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства Мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы».
(Было бы точнее сказать, что одинаково трудно выяснить и происхождение Мироздания, и возникновение былинки; вне понимания жизни Земли и ее обитателей рассуждения об эволюции Вселенной остаются всего лишь домыслами и формальными упражнениями.)
У Сальвадора Дали есть высказывание, заставляющее вспомнить приведенную цитату из Канта: «Само существование реальности тайна великая есть. И не только великая – это высокая и запредельная, то есть самая сюрреальная из тайн».
По мнению Канта, есть три главных вопроса философии. Что я могу знать (метафизика)? Что я должен делать (мораль)? На что смею надеяться (религия)? Позже он добавил четвертый: что такое человек? И уточнил, что к нему сводятся первые три.
Как не на словах, а на деле отвечал на эти вопросы Сальвадор Дали?
Я должен знать как можно больше.
Мне надо стать выдающимся человеком и художником.
На существование своей неповторимой личности после смерти я не надеюсь, а поэтому буду жить наиболее полной творческой жизнью, стараясь достичь вершины славы.
Что есть человек? Попытаюсь понять это на собственном примере и выразить в живописи.
Примерно так мог бы ответить Дали на вопросы, поставленные Кантом. Хотя, вполне возможно, он не задумывался над этим. Его интересовала философия как некая таинственная страна идей и мнений; ему нравилось общаться – через века и страны – с великими мыслителями прошлого.
Дали покорили манера мыслить Спинозы, его стремление к четкому, логично выверенному знанию. Характерно название одного из его сочинений: «Этика, доказанная в геометрическом порядке».
Затем Сальвадор открыл для себя Декарта: «Он понадобился мне как фундамент для моих собственных конструкций». Что это за фундамент, не сказано. Возможно, наиболее отвечало его взглядам высказывание Декарта: «Я родился с таким умом, что главное удовольствие при научных занятиях для меня заключалось не в том, что я выслушивал чужие мнения, а в том, что я стремился создать свои собственные».
Удивительное признание Сальвадора Дали: «Я начал читать философов словно бы в шутку, а кончил тем, что рыдал над ними. И это я, никогда в жизни не проливший ни единой слезы ни над романом, ни над драмой, сколь бы ни бередили они душу, я зарыдал над определением тождественности у одного из этих философов… И даже теперь, когда я раскрываю философскую книгу – изредка, от случая к случаю, – всякий образчик мыслительной культуры человечества, случись мне его обнаружить, трогает меня до слез».
Вспоминается пушкинское: «Над вымыслом слезами обольюсь». Нет, пожалуй, тут другое: радость познания.
Человек, испытывающий восторг от проявлений культуры мышления, от мысли, высказанной кем-то другим, испытывающий неутолимую жажду познания и творчества, – такой человек сумел хотя бы отчасти преодолеть духовную тюрьму своего Эго.
Путь к себе
Сальвадору Дали во время его запойного увлечения философией запомнилась модная в то время книга Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого». Что вынес для себя Дали из нее? Наверняка укрепился в своем стремлении быть не таким, как все, приблизиться к сверхчеловеку. А еще?
Он не был в восторге от стиля этого сочинения («Мне казалось, что о том же я мог бы написать куда лучше»). Это показательно. Значит, ему нравилось более четкое изложение Декарта, Спинозы, Канта. В своих исканиях Дали опирался на рассудок, а не на эмоции.
Ницше восстал против закабаления личности государством, религией, научными догмами, философскими императивами, вековыми предрассудками и традициями. Одна из его главных идей: глупо заботиться о ближнем, ибо он слаб и жалок. Его надо преодолеть, ему надо исчезнуть с лица земли ради дальнего – Сверхчеловека.
«Так говорил Заратустра» – стилизация под житие восточного мудреца. Ницше стремился воздействовать на душу читателя, на его эмоции, внедрить свои мысли и переживания в подсознание. Судя по всему, Сальвадору Дали это пришлось не по вкусу. Он был рационалистом.
Другое дело – индивидуализм Ницше, и не только теоретический. Мыслитель оставался одиноким всю свою жизнь. Он даже не смог сохранить близкие отношения с другом и отчасти идейным учителем Рихардом Вагнером, который сумел более четко выразить некоторые идеи, обуревавшие и Ницше. Например, Вагнер утверждал: «Лицемерие… является отличительной чертой всех веков христианства». Искусство, находившееся в зависимости от просвещенных владык, «продалось душой и телом гораздо худшему хозяину – Индустрии».
Возродить духовную жизнь может только великая Революция. Ее главной целью должна стать свободная, прекрасная и сильная личность. Человек должен преодолеть ограничение и смирение духа, предполагаемое христианством, и максимально полно раскрыть свою природную сущность. Его цель – «вознести раба индустрии на степень прекрасного сознательного человека, который с улыбкой посвященного в тайны природы может сказать самой природе, солнцу, звездам, смерти и вечности: вы тоже мне принадлежите, и я ваш повелитель!»
Молодому Сальвадору Дали, как многим интеллектуалам начала XX века, такой взгляд на искусство, общество и революцию был по душе. Хотя он не имел никакого желания стать профессиональным политиком. Возможно, ему пришлось по душе высказывание Ницше: «В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою».
К тому времени, когда философы-анархисты, индивидуалисты, поклонники Сверхчеловека или Единственного утверждали свои взгляды, окончательно оформились концепции коллективизма, основанные на солидарности трудящихся, принципах взаимопомощи и справедливости. Эти идеи – в разных формах – вошли в политические доктрины социалистов, коммунистов, анархистов, фашистов.
Казалось бы, по складу своей личности Сальвадор Дали должен был примкнуть к фашистам или даже к нацистам с их убежденностью в существовании высшей расы и выдающихся индивидуумов, наиболее приближенных к идеалу Сверхчеловека. Но сказалось влияние отца, приверженца идей гуманизма, справедливости, равноправия. Сальвадор Дали в молодые годы был убежденным социалистом.
Это может показаться странным. Если судить по его воспоминаниям, складывается образ индивидуалиста едва ли не патологического, невротика и параноика, зацикленного на собственной персоне. О каком коллективизме, о каких лозунгах «свободы, равенства и братства» может идти речь? Только полная свобода для самого себя, с полным презрением к безликим народным массам. И все-таки есть в его воспоминаниях определенные сведения о том, что его внутренний мир был вовсе не так прост.
Сальвадор Дали был бы действительно психически больным и умственно неполноценным, если бы не испытывал влияния окружающей среды. А в ту пору страна и мир переживали крупные события. В июне 1919 года в Париже был подписан мирный договор, согласно которому побежденные страны – Германия и Австро-Венгрия – признали свое поражение и были расчленены.
«О мировой войне, – вспоминал Дали, – я сохранил наилучшие воспоминания по той причине, что нейтралитет способствовал экономическому процветанию Испании… В Каталонии закопошился новый люд, отовсюду полезла наглая жирная поросль… В эту войну жителей Фигераса особенно сильно волновали проблемы кулинарии. Тогда же в моду вошло аргентинское танго, завезенное в Барселону коммивояжерами. Заодно они растревожили местное воображение рассказами о заморских забавах – рулетке и баккаре. Вскоре запрет на азартные игры был снят.
…Повсеместно начались празднества, и особенно пышные – в Каталонии, где все сплошь держали сторону Франции. Я сохранил наилучшие, наиприятнейшие воспоминания о войне и о победе. Долго она нас манила и наконец явилась во всей красе. Меня не обошли чашей на этом пиру – я выпил ее со вкусом, до дна».
Что это за чаша, испитая им на пиру жизни? Оказывается, политическое выступление!
Эта история заслуживает пристального внимания. Она раскрывает некоторые черты характера Сальвадора Дали, о которых он обычно предпочитал умалчивать. В более поздние годы он любил демонстрировать свою аполитичность, позицию, как говорится, «над схваткой». Мол, гений Сальвадор Дали выше всяких политических дрязг, упоен самим собой. Но в его молодости все было не так просто. Он вовсе не находился в полной власти своего Эго.
…На каждого из нас окружающая среда воздействует постоянно и преимущественно незаметно. Мы воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся, как данность. Большинство предпочитает к ней приспосабливаться. Немногие относятся к ней с такой неприязнью, что готовы бороться с существующим режимом не на жизнь, а на смерть. Таковы подлинные революционеры.
Сальвадор Дали к ним не относился. Но и не был он в молодости таким эгоистом, каким выставлял себя в более поздние годы… по определенным, вполне конкретным и объяснимым причинам, а не в силу врожденных или приобретенных психических аномалий.
Проще простого назвал человека врожденным гением, и не надо раздумывать над тем, как он добился выдающихся успехов. Назвал параноиком или эгоистом, вот и объяснил его странное поведение. Простые решения сложных проблем заманчивы. Не станем поддаваться этому соблазну.
Карлос Рохас в книге «Мифический и магический мир Сальвадора Дали» высказал мнение, что живопись многих художников «отражает личность, находящуюся в полном согласии с собой». Суждение далеко не бесспорное, но дальнейшие рассуждения вызывают еще больше сомнений:
«Дали же никогда не мог примириться со своей внутренней сущностью, потому что когда он пытался поглубже заглянуть в собственную душу, то обнаруживал там чужака – покойного брата, тезку и двойника. Как мы увидим, Дали неоднократно говорил о страшной личной драме, каковой являлось для него это другое, исчезнувшее “я” – человек, который пришел в мир раньше него, носил те же имя и фамилию и в жилах которого текла та же кровь. По крайней мере однажды, на лекции в парижской Эколь Политекник, Дали скажет, что его искусство и его экстравагантные выходки порождены именно этим обстоятельством».
Сразу отметим: сказанное однажды, по случаю, в определенной аудитории, да еще таким непростым человеком, как Сальвадор Дали, вряд ли следует считать истиной. Конечно, Зигмунд Фрейд и некоторые другие психологи учили уделять особое внимание оговоркам, когда человек бессознательно способен выразить свои потаенные желания, представления. Но в упомянутом случае Дали не оговорился, а вполне рационально объяснил, как ему представлялось (или как хотел он убедить слушателей), свое поведение.
Рохас воспринял такое объяснение с полным доверием. Не будем столь легковерными. Хотя в одном он прав: в своей душе Сальвадор Дали «обнаруживал чужака». Но это был не мифический двойник-брат. Кто? Попытаемся это выяснить. Эту тайну личности Сальвадора Дали, насколько мне известно, никто еще не отмечал.
Тайна личности
Обратимся к воспоминаниям Дали: «В Фигерасе предполагалось провести демонстрацию, на которую должны были съехаться политические деятели со всей округи…
“Студенческий союз”, объединивший прогрессивно настроенную молодежь, взял на себя организацию победных шествий и всего остального.
Президент помянутого союза самолично явился ко мне и предложил произнести речь:
– Только ты это сделаешь, как следует. Надо воодушевить, повести! Словом, ты понимаешь… – И он долго тряс мне руку.
Я, не раздумывая, согласился и сел сочинять речь – у меня оставался день на подготовку. Речь начиналась примерно так: “Кровавая жертва, принесенная на полях сражений, разбудила политическое сознание порабощенных народов!” Мне, без сомнения, льстило, что выбор пал на меня. Я встал перед зеркалом и начал репетировать речь – выходила первоклассная мелодрама».
Обратим внимание: в своей речи он предполагал говорить о пробуждении политического сознания порабощенных народов. Следовательно, выступил с позиций марксизма или анархокоммунизма!
Ничего подобного нельзя ожидать от сторонника Сверхчеловека и воли к власти, гордого индивидуалиста и эгоиста, презирающего безликую народную массу. Юный Сальвадор (по-русски – Спаситель) выступает как политический деятель левого направления, сторонник пролетарской революции.
И еще. Председатель «Студенческого союза» предложил произнести основную речь не кому другому, а Сальвадору. Значит, был уверен в его твердых левых убеждениях и немалом авторитете среди молодежи.
Увы, председатель не учел одного важного обстоятельства: Сальвадор Дали был «мучительно застенчив» (его слова). Во многом именно этой причиной объяснялось его вызывающее поведение. Он был застенчивым не из скромности, а, напротив, из-за гордыни, высокого самомнения и страха показаться жалким и смешным.
По его признанию, он боялся опозориться, ибо его имя «давно было у всех на слуху». Речь свою он постарался сделать предельно выразительной как «образчик глубокой мысли и изысканного красноречия». И тут весьма некстати проявилось его чрезмерно яркое, сильное воображение. Он написал свою речь и начал ее разучивать, как бы выступая перед аудиторией. Вдруг он ясно представил себе, что перед ним огромная толпа и все взгляды устремлены на него!
От волнения он тут же забыл «все пассажи и фиоритуры» (он не просто записывал слова, но и продумывал их звучание!). Перед ним расплывалась рукопись, руки дрожали. «Щеки мои пылали, сердце колотилось – нет, я не смогу! Сгорая со стыда, я кинул на пол злосчастный листок, закрыл лицо руками и долго топтал тезисы моей распрекрасной речи. Нет, я не смогу! Чтобы успокоиться, я вышел из дому и целый вечер, бродя по предместью, безуспешно пытался вернуть себе присутствие духа».
Вот каким был реальный, а не вымышленный, притворный Сальвадор Дали. Он был болезненно самолюбив и вовсе не испытывал ни презрения к толпе, ни стремления стать лидером и повести ее за собой.
Утром перед публичным выступлением он чувствовал себя так, словно ему предстояло идти на казнь. Подняв истоптанный лист с речью, свернул в трубочку, перетянул резинкой и приступил к тщательному утреннему туалету. Это его немного успокоило, и он загодя, неспеша, отправился к Республиканскому центру в надежде успокоиться и собраться с силами, прежде чем выйти на сцену как укротитель толпы.
«Напрасные надежды! Оглядевшись, я окончательно пал духом. Здесь было столько взрослых – при них я робел – и множество девушек! Я покраснел как рак, перед глазами поплыли зеленые круги; пришлось сесть. Мне дали воды. Народ все прибывал; зал оглушительно гудел. Над сценой, куда мне предстояло подняться, уже развевалось знамя республики, а под ним стояло три стула. Средний предназначался мне, тот, что справа, – президенту, левый – секретарю. Под смешки и аплодисменты, которые обрушились на меня, как удары молота, мы заняли свои места. Словно бы перечитывая речь, я прикрыл лицо рукой, однако развернул листок столь решительно, что сам удивился. Секретарь союза встал и пустился в пространные рассуждения о том, зачем мы здесь собрались».
У Сальвадора было время окончательно прийти в себя и сосредоточиться на своем выступлении. Однако публика оказалась чрезмерно активной. Докладчика то и дело прерывали язвительные реплики из толпы. Были и одобрительные возгласы, но Дали с болезненным вниманием улавливал только ехидные замечания и воспринимал их так, словно они летели в его адрес.
(Не тогда ли в его воображении возник образ святого Себастьяна, пронзаемого стрелами, но духовно неуязвимого, – как недостижимый пример для подражания?)
«Реакция публики вынудила секретаря скомкать концовку, и он предоставил слово мне, – вспоминал Сальвадор. – В зале воцарилась тишина, и я вдруг осознал, что все эти люди пришли сюда затем, чтобы услышать мою речь. Так я впервые испытал наслаждение оттого, что стал предметом всеобщего внимания, – с тех пор я высоко ценю этот вид наслаждения и неизменно стремлюсь к нему.
Я медленно встал, мучительно пытаясь припомнить хотя бы начало речи. Чем все это кончится, я не представлял. Ни единого слова я так и не припомнил – и молчал. Тишина с каждой секундой сгущалась, я вяз в ней и молчал. Тишина подступала к горлу, мне уже было нечем дышать, когда вдруг я понял: сейчас что-то разразится! Но что? И в ту же минуту кровь ударила мне в голову, отчаянным жестом я вскинул руки и возопил во всю мочь: «Слава Германии! Слава России!» – и пнул ногой стул. Он повалился прямо на первые ряды, зал всколыхнулся, и началось нечто невообразимое. С изумлением я увидел, что на меня уже никто не обращает внимания – все колошматят друг друга в пылу политических дискуссий. Я гордо поднял голову, вышел на улицу и направился домой».
Так ли точно все было, сказать трудно. В ту пору митинговали много и по разным поводам, так что об этом его выступлении, насколько мне известно, других сведений не сохранилось. Возможно, он успел выкрикнуть еще несколько фраз. В любом случае очевидно: он приветствовал не Парижское мирное соглашение, не победу одних империалистов над другими, а революционные выступления в Германии и России.
Его слова вызвали бурную реакцию. Публика резко делилась на два лагеря: сторонников революции, власти трудящихся, а также анархии, безвластия, и на консерваторов, поклонников частной собственности, капитала и конституционной монархии, а возможно, и буржуазной демократии. (Для периодов социального брожения характерно смешение политических взглядов, а то и полная невнятица, хотя наиболее определенно различаются противники и сторонники существующего строя.)
Итак, после своего выразительного выступления Сальвадор Дали предпочел удалиться, не принимая участия в начавшихся с его подачи беспорядках. Дома на вопрос отца «Как речь?» – сын ответил: «Грандиозно!»
Да, его речь произвела сильное впечатление. «Марти Виланова, один из местных политических лидеров, обнаружил в ней высший смысл:
– Уже нет ни союзников, ни побежденных. В Германии совершается революция, что позволяет приравнять ее к победителям, не говоря уж о России, где война привела к могучему социальному взрыву, который внушает лучезарные надежды!
Так что пинок, которым я опрокинул стул, был насущно необходим – никто кроме меня не мог встряхнуть эту сонную толпу и вынудить ее поразмыслить над ходом истории. Вы поняли, наконец, с кем имеете дело? С великим человеком, к вашему сведению, – со мной, Сальвадором Дали! Воистину велик Дали!»
Так он изложил этот эпизод много лет спустя, в возрасте 36 лет, когда пришел к другим убеждениям. Теперь он стал вживаться в роль великого и ужасного индивидуалиста-гения. Но перед нами предстает другой Сальвадор Дали, если вернуться в ту послевоенную эпоху.
Вспомним некоторые основные ее черты.
Первая мировая война сотрясла Европу и вызвала крупные социальные конфликты во многих странах. Революционные события в России показали, что рабочие и крестьяне, руководимые социал-демократами и левыми эсерами, способны взять власть в свои руки. Не помогли выступления белых, сторонников буржуазной демократии, иностранная интервенция. Резко обострилось движение рабочих в европейских странах.
В конце октября 1922 года в Италии главой правительства стал лидер фашистской партии Бенито Муссолини (год спустя в Германии Адольф Гитлер во главе национал-социалистов попытался взять власть). Испанию сотрясали террористические акты, выступления рабочих, демонстрации анархистов и социалистов. С согласия короля Альфонса XIII генерал Мигель Примо де Ривера установил в стране осенью 1923 года военную диктатуру.
Мог ли Сальвадор Дали оставаться в стороне от таких событий? Он уже вышел из-под домашней опеки, оказался в кругу сверстников и стал членом «Студенческого союза», где господствовали социалистические и анархические взгляды.
Из его воспоминаний создается впечатление, будто в эти годы он был озабочен самим собой и своим творчеством, мало обращая внимания на политические события. О своем выступлении на митинге рассказал с иронией. Но его дневники и некоторые рисунки свидетельствуют о том, что у него достаточно четко определились политические взгляды и он вовсе не был равнодушен к тому, что происходит в мире и его стране.
Следя по газетам за революционными переворотами и Гражданской войной в России, он записал в дневнике: «Тогда придет время терроризма. Придут черные дни, массовые расстрелы людей… Но на этот раз настанет очередь униженных и угнетенных, сумасшедших и фанатиков пролить реки крови на улицах Барселоны, утолить свою жажду справедливости и независимости… Троцкий предсказывал, что Испания последует примеру России».
Запись в его дневнике 19 ноября 1919 года: «Да здравствует Советская республика!» По-видимому, идеи коммунизма были в ту пору близки Сальвадору Дали. Он написал портрет Льва Троцкого – черным на красном фоне, нечто подобное дружескому шаржу: огромный лысеющий лоб и демоническая ухмылка. Именно этого человека называли «Демоном революции».
Действительно, в его облике и призывах, стремлении разжечь мировой пожар (за счет русского народа) было нечто демоническое. В 1920 году его ставленник, молодой и неопытный командующий Западным фронтом М. Н. Тухачевский, свое стремительное наступление на Варшаву считал прелюдией мировой революции. (Операция провалилась; белополяки замучили в плену более 20 тысяч красноармейцев.)
В Испании среди революционеров преобладали анархисты и троцкисты. Последние имели значительные международные связи. До сих пор в их деятельности остается много неясного. Вообще, ситуация с идеей мировой революции была не так проста, как обычно думают и как в свое время полагал Сальвадор Дали.
Например, в книге «Марк Шагал. Ангел под крышами» (1989) приведена переписка Шагала с бойцом интернациональной бригады А. Люснером в 1938 году. Люснер писал: «Вот уже около двух лет еврейские массы, взяв в руки мощное оружие, уже не одного сторонника гитлеровского “Майн кампф” заставили изменить свое мнение о том, что мы ни на что не способны». Марк Шагал ответил: «Я сознаю, что наше еврейское сопротивление против наших врагов приобретает черты и масштабы библейские».
Это, конечно, не означает, будто большинство испанских троцкистов были евреями и это они в основном сражались с фашистами. В самой Испании на стороне республиканцев сражались люди разных национальностей, в частности русские (был среди них и будущий Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский). Однако не случайно глашатая мировой революции Льва Троцкого поддерживали американские банкиры.
В те годы Дали был сторонником социализма или даже коммунизма. Во всяком случае, он воспринимал такие взгляды как знамение времени – эпохи революционных перемен – и борьбу за социальную справедливость и свободу от «железной пяты» (известный роман Джека Лондона) и тяжелой мошны капитализма.
В конце 1922 года на I съезде Советов в Москве было провозглашено создание Союза Советских Социалистических Республик. На это событие Сальвадор отозвался виньеткой: «СССР. Да здравствует Россия. Смерть войне» (он протестовал против иностранной интервенции). Выходит, когда позже он утверждал, что никогда не был пацифистом, то был или забывчив, или неискренен. Судя по всему, в юности у него сложились марксистские взгляды с делением войн на справедливые и несправедливые.
Почему же Сальвадор Дали не избрал путь политического деятеля? При столь радикальных взглядах, после оглушительного успеха на митинге, устроенном «Студенческим союзом», и одобрительного отзыва одного из местных политических лидеров, ему открывалась возможность политической карьеры. Разве он не был честолюбив? Разве не чувствовал себя великим человеком? Разве не мечтал стать Наполеоном?!
У него было немало задатков для того, чтобы воспользоваться социальным брожением и, подражая Троцкому, на волне революционного подъема подняться к вершинам власти. Что ему для этого недоставало? Что исключало политическую карьеру?
Прежде всего робость или даже трусость. Он был не только застенчив в обществе, нерешителен с девушками. Он был боязлив. Для крупного государственного и политического деятеля это невосполнимый недостаток. А стать ловким и мелким политическим демагогом он счел бы ниже своего достоинства. Только – лидером. Но такой перспективы у него быть не могло, и он понимал это.
Не менее важно другое: его несравненно сильнее политики притягивало к себе искусство. Не просто как возможность проявить свой гений, прославиться. Из его воспоминаний можно сделать вывод, будто он уже заранее предвкушал восторги в свой адрес и высокие гонорары. Но это написано после того, как он этого добился. А прежде…
Он совершенно определенно и безоговорочно решил посвятить себя искусству. Одного этого было бы достаточно для объяснения его отхода со временем от политики, социальных проблем. Однако в молодые годы выбор жизненного пути для него был не столь определен. Ведь когда ему поручили доклад на митинге, он от этого не отказался, а испытал прилив энтузиазма.
Почему бы ему не последовать примеру футуриста Маринетти, ставшего одним из лидеров итальянских фашистов? Поэт Габриеле д'Аннунцио, эстет и убежденный фашист, в сентябре 1919 года с отрядом добровольцев захватил на северном побережье Адриатики город Риеку (Фиуме), провозгласил его независимость и продержался там больше года. Мог ли предпринять нечто подобное Сальвадор Дали?
Нет. Для этого ему недоставало мужества. Он был, как говорится, женственным мужчиной: сказывалось воспитание в семье.
Если бы эпизод с его докладом на митинге был единичным, то было бы слишком смело делать на этой основе далекоидущие выводы. Но Сальвадор Дали оказался участником по крайней мере еще одной политической акции. Судя по его словам, произошло это благодаря нелепой случайности:
«Как-то раз, пропустив несколько дней по болезни, я пришел на занятия в ту самую минуту, когда толпа перед школой, выкрикивая что-то невнятное, разбегалась в разные стороны от небольшого костерка. Поначалу я его не заметил и решил, что причиной всеобщего бегства было мое появление. Но нет – оказывается, накануне какие-то события возбудили каталонских сепаратистов и местную прессу, вследствие чего в то роковое утро молодежь публично сожгла не что иное, как испанский флаг. Это над его жалкими останками у самых моих ног вилась черная струйка дыма.
Я хотел осведомиться, что происходит, но спрашивать было не у кого – я один стоял над жалкой кучкой пепла, а демонстранты с изрядного расстояния взирали на меня испуганно и восхищенно, ибо патруль направлялся прямо ко мне. Меня схватили, не обратив внимания на уверения, что я здесь совершенно случайно, и повели в тюрьму. Так я стал героем манифестации, к которой не имел ни малейшего касательства. Назавтра весь город только и говорил, что я один остался у знамени, являя мужество и присутствие духа, когда остальные при виде патруля бросились врассыпную. Суд, по счастью, освободил меня от наказания как несовершеннолетнего, но это уже не имело значения – меня заметили.
Как раз тогда я отпустил волосы до плеч и часто подолгу стоял у зеркала в характерном рафаэлевском повороте, принимая печальный вид, – больше всего на свете я хотел походить на Рафаэля! А с каким нетерпением я ждал, когда наконец у меня начнет расти борода – мечтой моей было отпустить бакенбарды. И вообще обрести несусветный вид, из самого себя вытворить шедевр. Иногда украдкой я пробирался в материнскую спальню и наспех запудривал лицо, а вокруг глаз наводил черные тени. Выходя на улицу, я кусал губы – для пущей яркости. И только и думал, что бы еще сотворить с собой, тем более что стал замечать любопытствующие взгляды, сопровождаемые восторженным шепотом: “Видели? Это и есть сын нотариуса Дали – тот самый, что сжег флаг!”»
В те годы, когда Дали писал эти воспоминания, он продолжал с восторгом смотреть фильмы Чарли Чаплина. В одном из них – «Новые времена» – произошло нечто подобное тому, о чем поведал Сальвадор Дали. Безработный Чарли подбирает красный флажок, упавший с проезжавшего грузовика, начинает им махать, бежит за машиной, желая привлечь внимание шофера. К Чарли присоединяется все больше людей, воспринявших его выход с красным флажком как демонстрацию протеста. Когда на толпу набрасывается полиция, ни в чем не повинного Чарли хватают, тащат в полицейский участок и бросают в тюрьму.
Спору нет, я могу ошибаться, но эпизод с тлеющим испанским государственным флагом, возле которого якобы случайно остановился Сальвадор, ставший по недоразумению арестованным, мне представляется вольной или невольной вариацией на чаплинскую тему. То, что мы знаем о политических взглядах молодого Дали, делает вполне вероятной версию, что он сознательно встал у тлеющего флага.
Значительно позже он написал, будто разыграл эту сцену только для того, чтобы его заметили. Сомнительно. Он и без того был заметной фигурой, несмотря на молодость. Полиции он не боялся потому, что был несовершеннолетним, а также зная, что отец, уважаемый в городе, вызволит его из беды.
Завершая описание этого эпизода, он пояснил: «Замечу, что идея, мучеником которой я стал, была мне не просто безразлична, но глубоко отвратительна. Во-первых, потому, что ею поголовно вдохновлялись все мои однокашники – не мог же я, индивидуалист по природе, пастись в этом стаде! А во-вторых, сколько бы я ни старался, мне все равно бы не удалось выдавить из себя хоть каплю патриотизма местного разлива. Душа моя жаждала вселенского размаха – что же, кроме брезгливости, могла вызвать в ней эта идейка?»
Сам факт такого комментария подтверждает мою версию. Зачем какие-то пояснения и оправдания, когда сам же написал, что все произошло по недоразумению? Никаким мучеником за идею он не стал и стать не мог по причине своей, мягко говоря, робости. Чтобы выставить себя напоказ, у него было немало других способов, и он умел ими пользоваться.
Вспоминая это событие, он не преминул представить себя юным гением: «Душа моя жаждала вселенского размаха». Вдобавок бросил как бы небрежно: мол, эта мелкая «идейка» не могла вызвать у него ничего, «кроме брезгливости». Так ли? Ведь ради нее, несмотря на свой страх перед толпой, он решился («не раздумывая»!) выступить на митинге. Ему – сам признался, никто не заставлял! – «без сомнения, льстило», что выбор пал на него.
Когда сжигают национальный флаг, утверждающий монархическую власть, делается это не из-за какой-то пошлой идейки. Так поступают, рискуя попасть за решетку, во имя утверждения народной (или буржуазной) демократии; для того, чтобы «разбудить политическое сознание порабощенных народов», говоря словами Дали того времени.
Некоторые мыслители называли пошлой идею всеобщего прогресса. Однако призыв к свержению монархии вроде бы никто никогда не считал пошлостью. Для сторонников монархии это политическое преступление, а для ее противников – героический порыв.
…Какого же вселенского размаха жаждала душа молодого Сальвадора Дали? Если вспомнить его произведения зрелых лет, то в них ощущается вовсе не вселенский размах, а, напротив, стремление выразить свои личные интимные фантазии, мотивы игры со зрителем, психологические изыски.
Правда, в 1936 году им была создана знаменитая картина эпического звучания – «Предчувствие гражданской войны». Но и у нее поначалу было весьма уклончивое название без намека на какой-то размах: «Мягкая конструкция с вареной фасолью».
Складывается впечатление, что не в юности, как часто бывает, а позже, в молодые годы, у Сальвадора Дали произошел какой-то серьезный внутренний перелом. Если на него вдруг воздействовал призрак умершего брата, то почему так поздно и без всякого повода? Более вероятно другое: ссылка на этот призрак понадобилась Сальвадору Дали для того, чтобы скрыть какую-то серьезную, роковую тайну своей личности.
Печать Иуды: синдром предателя
Не дожидаясь старости, в расцвете физических и творческих сил Сальвадор Дали приступил к своему жизнеописанию. Он подробно рассказал о своих личных переживаниях и порой неблаговидных поступках, но скупо и уклончиво, с некоторыми купюрами упоминал о прежних политических убеждениях молодости.
Было ли в них, этих убеждениях, что-либо постыдное? Нет. Скорее, героическое и благородное. Его вдохновляла борьба за свободу и справедливость. Предположим, позже он отказался от этих взглядов. Ничего особенного! Многие люди в юности и молодости настроены революционно, а затем примиряются с текущей действительностью или даже становятся убежденными консерваторами.
Однако Сальвадор Дали не просто изменил свои взгляды. Он стал отзываться о них с иронией или уничижительно! Почему? Что же с ним произошло?
Вывод очевиден: он слишком сильно изменился за истекшие годы. Став знаменитым художником и потешая людей своими неординарными выходками, он успешно играл роль махрового «индивидуалиста по природе». И себя прежнего тоже постарался изобразить в этой роли.
С этих позиций он объяснял свои вполне типичные детские капризы избалованного ребенка. Так же он толковал свои причуды юности, желание выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность – тоже достаточно распространенное явление. Но был ли он в те годы настолько упоен самим собой, что все прочее его не интересовало? Нет, с умными и талантливыми людьми так не бывает. Вспомним его записи в дневнике и рисунки на политические темы.
В своих интимных воспоминаниях он необычайно откровенен. Совершенно спокойно признается в таких своих поступках и наклонностях, о которых люди предпочитают умалчивать. А вот о политических «грехах молодости» многие пишут без утайки, понимая: юность склонна к радикальным взглядам, бурным выступлениям, необдуманным поступкам.
Почему Сальвадор Дали в этом вопросе избрал несвойственный ему метод умолчания и даже откровенной лжи? Почему так стыдливо, а то и ехидно, глумливо упомянул о социальных идеалах свободы, справедливости и братства, за которые многие шли на смерть? Почему назвал такие взгляды идейкой, вызывающей брезгливость?
Он объяснил просто: душа его «жаждала вселенского размаха».
Чепуха какая-то. Ведь он не стал создавать космические мистерии, не воспевал земную природу – явление для нас, обитателей этой планеты, вселенского масштаба (как наш организм является вселенной для обитающих в нас микроорганизмов, для каждой нашей клеточки). Напротив, предпочел углубиться в свой внутренний мир, дать волю фантазии.
Можно возразить: разве наша душа – не вселенная? Разве не таится в ней бездна неведомого? Не это ли имел в виду Сальвадор Дали?
Пожалуй, он бы согласился с таким толкованием. Но в его произведениях и поведении слишком часто проглядывает иное: скандальность, стремление привлечь внимание публики к своей особе и своим картинам, удивить и заинтриговать. Обычно он ограничивался расхожими догмами психоанализа Фрейда.
Но почему он так цинично отрекся от убеждений молодости? Ничто его к этому не принуждало. Что же подействовало на него?
Предательство.
Кого он предал? Самого себя.
Он предал того Сальвадора Дали, который был в молодости.
Вообще-то нет ничего особенного в смене тех или иных взглядов, включая политические или религиозные. Многие люди под давлением обстоятельств отказываются от романтических идеалов юности без особых терзаний, внутренних конфликтов. Почему же у Сальвадора Дали было иначе?
Суть синдрома предателя: такой человек делает все возможное, чтобы оправдаться прежде всего перед самим собой. Для этого надо опорочить, оклеветать или осмеять то, что предал, если речь идет об организации, идеологии.
У Дали выработался именно такой психический синдром.
Как человек умный, он постарался навести своих читателей и почитателей, слушателей и биографов на ложный след. Он стал рассказывать о глубоких личных переживаниях и внутренних духовных конфликтах в связи с умершим братом. Более захватывающая тема – половая проблема, уводящая в дремучие дебри психоанализа.
Ему этот маневр удался. Его творчество подтверждает не влияние призрака покойного брата, а вполне откровенно – сексуальные фантазии. Он красочно, совмещая наслаждение и отвращение, воспел онанизм в картине «Великий Мастурбатор». По его словам, хотел выразить «чувство вины существа, полностью лишенного жизни из-за активной мастурбации: нос, достающий до земли, и отвратительный фурункул на нем. Каждый раз, когда я извергал сперму, я испытывал чувство вины за то, что тратил ее впустую».
Подобные откровения свидетельствует о другом чувстве вины перед самим собой – о том, что он ради богатства и славы отрекся от убеждений молодости не только на словах, но и на деле, в творчестве.
После 1929 года, уже в зрелом возрасте, Сальвадор Дали под влиянием своих друзей, а прежде всего своей любовницы, а затем жены Галы (Елены Дьяконовой), сравнительно быстро и без особых переживаний резко сменил свои взгляды на политику, идеологию. Он предпочел быть представителем «чистого искусства» – не от мира сего, а от запредельного, сюрреального.
Таков был его маскарадный наряд. С годами Сальвадор Дали стал меняться отчасти потому, что в таком наряде он обрел ошеломляющий успех. С этих пор он превратился в приспособленца, приноравливаясь к тому обществу, которое его возвышало и финансировало.
Но может быть, политические убеждения молодости прошли в его жизни как детская болезнь, как наивные заблуждения юности, не оказав никакого влияния на личность? Вряд ли.
Биографы Сальвадора Дали обходят этот вопрос, словно он не имеет существенного значения. В объемистой книге Карлоса Рохаса на разные лады обыгрываются «комплексы» Сальвадора Дали, связанные с памятью об умершем брате (которого он и знать не знал, о котором даже редко слышал) и отношением к отцу. Словно художник многие годы только и терзался этими проблемами, отгородившись от всего остального мира в скорлупе своего Эго.
По мнению Рохаса, воспоминания Сальвадора Дали – надежный материал для понимания его внутреннего мира. Так патологоанатом вскрывает тело умершего с целью выяснить причину его болезни. В данном случае писатель постарался проникнуть в ее потаенные глубины, в область бессознательного по схемам психоанализа Зигмунда Фрейда.
Эти упражнения напоминают подгонку под заранее известный ответ.
Первое: верно ли выбран метод? А то получится, как в черном анекдоте: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Второе: писатель провел операцию не с духовной субстанцией художника, а с образом, который создал сам Дали. А это не одно и то же.
Воспоминания – не исповедь. Они освещают одни события и умалчивают о других. Некоторые эпизоды могут вызывать у автора мемуаров неприятные эмоции. Наша память органична, а не механична; некоторые эпизоды, о которых стыдно вспоминать, она откладывает в «долгий ящик», погружает в свои глубины.
Кстати, во многих картинах Дали обыгрываются ящички и ящики – полуоткрытые или закрытые. Возможно, так он выражал скрытые в глубинах подсознания потаенные мысли и чувства.
Сальвадора Дали не упрекнешь в интеллектуальной слабости, уклончивости, лицемерии. Он не стал скрывать, что в молодости имел радикальные убеждения. Привел конкретные факты. И все-таки при этом преподнес их особым образом, с иронией, усмешкой, словно это незначительные случайные эпизоды.
Он и сам так решил для себя – сказался синдром предателя.
Знакомство с сочинениями Зигмунда Фрейда помогло Дали укрепиться в мысли, что духовный строй личности, в особенности невротичной, эмоциональной, определяется преимущественно комплексом Эдипа и прочими внутренними конфликтами на сексуальной и/или семейной основе. Тут-то и пригодился миф о призраке умершего брата.
Скептически настроенный читатель волен возразить: почему я должен согласиться с проявлением у Сальвадора Дали синдрома предателя, а не чего-то другого? Так ли уж серьезно смог повлиять этот психический комплекс (если он был, конечно) на творчество художника? И разве ссылка на такой синдром не напоминает ту же самую подгонку под готовый ответ?
Сомнения вполне оправданы. У меня нет неопровержимых аргументов в пользу своей версии. Как идея новая и непривычная, она совершенно естественно должна вызывать прежде всего отрицательную реакцию.
Моя задача – показать читателю одно из возможных объяснений поведения Сальвадора Дали и направления его творчества. Можно толковать это по-разному. Но мне бы хотелось, чтобы при этом имели в виду и версию синдрома предателя. Хотя у кое-кого она может вызвать неприязнь по сугубо личным мотивам.
Смена вех на жизненном пути
Итак, повторю: для Дали отказ от убеждений юности проходил болезненно, как у любого умного и совестливого человека.
Если Карл Маркс говорил, что по каплям выдавливал из себя раба, то Сальвадор Дали выдавливал из себя борца за свободу и справедливость ради того, чтобы иметь успех, пусть даже скандальный, у публики. Поэтому предпочел выставить себя как чудика и эгоиста, каким вроде бы пребывал с юных лет. Например:
«Все только и говорили что обо мне. Псих он или не псих? Или немного тронутый? Или же существо чрезвычайно одаренное и потому выходящее за рамки нормы? К этой мысли склонялись некоторые преподаватели, и в первую очередь учитель рисования и чистописания, а также психолог. Математик же был убежден, что интеллект мой не дотягивает до среднего уровня. Тем не менее, стоило произойти чему-нибудь из ряда вон выходящему, как все, забыв о разногласиях, единодушно приписывали случившееся мне, и безо всяких усилий я – особенный, единственный в своем роде – снова становился центром внимания».
Но мы знаем, что если он и позволял себе порой нелепые поступки, то было и нечто другое. Выступление на митинге, которое бурно переживал, – как раз тот момент, когда он находился в центре внимания не учащихся и преподавателей, а сотен людей, огромной толпы.
Закоренелый индивидуалист не станет выступать с политической речью, бросая в толпу лозунг: «Слава Германии! Слава России!»
Показательная деталь: приведя эти слова, Дали не счел нужным пояснить, что же он имел в виду, прославляя Германию и Россию. Вновь сошлюсь на все тот же синдром предателя. Он умолчал о важной детали: в этих странах произошла социалистическая революция! Суть своей речи он предпочел не раскрывать. Зато с какими подробностями, смакуя, рассказывает о своем стремлении выделиться, произвести на людей впечатление, показать себя взрослым мужчиной:
«Я рос, а в имении Пичотов, в Кадакесе, посреди внутреннего дворика рос кипарис. Бакенбарды, предмет моей гордости, занимали уже половину моей физиономии. Я щеголял в бархатных жилетах темных тонов (чаще всего – в черном) и на прогулке имел обыкновение раскуривать отцовскую трубку, вырезанную… в виде головы араба с ослепительной улыбкой. Когда отец мой ездил в Ампуриас смотреть раскопки, хранитель музея подарил ему серебряную греческую монету с женским профилем. Решив, что это изображение Елены Прекрасной, я попросил ювелира укрепить монету на галстучной заколке. Это украшение, как и трость, стало неизменной деталью моего туалета. Трости я, можно сказать, коллекционировал, но больше всего мне нравилась одна – увенчанная золотым набалдашником в виде двуглавого орла. Этот императорский жезл как нельзя лучше подходил к моей крепнущей, властной руке».
И что это за властная рука, если она трепещет от одной лишь мысли, что придется выступить на политическом митинге? Сальвадор Дали не особенно властвовал даже над самим собой. Правда, была девушка, над которой он обрел чудовищную власть (если верить его признанию, о котором речь впереди). Только и всего! Он имел возможность проявить свою власть над толпой. Но его хватило только на то, чтобы возбудить эмоции, которых сам же испугался, предпочтя тут же ретироваться.
В его воспоминаниях сквозит образ Сальвадора Дали, сложивший в более поздние годы. Отчасти в этом могли бы помочь воспоминания его сестры. Но она если и знала что-то о его политических пристрастиях, то не упомянула о них. Она стремилась воскресить в памяти время, проведенное вместе с братом, рассказать о детстве и юности великого художника, все прочее сочла несущественным.
Ана Мария Дали верила в идею врожденной гениальности. Она отметила: директор и главный преподаватель местной художественной школы сеньор Нуньес, «замечательный человек и незаурядный педагог», сумел «с самого начала оценить редкостный дар Сальвадора». По ее словам, он «сразу понял, что брату суждено стать великим живописцем и рисовальщиком».
В последнем утверждении хотелось бы усомниться. Вряд ли сеньор Нуньес был столь наивен. Да, можно выучиться отлично рисовать. Таких профессионалов ежегодно выпускают тысячи средних и высших учебных заведений во всем мире. Кто может заранее предугадать, кому из них суждено прославиться, а кто сгинет в безвестности? Сколько замечательных самобытных художников были оценены посмертно?!
Далеко не всякому отличному живописцу благоволит судьба. А есть и такие, кто не ждет подарков от судьбы, прилагая все силы для того, чтобы выделиться, обратить на себя внимание, прославиться. Как известно, к их числу относился и Сальвадор Дали.
Может показаться, что это началось у него в юности. Об этом немало сказано в его воспоминаниях. Сестра его свидетельствовала:
«Очень скоро брат стал в художественной школе первым учеником и любимцем сеньора Нуньеса, что неудивительно при таланте, чуткой душе и замечательном чувстве юмора, которые всегда отличали Сальвадора. Правда, по временам им овладевало желание выделиться во что бы то ни стало, каким угодно способом привлечь к себе внимание, и он вытворял бог знает что. Но это – в порыве; знай он, как будет выглядеть его поступок со стороны, он ни за что бы на такое не решился, ведь брат был и деликатен, и застенчив. Однако если уж он что вытворит, ни за что потом не признает, что вышло глупее некуда, – редкостный упрямец. Да и гордец! Мало того, станет уверять, что пресловутая выходка если о чем свидетельствует, так исключительно о его находчивости, уме и прочих замечательных качествах, и приведет целую кучу самых неправдоподобных, самых фантастических доказательств, ни на секунду не усомнясь в безукоризненной логике своих решений».
Воспоминания Сальвадора Дали в полной мере отразили не только его характер, но и умение хитро и убедительно оправдывать свои даже глупые выходки. Впрочем, на это способны слишком многие.
Сестра подчеркнула, что Сальвадор был самым прилежным учеником в художественной школе. Однажды в сильный ливень он был единственным, кто явился в школу. Такое рвение и есть подлинная основа таланта художника. Хотя одного этого, безусловно, мало. Что еще? Личность. И не демонстративная, внешне оригинальная, а подлинная.
Можно вспомнить нашего знаменитого поэта, в молодости футуриста – Владимира Маяковского с его желтой кофтой и вызывающим поведением. Из анархиста он сравнительно быстро превратился в сторонника социализма, коммунистической идеи, власти большевиков.
У Сальвадора Дали судьба могла сложиться сходным образом. Ведь он тоже был анархистом и атеистом, сочувствовал социалистам, большевикам. В Испании тех лет шло революционное брожение. Не случайно же нарисовал Сальвадор Троцкого. Судя по всему, это не было единичным, случайным порывом. Просто о том периоде Сальвадор и его сестра вспоминали с определенными умолчаниями.
Спору нет, в отличие от мужественного Маяковского, женственный Сальвадор не имел шансов проявить себя как политический вождь или даже как активист. Но у него мог сохраняться интерес к судьбе Родины, своего народа. Он имел возможность откликаться в своих произведениях – живописных полотнах, статьях, манифестах – на актуальные события, выражать свою гражданскую позицию.
Этого не произошло.
Было и другое направление творчества.
Как не без кокетства вспоминал Сальвадор Дали, «весной я не блестяще, но благополучно сдал все экзамены. Позволить себе провалиться я не мог: переэкзаменовка испортила бы лето – священное для меня время, неизменно оберегаемое от любых посягательств».
Почему он так дорожил летним отдыхом? Это время семья Дали проводила в Кадакесе, небольшом селении на берегу Средиземного моря. Будущий художник с благоговением писал о тех местах. Его признание заслуживает того, чтобы привести его полностью. Тем более попутно он рассказывает об одном из приемов, которым он успешно пользовался.
«Кадакесу я был верен всю жизнь, и с годами преданность моя возрастала и становилась все фанатичнее. Скажу без всякого преувеличения, я знаю наизусть все здешние скалы, все береговые извивы, все геологические пласты Кадакеса и его свет, ибо все годы моих одиноких странствий изо дня в день эти бесстрастные скалы и блики – суть и стержень пейзажа – были и сценой, и протагонистами (исполнителями главных ролей. – Р. Б.) напряженной драмы моей неутоленной любви и тревоги. Никто, кроме меня, не знал, как именно скользят тени по глади скал, когда море отступает, повинуясь луне, а у меня были свои отметины. Ссохшаяся черная оливка, которую я положил на ошметок пробки на вершине скалы, похожей на орлиный клюв, указывала границу заката. Я установил, что именно сюда падал последний луч, и тогда вокруг моей оливки на миг загорался багряный серп, а все вокруг уже заливала густая тьма.
Уж я-то знаю тебя, Сальвадор, и знаю, что никогда б ты не полюбил так кадакесский пейзаж, не будь он на самом деле красивейшим в мире, а он действительно таков, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
Вижу вашу снисходительную улыбку, читатель, и она порядком меня бесит. Вы, конечно, полагаете, что мир велик и прекрасных пейзажей пруд пруди, на какие широты и континенты ни ткнись, а Дали, видите ли, совершенно голословно утверждает, что ни один пейзаж нашей планеты не выдерживает сравнения с кадакесским, ибо так ему кажется – словно этого достаточно! А ведь такое утверждение требует доказательств, каковые выходят за рамки человеческих возможностей, не говоря уж о том, что Дали вообще не путешественник и в глаза не видал множества распрекрасных мест земного шара и не может судить о том, чего не знает.
Позвольте выразить искреннее соболезнование всякому, кто так полагает, ибо тем самым он расписывается в своей полной мировоззренческой несостоятельности, равно как и в эстетической. Сделайте одолжение, возьмите картофелину и изучите ее хорошенько. А когда обнаружите кружочек гнили, принюхайтесь – вы уловите совершенно особенный запах. А теперь представьте, что кружочек гнили – это и есть пейзаж. Следовательно, на картофелине, которую я имел удовольствие предложить вашему вниманию, есть пейзаж. Один пейзаж, заметьте, а не тридцать восемь. Теперь предположим, что на картофелине вообще нет пятнышек гнили – такое случается, не правда ли? Снова воспользуемся нашим сравнением пятнышка с пейзажем и убедимся, что на планете может вовсе не быть пейзажа, как, например, на Луне, где и глазу-то остановиться не на чем. Кстати, чтобы додуматься до этого, я не имел ни малейшей надобности летать на Луну – мне было достаточно картошки».
Трудно с ним не согласиться. Да, можно увидеть лунное мертвенное безмолвие, имея перед собой гладкую поверхность свежей картофелины. Если в лесу присмотреться к старому прогнившему замшелому пню, увидишь великолепный горный пейзаж.
Красочное изображение определенной местности еще не становится произведением высокого искусства. Тут вполне достаточно иметь хорошо выполненную фотографию. О воздействии пейзажа на человека Сальвадор Дали написал вдохновенно:
«Точно так же на человеческой более или менее круглой голове мы видим не сто носов, торчащих в разные стороны там и сям, а всего один нос. Столь же уникален природный феномен, который называют пейзажем избранные умы, способные уразуметь, что для его появления нужно совпадение многих важных условий и чудесных случайностей, в частности гармоническое сочетание геологического типа с типом цивилизации. Повторю: это, и только это явление я (и не я один) называю пейзажем. Наблюдать сей феномен можно лишь на берегу Средиземного моря, и более нигде. Самое же удивительное, что лучший образец пейзажа, равного которому нет ни по красоте, ни по насыщенности, ни по смыслу, обретается не где-нибудь, а вблизи Кадакеса, и мне, Сальвадору Дали, выпало счастье впитывать его с младенчества. Наступало лето – и для меня здесь, в Кадакесе, начинался очередной семестр эстетики. Полагаю своим долгом особо это отметить.
В чем же первородная красота и уникальность этого чудного пейзажа? В костяке – и только в костяке. Каждая скала, каждый холм здесь сделаны так, словно их выписал сам Леонардо! А ведь один костяк, и более ничего! Почти никакой растительности. Лишь кое-где хилые оливы – как седые в желтоватых отсветах волосы, они венчают мощные лбы холмов, изборожденные глубокими морщинами тропинок, кое-где заросших чертополохом».
После этого гимна пейзажам любимых Сальвадором Дали гор, холмов и побережий района Кадекеса невольно возникает вопрос: почему же художник не пожелал воспеть их в своих картинах? Нечто подобное в некоторых его работах присутствует, но лишь косвенно.
Дали не подтвердил приведенные выше слова делом. Значит, великолепные ландшафты не вдохновляли его настолько, чтобы оставаться с ними наедине, «на пленэре» и проникать мысленно в их суть, в тот замысел природы, благодаря которому возникли эти скалы, холмы, лагуны.
Он упомянул о сочетании геологического типа с типом цивилизации. Мысль интересная и отчасти разработанная историками. Почему бы не попытаться выразить ее языком живописи? По какой-то причине Дали не увлекла такая творческая задача.
В поздние годы он создал гигантское эпическое полотно (410 × 284 см) «Открытие Америки усилием сна Христофора Колумба». Но на столь обширном поле природа, в сущности, отсутствует, да и цивилизация представлена условно. Обилие мачт и крестов, на переднем плане разъеденный ржавчиной глобус и молодой человек со стягом, на котором в образе Мадонны изображена Гала.
Не для того ли Колумб открыл Новый Свет? Возможно, к тому времени у художника ослабла сила воображения? Вряд ли дело только в этом.
Значительно более интересна по мысли другая его работа: «Геополитическое дитя, наблюдающее рождение Нового человека». Однако она не имеет отношения к конкретным проявлениям земной природы, а по своей философской сути заслуживает обстоятельного разбора.
Короче говоря, ландшафты, о которых на словах он отзывался восторженно, в его картинах присутствуют как антураж, обезличенно, декоративно. Пейзаж как таковой остался вне его творчества.
То же можно сказать и о социально-политических темах. Современник двух мировых войн, нескольких революций в разных странах, гражданской войны на родине, он словно ничего этого не заметил, вернее, не счел нужным выразить в своих работах (если не считать нескольких исключений).
Автопортреты в стиле импрессионизма
Запись в дневнике Сальвадора за 1921 год: «Нет сомнения, что я абсолютно артистический тип, живущий для того, чтобы “позировать” … Я “позер” в манере одеваться, говорить и даже в моей живописной манере».
Ана Мария Дали так описывает старшего брата той поры: «Бледное лицо, узкий овал, подчеркнутый вертикалями бакенбард, и зеленые глаза – живые, проницательные, все видящие насквозь». Одна из наиболее ранних и в то же время популярных картин Сальвадора Дали – «Автопортрет с рафаэлевской шеей» (1921).
Рафаэль в 1506 году запечатлел себя на темном фоне мечтательным юношей женственного облика (ему тогда было 23 года и жить оставалось 14 лет). Его шея вполне пропорциональна. Он определенно – не позер, а более всего похож на романтического мыслителя.
Каким же увидел себя Сальвадор Дали в 1921 году? Автопортрет исполнен в стиле импрессионизма, на фоне дальней бухты и города Кадакеса, – розовых в лучах заката. Шея нарочито удлиненная и мощная, как у атлета. Лицо сравнительно широкое, мужественное, взрослое, с пристальным взглядом под неестественно длинными бровями.
Возможно, таким он хотел бы видеть себя: взрослым, независимым, сильным и мужественным. Тогда ему было 17 лет, атлетическим сложением не отличался, равно как мужеством, а материально полностью зависел от отца. О его высоких притязаниях свидетельствуют уже одно его упоминание Рафаэля и перекличка с его автопортретом. Хотя смотрят они в разные стороны.
В том же 1921 году написал Сальвадор автопортрет в мягких тонах и более напоминающий Рафаэля, по крайней мере, благодаря задумчивому выражению лица и общему лирическому тону. Но не счел нужным делать какие-либо ссылки: по-видимому, больше нравился сам себе в ином облике. Хотя, на мой взгляд, в данном случае он отчасти раскрыл свою душу.
Ныне немало найдется людей, удостаивающих и Рафаэля, и Дали одним титулом – гений. Из художников эпохи Рафаэля гениями можно с полным основанием называть Боттичелли, Босха, Дюрера, Тициана, Леонардо, Микеланджело. В XX веке наиболее прославлены Пикассо и Дали.
Казалось бы, «Автопортрет с рафаэлевской шеей» пророческий. Весной 1920 года Дали записал в дневнике: «Может статься, я буду не понят и презираем, но я стану гением, великим гением. Я уверен в этом». Не случайно он сопоставлял себя с Рафаэлем.
Насколько оправдались притязания Сальвадора? Приведу описание одной знаменитой картины:
«Приходит мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздвинулся, и тайна неба открылась глазам человека. Все происходит на небе; оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный ангелами… Будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной. И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслию! Он писал не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но для души, которая чем более ищет, тем более находит».
Так передал поэт Василий Жуковский свои впечатления от встречи с «Мадонной» Рафаэля.
У Дали есть крупная картина «Гваделупская Богоматерь» (1959) – перекличка с «Мадонной» Рафаэля: тот же младенец, те же позы главных персонажей. У Рафаэля одежда женщины скромна, таков же темно-зеленый занавес. У Дали одежда и материя, напоминающая мантию, роскошны, обилие парящих роз.
У Рафаэля Мадонна стоит на земле, у Дали – где-то высоко над земным ландшафтом, в космосе, возможно, на фоне солнца, и лицо у нее подозрительно похоже на жену Галу с ее несколько хищным выражением. Вместо скупой и благородной простоты Рафаэля у Дали обилие четко выписанных мелких деталей, а двое молящихся напоминают его самого.
Хочется спросить: а откуда ребенок, если у этой четы детей не было? Ответ один: с картины Рафаэля. Но только и тут выражение лица другое: спокойное, в отличие от тревожного взгляда младенца Иисуса у Рафаэля.
Возможно, кто-то иначе сопоставит эти две картины. Для меня «Мадонна» Рафаэля – настоящий сюрреализм, раскрывающий то, что недоступно глазу, вызывающий сильные чувства и, соглашусь с Жуковским, неистощимые мысли, в отличие от чрезмерно реалистичной композиции на картине Дали. Подробное описание последней потребовало бы длинного текста. Но мысли… Н. А. Геташвили прокомментировала его произведение так: «Изображение получило название в честь храма Девы Марии на острове Гваделупа. Картина Дали – на первый взгляд воплощение нарядного китча – представляет собой попытку соответствия католическому ритуальному декоративизму».
Придав Богоматери черты Галы, Дали предал христианский идеал. Да, Мария, мать Иисуса, была земной женщиной. Но разве она по сути своей, по характеру, образу жизни, трагическому присутствию на казни сына хоть чем-нибудь напоминает Галу? Пусть Сальвадор молится на свою жену, это его личное дело. Но выставлять ее в образе Мадонны… Это похоже на глумление над идеалами христианства и наивностью верующих.
Учтем: эту гваделупщину создал Дали после Второй мировой войны, кровавой гражданской междоусобицы в Испании. Как мог художник такого масштаба, таких великолепных возможностей пройти мимо трагедий человечества и своего народа?! Неужели он был настолько заворожен своей собственной персоной? Повторим одно из его откровений:
«Я – один-единственный!.. Знамя с этим девизом развевалось над неприступной сторожевой башней, воздвигнутой моей юностью. Эта крепостная стена и доныне – до старости – хранит в неприкосновенности кровоточащие рубежи моего одиночества».
Сильно сказано! Вот только был ли он таким с юных лет? Сестра Ана свидетельствовала: «У него много друзей, причем настоящих, а не просто приятелей. И сам он хороший друг. У брата щедрая душа – если он видит, что другу нравится картина, обязательно подарит: “Она твоя!”». Выходит, он с тех пор сильно изменился.
В начале гражданской войны в Испании его друг поэт Федерико Гарсиа Лорка, тоже выходец из богатой семьи, в одном интервью произнес: «Наше время чревато трагедией, и художник должен быть вместе с народом, рыдать, когда рыдает народ, и хохотать, когда он хохочет. Довольно любоваться лилиями, пойдем к тем, кто, увязая в грязи, ищет лилии, и поможем им».
Он написал «Романс об испанской жандармерии»:
Их кони черным черны, и черен их шаг печатный. На крыльях плащей чернильных блестят восковые пятна. Надежен свинцовый череп — заплакать жандарм не может; затянуты в портупею сердца из лаковой кожи. Полуночны и горбаты, несут они за плечами песчаные смерчи страха, клейкую тьму молчанья. От них никуда не деться — скачут, тая в глубинах тусклые зодиаки призрачных карабинов.(Пер. А. Гелескула)
Не случайно фашисты расстреляли из своих карабинов Федерико Гарсиа Лорку. А Сальвадор Дали спокойно воспринял смерть своего друга. Он заранее позаботился о том, чтобы его миновала такая судьба: оставался вне политики, точнее – вне политических опасностей. Он занимался искусством для развлечения публики, для своего благополучия и самоудовлетворения творчеством.
Потрясенный ужасами гражданской войны и злодеяниями фашистов, Пабло Пикассо, обожаемый Сальвадором, написал знаменитую «Гернику». Но разве «сверхреалист» Дали, избравший для себя изощренное направление в искусстве – сюрреализм («сюр» по-французски – «сверх»), должен непременно отрешиться от реального бытия людей, народов и государств? Над реальностью, если говорить всерьез, нет ничего. Что бы ни выдумывал поэт или художник, какие бы ни выстраивал воздушные замки, все это остается в реальном бытии природы и человека.
Погружение в темные глубины своего «я», да еще пользуясь методом психоанализа, следовало бы считать «подреализмом». Это тем более верно, что сюрреалисты пытались выразить образы подсознания. В их картинах – подмена реальности зримой реальностью мнимой, воображаемой.
Нам еще предстоит поговорить о сюрреализме. Пока отметим факт: Дали, как говорится, ушел в себя. Он это объяснил так: «Мое пылкое и могучее “я” вплотную подошло к проблеме социального действия, и, раздираемый противоречиями (такова главенствующая моя особенность), я стал анархистом, антиобщественным элементом. Дитя-король обернулся анархистом. “Наперекор всему и всем!” стало моим девизом и руководством к действию».
Его «анархизм», не выходящий за пределы общения с близкими, более похож на блажь избалованного ребенка, так и не возмужавшего. Ведь подлинный анархизм – общественное движение, а не капризы, эпатаж и личные амбиции.
Невольно вспомнишь строки из дневника французского писателя Жюля Ренара: «Все они говорят: “Я – бунтарь, да!” А вид у них жалкий, как у старика, которому удалось помочиться без особых страданий».
С некоторых пор Сальвадор стал действовать не наперекор всему и всем, а, напротив, удовлетворяя вкусы состоятельной публики. Да, он любил ее шокировать сценами с явными и скрытыми сексуальными мотивами, мог изобразить у бородатого мужчины, похожего на Фрейда (у него все бородатые мужчины похожи на него), вместо рта женское половое отверстие.
Но ведь этого и ждала от него «почтеннейшая публика», над этим она млела и притворно возмущалась, это она покупала. А разве экстравагантные наряды и поступки Дали не были элементом саморекламы? Или вдобавок это были ухищрения человека, мучимого синдромом предателя?
Последнее предположение мне представляется весьма вероятным. Иначе трудно более или менее убедительно объяснить его резкий отказ от убеждений молодости с последующими насмешками над ними. Наивно считать это только результатом тлетворного влияния Галы, как писала его сестра и думал отец. Не таким уж податливым «облаком в штанах» был Сальвадор Дали.
…Не станем оценивать его личность по принципу «хороший – плохой». Когда человек предает лишь свои убеждения, это его личное дело. Надо не судить, а понять такое решение. Оно соответствовало его характеру, вот и все. В случае другого выбора, он и его творчество были бы иными. Тогда мы не знали бы ныне знаменитого Сальвадора Дали.
В подобных случаях, когда речь идет о людях творческих и талантливых, сослагательное наклонение не имеет смысла. Обладай Дали мужеством и гражданской активностью, он мог бы выступить на стороне республиканцев, «наступить на горло собственной песне», перейти на создание плакатов, карикатур, социально-политических фантазий или вовсе отказаться от искусства во имя борьбы…
Глупые домыслы. Жизнь Дали – такое же творчество, проявление личности, как его творения.
Глава 3. На распутье
Характер содержит в себе все, что отличает наш ум и сердце. Талантливость означает всего лишь гармонию некоторых качеств. А вообще говоря, в одном и том же характере уживаются самые вопиющие противоречия, из которых он соткан.
Люк де Клапье де ВовенаргЛюбовь и секс
Юный Сальвадор Дали был робок с девушками. Можно назвать это скромностью, застенчивостью или еще как-то, сослаться на врожденный характер. Но так ничего не объяснишь.
По его признанию, до встречи с Галой, то есть до 1929 года, до двадцатипятилетнего возраста, он оставался девственником. Это нельзя объяснить отсутствием у него интереса к женщинам или слабой половой потенцией. Напротив, главной причиной были его рано проявившееся сильное тяготение к противоположному полу, влюбчивость, сексуальная активность.
Он испытывал не просто желание удовлетворить половую потребность: для этого была возможность пользоваться услугами проституток. Это, можно сказать, всего лишь секс – простой и сладкий, как кекс.
У Сальвадора Дали чувство было сложным, томительным, ярким и многоцветным, а не черно-белым. Это принято называть любовью. Она стала одной из центральных тем его творчества, выступая в разных обликах и трансформируясь, но всегда оставаясь сложной и не вырождаясь в секс, порнографию.
Попытаемся разобраться в этих чувствах. Наша задача – понять, насколько это в наших силах, тайну личности и творчества Сальвадора Дали. Для этого необходимо внести некоторую ясность в то, что принято называть любовью и сексом.
В психоанализе ключевая роль принадлежит понятию «либидо» (влечение). По Фрейду, оно сексуальное и в значительной мере патологическое. В действительности влечения бывают разные, а секс – одно из первичных и примитивных, наравне с влечением жаждущего к воде, голодного – к пище, замерзшего – к теплу, усталого – к отдыху…
Для тех, кто, как говорят в народе, с жиру бесится (основной контингент Фрейда), сексуальная проблема раздувается до болезненных размеров. У молодого Сальвадора Дали была возможность, говоря в терминах психоанализа, сублимировать эти переживания и позывы в творческом процессе. Он предпочитал удовлетворять свои сексуальные потребности тем способом, которому он посвятил картину «Великий Мастурбатор».
Последнее обстоятельство было у него сопряжено с боязнью стать импотентом, преждевременно постареть, ослабеть физически. Такое мнение было распространено в те годы, и оно, по-видимому, отразилось в его картинах.
Один пример из жизни животных оказал сильное влияние на воображение Дали: самки некоторых видов насекомых и пауков поедают своего полового партнера после совокупления. Можно сказать, самец рискует жизнью или даже расстается с ней во имя… Нет, не любви, а секса, удовлетворения полового инстинкта.
В обычных ситуациях мужчине не грозит нечто подобное физически. Но ведь страсть к женщине способна поглотить духовно, поработить. Возможно и другое: отказ и насмешка над незадачливым ухажером, а то и – что значительно обиднее – над слабостью в самый ответственный момент.
Наконец, Сальвадор Дали панически боялся венерического заболевания.
Если бы он не испытывал сильных половых эмоций, то подобные опасения и сексуальные темы не стали бы одним из главных мотивов его творчества. Впрочем, только ли – его?
Интересный факт: в эротических фантазиях Сальвадора Дали при обилии насекомых и прочих животных отсутствует образ змея (он и в Библии выступает как искуситель). Например, в картине «Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря» лужа оборачивается рыбой, ваза с фруктами – лицом человека, холм – собачьей мордой. Лежащая на столе веревка определенно похожа на змейку, но это сходство не подчеркнуто, а, напротив, разрушено: концы веревки расщеплены.
Почему Дали избегал изображать змей? Неужели сказывались его атеизм и нежелание использовать библейский символ? Хотя его пристрастие к пластичным образам должно бы привлечь внимание к одному из наиболее пластичных, текучих животных – змее.
Не исключено и другое. Все-таки змей в Библии олицетворяет зло и грех, а Дали в своих картинах и поведении не усматривал ничего греховного или злобного. Хотя если причина такова, то он вряд ли избегал образа змеи продуманно: возможно, сказывались какие-то подсознательные мотивы.
На подобные вопросы относительно творчества Дали ответить трудно. Со временем он чрезвычайно усложнял свои композиции далеко не всегда с определенным смыслом, а подчас просто мистифицируя зрителя.
Простота в сексуальных отношениях была ему несвойственна. Сказывался его характер, а также дух времени. Бегство от простоты и красоты – так можно назвать искания авангардистов. Хотя по отношению к красоте Дали стоял на более или менее классических позициях.
Интересно, что даже у племен первобытной культуры не было таких убогих представлений о сексе, которые столь характерны для современной поп-культуры (одно уж это название наводит на задние мысли). Например, этнографы Рональда и Катрин Берендт писали, что песням австралийских аборигенов «присущи эротические черты: в одних песнях передается возбуждение, вызванное любовным приключением, самим актом близости, ощущением наслаждения, в других – находят отражение более широкие аспекты секса, его служение продолжению рода».
Возможно, у Сальвадора Дали сложное отношение к сакраментальной проблеме пола определялось не только схемами фрейдизма, но и представлениями Платона: «Соитие мужчины и женщины… дело божественное, ибо зачатие и рождение суть проявления бессмертного начала в существе смертном». «Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество».
Каждому человеку даруется тот Эрос, которого он достоин. У Сальвадора Дали была тяга к высшему, сопряженная с паническим страхом венерических заболеваний, гниением заживо и смертью от сифилиса, а также с боязнью каких-либо физических и психических последствий активной мастурбации.
Эти страхи отразились на его творчестве. Обдуманно или подсознательно он все, что касается сексуальных отношений и сладострастия сопровождал образами болезней, смерти, разложения, раскаяния, страданий, насмешки. Возможно, таково одно из объяснений загадочных сцен на его многих картинах.
Неужели изощренный садизм?
Как пишет Жан-Луи Гайеман, в молодости Сальвадор Дали «распределил свое время между сельскими прогулками, шатанием по городу и серьезным флиртом с одной из своих соучениц, Карме Роже. Дали-отец не предпринимает ничего, чтобы поощрить его увлеченность живописью. Но зато на большом пианино, стоящем в гостиной, выставил медицинский справочник с цветными иллюстрациями, посвященными венерическим заболеваниям».
Уточним: отец предоставил сыну полную возможность заниматься живописью, оплачивая его немалые затраты. А медицинский справочник произвел на Сальвадора сильное впечатление. Его поразил вид красочных язв – последствий любовных утех, сексуальных удовольствий. С этих пор он стал остерегаться вступать в половую связь с женщинами. На его картинах появились тела, томимые любовным пылом и покрытые язвами.
Вспомним эпизод в саду Пичотов, при сборе липового цвета, где он, превозмогая робость, а потому грубо предложил девочке, в которую влюбился, стать его «Дуллитой» (что-то подобное Дульсинее Тобосской для Дон Кихота?). Она испугалась, бросилась жаловаться матери. Он, сгорая от стыда, бродил по саду и наткнулся на мертвого ежа, поедаемого червями, источающего жуткое зловоние.
Как вспоминал Сальвадор Дали, «после достопамятного события в имении Пичотов я избегал девушек. От них исходила опасность, грозившая моей ранимой душе, созданной, чтобы терзаться страстью. И я выработал свой иезуитски изысканный обманный способ защиты: всячески поддерживая состояние вечной влюбленности, я избегал какого бы то ни было общения с предметом чувств.
Обычно моей избранницей становилась девушка, случайно встреченная в Барселоне или еще где-нибудь, и увидеть ее снова не представлялось ни малейшей возможности. Постепенно воспоминание о ней блекло, облик избранницы уносился в туманную даль и под конец развеивался, уступая место следующему. Я понимал, что, по сути дела, все время был влюблен в одну, просто тот единственный, неповторимый, пленительный женский образ множился, скрываясь всякий раз за новой маской той, какую выбирала моя беззаконная всемогущая королевская воля.
Это походило на игру, которую я выдумал еще в школе сеньора Трайта: в пятнах, которые от сырости выступали на стенах, я отыскивал всякий раз новый рисунок, новый образ. Как и в облаках, которые тем грозовым летом проплывали над имением Пичотов. Еще в юности этот магический дар повелевать метаморфозами и уводить мир за грань реальности, за грань видимого научил меня самообладанию – я обрел способность во всем, всегда и всюду различать иное или, говоря иными словами, в разном угадывать одно».
Он умолчал о более сложных своих переживаниях. У него возникло невольное желание отомстить женщинам за те мучения, которые они причиняют. Совмещенность страстного желания сближения и столь же сильного страха, вызывающего отторжение, провоцирует, как писал И. П. Павлов, «сшибку» и невроз у высших животных. В этом отношении человек – не исключение.
У Сальвадора Дали сравнительно быстро появился объект для удовлетворения этого садистского желания. Вот что он рассказал (эпизод относится ко времени обучения в художественной школе):
«Один из молодых преподавателей философии объявил факультатив по Платону, на который я немедленно записался. Занятия проходили по вечерам, с семи до восьми, и начались поздней весной, когда все зацвело. Мы обычно выносили стулья во дворик и рассаживались у колодца, увитого плющом. На небе сияла луна. В группе были несколько незнакомых девушек, красивых, как мне показалось. Вдруг взор мой остановился на одной из них, и я понял, что она тоже глядит на меня, не отрываясь. Мы разом встали и, словно сговорившись, направились к выходу. Вышли – и, взявшись за руки и онемев от волнения, пустились бежать. Институт располагался на окраине города – совсем близко, сразу за домами начинались поля, и мы, влекомые одним порывом, устремились туда, где не было никого. Тропинка вилась среди высоких хлебов. Мы одни!..
Девушка вдруг остановилась и, поглядев на меня, словно дразня, рассмеялась и побежала дальше. Я по-прежнему молчал – мне казалось, что я никогда не раскрою рта. Волнение, дошедшее до крайней степени, я принял за изнеможение. Она вся трепетала и оттого становилась еще желаннее. Наконец я величайшим усилием воли заставил себя не сказать – нет, выдохнуть: «Туда!» – и махнул рукой в сторону от тропинки. Она пробежала еще немного и там, где колосья были примяты, легла на землю. Я удивился – она показалась мне очень высокой, совсем не такой, какой была, пока бежала. Я увидел, что у нее светлые волосы и очень красивые груди – как рыбки, они бились у меня в руках. Мы долго целовались. Она приоткрыла рот, и мои губы больно уперлись в ровный ряд ее зубов».
Казалось бы, у него появилась реальная возможность удовлетворить свою страсть реальным, а не мнимым соитием с девушкой. Однако, судя по его воспоминанию, даже в этот желанный и благоприятный момент он не терял самообладания: его рассудок действовал не менее сильно и властно, чем сексуальная страсть.
Эпизод с первым опытом сексуальной близости у Сальвадора Дали показывает, что сильные эмоции не подавили его рассудка. Физиологически этому могло способствовать – простите за медицинский жаргон – преждевременное извержение семени. Сам он обращает внимание на состояние своей партнерши:
«Девушка была сильно простужена и все время вытирала нос мокрым платком. У меня же не было не только сухого, но и вовсе никакого платка. Она то и дело шмыгала носом, но все без толку. Отчаявшись, бедняга отвернулась и высморкалась в подол. Я немедленно поцеловал ее – чтобы не подумала, что мне противны ее сопли, да они и правда не вызывали во мне никакого отвращения – текучие, жидкие, прозрачные, они походили на слезы. И вообще казалось, что она плачет – так неровно она дышала. Но вдруг я сказал ей с самым суровым видом: “Я тебя не люблю! Я никогда никого не полюблю! Я буду один!”
Ко мне вернулось спокойствие, я снова мог продумывать свои действия и заранее просчитывать каждый ход и предвидеть следствия – душа моя была холодна, как лед.
Как мне удалось столь быстро овладеть собой? Девушка же, напротив, разволновалась, и волнение только усугубило насморк. Дружески ласково я обнял ее – движения мои были уверенными и властными. И вдруг мне стало щекотно от ее подбородка, на котором высыхали сопельки. Но я не стал чесать щеку, а склонил голову к ней на плечо и чуть погодя ласково уткнулся носом ей в подмышку и вдохнул чудный аромат – там пахло гелиотропом, и ягненком, и, кажется, еще жареными кофейными зернами, чуть-чуть. Я поднял голову. Она не могла скрыть разочарования и досады. В голосе ее я уловил легкое презрение:
– Так ты не придешь сюда завтра?
– Приду! – ответил я, встав и церемонно поклонившись. – Завтра вечером, и послезавтра, и целых пять лет я буду приходить сюда, но ни днем больше!
Я принял свой план – пятилетний!»
«Эта девушка была моей невестой пять лет, – писал он, – но летом я всегда уезжал в Кадакес, и свидания наши прекращались. Все эти годы она хранила мне какую-то мистическую верность. Встречались мы по вечерам, а если мне хотелось побыть одному, я оповещал ее через соседского парнишку. О времени мы не уславливались и встречались словно случайно. К каким только уловкам она не прибегала, чтобы ускользнуть из дому. Иногда ей приходилось брать с собой подругу, а та приводила кавалера, что меня раздражало, и чаще всего мы гуляли одни.
Выполняя эту идиллическую пятилетку, я проявил всю свою извращенно-чувствительную натуру. И добился того, что бедная девушка впала в полную зависимость от меня. Я же строго дозировал наши свидания и решал, о чем мы будем говорить, а о чем не будем, врал бог знает что и о чем и наблюдал, как растет ее покорность. Я порабощал ее – методично, беспощадно, не оставляя никакой надежды на спасение. И настал день, когда я счел, что дело сделано, и потребовал жертв: “Разве ты не говорила, что я тебе дороже жизни? Так или не так? Сколько нам еще остается – четыре года?”
Однако страсть, разбуженную мной в этой юной женщине, не следует приписывать моему донжуанскому дару – должен сказать, что между нами, если говорить об эротике, за все пять лет так ничего и не произошло, кроме того, что случилось в первую встречу: мы целовались, глядели друг другу в глаза, я прикасался к ее груди – и более ничего. Думаю, что ощущение своей приниженности, испытанное ею в тот день из-за насморка, и было главной причиной неудовлетворенности, которая неотступно ее терзала, и страстного желания во что бы то ни стало возвыситься в моих глазах. Но я вел себя точно так же, как в первый день, если не сдержаннее (я мастерски изображаю холодность – это мое испытанное оружие). Я посыпал солью ее раны, любовь ее разгоралась (тогда как удовлетворенная любовь гаснет) и приближалась к опасной черте, за которой маячил нервный срыв, если не попытка самоубийства».
Он вновь упоминает насморк, из-за которого девушка сочла себя униженной. Трудно в это поверить. Значительно более вероятны ее терзания из-за того, что он пренебрег ею, когда она со всей откровенностью желала ему отдаться. Он нанес страшный удар по ее самолюбию.
Причина может быть физиологической (о ней мы упоминали), а также психологической. Была ли это боязнь венерического заболевания? Не обязательно. Есть и другие опасения. Например, ответственность за последствия половой близости. К тому же у него мог быть страх оказаться «несостоятельным» в самый ответственный момент и поэтому стать объектом насмешки, презрения. Для него это стало бы непереносимым страданием.
Он предпочел в воспоминаниях представить себя хладнокровным эгоистом, увлеченным сугубо эстетическими экспериментами. Есть и более убедительное объяснение: он жаждал любви во всей ее полноте, а не просто удовлетворения похоти.
«Мы оба знали, что я ее не люблю; я знал, что она знает, что я ее не люблю, и она знала, что я знаю, что она знает, что я ее не люблю. Я действительно не любил – и тем хранил свое одиночество. С полной невозмутимостью я ставил эмоциональный опыт на прелестном живом существе, и моя холодность сообщала эксперименту чистоту и, следовательно, исключительную эстетическую ценность. Я знал, что любовь, какую мне суждено испытать, будет совсем иной, что она захватит и истребит все мое существо, перемелет в пыль все чувства, и вздумай я тогда экспериментировать с приручением и унижением, меня ждет неминуемый крах. А пока я был уверен, что моя подруга будет и впредь служить мне. Я и тогда знал, что истинная любовь – это рана, а не стрела, и уже примеривал к себе муку святого Себастьяна, зерна которой, зароненные в мое тело, рвались прорасти».
Сальвадор Дали не был циничным искателем половых удовольствий в примитивном сексе. В любви он стремился к высшему. Об этом следует помнить, осмысливая его картины, посвященные любви и сексу. Их порой чрезмерная сложность определяется в немалой степени клубком противоречивых чувств и мыслей, которые у него были связаны с этими проблемами.
К тому времени он с удовольствием заметил, что становится местной знаменитостью не только благодаря внешним признакам. Были отмечены его успехи в живописи, цепкий ум. По его словам, «первые проблески славы воспламенили воображение моей невесты, чем я не преминул воспользоваться, дабы укрепить свою деспотическую власть над всем ее существом. Я возжаждал истребить в ней все привязанности, кроме одной – ко мне, единственнейшему и наидостойнейшему, воспетому журналистами, увенчанному славой. В жизни ее не должно было остаться места ни для подруг, ни для знакомых. Я предписал ей затворничество и вечное ожидание свиданий, которые назначал все реже и реже».
Так ли все было? Сальвадор Дали писал это под сильным влиянием психоанализа и относился к себе прошлому примерно так, как психиатр к своему пациенту. При этом он мог преувеличивать и увлекаться теоретическими изысками. И все-таки его рассказ внушает доверие.
Он признается, что был ревнив. Это чувство возникало у него не потому, что он ее любил и не терпел соперников. Он любил себя и того же требовал от нее. Если она смела отозваться о ком-либо с теплотой или даже упомянуть о своем новом знакомом, как он тотчас обрушивал на них всю мощь своего сарказма, выставлял их жалкими пигмеями, всячески унижал, тем самым возвеличивая себя. Она охотно соглашалась с ним (быть может, нарочно старалась пробудить в нем ревность, надеясь, что так он крепче привяжется к ней).
«Укрепляя деспотизм, – писал он, – я сурово карал за малейшее своеволие, так что не раз бедняга проливала горькие слезы. При этом я держался с ней так высокомерно и холодно, что не раз доводил до отчаяния и даже до мыслей о самоубийстве. Она устала надеяться на любовь и была готова удовольствоваться простым расположением, за которое цеплялась, как утопающий за соломинку. Но наши получасовые прогулки становились все реже – всему приходит конец! Передо мною, маня славой, уже реял храм искусств – Мадридская Академия Художеств. И я жестоко напоминал невесте: “Остался год! Всего только год!” И бедняга целые дни прихорашивалась ради краткого свидания. К тому времени она избавилась от простуд и так светилась здоровьем, что переносить это не было никакой возможности – приходилось доводить ее до слез».
Почему он не мог спокойно видеть ее молодое здоровое тело? Потому что боролся с вожделением, желанием овладеть ею. Но жар его чувств тотчас охлаждал рассудок. Он издевался не только над ней, но и над самим собой, а за это мстил ей – своей жертве и мучительнице.
«Обычно я брал с собой на прогулки очередной номер “Л`Эспри Нуво”. Склонив голову, она внимательно разглядывала картины кубистов. В ту пору надо мной властвовал категорический императив мистицизма, свойственный Хуану Грису. По временам я изрекал загадочные фразы вроде этой: “Слава блестит, колет и режет. Она похожа на ножницы с раскрытым клювом”. Невеста пыталась запоминать мои изречения, хотя смысла не улавливала: “Ты что-то говорил вчера про ножницы и клюв…”
“А знаешь, – извещал я ее на обратном пути, – из Мадрида я не буду писать тебе писем”. И точно знал, что через десять шагов она всхлипнет. Ни разу мне не случилось ошибиться. Утешая, я пылко целовал ее, и слезы, упругие, как лесные орешки, обжигали мне губы. Тем временем перед моим мысленным взором реяла слава – колкая и острая, как разверстый клюв ножниц».
Судя по всему, она ему сильно, порой чрезмерно нравилась, притягивала к себе. Была ли она хороша собой, трудно сказать. Скорее всего – да. В своих фантазиях он обладал ею. Возможно, он изобразил ее обнаженной на фоне морского залива на картине 1923 года. Юная веселая девушка с ярким румянцем на щеках возлежит на постели, заложив руки за голову. Крепкие округлые груди, загорелые ноги и руки. Над ней птичка на ветке. Перед ней на столике ваза с фруктами, торчит бутылка с красным вином. За ней на море два паруса. Белый отсвет от одного из них, подобный лезвию кинжала, нацелен ей между ног.
Что он хотел выразить этой сценой? Подсказку можно получить от написанного примерно в то же время или чуть раньше «Больного мальчика». Стилизованный автопортрет в кресле. Необычайно длинные, подобные лезвиям ножниц, пальцы. Перед ним столик, на нем бутылка красного вина, ложка. За ним на мерцающей глади залива два паруса в виде кинжалов. Напротив юноши висит клетка с птицей. Оба рисунка выполнены в манере пуантилизма.
Перекличка очевидна. И вряд ли случайно над веселой обнаженной девушкой сидит вольная птаха, тогда как перед закутанным и перевязанным платком юношей клетка.
Как бы ни фантазировали по поводу отношений Сальвадора с девушкой, которую он называет в воспоминаниях невестой, сохранилось его письмо к ней, написанное перед его отъездом на учебу в Мадрид:
«Прощай Кадакес, прощайте оливковые рощи с тихими тропинками… Я уезжаю далеко-далеко в погоне за тем, в чем у меня нет никакой нужды. Учиться, увидеть Прадо. И ты – с бездонным взглядом античной статуи, ты – молодая с грудками, подобными двум фруктам, под белым платьем, скорее всего понимающая, что нравишься мне и что я люблю тебя, прощай и ты!»
Кошмар кузнечика
Еще одни интимные откровения из его воспоминаний:
«Кузнечик! Забудешь о нем, а он тут как тут. И я трясусь от ужаса. Всегда трясусь. Стоит мне задуматься или, разглядывая что-нибудь, замереть от восторга, как он тут как тут. Тяжелый неуклюжий скок этой зеленой кобылки повергает меня в тоскливое оцепенение. Мерзкая тварь! Всю жизнь она преследует меня как наваждение, терзает, сводит с ума. Извечная пытка Сальвадора Дали – кузнечик!
Мне тридцать семь лет, а страх, который внушает мне эта тварь, не уменьшился. Мало того, мне кажется, что он растет, хотя дальше некуда. Если я встану на краю пропасти и на меня прыгнет кузнечик, я кинусь вниз, только бы не длить эту пытку!
Ужас, который я испытываю, глядя на кузнечика, – одна из самых таинственных загадок моей жизни. Я ведь любил кузнечиков в детстве. С сестрой и тетушкой мы часто ловили кузнечиков. Меня приводили в восторг их крылышки – они точно так же отливали розовато-лиловым, как жаркое закатное небо над Кадакесом.
Но в один прекрасный день мне случилось поймать рыбку-соплюшку (названием она обязана слизи, покрывающей ее чешую). Я крепко схватил рыбешку, чтобы не выскользнула, – так, что видна была одна голова, и стал разглядывать, но вдруг дико вскрикнул, отшвырнул ее и зарыдал. Отец, сидевший неподалеку, встал, подошел ко мне и спросил, что стряслось. Захлебываясь слезами, я еле выговорил: “У нее голова, как у кузнечика! Я сам видел!”
С той самой минуты, как я обнаружил это сходство, я и боюсь кузнечиков, и стоит мне увидать кузнечика или рыбку-соплюшку, как я теряю самообладание. Родителям пришлось запретить соседским ребятишкам пугать меня кузнечиками, но сами они удивлялись: “Ты же любил кузнечиков! Помнишь?”»
Можно предположить, проявились какие-то мазохистские наклонности Сальвадора Дали. Ведь если он испытывал ужас при виде кузнечика, то почему изображал это насекомое с каким-то болезненным сладострастием? Гигантские кузнечики лепятся снизу к стилизованному изображению его головы на двух известных картинах 1929 года: «Траурная игра» и «Великий Мастурбатор».
Возможно, так с помощью искусства он попытался преодолеть «кошмар кузнечика». Но почему же все-таки поначалу любимый им кузнечик превратился в пугающий символ? Как это можно связать со скользкой рыбкой-соплюшкой?
В этом случае, пожалуй, помогает метод психоанализа. По какой-то причине, несмотря на увлечение теорией Фрейда, Сальвадор Дали обошел молчанием такое объяснение. А оно, как говорится, бросается в глаза. Зажав в руке скользкую рыбку и взглянув на ее головку, он отметил – возможно, подсознательно – сходство со своим половым члеником.
Так же прежде он держал в руке кузнечика. И этой аналогией бессознательно подменил более очевидное сходство. При этом испытал страх: нечто чрезвычайно похожее на его членик находилось в его руке вне тела, как бы отрезанным. Подмешивались и страхи кастрации, последствий онанизма (в этой связи – отцовских запретов).
Не знаю, насколько убедительно такое объяснение. Я, мягко говоря, не поклонник психоанализа по Фрейду, но в данном редком случае этот метод, на мой взгляд, полезен.
Вряд ли в детстве Сальвадор знал о том, что некоторые самки насекомых, удовлетворив половой инстинкт, поедают своих сексуальных партнеров, стоит им зазеваться. Позже это знание, судя по всему, сказалось на том, что к символическому изображению своей головы он прилепил гигантского кузнечика. Порой он подчеркивал, что это самка, подрисовав на ее брюшке личинок.
Разгадали мы или нет загадку кузнечика, которую он считал одной из самых таинственных в своей жизни, нельзя сказать наверняка. Надо лишь иметь в виду, что до 1929 года, изображая свои кошмары и сексуальные фантазии, он кузнечика не рисовал.
Расчлененные тела, дохлый прогнивший осел, символы половых органов, кровь, птичьи головы, протыкающие плоть (не страдал ли он от фурункулов; говорят же – нарыв проклюнулся). Вместе со странными геометрическими конструкциями и подобием простейших растений все это образует причудливые композиции, призванные вызывать у зрителя не чувство прекрасного, а отвращение. В такой компании кузнечик был бы кстати. Почему же его нет?
По-видимому, в то время он еще не знал потрясших его сведений о половых причудах некоторых насекомых. Только тогда он сделал для себя окончательный вывод: сексуальная связь может быть смертельно опасной для мужчины. И отразил это в двух крупных картинах. Не исключено, что в результате он, по крайней мере, отчасти избавился (магия искусства и творчества!) от этой напасти.
В юности кошмар кузнечика усугубился тем, что об этой его слабости узнали школьники. В подобных случаях от желающих дразнить нет отбоя. Тем более когда перед тобой замкнутый и заносчивый одноклассник, возомнивший о себе невесть что.
«Настоящие мучения ожидали меня в Фигерасе, где родители не могли защитить меня от одноклассников, а те, обнаружив, что я боюсь кузнечиков и сверчков, стали прямо-таки изощряться в жестокости. Они непрестанно подсовывали мне этих тварей, обращая меня в бегство, да какое! Я срывался с места и, как сумасшедший, бежал сломя голову куда глаза глядят. Но разве от них спрячешься? В конце концов кузнечик сваливался мне на голову – жуткий, мерзостный, полудохлый! А иногда я открывал книгу и там оказывался кузнечик с оторванной головой: он лежал между страницами, вокруг расплывалось буроватое пятно, и лапки еще трепыхались!
Соученики так меня замучили, что я уже ни о чем, кроме кузнечиков, и думать не мог. Они мне мерещились повсюду: я принимал за сверчка скомканный фантик и – к всеобщему восторгу – начинал дико орать. А если в меня запускали хлебным катышком или резинкой, я вскакивал на парту и, трясясь всем телом, начинал отряхиваться в ужасе от одной мысли, что это кузнечик».
Зная некоторые черты актерского характера Сальвадора, можно предположить, что он отчасти подыгрывал своим издевщикам. Так он оказывался в центре внимания, – положение, которое всегда его возбуждало и ради которого он был готов пострадать. О том, что кошмар кузнечика был не просто психической аномалией, а отчасти им регулировался, свидетельствует рациональный способ, которым он воспользовался для прекращения одновременно приятной и отвратительной для него игры:
«В конце концов, издерганный до последней степени, я разработал стратегический план операции, надеясь, что военная хитрость избавит меня если не от страха перед сверчкообразными, то по крайней мере от приставаний одноклассников. Моя отвлекающая операция была предельно проста. Однажды я публично притворился, что куда больше, чем кузнечиков, боюсь бумажных птиц, и стал слезно умолять одноклассников не запускать их при мне и вообще не показывать, даже издали. При виде кузнечика я величайшим усилием воли ухитрился сохранить спокойствие, а завидев бумажную птицу, принялся орать благим матом, изображая полную невменяемость.
Мое вдохновенное притворство возымело действие еще и потому, что смастерить из листа бумаги птичку куда проще, чем отловить кузнечика, не говоря уже о том, что разыгранная мной сцена ужаса была много живописнее подлинного страха. Так обманным маневром я обезопасил себя – скоро мне перестали совать сверчков. Истинный страх я, как ширмой, прикрыл страхом притворным, что доставило мне глубокое удовлетворение, хотя, конечно, притворство было обременительно – ведь приходилось всякий раз играть блестяще – под страхом новой пытки кузнечиками!»
Выражение «вдохновенное притворство» прекрасно характеризует поведение Дали и в зрелые годы.
…Период детства и юности определяет всю дальнейшую жизнь. Это время выбора. У Дали это особенно показательно: на его творчество наложили отпечаток многие переживания, поступки, впечатления и стрессы детства и юности.
В его картинах немало элементов игры, эпатажа, выдумки, поисков наиболее сильных выразительных средств. Он постарался внести сумятицу в умы еще и своими литературными сочинениями, где порой не столько раскрывает, сколько скрывает – вольно или невольно – причины тех или иных своих решений.
Тем, кому нравится толковать произведения Сальвадора Дали на свой лад, со своими личными пристрастиями и воспоминаниями, вряд ли есть смысл читать книги о нем. Подобно многим художникам XX века, он давал возможность фантазировать перед своими полотнами, искать и находить в них то, что хотелось бы видеть и понимать.
Такой подход к произведениям искусства распространен и оправдан. Он соответствует наиболее абстрактному и эфемерному чередованию звуков и аккордов, созвучий и диссонансов – музыке. Живопись в этом отношении более зрима, конкретна, даже если это абстрактные фигуры. Динамика живописной картины возникает благодаря движению глаз, и есть еще «застывшее мгновение», когда взгляд охватывает картину как единое целое.
Сальвадор Дали с некоторых пор предлагал зрителю множество отдельных образов, вызывающих сложные ассоциации. Важную роль стали играть детали, порой мелкие, разрозненные. Нелегко обнаружить связи между ними, а еще труднее понять, что все это означает.
Он признавался (по-видимому, откровенно), что не может объяснить содержание многих своих картин. Хотя продумывал свои работы и был противником «автоматического письма», что называется, как бог на душу положит. Работа над крупным полотном, насыщенным деталями, тщательно выписанными, а не кляксами или геометрическими фигурами, продолжается неделями, а то и месяцами; за это время не раз изменится настроение художника, возникнут новые идеи.
Короче говоря, подавляющее большинство картин Сальвадора Дали предоставляют простор для личного творчества зрителя. Это – одна из важных составляющих успеха его произведений.
Ориентиры
В своих воспоминаниях Сальвадор Дали с особенным удовольствием и, возможно, не без преувеличений рассказывает эпизоды учебы в художественной школе. По его словам, сеньор Нуньес был потрясен его талантом и восторженно провозглашал:
– Да он же гений, этот Дали! Гений – и ничего не попишешь!
«У сеньора Нуньеса, моего тогдашнего надзирателя, – писал он, – голова от меня шла кругом. Я неизменно отметал его указания и всякий раз в итоге оказывался прав, чем ставил его в тупик. Внимательнейшим образом я выслушивал сеньора Нуньеса – и делал наоборот. Так мне удалось совершить кое-какие открытия технического плана».
Так Сальвадор Дали упорно продолжает убеждать читателя, будто изначально обладал самобытным талантом. Что ему, врожденному гению, до учителей! Он торит новые пути в живописи, отметая все замшелые традиции.
В действительности было иначе. Вот что он восклицает, вспоминая свои отношения с невестой, когда мучился любовной страстью, сдерживался и за свои сексуальные страдания мстил девушке: «Принимайся за работу, Сальвадор, нечего отлынивать! Если ты способен на жестокость, значит, способен и работать.
И я действительно работал, что внушало уважение. Я мог целый день не отрываться от холста или от заумной философской книги. С раннего утра – я вставал в семь – до самого сна мозг мой не отдыхал ни секунды. Даже свидания были для меня работой, причем не из легких – я вершил дело соблазнения. Родители удивлялись: “Ни минуты без дела! Вечно он занят!” И постоянно твердили мне: “Отдохни! Молодость пройдет, и не заметишь!” А я думал: “Вот и пускай проходит, да поскорей, до чего ж осточертело мне это молодо-зелено!” Как, как мне, не дожидаясь, пока повзрослею, избавиться от этих дремотных детских хворей? И все же одно мне было ясно: я должен справиться с кубизмом, чтобы высвободиться раз и навсегда. Так я, может быть, по крайней мере научусь рисовать».
В том-то и дело: он именно работал, больше учился рисовать, чем экспериментировать. Приведя примеры «творческих конфликтов» с сеньором Нуньесом, он постарался создать впечатление своей борьбы с ним за творческую свободу. Но если взглянуть на его ранние работы, нетрудно заметить, что в них чувствуется рука прилежного ученика, а со временем – подражание импрессионистам, пуантилистам.
Учитель стремился привить ему навыки классического рисунка. Это позже сказалось в полной мере и на славе Дали как сюрреалиста. Слаб тот, кто старается быть выше («сюр» по-французски – «над», «сверх») реализма, а сам не способен подняться до него, быть талантливым реалистом.
«Я занимался не покладая рук. Я знал, что непременно стану художником, да и отец вроде бы примирился с моим призванием. Проучусь еще три года, сдам экзамены на бакалавра и поступлю в Школу изящных искусств в Мадриде (об этом уже был разговор с отцом), а после, если получу именную стипендию, поеду в Рим. Правда, обязательное посещение занятий, хоть и любимым предметом, меня заранее тяготило. Я жаждал свободного развития, не скованного ничьими указаниями, и предвидел, что неминуемая борьба с преподавателями будет жестокой. Я знал, что и как мне следует делать, и не нуждался ни в надзирателях, ни в советчиках».
Последнее суждение взрослого Дали вызывает большие сомнения. Вновь он желает показать свою самобытность, врожденную гениальность и устремленность к заранее намеченной цели. Но как художник сложился он вовсе не сразу, подобно Афродите, явившейся во всей красе из пены морской, или Афине – из головы Зевса. Он много работал и в своих поисках не избежал подражания и старым мастерам, и манере модернистов.
Несколько его работ взяли на выставку, в которой участвовало около тридцати каталонских художников, включая мэтров из Жероны и Барселоны. Выставка проходила в помещении Музыкального собрания. Его картины были отмечены двумя ведущими критиками. «Оба пророчили мне блестящее будущее», – подчеркнул Дали.
Один из этих отзывов завершался так: «Мы приветствуем нового художника и уверены, что в будущем наши слова обретут силу пророчества: Сальвадору Дали суждено стать великим художником».
Выходит, уже тогда его дар проявил себя ярко и зримо? Да, но это было результатом упорного, постоянного, самозабвенного труда. Пожалуй, ни у кого из юношей во всей Испании не было сочетания такого творческого энтузиазма и таких возможностей.
Важно и другое: интересы Сальвадора не ограничивались живописью. Он писал стихи, сочинял прозу, по-прежнему увлекался философией – не формальной, излагающей взгляды тех или иных мыслителей схематично, а реальной, воспитывающей культуру мышления. И тут он пробовал быть творцом: принялся за философский труд «Вавилонская башня». За год написал пятьсот страниц – введение в трактат.
«Философская теория, которую я излагал в этом сочинении, – вспоминал он, – совершенно вытеснила из моего сердца любовь. В “Вавилонской башне” я утверждал, что мысль о смерти лежит в основе всех творческих построений. Я соглашался на преждевременную старость – и обретал надежду на бессмертие. Фундаментом башни служила, что называется, жизнь как она есть – то есть то, что для меня всегда было только хаосом, только смертью; венчали же башню недоступное пониманию обыкновенного человека знание, открытое мне – антиподу Фауста, демиургу, – и воскресение. Моя жизнь была непрестанным и яростным пестованием своего “я”, могущественной развивающейся личности. Ежечасно я одерживал очередную победу над смертью, прочие же только и знали, что идти с ней на мировую. Я – никогда. Я никогда не уступал смерти!»
Он сообщил об этой работе кратко и бессвязно. Возможно, основная тема была навеяна смертью матери после тяжелой болезни. Что он подразумевал под «жизнью как она есть»? И почему она для него оборачивалась «только хаосом, только смертью»? Хочется надеяться, что его сочинение было более интересным и серьезным, чем эти его высказывания.
Даже общественное бытие при всех его нелепостях, пошлостях и подлостях имеет мало общего с хаосом. Напротив, оно чрезмерно зарегулировано наподобие механизма, подчинено многочисленным регламентам, законам, придуманным людьми.
Земную природу и вовсе нет оснований считать воплощением хаоса и смерти. Она чрезвычайно сложна, органична, а не механистична и потому трудна для понимания как целое. Ее величие и великолепие именно в торжестве живого, а не косного, в постоянном движении, чудесных превращениях. Даже смерть вовлечена в этот круговорот как залог новой жизни.
Почему об этом не задумался Сальвадор Дали? Потому что стоял на позициях индивидуалиста, того самого Единственного, о котором писал Макс Штирнер. И тогда человек с особой остротой воспринимает мысль о своей смерти. Для него это – вселенская катастрофа, ужас падения в черную бездну. Чем больше человек пестует свое «я», тем страшнее для него смерть.
Будем, однако, помнить, что воспоминания Дали писал, когда сложился как художник определенного направления и приступил к самовосхвалению. На первых его картинах нет ничего подобного «победе над смертью» (да и что это такое?). В них торжествует жизнь – яркая и полнокровная. Таковы его работы 1918–1920 годов: «Лодка», «Портрет Ортенсии, крестьянки из Кадакеса», «Портрет виолончелиста Риккардо Пичота», «Озеро в Вилабертране», виды Кадакеса…
Да, был затем «Больной мальчик», но и эта картина свидетельствует не о «могущественной развивающейся личности» и не о «победе над смертью», а показывает печального юношу – антипода «Обнаженной на фоне пейзажа». На «Автопортрете с рафаэлевской шеей» на нас смотрит с некоторым высокомерием и вызовом атлет. Но таким был Сальвадор в своих мечтах и манере поведения. Вспомним еще его изображение Льва Троцкого или «Праздник у часовни Святого Себастьяна» – веселое народное гулянье с пышнотелыми девушками, лукаво глядящими на зрителя…
Какая главная особенность творчества его как начинающего художника? Разнообразие тем, сюжетов, решений. Это поиски, а не ученическое следование каким-то канонам.
Сразу приходит на ум ссылка на необыкновенную личность, рано проявившую себя новатором. Однако не следует торопиться с выводами. Импрессионисты и пуантилисты, которым подражал юный Сальвадор, – это новаторство на уровне конца XIX века.
Он учился живописи во втором десятилетии XX века, а потому не мог оставаться вне поисков, характерных для тех времен. Но дело не только в этом. Разнообразие его ранних работ показывает, что он не был тупым индивидуалистом, упоенным самим собой, как можно решить, читая его воспоминания.
Сальвадор Дали в живописи выражал не столько свой мятежный дух, сколько дух времени. В статье испанского философа и писателя Мигеля де Унамуно «Искусство и космополитизм», опубликованной в 1912 году, было сказано то, что смутно ощущал молодой Дали:
«Бесконечность и вечность мы обретаем лишь на своем месте и в свой час, в своей стране и в своей эпохе. Будем “вечнистами”, а не модернистами! – вот к чему призываю я. Ведь то, что сегодня слывет модернизмом, покажется нелепой рухлядью лет эдак через десять, когда изменится мода».
Настоящий художник, а не «выпендрежник» ищет не способ удивить публику, а наиболее адекватные выразительные средства воздействия, чтобы донести до людей свои мысли и чувства. Тот, кто зациклен на себе самом, обречен на вырождение, подобно любой замкнутой системе. Как писал Мигель де Унамуно, «я не знаю учения, более подавляющего индивидуальность человека, чем то, которое… называют индивидуализмом».
Порой говорят: художник выражает свою личность, свой взгляд на мир. Но чтобы взгляд этот не был убогим, поверхностным, пошлым, требуется мыслящая оригинальная личность и способность увидеть в этом мире то, что ускользает от равнодушного взгляда, не говоря уже об умении выразить это мастерски.
К счастью, юный Сальвадор в борьбе за свою индивидуальность ориентировался не на себя, а на окружающий мир, близких людей, родную природу. Весной 1920 года в предвкушении каникул записал в дневнике: «После целого года испытаний, эмоций и лжи я смогу со спокойной совестью приняться за работу, священную для того, кто творит… Больше света… больше голубизны… больше солнца… отделить себя от природы, стать ее прилежным учеником… О, я сойду с ума!»
Но в следующем году судьба нанесла ему сильный удар: умерла донья Фелипа Доменеч. «Ни прежде, ни после мне не довелось испытать ничего подобного, – писал он. – Я боготворил мать и знал, что ни одно существо на свете не может с ней сравниться. Я знал, что она – святая, что ни одна душа, сколь бы ни были очевидны ее достоинства, не способна достичь тех высот, где обретается душа моей матери. Ее доброта искупала все – и в том числе мои изъяны. Я не мог примириться с утратой… Наступив на горло рыданиям, я поклялся сияющими мечами славы, что заблистают когда-нибудь вокруг моего имени, отвоевать мать у смерти».
Что значит – отвоевать у смерти? Сохранить и упрочить память. Для этого ему тем более надо добиться признания, славы. (Действительно, выполненный им в 1919 году портрет матери тиражируется во многих альбомах, книгах, посвященных Дали.)
Юноша испытал отчаяние от невосполнимой утраты. Ведь он был, что называется, маменькиным сынком; она для него воплощала доброту и совесть. В подобных случаях человек может утратить нравственную опору и пуститься во все тяжкие. Для Сальвадора Дали потеря матери означала еще более неистовое творчество во имя той, кто верила в него. Он должен был оправдать эту веру.
Вспомним: Сальвадор был атеистом. Нередко говорят иначе: неверующий. Это неверно. Атеизм – религиозная вера в отсутствие Бога, о котором свидетельствует Священное Писание. Как любая религия, атеизм имеет множество разновидностей. Наконец, есть учение пантеизма, совмещающее Бога и Природу.
Говорят, будто человек, не верящий в Бога, ставит себя вне морали, живет по принципу «все дозволено». Но человеку предоставлена свобода совести, устремлений, выбора жизненных ориентиров – не имеет значения, Богом или Природой. Значит, ему изначально все дозволено. Мало ли теистов, совершающих страшные преступления? Мало ли атеистов благородных и честных? Нравственность – в поступках, образе жизни, а не в исполнении религиозных обрядов.
У Сальвадора Дали был ориентир – на творчество. Он создавал не только картины, но и философские, публицистические, художественные сочинения.
Можно возразить: он добивался известности, славы! Это же честолюбие, качество души не из лучших. Его обуревала гордыня – и вовсе грех с позиций христианства.
Так-то оно так, да не совсем. Его воспоминания и многие поступки вроде бы подтверждают такое мнение. Но есть и другие свидетельства, более веские и существенные.
Сошлюсь на мнение Жюля Ренара, которое считаю верным: «Талант – вопрос количества. Талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтобы написать их триста… Сильные волей не колеблются. Они садятся за стол, они обливаются потом. Они доведут дело до конца. Они изведут все чернила, они испишут всю бумагу. И в этом отличие талантливых людей от малодушных, которые никогда ничего не начнут. Литературу могут делать только волы. Самые мощные волы – это гении, те, кто не покладая рук работает по восемнадцать часов в сутки. Слава – это непрерывное усилие».
Разве это не относится и к философам, ученым, композиторам, художникам и конкретно – к Сальвадору Дали?
И еще одно высказывание Ренара: «Чтобы выбиться в люди, нужно делать или мерзости, или шедевры. На что более способны вы?»
На этот вопрос Сальвадор Дали отвечал делом: стремился создавать шедевры. Удалось ли это ему и в какой мере – не столь важно. Главное – он был ориентирован на творчество и трудился истово, как молится подлинный верующий в Бога. Творчество – молитва мастера.
Школа изящных искусств
Отец поддержал желание Сальвадора учиться ремеслу художника в Школе изящных искусств, находящейся в Мадриде (ее еще называли Академией Сан-Фернандо). Для сдачи экзамена по рисунку в столицу отправились всей семьей: сын, отец и дочь. Больше всех волновался отец. Молодой художник внешне волнения не проявлял и, возможно, не сомневался в успехе.
Получив задание, Сальвадор должен был выполнить его в шесть дней. Пока он работал в стенах Школы, отец не находил себе места. Он в сопровождении дочери то нервно прохаживался по улице, то выведывал у дежурного преподавателя, как должна быть оформлена работа. И узнал, что сын выполняет задание не так, как все. На его вопрос дежурный ответил:
– Мне трудно судить о художественных достоинствах рисунка, но вижу, что сделан он не по правилам: сам рисунок маловат, а поля – слишком велики. Посмотрите, какие поля у других абитуриентов!
Отец разволновался пуще прежнего. Зная характер сына, прежде чем высказать ему свои опасения, решил сводить детей в кино. Однако вычурный наряд Сальвадора (шея обмотана длинным широким шарфом, кудри до плеч, огромный черный мохнатый берет, плащ до пят) вызвал смешки в публике. Для отца киносеанс превратился в пытку. Выйдя из зала, он не выдержал:
– Всё! Больше в кино ни ногой! С этим ряженым нигде появиться нельзя – вытолкают в шею!
Так вспоминала этот эпизод Ана Мария Дали. У Сальвадора он описан несколько иначе:
«Мы отправились в кино на душещипательный фильм. После сеанса публика уставилась на меня: бархатная блуза, волосы до плеч, трость с золоченым набалдашником и, главное, бакенбарды в полфизиономии. Весь этот несуразный вид заставлял заподозрить во мне актера. Две дурочки, восторженно разинув рты, следили за каждым моим движением.
– С тобой хоть никуда не ходи. И кудри, и баки – цирк, да и только! Хватит, потешил народ, пора, хвост поджавши, домой возвращаться!
Серо-голубые отцовские глаза за два последних дня обрели страдальческое выражение, а седой клок, который он имел обыкновение теребить в минуты горестных раздумий, встал торчком – так, словно в этом седом роге застыла вся мука моего неопределенного будущего и неминуемо близкого краха».
Отца волновали формальные проблемы, а сын надеялся на свое умение рисовать. На третий день отец решился ему сказать, что размеры его работы малы и требуется другой формат. Сальвадор выслушал его внимательно и скомкал наполовину выполненный рисунок. Но тотчас испытал ужас, увидев перед собой белый лист, тогда как остальные абитуриенты уже завершали свои работы.
Весь день он пытался найти нужные пропорции – безуспешно. Узнав, что рисунок не получается, отец, придя в отчаяние и проклиная себя за напрасный совет, вырвал клок своих волос. Сын вспоминал:
«Заря того решающего шестого дня воссияла зловещим – под стать намеченной казни – алым пламенем. Я был готов ко всему и страха уже не испытывал. Всю чашу ужаса перед грядущей катастрофой я испил ночью. Я принялся за работу, и через час рисунок был готов – весь! – и тщательнейшим образом проработан. Так что ровно половина времени еще оставалась, и я всласть налюбовался сделанным. Рисунок и правда вышел восхитительный, но вдруг я заметил, что он мал, много меньше самого первого, и меня пронзило отчаяние.
Выйдя, я увидел отца с газетой. Он молча посмотрел на меня, но ни о чем не спросил.
– Я сделал потрясающий рисунок, – сказал я спокойно, – но он много меньше первого.
Слова мои обрушились на отца как бомба».
По мнению Аны, поступок брата объясняется тем, что он «всегда был крайне впечатлителен и на удивление легко поддавался внушению». Наивное суждение! Как раз наоборот.
Кстати, отец не внушал, а поделился с ним своими сомнениями. Сальвадор последовал его совету лишь в первой части: уничтожил свой почти завершенный рисунок. Начал новый, но он получился слишком большим. А затем сделал все наперекор. Нарочно? Нет. Он же не был врагом самому себе и не собирался из-за глупого упрямства проваливать экзамен. Напротив, он жаждал поступить в это учебное заведение. И когда увидел, что новый рисунок меньше первого, пришел в отчаяние.
Значит, он действовал подсознательно. У него еще раньше сложилась твердая установка: рисуй, как считаешь нужным; выслушай советы и поступай по-своему. Так вышло и на этот раз. Он согласился с отцом, и это было разумно. Но вопреки рассудку подсознание внесло свои коррективы. Оно противостояло авторитету отца, и поэтому рисунок оказался меньше предыдущего.
Таков наглядный – в полном смысле слова – психологический феномен. Согласившись с отцом, он попытался рисовать продуманно, по канону, «рассудочно», и у него ничего не получилось. В последний день ему пришлось работать стремительно, на подсознательном уровне, интуитивно. Вопреки рассудку рисунок оказался меньше первого. Но выполнен он был отлично: ведь навыками рисовальщика Сальвадор вполне овладел.
Профессиональный художник не раздумывает над тем, как ему поставить штрих, примерно так же, как мы, когда разговариваем или пишем, не подбираем (кроме отдельных случаев) каждую букву и каждое слово. Основную оперативную работу проделывает подсознание.
В случае с Сальвадором сказалось и то, что он сделал несколько вариантов заданного рисунка. У него сложился этот образ, закрепившись на уровне подсознания. Поэтому последний вариант был выполнен необычайно быстро. Это был не просто порыв вдохновения, а конечный результат долгого и кропотливого труда.
Итак, потрясенные всеми этими событиями, отец и сын стали ожидать решения приемной комиссии. Для отца возвращение в родной город в случае провала стало бы позором: ведь он так гордился успехами сына, которому прочили блестящее будущее!
На следующий день они узнали решение комиссии: Сальвадора Дали приняли в Школу изящных искусств, как было отмечено, «несмотря на несоответствие представленной работы требуемым размерам, ибо рисунок выполнен столь безукоризненно, что комиссия считает возможным отступить от правил».
Отец с торжеством победителя вернулся в Фигерас. Сын остался в Мадриде и поселился в Резиденции. Это был студенческий городок при Центре исторических исследований, своеобразной вольной академии. Здесь были лекционные залы, лаборатории, библиотека, спортивные сооружения. Изучать можно было любые предметы. Пансион стоил сравнительно недорого, а учиться можно было сколько угодно, если позволяют финансы.
«Я с головой окунулся в занятия, – писал Сальвадор Дали. – Жизнь моя, по сути дела, из них одних и состояла. Я не ходил ни на прогулки, ни в кино. Из Резиденции я ехал в Школу изящных искусств и оттуда обратно, причем, вернувшись, немедленно запирался у себя в комнате и снова занимался. Все воскресные дни я проводил в Прадо за кубистскими переложениями самых разных картин».
Все было именно так. Отец Дали попросил своего знакомого – театрального режиссера, драматурга и поэта Эдуардо Маркину – присматривать за сыном. А когда узнал, какую подвижническую жизнь тот ведет, стал беспокоиться за его здоровье. Он писал Сальвадору: в молодые годы надо ходить на прогулки, посещать театр и вообще развлекаться. Однако сын поступал так, как считал нужным: «Из Академии в Резиденцию, из Резиденции в Академию, одна песета на трамвай – и все. Я не принуждал себя. Ничего сверх того душа моя не требовала, напротив, если бы в мою жизнь вторглось еще что-нибудь, я бы досадовал и злился».
Таким вспоминал он себя той поры: «Я обзавелся черной шляпой с полями и трубкой, которую сосал, не раскуривая и даже не набивая. Брюки я терпеть не мог и потому носил короткие панталоны с гетрами, а иногда обвязывал ноги лентами крест-накрест. В дождь я облачался в плащ до пят, который привез из Фигераса. Плащ волочился по земле, а из-под шляпы торчали нестриженые космы. Словом, вид у меня в ту пору, без всякого преувеличения, был неописуемый. Именно что неописуемый. Стоило мне выйти на улицу, как поглазеть на меня собиралась толпа. Я шествовал мимо, гордо подняв голову и словно не замечая, что на меня устремлены все взоры».
Над ним потешались жители столицы с первых дней, когда он в таком виде появился на улицах Мадрида со степенным почтенным отцом и сестрой с ее провинциальными кудряшками. За такой вид его отругал отец. Но Сальвадор упорствовал. (Помните, сестра писала, будто он легко поддается внушению!) Чем объяснить такое странное стремление выставлять себя на посмешище?
В своих воспоминаниях и на этот раз Сальвадор Дали постарался показать себя в молодости таким, каким стал позже. Он же сам признавался, что был робок, особенно с девушками. Так в чем же дело? Или у него была такая психическая аномалия – выставлять себя напоказ? Но при чем тут его робость? Ее, как мы уже предполагали, наиболее логично объяснить боязнью опростоволоситься, попасть в унизительное положение; для такого гордеца это стало бы катастрофой. И все же, зная, что выставляет себя на посмешище в нелепом наряде, он стоял на своем.
Он отстаивал свою самобытность таким доступным и примитивным способом. Вряд ли ему доставляли удовольствие насмешливые взгляды прохожих. Они впивались в его самолюбивую душу, как стрелы в тело святого Себастьяна (не потому ли этот образ укоренился в его памяти?). Он гордо выдерживал эту муку, возвышаясь над убогой толпой.
Он понимал: столичная публика не такая, как в его родном городе. Если там он выглядел оригиналом, то здесь воспринимался как пугало. Но это лишь укрепляло в нем силу противодействия. Он не желал быть ни модным, ни старомодным – только особенным! Единственным и неповторимым.
Казалось бы, в Школе он должен был проявлять свою тщательно лелеемую индивидуальность с еще большим упорством. Но и тут он восстал против очевидности – поступил наоборот. В глубине души сознавал: одно дело – потешать почтеннейшую и отчасти презренную публику, а другое – постигать вершины ремесла. Его главным ориентиром оставалась классика, шедевры старых мастеров.
Однако дух новаторства витал в Школе изящных искусств и обуревал преподавателей.
XX век начался с переоценки всех ценностей в искусстве. Мир техники, индустриальная революция, а за ней и череда экономических, политических, социальных – все это превратило общественную жизнь в бурлящий котел. С болезненной быстротой возникали, громко заявляли о себе и пропадали художественные течения. Многих из них назвать течением было бы преувеличением: они быстро лопались, как пузыри во время дождя.
В предисловии к книге «Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века» (1986) Л. Г. Андреев отметил:
«В истории культуры не было другой эпохи, которая бы в такой мере, как век XX, задела и взбудоражила сознание современников, возбудила бы такую потребность в немедленном и громогласном провозглашении своих порывов и своих поисков. И сделала бы эти порывы и эти поиски столь несхожими, друг другу противоречащими, даже взаимоисключающими».
При всей несхожести и несмотря на взаимные нападки, была у всех авангардистов общая мишень, единый враг – классическое искусство, реализм. Свирепей всех ополчились против него наименее одаренные художники, скульпторы. Сальвадор Дали, конечно же, был не из их числа. Он вспоминал:
«Я начал учиться с величайшим воодушевлением, но в преподавателях Школы изящных искусств скоро разочаровался, поняв, что эти увешанные медалями и регалиями старцы меня ничему не научат. И совсем не из-за приверженности академизму и гладкописи, напротив – они поклонялись всякой новизне и с распростертыми объятиями встречали всякий вывих. Мне нужны были выучка, узда, строгие границы, а меня побуждали лениться, вольничать, писать кое-как. Эти старцы только-только обратились в новую веру – импрессионизм – и без устали превозносили французов, не говоря уже о наших собственных импрессионистах, певцах местного колорита. Соролья был этим старцам царь и Бог. Чему они могли научить?
…Я жадно расспрашивал их о живописных приемах, о том, сколько брать краски и сколько масла, мне надо было знать, как делается тончайший красочный слой, но я ровным счетом ничего не добился. Профессор, одурев от вопросов, закатывал глаза и нес околесицу:
– Вам, коллега, надо искать свою собственную манеру. В живописи нет правил. Смотрите, думайте и пишите так, как вам видится, – но с душой! Главное – темперамент!
“Что до темперамента, – думал я в тихом унынии, – то могу поделиться, дорогие наставники, – на всех хватит! Но объясните мне, наконец, толком, в какой пропорции лучше смешивать краску с маслом!”
– Смелее, смелее! – бубнил преподаватель. – Не цепляйтесь за мелочи, идите вглубь! Проще! Еще проще! Забудьте о правилах! Никаких ограничений! Пусть каждый следует своему темпераменту!
Профессор живописи, бедный, глупый профессор! Пройдет еще много лет, разыграется не одна война, стрясется не одна революция, прежде чем люди наконец поймут, что иерархию не выстроить без строгой выучки, что без жесткой матрицы не отлить форму – такова высшая, причем крайне реакционная истина. Бедный, глупый профессор живописи!»
Верное суждение! Когда профессор гоняется за новизной в искусстве (сходно – в философии, науке, хотя и не столь прискорбно), он потакает не столько новаторам, сколько эпигонам и бездарностям.
Есть высокие вечные ценности, есть великие традиции, есть опоры, на которых воздвигнуты незримые воздушные дворцы духовной культуры. Вот чему надо учить молодежь. А быть ниспровергателями прошлого они и без того сумеют – благо это не требует ни знаний, ни мастерства.
Кубизм
Нет, не прост был молодой Сальвадор Дали. Его увлекли новые направления в живописи. Для начала он стал осваивать одно из них, уже достаточно популярное. В БСЭ за 1953 год о нем сказано:
«Одно из крайних реакционных формалистических направлений в буржуазном изобразительном искусстве. В своих произведениях кубисты сводили изображение реального мира к комбинации простейших геометрических фигур (куб, конус и т. д.), тем самым искажая действительность. В дальнейшем они пришли к полному отказу от изображения каких-либо предметов, давая в картинах бессмысленные сочетания плоскостей и линий. Теоретики кубизма выступали с реакционными субъективно-идеалистическими идеями, отрицая все реальное, кроме интересов и ощущений отдельной личности, сознательно противопоставляли себя массам (“толпе”). Кубизм как антигуманистическое, космополитическое течение явился ярким выражением распада буржуазной культуры. Извращенное творчество кубистов, часто имеющее патологический характер, было предшественником многих современных формалистических течений. Как художественное направление кубизм сформировался во Франции в 1908–1910».
Если изъять политическое клеймо «реакционное» (можно заменить его на «революционное», «экспериментальное»), эта характеристика более или менее соответствует действительности. Зачинатель кубизма, испанец Пабло Пикассо, так объяснил свое понимание свободы творчества: «Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а таким, каким его мыслю». И еще: «Я не пишу с натуры, я пишу при помощи натуры».
Первая картина в стиле кубизма «Авиньонские девушки» была создана Пикассо в 1907 году. У зрителя, воспитанного на классическом искусстве, она способна вызвать шок: изломы тел и лиц, словно вырезанных из розового и красного картона, нечто подобное осколкам стекла, вульгарные позы, обреченные или пустые глаза…
Пояснение к этой картине искусствоведа Мэри Холлингсворт: «Эта сцена в борделе, вызывающе грубая, с нарочито деформированными фигурами, радикально изменила ход истории искусства, ознаменовав начало кубизма». Выходит, задачей художника было вызвать не чувство прекрасного, а напротив – уродства. Такими он представлял этих женщин. Расчленение тел и душ. Соблазн, переходящий в отвращение.
Дальнейшее развитие кубизма пошло по двум главным направлениям: создание композиций из геометрических фигур или расчленение образа на геометрические фрагменты, словно отраженного в осколках стекол и зеркал.
По словам Холлингсворт, «изображение дробится на мелкие плоскости, объемность вообще не принимается в расчет, а объем существует как бы параллельно плоскости изображения. Таков по определению испанского художника Хуана Гриса, этап “аналитического кубизма”. Изображение перестает быть представлением, выражением, символом природы или человека, а становится самоценной вещью».
Можно добавить: картины кубистов заставляют вспомнить реалии техногенного мира: острые углы и кубы домов, стекла и зеркала, в которых дробятся, искажаются образы, в особенности когда движешься мимо них. Случайно ли в то же время стали возводиться здания из стекла и стали? Конструктивизм и кубизм – близкие родственники.
С момента появления первых полотен кубистов это направление вызвало сначала насмешки, затем неприязнь. Весной 1914 года русский философ Николай Бердяев писал:
«Когда входишь в комнату Пикассо галереи С. И. Щукина, охватывает чувство жуткого ужаса. То, что ощущаешь, связано не только с живописью и судьбой искусства, но с самой космической жизнью и ее судьбой…
Пикассо – гениальный выразитель разложения, распластования, распыления физического, телесного, воплощенного мира…
Он, как ясновидящий, смотрит через все покровы, одежды, напластования и там, в глубине материального мира, видит свои складные чудовища. Это – демонические гримасы скованных духов природы…
Это – кризис культуры, осознание ее неудачи, невозможности перелить в культуру творческую энергию… Перед картинами Пикассо я думал, что с миром происходит что-то неладное, и чувствовал скорбь и печаль гибели старой красоты мира, но и радость рождения нового».
Грянули мировая война и череда революций. Не был ли кризис искусства великим предчувствием: скованные духи природы, воплощенные в технике, разрушали создания рук человеческих, убивали миллионы людей. Осенью 1917 года на лекции в Москве Бердяев определил то новое, что свершилось на земле:
«В мир победоносно вошла машина и нарушила вековечный лад органической жизни… Возрастание значения машины и машинности в человеческой жизни означает вступление в новый мировой эон… Машинизация и механизация – роковой космический процесс… Машина есть распятие плоти мира. Победное ее шествие истребляет всю органическую природу, несет с собою смерть животным и растениям, лесам и цветам, всему органически, естественно прекрасному».
Таков был взгляд философа, способного проникать мыслью в суть явлений не только искусства, но всей цивилизации. Не случайно идея торжества на планете техники, машины родилась в России. В Западной Европе к этому времени происходящее представлялось иначе. Через десятилетия после Бердяева Федерико Гарсиа Лорка написал:
«Классическая живопись подражала природе или, вернее, тому, что условились считать природой. Глаз пресмыкался перед внешним миром, а душа художника – жалкая рабыня, закованная в кандалы зрения, не имела ни собственной воли, ни собственных прав, данных душе поэта или композитора…
С рождением кубизма между старой и новой живописью разверзлась пропасть… Отныне живопись действительно свободна и возведена в ранг самодостаточного искусства, независимого от внешних впечатлений и живущего собственной глубинной жизнью».
Почему так произошло именно в начале XX века? Лорка ответил: «Год 1914-й. Привычная реальность сметена войной. Окружающее невероятно. Разум не в силах остановить бойню. Очевидное призрачно. Моральные устои нарушены. Прежним кумирам больше не верят. Цепи пали, и сбросившая оковы одинокая и нагая душа стоит перед открытым будущим. Долой лживое зрение! Нужно освободиться от внешней реальности, чтобы прийти к реальности подлинной, пластической… Новое видение рождено войной».
Во Франции кубизм возник задолго до войны, став популярным после нее. Это важно отметить для понимания такого явления. Прав был Бердяев: поиски новых визуальных форм начались с властного вторжения техники в жизнь и быт. Сказалось одно уже то, что появилась фотография, а затем и кинематограф. Чисто формально это был вызов натурализму в живописи, и художники, словно признав свое поражение, попытались обратиться к иным способам теперь уже не отражения, а осмысления реальности.
Гарсиа Лорка отметил причины популярности кубизма после мировой войны. Но дело тут, пожалуй, не в отрицании «лживого зрения» (зрение частенько не обманывает, в отличие от лживых или ошибочных мыслей). Человек эры техники ощутил – не всегда понимая это – разлад с природой, вторжение машин, торжество искусственного, техногенного мира.
Чем заинтересовал кубизм Сальвадора Дали? «В ту пору я уже восставал против кубизма», – позже писал он, желая показать себя новатором. Вряд ли это было восстание, стремление преодолеть каноны кубизма. Напротив, он постарался их освоить, создавая работы в таком стиле, не избежав подражательности:
«Запершись у себя в комнате, я написал несколько кубистских картин. В них явственно ощущалось влияние Хуана Гриса. Рядом с насыщенными цветовыми пятнами моих ранних работ импрессионистского толка эти полотна казались однотонными. Белый, черный, оливковый, жженая сиена – больше ничего не было на моей палитре».
Для Сальвадора, судя по всему, создавать картины в манере кубизма не представляло большого труда. Он резонно решил, что экспериментировать лучше всего в свободное от учебы время:
«Я вообще имею обыкновение поступать самым парадоксальным образом, и в ту пору я – единственный в Мадриде художник-кубист – жаждал досконально изучить рисунок, цвет, перспективу и требовал от профессоров академической выучки.
Студенты держали меня за ретрограда, врага свободы и прогресса, себя же они именовали революционерами и новаторами по той простой причине, что писали наобум и не признавали черного цвета – “грязи”, как они выражались, и вместо черной употребляли красную краску. Они, видите ли, сделали открытие: на предмете свет дробится, играя всеми цветами радуги, исключая черный; тени, следовательно, красные, а не черные. Эту прописную истину импрессионизма я постиг еще в двенадцатилетнем возрасте и уже успел восстановить в правах черный цвет, истребление которого считаю грубейшей ошибкой. Этот урок мне преподал на одной из барселонских выставок Ренуар; одного взгляда на его небольшое полотно оказалось достаточно. А эти новаторы, выписывая свои кривые радуги, годами прилежно развозили грязь! Воистину нет предела дури человеческой!»
Студенты Школы, считавшие себя поборниками прогресса в искусстве и врагами ретроградов, посмеивались над одним из них – профессором Хосе Морено Карбонеро – известным портретистом и книжным графиком (иллюстратором, в частности, бессмертного «Дон Кихота» Сервантеса). Ему было шестьдесят лет, он был подчеркнуто старомоден: фрак, белые перчатки, галстук-бабочка, булавка с черной жемчужиной.
Карбонеро учил реалистическому рисунку, верно передающему пропорции, контуры, тени и полутона натуры. Студенты-авангардисты пренебрегали подобными навыками, считая более важным самовыражение, передачу своих чувств и мыслей, своего темперамента. Считалось, так проявляется свобода творчества.
Профессор, переходя от одного ученика к другому, указывал на недостатки рисунка, исправлял их несколькими верными штрихами. Но едва он покидал аудиторию, как, по свидетельству Дали, «все в едином порыве истребляли его исправления, поспешая восстановить свои шедевры, плоды так называемого темперамента, а точнее говоря – лени и тщеславия, притом самого жалкого, исключающего и трезвую самооценку, и безумный порыв. Какие же болваны учились в Мадридской Школе изящных искусств!»
Расходы на личные нужды у Сальвадора были минимальны, и он имел возможность покупать недешевые книги по искусству. Одна из новейших, посвященная кубисту Жоржу Браку, не была известна даже профессорам Школы изящных искусств, не говоря уже о студентах.
…В наше время принято считать людьми образованными тех, кто имеет дипломы, знает иностранные языки, получил научные звания. С формальной точки зрения это оправданно, а по сути неверно. На примере Сальвадора Дали видно: если человек прошел курс обучения, это может свидетельствовать (не всегда), что он – неплохой профессионал. И только.
Быть профессионалом в любой области знаний и деятельности важно. Однако там, где требуется творчество, умение мыслить самостоятельно, а не по шаблону, одного этого мало. Как верно отметил американский писатель Амброз Бирс, образование – это то, что мудрому открывает, а от глупого скрывает недостаточность его знаний.
Мудрыми или глупыми люди не рождаются, а становятся. Для развития ума необходимы тяга к знаниям и стремление приумножать их собственными усилиями, а не по учебным курсам. Совершенно обязательно выработать культуру мышления: способность сознавать свое незнание, размышлять логично и самостоятельно.
Исходя из таких предпосылок следует считать Сальвадора Дали человеком высокообразованным. Он всегда стремился расширить свой кругозор, был серьезен и умен не по годам. Несмотря на новейшие веяния в искусстве, понимал: прежде чем стать подлинным мастером, надо овладеть ремеслом живописца.
Усердие в учебе и следование указаниям преподавателей многими расценивались как признаки отсутствия таланта и темперамента, склонности к рутине, неспособности проявить свою индивидуальность. Да, отличники в учебе не часто бывают выдающимися творцами. Однако плохая успеваемость – еще не критерий таланта.
Пока студенты в свободное от занятий время развлекались, Сальвадор Дали продолжал заниматься самообразованием. Читал философские и научные труды. Его заинтересовало обретавшее моду учение Зигмунда Фрейда. Его «Толкование сновидений» потрясло юношу. Ему открылась возможность глубже заглянуть в собственную душу. «С тех пор я неустанно занимаюсь толкованием себя, – признавался он, – не только сновидений, но абсолютно всего, что со мной происходит, включая так называемые чистые случайности».
Увлечение психоанализом по Фрейду наложило тяжелую печать на творчество Сальвадора Дали. Но разве только его обескуражил фрейдизм? До сих пор он остается в моде, и об этом мы еще поговорим.
Психологический анализ самого себя, как бы взглядом со стороны, безусловно, полезен. Хотя при этом слишком легко поддаться влиянию модных учений. Поначалу такой опасности Дали удалось избежать. Он понимал, что сначала требуется овладеть ремеслом, а не самовыражаться.
Вот как определил он свою задачу: «Сальвадор… двигайся потихоньку, и все прояснится в свое время. А если ты сразу, не заложив фундамента, не отыскав традиции, набросишься на самые лакомые образы, толкования не получится, ты просто изнасилуешь их, как рабынь, сведешь все к тому, что когда-то уже перечувствовал и тем исчерпал. То будет плагиат, исполненный пафоса, а не открытие, которого ты домогаешься. Но мало того – оказывается, осколки этих великолепных образов не выдерживают проверки фетишизацией, и ты, глава своей собственной тайной полиции духа, сам откажешься удостоверить их подлинность ввиду отсутствия подробного досье, касающегося как явной, так и тайной их жизни».
Так прошли четыре месяца его пребывания в Мадриде. Он твердо шел по намеченному пути: «Занятия стали для меня ритуальным служением; я вышколил себя до такой степени, что еще немного – и стал бы аскетом. Я думаю, мне понравилось бы в тюрьме. Уверен, что мне и в голову не пришло бы жалеть о свободе».
Странное признание, не правда ли? И это не кокетство, не глупое употребление сослагательного наклонения, а верное замечание. Он и без того жил почти как аскет. Творчество делало его счастливым.
До него было немало случаев, когда в заключении, порой в ожидании смертной казни люди создавали выдающиеся произведения.
Римский теолог, ученый, философ и поэт Аниций Боэций (480–524), создавая в заключении трактат «Утешение философией», утверждал свободу духа.
Итальянский философ, поэт и политический деятель Томмазо Кампанелла (1568–1639) в тюрьме написал знаменитую коммунистическую утопию «Город Солнца».
Французский мыслитель, математик, политик Мари Жан Кондорсе (1743–1794), приговоренный к смерти, создал «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума».
Анархист, мыслитель, ученый князь Петр Кропоткин (1842–1921) в страшных условиях Петропавловской крепости написал новаторский труд «Исследования о ледниковом периоде».
Русский революционер-народник Николай Кибальчич (1853–1881) перед казнью разработал проект летательного реактивного аппарата.
В отличие от них, Сальвадор Дали не был героем. Но его творческий энтузиазм в молодые годы вполне можно назвать героическим. Это было проявление свободы духовных исканий, которые сильней тяги к развлечениям и комфорту. «Творчество превыше всего», – таков был его негласный принцип.
Отдавая должное учебе, на досуге он осваивал манеру мастеров, порывавших с канонами классического искусства. Когда решил, что неплохо освоил принципы кубизма, сделал так, чтобы его нетрадиционные работы увидели соученики. Вот как это произошло:
«В Резиденции, где я жил, было множество самых разных студенческих компаний, среди которых выделялась группа бунтарей, яростных сторонников авангарда в литературе и искусстве. Эта мятежная молодежь впитала тревожный дух послевоенного времени, дыхание катастрофы. В наследство им досталась недавно разработанная и весьма неглубокая всеотрицающая традиция – так называемый ультраизм, один из наших местных “измов”, недозрелый плод европейского авангарда, наиболее близкий к дадаизму. Группу составляли Пепин Бельо, Луис Бунюэль, Гарсиа Лорка, Педро Гарфиас, Эухенио Монтес, Рафаэль Баррадас и еще множество других лиц. Однако изо всех, с кем я общался в ту пору, только двоим было предначертано достичь головокружительных высот в иерархии духа. Это Гарсиа Лорка, легко, блистательно и властно усмиривший постгонгорианскую риторику, и Эухенио Монтес, познавший глубинные тайны души и одолевший горные перевалы мысли. Лорка – андалузец, Монтес – из Сантьяго-де-Компостела.
Однажды горничная оставила дверь открытой, и Пепин Бельо, проходя мимо, увидел те картины. О своем открытии он не замедлил сообщить остальным. Они, конечно, видели меня прежде и не раз потешались надо мной. Называли они меня по-разному – то художником, то скрипачом, по всей видимости, из-за одежд нарочито романтического пошиба, крайне неприятных им, приверженцам новоевропейской моды.
Я был серьезен, всецело занят делом и начисто лишен чувства юмора, а потому представлялся им убогим и жалким недоумком довольно живописного вида. И правда, мои бархатные жилеты и развевающиеся шарфы резко контрастировали с их английскими костюмами и свитерами. Я отращивал космы до плеч – они исправно стриглись у лучших парикмахеров отеля “Риц”. Вся эта компания была одержима духом дендизма с изрядной примесью цинизма, что проявлялось буквально на каждом шагу и внушало мне поначалу ужас…
Однажды вся компания явилась смотреть мои картины. И каково же было изумление этих закоренелых снобов! Они были потрясены, восхищены. Им и в голову не приходило, что я – художник-кубист! О чем они и объявили с изрядным простодушием и тут же от чистого сердца предложили мне дружбу. Мой отклик был весьма сдержан – я сохранял дистанцию, размышляя: “На что мне они? Что может дать мне это общение?”
Они же буквально впились в меня – не прошло и недели, как я стал властителем дум. То и дело звучало: “Дали сказал… Дали заметил… Дали думает… Интересно, что скажет Дали?.. Это в духе Дали… Надо показать Дали!.. Вот если б это сделал Дали, тогда другое дело!” Дали здесь, Дали там. И всюду, куда ни ткнись.
Я сразу понял, что мои новые друзья будут питаться мною, я же взамен не получу ничего – все, что они могут мне предложить, у меня есть, причем в большем количестве и лучшего качества. Иное дело – Федерико Гарсиа Лорка».
…В Школе изящных искусств Дали – прилежный ученик! – овладел ремеслом рисовальщика, научился создавать рисунки в классической манере. Одновременно знакомился с новейшими направлениями в живописи, поисками и находками авангардистов. Ему суждено будет успешно сочетать классицизм с авангардизмом.
Он избежал искушения кубизмом. Не стал подражателем, не ступил на путь авангарда, пренебрегая классическими основами живописи. Понимал, что принцип «самовыражения» в искусстве оправдан лишь в том случае, когда речь идет о творческой неординарной личности, постигшей тонкости своего ремесла. Тут поспешность и желание поразить своим новаторством приводят к жалким результатам.
Вряд ли случайно он сделал так, чтобы его картины, выполненные по канонам кубизма, увидели другие студенты. Ему нравилось быть в центре внимания и не хотелось, чтобы его считали только лишь прилежным учеником. Но ради того, чтобы им восхищались как авангардистом, он не пошел ни на какие действия в этом направлении. Выходит, не настолько уж безумно ему нравилось выставлять себя напоказ и выслушивать восторги в свой адрес.
В своих мемуарах Дали не уставал повторять, будто всегда был склонен любоваться собой, возбуждать к себе интерес, оставаться в центре внимания. Однако его поведение, особенно в молодые годы, определенно показывает: он больше любил не себя в искусстве, а искусство в себе.
Да, он был болезненно честолюбив, ему доставляли удовольствие похвалы в свой адрес (а кому это не приятно?), у него порой преобладало желание потешить и шокировать публику. Все так. И все-таки высшее наслаждение находил он в творчестве.
Искушение богемой
Сальвадора Дали приняли в компанию молодых снобов. Они считали себя культурной элитой, будущими знаменитостями, апостолами нового искусства. Увы, многие из них просто играли в богему, заботясь не столько об учебе и творчестве, сколько о болтовне в модных мадридских кафе на темы искусства, политики и литературы.
Подчеркивая свою независимость и презрение к буржуазным нравам, компания питомцев Школы изящных искусств вела себя вызывающе и задиристо. В этом им неоценимую помощь оказал Сальвадор Дали. Его необычный внешний вид, выказывающий провинциальные представления о столичной моде и стремление выделиться, привлекал внимание. На него бросали насмешливые взгляды и обменивались между собой ироничными замечаниями по поводу его наряда и прически.
Его новым друзьям только этого и надо было, чтобы затеять скандал. Как вспоминал Дали, «они прямо-таки рвались в бой, еще немного – и мои лохмотья взметнулись бы над войском как знамя. Стоило кому-нибудь из элегантной публики задержать на мне взгляд, как вся компания начинала метать испепеляющие взоры: “Ах, облик нашего друга, кажется, шокирует вас не меньше, чем драная кошка? И прекрасно, но имейте в виду: вы и в подметки не годитесь нашему другу и, случись вам выказать ему презрение, схлопочете по физиономии!” Особенно грозен был Бунюэль, известный задира и отчаянный драчун. Он так и искал случая привязаться к кому-нибудь и устроить скандал, да пограндиознее».
Однажды они проводили вечеринку в роскошном кафе «Хрустальный замок». Посетители делали вид, что не замечают странно одетого юношу, а его спутники вынуждены были вести себя вполне пристойно. Дали не был огорчен тем, что остался как бы незамеченным. Его, пожалуй, смутило именно это «как бы», не без оттенка презрения. Он выглядел жалко, а это его никак не устраивало.
Выйдя из кафе, он заявил: «Премного признателен всем, кто готов защищать мои интересы, однако впредь случая не представится. С завтрашнего дня я одеваюсь, как все нормальные люди!»
По его словам, «компания оказалась страшно консервативна по части моего облика. Развернулась нескончаемая яростная дискуссия (нечто подобное, наверное, стряслось с учениками Сократа, когда они узнали о его намерении выпить цикуту). Меня отговаривали с таким пылом, словно моя индивидуальность целиком и полностью зависела от одежд, бакенбард и кудрей и будто бы, спасая вышепоименованные атрибуты, они спасали мою личность. Но решение мое было неколебимо».
Причину такого решения он объяснил тем, будто возы мел желание привлечь внимание элегантных женщин. Только ли в этом было дело? Его несуразный вид для этой цели подходил более всего. Элегантные женщины вполне могли заинтересоваться им. Но этого ему было мало. Они должны были им восхищаться. Для этого надо было стать знаменитостью, но не скандальной, привлекательной для женщин вульгарных, а подлинной, прославленной своим творчеством. А пока пришлось довольствоваться тем, чтобы выглядеть как подобает элегантному мужчине.
Что же такое элегантная женщина? Дали поясняет: «Я понял это однажды в кафе, наблюдая одно из несомненных воплощений элегантности. Итак, элегантная женщина, во-первых, вас презирает и, во-вторых, чисто выбривает подмышки. Когда я впервые увидел чисто выбритую подмышку, меня потряс ее цвет – слегка отдающий в голубизну, изысканный и немного порочный».
Его рассуждения о чисто выбритой подмышке призваны отвлечь внимание от первого и самого главного, если не единственного: его смутило и уязвило, что в своем «артистичном» наряде он выглядел в глазах элегантных женщин и мужчин как чучело, выставленное на посмешище.
Поняв, что его решение твердо, друзья посоветовали постричься в модной парикмахерской отеля «Риц». Особых денежных затруднений ни у него, ни и у его друзей не было.
Вся эта история с изменением облика Сальвадора Дали интересна как проявление его личности, черт характера, не вполне отвечающих тому образу, который представлен в его воспоминаниях.
Сначала он пошел в обычную парикмахерскую, переступив ее порог «с робостью». Он употребил это слово, хотя к тому времени привык демонстрировать свое презрение к публике, к толпе своим оригинально-вызывающим обликом (за неимением других способов). При чем тут робость? Робкий человек стремится затеряться в толпе, не выделяться, сгорать от стыда или впадать в ступор, когда его разглядывают, как диковинку, отпуская нелестные замечания.
Нет, чувство Дали не было вызвано робостью, стыдливостью и сопутствующей им скромностью. Он не выносил презрительных взглядов, унижающих его чувство собственного достоинства. А это чувство он холил и лелеял с детских лет. Нелестное мнение на свой счет даже парикмахера из модного салона, не говоря уже об элегантной женщине, было для него слишком болезненно.
Интересно его описание первой процедуры преображения: «Цирюльник обернул меня белым покрывалом, и когда я увидал на белом полотне растерзанные клочья своих эбеновых кудрей, меня поразил самсонов комплекс. Впрочем, я не уверен, что сказание о Самсоне правдиво. Взглянув в зеркало, я поразился и разволновался: передо мной был король на троне. Это белое величавое покрывало, усеянное клоками состриженных волос, – какая великолепная пародия на горностаевую королевскую мантию! Странное, но точное сопоставление.
Именно тогда в первый и последний раз в жизни я на какое-то время утратил веру в себя. Дитя-король вдруг показался мне порождением воображения биологически несостоятельной особи, мучимой несоответствием между ее болезненным, слабым организмом и развитым сознанием, не способным на действие и потому обреченным на бесплодие и вырождение. На какое-то мгновение я, состарившийся раньше срока, ощутил себя ущербным существом».
Упоминание о Самсоне, сила которого заключалась, как сказано в мифе, в его волосах, наводит на мысль о том, что внешней оригинальностью Сальвадор демонстрировал самому себе свою независимость, волю, презрение к мнению толпы. Поэтому вид своих состриженных локонов вызывал у него мучительное чувство беспомощности.
Отличное литературное сравнение предложил он: сидящий под простыней клиент цирюльника подобен королю в мантии на троне. Так и вспомнишь: «А король-то голый!» Величие потомственных королей обеспечивают мантия, придворный церемониал и внушаемость зрителей. У Дали были основания считать себя избранником судьбы благодаря таланту и творческим свершениям.
Но вел он себя так, словно решил круто изменить свой образ жизни и примкнуть к богеме: «Я заплатил цирюльнику, дал на чай и отправился в “Риц” наводить лоск. Не успела дверь парикмахерской захлопнуться за мной, как я почувствовал себя другим человеком.
Все мои опасения и страхи развеялись, как мыльные пузыри. Я знал, что за той дверью сейчас метут мои иссиня-черные волосы, но я, антипод Фауста, ни о чем – слышите, ни о чем! – не жалел и, вожделея Старости, истребляющей, как Медуза Горгона, всякую сентиментальность, прямо под ноги времени выплюнул попавший мне в рот последний волосок моей юности.
В “Рице” вместо того, чтобы пойти в парикмахерскую, я проследовал в бар и попросил коктейль.
– Вам какой? – спросил официант.
– Самый лучший! – ответил я. Кто же знал, что они бывают разные!
Вкус коктейля показался мне омерзительным, но уже через пять минут я ощутил блаженство. Мысль о парикмахерской меня окончательно оставила. Я заказал второй коктейль, изрядно изумляясь и тому, что сегодня я впервые пропускаю занятия, и тому, что не ощущаю по этому поводу никаких угрызений. Мало того, мне показалось, что та моя жизнь кончилась раз и навсегда. И началась новая.
Небо над Мадридом сияло ослепительной синевой, а розоватые дома кирпичной кладки дышали светлой надеждой. Мне нет равных в целом мире, слышите, нет!»
Он впервые ощутил опьянение не творчеством, а хмельным бездельем. Сколько молодых начинающих поэтов, писателей, художников, композиторов на этом завершали свои творческие искания и труды!
Итак, теперь он преобразился – под стать своей бравой компании. Испытывая необычайную легкость (отчасти под воздействием алкоголя), отправился от отеля «Риц» до трамвайной остановки вприпрыжку. Видя, что это не производит на прохожих должного впечатления, он постарался подскакивать изо всех сил.
Теперь его поведение привлекло всеобщее внимание. Это его устраивало, и он стал на всем скаку выкрикивать фразу, услышанную от одной полубезумной женщины: «Кровь слаще меда! Кровь слаще меда!» От него шарахались прохожие, и лишь один остолбенел, глядя на него. Это был его соученик по Школе изящных искусств. Его изумление было тем более велико, что он знал Дали как самого прилежного, тихого ученика.
Сделав очередной прыжок, Сальвадор остановился рядом с ним, будто желая объяснить причину такого своего несуразного поведения потихоньку, на ушко, но вместо этого проорал во всю глотку: «Ме-е-е-еда!» И тотчас со всех ног кинулся к уходящему трамваю, вскочил на подножку и с удовольствием увидел, что товарищ застыл в оцепенении, разинув рот и глядя ему вслед.
По Школе прошел слух, что Дали спятил и скачет по улице, как заяц. А он пришел на другой день к самому концу занятий в элегантном простом костюме, купленном в одном из дорогих магазинов, в шелковой голубой рубашке и в темных очках с сапфировыми стеклами. Волосы его были коротко пострижены, намазаны лаком для масляной живописи и напомажены. Теперь он играл роль денди.
Поначалу она оказалась опасной сугубо физически. Лак он не мог смыть обычными средствами. Воспользовался скипидаром, рискуя повредить глаза. С тех пор в подобных случаях применял яичный белок в смеси с бриллиантином.
Сальвадор наслаждался новой своей ролью. Она грозила основательно преобразить его личность. Он с удовольствием участвовал в пирушках и кутежах, сопровождавшихся глубокомысленной болтовней. Там нередко обсуждали политические проблемы.
В своих воспоминаниях об этом он предпочел писать обиняками, с усмешкой и недомолвками. Судя по его словам, все они, выходцы из более или менее состоятельных семей, были революционерами: от социалистов-либералов до анархистов. В одном были едины: надо всячески расшатывать общественные устои.
Тогда или несколько позже он пришел к убеждению, что любая бюрократическая система, в особенности основанная на демократических принципах, неминуемо приводит к подавлению личностного начала, к торжеству посредственности. Счастье или несчастье человека – сугубо личная проблема, не зависящая от общественных или политических структур, от уровня жизни и прав человека. Правительство правит – и только, народ или подчиняется ему, или свергает его.
Есть только одна головокружительная, хоть и нереальная возможность великолепного правления – абсолютная монархия при короле-анархисте. Он сослался при этом на Людвига II Баварского – покровителя Рихарда Вагнера и вообще искусств, бредившего мифологическими героями. Странно, что Дали не принял во внимание важное обстоятельство: причуды Людвига, любителя дворцов и роскоши, опустошили казну Баварии.
Но вот что интересно. Вспоминал Дали об этих событиях, напомню, летом 1941 года. А в молодые годы, как мы знаем, политические взгляды у него были социалистические и просоветские. Подобием выдуманного им монархо-анархического общественного уклада в наибольшей степени был Советский Союз, во главе которого стоял вождь (монарх, пусть и не наследственный), демократия была не буржуазной, а народной, идеалом признавался анархо-коммунизм.
Впрочем, революционные фразы не мешали этим молодым испанцам вести вполне буржуазный образ жизни. Однажды они отправились в модный ресторан. Бунюэль, предводитель застолья, провозгласил:
– Для начала по стаканчику виски, ну и что-нибудь поесть на сон грядущий, а после – шампанского!
Установив такую повестку вечера, они принялись обсуждать, кто и зачем осуществит неизбежную и необходимую революцию. Вопрос оказался сложным; не дожидаясь его окончательного решения, они принялись за мятный коктейль со льдом, которым запивали порции виски. После четырех циклов вспомнили о шампанском.
«Часам к пяти, – вспоминал Дали, – мы со слезами на глазах раскупорили последнюю бутылку. Негритянский джаз был великолепен и брал за душу так, что ком подкатывал к горлу. Бунюэль предложил послать шампанского оркестру, что мы и сделали. Деньги для нас не значили ровным счетом ничего. Мы были щедры и сорили направо и налево родительскими деньгами. Вдохновленные новой бутылью шампанского, мы торжественно поклялись встретиться на этом же месте ровно через пятнадцать лет, несмотря ни на что – ни на превратности судьбы, ни на политические разногласия. Мы поклялись вернуться сюда, даже если окажемся очень далеко и даже если на месте отеля не останется ничего кроме руин.
…Нас было семеро, и, разодрав на семь частей карточку клуба с номером стола (кажется, то был номер ВОСЕМЬ – символика этого числа стала предметом обсуждения), мы обозначили дату встречи на одной стороне клочка, а на другой поставили свои подписи. Глубоко символичным (не зря в эту ночь мы то и дело сворачивали на символику) мне показалось, что договор был подписан на бумаге, предварительно разодранной в клочья, хотя никто тогда не обратил на это внимания. Каждый получил свой клок документа».
Торжественный договор скрепили очередной порцией шампанского. Подобным клятвам во хмелю цена оказалась ничтожной. За последующие пятнадцать лет после встречи в Испании разразилась гражданская война. В отеле, где они подписали документ, расположился госпиталь, вскоре разрушенный бомбой. Из семерых одни оказались по разные стороны линии фронта, другие предпочли остаться в стороне. В числе последних был Сальвадор, так и не узнавший, был ли кто-то из них на том самом месте в назначенный день.
Дали объяснил свое бегство из Испании, охваченной пожаром гражданской войны, деликатно: сентиментальностью. Назвал ее противовесом «всем видам героизма, подлости, фанфаронства и желчности, сдобренных патриотическими настроениями. От этого варева и повалил в конце концов пар ненависти, изначально обуревающей буржуазную душу. Когда ненависть проникла во все поры, открыла новые горизонты и самые заманчивые перспективы, грянула гражданская война».
Причины междоусобицы были другими, сложными и сопряженными не только с внутренними испанскими, но и с международными конфликтами. А когда Дали смешивает в одну кучу все виды героизма, патриотизм и подлость, то становится неловко за него. Защитники и противники республики, демократы и монархисты, коммунисты и фашисты, вступив в смертельную схватку на деле, как настоящие мужчины, а не в полупьяной болтовне, отстаивали свои убеждения.
В момент опасности Сальвадор Дали тотчас забыл о том, что писал в дневнике, какие отстаивал на словах политические взгляды, как верил в революцию. Он даже выставил героизм и патриотизм в самом неприглядном виде. Можно было признаться в своем малодушии (он признавался во многих своих пороках) и воздать должное более мужественным людям. Он этого не сделал. Почему? Сказался синдром предателя.
Однако вернемся в Мадрид, где он, прилежный ученик Школы изящных искусств, аскет, превратился в денди, представителя богемы. Он захотел испытать все прелести этой жизни. (Возможно, заодно решил покончить со своей девственностью; прибегать к услугам проституток он остерегался или брезговал, а половые отношения с девушками своего круга считал прелюдией женитьбы, к которой не стремился.)
В один из вечеров он взял такси и отправился в кабаре «Флорида», где намеревался поужинать, разглядывая наиболее роскошных мадридских дам, которые, как его уверяли друзья, посещают именно это заведение. По его словам, он искал элегантную женщину. Что он под этим подразумевал? Попробуем понять.
«В элегантной женщине всегда ощутима грань ее уродства (конечно, не ярко выраженного) и красоты, которая заметна, но не более того. Ее красота всего-навсего заметна, но не исключительна. Элегантная женщина может и должна обходиться тем немногим, что ей выделила природа… Лицо ее отмечено печатью уродливости, усталости и нервности (а уж элегантность возводит эти составляющие в качественно новую, возвышенную степень манящего и властного цинизма)… зато руки ее и ноги должны быть безукоризненно, умопомрачительно красивы и – насколько возможно – открыты взору. Грудь же не имеет ровным счетом никакого значения…
Глаза? Это очень важно! Глаза обязательно должны хотя бы казаться умными. У элегантной женщины не может быть глупого выражения лица, как нельзя более характерного для красавицы и замечательно гармонирующего с идеальной красотой… В очертаниях рта элегантной женщины должна непременно сквозить отчужденность, высокомерная и печальная. Но иногда – не часто – в минуты душевного волнения лицо ее вдруг преображается, исполняясь неземной нежностью. Нос? У элегантных женщин не бывает носов! Это привилегия красавиц… Элегантная женщина, единожды покорившись ярму своей элегантности, должна с достоинством выносить ее гнет вкупе с нарядами и драгоценностями. Элегантность должна стать стержнем ее бытия и в то же время причиной ее изнеможения.
Поэтому элегантная женщина строга и несентиментальна, и душа ее оттаивает лишь в любви, а любит она сурово, отважно, изысканно и жадно. Только такая любовь ей к лицу, равно как драгоценности и наряды – их роскошь рифмуется с высокомерной роскошью пренебрежения, которой она нас одаряет».
Сидя за отдельным столиком во «Флориде» и разглядывая красавиц, он, по его словам, истинно элегантной женщины так и не нашел.
В этих признаниях усматриваются определенные черты его отношения к женщинам. Вряд ли разумно с полной серьезностью вглядываться в начертанный им словесный портрет идеальной элегантной дамы. Он относится ко времени его написания и во многом соответствует характеристике его возлюбленной Галы.
Можно предположить, что она отвечала всем тем критериям, которые он предъявлял к элегантной женщине в молодости. Не менее, если не более вероятно, что он подкорректировал свои прежние взгляды на элегантность с учетом облика и характера возлюбленной. Как известно, любящий взгляд находит прекрасные черты в женщине, не отличающейся классической красотой.
Что же мечтал встретить молодой Сальвадор в кабаре «Флорида»? Романтическую любовь. Его пространные рассуждения об элегантности призваны скрыть это.
Нетрудно себе представить молодого человека, симпатичного и элегантного, сидящего в зале за столиком и поглядывающего на красавиц. Он надеется, что одна из них вдруг встретит его взгляд, и лицо ее, отчужденное, высокомерное и печальное, преобразится, «исполняясь неземной нежностью». И она, словно сомнамбула, встанет и подойдет к нему – единственному, которого она так ждала, и он встанет ей навстречу…
Как тут не вспомнить «Незнакомку» Александра Блока:
И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука…Возвращение блудного сына
Посещение «Флориды» его разочаровало. И в том, что «истина в вине», он усомнился. Выпил в тот вечер излишне много, а утром осознал истину похмелья: вялость, головную боль, отвратительное ощущение в желудке.
Весь следующий день провел в своей комнатке, отлеживался и пил исключительно лимонад. На другой день утром, к началу занятий, пришел в Школу изящных искусств. При входе встретил негодующую толпу студентов. Ему стали наперебой объяснять, что стряслось, призывая, как он писал, «не то поддержать, не то возглавить мятеж».
Если так, то в студенческой среде его должны были воспринимать бунтарем, революционером. Однако в своих воспоминаниях он и на этот раз отделался невразумительными объяснениями (как тут не вспомнить о синдроме предателя!).
«Мне снова предстояло стать жертвой мифологии, – писал он, – которая успела сложиться вокруг меня… Вокруг меня с неизбежностью складывается мифология; такова, по всей видимости, моя натура… И если уж в жизнь мою единожды вторгся костыль, будьте уверены, продолжение последует. Так или иначе, самым возвышенным образом или наипошлейшим манером он будет время от времени напоминать о себе и, пока я жив, не отвяжется.
Тогда я еще не успел вывести эту закономерность, а то бы сразу догадался, чем дело обернется, припомнив, что однажды меня уже исключали из коллежа. Конечно, убогое мышление, не осененное параноидальным вдохновением, вообще не способно уразуметь эту связь, но, уверяю вас, самое первое из моих исключений – не пустая случайность. Великой судьбой правят неумолимые законы».
Ссылки на великую судьбу, паранойю, мифологию выглядят дымовой завесой, призванной скрыть вовсе не случайное обращение к нему студентов. В те годы он все еще сохранял верность своим революционным убеждениям, не скрывал их, а, возможно, даже бравировал ими. По-видимому, ему нравилось быть радикалом, ниспровергателем кумиров.
В тот раз студенты были возмущены результатом конкурса на место преподавателя по кафедре живописи. В нем приняли участие известные художники. Академия выставила работы претендентов, одну на вольную, другую – на заданную тему. Работы были выполнены в «академической» манере. Но было одно исключение: картины Даниэля Васкеса Диаса, постимпрессиониста.
Несмотря на то что Сальвадор Дали старательно изучал основы классической живописи, среди студентов, знавших о его увлечении кубизмом, он слыл авангардистом. Разделявшие его взгляды приветствовали кандидатуру Васкеса Диаса и бурно обсуждали интриги, в результате которых на кафедру непременно возьмут какую-нибудь бездарность.
Всей толпой они отправились на выставку, где Дали заявил: никто из претендентов Васкесу Диасу и в подметки не годится. Тем временем в зале проходило слушание речей кандидатов. Каждый излагал свое педагогическое кредо. Выступление Васкеса Диаса показалось студентам толковее прочих.
Когда преподаватели удалились на совещание, волнение в зале усилилось. А когда председатель комиссии стал зачитывать окончательное решение, стало ясно, что кандидатура Васкеса Диаса отвергнута. Сальвадор Дали встал, не дожидаясь конца речи председательствующего, и демонстративно удалился. Остаток дня он провел с друзьями в кафе, осуждая профессоров-ретроградов и обсуждая политическую ситуацию в стране.
Явившись на следующий день в Школу изящных искусств, он узнал, что его исключили за вчерашний инцидент. Его уход был воспринят как сигнал к активным действиям. Поднялся шум, начались выкрики из зала, оскорбительные для комиссии и ее председателя. Распаляясь, студенты от слов перешли к делу. В членов комиссии полетели из зала отнюдь не цветы, а более тяжелые и жесткие предметы.
Академики спешно покинули сцену, на которую полезли наиболее оголтелые их ученики, желающие выразить свой протест в форме рукоприкладства. Преподаватели, проявив неплохую сноровку, избежали прямых контактов и забаррикадировались на кафедре рисунка. Бунтовщики, по всем правилам осады, попытались протаранить дверь лавкой.
Тут подоспела полиция, и бунт был быстро подавлен. Из зачинщиков беспорядка первым назвали Сальвадора Дали – главного агитатора за Васкеса Диаса и вдохновителя мятежа, подавшего сигнал к началу активных действий. Дисциплинарный совет принял решение всех активных бунтарей исключить на год из числа студентов Школы изящных искусств.
Это событие имело немалое влияние на его дальнейшую жизнь. Не потому, что его изгнали из Школы изящных искусств. Более существенно другое: он лишился и своей разгульной компании.
Отец, узнав о его исключении, пришел в отчаяние: ведь не жалел денег на учебу сына, надеясь, что он, получив диплом, сможет преподавать и будет иметь стабильный заработок. Отец отправил в Мадрид свою новую жену – Каталину, младшую сестру умершей доньи Фелипы Доменеч. Ей следовало узнать причину исключения Сальвадора и возможность восстановления. Она успокоила отца: преподаватели называли Дали прилежным учеником и талантливым художником.
Возвращение исключенного студента в родной Фигерас прошло, можно сказать, триумфально. Отец встретил его с распростертыми объятиями. Не потому, что был рад решению дисциплинарной комиссии, а потому, что поверил в профессиональное будущее Сальвадора.
Вновь повторю для тех, кто верит во врожденную одаренность: Дали стал выдающимся художником и незаурядным мыслителем прежде всего благодаря отцу, который предоставил ему для этого все возможности.
Конечно, не будь у сына таланта, ничего бы не вышло; не у одного же Сальвадора были отцы, тратившие на обучение своих отпрысков немалые суммы. Их было много, а Сальвадор Дали – один!
Спору нет, он проявил в полную силу свой творческий потенциал, с детских лет увлекся живописью, перечитал едва ли не все книги в библиотеке отца, и это был его выбор.
Своим образованием (прежде всего домашним) и великолепными возможностями заниматься живописью и учиться рисованию он обязан отцу. На сына отец денег не жалел. К счастью, его усилия были не напрасны: Сальвадор оправдывал его надежды. Не потому, что старался ради отца, нет. Он осознал свое призвание и вскоре творчество стало увлекать его больше всего на свете.
Правда, в компании молодых повес в Мадриде он едва не стал жертвой богемы. Но тут на помощь его таланту пришла судьба, нередко помогающая тем, кто этого достоин (увы, она склонна и ошибаться).
Исключение Дали из Школы изящных искусств обернулось чем-то вроде годичных каникул, которые он может провести в семье, к общему удовольствию. Однако через несколько дней к ним явился жандарм, арестовал Сальвадора и препроводил в местную тюрьму. Здесь его продержали месяц, не предъявляя обвинения, и перевели в тюрьму города Жероны. Дали вспоминал:
«В ту пору генерал Примо де Ривера, отец Хосе Антонио, основателя Фаланги, жестоко расправлялся с любым проявлением бунтарства. Недавние выборы возбудили новый всплеск политической активности, и все мои фигерасские друзья оказались революционерами. Отцу же, исполняя свои профессиональные обязанности, приходилось не раз документально заверять злоупотребления, совершенные правыми при подготовке и проведении выборов. Не появись я в Фигерасе, это, возможно, осталось бы без последствий, но я принялся на каждом углу разглагольствовать об анархии и монархии, привлекая всеобщее внимание. Все это в итоге и привело меня в тюрьму».
Выходит, Сальвадор был столь пылким революционером, что не смог скрыться даже в тревожное время, «привлекая всеобщее внимание». Не так ли вел он себя и в Школе изящных искусств, за что был исключен? Вопреки своим поздним уверениям в те годы он оставался противником монархии, сторонником социализма и коммунизма.
Два десятилетия спустя он назвал свой арест «колоритным анекдотическим эпизодом». Вновь сказалось то, что писал мемуары другой Сальвадор Дали, предавший свои былые политические убеждения. Теперь он не скупился на иронию:
«В тюрьме я наслаждался. Меня поместили вместе с политическими заключенными, которым друзья, соратники и родственники натащили невообразимое количество даров. Ежевечерне мы пили шампанское местного разлива, надо заметить, преотвратительное. В тюрьме я снова взялся за “Вавилонскую башню”, желая шаг за шагом философски осмыслить свой мадридский опыт.
Я был совершенно счастлив, ибо вновь открыл для себя пейзаж Ампурдана, реявший за прутьями тюремной решетки, и почувствовал, что наконец-то состарился – хоть немного. Я страстно этого желал – и свершилось. Таков был итог пережитого. Я постарел, я в тюрьме, в первый раз в жизни – узник, и это прекрасно. А кроме всего прочего, в те дни я передохнул – в тюрьме немного спал накал моей духовной напряженности».
Какими в действительности были тогда его переживания, остается только догадываться. Выпущенного из тюрьмы, его в Фигерасе встречали овацией – как подлинного борца за власть народа, за свободу, равенство и братство. Возможно, он отчасти был таким.
Небольшое отступление. Ныне модно выступать против равенства, толкуя его нарочито убого: сплошная уравниловка, серость, подавляющая индивидуальность, власть тупой толпы. Такого равенства революционеры никогда не имели в виду. Его не было, скажем, в СССР (во всяком случае, во времена Сталина), где каждый получал зарплату, награды и звания – за немногими исключениями – по труду, по заслугам. Хотя вместо слова «равенство» (оно всякое бывает) точнее говорить – справедливость.
…По возвращении Сальвадора из недолгого заключения семья Дали уехала в Кадакес. Он самозабвенно предался творчеству: сочинял философский трактат «Вавилонская башня», стремясь достичь высочайших вершин в познании бытия, писал картины.
«В ту пору, – вспоминала Ана Дали, – брат сделал множество моих портретов. Часть из них – просто наброски, эскизы, где он прорабатывал особенно тщательно одно: локоны, спадающие на открытые плечи. Писал он, как всегда, не торопясь и не уставая, да и мне было в радость позировать ему, тем более что я действительно не уставала сидеть, как он велел, и никогда не докучала ему разговорами».
Тогда он создал несколько картин – разных по стилю, где центральным образом была сестра. «Чем раньше я вставал, – писал он, – тем точнее запечатлевал остро отточенный карандаш мою мысль на белом листе, чем успешнее я справлялся с плотскими искушениями, тем легче обуздывал страсти. Крестовый поход духа, вступившего в борьбу и одержавшего победу, приближал меня к Святой земле моей собственной души. А кроме того, чем беспощаднее я был к своему телу, тем скорее старился».
Трудно сопоставить образ молодого Сальвадора из его воспоминаний с тем, каким он был. Он писал об аскезе, сделавшей его подобием живых мощей: «Тела, можно сказать, совсем не осталось… Я превратился в какую-то странную причуду природы – тело мое состояло из глаза, руки и мозга. Все прочее исчезло за ненадобностью».
Вряд ли он был тогда аскетом. Скорее – атлетом. Судя по воспоминаниям сестры, они много плавали; он любил скакать по скалам, рискуя покалечиться. Если учесть палящее солнце, молодость и увлеченную работу, то неудивительно, что он при своей изящной комплекции исхудал, окрепнув телом и душой.
Наконец, пришла пора возвращаться в Мадрид. Отец стал выдавать ему скромную сумму, тем не менее продолжая оплачивать его счета. А Сальвадора с восторгом приняла компания отпрысков состоятельных родителей. Центром был Федерико Гарсиа Лорка, возле которого самолюбивый Сальвадор чувствовал себя планетой, кружащейся вокруг светила.
«К тому времени, – писал Дали, – я успел познакомиться сразу с несколькими элегантными женщинами. Мой мерзостный цинизм отчаянно жаждал утолить на этой ниве нравственный и любовный голод. Я стал избегать встреч с Лоркой и компанией, которая все очевиднее становилась его компанией. То был апогей его влияния, которому никто не мог противиться, и, наверное, тогда, единственный раз в жизни, мне довелось узнать нечто подобное мукам ревности. Едва ли не каждый вечер мы всей компанией шли по Пасео-де-ла-Кастельяна в кафе, заранее зная, что и сегодня во всем блеске нам предстанет Федерико, этот огнедышащий алмаз. И часто я вдруг срывался и бежал от них со всех ног, прятался три, четыре, пять дней… Никто так и не выведал у меня тайны этих исчезновений, и пока что – пока что! – я не склонен приподымать завесу».
Не прошло и года, как его исключили из Школы изящных искусств – на этот раз окончательно. Он не сдал зачеты по дисциплинам «Цвет и композиция», «Рисунок движущихся фигур», а на экзамене по теории изящных искусств отказался отвечать, сославшись на то, что преподаватели не способны оценить его знания. Если верить Дали, он нарочно оскорбил профессоров, чтобы навсегда покончить с учебным заведением и разгульной мадридской жизнью. Он решил вернуться в Фигерас, работать год, а потом продолжить образование в Париже.
Мне кажется, он легко поддавался влияниям сильных цельных личностей: отца, Бунюэля, Гарсиа Лорки, Зигмунда Фрейда, Елены Дьяконовой, которую называл Гала, а затем – магическому влиянию буржуазного окружения и мировоззрения. Всеми силами старался он преодолеть влияние отца и Гарсиа Лорки, но в остальном был слаб и зависим. Это заметно сказалось на его судьбе и творчестве.
Покидая Мадрид, он не стал собирать вещи и уехал без багажа. Его появление повергло семью в смятение. Об этом можно судить по незавершенной картине: его отец сидит за столом с папиросой во рту, рядом стоит дочь, положив руку ему на плечо. Вид у них удрученный, почти как на похоронах.
Для отца моральный удар был особенно силен. Он всегда хотел, чтобы у сына была достойная профессия, скажем преподавателя рисования, а то и профессора живописи. И вдруг – крах!
Глава 4. Судьбоносные встречи
Не буду вас уверять, что у меня есть друзья. Я употребляю людей в свое удовольствие и, если они перестают меня интересовать, тут же забываю. Я пожираю людей безо всяких угрызений.
Я – иезуит высшей марки – испытываю истинное наслаждение, когда умирает кто-нибудь из моих друзей: я чувствую себя, если не убийцей, так виновником его смерти.
Сальвадор ДалиФедерико Гарсиа Лорка
На Пасху днем 5 апреля 1925 года к террасе дома семейства Дали в Кадакесе подкатило такси. Это было явление ожидаемых Сальвадора и Федерико Гарсиа Лорки, о котором все домашние уже были наслышаны.
«Не помню, о чем мы говорили за обедом, – вспоминала Ана Мария Дали, – помню одно: весь обед мы хохотали. К десерту казалось, что мы знакомы целую вечность. Кофе мы пили на террасе, под эвкалиптом. Федерико изумила красота пейзажа, и он все повторял, что Ампурдан напоминает ему Гранадскую долину. Но еще сильнее поразил его Кадакес. Он говорил: “Здешний пейзаж сиюминутен и вечен, и притом без изъяна”. А когда в сумерках мы с ним отправлялись на ежевечернюю прогулку к оливковой роще, ему казалось, что мы идем по Святой земле…
Мы сразу полюбили Федерико. И когда Сальвадор сказал, что его друг сочинил пьесу, Федерико объявил, что хотел бы прочитать ее нам, потому что с нами он “сразу почувствовал себя просто и хорошо”. И вот в тишине, исполненной напряженного ожидания, в гостиной нашего дома в Кадакесе, у статуи Мадонны, улыбавшейся нам из ниши, затянутой зеленым шелком, он начал читать “Мариану Пинеду”.
А когда кончил, мы были потрясены. Отец в неописуемом восторге кричал, что Лорка – величайший поэт нашего времени. У меня в глазах стояли слезы. А Сальвадор, с торжеством поглядывая на нас, словно спрашивал: “Ну? Что я вам говорил?!” И, удовлетворенный увиденным, улыбался другу, а Федерико, смущенный и радостный, в сотый раз повторял слова благодарности».
Федерико стал для главы семьи Дали вторым сыном. Он был на 6 лет старше Сальвадора. Свою пьесу в стихах Гарсиа Лорка посвятил гранадской красавице Мариане Пинеде, которую за участие в заговоре против короля Испании публично казнили в мае 1831 года. Ей было 27 лет. Она могла спасти свою жизнь, выдав имя руководителя, но этого не сделала.
В трудах историков ее смерть считалась героическим поступком во имя свободы, против тирании самодержавия. В народном романсе, который Федерико знал с детства, говорилось о том, что она любила руководителя заговора и вышивала для него знамя.
«Я исполнил долг поэта, – пояснял Гарсиа Лорка, – противопоставив живую, милосердную, осиянную подвигом Мариану холодному воплощению свободомыслия в тоге и на пьедестале». В конце пьесы Мариана Пинеда восклицает:
Свободою самой я сделалась по праву. Велением любви – Свобода я отныне, Та, для кого меня ты отдал на расправу. Любовь, любовь и вечная пустыня!Гарсиа Лорка внешне не напоминал изысканного поэта: коренастый, широколобый, с заостренным подбородком, простыми чертами лица, чуть вздернутым носом. Говорил он охотно и вдохновенно, и тогда лицо его озарялось, становясь прекрасным.
«Федерико притягивал к себе людей, – писала Ана Дали. – И в Кадакесе он вскоре перезнакомился со всеми, а со многими подружился. Однажды к нам по приглашению брата наехало множество народу с единственной целью – познакомиться с Федерико. Так у него появились новые друзья – художники, искусствоведы, писатели…»
О пребывании в Каталонии Федерико Гарсиа Лорки в еженедельнике Фигераса 18 апреля 1925 года появилось сообщение (Сальвадора Дали?):
«Поэт из Гранады в Фигерасе
Дружба привела в наш город гранадского поэта Федерико Гарсиа Лорку, истинного поэта, которому удалось сказать не просто еще одно, а новое слово в поэзии. Гарсиа Лорка молод, но это уже зрелый поэт, одолевший все новомодные искушения. Его поэзия ориентирована на классику, язык благороден, а мысль и чувство – всегда человечны. В лучших своих образцах стихи его достигают тех высот, что покорялись лишь великим мастерам.
Таково наше мнение, но куда красноречивее свидетельствуют о Гарсиа Лорке его собственные сочинения. Множество стихотворений, но главное – драму в стихах “Мариана Пинеда” – он прочел на вечере в узком кругу, где его проводили единодушной овацией. Все, кому посчастливилось слышать авторское чтение, надолго запомнили прекрасные стихи и сердечную атмосферу вечера.
Вскоре Федерико Гарсиа Лорка возвращается в Мадрид, где живет в настоящее время. Но перед отъездом он еще раз прочтет свои стихи в барселонском “Атенеуме”. Мы не сомневаемся ни в успехе, ни в том, что поэт сохранит в своем сердце прекрасные воспоминания о нашем крае, который, по его словам, произвел на него неизгладимое впечатление – “пленил его навеки”. С особенной нежностью поэт говорит о наших сарданах, которые впервые в жизни услышал в Фигерасе в прошлый вторник.
Пожелаем же прекрасному поэту Федерико Гарсиа Лорке счастливого пути и будем надеяться, что он еще не раз посетит Ампурдан – “пленительную землю”».
Сарданы – народные песни Каталонии. А Федерико был знатоком и собирателем народных песен Испании, в частности цыганских. В отличие от Сальвадора, он избегал публичных выступлений; как оратор, предпочитал зачитывать свои заранее написанные тексты. Он великолепно читал стихи и пел песни, аккомпанируя себе на гитаре или на фортепьяно.
По словам Аны Марии Дали, «стоило Федерико взять в руки гитару, начать петь или читать стихи, он совершенно преображался, движения его становились легки и изящны, а в очертаниях лица, в глазах, в рисунке губ проступала дотоле скрытая гармония. И не было человека, не подвластного его обаянию. Федерико преображался – и преображалось все вокруг…
Федерико со всеми держался просто. Конечно, цену он себе знал, но заносчивости, свойственной моему брату, был начисто лишен… В отличие от брата Федерико отличался поразительной устойчивостью к влияниям. Никто не мог заставить его переменить мнение, если речь шла о важных вещах, ни за что и никогда – Федерико оставался при своем».
Что она имела в виду, говоря о неустойчивости брата к влияниям извне? Возможно, намекала на его подчинение воле своей будущей жены Галы. Но, пожалуй, Сальвадор всегда был восприимчив к интеллектуальным и моральным воздействиям. Почему?
Первое предположение: он легко поддавался внушению. Это не исключено, хотя и нельзя доказать. У него был не такой уж слабый характер. Он умел упорно трудиться, точнее, заниматься любимым делом: писать картины, читать книги, сочинять философскую работу.
В близком общении с девушками он был чрезвычайно сдержан, преодолевая сильное половое влечение. Таким был эффект самовнушения: вспомним, как воздействовали на него изображения язв от венерических болезней. Сказывалось его воображение – яркое, порой фантастичное, изощренное. Оно благодатно отразилось на его творчестве, но в жизни вызывало идейные шатания, подчинение идеям, которые производили на него ошеломляющее действие.
Но разве Федерико Гарсиа Лорка был менее впечатлительным? Музыкант и поэт, он жил в мире красоты и гармонии, волшебного завораживающего слова. Казалось бы, он должен был восторженно ловить впечатления и следовать им без особых раздумий. Однако именно у него были твердые убеждения, а Сальвадор Дали с его пристрастием к наукам и философии подобной устойчивостью не отличался. Он писал о своем друге:
«Передо мной был уникальный, цельный поэтический феномен – поэзия, обретшая кровь и плоть, тягучая, застенчивая, возвышенная, трепещущая тысячью сумрачных огней и токами подземных рек, свойственных всякой удачной форме живой материи. Я инстинктивно сразу и безоговорочно отверг явленную мне поэтическую вселенную. И заговорил доказательствами, четкими формулами, отметая все, что нельзя попробовать на зуб (мое любимое выраженьице тех лет). И когда вольные языки пламени вырывались из полыхающего костра поэзии – разверстого сердца великого Федерико, я, антипод Фауста, взмахивал зеленой ветвью моей прежде временной старости, чтобы загасить огонь».
Отличали их, конечно, не поздняя юность Гарсиа Лорки и ранняя старость Сальвадора Дали. Они были духовными антиподами. С одной стороны, открытый миру и людям поэт, а с другой – замкнутый на себя художник. Как говорят психологи, экстраверт и интроверт.
Дали воспринимал окружающий мир, исходя почти исключительно из личных интересов. Лорка раскрывал себя миру, был в единстве с ним.
Они оба интересовались наукой и философией. Дали в приведенном выше суждении утверждал, будто, в отличие от Гарсиа Лорки, предпочитал доказательства и четкие формулы. В действительности было не так.
Наука интересовала его не как объективный метод искания истины. Его интересовали занятные гипотезы, теории. Например, он легко поддался малообоснованным, но модным идеям Зигмунда Фрейда, извлекая из этого немалую выгоду.
Гарсия Лорка всерьез науками не интересовался. Однако он глубоко чувствовал подлинное волшебство научного знания, позволяющее человеку проникать в Неведомое: «Воображение бедно, а воображение поэтическое – в особенности. Видимая действительность неизмеримо богаче оттенками, неизмеримо поэтичнее, чем его открытия. Это всякий раз выявляет борьбу между научной явью и вымышленным мифом, – борьбу, в которой, благодарение Богу, побеждает наука, в тысячу раз более лиричная, чем теогония.
Человеческая фантазия придумала великанов, чтобы приписать им создание пещер или заколдованных городов. Действительность показала, что эти пещеры созданы каплей воды. Чистой каплей воды, терпеливой и вечной… Воображение следовало логике, приписывая великанам то, что казалось созданным руками великанов. Но научная реальность, стоящая на пределе поэзии и вне пределов логики, прозрачной каплей бессмертной воды утвердила свою правду. Ведь неизмеримо прекраснее, что пещеры – таинственная фантазия воды, подвластной вечным законам, а не каприз великанов, порожденных единственно лишь необходимостью объяснить необъяснимое» (перевод А. Гелескула).
Сальвадору Дали при его ссылках на геологические причуды своих любимых скал мыса Креус не приходило в голову ничего подобного. Он признавался: «Я читаю только научные книги. Все остальные наводят скуку. Эти, конечно, тоже, но не в такой степени». И еще: «Меня завораживает все непонятное. В частности, книги по ядерной физике – умопомрачительный текст!»
Верно, от подобных книг неспециалисту недолго и помрачиться умом. Ядерная физика описывает то, что невозможно увидеть и почувствовать, а постигается (или создает иллюзию понимания) посредством формул и схем. Не потому ли этот искусственный мир завораживал Дали?
По его словам, похожим на правду, «особенность моей гениальности состоит в том, что она проистекает от ума. Именно от ума». А гениальность Гарсиа Лорки проистекала от сердца, именно от сердца. Это позволяло ему постичь магию живой капли воды и отрешало от сухих схем ядерной физики.
Такая интуиция была чужда Сальвадору. Но в проницательности ему нельзя отказать. Он верно подметил: «Прогресс в науке и технике очевиден и впечатляет. Однако если говорить о духовном уровне, наше время убого до крайности. Не случайно физика и метафизика сегодня окончательно разошлись. Прогресс растекается ручьями узкой специализации, а о главном – о синтезе – уже никто не имеет понятия».
В 1926 году Лорка написал «Оду Сальвадору Дали». В ней есть строки (перевод А. Гелескула):
О, Дали, да звучит твой оливковый голос! Назову ли искусство твое безупречным? Но сквозь пальцы смотрю на его недочеты, Потому что тоскуешь о точном и вечном. Ты не жалуешь темные дебри фантазий, Веришь в то, до чего дотянулся рукою. И стерильное сердце слагая на мрамор, Наизусть повторяешь сонеты прибоя.В ту пору Сальвадор был таким или, во всяком случае, старался в своих философских упражнениях стремиться исходить из точного и вечного. Но вряд ли он, подобно Лорке, испытывал при этом тоску по недостижимому идеалу. Сальвадор мог мечтать о вечном, не забывая о сиюминутном. А в более поздние годы явно возобладало в нем бренное, текущее (вплоть до текучих часов), хотя порой он поднимался до высоких обобщений.
Страх смерти, свойственный им обоим, проявлялся по-разному. Федерико нередко изображал свое умирание и тление, чтобы потом вдруг «воскреснуть», показав, что это всего лишь игра. Дали, напротив, показывал власть смерти и гниения над животными и людьми, но не на себе, а в старости мечтал посмертно заморозить свое тело в надежде на возвращение к жизни благодаря успехам науки.
Несмотря на полярность психологических типов (или благодаря этому?), Сальвадор и Федерико быстро сблизились. «Первый этап моей жизни в Мадриде, в начале большой дружбы с Лоркой, – писал Дали, – строился на яростном контрасте между исключительно религиозным духом поэта и моей антирелигиозной душой. Я вспоминаю о наших нескончаемых спорах, длившихся до 3 или 5 часов утра».
Полагаю, их противоположные позиции по многим вопросам бытия определялись вовсе не верой или неверием в Бога – проблемой во многом метафизической, теологической и неразрешимой, ибо основана на вере. Корни расхождений были глубже: в соотношении себя с остальным миром. Это и есть основа мировоззрения. И в этом они стояли на диаметрально противоположных позициях. Эгоизм экстраверта несовместим с альтруизмом интроверта.
Открытость Федерико людям и миру вызывала невольный протест у Сальвадора, привыкшего всех соотносить с самим собой и в своих интересах (творческих, а не меркантильных). Если учесть, что у Гарсиа Лорки была сексуальная склонность преимущественно к мужчинам, то их общение постоянно балансировало на грани дружбы и любви. Началось это в Мадриде. Дали вспоминал:
«Был один кульминационный момент его неоспоримого личностного влияния – единственный момент в моей жизни, когда я понял суть моих мук – ревность. Это случилось, когда мы гуляли всей группой вдоль Пассо-де-ла-Кастельяна по дороге в кафе, где обычно происходили наши литературные встречи и где, я знал, Лорка будет сиять как волшебный алмаз. Неожиданно я бросился бежать, и никто не видел меня три дня».
В чем суть вспышки ревности? Сальвадора раздражало первенство Федерико? Вряд ли. В поэзии, литературе, драматургии, музыке Гарсиа Лорка был бесспорным лидером; на его место Дали не мог претендовать. Другое дело – отсутствие исключительного внимания к себе со стороны поэта. Такова ревность не соперника, но любимого друга. Возможно, Федерико нарочно дразнил его, пробуждая ревность. Как свидетельствовал хорошо знавший обоих Бунюэль, в Мадриде Лорка испытывал к юному Дали настоящую страсть.
Для Сальвадора это стало нелегким испытанием. Как он позже признавался, «тень Федерико Гарсиа Лорки омрачила изначальную непорочность моего духа и моей плоти – так гигантская тень заслоняет от нас солнце при затмении».
Какое же солнце могла затмить эта великая тень, если никого Сальвадор тогда не любил, кроме самого себя? Исходя из подтекста его признания можно предположить, что он испытывал к другу сильное влечение, заставлявшее на время забывать о себе. А это и есть любовь.
Для Дали было невыносимым падением – поддаться этой страсти. Не из-за «предрассудков», как бы теперь сказали. В те времена во многих странах Европы уже прошла волна сексуальной революции, вызванной в значительной степени последствиями Первой мировой войны. Свобода нравов царила в Резиденции, где жили учащиеся Высшей школы искусств.
«Вскоре после тщетной попытки Лорки соблазнить Дали, – пишет Жан-Луи Гайеман, – он вступил в интимные отношения с Маргаритой Мансо, студенткой Академии. Худенькая, как мальчик, сексуально раскрепощенная, она была сильно привязана к обоим друзьям. Дали отказался от нее, а Лорка занимался любовью с Маргаритой на глазах художника. “Потеряв надежду уговорить меня на соитие, он клялся, что жертва, принесенная той девушкой, стала жертвой и для него: он впервые вступил в сексуальную связь с женщиной”. Но Дали в любовных играх не участвовал, оставаясь девственником».
Приведенное Гайеманом откровение Сальвадора не говорит о том, как в дальнейшем складывались дружески-любовные отношения Лорки и Дали. Тех, для кого подобная проблема болезненно интересна, придется разочаровать: на этом она у нас завершается. К творчеству обоих этих выдающихся людей она имеет лишь косвенное отношение.
Жоан Миро и Пабло Пикассо
«Дали – не великий художник. Титул этот по праву принадлежит Пикассо. За ним идет Миро, и только после я».
Это одно из многих признаний Дали (в поздние годы он без ложной скромности ставил на первое место себя). Жоан Миро (1893–1983), его земляк, был для него поначалу чем-то вроде путеводной звезды. Из всех каталонских живописцев Миро первым добился признания в Париже. И он же предсказал Сальвадору Дали славное будущее.
Миро вместе с известным торговцем картинами Льобом прибыл в Фигерас к Дали, чтобы посмотреть его работы. Это произвело сильное впечатление на отца, впервые убедившегося в том, что сын сможет зарабатывать деньги как свободный художник.
«Миро решил взять меня под свое покровительство, – вспоминал Сальвадор, – работы ему очень понравились, а вот Пьер Льоб отнесся к ним весьма скептически. Пока Льоб говорил с сестрой, Миро взял меня за локоть, отвел в сторону и тихонько сказал:
– Честно говоря, эти парижане куда глупее, чем нам отсюда кажется. Совершенные ослы! Вот увидите! И не так-то с ними просто!
Действительно, спустя неделю я получил от Пьера Льоба письмо, в котором, вместо того чтобы предложить мне выгоднейший контракт, о чем я возмечтал после телеграммы Миро, говорилось примерно следующее: “Обязательно держите меня в курсе Ваших дел. Пока Ваши работы еще не отличает та степень художественной самобытности, на которую я надеюсь. Вам следует много и терпеливо работать – со временем Ваша несомненная одаренность принесет плоды. Полагаю, мне еще представится случай заняться Вашими картинами”.
Примерно тогда же отцу написал Жоан Миро – он убеждал его, что мне совершенно необходима поездка в Париж. А кончалось письмо фразой, которую я помню дословно: “Вашего сына ожидает блистательное будущее – в этом я нисколько не сомневаюсь!”».
Жоан Миро стал, можно сказать, крестным отцом Дали-художника. И это несмотря на то, что во многом они в поисках своего стиля шли разными путями. Исполненные в стиле импрессионизма работы Сальвадора 1919–1922 годов никак не походили на четкие, жестковатые, чуть схематичные пейзажи Миро тех же лет. Дали поначалу редко обращал внимание на мелкие детали, а по мнению Миро, «мы ищем и пишем только большие массы деревьев или гор, забывая о музыке, которая исходит от самых крошечных цветов, травинок и гальки в ручьях».
На этом пути Миро не добился успеха. Настало время авангардистов – отчасти формальных, порой изощренных поисков новизны стиля, манеры, изобразительных приемов, призванных выразить то, что скрывается за зримыми формами предметов. Содержание картины становилось признаком дурного тона, старья, «тухлятины».
Миро писал своему другу: «Мне удалось избежать абсолютизации натуры, и мои пейзажи не имеют ничего общего с внешней действительностью». В этом легко убедиться, взглянув на его работы 1923–1924 годов: «Вспаханное поле» и «Каталонский пейзаж. Охотник». В первой еще можно распознать отдельные образы: дерево с ухом и птицей, похожей на глаз; улитка, подобная игривой шляпке; облачко, смахивающее на кукиш; хозяйственный двор со смешными подобиями животных; чертик, выскакивающий из цилиндрика, кролик, домик, флажки…
Во второй картине стилизация переходит в гротеск, сочетание причудливых геометрических фигур, символизирующих образы охотника, курящего трубку, ружья, собаки, птицы, насекомых, прямых и волнистых линий, штришков. Голова-треугольник с кружком, изображающим глаз; шесть клочков волос, висящих на нижнем катете, – борода… Все это занятно и вызывает улыбку, заставляет разглядывать и разгадывать зашифрованное послание автора, напоминающее детский рисунок-угадайку.
Впрочем, искусствовед Гастон Диль отозвался об этом полотне иначе: «В картине “Охотник” Каталония присутствует уже не эмблематически, не своей характерной атмосферой – ров, отделяющий художника от прошлого, стал шире, и последние остатки действительности окончательно отброшены. Целое состоит только из фигур, геометрических и извилистых линий и язычков пламени. Все сводится к тайному языку, следующему своим собственным законам. К атмосфере, где мельчайшие детали обретают магическое или символическое значение. Так композиция становится очевидной магической формулой, для которой художник пробуждает старые мифы: лестница Иакова, соединяющая небо и землю, Солнце и Луна как противостояние мужского и женского начал. Треугольник как символ вездесущего пола и т. д.».
Как бы мы ни относились к суждениям искусствоведов, чаще всего презирающих мнение «простого зрителя», надо признать: Миро обрел свою особенную изобразительную манеру, став одним из признанных авангардистов.
«Картины Жоана Миро, – писал в мае 1928 года Сальвадор Дали, – ведут нас через автоматическое письмо сюрреальности к пониманию, пусть приблизительному, ценности и достоверности реального мира, что подтверждает мысль Андре Бретона о том, что сюрреальность обретается в реальности и наоборот.
Ведь при пассивном восприятии, при отключенном сознании и воображении (а воображение – худшая из помех на пути безотчетного восприятия) крытая повозка и конь, впряженный в нее, преображаются, являя новое, таинственное и магическое единство, стоит лишь ощутить, что источник движения – навес и поводья (ведь это они бьются на ветру!), а не конь – косный придаток колес и повозки.
Важен лишь этот миг, когда удается отрешиться от стереотипа, взращенного разумом в колбе научных знаний, и вдруг ощутить реальность.
Такие озарения бывали у Босха… Но для Босха слишком много значило воображение – отсюда искусственность, расчет, отсюда и фальшь, которая неизбежна, когда сюрреальность отрывается от реальности. Но как только безотчетный порыв чистого вдохновения вытесняет воображение, разрыв исчезает. И тогда у Жоана Миро реальность и сюрреальность легко, естественно и таинственно перетекают друг в друга, потрясая и завораживая животворной силой слиянности прежде несоединимых образов.
И потому Миро – чужой в затхлом мирке наших художников и мыслителей, для которых высшим искусством остается запечатленное во всей корявости деревцо.
Миро единым махом расправился с нашим провинциализмом и смел убогие штампы, которыми кишат наши выставки и журналы».
В этих залихватских суждениях молодого художника видны задор и пренебрежение к гениальному Иерониму Босху с высоты «прогрессивной современности». Ему словно невдомек, что подлинное искусство обращено к вечности.
Ключевое слово – «провинциализм». Сальвадор стремится вырваться в ряды авангардистов.
При всем пиетете по отношению к Миро Сальвадор не стал его последователем, не воспринял его изобразительную манеру. Влияние Миро определенно выражено в картинах «Купальщик» и «Купальщица» (1926). В первой очевидно сходство с изображением гигантской ступни на полотне Миро «Статуи» (1925). Но если у Миро все сводится к схематичной фигуре на небрежно раскрашенных плоскостях фона, то Дали, напротив, тщательно и «гладко» выписывает детали, не скупясь на разнообразие образов.
Отчасти сказывается влияние Миро в картине Дали «Натюрморт (приглашение ко сну)» (1926), где контурные черты лица Гарсиа Лорки с закрытыми глазами и черной траурной тенью, геометрические формы в некоторой степени соотносятся со стилем «Вспаханного поля» и «Охотника» Жоана Миро.
На картине Дали «Механизм и рука» (1927) также обыгрываются геометрические фигуры, отчасти повторяющие стиль упомянутых картин Миро. Но если у Миро образы символичные, а фигуры плоские, лишь порой с намеком на объем, то у Дали подчеркнута объемность, реальность конструкции фантастической, невероятной, а детали подчеркнуто натуралистичны.
Тогда же Сальвадор создает хорошо выписанную «Корзинку с хлебом». Примыкая к авангардистам, он не собирался порывать с классической живописью. В этом проявлялась его индивидуальность, став залогом дальнейших успехов.
В памяти Дали, возможно бессознательно, всплыл в 1937 году образ цирковой лошади, изображенной Миро 10 лет назад: непомерно длинная шея и грива в виде черных языков пламени. На картинах Дали «Жираф в огне» и «Сотворение чудовищ» пылающие жирафы словно напоминают о той цирковой лошади. Если это и память о прошлом, то сгоревшем почти дотла.
Трудней было преодолеть влияние ставшего признанным лидером авангардистов Пабло Пикассо (1881–1973), который учился живописи в Барселоне, а затем в Мадридской академии художеств. Он бедствовал, не унывал, искал новые выразительные средства живописи, а в 1904 году переехал в Париж. Вскоре его картины стали покупать, а некоторые оказались в России: вспомним хотя бы «Девочку на шаре» (1905). Когда он стал признанным художником во Франции, его подлинное имя Руис-и-Пикассо (с ударением на «а») стало звучать иначе.
Пабло Пикассо охотно помогал своим землякам-испанцам. Не стал исключением и Сальвадор Дали. «До появления Пьера Льоба в Фигерасе, – вспоминал он, – мы с сестрой и тетушкой побывали в Париже и провели там неделю. Всего-навсего неделю, но за этот короткий срок я успел сделать три важных дела: посетил Версаль, музей Гревен и Пикассо…
В величайшем волнении, так, словно я удостоился аудиенции Римского Папы, в назначенный час я переступил порог дома художника.
– К вам я пришел раньше, чем в Лувр!
– И правильно сделали! – ответил Пикассо.
У меня была с собою небольшая, тщательно упакованная картина – “Девушка из Фигераса”. Четверть часа, не меньше, Пикассо молча разглядывал ее. Потом мы поднялись к нему в мастерскую, и два часа он показывал мне свои работы: вытаскивал громадные холсты, расставлял их передо мной – еще, еще и еще. И, выставляя очередную картину, всякий раз бросал на меня такой яростный, живой и умный взгляд, что я невольно содрогался. И я, в свой черед, не произнес ни слова. Но, спускаясь по лестнице, мы вдруг переглянулись. Пикассо спросил меня одними глазами:
– Уловил суть?
И я, тоже глазами, ответил:
– Суть уловил».
Дали показал Пикассо картину, сделанную отчасти в академической манере, хотя к тому времени освоил кубизм. Он не стремился подражать мэтру, чтобы ему понравиться, а заявил о своей самобытности нетривиально: подражая голландскому художнику Яну Вермеру (1632–1675). Он писал Гарсиа Лорке: «Ты же, господин мой, поверь мне: величайший из художников – Вермер Делфтский. Не помню, писал ли я тебе, что у меня в работе “Девушка из Фигераса”. Уже пять дней благоговейно и терпеливо я укладываю ей завитки на затылке. Получается хорошо – не похоже ни на современную живопись (хотя вполне современно), ни на старую».
В окончательном варианте картины он отказался от завитков в пользу современной прически; есть и другая примета времени – реклама «Форда». В картине гармонично сочетаются приметы земной природы – небо, горы – и творений рук человеческих, как основательных зданий, так и прихотливых кружев, которые плетет мастерица.
Тщательно выписаны локоны у девушки на другой картине того же периода и стиля: «Девушка у окна» (1925). Эта работа была показана на первой выставке Дали в Барселоне и удостоилась похвалы Пикассо.
Ряд картин, выполненных Сальвадором в 1924–1926 годах, определенно обнаруживает влияние Пикассо. Но в других работах продолжаются упорные поиски своего стиля, своего языка в живописи.
Пабло Пикассо, искажая видимую реальность во имя незримой идеи, открыл художникам новые возможности проявления свободы творчества. У абстракционистов это стало полным произволом, отказом от любых образов, напоминающих природные или техногенные формы. Однако подобные упражнения Пикассо не приветствовал.
Посетивший его в 1922 году молодой Владимир Маяковский писал: «Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией из жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка почти серовская. Портрет женщины грубо реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом».
Да, Пикассо был разным не только по периодам, которые принято выделять, – «голубой», «розовый», «африканский», «кубистический», но в то же время один и тот же в своей постоянной изменчивости и многоликости. Его стиль зависит от настроения, творческой задачи, характера объекта. А может быть, есть в нем и нечто такое, что пытался выразить в «Портрете Пикассо» (1947) Дали: замысловатое, но нестрашное чудовище со множеством обличий, иронично высунутым языком и вытянутой изо рта ложкой, в которой лежит крохотная лютня. Словно это мистификатор, играющий на потребу публики, издеваясь над ней.
Подобный портрет мог бы подойти Сальвадору Дали, но не столько художнику, сколько человеку с болезненно развитым желанием привлекать к себе внимание людей и удивлять их по мере своих сил и средств.
Как бы ни относиться к творчеству Пикассо, надо признать: он был одним из наиболее характерных представителей искусства развитой технической цивилизации первой половины XX века – победоносного вхождения в земной мир машины, как отмечал Н. Бердяев.
Вряд ли художник продумывал происходящее так же глубоко, как философ. Но интуитивно выражал то, что скрыто за внешним обликом предметов и явлений. Он говорил: «Я ищу одного – выразить то, что хочу. Я не ищу новых форм, я их нахожу».
Хорошо знавший его советский писатель Илья Эренбург высказал верную мысль: «Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу, и мораль, сокрушить существующее; одни видят в этом его силу, революционность, другие с сожалением или возмущением говорят о “духе разрушения”… Справедливо ли назвать разрушителем человека, преисполненного жажды созидания художника, который свыше шестидесяти лет подряд строил и строит, который смело примкнул к коммунистам, не предпочел безразличия или позы скепсиса, куда более легкой для художника?
Можно – и это тоже будет правдой – сказать, что Пикассо оживает в своей мастерской, что он предпочитает одиночество митингам или заседаниям. Но как при этом забыть его страстность в годы испанской войны, его голубка, участие в движении сторонников мира и многое другое?»
В некоторых случаях «разрушительный» стиль, который использовал Пикассо, наиболее точно выражает суть происходящего. Его монументальная «Герника» (1937) – страстный крик в защиту человека, против убийств и разрушений. Поводом для нее стала трагедия жителей испанского городка Герники, стертого фашистской авиацией с лица земли. Однако произведение оказалось пророческим; это доказали Вторая мировая война и уничтожение американскими атомными бомбами двух мирных японских городов.
Ничего подобного нельзя сказать о Сальвадоре Дали, который писал: «Пикассо занимает исключительно уродство, меня же больше интересует красота». Это сомнительное суждение он выразил в упомянутом выше портрете. Хотя вернее сказать: Пикассо – разный, но прежде всего он плоть от плоти своего времени, открытый миру и стремящийся по-своему выразить его. А Дали был замкнут на самого себя, свои комплексы (реальные или надуманные), на свою любимую женщину.
По словам Дали, «Пикассо никогда не хватало времени на живопись, и он только наметил то, что будут разрабатывать годы и годы. В Пикассо заключено все, что должно случиться в нашем веке с живописью. И оттого он торопился, набрасывая только первый черновик. Как-то он сказал мне, что в “Гернике” хотел бы прорисовать на конской шее все волоски – так, чтобы зритель ощутил запах конского пота, но не успел. Другие дорисуют. А еще, помню, заметил: “Здесь нужен синий цвет, но у меня не было синей краски, и я писал тем, что попало под руку – красным, а после выправлял положение дополнительными цветами, пока не добился ощущения синевы”».
Не исключено, что Пикассо не успел – хотя более вероятно, что не захотел, – прорисовать коню гриву. Но дело не в этом. Дали не смог осознать, ощутить чувства гнева и ненависти к фашистам, которые переполняли Пикассо. Для самодовольного Дали в этот период его жизни что-либо подобное было чуждо.
«Я не мог бы жить, не отдавая искусству все свое время. Я люблю его, как единственную цель всей своей жизни. Все, что я делаю в связи с искусством, доставляет мне величайшую радость», – признавался Пабло Пикассо. То же с полным основанием мог бы повторить Сальвадор Дали. Однако ему так и не было суждено подняться до уровня Пикассо как художнику (он это сам признавал), а главное – как человеку.
Какие бы ухищрения ни придумывал Дали, ни одно его произведение даже не приблизилось по тонкому лиризму к «Девочке на шаре» Пикассо, а по нравственной и эмоциональной мощи к «Гернике». Он преодолел в своем творчестве кубизм – порождение гения Пикассо – и проторил свой путь в живописи. Но не смог (не пожелал?) противостоять воздействию любимой женщины Галы, а также той буржуазной среды, против которой он дерзко выступал в юные годы.
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль (1900–1983), знаменитый испанский кинорежиссер и сценарист, был в молодости наравне с Гарсиа Лоркой другом Сальвадора Дали. В Мадриде они вместе пребывали в Студенческой Резиденции. В те времена сюрреализм еще только начинал ошеломлять публику и вызывать скандалы.
В отличие от Дали, Луис Бунюэль был крупным, сильным и мужественным мужчиной. Лорка считал его «слишком провинциальным» (слова Луиса).
С 1926 года Бунюэль работал ассистентом у французских кинорежиссеров и через два года привез несколько авангардистских фильмов в Мадрид. Он написал сценарий по рассказам Рамона Гомеса де ла Серны. Поставить фильм не удалось, а сценарий был опубликован. Об этом приходится упоминать в связи с тем, что Сальвадор Дали нелестно по отношению к соавтору вспоминал о работе над фильмом «Андалузский пес»:
«Луис Бунюэль предложил мне снять вместе с ним фильм (его мать пообещала финансировать предприятие). Замысел фильма, предложенный Бунюэлем, показался мне убогим до крайности – наивные авангардистские штучки. Предполагалось, что картина будет чем-то вроде экранизованной газеты: происшествия сменяются новостями, новости – анекдотом и так далее. В предпоследнем кадре эта смятая газета будет уже валяться на тротуаре, а в последнем ее сметет дворницкая метла. Концовка была до того дешевой, слезливой и пошлой, что меня просто передернуло. Я сказал Бунюэлю, что все это несусветная чушь, но фильм делать мы будем – другой, ибо я уже написал новый сценарий, короткий и гениальный, совершенно не похожий на то, к чему привык зритель.
Я сказал правду – сценарий действительно был написан. Вскоре Бунюэль известил меня телеграммой о своем приезде в Фигерас. Он пришел в восторг от моего сценария, и нам оставалось только доработать его вместе. Вдвоем мы развили некоторые второстепенные темы фильма и придумали название – “Андалузский щенок”. Бунюэль забрал сценарий и уехал. Он должен был все подготовить, найти актеров и начать съемки. Но вскоре я тоже отправился в Париж и принял самое деятельное участие в постановке. Мы ежедневно намечали режиссерское решение той или иной сцены, а происходило это так: Бунюэль, не перебивая, слово в слово записывал мои указания. Он знал, что чутье у меня безошибочное».
Судя по всему, Дали ошибся, представив сценарий Бунюэля по рассказам де ла Серны как первый вариант «Андалузского пса» (с таким названием это кино вошло в историю искусств).
А теперь обратимся к свидетельству Луиса Бунюэля. Трудно судить, кто из них ближе к истине, но мне кажется, что – Бунюэль. Во всяком случае, бахвалиться и умалять достижения других было не в его правилах.
«Этот фильм родился в результате встречи двух снов. Приехав на несколько дней в гости к Дали в Фигерас, я рассказал ему сон, который видел незадолго до этого и в котором луна была рассечена пополам облаком, а бритва разрезала глаз. В свою очередь он рассказал, что прошлой ночью ему приснилась рука, сплошь усыпанная муравьями. И добавил: “А что, если, отталкиваясь от этого, сделать фильм?”
Поначалу его предложение не очень увлекло меня. Но вскоре мы приступили в Фигерасе к работе. Сценарий был написан меньше чем за неделю. По обоюдному согласию мы придерживались простого правила: не останавливаться на том, что требовало чисто рациональных… объяснений. Открыть путь иррациональному. Принималось только то, что поражало нас, независимо от смысла.
У нас не возникло ни одного спора. Неделя безупречного взаимопонимания. Один, скажем, говорил: “Человек тащит контрабас”. “Нет”, – возражал другой. И возражение тотчас же принималось как вполне обоснованное. Зато когда предложение одного нравилось другому, оно казалось нам великолепным, бесспорным и немедленно вносилось в сценарий.
Закончив сценарий, я понял, что это будет совершенно необычный, шокирующий фильм».
Было ясно, что ни одна компания не согласится финансировать такой проект. Бунюэль нашел богатого спонсора – свою маму. Растратив половину ее денег в кабачках, он договорился с актерами Пьером Бачевом и Симоной Марёй, с оператором Дюверже и руководителями студии «Бийанкур», где фильм сняли за две недели.
По словам Бунюэля, Дали приехал лишь к концу съемок, заливал смолой глаза чучел ослов и сыграл эпизодическую роль в одной из сцен. Закончив и смонтировав фильм, они задумались над тем, что с ним делать. С помощью Луи Арагона, принадлежавшего к группе сюрреалистов, организовали премьеру в «Стюдио дез юрсюлин». Пришли знаменитости – Пикассо, Ле Корбюзье, Кокто и другие, а также аристократы, вся группа сюрреалистов. Бунюэль сидел за экраном и с помощью граммофона вел музыкальное сопровождение фильма. На случай провала он запасся камушками, чтобы запустить их в зал.
Начало картины: под звуки танго Бунюэль точит лезвие бритвы, выходит на балкон, смотрит на полную луну. В комнате сидит девушка в кресле. Луну пересекает тонкое облако. Крупно: глаз девушки. К нему движется лезвие бритвы. Бритва взрезает глаз.
(Сцена считается одной из самых жестоких в истории мирового кино.)
Титры: «Восемь лет спустя». Та же девушка с неповрежденными глазами (прежний ужас был игрой воображения; художественное сравнение средствами кино). По улице едет велосипедист. Сзади он похож на монашку. Под окнами девушки он падает и разбивается насмерть. Она бросается к нему, берет из его рук шкатулку.
Продолжается смешение мнимости с действительностью. Оторванная рука на тротуаре, вокруг которой собирается толпа. Завороженная женщина на проезжей части, сбиваемая автомобилем. Рана с копошащимися насекомыми в центре ладони мужчины. Женская грудь в руках мужчины. Женщина вырывается из его объятий. Он тянется к ней, таща за собой рояль с двумя трупами монахов и дохлым ослом…
Премьера завершилась дружными аплодисментами взыскательной публики. Фильм купил владелец «Студио-28», не прогадав: 8 месяцев шел прокат. Бунюэль получил 7 или 8 тысяч франков. В полицию обратилось несколько десятков человек с требованием запретить этот неприличный и жестокий фильм. Он действительно шокировал многих. Во время просмотра произошло два выкидыша. Но фильм не запретили.
О том, какова была атмосфера тех лет среди сюрреалистов, можно судить по воспоминаниям Бунюэля:
«Как и другие члены группы, я бредил мыслью о революции. Не считая себя террористами, вооруженными налетчиками, сюрреалисты боролись против общества, которое они ненавидели, используя в качестве главного оружия скандалы. Скандал казался им наилучшим средством привлечь внимание к социальному неравенству, эксплуатации человека человеком, пагубному влиянию религии, милитаризации и колониализму».
Они пытались вскрывать пороки общества. Наиболее достойным политическим революционным движением признавали коммунистическое. Истинной целью сюрреализма считали не создание нового направления в литературе, живописи, философии, а разрушение несправедливого общественного строя, изменение жизни.
«Большинство этих революционеров… – писал Бунюэль, – принадлежало к состоятельным семьям. Буржуа бунтовали против буржуазии. В том числе и я. У меня к этому добавлялся некий инстинкт отрицания, разрушения, который я всегда ощущал в себе в большей степени, чем стремление к созиданию. Скажем, мысль поджечь музей представлялась мне более привлекательной, чем открытие культурного центра или больницы…
Мы огульно отвергали все устоявшиеся ценности. Наша мораль опиралась на другие критерии, она воспевала страсти, мистификации, оскорбления, черный юмор. Но в пределах новой области действий, границы которой с каждым днем все более размывались, наши поступки, рефлексы, убеждения казались нам совершенно оправданными».
Ничего удивительного: убеждения, основанные на эмоциях, подчиняют себе рассудок, который ищет и обычно находит оправдание самым дерзким, а то и преступным поступкам, совершаемым во имя идеи.
Когда Бунюэль принял предложение буржуазного журнала «Ревю дю синема» опубликовать сценарий «Андалузского пса», сюрреалисты восприняли это как предательство. На собрании Луи Арагон резко критиковал Бунюэля. Коммерческий успех фильма вызывал подозрения: как столь провокационное произведение собирает полные залы?
Бунюэль впервые осознал, что сюрреализм – не только поэтическое, но и политическое, революционное, а также моральное движение. Решено было забрать сценарий из редакции «Ревю». Но его уже передали в типографию. Вместе с Элюаром Бунюэль отправился туда, спрятав под полой плаща огромный молоток, которым собирался сокрушить набор. Однако журнал уже вышел.
Сценарий все-таки опубликовали в «Варьете», а Бунюэль вынужден был отправить в 16 парижских газет письмо с выражением «живейшего возмущения», утверждая, что стал жертвой гнусной буржуазной махинации. А для «Варьете» и журнала «Революсьон сюрреалист» он написал, что фильм был публичным призывом к убийству.
Вот какой накал страстей, подчас далеких от проблем искусства, бушевал среди наиболее образованной молодежи Западной Европы! Сальвадор Дали был в такой среде вполне уместен со своим стремлением эпатировать публику и воплощать свои фантазии.
«Я часто рассказывал о Дали членам группы, – вспоминал Бунюэль, – показывал фотографии его картин (в том числе мой собственный портрет), но те проявляли большую сдержанность. Впрочем, сюрреалисты решительно изменили свое к нему отношение, когда сами увидели полотна, привезенные Дали из Испании. Его тотчас приняли в группу, и он участвовал в ее собраниях». Поначалу отношения Дали с Бретоном были прекрасными.
…Бунюэль решил закрепить свой успех и сделать в соавторстве с Дали еще один фильм, не отступая от моральных принципов сюрреализма. Он записал несколько сюжетов и трюков: рабочие в тележке, проезжающие через светский салон; отец, застреливший сына за пустячную оплошность (это позже вошло в фильм). Во время поездки в Испанию решил поделиться с Дали своими соображениями о фильме.
И тут произошло то, что более всего характерно для романов и киносценариев. Подходя к дому Дали, он услышал звуки ссоры. Контора отца, нотариуса, находилась на первом этаже дома, а семья (место покойной матери заняла тетя) жила на втором.
Бунюэль остановился перед домом в нерешительности. Вдруг дверь распахнулась. На пороге появился отец Дали, выталкивающий сына вон, называя его мерзавцем. Сальвадор пытался оправдываться. Увидев Бунюэля, отец, указав на сына, гневно сказал, что не желает видеть в своем доме такую свинью.
Гнев отца вызвал вопиющий факт. Он узнал, что одну из своих картин, выставленную в Париже, Сальвадор – яростный неофит сюрреализма – дополнил надписью: «Приятно иногда плюнуть на портрет матери!» (ее уже не было в живых). Этим он глубоко оскорбил отца и сестру. В ответ на возмущение друга семьи Э. Д'Орса Сальвадор обозвал его «образцовым дерьмом, не способным уразуметь прописные истины психоанализа».
Безоглядно войдя в систему фрейдизма, он развивал в себе психологические комплексы, ею провозглашенные, в частности комплекс Эдипа – половое влечение к матери. В таком случае эта надпись была чем-то вроде заклятья, подобно «Изыди, нечистый!». Сальвадор находился почти под гипнотическим влиянием учения Фрейда и мнений своей любимой Галы.
Изгнанный из родного дома, Дали вместе с Бунюэлем отправился в Кадакес. Там они за два-три дня написали вариант сценария. На этот раз дело шло плохо, без подъема и взаимного понимания, которые были при работе над «Андалузским псом». Поняв, что пререкания ни к чему хорошему не приведут, Бунюэль вернулся в Париж, где и написал сценарий «Золотого века». В него вошла сценка, предложенная Дали: человек в цилиндре и с камнем на голове проходит по саду мимо статуи, на голове которой тоже лежит камень (давление на мозги?). В титрах Сальвадор Дали представлен как соавтор сценария.
Занятная деталь. В начале фильма возникают какие-то разбойники в живописных лохмотьях. Когда один из них поворачивается спиной к публике, у него на светлых штанах во весь зад резко выделяется черный квадрат. По-видимому, такова краткая рецензия Бунюэля на знаменитый супрематический «Черный квадрат» Казимира Малевича.
С 28 октября 1930 года парижский кинотеатр «Студио-28» начал показ «Золотого века». Первые сеансы прошли спокойно. 3 декабря члены молодежных фашистских и монархических организаций забросали экран пузырьками с чернилами, затем бросили гранату со слезоточивым газом, поломали стулья, били дубинками публику, изрезали в фойе на выставке полотна и книги сюрреалистов.
Полиция появилась, когда погром был завершен. Газета «Фигаро» отозвалась: «Родина, Семья, Религия вымазаны в дерьме… Здесь мы имеем дело с большевистской пропагандой очень специфического свойства, цель которой – отравить нас». По приказу комиссариата парижской полиции фильм запретили. Возобновили показ после того, как из фильма изъяли ряд сцен. 11 декабря его окончательно запретили, показав лишь через полвека.
Дали считал, что католическая церковь критиковалась в фильме примитивно. «И тем не менее лента производила довольно сильное впечатление. Неутоленная любовь героя на сцене, где он, сломленный желанием, сосет палец ноги мраморного Аполлона, была, бесспорно, хороша». (В этой сцене действуют и женщина, и мужчина.)
Судя по всему, Сальвадора сильно напугали угрозы фашиствующих молодчиков, хотя в своих мемуарах он постарался показать себя готовым на еще более громкий скандал. Его объяснение оригинально: «В моей верности традиции и в моей реакционности куда больше мятежа и кощунства, чем во всех ваших ублюдочных революциях!» Учтем: написано это в 1941 году в США, где Дали с помощью жены успешно торговал своими картинами, став миллионером. Он уже сделал выбор, стараясь выглядеть «прилично» перед буржуазной публикой, которую развлекал своими чудачествами, получая высокие гонорары.
А вот сценка, которую он предложил Бунюэлю (в фильм не вошла): «Он смотрит на нее и видит, как дрожат ее губы… Изображение лица медленно отступает, и используется наложение до тех пор, пока мы не увидим почти настоящие половые губы, подбритые так, чтобы они напоминали первые». Тогда, во время работы над сценарием «Золотого века», он был другим – мятежником, бунтарем против условностей и традиций общества.
В отличие от него, Бунюэль не отрекся от своих принципов: снял документальную ленту «Лас Урдес. Земля без хлеба» (1932), показав тяготы крестьянского труда. Фильм запретили к показу. В гражданской войне Бунюэль был на стороне республиканцев, содействовал постановке антифашистских фильмов. В 1939 году вынужден был эмигрировать в США, где работал монтажером в Голливуде, сотрудником Музея современного искусства в Нью-Йорке. Его последующие работы как режиссера и сценариста – «Забытые» (1950), «Лестница на небо» (1952), «Назарин» (1959), «Девушка» (1961), «Ангел-истребитель» (1962), «Симеон-столпник» (1955), «Дневная красавица» (1967), «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Этот смутный объект желания» (1977) – были удостоены высоких международных наград.
С Сальвадором Дали он прекратил сотрудничать после «Золотого века». Их пути разошлись по причинам идейным. Дали стал избегать конфликтов с мощной католической церковью и богатыми буржуа, даже принялся им угождать. В США, куда привезла его Гала, быть заподозренным в симпатиях к атеистам и коммунистам грозило суровыми санкциями (вспомним хотя бы гонения на Чарли Чаплина).
С возрастом и Бунюэль поумерил свой политический пыл. У Дали появились некоторые основания заявить: «Я видел фильм, поставленный моим другом Луисом Бунюэлем, – “Млечный путь”. Сколько бы он ни богохульствовал, я-то знаю и всегда знал: Бунюэль обязательно одумается и, того гляди, примет сан или схиму».
Конечно, теистом, а тем более воцерковившимся, Луис Бунюэль не стал. Он был честным и незаурядным мыслителем. «Верить или не верить в Бога, – писал он, – суть одно и то же… Я не могу поверить, что Бог все время наблюдает за мной, что Он занимается моим здоровьем, моими желаниями, моими ошибками.
Я не могу поверить, что Он способен наложить на меня вечное проклятие. Что я для Него? Ничто, кусок грязи. Моя жизнь столь коротка, что не оставляет следа. Я бедный смертный, я не могу быть принят в расчет ни в пространстве, ни во времени.
Бог не занимается нами. Если Он существует, то так, словно не существует вовсе».
Нельзя не признать в его словах спокойную мудрость человека творческого, смелого и твердого в своих убеждениях. В его фильмах в той или иной степени проявляется его личность, проявляются его убеждения.
Правда, Сальвадор Дали высказался круто: «Кинематограф обречен, ибо это индустрия потребления, рассчитанная на потребу миллионов. Не говоря уже о том, что фильм делает целая куча идиотов. Собираются идиоты и делают фильм. А настоящее искусство не делается скопом. Художник один делает свое дело – в этом его трагедия и счастье. Фильм же лепят из отходов, заботясь лишь о том, как бы скормить эту пакость народу… Кинематограф по своей сути есть свинство, и ничего кроме свинства».
Что-то верное проскальзывает в этом огульном охаивании кинематографа. К сожалению, со временем он все более становится таким, каким изобразил его Сальвадор Дали. Однако есть немногие мастера, к числу которых относится Бунюэль, создающие подлинные произведения искусства.
Гала
Эту женщину Сальвадора Дали воспевал полвека, порой изображая то обнаженной Ледой, то – кощунственно – Богоматерью. Для него она стала в чем-то подобной если не святой Деве Марии, то повивальной бабке. Без нее он вряд ли стал таким, каким мы его привыкли представлять.
Предваряя свой «Дневник одного гения», Дали написал: «Я посвящаю эту книгу МОЕМУ ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ БЕЗМЯТЕЖНОЙ».
Судя по детским воспоминаниям Сальвадора Дали, в волшебном «театрике оптических иллюзий» у сеньора Трайта он увидел чудесную страну Россию и «русскую девочку, которую в тот же миг полюбил…
Блестящие глаза и резко обозначенные крылья носа придавали ей сходство с каким-то таежным зверьком, но мягкий овал лица, столь же соразмерного, как у мадонны Рафаэля, и вся гармония ее черт говорили о высочайшем даре нежности, особенно редком в сочетании с жизненной энергией, сквозившем во всем ее облике. То была Гала? Я никогда не сомневался – то была она».
Такова романтическая версия. Не исключено, что образ русской девочки из театрика иллюзий для него воплотился в русской женщине Елене Дьяконовой, жене поэта-сюрреалиста Элюара. Луис Бунюэль вспоминал о встречах с ней:
«Эту женщину я всегда избегал и не собираюсь этого скрывать. Я впервые встретил ее в Кадакесе в 1929 году по случаю Барселонской международной выставки. Она приехала с Полем Элюаром, за которым была замужем, и их дочкой Сесиль…
Все началось с моей оплошности.
Я жил у Дали в километре от Кадакеса, где остальные остановились в гостинице. Дали с большим волнением сказал мне: “Приехала божественная женщина”. Вечером мы отправились выпить, после чего все решили проводить нас до дома Дали. По дороге, разговаривая о разных вещах, я сказал – Гала шла рядом со мной, – что в женщине у меня особое отвращение вызывают слишком широкие бедра.
Назавтра мы отправились купаться – и я вижу, что бедра у Галы именно такие, которые я терпеть не могу.
С этого дня Дали невозможно было узнать. Мы больше не понимали друг друга. Я даже отказался работать с ним над сценарием “Золотого века”. Он говорил только о Гале, без конца повторяя ее слова.
…Однажды вместе с женой рыбака Лидией мы отправились на пикник в скалы. Показав Дали на пейзаж, я сказал, что мне это напоминает картину Сорольи, довольно посредственного художника из Валенсии. Охваченный гневом, Дали закричал:
– Как можешь ты нести такой бред среди столь прекрасных скал?
Вмешалась, поддерживая его, Гала. Дело оборачивалось скверно.
В конце пикника, когда мы уже изрядно выпили, не помню, по какому поводу, Гала снова вывела меня из себя. Я резко вскочил, схватил ее, бросил на землю и стал душить.
Перепуганная Сесиль вместе с женой рыбака спрятались в скалах. Стоя на коленях, Дали умолял меня пощадить Галу. Несмотря на весь свой гнев, я не терял над собой контроля. Я знал, что не убью ее. Я хотел лишь увидеть кончик ее языка между зубами.
В конце концов я отпустил ее. И она через два дня уехала».
Если все было точно так, то весьма характерно выглядит поведение Дали. Зная, что Бунюэль значительно сильнее его, Сальвадор благоразумно предпочел не спасать «божественную женщину», а смиренно встал на колени в сторонке. Это похоже на его поведение и в некоторых других ситуациях. Он был не только трусоват, но и обладал холодным расчетливым рассудком.
Можно возразить: он поступил логично, ибо не смог бы справиться с разъяренным Бунюэлем. Да, конечно. Однако показательно: в тот момент, когда его любимой женщине угрожала опасность, он быстренько сообразил, как поступить, чтобы самому не пострадать ненароком.
Интересно завершение воспоминаний Бунюэля о Гале:
«Мне рассказывали позднее, что в Париже – где мы некоторое время жили в одной гостинице неподалеку от Монмартрского кладбища – Элюар не выходил на улицу без маленького, с инкрустацией на рукоятке револьвера, так как Галя сказала ему, что я хотел ее убить.
…Однажды в Мехико, спустя лет пятьдесят, в восьмидесятилетнем возрасте, я увидел Галю во сне. Я видел ее со спины в театральной ложе. Тихо окликал. Она оборачивалась, подходила ко мне и любовно целовала в губы. Я все еще помню запах ее духов и нежную кожу.
Это, вероятно, самый удивительный сон в моей жизни».
Настоящий сюрреализм!
Фрейдист волен сделать вывод: все ясно! Тогда, в молодости, Бунюэль набросился на Галу, как Отелло на несчастную Дездемону, из ревности. Он подсознательно вожделел к ней, что и доказало сновидение, раскрывшее его потаенные от самого себя желания. Чтобы не выдать этого чувства, он уверял других и самого себя, будто ему не нравятся женщины с широкими бедрами. Да и не так уж и широки они были у Галы. Вдобавок ко всему он ревновал ее как соперницу, отбившую у него друга…
Всякое можно придумать с позиций фрейдизма… На мой взгляд, все проще. Подвыпивший Луис вдруг ощутил, что перед ним находится демон-искуситель, способный воспользоваться слабостями Сальвадора и сделать из него художника на потребу богатой публики, приспособленца к буржуазной среде, где высшее мерило ценности человека – капитал.
Елена Дмитриевна Дьяконова (1894–1982) родилась в Казани. Отец, небогатый чиновник, рано умер. Мать Елены вышла за состоятельного адвоката. В 1911 году семья пере ехала в Москву. Елена училась в женской гимназии М. Г. Брюхоненко – там же учились Марина и Анастасия Цветаевы. Последняя писала о ней:
«В полупустой классной комнате на парте сидит тоненькая длинноногая девочка в коротком платье. Это Елена Дьяконова. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце. Необычные глаза: карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими».
Елена росла худой, бледной, болезненной. В 1912 году ее отправили в швейцарский санаторий для лечения от туберкулеза. Здесь она познакомилась с юным французским поэтом, сыном богатого торговца недвижимостью Эженом-Эмилем-Полем Гранделем (стал знаменитым под псевдонимом Поль Элюар). Он был на год моложе Елены. Они влюбились друг в друга. От ее болезненности не осталось и следа. Тогда же у нее появилось новое имя – Гала, с ударением на последнем слоге. По-французски это означает «веселый оживленный праздник».
Им пришлось вскоре вернуться к своим родным. Началась страстная переписка. Говорят, разлука для любимых как ветер для огня: слабый огонек гаснет, сильный разгорается в могучее пламя. Влюбленные Поль и Гала решили встретиться и не расставаться никогда. Отец Грандель был против брака сына с загадочной русской.
Весной 1916 года Елена приехала в Париж. Шла война, жених был в армии, но свадьба в феврале 1917-го все-таки состоялась. Год спустя у них родилась дочь. Еще через три года семья Элюар побывала в Кёльне у немецкого художника-авангардиста Макса Эрнста. Гала ему позировала и вскоре стала его любовницей. На следующий год Эрнст переехал к Элюарам во Францию. Сложился прочный любовный треугольник (у интеллектуалов тех лет это бывало нередко).
Гала в феврале 1917-го стала одной из героинь сексуальной революции в послевоенной Западной Европе. В немалой степени этому содействовал ее муж, считавший семейные узы формальностью, не имеющей никакой власти над свободной любовью.
В августе 1929 года Поль Элюар с женой и дочерью приехали в Кадакес к Сальвадору Дали. По пути Поль рассказывал жене о талантливом молодом художнике. «Он не переставал восхищаться своим милым Сальвадором, – вспоминала она, – словно нарочно толкал меня в его объятия, хотя я его даже не видела».
К тому времени Дали посетил владелец парижской галереи Камил Гоэманс, заключив с художником договор на выставку его картин и распределение выручки от их продажи. Гоэмансу понравились еще не законченные «Угрюмые игры». Приехали также художник-сюрреалист Рене Магритт с женой и Луис Бунюэль.
На Дали временами нападали приступы смеха, к которым его друзья привыкли. Судя по всему, для него это была игра, и нередко он потешался над ними. (Он: «Им-то откуда знать, что я хохочу над тем, что лезет мне в голову!») Со временем приступы хохота стали смахивать на истерику.
При первой встрече с Галой Дали отметил ее «на редкость умное лицо». Семью Элюар проводили в гостиницу, а вечером устроили пикник в тени платанов. Выпив немного вина, Дали похохотал, обратив на себя внимание Галы. Они разговорились, и она убедилась, что он высказывает интересные суждения. Ему пришлось выслушать от нее сравнение с танцором аргентинского танго – с его густо набриолиненными волосами, ожерельем, браслетом и агрессивными манерами.
На следующий день он судорожно готовился к встрече с ней:
«Обдумывая и мастеря свой наряд, я измучился, но вот я наконец готов. К чему готов? На что? Кадакесский колокол отзвонил одиннадцать. Я подошел к окну. ОНА стояла на берегу. Вы спросите: “Кто?” А я скажу: “Не перебивайте!” ОНА стояла на берегу – и этого было достаточно. Гала, жена Элюара. Это ОНА! Галюшка Возрожденная! Я узнал ее по обнаженной спине. Это ее кожа, нежная и гладкая, как у ребенка. Эти выступающие ключицы; сильные, как у молодого атлета, спинные мышцы – и женственно-плавная, изящная линия бедра. Контраст между ними подчеркивала тонкая, может быть, слишком тонкая талия – мастерский, завершающий штрих!
…Разве не для нее я вырядился с утра самым дурацким, дичайшим образом? Для нее – то был мой свадебный наряд. Разве не для нее я умащался козьим пометом и лавандовым маслом, разве не для нее изорвал в клочья свою лучшую рубаху тончайшего шелка, разве не для нее искровянил себе бритвой подмышки? Но вот она пришла, и я не решаюсь предстать перед ней в таком виде. Я глянул в зеркало и впал в отчаяние. “Ты смахиваешь на дикаря, – сказал я своему отражению, – и я тебя презираю”.
Да, смахиваю, но ведь состояние дикости – это всего-навсего проявление атавизма, свойственный людям вид душевного нездоровья!
Я немедленно скинул дурацкий наряд, снял украшения и кинулся мыться, чтобы истребить исходивший от меня зубодробительный аромат. Но ожерелье, якобы жемчужное, и красную герань за ухом решил оставить, только цветок выбрал поменьше.
И понесся навстречу Гале, но вместо того, чтобы приветствовать ее, расхохотался. Она обратилась ко мне с каким-то вопросом, и ответом ей снова был тот же истерический хохот. Я не мог вымолвить ни единого слова… Бунюэль пребывал в страшном раздражении – он приехал в Кадакес, полагая, что мы будем писать сценарий нового фильма, я же впал в транс и самозабвенно лелеял свое безумие. Я думал только о том, как бы половчее свихнуться, и о Гале.
Говорить с нею я не мог, зато всячески старался услужить ей: кидался за подушкой, чтобы поудобнее усадить на тахте, бежал за стаканом воды, предлагал пойти к скамейке, откуда открывается изумительный вид. И с несказанным восторгом сто раз на дню помогал переобуть сандалии. И если на прогулке моя рука ненароком касалась ее руки, меня пробирала дрожь и дождь мелких зеленых яблок, плодов моей любовной мечты, обрушивался на мою голову – так, словно бы не руки наши соприкоснулись, а мощная великанья десница сотрясла деревце моей страсти, осыпая незрелые плоды…
С каждым днем ее интерес ко мне, причем интерес чисто практического свойства, возрастал. Она считала меня гением, правда, полусумасшедшим, но с высокими нравственными ориентирами».
Был ли ее интерес к художнику сугубо практического свойства? Трудно поверить. К молодым симпатичным и талантливым мужчинам у нее был интерес и телесного свойства тоже. Но торопить события она не желала.
Однажды утром он зашел за Галой в гостиницу, и они отправились к скалам, называемым Эль-Кексальс (Клыки). Оба молчали, и это длительное молчание действовало на обоих сильнее всяких слов. Он ждал, когда она заговорит. Но она – женщина опытная – держала долгую паузу.
По его словам, он «молчал, потрясенный самим ее присутствием. Нет, не нужно ни исповедей, ни признаний. Я читаю ответ в тонком рисунке ее лица, в изящных пропорциях ее фигуры».
Дальнейшее описал так:
«Я дотронулся до нее, обнял за талию, и Гала едва ощутимо сжала мою руку, вложив в это легкое движение всю свою душу. Этот миг следовало ознаменовать приступом хохота – и я нервно рассмеялся, понимая всю неуместность своего поведения и предвидя свои грядущие страдания по этому поводу. Но Галу мой хохот не оскорбил, более того – она пришла в экстаз. И, явив нечеловеческое самообладание, вновь, чуть сильнее, сжала мне руку… Она поняла, что это не веселый смех, вообще свойственный людям… Изо всех моих убийственных взрывов хохота этот, разразившийся в ее честь, оказался самым убийственным: я кинулся в бездну, к ее ногам – с какой заоблачной высоты!
И она сказала: “Дитя мое! Мы никогда не расстанемся!”»
Эти слова оказались пророческими.
«Гала явилась и посягнула на мое одиночество, разрушила его, и я, ощутив это, испытал смятение. Случалось, я осыпал ее совершенно незаслуженными упреками – мешаешь мне работать, прокралась ко мне в душу, погубила мое “я”! И еще я был убежден, что когда-нибудь она обязательно меня обидит. И когда на меня накатывал страх, говорил ей: “Ты не должна меня терзать, слышишь? Никогда! Обещай мне. И я никогда не причиню тебе обид. Мы не станем вредить друг другу”.
Я знал, что близится час великого испытания, великого испытания любовью… И чем ближе был час принесения жертвы, тем страшнее мне становилось – я не осмеливался даже думать о том, что предстояло…
Ты ведь ждал этого всю жизнь, и вот наконец – Она явилась! Пробил час, а ты дрожишь от страха, Дали!..
Гала все чаще говорила о чем-то, что неизбежно должно произойти, о чем-то важном для нас обоих – что все решит. Но разве могла она положиться на меня, когда мое возбуждение достигало уже степеней невменяемости, когда надо мною уже реял ореол безумия, а позади волочился шлейф симптомов, не оставляющих места для сомнений? Мало того – мое безумие в конце концов нарушило свойственное Гале душевное равновесие: безумие заразительно.
Мы молча подолгу, до изнеможения блуждали по оливковым рощам и виноградникам, словно надеясь, что сумеем скинуть непосильную ношу таимых чувств, скрученных тугим узлом, освободиться от давящего ярма немоты…
О, эти наши долгие прогулки вдвоем! Оба, она и я, – безумцы. Потрясающее, должно быть, зрелище. Иногда я бросался к ее ногам и целовал ремешки сандалий…
Я не торопил Галу, не просил сказать, что ее тревожит. Больше того – я ждал ее слов, как ждут приговора, который неминуемо будет приведен в исполнение. Она скажет – и сожжет мосты. Я никогда еще не предавался любви и воображал, что это нечто чудовищное, зверское и вообще мне не по силам – “куда мне!”. И с маниакальным упорством твердил: “Помнишь, мы обещали не огорчать друг друга?” Гала злилась».
Гала была опытной женщиной, знавшей толк в мужчинах. Он был девственником, страдающим от надуманных страхов, а прежде всего – от неуверенности. Его приводило в замешательство ее молчание. Может показаться, что она играла с ним, как кошка с мышкой: чуть придавит мягкой лапкой, чуть отпустит, но стоит мышке попытаться скрыться, тотчас когти хищницы возвращают ее на место.
Для него это была пытка любовью – вожделенной и страшной. А для нее?
Пожалуй, она была в недоумении и раздражении: этот симпатичный ей молодой человек вел себя как-то странно. Сумасшедший? Ведь бывают же такие гении. Что он хочет от нее? Утолить свою сексуальную страсть? Что ему мешает наброситься на нее в этом безлюдном месте, повалить на землю, говорить бессвязные слова, целовать, срывать с нее одежду, насладиться соитием…
День за днем он медлит, изнывая от… любви? Он еще так молод… Но если это серьезно, то как быть с дочерью? Для Поля все это ничего не значит, а для Сальвадора? От него можно ждать чего угодно.
Что произошло дальше, узнаем с его слов:
«Эта идиллия тянулась до самой осени. Друзья-сюрреалисты отбыли в Париж, и Элюар с ними. Гала осталась в Кадакесе. Каждый раз, встречаясь, мы понимали: “Пора! Пора разрубить этот узел!” Уже гремели по холмам охотничьи выстрелы, все раньше до боли ясную синеву августовских небес сменяли сумерки, разбавленные “наплывающими облаками”; начинался сбор винограда – пришла пора срывать и гроздья нашей страсти.
Гала сидела на глянцевом крае скалы и ела черный виноград, становясь все прекраснее, все ослепительнее с каждой ягодой. И так день за днем. В напряженной тишине я физически ощущал, как она наливается сладостью, отбирая ее у ягод. Я дотрагивался до нее и понимал, что касаюсь не плоти, а небесной золотистой виноградной мякоти. И оба, она и я, думали – завтра! Я выбирал для нее две грозди и спрашивал: “Белую или черную?”
В тот – назначенный – день на ней было белое платье из легкой ткани. Оно трепетало на ветру, пока мы поднимались в гору, и меня била дрожь. Ветер крепчал, я предложил вернуться.
Мы спустились к морю и укрылись от ветра на скамье, вырубленной прямо в скале. То было одно из самых пустынных и диких мест Кадакеса, одно из стержневых, доисторических его мест. Чесночная долька обреченного молодого месяца в пелене извечных слез, вдруг вставших комом у меня в горле, стыла в сентябрьском небе прямо над нами. Но нет, сейчас не до слез! Надо разрубить этот узел… Я обнял ее и спросил:
– Что мне сделать с тобой?
Она хотела ответить, но от волнения не сумела вымолвить ни слова и наконец тряхнула головой. По лицу ее текли слезы. Но я не отставал:
– Что мне сделать?
Гала наконец решилась и жалобным девчоночьим голосом проговорила:
– А если я скажу и ты не захочешь, ты никому не скажешь?
Я поцеловал ее в губы – впервые в жизни я так целовал.
Я и не подозревал прежде, что это такое.
Я схватил ее за волосы, оттянул назад ее голову и заорал срывающимся в истерику голосом:
– Скажи, что сделать с тобой! Скажи внятно, грубо, непристойно, чтоб стало стыдно! Скажи!
У меня перехватило дыхание. Я ждал, глядя на нее во все глаза, чтобы не упустить ни слова, чтобы впитать их все, выпить до капельки, упиваясь агонией, ибо страсть меня убивала. И тогда лицо Галы озарилось неземной прелестью, и я понял, что она меня не простит и не пощадит – она скажет. Вырвавшись на простор безумия, страсть моя бушевала. Я понял, что времени мне отпущено ровно на одну фразу, и вскричал, тиранствуя и издеваясь:
– Что мне с тобой сделать?
И Гала… приказала:
– Прикончи меня!
Сомнений быть не могло: она сказала именно то, что сказала. И осведомилась:
– Сможешь?
Я был ошеломлен, растерян, подавлен. Вместо приказа любить, которого я ждал и страшился, затягивая отсрочку, я услышал совсем другое – как дар Гала возвращала мне мою страшную тайну.
– Сможешь? – снова спросила она.
И в голосе ее зазвенело презрение – она усомнилась во мне. Из гордости я взял себя в руки. И вдруг испугался. Гала свято верит и моему безумию, и нравственной силе, и я должен во что бы то ни стало спасти эту веру. Я вновь сжал ее в объятиях и со всею суровостью, на которую был способен, ответил:
– Да!
И впился в ее губы, а в душе у меня звучало: “Нет! Я тебя не убью!”
Исполненный притворной нежности, тот, иудин поцелуй спас ей жизнь и воскресил во мне душу».
Похоже, так было. Они не предались, как говаривали в старинных романах, бешеной страсти. Гала стала объяснять ему причину своей просьбы: ее страшит жуть последних минут, и лучшая смерть – внезапная, в минуты счастья.
Он предложил сбросить ее с колокольни собора в Толедо. Гала не согласилась: падая, она испытала бы чувство ужаса, а на Дали могло пасть подозрение в убийстве. Использовать яд он не желал, предпочитая падение в бездну…
Представьте себе: влюбленные, изнывая от жажды взаимного обладания, вдруг начинают обсуждать проблему самоубийства. Симпозиум, да и только! Не слишком ли бесхитростно понял Сальвадор слова Галы: «Прикончи меня!»? Или он в глубине души догадывался, что за этими словами скрывается – «Возьми меня!»?
Сексуально активная и раскрепощенная Гала, судя по всему, была не только возбуждена, но и доведена до отчаяния странным поведением любовника. А Сальвадор вновь, как в юности, испытав порыв страсти, а затем охлаждение, охотно перешел на обсуждение острой, но в данной ситуации нелепой темы.
Трудно сказать, была ли причиной физиологическая особенность Дали, или проявились его психические «комплексы» (одно другого не исключает, вопрос лишь в том, что первично). Несмотря на свою порой шокирующую откровенность, в данном случае Дали не дал никаких объяснений этой детально описанной сцене и оставил ее без финала. Добавил только:
«Итак, Гала отлучила меня от преступления и излечила от безумия. Благодарю! И жажду ее любить! (Жениться на ней я был просто обязан.)
Симптомы истерии исчезали один за другим, как по мановению руки. Мой смех снова покорился мне, я мог улыбнуться, мог расхохотаться и смолкнуть, когда захочу. Сильный и свежий росток здоровья пробился в моей душе.
Поезд отошел от перрона фигерасского вокзала, увозя Галу в Париж, и я, потирая руки, воскликнул: “Вот оно, вожделенное одиночество!”
Только теперь мое одиночество и стало одиночеством в полном смысле слова, и я полюбил его еще сильнее. Я заперся у себя в мастерской в Фигерасе и не выходил целый месяц. Продолжилась привычная мне монашеская жизнь. Я быстро закончил живописный портрет Поля Элюара, начатый летом, и два больших полотна; одному из них предстояло стать знаменитым.
На нем изображена огромная, желтая, словно воск, голова: мясистая щека, длинные ресницы, нос касается земли. Рта на лице нет – вместо него прилепился громадный дохлый кузнечик. Брюшко его разлагается со страшной силой – кишит муравьями. Муравьи лезут и туда, где полагается быть губам, расползаются по лицу. Оно печально. Архитектурные детали начала века довершают картину. Называется она “Великий рукоблуд”».
Завершив свои картины, он уехал в Париж, где в галерее Гоэманса открылась 20 ноября выставка его работ, продолжавшаяся две недели. Прибыв в столицу Франции, он приобрел букет роз для Галы и отправил на ее адрес. В галерее встретил Поля Элюара и узнал от него, что Гала крайне изумлена тем, что он ее не посетил.
Вечером Сальвадор ужинал у Элюаров в компании сюрреалистов. Не дождавшись открытия своей выставки, он вместе с Галой отправился «праздновать медовый месяц» (его выражение). Они провели его в Барселоне и в небольшом приморском городке, где бродили по пустынным зимним пляжам.
Весь месяц он не давал о себе знать отцу, а затем, когда Сальвадор вернулся домой, произошла та сцена «изгнания сына», свидетелем которой стал Бунюэль. Об этом событии, а также о его причинах Сальвадор предпочел умолчать.
Андре Бретон
Об Андре Бретоне (1896–1966) в воспоминаниях Дали сказано скупо. Хотя этот французский писатель, основоположник сюрреализма, оказал на художника заметное влияние и содействовал его популярности в Париже.
Предисловие к первому каталогу выставки 11 картин Дали в галерее Гоэманса написал Андре Бретон. Он же приобрел одну из этих картин – «Загадка желания».
В этом предисловии Бретон не скупился на похвалы в адрес молодого художника: «Искусство Дали, наиболее галлюцинаторное из всего, бывшего в истории, таит в себе огромный заряд, открыто нацеленный на зло». О каком зле идет речь? Ответ дает его статья того же 1929 года:
«Дали в своих последних работах присоединился к убийственным нападкам сюрреализма на ценности современного общества. Он пришел как освободитель. Возможно, что он раскрыл наши внутренние шлюзы. Творчество Дали помогает нам понять то, что скрывается за оболочкой предметов, обострить восприимчивость к подсознательному».
На следующий год он писал: «Социальная мораль, базирующаяся на индивидуальной подлости, лежит в основе весьма уязвимого феномена добровольной амнезии, согласно которой человек использует других, равно как и собственные возможности, чтобы попытаться завуалировать подлинный характер своих желаний.
Задачей 1930 года является извлечение человека из лабиринтов лжи… Диалектическая мысль, сплавленная в одно с психоанализом, названа Дали параноидально-критической мыслью. Это лучшее руководство, способное привести к свободной морали женщину-фантома с лицом цвета яри-медянки, улыбающимися глазами и тяжелыми локонами. Она станет не просто символом нашего рождения, но еще более привлекательным фантомом будущего.
От эффектных технических приемов Дали, очень важных в художественном плане, зависит сегодня успех борьбы с устаревшей моралью, которая… представляет собой мораль буржуазного общества».
Так Андре Бретон давал «путевку в жизнь» Сальвадору Дали.
Подобно многим бунтарям-интеллектулам, Бретон родился в буржуазной семье. Его отец служил в канцелярии жандармерии, затем перешел в частную контору. В средствах Андре – единственный ребенок в семье – не нуждался. Окончив коллеж в Париже, он стал студентом-медиком в Сорбонне.
Бретон участвовал в войне как санитар. На фронте познакомился с поэтом Гийомом Аполлинером, а затем Филиппом Супо, Луи Арагоном. Как соавторы Бретон и Супо в 1919 году опубликовали сочинение «Магнитные поля», написанное в стиле сюрреализма «автоматическим письмом» (теперь говорят – поток сознания).
Вокруг Бретона сформировался кружок талантливых авангардистов и бунтарей: Луи Арагон, Поль Элюар, Тристан Тцара. Они стремились шокировать почтеннейшую буржуазную публику, выказывая ей свое гневное презрение (в то же время невольно ее развлекая и потешая). Они устраивали дерзкие презентации своих работ, дебоширили на банкетах.
В 1924 году Андре Бретон опубликовал «Манифест сюрреализма». Он призвал к свободе мечтаний, исканий, воображения, безумий. По его словам, «галлюцинации, иллюзии и т. п. – это такие источники удовольствия, которыми вовсе не следует пренебрегать». «Реалистическая точка зрения… представляется мне глубоко враждебной любому интеллектуальному и нравственному порыву», – писал Бретон, предлагая сбросить «бремя логики» и признать чудесное прекрасным.
Казалось бы, в таком случае наиболее прямой и проторенный с древности путь – в религию, где вера в чудо поставлена выше реальности, господствует высший авторитет и признаны священными принципы нравственности. Скажем, горний мир христианства именно «над реальностью», выше ее даже пространственно: над землей – в небесах.
Однако для подлинного сюрреалиста религия не более чем «опиум для народа», говоря словами Маркса. Но где же тогда искать нечто чудесное, необычайное, прекрасное и в то же время освобожденное от постылой реальности?
Бретон обратился к источникам, которые счел последним словом психологической науки, – разработке концепции бессознательного. В начале XX века именно наука произвела революционный переворот в сознании интеллектуалов, не имеющих к ней непосредственного отношения. Самые яркие труды, выводящие знания на новый уровень, появились значительно раньше: геометрия Лобачевского, теории Дарвина и Маркса, периодическая система элементов Менделеева, электромагнитная теория Максвелла, а также концепция бессознательного в трудах философов и некоторых психологов.
Для сюрреалистов подобные «тонкости» не имели значения. Они выбирали для себя нашумевшие, ставшие популярными в их кругах упрощенные идеи теории относительности Эйнштейна и теории бессознательного Фрейда. Андре Бретон писал в своем манифесте:
«Обратившись к исследованию сновидений, Фрейд имел на то веские основания… Совершенно недопустимо, что эта весьма важная сторона нашей психической деятельности (важная хотя бы потому, что от рождения человека и до самой его смерти мысль не обнаруживает никакой прерывности… совокупность моментов грезы – даже если рассматривать одну только чистую грезу, то есть сновидения, – ничуть не меньше совокупности… моментов бодрствования) все еще привлекает так мало внимания. Меня всегда поражало, сколь различную роль и значение придает обычный наблюдатель событиям, случившимся с ним в состоянии бодрствования, и событиям, пережитым во сне… Сон, подобно самой ночи, оказывается как бы заключенным в скобки. И не более, чем она, способен давать советы. Столь своеобразное положение вещей наводит меня на некоторые размышления.
Судя по всему, сон… несет следы внутренней упорядоченности. Одна только память присваивает себе право делать в нем купюры, не считаясь с переходами и превращая единый сон в совокупность отдельных сновидений. Точно так же и реальность в каждый данный момент членится в нашем сознании на отдельные образы, координация которых между собой подлежит компетенции воли… Когда же придет время логиков и философов-сновидцев?.. Почему бы мне не положиться на указания сна в большей степени, нежели на сознание, уровень которого возрастает в нас с каждым днем? Не может ли и сон также послужить решению коренных проблем жизни? Ведь в обоих случаях это одни и те же проблемы, и разве они не содержатся уже в самом сне? Разве сон менее чреват последствиями, нежели все остальное?..
…Разум едва решается подать голос, а если и решается, то лишь затем, чтобы сообщить, что такая-то идея или такая-то женщина произвели на него впечатление. Какое именно впечатление – этого он сказать не в состоянии, показывая тем самым лишь меру своей субъективности – и ничего более… Кто сможет убедить меня, что тот аспект, в котором является разуму волнующая его идея, или выражение глаз, которое нравится ему у женщины, не является именно тем, что связывает разум с его собственными снами, приковывает его к переживаниям, которые он утратил по своей же вине? А если бы все оказалось иначе, перед ним, быть может, открылись бы безграничные возможности. Я хотел бы дать ему ключ от этой двери.
…Сознание спящего человека полностью удовлетворяется происходящим во сне… Убивай, кради сколько хочешь, люби в свое удовольствие. И даже если ты умрешь, то разве не с уверенностью, что восстанешь из царства мертвых? Отдайся течению событий, они не выносят, чтобы ты им противился…
И я спрашиваю, что же это за разум (разум неизмеримо более богатый, нежели разум бодрствующего человека), который придает сну его естественную поступь, заставляет меня совершенно спокойно воспринимать множество эпизодов, необычность которых, несомненно, потрясла бы меня, доведись им случиться в тот момент, когда я пишу эти строки…
Я верю, что в будущем сон и реальность – эти два столь различных, по видимости, состояния – сольются в некую абсолютную реальность, в сюрреальность… Рассказывают, что каждый день, перед тем как лечь спать, Сен-Поль Ру вывешивал на дверях своего дома в Камаре табличку, на которой можно было прочесть: ПОЭТ РАБОТАЕТ».
Бретон так определил сюрреализм: «Чистый психический автоматизм, имеющий целью выяснить, или устно, или письменно, или любым другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений».
На первый взгляд эти соображения не лишены здравого смысла, хотя имеют в виду избавление от гнета рассудка и освобождение бессознательного – огромной области в духовной сфере, где скрыты, словно в глухих тайниках подземелий, мимолетные впечатления, забытые мысли, подавленные эмоции, вожделения…
Однако, если задуматься над словами Бретона, возникают серьезные сомнения. Сновидение – это тоже реальность, но мнимая. В отличие от действительной реальности, она абсолютно субъективна, принадлежит только сновидцу. А произведение искусства обращено не к самому себе, а к другим. Оно должно быть ими прочувствовано и желательно понято.
Во сне поэт, художник или кто угодно может работать только в себе самом и для самого себя. Чтобы воплотить мнимую реальность сновидений в реальность действительную (в которой мы действуем телесно, а не только мысленно), требуется воплотить свои образы в определенные материальные формы. Можно ли это сделать вне бодрствующего сознания? Ведь творец – не сомнамбула.
Немало деятелей искусства и литературы пользовалось и пользуется заменителями естественного сна, одурманивая рассудок наркотиками, алкоголем. Бретон предлагал свой рецепт сюрреалистического сочинения: надо уединиться, расслабиться, отвлечься от окружающей обстановки и начать писать без намеченной темы, быстро и не задумываясь. Это напоминает самогипноз. Вопрос лишь в том, насколько полно и творчески проявляется в таком состоянии бессознательное. Возможно, оно тут и вовсе не присутствует.
В манифесте Андре Бретона много от концепций психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. В некоторых статьях на эту же тему он ссылался на достижения техники, идеи философов и ученых: Канта, Пастера, Кюри. Он устраивал в разных странах выставки сюрреалистического искусства, пропагандировал это художественное направление. В США подобные зрелища проходили с большим успехом. По мнению ряда искусствоведов, так начинались поп-арт, инсталляции.
По твердому убеждению Бретона, сюрреализм – не просто одно из направлений в искусстве, литературе, но и определенный образ жизни, нравственная позиция. Он активно участвовал в общественной жизни, призывал сюрреалистов вступать в коммунистическую партию.
В Западной Европе пользовались популярностью статьи и книги Льва Троцкого, глашатая мировой революции, высланного в 1929 году из Советской России за границу. Наиболее буйные революционеры были на его стороне и разделяли его нападки на Сталина за отказ от разжигания мирового пожара и строительство социализма в отдельно взятой стране (некоторые теоретики марксизма считали такое предприятие невозможным).
Бретону довелось встретиться и беседовать со Львом Троцким. Луис Бунюэль вспоминал: «Бретон умел обращать внимание на неожиданные детали. Как-то мы встретились с ним после его визита к Троцкому в Мексике, и я спросил его мнение об этом человеке.
– У Троцкого, – ответил он, – есть любимая собака. Однажды она сидела рядом с ним и смотрела на него. “Не правда ли, у собаки человеческий взгляд?” – сказал он. Вы отдаете себе отчет? Как мог такой человек сказать подобную глупость? У собаки не может быть человеческого взгляда! У собаки – собачий взгляд!
Рассказывая об этом, он был в ярости. Однажды Бретон выскочил на улицу и стал пинать ногами переносную тележку бродячего продавца Библий».
К религиозным верованиям, нередко переходящим в мракобесие, Бретон относился нетерпимо. Он был убежденным атеистом, ненавидевшим лицемерие, ханжество и трусость. По словам Бунюэля, «Андре Бретон был отлично воспитанным, несколько церемонным человеком, целовавшим дамам руки. Обожавший тонкий юмор, он презирал пошлые шутки и умел сохранить в нужный момент серьезность…
Его спокойствие, красота, элегантность – как и умение вынести верное суждение – не исключали вспышек внезапного и страшного гнева. Меня он так часто упрекал за то, что я не хочу познакомить сюрреалистов со своей невестой Жанной, обвиняя в ревности, свойственной испанцу, что мне пришлось согласиться принять его приглашение на обед вместе с ней.
На том же обеде оказались Магритт с женой. По непонятной причине Бретон сидел, уткнувшись в тарелку, нахмурив брови, и отвечал односложно. Мы ничего не могли понять, как вдруг, указав на золотой крестик на шее жены Магритта, он высокомерно заявил, что это недопустимая провокация и что она могла бы в данном случае надеть что-то другое. Магритт вступился за жену, началась перепалка, которая затем стихла. Магритт и его жена делали усилие, чтобы не уйти до конца вечера. Но их отношения с Бретоном стали более прохладными».
Таков был глава сюрреалистов.
По словам Сальвадора Дали, это движение ему нравилось. Бретона он считал достойным лидером, но тем не менее сам хотел стать во главе сюрреалистов, начав ради этого действовать «тайно, непредсказуемо и непоследовательно, с показной покорностью».
Если так было на самом деле, значит, в 1927–1929 годах он признавал в полной мере принципы этого движения и готов был его возглавить. Хотя в мемуарах, написанных в более поздние годы, он мог на свой лад объяснять причину конфликта с Бретоном. Вроде бы в результате борьбы за власть.
Трудно в это поверить: Сальвадор никогда не тяготел к общественной деятельности. О том, как все происходило, мы поговорим чуть позже. А пока примем к сведению: Дали примкнул к сюрреалистам, не только разделяя программу этого движения, но и желая быть одним из лидеров. Следовательно, он был – тогда! – убежденным атеистом и революционером.
Позже он утверждал: «Бретон, хоть и проповедовал безумие и свободу, был самый настоящий резонер и буржуа». И еще: «Бретон искал золото, а я – нашел». Наконец: «Я лажу со всеми, покамест мне не дадут пинка в зад. Бретон выкинул меня из сюрреализма – с тех пор мы с ним, естественно, не ладим».
Вот в чем, пожалуй, главная причина умолчаний или нелестных отзывов Дали о Бретоне. А получил Сальвадор «пинок в зад» от Андре не в борьбе за лидерство в движении сюрреалистов, а совсем по другой причине.
Не прошло и десяти лет после первых восторженных отзывов Бретона на творчество Сальвадора Дали, как последовало нечто совсем иное:
«Звезда Дали стремительно падает. По-другому и быть не может, если принять во внимание, что для Сальвадора самым главным было желание нравиться публике. Это вызвало у него необходимость без конца выдумывать все новые и новые парадоксы, затмевающие друг друга. В феврале 1939 г. Дали публично признал, что все несчастья современного мира имеют расовые корни и что решение, которое необходимо в первую очередь принять, состоит в том, чтобы совместными усилиями всех народов белой расы обратить в рабство все цветные народы. Это я узнал от него самого, и мне понадобилось время, чтобы убедиться в том, что в этом призыве не было ни доли юмора…
Вот уже и глубокая подлинная монотонность подстерегает его творчество. Наблюдая его параноидальный метод, мы видим, что он начинает увлекаться играми, напоминающими составление кроссвордов».
Тут Бретон недооценил возможности Сальвадора Дали как художника, способного к обновлению своей творческой манеры. Более важно другое: Дали отступил от одних из фундаментальных принципов сюрреализма, которые провозглашал Бретон.
Во время Второй мировой войны Андре Бретон, не желая мириться с захватом Франции гитлеровцами, эмигрировал в США. Здесь продолжал литературное творчество, немало критиковал резко изменившего свое поведение Сальвадора Дали.
Луис Бунюэль вспоминал: «Во время войны я встречал довольно часто Бретона в Нью-Йорке, а после окончания войны – в Париже. Мы остались друзьями до конца. Несмотря на все мои премии на международных фестивалях, он никогда не предавал меня анафеме…
Году в 1955-м мы встретились с ним в Париже, оба направляясь к Ионеско, но так как у нас было в запасе время, мы зашли выпить. Я спросил его, почему Макс Эрнст, по заслугам премированный на Биеннале в Венеции, был исключен из группы.
– Ну как вам сказать, дорогой друг, – ответил он. – Мы ведь расстались с Дали, когда он превратился в жалкого торгаша. С Максом случилось то же самое.
Помолчав, он добавил, и я увидел на его лице выражение истинного огорчения:
– Как ни печально, дорогой Луис, но скандалы ныне невозможны».
Пожалуй, отлучение художника Макса Эрнста, одного из первых сюрреалистов, было несправедливым. А то, что скандалы стали невозможны, – печать нового времени. Ведь прежде шла борьба мнений в искусстве и нравственности во имя свободы и справедливости. Но это уже перестало будоражить общественное мнение.
Почему так произошло? Окончательную победу одержали электронные средства массовой рекламы, агитации, пропаганды (сокращенно – СМРАП). В странах буржуазной демократии они стали мощным средством деформации духовной сферы личности. Это, в свою очередь, было и остается проявлением объективного процесса: формирование искусственной среды обитания современного человека, где господствует техника.
Свершилось то, что горласто приветствовали футуристы: машины и механизмы обрели демоническую власть не только над земной природой, но и над духовным миром человека. Не столько техника стала служить человеку, сколько он – технике. Примерно 95–99 % материалов и энергии тратится на технику, чтобы 1–5 % пошло на непосредственные нужды людей. Формируется тип личности, ориентированной на максимальное потребление материальных ценностей, комфорт и предельное приспособление к окружающей техногенной среде. Духовная культура, включающая искусство, философию, религию, науку, отошла на задний план.
Бретон и Бунюэль в середине прошлого века (Дали еще раньше) во многом умерили свой революционный и отчасти анархический пыл. Им приходилось жить и работать в богатых буржуазных странах; говоря по Джеку Лондону – под «железной пятой» капитализма. В отличие от довоенного времени, теперь их протесты, даже столь же дерзкие, как прежде, звучали бы гласом вопиющего в пустыне – без надежды на отклик.
Им приходилось лишь вспоминать о бунтарских выступлениях в свои молодые годы. О Бретоне Сальвадор Дали писал: «Нас познакомил Миро в 1928 году, в мой второй приезд в Париж. С первой минуты я стал почитать Бретона как отца. Мне казалось, что я заново родился. Сюрреалисты питали меня, как питает младенца плацента. Сюрреализм был откровением, дарованным мне, как Моисею – скрижали. Я жадно поглощал как дух, так и букву сюрреализма и все не мог насытиться, ибо сюрреализм отвечал моему природному складу, моей внутренней сути. Тем абсурднее выглядело это судилище – ведь я был среди них единственным настоящим сюрреалистом, в чем меня, по сути дела, и обвиняли… Старая история, старая, как вера».
Дали почитал Бретона как отца родного? Вполне возможно. Но как поступил Сальвадор со своим отцом? Разве не было предательством памяти матери, а значит, оскорблением отца то, что написал сын на картине «Священное сердце», выставленной на всеобщее обозрение? Напомню: «Иногда ради удовольствия я плюю на портрет своей матери».
Да, можно отчасти оправдать его поступок проявлением фрейдистского комплекса Эдипа. Тогда у него была возможность в своих мемуарах покаяться и представить этот плевок «ради удовольствия» как затмение ума, результат гипнотического влияния психоанализа… По части всяческих оправданий – правдами и неправдами – он был большой умелец. А тут – уклонился от объяснений. Почему?
По-видимому, была какая-то причина, о которой он предпочел умолчать. Какая?
Надпись эта была нанесена по завершении картины, после судьбоносного объяснения с Галой, вызвавшего у него восторг и подъем творческой энергии. Неизвестно, какими интимными мыслями они тогда обменялись. Возможно, обсуждалось и странное поведение Сальвадора с женщинами, которое – согласно одной из догм психоанализа – объяснимо страстной подсознательной любовью к матери. Вот он и решил избавиться от этого детского наваждения.
И все-таки эту надпись художник сделал на картине, предназначенной для посторонних глаз, а не на какой-то другой, оставленной для себя. Он мог бы ограничиться записью в дневнике. Наконец, в духе сюрреализма несложно было зашифровать «заклятье» от любви к матери. Сальвадор не стал прибегать к ухищрениям, которые были вполне в его духе.
Наиболее правдоподобное объяснение: он сознательно поступил именно так, а не иначе. Он захотел шокировать публику, возбудить у нее интерес к художнику, позволившему себе такие откровения.
Сказалось ли в этом влияние Галы, узнать невозможно. Единственно, что известно и подчеркнуто им самим: после первой близости с ней он значительно изменился. Счел себя более свободным, избавился от некоторых своих сексуальных страхов. Но стал он и значительно развязней, свободней от стыда и совести.
Ради скандальной рекламы, ради успеха у публики он предал память своей матери. Успех и слава – превыше всего! Таким стал его негласный девиз. Это было одной из причин его разрыва с Бретоном. И другая – политическая, о которой Сальвадор предпочел говорить обиняками и не вполне искренне.
«Сюрреализм – это я!»
Так гордо заявил Сальвадор Дали, словно забыв, что это не соответствует действительности. Можно согласиться с ним только в одном: прославлены его работы именно сюрреалистического направления. Но открыл он это направление для себя уже тогда, когда оно существовало. Прежде он прошел путь, более или менее точно повторивший смену направлений в искусстве конца XIX – начала XX века.
Достойным предшественником Дали как сюрреалиста в живописи – если отвлечься от Иеронима Босха и некоторых других старых мастеров – были швейцарец символист Арнольд Бёклин (1827–1901) и итальянец сюрреалист Джорджо Де Кирико (1888–1978). По вполне объяснимой забывчивости Сальвадор Дали упоминал о них чрезвычайно редко.
Среди сновидческих образов Де Кирико «Великий метафизик» (1925) предшествует «Великому Мастурбатору» Дали, а «Блудный сын» (1922) словно пророчит судьбу Сальвадора, встреченного, а затем изгнанного отцом (на картине Де Кирико возвращающийся сын – нечто искусственное, сотворенное модерном).
Однажды, уже в зрелые годы, находясь в депрессии, Сальвадор в сердцах сказал Гале: «Мне все равно не превзойти Бёклина!»
Говоря о вдохновителях сюрреалистов, необходимо упомянуть французского поэта Изидора Дюкаса (1846–1870) писавшего под именем граф Лотреамон. Его романтическая поэма «Песни Мальдорора» стала своеобразным священным писанием авангардистов. Сальвадор Дали любил повторять его высказывание: «Красота – это случайная встреча швейной машинки и зонтика на анатомическом столе». Подобное соединение несопоставимого стало любимым приемом сюрреалистов, который Сальвадор Дали стал выдавать за свой «параноидально-критический метод».
Английский искусствовед Мэри Холлингсворт в фундаментальной монографии «Искусство в истории человека» пишет:
«Под влиянием идей Андре Бретона внутри группы парижских дадаистов позднее сформировалось новое художественное течение – сюрреализм. Более склонные к формализму и теоретизированию откровенно левого толка, менее анархичные, чем дадаисты, сюрреалисты предполагали вести более систематическую атаку на ценности буржуазного общества… Сюрреалистическое искусство вписывается в линию общей фантастической традиции – от средневековых изображений Ада… стремясь соединить сон и реальность в более широком “сюрреальном” пространстве, и с этой целью охотно прибегает к тревожным, пугающим, даже отталкивающим изображениям. На выставке сюрреалистов в 1936 г. посетителей встречали записью истерического смеха пациентов психиатрической клиники. В картинах Сальвадора Дали нередки эротические образы, от мастурбации до оргазма, или аллюзивные фигуры, вроде священного мантисса, разновидности насекомого, самка которого в момент спаривания пожирает самца».
Возможно, именно Сальвадору Дали в наибольшей степени удалось выразить в своих творениях фантасмагории снов, сочетание видений, порой бредовых, и реальности. Он писал:
«Засыпая, я не просто сворачиваюсь клубком – это целая пантомима, череда определенных поз, потягиваний и подергиваний; это сокровенный танец, священнодействие, предваряющее нирвану сна.
Для меня очевидно, что цель у нашего воображения одна – посредством символов воссоздать картину того утраченного рая и тем смягчить ужасную травму, отнявшую у нас лучшее из убежищ. При родах ужасающая реальность нового мира обрушивается на нас всей удушающей тяжестью и ослепляет яростной световой вспышкой. Этот миг навеки оттиснут в душе неистребимой печатью оцепенелой саднящей тоски. И по всей видимости, причиной тяги к смерти довольно часто оказывается желание возвратиться туда, откуда мы появились, и вновь обрести утраченное райское блаженство.
Но не только в смерти, а и во сне – метафоре смерти – человек обретает иллюзию искомого рая. В моем воображении сон часто предстает чудовищем с огромной тяжелой головой, удержать которую слабое, едва намеченное тело не в состоянии. И потому голову держат подпорки, костыли – это они не дают нам во сне упасть. Но стоит подпорке шелохнуться, и падение неизбежно. Я нисколько не сомневаюсь, что моим читателям знакомо это падение в пропасть, одно из самых сильных ощущений. Все мы испытали его, погружаясь в сон – “как провалился!” – или вдруг пробуждаясь в ужасе, когда сердце, кажется, готово выскочить из груди. Полагаю, что так дает о себе знать память о рождении – тот же обрыв, то же падение в пропасть.
Теперь благодаря Фрейду мы знаем, как важны и эротически значимы символы, связанные с полетами».
«Манифест» Андре Бретона призывал освободить подсознание из тесных и холодных казематов рассудка. Тем не менее это объемистое и основательное сочинение проникнуто логически выверенными суждениями, весьма рассудочно и порой переходит в нечто подобное методическим указаниям. Так проявляется парадокс любых теорий иррационального: чтобы они были поняты и приняты, требуется четкая рациональность.
Сальвадор Дали и Луис Бунюэль примкнули к группе, возглавляемой Бретоном, после того, как из нее вышли, ссылаясь на авторитарность лидера, ее «ветераны» – Филипп Супо, Роже Витрак, Жорж Батай.
Сюрреализм становился знамением времени. Он был порожден не столько разумом Бретона, сколько бурным брожением культуры – предвестником Второй мировой войны. Еще в 1916 году тот же А. Бретон, а также М. Эрнст, Т. Тцара, Ж. Арп и некоторые другие составили группу под нелепым названием «дадаисты». Это был своеобразный интернационал писателей и художников, организованный в Швейцарии. Слово «дада» если имело какой-то смысл, то лишь как детский лепет.
Дадаисты были, по сути дела, крайними анархистами в искусстве и литературе, отрицавшие существующий общественный порядок, правила приличия и традиции. Бессмысленность бытия они старались выражать всяческой бессмыслицей. Столь нелепое бунтарство вполне соответствовало названию этого течения. Оно быстро превратилось в застойное болото, породив во Франции сюрреализм, а в Германии экспрессионизм.
В ряде стран возникли группы сюрреалистов, издавались журналы, сочинения, а картины художников этого направления обрели успех у богатой публики. Сами того не желая, сюрреалисты оказались востребованными именно буржуазией, против идеологии которой они восставали.
Этот парадокс объяснить нетрудно. Экстравагантные выходки сюрреалистов (так же как многих других авангардистов) можно назвать бурей в стакане воды, в ведре красок или в чернильнице. Они выражают свое недовольство существующими порядками? Ну а кто будет им возражать? Сторонники капитализма и буржуазной демократии любят повторять слова Уинстона Черчилля: мол, данное общественное устройство имеет массу недостатков, но, к сожалению, ничего лучшего человечество не придумало.
В действительности человечество придумало, а отчасти и осуществило немало общественных форм, значительно превосходящих ту, за которую ратовал Черчилль, а также всяческие олигархи, банкиры, их служащие и слуги. Но противостоять имущим власть и капиталы, заставить их поступиться своими благами во имя свободы, справедливости, чести, совести, взаимной помощи – задача чрезвычайно трудная. Они ориентированы на свое господство и поступиться этим не желают ни при каких условиях, вплоть до военных действий, террора, физического и морального (с помощью СМРАП) подавления противников.
Почему же эти субъекты легко мирились с той формой протеста, которую избрали кубисты, дадаисты, футуристы, экспрессионисты, абстракционисты, сюрреалисты и прочие авангардисты? Почему издавали их труды, выставляли и продавали картины? Даже допускали – хотя бы отчасти – критику церкви и мирились с симпатией многих авангардистов к атеистам и коммунистам.
В чем же дело? Именно в том, что никакого дела, предполагающего свержение несправедливого общественного устройства, авангардисты в своем творчестве не предлагали. Их революционный порыв выражался в формальных ухищрениях. А это лишь развлекало буржуа, добавляло перец, соль и кислинку в их избыточно сладкую и жирную духовную пищу.
Своими первыми картинами, выставленными в Париже, Дали шокировал некоторых сюрреалистов – из тех, кто не вполне разделял теоретические идеи и политический курс Андре Бретона. Так, в конце 1929 года Жорж Батай не изъявил восторга от «Мрачной игры» (или «Игры втемную») Сальвадора Дали.
В этой картине присутствуют многие образы, которые он в дальнейшем будет использовать во многих своих картинах данного периода: гигантская рука, огромный кузнечик, вцепившийся в сомкнутые губы пластичной головы автора, символы пола и кастрации, а также стыда и раскаяния, онанистические и скатологические (связанные с экскрементами) фантазии. Все это выглядит как фантасмагория на темы фрейдизма.
Жорж Батай писал: «Чтобы измерить всю бездну зла, достаточно представить себе маленькую девочку с прекрасными внешними данными, но чья душа была бы мерзким и гнусным отражением идей Дали».
Вообще-то идеи эти принадлежали изначально не Дали, а окружающей буржуазной среде. Здесь немало слюнявых охотников до девочек с прекрасными внешними данными; а чтобы заполучить вожделенную добычу, требуется внедрить юным созданиям обоего пола мерзости и гнусности, которыми щедро потчевал почтеннейшую публику Сальвадор Дали.
По словам Жоржа Батая, «постепенно проявляются противоречивые свидетельства рабства и бунта… Как, кстати, не восхищаться потерей воли, безмозглыми поступками, шаткой неуверенностью, постоянными колебаниями от дозволенной невнимательности к вниманию? Правда, здесь я говорю о том, что уже поросло мхом забвения, когда бритвы Дали вызывали гримасы ужаса на наших лицах. Не исключено, что они вызвали и рвотное состояние, сходное с тем, что ощущают пьянчужки, превратившие рабское благородство в идиотский идеализм. Все это напоминает издевательство надсмотрщиков над каторжниками и оставляет весьма свое образное впечатление».
Центральная композиция «Игры втемную» («Мрачная игра») показана в виде стилизованной головы осла, возможно, символа животной сексуальности. Здесь же – голова автора с закрытыми глазами, сомкнутыми губами, к которым прицепился огромный кузнечик, и странной кроликоптицы, вылезающей из скулы. Над ней витают эротические фантазии: какие-то пухляки, мужские и женские половые органы, анальное отверстие, лицо бородатого мужчины, напоминающего Фрейда, с влагалищем вместо губ.
Тут же большие и малые шляпы (фрейдистские символы фаллосов), безмятежное лицо женщины, округлые груди, пятна крови, а среди всего этого – священный церковный сосуд и облатка.
Слева на постаменте изваяние мужчины с огромной протянутой ладонью, закрывшего от стыда лицо рукой, в то время как некто другой сжимает его половые органы (символика онанизма?). Внизу – свирепый лев, обнаживший пасть, как олицетворенная страсть.
На переднем плане мужчина с идиотской улыбкой, держащий в одной руке тонкую ткань, а в другой – окровавленный кусок мяса (оскопление?). У него трусы запачканы нечистотами… Экскременты тут вообще в избытке в разных формах. По-видимому, это свидетельствует о пристальном внимании художника к своим естественным отправлениям.
По мнению Аны Дали, «ощущение кошмара… запечатлено на картине Сальвадора “Мрачные игры”, наиболее характерной для новой манеры. С этой работы – поворотного пункта – начинается другой Дали».
Другой ли? Откуда бы взялись у него подобные образы, если не из собственного воображения? Получился духовный автопортрет. Художник показал то, что другие предпочитают скрывать даже от самих себя. Недаром он говорил, что вложил в эту картину «тело и душу».
Его сестра была уверена: так проявилось пагубное влияние сюрреалистов. «Странные, злые на весь мир люди!» По ее словам, их обуревала жажда разрушения. «Возможно, брат надеялся, что этот новый путь разрешит все его сомнения и утолит душевную неуспокоенность. Но нет, напротив, с той поры он лишился душевной и духовной гармонии, столь очевидной в его ранних работах. Картины его переменились. Они стали похожи на кошмарные видения. В них появились персонажи, казалось вышедшие из бредовых галлюцинаций: истерзанные, претерпевшие чудовищные пытки, они словно силились объяснить непостижимую ужасную истину, но лишь бередили душу».
Наивно полагать, будто злые сюрреалисты совратили милого и впечатлительного Сальвадора с пути истинного. Чего-чего, а творческой свободы ему было не занимать. Да и начались его бредовые фантазии раньше, чем была создана «Мрачная игра». Достаточно вспомнить «Мед слаще крови» (1925–1927), где есть расчлененное женское тело, разложившийся труп осла, огромная голова с раскрытой черепной коробкой. В работе «Мелкие останки» (1927–1928) представлены расчлененные тела, отсеченные головы, символы половых органов, пятна и потоки крови, разлагающаяся падаль…
Сальвадор Дали в поисках стиля, образов и тем для своих произведений сознательно избрал сюрреализм. Таким было его решение. Именно ему было суждено скандально прославить это течение и самого себя, став наиболее ярким и талантливым его представителем.
Политические маневры
Позже он постарался разъяснить свою позицию как возвышение над политикой во имя искусства: «Политика, как рак, разъедает поэзию. Я своими глазами видел, как многих из моих друзей затягивал политический водоворот и они теряли лицо и губили свои души. По мне же, политика, экономика и все такое прочее – вещи смехотворные, никчемушные, а главное – насквозь лживые… Это капканы, расставленные на художника, силки, из которых не выпутаться тому, кого ведет чувство, а ведь именно такие люди всегда норовят стать на защиту дела, которое им неподвластно, но разрешимо естественным ходом вещей.
Поэзия и искусство – вот две великие жертвы исторического процесса. Отстраниться – таково было мое решение, таков был мой способ самозащиты, вне всякого сомнения, действенный. Таков был долг чести – к нему меня обязывало теплившееся в глубинах моего существа пламя поэзии, редкий и хрупкий дар. Защита собственной личности казалась мне безотлагательной, важной и насущной задачей, никак не менее важной, чем защита интересов пролетариата».
Хочется спросить: а не связана ли защита собственной личности с защитой личной собственности? И насколько допустимо сопоставлять свои собственные интересы с интересами класса пролетариев?
Это ведь распространенная политика: делать вид, что остаешься вне политики. Дали так ее обосновал: «Если художнику не удастся создать новый уклад жизни, основанный на свободе и благе, новый рисунок жизни, что толку в победе пролетариата? То будет механизированный муравейник, несметное множество не отличимых друг от друга песчинок. Ни одна из идеологий (а все они двусмысленны) не может похвалиться тем, что заполучила Дали. Ни одна!»
Художник лукавил. Одной идеологии он теперь окончательно присягнул на верность не словом, а делом: отрекся от социалистических и коммунистических убеждений, определив это как отказ от политики. Тем самым стал на сторону идеологии, господствующей в обществе. Ее основы: индивидуализм вместо братства, конкуренция вместо взаимопомощи, подчинение имущим власть и капиталы вместо свободы.
Таков подлинный муравейник с одной механической целью: получить максимальный доход, а с ним и все блага для себя – за счет других.
Казалось бы, к таким талантливым и работящим людям, как Сальвадор Дали, это не относится. Ведь он добивался успеха благодаря своему творчеству. Разве не так?
Нет, не совсем. Прежде чем он стал профессиональным художником, на него был затрачен немалый капитал – из отеческого кармана. И еще. Каждый из нас существует за счет не просто общества, а конкретно тех, кто снабжает его пищей, водой, одеждой, жильем, транспортом, орудиями труда, электричеством… Эти конкретные люди работают ежедневно, врубаются в забой, возводят дома и другие сооружения, ищут и находят полезные ископаемые, добывают нефть и газ, выращивают хлеб, производят всю необходимую нам продукцию, изучают природу, создают новую технику…
Трудящиеся, специалисты – основа и опора человеческого общества. Им каждый из нас обязан своим существованием. Но таким людям, каким стал к 1941 году (когда он это писал) Сальвадор Дали, пролетарии представлялись безликой массой, в отличие от «элиты», избранных, к которым он, по собственному признанию, питал слабость, робея перед ними.
Говорят, огромная масса трудящихся беспомощна, если ею не управлять. А для этого необходимы правители, банкиры, торговцы, служащие. Однако эта постоянно растущая орда сидит, как прежде говорили, на шее трудящихся. Банкир питается не деньгами. Он и недели не проживет без пищи. А трудящийся без его капитала живет, работает и производит реальные, а не мнимые ценности… Если в обществе ценится именно труд и профессиональные качества, а не деньги, капитал и власть.
Самые богатые – вовсе не самые умные и талантливые, не самые честные и благородные люди. Как бы не наоборот! Когда в их руках находятся рычаги власти (такова суть капитализма), то всеми благами пользуются прежде всего и в гигантских масштабах они, а не трудящиеся.
«В ходе революции, – писал в 1930 году видный испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, – буржуазия отобрала власть и, приложив к ней умелые руки, на протяжении одного поколения создала по-настоящему сильное государство, которое с революциями покончило… В наши дни государство стало чудовищной машиной немыслимых возможностей, которая действует фантастически точно и оперативно… Достаточно нажатия кнопки, чтобы гигантские рычаги молниеносно обработали каждую пядь социального тела».
И еще: «Цивилизация позволила среднему человеку утвердиться в избыточном мире, воспринятом как изобилие благ, но не забот. Он очутился среди сказочных машин, чудодейственных лекарств, услужливых правительств, уютных гражданских прав. А вот задуматься над тем, как шатко само устройство общества и государства, он не успел и, не заботясь о трудностях, почти не ощущает обязанностей».
Такой чудовищный государственный механизм соответствует веку техники. Действует он в буржуазном обществе на благо техники и тех, кто обслуживает главные рычаги и кнопки, – имущих власть и капиталы.
Когда был создан и окреп, добившись небывалых успехов в труде и культуре, Советский Союз, начал меняться и капитализм. Элементы социализма, включая плановую систему хозяйства и социальные льготы, в той или иной степени освоили наиболее развитые буржуазные страны.
До Второй мировой войны, когда свершилось идейное перерождение Сальвадора Дали, деятели культуры Западной Европы вынуждены были определять свои политические взгляды.
Фашизм в Италии и Германии доказал свою мощь. Когда были сорваны премьерные показы «Золотого века», Дали убедился, на чьей стороне сила. А перед силой, так же как перед знатностью и богатством, он благоговел. Адольф Гитлер и его победоносные идеи, стремительный подъем с нижних слоев общества к вершине власти и славы буквально заворожили Дали. Это стало главной причиной, по которой Бретон устроил ему общественное судилище.
«Пятого февраля 1934 года, – вспоминал Дали, – Андре Бретон собрал у себя на улице Фонтен, 42 ареопаг сюрреалистов, дабы осудить мое поведение. Меня в тот день познабливало, болело горло, а так как я дохловат от природы, уже одна мысль о предстоящей болезни повергала меня в транс. Я был весьма встревожен. Однако согласно параноидальной логике именно мое дурное состояние обязывало меня выиграть дело. Я тепло оделся, закутался в пальто из верблюжьей шерсти, сунул в рот градусник, чтобы знать, на сколько поднялась температура, но позабыл завязать шнурки на ботинках.
Я появился, когда все уже были в сборе и ждали меня, расположившись кто на диване, кто на стуле, а кто и на полу. Накурено было до рези в глазах. Бретон в зеленом, бутылочного оттенка одеянии походил на Великого инквизитора. Расхаживая туда-сюда перед моей картиной “Гала Градива”, он незамедлительно приступил к перечню моих прегрешений. Поначалу я внимательно слушал, но разыгравшаяся лихорадка отвлекла меня, и, вполуха внемля речам генерального прокурора, я вынул термометр и посмотрел: 38 и 5. Это слишком. Врачи в таких случаях рекомендуют во что бы то ни стало сбивать температуру. И потому я снял башмаки, пальто, пиджак и свитер. Потом все же надел пиджак и пальто, чтобы не допустить переохлаждения. Чуть погодя надел башмаки. Бретон, пока я производил все эти манипуляции, испепелял меня взглядом и нервно курил.
– Дали, что вы можете сказать в свое оправдание?
Я заявил, что обвинение, выдвинутое против меня, продиктовано исключительно политическими и моральными соображениями и, следовательно, с моей, параноидальной, точки зрения, неубедительно.
Бретон метал молнии и покрывался пятнами. Надо заметить, что говорил я, не вынимая термометра изо рта, так что понять что-либо было затруднительно. В конце концов я встал на колени, заклиная их уразуметь мои доводы.
В ответ Бретон разорался.
Тогда я встал с колен, снял пальто, пиджак и второй свитер, кинул его на пол. Затем, чтобы не охладиться, снова надел пиджак и пальто. Присутствующие расхохотались.
Я обернулся к ним, заклиная понять, но мои речи были встречены взрывом хохота.
Бретон терял самообладание. Следовало, наверное, все-таки вынуть изо рта градусник, но я был слишком озабочен своим здоровьем и не вынул. Бретон, продолжив обвинительную речь, исчислил все мои грехи с первого дня жизни в Париже. И я понял, что, в сущности, мы были далеки с самого начала».
Вот и опять лукавство, умолчания и ничего – о сути конфликта, как в том случае, когда он вспоминал об изгнании из отчего дома. Он выруливает в другом направлении: «Когда Бретон рассуждал о политике, он напоминал школьного учителя, который потрясает правилами уличного движения перед стадом слонов, ломящихся в посудную лавку. Повиновение! Это слово не сходило у него с языка. Тяжелый симптом. Для художника – хуже чумы.
Я сюрреалист до мозга костей, и тем не менее мы с сюрреалистами никогда не понимали друг друга. Ни Бретон, ни Пикассо ничего не смыслили в Традиции и не имели к ней тяготения. Им нужно было попасть в яблочко, да не просто попасть, а каким-нибудь головокружительным манером. Они ценили чувство, а не восторг. Оба они, по моему разумению, духовные импотенты. Никому из них не удалось совладать с сутью, открыть новые глубины. Они всегда ценили детальки, а не ансамбль, всегда склонялись к анализу, а не к синтезу и потому отдавали предпочтение искусству дикой Африки, пренебрегая классическим искусством, которое куда сложнее постичь и труднее превзойти».
Понять Бретона можно. Еще недавно, осенью 1931 года, Дали прочел публичную лекцию «Сюрреализм на службе Революции». В ней проклял тех, кто служит «мерзким идеям отечества и семьи», назвав, между прочим, имя Ортеги-и-Гассета. Казалось бы, художнику-авангардисту следовало приветствовать приведенные выше мысли Ортеги, выступая против подавления личности безликим государственным механизмом.
Разгадка, мне кажется, в том, что философ упомянул о «самодовольном недоросле», из-за которого «человечеству грозит вырождение». «Этот тип человека, который живет, дабы делать то, что хочется. Обычное заблуждение маменькина сынка». Такой выпад Сальвадор имел все основания принять на свой счет.
И еще. Ортега заключил: «Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не придерживаться никакой… Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее – всегда в подчинении чему-то, в сознании служения и долга».
Взбеленился Дали, пожалуй, потому, что оказался, согласно мысли Ортеги, типом массового человека. По сути, это было правдой, хотя воинствующий индивидуализм Дали очевиден. Но в том-то и дело, что в буржуазном обществе массовым становится именно воинствующий самодовольный недоросль-индивидуалист!
Однако в то время Дали разделял коммунистические убеждения, на которые ориентировалась группа Бретона. В 1931 году Сальвадор написал картину «Частичная галлюцинация: шесть явлений Ленина за фортепьяно». Седовласый юноша (автор всегда считал себя преждевременным старцем) сидит перед клавиатурой, на которой каждая октава завершается портретом Ленина в сияющем ореоле. Кратко это можно представить как рождение новой гармонии – революционной и победоносной.
А два года спустя на очередной выставке в Париже он показал свою картину «Загадка Вильгельма Телля», где образ Ленина представлен в карикатурном виде. У него длинный, как галстук, козырек кепки, для которого потребовался костыль. Мощные ноги, а одна ягодица вытянута на два метра, с подпоркой в виде обрубка дерева. На ней – кусок окровавленного мяса.
Оправдываясь перед сюрреалистами, Дали объяснял, будто изобразил своего отца, желающего съесть сына. Но у этого персонажа усы и бородка, отсутствовавшие у его отца. В одном из интервью сорок лет спустя Дали откровенно признался: «Сюрреализм отнюдь не мог помешать мне обращаться с Лениным как с образом, порожденным сновидением или бредом. Ленин и Гитлер, оба необычайно меня возбуждали, но Гитлер, безусловно, сильнее».
Странный характер был у Сальвадора Дали. При всем своем эгоизме и стремлении к славе он едва ли не боготворил крупных политических деятелей, поднявшихся на вершину власти, ведущих за собой миллионы. Он ни в коей мере им не завидовал. Сильные личности оказывали на него гипнотическое воздействие.
Так складывались его отношения с отцом, а затем и с Бретоном.
Какими бы независимыми ни выставляли себя деятели культуры Западной Европы, им приходилось делать выбор между сложившимся буржуазным обществом, первой в мире социалистической державой, созданной Лениным, и стремительно набиравшим мощь фашистским движением. Сальвадор Дали пытался увильнуть от трудного выбора.
В своих воспоминаниях он представил конфликт как проявление чисто эстетических симпатий и антипатий: «Моя живопись никогда не была по душе Бретону. Конечно, он понимал, что сделанное мной значительно и интересно, но радости это ему не доставляло. Мои картины были сильнее его теорий. Он оказался в тени, стал всего-навсего искусствоведом, а не пророком. И когда я швырнул ему в лицо МОДЕРН, Бретон остолбенел. Пока он превозносил первобытную поэзию, я показал, что искусство конца века не имеет себе равных, о чем бы ни зашла речь – об эротике, бреде, тревоге или тайне. Я вновь ввел в моду прически, платья, песни и всякие мелочи той эпохи – они имели ошеломительный успех. И эта горечь жгла Бретона, хотя об этом нашем расхождении он не упомянул. Уж и не помню, на каком пункте его обвинений я скинул пятый свитер – становилось просто невмоготу.
Восстал я и против автоматического письма, доведенного до абсурдных степеней, и против записи сновидений, которые все сильнее напоминали сны выжившего из ума склеротика. Все эти правила и приемчики, вытеснения одних стереотипов другими требовали только известной ловкости рук, и ничего более. Попытки разобраться в неведомых глубинах подсознания в итоге оказались разнузданным самолюбованием.
Я сюрреалист до мозга костей, и ни цензура, ни логика мне не указ. Ни страх, ни мораль, ни общественные потрясения так и не смогли подчинить меня своим законам. Если ты сюрреалист, считайся с собой, и только с собой. Запрет над тобой не властен…
Попирая коленями кучу своих свитеров, я поклялся, что не был врагом пролетариата, что плевать я на него хотел, ибо нет и не было среди моих знакомых никого, кто носил бы сие славное имя, хотя я водил дружбу с самыми обездоленными людьми на земле – с рыбаками Кадакеса, почитавшими свою жизнь за счастье. Глядя на них, я не раз задумывался о марксистах: “Воистину не ведают они, что творят своей революцией!”
Я обратил это абсурдное судилище в истинно сюрреалистическое действо. Бретон мне этого так никогда и не простил, но урок пошел впрок – больше он не прибегал к таким санкциям, опасаясь, что ему снова испортят песню».
Был ли Дали тогда болен или играл эту роль? Был ли он искренен или притворялся? Верил ли ему Бретон и прочие члены группы, или они тоже разыгрывали представление? Насколько серьезно само по себе такое судилище?
Все это – вопросы без убедительных ответов. Дали был неплохим актером, легко входящим в разные роли. Он уже добился популярности, его картины обсуждались и неплохо раскупались. Бретон оставался теоретическим лидером движения, но, по его позднему признанию, «на протяжении трех или четырех лет Дали был воплощением сюрреалистического духа и представлял его во всем блеске».
Нельзя не заметить, что дух этот был слишком часто нечистым, а изображались дурно пахнущие испражнения. Можно горестно вздохнуть: ничего не поделаешь, такова реальность!
Да, реальность многолика и многообразна, а художник волен выбирать близкие его уму и сердцу объекты, образы, символы. Если его обуревают именно такие бредовые картины, то почему бы не показать их во всей красе или неприглядности? Примерно так рассуждал Дали:
«Человеку, этому законченному мечтателю, в котором день ото дня растет недовольство собственной судьбой, теперь уже с трудом удается обозреть предметы, которыми он вынужден пользоваться… Отныне его удел – величайшая скромность: он знает, какими женщинами обладал, в каких смешных ситуациях побывал; богатство и бедность для него – пустяк; в этом смысле он остается только что родившимся младенцем, а что касается суда совести, то я вполне допускаю, что он может обойтись и без него».
Такова его позиция или поза? Пожалуй, принципиальная позиция. Вот только богатство для Дали – не пустяк. Отныне окружающая действительность для него интересна лишь как источник благ для себя и Галы. О художнике – имея в виду себя – он пишет: «Если он сохраняет некоторую ясность взгляда, то лишь затем, чтобы оглянуться на собственное детство, которое не теряет для него очарования, как бы ни было оно искалечено заботами многочисленных дрессировщиков. Именно в детстве, в силу отсутствия всякого принуждения, перед человеком открывается возможность прожить несколько жизней одновременно, и он целиком погружается в эту иллюзию; он хочет, чтобы любая вещь давалась ему предельно легко, немедленно. Каждое утро дети просыпаются в полной безмятежности…»
Неужели так происходит со всеми детьми каждое утро? И дальше: «Им все доступно, самые скверные материальные условия кажутся превосходными».
Да, у него было так. Но у множества детей было совершенно иначе! Учтем: это он пишет в 1941 году, после гражданской войны в Испании, после захвата фашистами почти всей Западной и Центральной Европы. Он имеет в виду не свое детство, а детей вообще. Его обобщение – вне суда совести: она молчит, убаюканная славой и богатством.
Для этого есть веское оправдание: «Единственное, что еще может меня вдохновить, так это слово “свобода”. Я считаю, что оно способно безраздельно поддерживать древний людской фанатизм. Оно, бесспорно, отвечает тому единственному упованию, на которое я имею право. Следует признать, что среди множества доставшихся нам в наследство невзгод нам была предоставлена и величайшая свобода духа. Мы недостаточно ею злоупотребляем. Принудить воображение к рабству – хотя бы даже во имя того, что мы столь неточно называем счастьем, – значит уклониться от всего, что, в глубине нашего существа, причастно к идее высшей справедливости».
Что это за идея высшей справедливости? Нет ответа. Брошены веские слова, за которыми пустота. Следуют вопросы: «Однако где же та грань, за которой воображение начинает приносить вред, и где те пределы, за которыми разум более не чувствует себя в безопасности? Для разума возможность заблуждения не является ли возможностью добра?»
Опять – словеса. Всякие бывают заблуждения, и часто разум людей определенного склада служит для того, чтобы оправдывать их, а порой выдавать зло за добро. Хитроумный Дали находит выход, ссылаясь на безумие: «Я готов признать, что в какой-то мере сумасшедшие являются жертвами собственного воображения в том смысле, что именно оно побуждает их нарушать некоторые правила поведения, вне которых род человеческий чувствует себя под угрозой… Однако то полнейшее безразличие, которое эти люди выказывают к нашей критике в их адрес, позволяет предположить, что они находят величайшее утешение в собственном воображении… И действительно, галлюцинации, иллюзии и т. п. – это такие источники удовольствия, которыми вовсе не следует пренебрегать».
Нет, не напрасно он интересовался философией и психологией. Это помогло ему ловко избегать четких и честных ответов на неприятные для него вопросы. Разум стал служить ему не в поисках истины, а для сокрытия ее: не для того, чтобы избегать дурных поступков, а чтобы оправдывать их.
Дали совершил серьезный переворот в сюрреализме: отрешился от социальной и нравственной основ этого движения, представив его как сугубо художественное. Он не оставался вне политики, но позволил себе быть вне нравственности.
Глава 5. Выбор
Два изгнанника вызывали во мне восхищение, доходящее до фанатического обожания, – Фрейд и Эйнштейн.
С каким энтузиазмом погружался я в психоанализ! Но лишь затем, чтоб лелеять свои комплексы. У меня и в мыслях не было от них избавляться!
Сальвадор ДалиНа роковом рубеже
Начало 1930-х годов стало решающим в судьбе Сальвадора Дали. Его политические и теоретические метания привели в замешательство Андре Бретона. Проблема не ограничивалась политическими шатаниями художника.
В марте 1930 года Дали опубликовал программную статью «Мораль сюрреализма». К этому времени получили скандальную известность и признание среди снобов его «Великий Мастурбатор», «Мрачная игра» («Игра втемную»), «Просвещенные удовольствия», а также фильм «Андалузский пес». Как позже признавался Дали, он уже почувствовал себя лидером сюрреалистов и готов был «свергнуть» Андре Бретона.
Возможно, «Мораль сюрреализма» написана для достижения этой цели, а также для оправдания и утверждения тех принципов аморализма и антиклерикализма, которыми руководствовался Дали в картинах этого периода. Он писал:
«Конечно же, сомнение, в особенности если оно направлено на такие отжившие понятия, как семья, родина и вера, всегда благотворно. Но этого мало. У нас есть еще одна цель: развеять в пух и прах представление о разумном мире, данном нам в чувственном восприятии. А сделать это можно, лишь подчинив реальность своей воле – яростному параноидальному упорядочению того хаоса, к которому, как к запретной зоне, до сих пор боится подступиться европейская мысль и оттого хиреет, изнуряя себя умозрительными построениями или же попросту впадая в слабоумие».
Хорошенькая задача – упорядочить хаос при помощи параноидального бреда! Брошен парадокс ради красного словца. Предлагается заменить непонятицу бредятиной. Процедура занятная, но если и приближающая к истине, то лишь с позиций тяжелых случаев психиатрии. Словно заметив это, Дали поясняет:
«Жалкие снобы уже осквернили новейшие психологические открытия, причем наигнуснейшим образом – их растащили по салонам и насилуют в каждом углу, где идет так называемая интеллектуальная беседа. Наше вонючее литературно-театральное болото также незамедлительно всколыхнулось и выдало донельзя смрадную поросль нелепейших перепевов фрейдизма. Хотя совершенно очевидно, что современное общество не способно воспринять Фрейда, исследователя уродливых глубин бытия. Несомненно одно: его открытия слепяще-ярким холодным лучом высветили подоплеку всех человеческих поступков».
Кое-что проясняется. Дали упомянул имя и учение своего нового духовного гуру – Зигмунда Фрейда. Художник возмущен модой на фрейдизм (к которой был причастен). Если модную психологическую концепцию насилуют и опошляют в салонах, то к этому приобщается и сам автор гневной тирады: он выставил именно в салонах – пусть даже художественных – картины с очевидными фрейдистскими «загогулинами». Или то, что дозволено Сальвадору, запрещено для всех прочих?
Да, себе он позволяет полную свободу суждений и выражений:
«Развенчание так называемых возвышенных чувств весьма увлекательное занятие. Не зря им занялась современная психология. Но совсем не обязательно ревизовать весь набор возвышенных чувств. Уже первые примеры приводят нас к выводу о том, что согласно новой морали, порожденной кризисом сознания и утвержденной сюрреализмом, образцом нравственности, подобным бриллианту чистой воды, будет маркиз де Сад, а не кто-нибудь из нынешних певцов возвышенного (не знаю занятия гаже и подлее). Конечно же, маркиз де Сад, а не этот патлатый педик-тухлячок Анжел Гимера!»
Так он удостоил парой плевков покойного каталонского поэта и драматурга Гимеру (1849–1924). Тремя годами раньше в «Каталонском антихудожественном манифесте» С. Дали вместе с Л. Монтайей и С. Гашем тоже упомянули это же имя, но деликатнее: «Мы отвергаем выжимающие слезу патриотические благоглупости из пьес Гимеры».
Остается лишь удивиться упорному желанию Сальвадора Дали мерзко поносить сравнительно недавно умершего в преклонном возрасте земляка, не сделавшего ни ему, ни Каталонии ничего плохого. Если его стихи и пьесы патриотичны и мелодраматичны (так ли уж это отвратительно?), то надо иметь в виду, что писал он главным образом в конце XIX века.
Как тут не вспомнить кощунственную надпись, которую сделал на своей картине Сальвадор Дали, до глубины души возмутившую его отца и сестру! Как это ни странно, в статье о морали сюрреализма он упомянул об этом: «Недавно я написал на рисунке, изображающем Святое Сердце Иисусово: “Я плюю на мою мать”. Эухенио Д'Орс (эталонный болван) счел это заурядной циничной фразой, обыкновенной грубостью. Понятно, что такое извращенное толкование отнимает у моего поступка и смысл, и пафос. Орс не уловил главного – мятежного духа, не понял, что речь идет о разрешении моральной проблемы – той самой, что все мы разрешаем во сне, убивая любимого человека. Да, подсознание не знает пощады, и разум может сломиться под его тяжестью. Именно поэтому мы, поборники истины, обязаны докапываться до подсознания – до сути».
Сальвадор Дали изрядно лукавит: упростил свою тираду, где было сказано, что плюнуть на портрет матери ему «приятно иногда». Это вовсе не заурядная циничная фраза и не обыкновенная грубость, а пошлость и подлость по отношению к памяти матери и любящих ее людей, включая себя.
Ссылка на «мятежный дух», «подсознание» и страшный сон ничего не меняет. Ведь писал Сальвадор Дали наяву, продуманно и осознанно составив грамматически верную конструкцию, а не бессвязные образы, которые надо расшифровать. Он рационально, продуманно и сознательно утверждал принципы бреда, безумия и бессознательного.
Оправдывая свои недостойные порядочного человека (согласно традиционной морали «тухлячков») высказывания, Сальвадор выставляет себя крайним анархистом-индивидуалистом, поборником абсолютной свободы духа, пусть даже и нечистого:
«Рождение новых сюрреалистических образов знаменует освобождение от морали. Крайне важно при этом добиться в полной сосредоточенности, свойственной, как свидетельствуют психологи, паранойе. Суть этого умственного расстройства состоит в способности преображать мир и управлять этой вымышленной реальностью. Если параноик убежден, что его хотят отравить, доказательством тому послужит все, что угодно, вплоть до самых неприметных мелочей, – все, буквально все станет свидетельством готовящегося покушения».
С точки зрения психиатрии он прав. Параноика обуревают разные мании, пробуждая болезненное воображение, доходящее до бреда. Так, замечательный отечественный психолог и психиатр В. Х. Кандинский (двоюродный брат знаменитого художника-абстракциониста) периодически впадал в такое состояние. Однажды ему казалось, будто находится в чреве гигантского крокодила, и он пытался выбраться оттуда, двигаясь по больничному коридору.
В другой раз он вообразил себя руководителем китайской революции, находясь в Петербурге (с повстанцами он общался телепатически). Когда по его представлениям революция победила и его ожидает триумф, он видел вокруг приветствующие лица, тогда как друзья везли его в карете в психиатрическую больницу. Там в помещении с зарешеченными окнами он понял, что угодил в ловушку врагов, и с ним случилась истерика.
Порой параноидальный бред принимает криминальные формы и завершается убийством. Хотя легкие формы мании могут проходить с едва заметными симптомами. Короче говоря, душевная болезнь – несчастье для больного и окружающих. А для Дали это – занятная игра:
«Однажды в параноидальном трансе я запечатлел женский образ, но в то же время это был конь – так ложились тени, такова была поза женщины, и не нужно было ничего менять, нужно было только увидеть коня или что-нибудь другое. Все зависит от степени параноидальной сосредоточенности – она выявляет и двойной образ, и тройной, она найдет и четвертый, да какой угодно – вплоть до сорока! А если так, то небезынтересно знать, что же представляет собой тот первоначальный образ, что он такое на самом деле, хотя не исключено, что все образы, порождаемые реальностью, суть плоды нашего параноидального воображения».
Он имел в виду картину «Незримые спящая женщина, конь и лев». Она достаточно популярна, ее часто воспроизводят в репродукциях. Если взглянуть на нее неискаженным паранойей взглядом, то все три образа угадать нетрудно. В особенности для того, кто еще в детстве научился угадывать на подобных картинках скрытые образы. И что дальше?
Предположим, художник желает показать, что в женщине есть нечто от коня (то ли скаковой лошади, то ли тягловой скотины?) и свирепого зверя. Ну ладно, есть намек на тривиальные мысли, не более того. Однако перед нами не детский ребус, «угадайка», а живописное полотно, выполненное мастерски… Тут приходится сделать паузу. Профессиональное мастерство присутствует в отдельных деталях – и только!
Как ни приглядывайся, давая волю воображению, придется признать, что все три заявленных автором существа выглядят уродливо. Тело фигуры, напоминающей женщину, вывернуто коленками назад; вместо головы и руки, говоря по Гоголю, находится черт знает что. То же относится и к тому, что должно символизировать голову лошади и ее ноги. Львиная голова и грива вырисовываются из каких-то натеков, исходящих из женских ягодиц. То ли это лошадиный хвост, то ли нечто пожиже…
Да, конечно, таков примитивный взгляд на таинственное творение гения. Но зритель не может обращаться к автору картины или искушенному искусствоведу за комментариями. Зритель рассматривает, обдумывает образы, представленные художником. Если они не отличаются красотой и совершенством, вызывают скептическую усмешку, не говорят ничего ни уму, ни сердцу, получается подобие нового платья короля из сказки Андерсена.
Сальвадор Дали поясняет: «Помимо паранойи есть и другие – более привычные и куда лучше изученные – важные для нас состояния. Я имею в виду галлюцинаторные способности, в том числе и дар спонтанной галлюцинации, сумеречные состояния, всевозможные озарения и откровения, дремотные видения и грезы наяву (это вообще естественное состояние человека), а также душевные расстройства разного рода. Уверяю вас, все перечисленное куда важнее и интереснее, чем так называемое нормальное состояние патологически нормального тухляка за утренним кофе».
Ну вот, добрался он и до болезненно нормального в своей полной нормальности «тухляка», лишенного дара спонтанной галлюцинации, сумеречных состояний, озарений, откровений, дремотных видений, грез наяву и душевных расстройств разного рода. Что ему, бедолаге, делать? Во всяком случае, не посещать выставок авангардистов, не читать их произведений.
Но разве нормальные люди виноваты, что они таковы? Зачем обзывать их нехорошими словами? И зачем устраивать выставки там, где слишком много нормальных? Не разумнее ли или, если угодно, не безумнее ли устраивать их в заведениях, где контингент в точности соответствует тем качествам, которые перечислил Дали?
Такие вот простые вопросы к автору, который выступает как одержимый бредовыми видениями, ниспровергая признанные «тухлячками» нормы морали. Он отмечает, что «и норма не без изъяна», продолжая: «Свойственные всякому человеку безотчетные движения, в психологии называемые автоматическими, всякого рода ошибки и оговорки неминуемо пробивают брешь в норме. Люди подчиняются своду правил, который принят за образец, и все-таки то, что они делают, и то, как они это делают, обнаруживают свой тайный смысл, безотчетный импульс, порожденный миром снов и грез, детских страхов и привязанностей. И поэтому так велика власть даже отдаленного сходства с этими потаенными образами – недаром мы принимаем ее за любовь.
Право на наслаждение – естественное право человека. Но реальность, не желая ему подчиняться, бунтует. И разум от яростного нападения переходит к круговой обороне, командуя всем укладом жизни и пестуя всю эту гнусь – благие порывы и красивые слова. Пора прекратить восхваления трудолюбия и всяких таких добродетелей и расплеваться с этим выводком идеалов, не то они доведут нас до ручки, а точнее говоря, до извращений, если не до преступлений на половой почве.
Реальность ведет войну против наслаждения, отчаянно защищая свой последний оплот, уставленный орудиями разума, от всего, что рвется к наслаждению и способно сокрушить ее и заменить новой могущественной духовной реальностью. Сюрреалистическая революция начнется с революции в сфере морали, а таковая уже идет полным ходом. Это она наполняет захиревшую западную мысль своим духовным содержанием».
Он выступает против реальности во имя… чего? Что взамен? Сам-то он благополучно пребывает в реальности, желает получить от этой реальности еще больше благ, почестей, славы. Чем же она его не устраивает? Кто ему мешает наслаждаться жизнью?
Нет ответа. Есть только словеса, да еще призыв прекратить восхвалять трудолюбие и всяческие добродетели, расплеваться с высокими идеалами, способными довести невротиков и параноиков до извращений и преступлений. Что касается извращений, то автор данного манифеста в своих картинах демонстрировал их в избытке, оплевав даже память матери. И никто ничего ему не запретил, его даже поощряли сторонники и почитатели его таланта. Разве что отец, замшелый блюститель традиционных нравов, выгнал из дома.
Какая же мораль провозглашается? Общий вывод:
«Сюрреалистическая революция выступает в защиту
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИСЬМА,
СНА, ДРЕМОТНЫХ ВИДЕНИЙ и ГРЕЗ,
ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
и ИСТЕРИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ;
признает власть СЛУЧАЯ
и пользу СЕКСУАЛЬНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ, БРАНИ,
БОГОХУЛЬСТВА, НАПАДОК НА ЦЕРКОВЬ,
а также
КОММУНИЗМА, АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА,
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
и ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК.
Сюрреалистическая революция поднимает на щит имена графа Лотреамона, Троцкого, Фрейда, маркиза де Сада, Гераклита, Уччелло и им подобных.
Это сюрреалисты учиняют кровавые побоища в кабачке “Бра-сери де Лила”, в кабаре “Мальдорор”, в театре и прямо посреди улицы.
Это сюрреалисты поносят в своих манифестах Анатоля Франса, Поля Клоделя, маршала Фоша, Поля Валери, кардинала Дюбуа, Сержа Дягилева и прочую шваль.
Слушай же, молодежь Каталонии! Я пришел объявить тебе, что старый порядок рушится, ниспровергая мораль. И всякому, кто еще цепляется за высокие, донельзя замусоленные идеалы, я плюну в лицо, плюну от всей души.
Пусть утрется!»
Отметим: эти аллегорические плевки он позволяет себе в письменном виде и преимущественно в сторону покойников. Очных конфликтов он избегает, не скрывая, что труслив. Если изменить давнюю пародию Александра Архангельского на Владимира Маяковского, то получится:
Плюю я на Франса и на Валери, плюю спокойненько на покойников, пусть даже они мне милы и родны. На тех, кто вблизи и вдали, от всей души и со всей мочи плюю на всех. Не хватает слюны. Шлите почтой. Сальвадор Дали.Ну ладно, такой у человека бунтарский наплевательский характер, он отвергает унылую традиционную мораль, постылые идеалы. Такой уж это сюрреалист, презирающий гнусную реальность…
Однако всего через три года этот яростный бунтарь и ниспровергатель с легкостью необыкновенной отказался почти от всего, что еще недавно провозглашал, обращаясь к молодежи Каталонии.
Решительный разворот
В начале 1930 года Сальвадор и Гала уединились на два месяца в небольшой гостинице на Лазурном Берегу. Он, по своему обыкновению, работал. В марте прочел в барселонском клубе «Атенеум» скандальную лекцию «Мораль сюрреализма». Как Дали вспоминал, завершая выступление, он возгласил: «Как же зовут этого педераста из педерастов, этого волосатого тухляка? Я вам скажу: Анжел Гимера!»
Зал взорвался криками гнева и протеста. На сцену полетели стулья. Жандармы окружили лектора, спасая его от разъяренной публики. «Я держался с достоинством, – писал он, – но лишь потому, что меня охраняли. Все предназначенные мне удары обрушились на полицейских – вот кто на самом деле явил мужество».
…Богатый покровитель Дали виконт де Ноай сообщил, что галерея Гоэманса на грани краха и потому он готов предложить художнику финансовую помощь. Она позволяет Сальвадору, которого отец лишил наследства, вложить деньги в обустройство собственного домика в Порт-Льигате. Под впечатлением разрыва с отцом Сальвадор пишет картины «Вильгельм Телль» и «Старость Вильгельма Телля».
Деформированные «мягкие» часы, словно поплывшие от жары, изобразил он впервые на картине «Преждевременное окостенение станции» (1930). Это одна из наиболее загадочных его работ. Солнечный вечер, пустынная станция. Огромный дамский башмак стоит вдали на рельсах; страдающая фигура у настенных часов с размягченным циферблатом. На переднем плане тень, падающая на стену, и от нее отходит ниже пояса нечто подобное тени от фаллоса. Вдали фигурки мужчины с ребенком, тени от которых направлены в другую сторону, чем у всех прочих объектов, словно тогда было утро.
Что бы все это значило? Наиболее простое предположение: прощание молодого мужчины с прошлым, с отцом, с прежним направлением жизненного пути, властно перегороженного женщиной.
В том же году создано полотно «Головокружение, или Башня удовольствий», где, согласно пояснению автора, «изображены мужчина и женщина, обнаженные, сплетающиеся в непристойной эротической позе, рядом с львиной головой».
Летом 1931 года на персональной выставке в парижской галерее Пьера Колле Дали представил публике среди прочих одно из своих полотен, ставшее знаменитым: «Постоянство памяти» – композицию с тремя мягкими, как блины, и одними прочными часами.
Судя по его словам, тогда он начал писать пейзаж побережья Порт-Льигата в пепельном свете заката. На первом плане слева – остов засохшей оливы с обломанной веткой. Оставив картину, стал размышлять о растекающейся мякоти, воображая сыр. Вновь вернулся к ней перед сном. Почувствовал в ней созвучие с каким-то образом. Каким? Непонятно. И вдруг увидел растекающиеся часы, свисающие с ветки. Несмотря на головную боль, взялся за дело и за два часа завершил картину.
Странное название «Постоянство памяти», когда показано, что часы текут в прямом смысле. Картину можно истолковать как иллюстрацию к понятию времени по Ньютону. Относительное время – у каждого объекта (мягкие часы), абсолютное – единое для всех (закрытые твердые часы). Тут же присутствует время Земли (скалы), время жизни (насекомые) и безвременье сна (спящая голова). Хотел того художник или нет, возникли многозначные образы с философским подтекстом.
Картину купил американский торговец произведениями искусства, показав ее в конце года у себя на родине.
В 1932 году с успехом (в том числе коммерческим) проходят выставки работ Дали в Париже; имя его стало известно в США. На следующий год финансовую поддержку ему обеспечила группа «Зодиак», каждый из 12 членов которой оплачивал его ежемесячное содержание, получая за это картину Дали.
…На товарищеском судилище, возглавляемом Андре Бретоном, сюрреалисты обвинили Сальвадора Дали в политическом отступничестве и симпатии к Гитлеру. Он делал вид, будто переживает и раскаивается. Но уже тогда он решил, что пора сделать выбор: либо продолжать свои революционные выступления против существующих порядков, либо приспособиться к ним.
В первом случае скандальный успех обеспечен, хотя на общественное признание и на высокие гонорары надежд мало. Есть шанс нарваться на большие неприятности, как это было на премьерных показах «Золотого века». Фашисты – народ жестокий.
Во втором варианте, если потешать публику психиатрическими штучками, красиво воплощать на картинах духовную нечисть, ограничиться личными шокирующими излияниями, скандальный успех также обеспечен, а вдобавок можно рассчитывать на общественное признание и большие гонорары.
Когда отвергаешь традиционную мораль, устоявшуюся веками, то почему бы столь же легко и просто не отвергнуть и новую мораль, отвергающую прежнюю? Как говорят философы, отрицание отрицания!
Так ли рассуждал Сальвадор Дали, неизвестно, но его поведение – лучший способ доказательства – явно или неявно исходило из таких соображений. Он выбрал второй вариант, возможно, не без помощи Галы.
Уже летом 1933 года на очередной персональной выставке в Париже он заявил о необходимости перехода к академической манере в живописи, о ценности семьи. Мы уже приводили его признание: «Восстал я против автоматического письма, доведенного до абсурдных степеней, и против записи сновидений, которые все сильнее напоминали сны выжившего из ума склеротика». Отрекся он, конечно, и от опасных в буржуазном обществе коммунистических идей и нападок на церковь.
Спору нет, человек имеет право изменить мировоззрение, свои взгляды на общество, политику, искусство. Вопрос лишь в том, из каких соображений он так поступил. Дали умел продумывать свои поступки. О том, как он пришел к отказу от революционных взглядов, можно судить по его воспоминаниям. Сближение с богатыми аристократами произвело на него неизгладимое впечатление:
«Как-то я был зван на ужин к виконту де Ноай. Я всегда робел в этом доме, и мне особенно льстило, что на той же самой стене, между Ватто и Кранахом, висят мои “Мрачные игры”. Увидав цвет высшего общества и множество художников, я сразу понял, что они собрались ради меня.
Мое смущение умиляло виконта. Всякий раз, когда метрдотель приближался ко мне с торжественным видом и, склонившись, таинственным шепотом сообщал название и год сотворения того или иного вина, душа моя уходила в пятки: мне казалось, что он намерен объявить что-то ужасное – что Галу сбило такси или что какой-нибудь друг-сюрреалист заявился сюда, чтобы надавать мне по шее. Завидев приближающегося метрдотеля, я бледнел, вскакивал, а он, чтобы успокоить меня, чуть быстрее и громче, чем следовало, произносил, сверившись с этикеткой бутыли, покоящейся в изящной плетенке: “Романэ, урожая 1923 года”. И наполнял этим перепугавшим меня до последней степени распрекрасным вином бокал, который я опустошал одним глотком в надежде одолеть проклятую застенчивость и вымолвить хотя бы несколько слов».
В данном случае Дали достаточно откровенен. Ему дали понять: для него открыт путь в аристократическое общество. Обеспечены ему и меценаты. Никаких предварительных условий перед ним не ставили. И так ясно: с прежними лозунгами тут делать нечего. Надо выбирать: оставаться среди ниспровергателей буржуазного общества или служить ему.
По его словам, на приеме у виконта он убедился, что состоятельные господа куда острее воспринимают его идеи, чем художники и люди искусства. В обществе богатых аристократов «еще сохранились кое-какие пережитки прошлого, то есть культуры, цивилизации, вкуса – всего того, что средний слой радостно принес в жертву юной идеологической поросли коллективистского толка».
Там же он столкнулся с теми, кто примыкает и служит аристократам – с «пролазами», как он их обозвал. «Эти акульи стайки так и вьются там, наверху, у столов, уставленных хрусталем и серебром. Вьются, вынюхивают, выслеживают, наушничают, холуйствуют, угодничают, высматривая тем временем самый лакомый кусок, и вцепляются намертво».
Он пришел к выводу: «Пусть общество обеспечит мне поддержку, а пролазы завистливыми своими наветами вымостят дорогу к славе. Я сплетен не боюсь. А когда сплетню в конце концов поднесут мне на блюде, я ее обследую, изучу во всех подробностях и – уж будьте покойны! – сумею извлечь из нее немалую пользу. Копошение этих мелких тварей, пролаз, конечно же, мешает плыть кораблю славы. Но на то ты и капитан – держи курс, ни на минуту не выпускай руль! Эти твари, из кожи вон лезущие, чтобы выбиться в люди, мне не интересны. Подумаешь, выбиваются! Важно – выбиться. Что с того, что вы, к примеру, ищете часы? Важно найти. Я не ищу, я – нахожу».
Проще говоря, он решил стать «пролазой». В отличие от этих прытких и бездарных тварей, у него был талант, который открывал путь в высшее общество на полных правах, с триумфом. Художник не так прост, чтобы откровенно признаться: меня очаровали роскошные хоромы, учтивые лакеи, отменные вина и яства, легкие в общении аристократы, способные говорить мило и умело ни о чем. У этих людей капиталы и власть, а кто, когда и каким образом придет им на смену – неизвестно. Надо использовать открывающиеся возможности и примкнуть к господам.
Дали философствует: «Что такое аристократ? В сущности, человек как человек, только вот вместо того чтобы стоять, как все, на двух ногах, он подобно цапле стоит на одной. Отсюда и благородная осанка: видите, я возвышаюсь, я смотрю на вас сверху вниз, а если и касаюсь земли, то исключительно ради сохранения равновесия. А так как величественная поза с поджатой ногой весьма неустойчива, аристократы окружают себя, дабы на кого-нибудь опереться, сонмами других одноногих, будь то художники, гомики или наркоманы. Не зря аристократия ищет опору – она уже чует, как всколыхнулась земля под суровой поступью Народного фронта.
Я решил присоединиться к толпе этих немощных снобишек, что подставляли плечо клонящейся к упадку аристократии, хранившей трогательную верность своим традициям и вышеописанной позе… Я принес целую кучу костылей! Потому что меня осенило: аристократии позарез нужны костыли, и в преогромном количестве, – надо же сохранять хотя бы видимость устойчивости! Я изобрел патетический костыль, опору моего детства, всемогущий символ послевоенных лет, а также множество самых разных подпорок для поддержания так называемых астральных черепов, не говоря уже о костылях, позволяющих как угодно долго сохранять крайне неудобные изысканные позы, доводя их до последних степеней совершенства, и в том числе – арабески балетных прыжков. Я нашел способ пришпиливать бабочек-балерин в полете! Итак, костыли. Великое множество костылей.
Кроме всего прочего, я изобрел махонький лицевой костылик…»
Что следует из этих нарочито путаных рассуждений? Имущим власть и капиталы требуется моральная поддержка. Тому, кто идет им служить, тоже нужен костылик. Это не естественная опора: положение власть имущих в буржуазном обществе шатко; они несправедливо владеют национальными богатствами. Столь же сомнительна в нравственном отношении позиция тех, кто поддерживает этот правящий класс.
В чем же суть этих самых подпорок?
Они помогают отвлечься от реальности, таящей в себе немало трудных проблем и угроз. Как отвлечься? Перейдя в мир фантазий, бредовых видений, загадочных образов и странных аналогий.
Вряд ли Дали доводил свои рассуждения до столь грубого и честного вывода. Но его поведение, его выбор исходили именно из таких соображений, пусть даже подсознательных. Он выразил это в аллегорической форме:
«Символика моих костылей пришлась в самую пору еще не осознавшей себя мифологии нашего века, и потому костыли до сих пор еще никому не надоели, а, напротив, радуют ваши сердца. И странное дело, чем больше подпорок я ставлю, полагая, что пора бы и попривыкнуть, тем сильнее всеобщее любопытство: “А зачем столько?” Наставив чуть не тысячу костылей, дабы укрепить едва державшуюся на одной ноге аристократию, я взглянул ей в глаза и с подобающей случаю честностью объявил:
– Сейчас я тебе двину как следует!
Аристократия поежилась и шевельнула поджатой, как у цапли, ногой.
– Изволь! – и стиснула зубы, преисполняясь решимости перенести муку, подобно стоикам, без единого стона.
Я пнул ее что было силы. Она не шелохнулась. Ай да костыли!
– Благодарствую! – молвила аристократия.
– Не скучай! – ответствовал я, целуя протянутую руку. – Я вернусь! Нога твоя горда, а подпорки мои умны – и оттого тебе не страшны революции, взлелеянные мыслящими людьми, – уж я-то их знаю как облупленных. Старушка моя, ты смертельно устала, ты свалилась с пьедестала, и только одна пядь твердой земли оставлена твоей бедной ноге! Так знай: случись тебе помереть, я тут же опущу туда свою ногу – след в след – и подожму вторую, как цапля. И, не зная усталости, буду потихоньку стариться в этой прекрасной позе».
Да, он поначалу пинал – аллегорически – проклятых аристократов, богатых буржуа, тухлячков-консерваторов. Поняв, что положение их достаточно прочное, счел за благо поцеловать протянутую руку.
Художник и поэт в Нью-Йорке
По признанию Дали, в 1934 году ему захотелось новизны – общения с людьми, которых «не затронула наша послевоенная европейская плесень».
Он пожелал, по его словам, «открыть Америку». Более вероятно, что он и Гала решили развить успех художника у падкой на сенсации американской публики. А среди его покровителей в группе «Зодиак» был американский писатель Джулиан Грин.
«Едва мы вышли в открытое море, как мной овладел ужас, – писал Дали, – я боялся океана. Впервые в жизни я нигде не видел берега, а в шуме двигателя мне все время мерещился какой-то подозрительный скрип… Я исправно посещал все инструктажи на случай катастрофы, приходил загодя и, облачившись в пробковый жилет, застегнутый на все крючки и пряжки, ловил каждое слово помощника капитана. Я настоял, чтобы Гала не пренебрегала занятиями и проверочными тревогами, хотя она или злилась, или хохотала до слез над этими “дурацкими предосторожностями”. После инструктажа я обычно удалялся в каюту и, не снимая пробкового жилета, укладывался в постель, напряженно вслушиваясь, не загудит ли сирена настоящей тревоги. Все мое существо содрогалось при мысли, что я могу пасть жертвой механической поломки».
Прибыв в Нью-Йорк, он постарался возбудить интерес репортеров к своей особе. На вопрос, какая ваша любимая работа, он ответил: «Портрет моей жены». Его спросили, правда ли, что у нее на портрете две жареные котлеты на плече. Он ответил, что котлеты не жареные, а сырые.
– Почему? – последовал вопрос.
– Потому что жена у меня тоже сырая!
– А с какой стати котлеты у нее на плече?
– А с той, что котлеты мне по вкусу, равно как и жена! Почему не изобразить их вместе?
Ему пришлись по нраву американские репортеры: они «прекрасно знают свое дело и, представьте себе, понимают толк в ахинее. У них тончайший нюх на сенсацию, они сразу берут быка за рога и, пользуясь естественным замешательством, быстро докапываются до той самой изюминки, что завтра украсит первую полосу газетного меню… Американцы – прирожденные журналисты. Злоба дня – их идол».
Чтобы покорить Америку, ему пришлось ей покориться, выразив свое почтение: «Нью-Йорк вознес к небу, как трубы гигантского органа, свои небоскребы – пирамиды демократии, знак свободы. Нью-Йорк, гранитный страж у азиатских пределов, призрак Атлантиды, поднявшийся из глубин подсознания!»
Поистине поэтические строки. Писались они в Америке для тамошних читателей: «Поэзия Нью-Йорка стара и яростна, как мир. Она все та же, и своей первобытной силой она обязана той же содрогающейся в бреду живой плоти, что порождает всякую поэзию, – земному бытию. Передо мной был “Вечерний звон” Милле третичного периода: сонм склоненных фигур, замерших в напряженном ожидании соития. Вот-вот эти нью-йоркские ночи и небоскребы вопьются друг другу в горло, как те скорпионы-каннибалы, – и погибнут. Никакой не механизм гоняет тягучую жидкость по жилам центрального отопления этого гигантского звероящера, и вовсе не сплав держит его тяжелый костяк, а неизбывная, нерастраченная жажда крови. Ею рождена поэзия Нью-Йорка.
Она неподвластна законам разумной эстетики, она вообще не имеет ничего общего с эстетикой…
Поэзия Нью-Йорка – это не выстроенный ради удобства и пользы небоскреб, а многотрубный орган из алой слоновой кости. И суть не в том, что трубы его царапают облака, – само небо откликается органному звуку; там, в небе, эхом отдается каждое его дыхание, каждая нота этой земной жизни, каждый всплеск первобытной материи. Нью-Йорк – не куб и не призма. Он круглится. Он багров, а не бел. Нью-Йорк – это скругленная пирамида или, вернее, слегка вытянутый кверху шар из багровой плоти в веточках вечных прожилок; это драгоценный рубин, устремленный к небу застывшим кристаллом органа; неограненный рубин, похожий на опрокинутое сердце».
Умел Сальвадор Дали удовлетворять запросы публики, не только развлекая и ошеломляя ее неожиданными образами, поступками или суждениями, но и ублажая ее самолюбие, в том числе патриотическое (помните, как он плевал на патриотизм в обращении к молодежи Каталонии?).
Сальвадор Дали открыл для себя Америку, и для Америки стал открытием. Во многом благодаря этому его финансовое положение стало неуклонно улучшаться. Быстро менялись и убеждения художника. Он знал, что американские СМРАП (средства массовой рекламы, агитации, пропаганды) изображают атеистов и коммунистов как злодеев и врагов общества. Поэтому в своих экстравагантных высказываниях умело обходил острые темы. Правда, в одном случае едва не произошел конфуз.
В его честь был устроен сюрреалистический «бал сновидений». Со слов Дали: «Этот праздник вошел в историю Соединенных Штатов как эпохальное событие… Властная длань сюрреалистического сна выволокла из глубин подсознания все безумные порывы, причуды и мании… Дамы из общества представили собравшимся доказательства своего утонченного вкуса: одни явились в птичьих клетках, надетых на голову, и без одежд, другие изукрасили свои обнаженные тела налепленными страшными язвами, третьи претерпели муку и нанесли себе увечья – исцарапались в кровь и продырявили тело булавками, которые так и остались торчать. Помню одну прелестную женщину – бледную, с одухотворенным лицом. Ее рот то дергался, то кривился в вырезе платья – прямо посреди живота. Там и сям со щек смотрели глаза, на спинах зияли черные язвы подмышек. Голову мужчины в окровавленной ночной сорочке покрывала тумбочка.
В конце концов он ее распахнул – и стая разноцветных колибри вырвалась на свободу. Устроителям бала пришла в голову счастливая мысль подвесить над парадной лестницей ванну, наполненную до краев. Казалось, она вот-вот опрокинется и рухнет, затопив собрание. А в бальной зале в углу на подпорках громоздилась ободранная бычья туша – чрево быка зияло, являя взору штук шесть граммофонов. Наряд, в котором явилась на бал моя жена, назывался “Изысканный труп”. На голову Гала прицепила куклу, искусно имитирующую детский трупик, изглоданный муравьями; череп же муляжа сжимали клешни фосфоресцирующего рака».
Правда, то же событие, а также обстоятельства прибытия Дали в Америку несколько иначе изложил Луис Бунюэль. Судя по всему, он написал правду: «Когда он в первый раз приехал в Нью-Йорк в начале 30-х годов – эту поездку организовал его торговец картинами, – Дали был представлен миллиардерам, которые ему очень нравились, и приглашен на костюмированный бал. В тот момент вся Америка переживала трагедию из-за похищения ребенка знаменитого летчика Линдберга. На этот бал Гала явилась в одежде ребенка, со следами кровоподтеков на лице, шее, плечах. Представляя ее, Дали говорил:
– Она вырядилась в одежду убитого ребенка Линдберга.
Его не поняли. Он позволил себе насмехаться над чем-то почти священным, над историей, прикосновение к которой было недопустимо ни под каким предлогом. Продавец картин сделал ему выговор, Дали повернул на 180 градусов и стал рассказывать журналистам на псевдопсихоаналитическом жаргоне, что Галя действовала под влиянием комплекса “X” и что речь идет о фрейдистском травести».
Такое поведение вполне в стиле Сальвадора. Он был расчетлив, изворотлив, а теперь подчинял свои слова и поступки одной цели – рекламе своей особы и своих произведений для успеха у состоятельной публики. Правда, с нарочитой наивностью отметил: «Мифологизация моего образа шла быстро и уже безо всякого моего участия». Как бы не так! Он придумывал всяческие выверты, порой входя в роль параноика для создания образа мифологического героя «не от мира сего».
…Пародия Александра Архангельского (упомянутая в начале данной главы) относится ко времени пребывания Маяковского в Америке. Советский поэт, беспартийный коммунист, мог с полным основанием сказать: «На буржуев смотрим свысока» – и наплевательски относиться к «поэзии Нью-Йорка», подчиненной погоне за прибылью. Но был и другой поэт, у которого впечатления от Америки были почти такими же: Федерико Гарсиа Лорка.
Выступая в Мадриде в 1931 году, он сказал: «Я назвал свою книгу “Поэт в Нью-Йорке”, но вернее было бы сказать “Нью-Йорк в поэте”. В моей душе. Пусть мне недостает ума и таланта, зато я не хуже мальчишки скольжу по коварному карнизу дней, скольжу – и ускользаю…
Я не стану описывать Нью-Йорк снаружи. Бурным потоком хлынули в последние годы путевые очерки о двух городах-антагонистах: о Нью-Йорке и о Москве…
Первое, что бросается в глаза, – это умонепостигаемая архитектура и бешеный ритм. Геометрия и тоска. Сначала кажется, что ритм этот радостен, но стоит уловить ход социального механизма и ощутить гнетущую власть машины над человеком, как услышишь в этом ритме тоску – зияющую, мучительно затягивающую – и поймешь, что она способна толкнуть на преступление.
Граненые скалы тянутся в небо, но не вслед облакам и не в тоске по раю. Готические шпаги взошли из мертвых, засеявших землю сердец, у них нет корней, их красота холодна и бесчеловечна. С тупым упорством они врастают в небо, не зная ни стремления ввысь, ни жажды торжества – того, что и составляет суть духовной архитектуры, которая всегда выше замысла зодчего. Трагично и в высшей степени поэтично это единоборство небоскребов и неба. Дожди, снега и туманы обволакивают и укрывают гигантские башни; они же слепы и глухи, чужды игре и тайне и неизбежно пронзают нежного лебедя туманов, а бритва крыши срезает косы дождя.
Ощущение, что у этого города нет корней, настигает сразу же, и тогда понимаешь, отчего сновидец Эдгар По ударился в мистику и променял этот мир на спасительный хмельной угар».
Кто же более чутко уловил подлинную поэзию Нью-Йорка: Дали или Лорка? Можно сказать – оба правы. Каждый со своей точки зрения. К тому же Нью-Йорк, Америка – многолики. Каждый найдет здесь то, что ему по душе, и то, что ему отвратительно.
Раз уж мы хотим осмыслить жизненный путь и творчество Сальвадора Дали, приходится сопоставлять мнение его и Лорки, потому что это не просто впечатления двух индивидуумов, а проявление двух мировоззрений, отношений к миру и к себе в этом мире.
Для Дали в Америке интересны почти исключительно миллионеры. А Лорка уверен, «хотите вы того или нет, но самое духовное и задушевное здесь – негры. Потому что надеются, потому что поют и еще потому, что только они сохранили ту редкую чистоту веры, которая одна может спасти ото всех сегодняшних гибельных дел». И еще: «Я хотел написать стихи о неграх в Северной Америке, о том, как тяжко быть черным в мире белых. Они – рабы всех достижений белого человека, рабы его машин».
Сальвадора Дали тянет к господам, Гарсиа Лорка сочувствует рабам: «Их выкрали из рая и отдали во власть ростовщиков с окоченелыми лицами и высохшими душами. И что печальнее всего – негры не хотят больше быть неграми: они мажут волосы бриолином, чтобы распрямить завиток, пудрятся, присыпая лицо пеплом, и пьют лимонад, от которого выцветают кофейные губы и разбухает тело. Негодование росло во мне».
В «Оде королю Гарлема» Лорки есть строки (перевод Ю. Мориц):
О Гарлем маскарадный! О Гарлем, перепуганный насмерть толпой безголовых костюмов! Я слышу твой рокот за кроной деревьев и ребрами лифтов, за серыми каплями слез, где тонут автомобили, их зубастые автомобили, я слышу твой рокот за трупами лошадей…«Но не Гарлем дик и неистов по-настоящему. В Гарлеме растет трава, пахнет потом, гомонят дети, горит огонь в очаге; здесь боль уймут, а рану перевяжут.
Иное дело – Уолл-стрит. Какой холод и какая жестокость! Реки золота стекаются сюда отовсюду и несут с собой смерть. Полная бездуховность – нигде она не ощущается так сильно… Презрение к чистому знанию и сатанинская власть минуты.
И самое ужасное – толпа, населяющая город, убеждена, что весь мир таков и таким ему назначено оставаться, а ее долг – днем и ночью вертеть колесо, чтобы эта махина не остановилась.
Я собственными глазами видел последний крах на нью-йоркской бирже; акции упали в цене, и пропали сотни миллионов долларов. Водоворот медленно уносил мертвые деньги в море. Самоубийства, истерики, обмороки… никогда еще я не видел смерть так близко – воочию, такой, как она есть: безысходная тоска, и более ничего. Зрелище жуткое, но в нем не было величия. И тогда я, рожденный в той стране, где, по словам великого поэта Унамуно, “земля ночами восходит на небо”, понял, что должен взорвать это ущелье мрака, куда катафалки свозят самоубийц, чьи руки унизаны кольцами.
…Это сама смерть без надежды на воскрешение, без ангелов – мертвая смерть. Смерть, лишенная души, дикая и первобытная, как Штаты, как Америка, которая не знала и знать не хочет неба».
Поэт восклицает:
Я обвиняю вас всех, Всех, кто забыл о другой половине мира, Воздвигающих бетонные горы, Где бьются сердца зверят, Которых никто не любит, И где будем мы все На последнем пиру дробилок. Я плюю вам в лицо, И слышит меня половина мира… Это не ад, это просто проулок. Это не смерть, это просто фруктовая лавка. Целый мир перерезанных рек И нехоженых троп В этой лапке котенка, Расплющенной автомобилем, И я слышу, как выползки Плачут у девочек в сердце. Это ржавчина, закись, агония нашей земли. Это наша земля, Потонувшая в цифрах отчетов.(Перевод Е. Кассировой)
Для Сальвадора Дали небоскребы Нью-Йорка – «пирамиды демократии, знак свободы». Для Гарсиа Лорки: «Нью-Йорк – величайшая в мире ложь». Здесь «корабли, мосты, вагоны, люди скованы одной цепью – жестоким экономическим устройством, которому уже давно пора свернуть шею, а люди оглушены – их вышколили, обратили в механизм, лишив той спасительной шалой искры, без которой жизнь не в жизнь».
К тому времени Сальвадор Дали окончательно уподобился Нью-Йорку, превращая себя в саморекламу, выставляя свое творчество на продажу. При этом он постарался предоставить американцам – механизмам для добывания долларов – имитацию шалой искры в своих словах, полотнах и поступках.
Травмированный Фрейдом
Русский философ Е. Н. Трубецкой называл древнерусскую религиозную живопись «умозрением в красках». Многие творения Сальвадора Дали есть основание считать сновидениями в красках. Он придавал огромное значение образам своих снов и сходной с ними игре воображения.
«Засыпая, – писал он, – я не просто сворачиваюсь клубком – это целая пантомима, череда определенных поз, потягиваний и подергиваний; это сокровенный танец, священнодействие, предваряющее нирвану сна.
Для меня очевидно, что цель у нашего воображения одна – посредством символов воссоздать картину того утраченного рая и тем смягчить ужасную травму, отнявшую у нас лучшее из убежищ. При родах ужасающая реальность нового мира обрушивается на нас всей удушающей тяжестью и ослепляет яростной световой вспышкой. Этот миг навеки оттиснут в душе неистребимой печатью оцепенелой саднящей тоски…
Во сне – метафоре смерти – человек обретает иллюзию искомого рая. В моем воображении сон часто предстает чудовищем с огромной тяжелой головой, удержать которую слабое, едва намеченное тело не в состоянии. И потому голову держат подпорки, костыли – это они не дают нам во сне упасть. Но стоит подпорке шелохнуться, и падение неизбежно. Я нисколько не сомневаюсь, что моим читателям знакомо это падение в пропасть, одно из самых сильных ощущений. Все мы испытали его, погружаясь в сон – “как провалился!” – или вдруг пробуждаясь в ужасе, когда сердце, кажется, готово выскочить из груди. Полагаю, что так дает о себе знать память о рождении – тот же обрыв, то же падение в пропасть.
Теперь благодаря Фрейду мы знаем, как важны и эротически значимы символы, связанные с полетами».
Трудно сказать, какими были бы создаваемые Дали образы и сюжеты, если бы не его знакомство с «Толкованием сновидений» Зигмунда Фрейда и его психоанализом. Этим объясняется то, что в ответ на возмущение друга семьи Э. Д'Орса надписью «Приятно иногда плюнуть на портрет матери!» – Сальвадор обозвал его «образцовым дерьмом, не способным уразуметь прописные истины психоанализа».
Эти прописные, весьма сомнительные истины стали для него во многом направляющими идеями. К тому времени в обществе прошло первое шокирующее впечатление от откровений психиатра-сексолога. Психоанализ стал модным среди более или менее образованных и состоятельных обывателей.
Интерес к науке у Дали, как у многих любознательных людей, был поверхностным – именно к ее плодам: идеям, гипотезам, теориям в популярном изложении. Насколько они обоснованы, не столь важно, главное – неожиданная мысль, игра воображения. Зачем вникать в суть научных проблем и сомнений, в споры ученых, проверять корректность использования фактов, разбираться с доказательствами? Пусть этим занимаются профессионалы! Интересна не скучная рутина, а игра ума, яркая мысль.
Такая позиция для неспециалиста оправдана, хотя отбрасывает именно то, что отличает эту систему знаний от религии, философии, досужих выдумок, – доказательства, основанные на фактах и логике, доступные для опровержения. Но, повторю, любознательному человеку вовсе не обязательно строго чтить научный метод.
Другое дело, когда научная концепция используется в определенных целях, например в литературе, искусстве. Творчество Дали – яркий пример. И если мы хотим осмыслить его живописные и литературные работы, так же как некоторые направления в искусстве XX века, следует обратиться к основам теоретических воззрений Зигмунда Фрейда.
Вариации на темы психоанализа
Теория сновидений и психоанализ Зигмунда Фрейда возникли в связи с лечением невротиков, психопатов. Позже он предал своим частным выводам вид всеобщих законов (у него была склонность к широким обобщениям на узкой почве; однажды он по одному своему русскому пациенту сделал вывод о русском национальном характере).
Но, может быть, Дали был не вполне психически здоров, а потому имел основания проецировать теоретические схемы Фрейда на свой внутренний мир? Трудно в это поверить.
Порой Дали судил о Фрейде не без иронии, называл его «великим мистиком наизнанку». Считал мозг Фрейда одним из «самых смачных и значительных мозгов нашей эпохи, – это, прежде всего, улитка земной смерти. Впрочем, именно в этом-то и кроется суть извечной трагедии еврейского гения, который всегда лишен этого первостепенного элемента: Красоты, непременного условия полного познания Бога, который должен обладать наивысшей красотою».
Дали причислял Фрейда к лику героев за то, что он «лишил еврейский народ самого великого и прославленного из его героев – Моисея»: Фрейд доказывал, что Моисей был египтянином. Да, для этого требовалось немало мужества, но художнику было бы логично упомянуть о разоблачениях мерзких глубин человеческой психики, – именно это он воспринял из психоанализа и воплощал в своем творчестве. Выходит, эти идеи Фрейда он оценивал не слишком высоко.
Чем отличается душевнобольной, параноик, обуреваемый маниями? Он воспринимает их с полной серьезностью и без раздумий. Для него они не бред больного воображения, а реальность. Но Дали охотно распространяется о своих комплексах, изображает их на многочисленных полотнах в виде символов, аллегорий. Для него это – искусство. А для подлинного параноика – это самая настоящая реальность.
Пожалуй, только в первые годы после знакомства с учением Фрейда Сальвадор Дали воспринимал его с полнейшим доверием, сопоставляя со своими психическими комплексами. Со временем его отношение к психоанализу изменилось, стало скептическим (насколько мне известно, он ни разу не обращался к психоаналитикам). Но отказываться от этой «золотой жилы», приносящей доход, ему до некоторых пор не было никакого смысла.
Но дело, конечно же, не столько в Сальвадоре Дали, сколько в той среде, которую он (вместе с Галой, конечно) избрал для себя и сбыта своих произведений. Именно в этой среде обрел популярность психоанализ Зигмунда Фрейда. Вариации художника на темы сексуальных маний, аномалий и мечтаний, выполненные с выдумкой и талантом живописца, были обречены на успех.
Из всего этого не следует, будто Дали воспользовался модным учением для того, чтобы достичь успеха у богатой публики. Ситуация сложней. Он действительно нашел в идеях Фрейда созвучие со своими впечатлениями – во всяком случае, в первые годы увлечения психоанализом.
По его словам, он с детства «узнал всемогущую власть сна и воображения». Наивная вера в «прописные истины психоанализа» не сделала его глубоким мыслителем, не наделила духовной энергией его творения, зато помогла раскрепостить сознание, предоставив свободу образам сновидений и воображения, вторгаться в реальность и преображать ее.
Например, в картине «Сон» (1931) из тьмы, словно из мрачных глубин бессознательного, возникает образ женщины, похожей на его Галу, с закрытыми глазами, без губ, на месте которых копошатся насекомые. Слева – яркие видения эротического сна: в позе борцов одетый мужчина с обнаженным, за которым, отвернувшись, стоит третий, тоже обнаженный. На постаменте другой мужчина, закрывший лицо рукой, из-под которой течет кровь. Над ним бюст то ли античного философа, то ли Фрейда…
Бредовые образы и сюжеты, как бы порожденные сновидениями, в действительности создаются художником более или менее продуманно, с использованием идей и символов фрейдизма. Образ Великого Мастурбатора переходит из картины в картину Дали символом эротических фантазий, отчасти гомосексуальных, стыда и страха кастрации, венерических болезней (возможно, из-за угроз отца), самоудовлетворения.
Раскрываются ли в подобных картинах подлинные глубины подсознания? Можно ли считать их свидетельством художника, проникшего в тайную суть сновидений?
В картине 1937 года «Сон» огромная мягкая голова, лишенная туловища и глаз, вся на костылях и подпорках, с платком вместо уха. Свет солнечный; от пяти подпорок головы тени – по диагонали, от других объектов (небольших) почти горизонтальные. Вдали справа дома и скалы, слева – сидящая собака с подпоркой, человек, а еще – одинокая лодка на суше…
Что это? Аллегория сна? Образы сновидения, рожденные в голове, не ощущающей тела и себя самое?
Наконец, полотно 1944 года: «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения». Обнаженная женщина в безмятежной позе витает над каменным постаментом, в ее руку нацелен острый штык. На нее бросаются два свирепых тигра, оскалив клыки. Один из них вылетает из пасти красного морского окуня, а тот, в свою очередь, – из вскрытого плода граната.
Прекрасная композиция и верное сопоставление пчелы и тигра. Вполне возможно такое сновидение при жужжании пчелы (тигровая окраска!), услышанном во сне. Картина имеет, можно сказать, научное обоснование. Однако образы завораживают сами по себе, показывая иную реальность. И в этой картине уже не ощущается тяжелого влияния фрейдизма.
…Во сне отдыхает тело. Мозг может использовать дополнительную энергию на свою деятельность. Не поэтому ли бывают творческие сны?
Итальянский скрипач и музыкальный теоретик Джузеппе Тартини (XVIII век), автор множества концертов, сонат и других сочинений для скрипки, одно из них назвал «Трель дьявола» (а сам служил в капелле собора Святого Антония в городе Падуе!). Он объяснил: во сне явился к нему дьявол, взял к себе на службу и велел написать сонату, подсказав мелодию.
Некоторые другие композиторы (в частности, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, Р. Вагнер) также слышали во сне мелодии, которые записывали утром.
Сальвадор Дали писал в дневнике: «Всю ночь видел творческие сны. В одном из них была разработана богатейшая коллекция модной одежды, модельеру там хватило бы идей по меньшей мере на семь сезонов, на одном этом я мог бы заработать целое состояние. Но я забыл свой сон, и эта забывчивость стоила мне утраты этого маленького сокровища. Я ограничился лишь тем, что попытался лишь в общих чертах воспроизвести два платья».
Во сне может возникнуть ощущение – и только! – необычайного открытия. Это еще не означает, будто оно свершилось. Достаточно уже того, что сновидение подсказало Дали идею двух оригинальных платьев. Тогда же ночью он придумал способ создать эффект «вознесения»: на поток горошин, падающих с десятиметровой высоты, спроецировать изображение Пресвятой Девы, запечатлеть его на кинопленку, а затем прокрутить ее задом наперед. Реальна или нет такая процедура, трудно сказать, но в оригинальности ей не откажешь.
Давая волю своему воображению, художник вынужден считаться с жесткими ограничениями, без которых нет искусства. Невозможно мгновенно воплотить эфемерные образы сновидений в картину: над ней требуется работать, она изображает нечто в застывших образах.
Сновидение лишь отчасти подвластно научному анализу. Для искусства оно подобно мечте о свободе творчества.
«Если б я мог фотографически запечатлеть те образы, что мелькают перед моим мысленным взором, когда я засыпаю, – писал Дали, – мне открылась бы величайшая из тайн мироздания. Надо бы изобрести прибор, улавливающий сновидческие образы, способный запечатлевать их и передавать. Хорошая живопись – лишь воспоминание о них… Вглядись – и прочтешь послание из вечности».
Искусство принадлежит… покупателю
В Советском Союзе был популярен лозунг: «Искусство принадлежит народу!» Сильно сказано, но не бесспорно. Как любая область человеческой деятельности – да, это явление народной, общественной жизни. Однако конкретное творение принадлежит автору, а уже он распоряжается им по своему усмотрению или по необходимости.
Народу, а точнее – племени, принадлежали произведения искусства в доисторической древности. С появлением государственных структур и социальной иерархии, богатых и нищих, господ и рабов ситуация изменилась. Произведения искусства стали создаваться на заказ, превратились в предметы купли-продажи.
Еще в 1824 году Пушкин словами Книгопродавца отметил:
…Внемлите истине полезной: Наш век – торгаш; в сей век железный Без денег и свободы нет. Что слава? – Яркая заплата На ветхом рубище певца. Нам нужно злата, злата, злата: Копите злато до конца! … Позвольте просто вам сказать: Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать.Профессионалы писатели, деятели искусств исходят из тех же принципов. А у тех из них, кто жаждет не только славы, но и богатства, продажно даже вдохновение. Они испытывают творческий подъем прямо пропорционально гонорару и, что не менее важно, высоте социального статуса заказчика.
Сразу приходят на память гении Возрождения, создававшие свои произведения по заказам высших иерархов церкви, князей, королей, царей, вельмож. Разве не восхищаемся их творениями?
Не вдаваясь в глубокий анализ, отмечу важное обстоятельство: многое зависит от исторического периода. Даже в буржуазных странах Западной Европы первая половина XIX века заметно отличалась от второй половины и тем более от времени между двумя мировыми войнами XX столетия.
В 1932 году А. М. Горький имел веские основания спросить: «С кем вы, “мастера культуры”?» Так называлась статья, которой он ответил американским корреспондентам. Он сурово заявил: «История буржуазии – это история ее духовного обнищания. Какими талантами может гордиться она в наше время? Нечем ей гордиться, кроме различных Гитлеров, кроме пигмеев, больных манией величия».
Он обратился к ученым, философам, писателям, художникам, композиторам: «Пора вам решить вопрос: с кем вы, “мастера культуры”? С чернорабочей силой культуры за создание новых форм жизни или вы против этой силы, за сохранение касты безответственных хищников, – касты, которая загнила с головы и продолжает действовать уже только по инерции?»
Несколькими годами ранее Сальвадор Дали решил для себя этот вопрос примерно так, как писал в 1919 году А. Барбюс, выражая мнение ряда крупных деятелей культуры Франции (А. Бретона, Р. Роллана, Ж. П. Сартра, Л. Арагона и других): «Торжество самых высоких нравственных идеалов, так наглядно связанных с действительностью, реализуется в борьбе всего угнетенного и обездоленного человечества…
Годы войны показали нам, что старый мир угнетения, произвола и привилегий, которые держатся только властью денег, – мир империализма – привел нас на край гибели».
Проходили годы, а устои буржуазного общества, основанного на власти денег, в Западной Европе и США оставались непоколебимыми. В СССР Сталин взял курс на строительство социализма в одной стране. Идею мировой революции по-прежнему провозглашали троцкисты. Среди коммунистов произошел раскол.
Тем временем для Сальвадора Дали все очевиднее становилась необходимость выбора и политических, и творческих ориентиров. Ему пришлось, например, заключить 30 января 1934 года формальный брак с Галой. Это была дань традициям, которые он еще недавно ниспровергал. Тем более что предстояла поездка в США, где с большим подозрением относились к анархистам и атеистам.
После триумфального посещения Америки чета Дали в 1935 году вернулась в Европу. Как писал Сальвадор, «по возвращении я обнаружил парижский высший свет в полном упадке, а сюрреалистов – в разброде. Все ударились в политику и потянулись к левым. Сюрреалисты, следуя за Арагоном, из которого успел вылупиться маленький оголтелый Робеспьер, поспешали к коммунистической платформе. Несостоятельность их новой эстетики со всей очевидностью обнаружилась в тот день, когда я изложил им замысел мыслящей машины, сиречь качалки, увешанной стаканчиками с горячим молоком. Арагон взбеленился: “Увольте от ваших фантазий, Дали! Молоко нужно детям безработных!”
Бретон счел прокоммунистические настроения опасными и решил очистить сюрреализм от Арагона и его единомышленников – Бунюэля, Юника, Садуля и других. Среди них был и Кревель – чистая душа, искренне верящая в коммунизм. Так вот он-то как раз и не последовал за Арагоном, сказав: “Это путь к торжеству посредственности”. В итоге Кревель остался в полном одиночестве и вскоре покончил с собой – идейный крах оказался ему не по силам. То был третий сюрреалист-самоубийца. Кревель делом подтвердил свой ответ на один из вопросов анкеты, опубликованной в первых номерах журнала “Сюрреалистическая революция”.
Анкета спрашивала: “Самоубийство – это выход?” Кревель ответил: “Да”. Я – “Нет”. Свой ответ я обосновал непреложным импульсом творческой воли. Но для многих сюрреалистов, увязших в болоте летаргических бесед и политических дискуссий, самоубийство оказалось выходом».
Вряд ли дело лишь в дискуссиях. Для Дали это была игра – в политику, даже в искусство. Он был слишком увлечен собой и своим творчеством, чтобы принимать всерьез общественные проблемы, далекие от личных интересов. Признаться в этом ему не хотелось, а потому предпочел слукавить: «Меня политика никогда не интересовала, а в ту пору и подавно, ибо являла собой до крайности жалкое зрелище».
В первой половине фразы, как мы знаем, – явная ложь, ибо он весьма активно участвовал в политических собраниях. Рене Кревель даже назвал его «оратором, обладающим необычайным красноречием». Во второй части фразы – ложь не столь откровенная.
Речь идет о 1935 годе. В Германии рейхсканцлером два года назад стал бывший ефрейтор, а затем художник 44-летний Адольф Гитлер, который произвел на Дали неизгладимое впечатление. В своем обращении к народу он заявил: «Правительство объявит нещадную войну силам духовного, политического и культурного нигилизма. Германия не имеет права пасть и не падет до анархического коммунизма».
Гитлер получил чрезвычайные полномочия и вскоре стал диктатором. Поджог Рейхстага он использовал для террора против коммунистов. В Португалии был установлен фашистский режим. В Испании на выборах победил блок правых партий. СССР приняли в Лигу Наций. В Ленинграде застрелен С. М. Киров. В Австрии нацистами убит канцлер Э. Дольфус. СССР заключил договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией, – явно для защиты от набирающей военную мощь Германии. Конгресс Коминтерна в Москве нацелил коммунистическое движение на создание единого антифашистского фронта. Саарская область вошла в состав Германии, которая начала ускоренную милитаризацию…
Можно ли сказать, что в те годы политика являла собой жалкое зрелище? Напротив, политическая ситуация в Европе явно раскалялась, и все определеннее звучали тревожные голоса о новой войне. А в июле 1936 года грянула гражданская война в Испании.
Однако Сальвадор Дали уже сделал свой политический выбор: оставаться как можно дальше от политики в столь опасное время. Социальный выбор тоже был вполне определенным: он был со своими потенциальными покупателями, владельцами капиталов.
«Я как раз всерьез взялся за историю религий… – писал он о том времени. – От сюрреалистов я отошел да и все больше ездил: из Парижа в Порт-Льигат, оттуда в Нью-Йорк, снова в Порт-Льигат, в Лондон, ненадолго – в Париж и опять в Порт-Льигат.
Бывая в Париже, я неизменно посещал великосветские приемы. Меня всегда интересовали очень богатые люди».
Особенно мило звучит слово «всегда» от того, кто еще недавно был яростным атеистом и сторонником коммунизма. Или он проговорился? (Согласно Фрейду подобные оговорки часто раскрывают то, что скрыто в подсознании; в этом с ним можно согласиться.)
Дали тут же добавил, что всегда с интересом слушал рассказы кадакесских рыбаков. Только вот этим самым рыбакам он почему-то не посвятил ни одного сколько-нибудь серьезного своего произведения.
Есть, например, небольшое полотно «Медиумически-параноидальный образ» (1935), исполненное в натуралистической манере, с двумя мужчинами на переднем плане. Впрочем, они мало похожи на бедных рыбаков. Он умел произносить пламенные речи о революции, угнетении бедняков, справедливости. Но дальше слов дело не шло, а при первых признаках опасности он предпочитал исчезать или скрываться за спинами полицейских. Типичное поведение интеллигентного буржуа!
Правда, к этой социальной группе он высказал свое презрение: «А вот с буржуа мне говорить не о чем – я их просто не замечаю. Но – увы! – именно буржуа так и липли к сюрреалистам, а самым крупным талантам из бретоновской когорты просто не давали проходу. Этих немытых недоумков я боялся как чумы. К Бретону я заходил не чаще трех раз в месяц, к Пикассо и Элюару – два раза в неделю, к их ученикам – ни за что и никогда, зато на светских раутах, как уже было сказано, появлялся ежевечернее.
Завсегдатаи раутов не блещут умом, зато их жены носят алмазы, несокрушимые, как мое сердце, благоухают немыслимыми ароматами и обожают музыку, от которой у меня вянут уши. Я, каталонская деревенщина, простак и шельмец, снисхожу до бесед с ними, и волнующая картина – светская дама (та самая, с почтовой открытки!), припав к моим грязным ногам, взывает о милости – все еще тревожит воображение убогого провинциала!»
Ах, как умилительно называет он себя деревенщиной и простаком, оставаясь ловкой шельмой! Тут тебе и грязные ноги убогого провинциала, воображающего припавшую к ним светскую даму. Таковы словесные дымовые завесы, на которые был горазд Сальвадор. Написано – в США, когда уже началась Вторая мировая война. Художник обращается к приласкавшим и обогатившим его американцам:
«Не глумитесь над той Европой. Она не захотела плыть по течению, и виною тому – безоглядный романтизм… Ничего и ни для кого не сумели сделать политики. А от всей этой головокружительной роскоши, душевной неразберихи, идейной путаницы и нравственной растерянности, терзавших наши крепкие, породистые, добравшиеся так и до элегантности тела, не осталось и следа. Почти никому не было суждено выжить. Та Европа, которую мы любили, погибла под колесами Истории. Остались жалкие, бессмысленные обломки, какая-то чужая рухлядь. Она ненавистна нам – тем, кто был и вовеки пребудет антиподом и антагонистом Истории!»
В этой тираде одно из ключевых положений – «не захотела плыть по течению». Это, конечно, относится не к Европе, а к европейцам, которые не желали приспосабливаться к буржуазной общественной системе, основанной на власти капитала. Но все началось еще в середине XIX века и было процессом объективным, а не злой волей отдельных экстремистов разного толка. А разве сам Дали прежде не был экстремистом и в политике, и в искусстве?
Его особенность лишь в том, что он своевременно, ловко и ради личных интересов резко изменил свои взгляды. Плыл по течению в политике, меняя направление вместе с наиболее мощным потоком (даже Гитлером был очарован!) или скрываясь в тихой заводи. В искусстве он продолжал писать такие картины, которые отлично раскупались.
Кризис
В Америке ему не было отбоя от заказчиков. Он принял предложение оформить в сюрреалистическом духе витрину одного из магазинов. Согласно его описанию, у манекена был букет алых роз вместо головы, вместо шипов – когти горностая; на столике – телефон с трубкой в виде лангусты, на стул повестил «свой прославленный возбудительный пиджак», украшенный рюмочками с мятным ликером – в каждой соломинка и дохлая муха.
Этот пиджак в июле 1936 года присутствовал на сюрреалистической выставке в Лондоне. Она едва не завершилась трагически для Сальвадора Дали, и причиной была его изобретательность. Желая произвести ошеломляющее впечатление на аудиторию, он решил выступить в водолазном костюме. Когда устроитель выставки заказывал скафандр по телефону, его спросили, на какую глубину предполагается погружение, в ответ:
– Сеньор Дали намерен погрузиться в глубины подсознания и немедленно вынырнуть обратно.
– В таком случае мы предоставим шлем особой конструкции!
Водолазный костюм был доставлен. Прибывший с ним механик помог облачить лектора в скафандр и тщательно завинтил шлем. На ногах, как положено, были башмаки со свинцовыми подошвами. На шлеме красовался радиатор автомобиля. На поясе висел кинжал. В руке был бильярдный кий.
Едва передвигая ноги, поддерживаемый друзьями, ведя двух лохматых волкодавов, Дали с трудом добрался до зала и начал речь на французском языке…
Не тут-то было! Он едва дышал, обливаясь потом и задыхаясь в глухом шлеме. Перехватило дыхание. Несмотря на микрофон, голос звучал глухо и тихо, голова кружилась. Он стал жалобно звать на помощь.
Гала бросилась к нему. Вместе с его товарищем они стали отвинчивать шлем. Безрезультатно! Механик по всем правилам затянул болты, а сам запропастился. С помощью бильярдного кия стали отделять скафандр от шлема, чтобы дать доступ воздуху. Не вышло. Дали терял сознание.
Публика была в восторге: вот подлинное сюрреалистическое представление! Раздавались бурные аплодисменты и восторженные крики. Действительно, представление было на редкость убедительным.
Наконец, принесли тяжелый молоток и стали сбивать винты. Дали был полуживой, каждый удар отзывался в голове. Публика устроила настоящую овацию, когда шлем был снят и показалась бледная, в поту, ошалелая голова сюрреалиста.
Комедия с погружением в глубины подсознания с помощью водолазного костюма едва не обернулась трагедией. Но главная цель была достигнута: реклама Сальвадора Дали!
Он сумел ошеломить влиятельную американскую публику не столько экстравагантными выходками, сколько оригинальными рисунками и композициями. Достаточно вспомнить портрет популярной голливудской актрисы, секс-символа Мэй Уэст: лицо складывается из предметов и двух картин, находящихся в комнате. Этими средствами художник добился портретного сходства с оригиналом!
Казалось бы, обретя богатство и славу, став востребованным живописцем и дизайнером, Сальвадор Дали добился того, о чем только может мечтать художник, лишенный политических предубеждений и социальных предрассудков. Но тут его поджидал коварный удар…
…В пьесе Н. А. Островского «Лес» есть сцена. Встречаются бродячие актеры, бредущие пешком. Комик Счастливцев рассказывает товарищу, как гостил у тетушки, богатой помещицы, в тепле, уюте и сытости. Прошла неделя, другая, и тут мысль: «А не удавиться ли мне?» Понял: плохо дело, вылез через окно, да и бежал.
В нынешней РФ многим такое поведение покажется нелепым: о чем же еще желать, когда обитаешь в полном комфорте и благоденствии, тебе прислуживают, живешь как барин. Но для человека, в отличие от скотины, этого слишком мало. А если человек талантлив, для него такое прозябание подобно неволе, пусть даже в роскошных хоромах (ныне ведь – высокие заборы, железные двери, строгая охрана, – ну чем не место заключения для особо опасных!).
Сальвадору Дали пришлось испытать нечто подобное истории со Счастливцевым. При полном благополучии, внимании прессы, богатых заказах и восторгах публики ему вдруг стало тошно:
«Нестерпимая тоска сковывала мое воображение – мое крылатое воображение! Я был сыт по горло всем: растекшимися роялями, скафандрами, клешнями телефонов, архиепископами, горящими кипарисами, ломившимися в окно, коктейлями и славой. Мне нужно было вновь как можно скорее увидеть Порт-Льигат. Только там, в одиночестве, которое мы с Галой отвоевывали семь долгих лет, не торопясь и ни на секунду не оставляя усилий, не покидая своей кузни, я возьмусь за главное – как молот обрушится мой дар на наковальню эпохи!»
Это могло сойти за простую охоту к перемене мест. Поначалу в Порт-Льигате ему показалось, что началось обновление жизни. Но вскоре он вновь ощутил давящую тоску, по ночам не спал. Прежняя жизнь представлялась только сновидением, призраком, «который рассеялся, едва неотступная, сверлящая, непостижимая тоска сжала сердце. Нет ни Парижа, ни Америки, ничего нет, кроме нас двоих – тоски и меня».
Даже Гала впервые была ему не в радость. Что происходит? Он убеждает себя: «Ты можешь наконец не думать о деньгах. Можешь работать не торопясь, можешь взяться за главное дело своей жизни. Ты совершенно здоров. У тебя столько замыслов – и живописных, и театральных, и кинематографических, – работай, пиши! Но почему-то опускаются руки. И Галу все сильнее тревожит твой беспокойный, озирающийся, трусливый взгляд. Ты боишься? Боюсь. Боюсь… Но чего?»
Это была настоящая депрессия: «Меня захлестывает отчаяние. Я стою столбом, меня бьет дрожь, прошибает пот. Еще немного – и я зарыдаю, завою!.. Я знаю: слава – вот она, зрелая мягкая смоква, вожделенный олимпийский плод! Руку протяни, сорви – и брызнет сладостный сок. Ведь ничего, ровным счетом ничего не случилось, нет никакой причины тосковать, а я тоскую. Я раб этой растущей тоски, взявшейся неизвестно откуда и бог весть куда ведущей. И так она сильна, что мне страшно. В этом и суть: ничего не случилось, нет никакой причины тревожиться…»
Нет, депрессия, как любая болезнь, без причины не бывает. Обратись Дали к психоаналитику, он бы ему наговорил много всего о сексуальных причудах и аномалиях, детских страхах и комплексе Эдипа. Однако еще раньше Гала лучше всякого психиатра решила – практически! – его сексуальные проблемы. В чем же причина душевного недуга?
Ко всему добавились внешние обстоятельства. Его давняя знакомая, не вполне психически здоровая Лидия была в глубокой печали. Два ее сына, рыбаки, забросили свою работу и стали добывать в овраге радий, по их словам – огромный пласт. Они свозили глыбы земли в сарай, а заполнив его, валялись в саду, рассуждая о своих рудниках. Однако покупателей на их радий не находилось. Они временами закатывали истерики и даже избивали мать. Их забрали в сумасшедший дом. Один из них перестал есть и умер с голоду.
Сальвадор предположил, что боится обезуметь и умереть. Да, когда общаешься с психически больными, начинаешь и сам немножко сходить с ума. Но в данном случае его депрессия имела более глубокие корни: она началась еще до того, как он вернулся в Испанию.
Он долго страдал от бессонницы и непонятных страхов. Беседовал на берегу с рыбаками. Спрашивал: боятся ли они смерти? Один ответил: «Чего бояться? Мы и так полутрупы».
Избавление от депрессии Дали описал в евангельском стиле, как воскрешение Лазаря Иисусом Христом. В роли Лазаря был он, а Христа для него олицетворяла Гала:
«Это меня, Лазаря, стискивал тусклый кокон, шелковый саван разыгравшегося воображения. Надо было разодрать, скинуть его, выпустить на волю живую летучую бабочку моей паранойи! Тюрьма моя – тоска – чуть не стала моей гробницей, и снова Гала спасла меня: зубами вцепилась и вырвала из когтистых лап, сокрушила сети, раскинутые тоской. Они баюкали, губили, душили меня, но Гала сказала:
– Встань и иди!»
Он так и не объяснил причину своей тяжелой депрессии.
На мой взгляд, она была связана с последней фазой его выбора дальнейшего творческого пути. Он уже принял решение и смог убедиться, что это принесло ему деньги и славу. Таков был выбор рассудком, из выгоды.
Для заурядного обывателя на том бы все благополучно и завершилось. Но Дали был творчески одаренной личностью. В глубине души, в недрах нашего подсознания скрываются не только инстинкты (совсем не обязательно мерзкие), но еще и то, что называется совестью.
Для людей мелких, низких, с молодости подловатых голос совести звучит глухо и робко, его легко заглушить всяческими оправданиями (вспомним синдром предателя). Одаренной личности, для которой высшее счастье в творчестве, не удается так просто сменить свои убеждения. Поначалу все может проходить гладко, но потом становится гадко. Ведь в глубине души такой человек чувствует, что совершает предательство по отношению к самому себе в первую очередь.
Депрессия возникает, как доказал И. П. Павлов, из-за «сшибки» условного и безусловного рефлексов. Для людей это – конфликт между бессознательной установкой и рассудочным решением.
У Сальвадора Дали была устойчивая подсознательная установка на творческую свободу, познание. Когда он сознательно стал ориентироваться на выгоду, служение богатым, саморекламу, поначалу это можно было оправдывать недостатком средств, желанием получить признание, чтобы творить свободно, не считаясь с финансовыми возможностями, наконец, чтобы в достатке материально обеспечить Галу.
В Америке он почувствовал, что все больше и безнадежнее становится рабом обстоятельств, заказов, успеха, меценатов, публики, «высшего общества». Ему показалось, что возвращение на родину вернет его в прежнее состояние душевного равновесия. Этого не произошло: он уже окончательно порвал с прошлым; к минувшему не было возврата. У него появилась новая устойчивая установка, которая пришла в резкое противоречие с прежней, существовавшей многие годы. Грубая модель такого стресса была смоделирована на собаках Павлова и других животных, включая высших обезьян. Человек в этом отношении – не исключение. Напротив, у него вызывают стресс более разнообразные обстоятельства.
Гала излечила его тем, что внушила: все идет прекрасно, надо продолжать работать, все еще впереди, он создаст великолепные полотна, деньги позволят свободно творить, политика лишь помеха чистому искусству, старая Европа разваливается и деградирует, доживая последние годы, а будущее принадлежит Америке…
Так ли было или иначе, мы не сможем узнать. В отличие от Михаила Зощенко, Сальвадор Дали не интересовался учением Павлова и вряд ли мог проанализировать причины своей депрессии. Конечно, я высказал гипотезу, и причина могла быть другой. Однако в любом случае, повторю, для талантливого творческого и увлеченного своей работой человека резкая смена установки, ориентиров на жизненном пути, вызывает психические расстройства.
Вспомним случай с Рене Кревелем. Депрессия довела его до самоубийства. Правда, она была отягощена приемом наркотиков, а потому принимала наиболее острые формы. Сальвадор Дали наркотиков не употреблял, рядом была любящая жена, умевшая морально воздействовать на него и направлять его действия. Через некоторое время он избавился от депрессии. Его выбор, основанный на доводах рассудка, укоренился в подсознании как устойчивая установка. Произошло духовное преображение.
Глава 6. Мир Сальвадора Дали
Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости.
Ф. М. ДостоевскийДоллары дороже друзей
Гала обустраивала их домик в Порт-Льигате и предложила Сальвадору поехать в Италию, чтобы воочию лицезреть картины гениев Возрождения. Она стремилась отвлечь его от тяжелой тоски.
Его просили прочесть лекцию в Барселоне. Но когда они приехали в город, там уже начались беспорядки. Иберийские анархисты взрывали бомбы, была объявлена всеобщая забастовка. Появились вооруженные патрули и эскадроны жандармерии. Прошел слух, что будет провозглашена Каталонская республика. Чета Дали спешно наняла такси до французской границы.
В своих воспоминаниях он пишет, будто в Париже взялся за огромное полотно под названием «Предчувствие гражданской войны» (показывая себя пророком). Однако поначалу название было: «Податливое сооружение с вареными бобами», а размеры картины нормальные: 100 × 99 см.
Вероятно, что в этой работе он выразил свою депрессию (ведь эскизы к ней набросал еще раньше). Фигура одинокая, гигантская и страдающая от раздирающих ее мучительных страстей. Они раздирают ее натурально, наглядно и не без сексуальных символов. Сбоку – маленькая фигурка спокойного обывателя. На предчувствие гражданской войны это не похоже: именно обывателя она больше всех тревожит и пугает.
Другую картину того же периода (1936) – «Осенний каннибализм» – можно назвать «Сладкая парочка». Две растекающиеся фигуры сладострастно поедают друг друга, используя столовые приборы.
Вообще, Сальвадор Дали в своих картинах практически не отозвался на гражданскую войну в Испании и на чудовищную Вторую мировую. Исключение, насколько мне известно, одно: «Лицо войны» (1940) – полотно, написанное в США. На фоне пустыни искаженное ужасом лицо, которое кусают змеи; вместо глаз и рта – черепа, у которых тоже черепа вместо глаз и ртов.
Можно вспомнить «Апофеоз войны» В. В. Верещагина, созданный на семь десятилетий раньше: огромная груда черепов среди пустыни. Надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим». А Дали, умевший придумывать вычурные надписи, свое «Лицо войны» оставил без комментариев. Мол, нехорошее, страшное дело – война. Кто бы в этом сомневался! Но в одних случаях фашисты вторгаются в страну, а в других люди защищают свое Отечество.
Нет, Дали не посмел, даже находясь в США, осудить франкистов и фалангистов, начавших гражданскую войну в Испании, немецких фашистов, обрушивающих бомбы на мирные города. Его не возмутило даже убийство Федерико Гарсиа Лорки.
Перерождение Дали особенно отчетливо видно на этом примере. Чутко ощущая политические настроения в Западной Европе и США, Сальвадор понял: теперь невыгодно и опасно быть заподозренным в симпатиях к атеистам и коммунистам, даже к испанским республиканцам. Обозначилось непримиримое противостояние коммунизма и фашизма, Сталина и Гитлера, трудящихся и буржуазии.
Дали свой выбор уже сделал. Став процветающим художником и дизайнером в Соединенных Штатах, он перешел на сторону имущих власть и капиталы. Состояние неопределенности, вызвавшее у него депрессию, было отчасти мнимым: он тогда уже окончательно порвал со своим прошлым и близкими друзьями (с отцом и сестрой – еще раньше).
Оправдывает он свой выбор в 1941 году в США. О времени и месте приходится постоянно напоминать. Человек, меняющий убеждения, стремясь приспособиться к окружению, преображается со временем и в пространстве, переходя в новую среду (теория относительности в приложении к психологии личности; хотя есть люди, которые духовно сильнее обстоятельств).
«Война обратила людей в дикарей, отбила все чувства, – писал Дали, имея в виду Первую мировую. – Люди потеряли способность ощущать гармонию, равновесие, подробности и воспринимают только надрыв…»
Только ли надрыв? В первые годы после войны нечто подобное наблюдалось. Хотя если взглянуть на рисунки Сальвадора 1918–1925 годов, никаких надрывов не обнаружишь. Даже портрет «Больной мальчик» не производит гнетущего впечатления. Точнее сказать: определенные люди «клюют только на надрыв».
Дали обвиняет войну, общество, но только не своих почитателей-покупателей и не самого себя. Хотя выбор делал он сам.
Вдохновенно, усердно и лицемерно, находясь в США, он обличал Европу, ее искусство, а в особенности атеизм: «Истерзанная войной Европа издыхала, корчась в судорогах “измов” и не имея уже никаких сил – ни политических, ни эстетических, ни нравственных, ни идейных. Европу доконали цинизм и произвол, безликость, безмыслие и серость. Европу доконало безверие. Отведав запретного плода с древа познания и утратив даже подобие веры, Европа суеверно и слепо вверилась кумирам – несть им числа! На что только не уповала Европа – на нравственный идеал, на эстетический и даже на убогий идеал коллективизма».
Эти обвинения обрушивал из Америки на европейцев человек, еще недавно провозглашавший на митингах и в статьях идеалы коммунизма, коллективизма, атеизма! Да, конечно, свободный художник имел полное право резко изменить свои убеждения. Но зачем же поносить то, что еще недавно превозносил?
Помнится, на Нюрнбергском трибунале Артур Зейсс-Инкварт, бывший лидер австрийских национал-социалистов, в отличие от большинства других обвиняемых, не стал перекладывать свою вину на Гитлера. Он честно признал, что считает его «человеком, сделавшим великую Германию действительной реальностью… Я не могу сегодня кричать “Распните его!” после того, как еще вчера я провозглашал ему осанну».
Нет, не обязательно требовать от Дали благородной сдержанности и откровенности. Беда не в том, что он изменил свои взгляды, а в том, что сделал это из личной выгоды. Повинуясь синдрому предателя (то есть чувствуя, что поступил непорядочно), он обвинял общество, в котором был воспитан и обучен и к которому еще недавно активно приспосабливался.
Он не ограничился несколькими словами. Войдя в раж, даже не сообразил, что говорит чушь: «Впрочем, что съешь, то и выложишь…» Как тут не сказать: нет, дружок, так бывает только тогда, когда ты – копрофаг, поедатель фекалий! В остальных случаях «выкладываешь» совсем не то, что поглощаешь. Или, если понимать по Фрейду, это знаменательная оговорка?
Продолжим цитату: «А Европа к тому времени так объелась революциями и “измами”, что поноса – войны и смертей – нельзя было избежать. Страдания, причиненные всем и каждому войной 1914 года, породили наивную детскую мечту о всеобщем благоденствии, которое обязано наступить, когда революция истребит все притеснения. О том же, что первое условие благоденствия есть торжество индивидуальности, сберегающей себя под защитой закона и надличных установлений, забыли, а это одна из коренных истин. О послевоенная духовная нищета, о жалкая участь индивидуальности, поглощенной безликой массой!»
Что тут скажешь? Убогая демагогия на потребу непритязательной американской публики. Он определенно намекает: в США закон защищает индивидуальность, и это – залог благоденствия (вспомним: Гарсиа Лорка утверждал прямо противоположное – торжество в Америке механического человека).
Проклиная материализм, он тут же скромно замечает: «Я не историческая личность. При всех обстоятельствах я неизменно чувствую себя личностью антиисторической и аполитичной. Я или опережаю эпоху, или безнадежно отстаю и попасть в унисон с современниками… органически не способен».
Вот уж – извивается, как уж! Только что высказывался резко на политические темы, очень ловко попадая в унисон американским СМРАП (напомню: средства массовой рекламы, агитации, пропаганды), и тотчас отрекается от политики и современности. И снова – ложь:
«Гражданская война не переменила моих убеждений, разве что сделала их определеннее. Я всегда питал ужас и отвращение к революции, какой бы она ни была, но тогда это чувство достигло патологических степеней. Однако не сочтите меня реакционером. Реагировать (вспомните этимологию) – занятие для амебы, а я человек думающий и никаких других определений, кроме ДАЛИ, не приемлю. Тем не менее гиена общественного мнения разинула свою зловонную пасть и, пуская слюни, потребовала меня к ответу – за Сталина я или за Гитлера. Чума на оба ваши дома! Я за Дали – ныне, присно и во веки веков. Я – далинист. Я не верю ни в коммунизм, ни в национал-социализм и вообще не верю ни в какие революции. Высокая Традиция – вот единственная реальность, вот моя вера».
Тут бы ему следовало уточнить: «Моя вера здесь и в данный момент, ибо я люблю и чту самого себя, а мне здесь комфортно и безопасно, поэтому я из Америки плюю на Европу, где началась война». Припомнил бы, что некогда был единственным в Фиге-расе подписчиком «Юманите», радовался победам большевиков и в 20 лет угодил в тюрьму как противник монархии; позже сотрудничал в журнале «Сюрреалистическая революция»…
Небольшое отступление. Когда пишешь биографию незаурядной личности, входишь в этот образ, испытываешь к нему симпатию, стараешься осмыслить его поступки, понять их причину. Но если он не просто заблуждается, а лжет, клевещет, лицемерит, совершает подлости, – недопустимо умалчивать об этом. Меня, например, сильно огорчило его отношение к друзьям и родным, его трусливое поведение, когда Луис Бунюэль придушил Галу. Такой «далинизм» слишком смахивает на предательство.
«Когда началась война, мой большой друг – поэт горькой судьбы Федерико Гарсиа Лорка – был казнен в Гранаде, занятой фашистами. Его смерть превратили в пропагандистское знамя. Это подлость, потому что всякий и каждый знал не хуже меня, что на всей планете нет человека аполитичнее Лорки».
Ловко Дали выкрутился: мол, убийство произошло «в Гранаде, занятой фашистами», чтобы не сказать правду: расстреляли Гарсиа Лорку именно фашисты. Генерал Франко 26 ноября 1937 года был честнее: «В первые моменты восстания в Гранаде этот писатель погиб, так как связался с бунтовщиками». И тут же солгал, будто это был какой-то местный поэт и «невозможно судить, насколько широко распространилась бы за пределы Испании слава о нем, останься он в живых».
А вот признание чилийского поэта Пабло Неруды (некоторое время он был консулом Чили в Мадриде):
«Я не встречал больше ни в ком такого сочетания блистательного остроумия и таланта, крылатого сердца и блеска под стать хрустальному водопаду. Федерико Гарсиа Лорка был подобен щедрому, доброму волшебнику, он впитывал и дарил людям радость мира, он был планетою счастья, радости жизни. Простодушный и артистичный, одинаково не чуждый и космическому и провинциальному, необыкновенно музыкальный, великолепный мим, робкий и суеверный, лучащийся и веселый, он словно вобрал в себя все возрасты Испании, весь цвет народного таланта… Все на свете дарования, все таланты были у него, а он, как золотых дел мастер, как трудовая пчела на пасеке великой поэзии, отдавал людям свой гений».
Ян Гибсон в обстоятельной книге «Гранада 1936 г. Убийство Федерико Гарсиа Лорки» убедительно доказал: «Лорка был республиканцем, явным и открытым антифашистом. Он отвергал католическую традиционную Испанию». Лорка не менял и не скрывал своих убеждений. О Дали Бунюэль сказал: «Я не могу простить ему, несмотря на воспоминания молодости и мое сегодняшнее восхищение некоторыми его произведениями, его эгоцентризм и выставление себя напоказ, циничную поддержку франкистов и в особенности откровенное пренебрежение чувством дружбы».
Увы, Дали предавал своих друзей ради личных корыстных интересов. В книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали», вышедшей в 1942 году в США, он писал о Луисе Бунюэле как об атеисте. Это было равносильно обвинению в коммунистических взглядах. Бунюэль вынужден был уйти с работы в нью-йоркском Музее современного искусства и некоторое время бедствовать.
Он назначил Дали встречу в баре. Сальвадор пришел, заказал шампанское. В ярости Бунюэль готов был его побить: «Из-за тебя, мерзавец, я оказался на улице!» И услышал спокойный ответ:
– Послушай, я написал эту книгу, чтобы возвести себя на пьедестал, а не тебя.
Сальвадоллар
С некоторых пор Дали стал относиться к друзьям с критерием личной выгоды. Для него Гарсиа Лорка, Бунюэль, Бретон, Кревель, отец, сестра стали как бы людьми из другой жизни, связи с которой почти полностью прервались. Вполне рассудительно он высказывал свои симпатии франкистам: ведь они с Галой решили посетить фашистскую Италию.
Как признавался Дали, «мое бегство в Италию сочли легкомысленной и неуместной выходкой в духе Дали. Только самые близкие из друзей знают, что именно в тот год в Италии я выиграл решающую битву».
Он не выиграл, но выгадал, подлизываясь к фашистам, а потому имел возможность удалиться от охваченной гражданской войной Испании, раздираемой противоречиями Франции в «тихую заводь» фашистской Италии. Там узнал: в Кадакесе анархисты расстреляли тридцать человек, трое из которых были его знакомыми. В воспоминаниях он назвал их своими друзьями. И сразу же написал, что, когда Гала на десять дней уехала в Париж, он стал особенно внимательно следить за своим здоровьем: «Чуть заложит нос, капаю капли. После еды всякий раз тщательно прополаскиваю горло. Смазываю целебным бальзамом всякую ссадину и царапину, дабы не воспалилась.
А ночами в тревоге прислушиваюсь: не болит ли где-нибудь, нет ли угрожающих признаков грядущего недуга? Щупаю живот – там, где аппендицит. Не воспален ли? Осматриваю выделения, и всякий раз сердце замирает в испуге – все ли в порядке? Да, кажется, все, придраться не к чему…
Меня давно изводила эта сопля, присохшая к белой кафельной стенке в ванной. Я долго терпел, отводил глаза, но в конце концов не выдержал и решил избавиться от ее мерзкого присутствия. Тщательно обернув указательный палец правой руки туалетной бумагой, морщась от омерзения, я закусил губу, закрыл глаза и хотел одним яростным махом отодрать соплю от стены, но…
Острая, как игла, она впилась мне в палец, под самый ноготь, чуть ли не до кости. Потекла кровь. От сильной внезапной боли выступили слезы. Я кинулся в комнату, отыскал перекись водорода и продезинфицировал рану, но извлечь кончик проклятой сопли не сумел. Резкая боль стихла, но сменилась грозным признаком распространяющейся инфекции: палец распух, а рана внутри пульсировала «тук-тук-тук». Как страшна эта мерная, подлая поступь заражения!
Когда кровь унялась, я, бледный как смерть, спустился вниз, в ресторан, и рассказал о случившемся официанту, который прежде не раз пытался заговорить со мной, но безуспешно – я отвечал сухо, односложно и высокомерно. Теперь же я сам заговорил с ним, да с какой готовностью, как приветливо (стоит перетрусить – и делаешься человеком). Наконец-то официанту представилась возможность выказать сердечность. Он внимательно осмотрел палец.
– Только не трогайте! – возопил я. – Ни в коем случае не трогайте! Как вы думаете, это опасно?
– Заноза, конечно, глубоко вошла, но все зависит от того, чем вы занозили палец. Это иголка? Щепка?
Я не ответил. Не мог же я открыть ему мерзостную правду! Не мог же я сказать, что занозил палец чьей-то засохшей соплей!
Нет! Да ведь никто и не поверит. Ни с кем это не могло случиться. Ни с кем, кроме Дали. И я еще спрашиваю! Спрашиваю, когда и так все ясно: рука распухла и покраснела! Ее ампутируют – мою руку, руку художника, руку Сальвадора Дали! А может, не успеют, и я умру в страшных муках, корчась в столбнячных судорогах.
Я вернулся в комнату, лег и приготовился к мукам. Страшнее тех двух часов ничего не было в моей жизни. Два черных, два беспросветных часа – могут ли все бедствия гражданской войны сравниться с той мукой, что причинило мне тем вечером мое воображение?»
Да, возможно, он не без иронии выставляет себя напоказ, чтобы потешить читателя и поразить своей откровенностью, а также маниакальной любовью к самому себе. Но в этих заигрываниях не стыдился упомянуть мельком о гражданской войне, в которой расстреливают его знакомых.
Завершает он этот эпизод так: «Истерзанный, я встал и, обливаясь смертным потом, шатаясь, побрел в ванную. Ползая на коленях, долго искал на стене остатки проклятой сопли. Отыскал. Но то была не сопля, нет – клей! Конечно же, клей, и попал он сюда, когда красили потолок. Как только я понял, что это клей, страх оставил меня. Я вытащил занозу, впившуюся в палец, с тем яростным, щемящим сладострастием, что запечатлено на века в знаменитой скульптуре “Мальчик, вынимающий занозу”».
Ну что тут скажешь! Если это искренне, то проявляется, говоря словами незабвенного Паниковского из «Золотого теленка», жалкая ничтожная личность, сопляк. И это вызывает недоумение с оттенком печали. Возможно, Дали отчасти дурачился, играя перед американцами некую роль. Хотя и это не вызывает к нему симпатии.
Тогда же он начал писать «Загадку Гитлера». Признался: «Я сам не уразумел в полной мере ее смысла. Есть в этом сонном видении, навеянном мюнхенскими событиями, что-то от газетного репортажа». Вообще, образ фюрера вызывал у него восторг: «Один вид его пухлой спины, особенно когда он появлялся туго перепоясанный, с кожаной портупеей, рождал во мне дрожь наслаждения, даже рот наполнялся слюной, приводил к вагнеровскому экстазу. Мне часто снился Гитлер, словно женщина; меня влекло его тело, представлявшееся белоснежным».
На картине в тарелке портретик Гитлера, как бы вырезанный из газеты. Над тарелкой на сухом суку огромная телефонная трубка, из микрофона которого свисает прозрачная капля (слюны?). Тут же висит зонтик (фрейдистский символ пола). Странно, конечно, что портретик фюрера такой маленький в большой тарелке, а ведь Гитлер уже укрепил мощь Германии, помог Франко одержать победу.
В том же 1937 году Пикассо пишет знаменитую «Гернику», исполненную гнева и скорби за гибель мирных жителей под немецкими бомбами. В сравнении с этой монументальной работой – суровой, излучающей боль и гнев, сострадание к невинным людям и проклятие убийцам – «Загадка Гитлера» выглядит жалкой и гадкой.
Сальвадоллар не утомлял себя заботами о родных и близких, о Родине. Он был озабочен личными проблемами: готовил свою новую выставку в Нью-Йорке. Они с Галой были достаточно богаты, чтобы путешествовать по Европе. Покинув Италию, перебрались в Монте-Карло, на виллу мадемуазель Шанель, а затем отбыли в США.
…Во время второго посещения США Дали был уже достаточно «раскручен» прессой, пользовался большим успехом как художник и большой оригинал. С балетмейстером Л. Ф. Мясиным он составил либретто к балету «Безумный Тристан», поставленному в ноябре 1939 года в Метрополитен-Опера (Нью-Йорк) под названием «Вакханалия», с декорациями Дали. Он назвал это «первым параноидальным балетом» (Мясин к тому времени увлекся постановкой бессюжетных балетов).
Под впечатлением крупного коммерческого успеха в Соединенных Штатах Сальвадор Дали окончательно преобразился в личность, которую Бретон, используя буквы его имени, назвал «Avida dollars» («Жажду долларов»).
«Должен признаться, – писал в этой связи Дали, – эти слова достаточно точно отражали ближайшие честолюбивые планы того периода моей биографии…
Сальвадор Дали призван стать величайшей куртизанкой своей эпохи».
Называя так себя, он имел в виду хорошо продаваемые продукты своего творчества и поступки – на потребу публики. «Деньги нам дали все, что только можно пожелать, чтобы быть красивыми и наслаждаться благополучием».
Нет, Дали не «продался буржуям». Он продолжал создавать то, что считал интересным для себя. Но то, что он теперь считал интересным, отвечало вкусам богатой публики. Примыкая к победителям и не сочувствуя побежденным, он сначала почитал Ленина, потом Гитлера, а когда в Испании победили фашисты-фалангисты, приветствовал их, несмотря на то что они расстреляли Гарсиа Лорку.
«Анаграмма “Жажду долларов”, – писал Дали, – стала мне вроде талисмана. Она словно превращала поток долларов в мерно струящийся ласковый дождик».
В Нью-Йорке он получил предложение оформить две витрины. На одной решил показать Ночь, на другой – День. В первой восковая фигура возлежала в ванне, обитой каракулем. Восковые руки держали над водой зеркало, воскрешая миф о Нарциссе. Живые цветы нарциссы росли из пола и мебели. Во второй витрине стояла кровать с черной головой буйвола, держащей в пасти окровавленную голубку. Ножки кровати кончались копытами. На постели – черная простыня, местами прожженная, с огоньками в прорехах. На подушке – голова восковой фигуры, объятой сном. Рядом восседает призрак, увешанный мерцающими драгоценностями.
Когда они с Галой отправились смотреть готовые витрины, оказалось, что все сделано совсем иначе! Его протест директор отклонил. Тогда Дали вошел внутрь витрины, перед которой собралась толпа, и попытался поднять ванну, но смог лишь обрушить ее на витринное стекло. Зеваки отпрянули, спасаясь от воды и осколков. Дали вышел на улицу через образовавшуюся брешь в витрине. За его спиной рухнул огромный кусок стекла.
Его препроводили в полицейский участок. Туда явилась Гала с адвокатом и друзьями. Он предпочел остаться на несколько часов в заключении, а не выплачивать залог. Судья квалифицировал его деяния как «недопустимые», потребовал возместить причиненный ущерб, но отметил, что защита своих произведений – неотъемлемое право художника.
Скандал содействовал популярности Дали. Газеты встали на его сторону. Он получил множество писем и телеграмм со всех концов Америки. Люди утверждали: он защитил не только свою работу, но и независимость искусства от посягательств на нее коммерции.
В том же 1939 году Дали получил заказ на сюрреалистический дизайн павильона для аттракционов на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Художник назвал свой проект «Сон Венеры». Вход был сделан под ногами великанши, сидящей на стуле. Фасад напоминал коралловый грот с отверстиями и ветвями кораллов, порой переходящих в руки или напоминающих рога оленя.
В самом павильоне – коралловый риф с бассейном, диван в форме губ, такси, в котором идет дождь и ползают улитки; в стеклянном аквариуме – мумифицированная корова, фигура мужчины, сделанная из ракеток для пинг-понга, резиновые телефоны, а главное – обнаженные по пояс девушки-русалки в чулках, имитирующих рыбью чешую. Им следовало резвиться, доить «корову», баловаться с резиновыми игрушками.
В нише при входе в павильон по проекту Дали должна была находиться скульптурная копия Венеры с картины Боттичелли с головой… рыбы. Как пояснял художник, если допускается у женщины-русалки рыбий хвост, то почему бы не иметь ей рыбью голову?
Однако заказчики отказались от столь экстравагантного образа, так же как от «дождевого» такси и некоторых других причуд мастера. Он скандалить не стал, а написал «Декларацию независимости воображения и права человека на безумие», протестуя против искажения замыслов творца, отпечатал ее и разбросал с самолета над Нью-Йорком.
Возвращаясь в Европу на пароходе, он, по его словам, «думал о первобытной, дикой мощи американской демократии. Она и прежде, до встречи лицом к лицу, восхищала меня, но не разочаровала и вблизи, несмотря на превратности путешествия. Здесь ты хочешь добыть – и добываешь, идешь напрямик и режешь по-живому. А Европа, измученная своей утонченностью, день ото дня чахнет. Европа не в силах преодолеть идеологическую рознь и потому обречена стать полем битвы, обречена войне и краху».
Вновь и вновь повторю: это написано в США и прежде всего для американцев. Он потрафлял их чувству собственного величия и триумфа демократии за спиной статуи Свободы, под звездно-полосатым флагом.
В Париже он окончательно разочаровался в сообществе сюрреалистов и был оскорблен тем, что на выставке работы разных авторов расположили в алфавитном порядке: «Апофеоз равенства и коллективизма!» – по его словам.
«Близилась война. Путешествие в Америку истощило мои силы, и мы с Галой решили отдохнуть в Пиренеях, вблизи испанской границы. “Отдыхать” в моем понимании означает писать в свое удовольствие по двенадцать часов в день. Затем мы перебрались в Аркашон, где через три дня узнали об объявлении войны. Мы сняли просторную виллу в колониальном стиле, и я оборудовал себе мастерскую. Немецкие войска наступали, а у нас гостила мадемуазель Шанель».
Там он работал крайне напряженно, по его признанию, «с таким осознанием духовного долга, какого не знал прежде».
О каком долге идет речь? Он поясняет: «Все силы и душу я отдал живописи». И только? Во имя чего? И что это за долг перед живописью? Перед ней-то он никогда не оставался в долгу. А как же о долге перед отцом и матерью, друзьями, своим народом, Родиной. Вот – реальный долг каждого из нас, ибо мы не безродные пришельцы на этой планете.
Дали пишет: «Война… показалась мне уличной потасовкой. Однако настал день, когда шум этой драки достиг и моих ушей, и я своими глазами увидал драчунов – крепко сбитых невозмутимых немецких солдат. Уже громыхали по Франции их боевые машины… И я сказал себе: все это слишком уж походит на исторические события и, следовательно, не для тебя. Я… в один вечер собрал холсты и краски, и мы уехали».
Сальвадоллар был верен себе – вне родных и друзей, вне Родины и Европы. Но зато у него были муза Гала, много долларов, талант и творческий энтузиазм.
Над-реализм и под-реализм
Сюрреализм, судя по названию, должен был подняться выше реализма, преодолев его ограничения. Но что означает – выше? Не надо быть большим мыслителем, чтобы признать: мы не только воспринимаем окружающий мир органами чувств, подобно другим животным, но и осмысливаем его рассудком. Не это ли и есть «над-реализм» или «сверх-реализм»?
Вообще-то смысл изначально присутствовал в произведениях искусства со времен каменного века. Вопрос в сути этого смысла, в его целях, задаче, предназначении. Не вдаваясь в философию искусства, упомяну несколько высказываний.
Пушкин в «Памятнике» видел бессмертие своего творчества в том, что, говоря прозой, пробуждал в людях чувства добрые, восславил свободу и призывал к милосердию. Рано умерший и мало известный французский философ Жан Мари Гюйо (1854–1888) верно отметил: если бы искусство не приносило обществу реальную пользу, оно бы быстро отмерло. То, что оно, напротив, постоянно развивалось, доказывает его необходимость для человека.
«Самый дух человека, – писал он, – весь проникнут духом социальности: мы мыслим… в категории общества». Другими словами, если те или иные произведения искусства существуют и популярны, значит, это кому-нибудь нужно. Одно из первых условий – уровень мастерства. Произведение искусства должно быть искусным.
Едва ли не первым Гюйо отметил: «Эра личностей кончается, наступает эпоха масс». Массы решают все уже потому, что торжествуют принципы демократии – буржуазной или народной. В первом случае решающее слово принадлежит буржуа, богачам; во втором – народным массам, трудящимся. Этим определяются два генеральных направления в искусстве, внутри которых образуются различные течения.
По словам Гюйо, «истинное искусство… дает нам непосредственное чувство жизни наиболее интенсивной и в то же время наиболее экспансивной, наиболее индивидуальной и наиболее социальной». Иначе говоря, искусство творит новую реальность в духовной сфере отдельного человека, народа, человечества.
Прогресс техники, развитие фотографии, кинематографии вызвали спад интереса к натурализму и стимулировали поиски новых выразительных средств, бурный расцвет всяческих «измов». Разнообразие – один из критериев развития, а потому в результате искусство должно было бы испытать новое возрождение, подъем на более высокий уровень мастерства и выразительности, воздействия на личность и общество.
Осуществилось ли это? Последние полвека показывают со всей определенностью – нет! Происходит упадок искусства, превращение его в одну из форм «бизнеса» с помощью СМРАП. Расчет на доход, прибыль вынуждает художника или композитора приспосабливаться ко вкусам посредственности, угождать заказчикам.
Прежде искусство предназначалось для повышения нравственного, интеллектуального, духовного уровня людей. Но произошло разделение народного искусства и «элитарного», предназначенного для имущих власть и богатство. В XX веке, в эпоху масс и СМРАП, о смысле искусства, так же как о смысле жизни, предпочитают не рассуждать. Если в обществе выгода, деньги и слава превыше всего, то художник, поэт, композитор, писатель, философ неизбежно стоят перед выбором: принять такие условия существования или идти наперекор им с минимальными шансами достичь успеха.
Этот выбор не обязательно бывает осознанным. Скажем, Сальвадор Дали поначалу вовсе не творил на потребу заказчиков (да и вообще это ему не было свойственно). Он был упоен творчеством как искусством самовыражения, стремясь отражать свои переживания и свое понимание их, исходя из учения Зигмунда Фрейда. Мода среди определенных небедных кругов на психоанализ во многом предопределила успех произведений, созданных с таким подтекстом.
…Если согласиться с тем, что сексуальные устремления и запреты во многом определяют поведение человека, то область бессознательного, по сути своей, вырождается до уровня биологических инстинктов, вызванных действием гормонов, вырабатываемых половыми железами.
Можно возразить: а почему бы не так? Разве человек не животное в своей биологической основе? Разве не таятся в нашей душе темные звериные инстинкты?
Но почему обязательно инстинкты должны быть мерзкими? У высших животных определяющую роль играют любовь к потомству, общительность, взаимопомощь, любознательность. Без этих качеств даже хищники не смогли бы выжить и развивать свой разум.
Есть немало важных для жизни инстинктов. Любому животному требуется постоянно утолять голод или жажду, заботиться о безопасности своей и своего потомства; для детенышей характерны игровое поведение, обучение. А нормальный человек отличается от животных ясным сознанием, способностью осмысливать самого себя и сознательно управлять своим поведением.
Ехидный вопрос: а много ли таких нормальных людей? Разве нет массового стремления к удовольствиям низменным, к отрешению от разума, к максимальному комфорту и материальному богатству?
Да, такие установки становятся все сильнее и распространеннее. Но не потому, что торжествует биологическая природа в человеке, а напротив, личность становится, как отметил Н. А. Бердяев, образом и подобием механизма. Современными людьми управляют с помощью СМРАП (средства массовой рекламы, агитации, пропаганды). Публика не замечает, как ей «промывают мозги» и внедряют упомянутые выше установки – до уровня подсознания. Люди обретают сходство с насекомыми, а не высшими животными.
…Шумный успех психоанализа и возвеличивание Фрейда – явления патологии общественной жизни. Они демонстрируют интеллектуальную и нравственную деградацию личности, деформированной технической цивилизацией, национальными и социальными предрассудками. Начав с весьма субъективного толкования сновидений, Зигмунд Фрейд, давая волю своим сексуальным фантазиям, пришел к ложным обобщениям.
Но если психоанализ многие десятилетия пользуется широкой популярностью, не доказывает ли это на практике (критерий истины!) верность суждений Фрейда о снах и психике человека?
Увы, популярными могут стать ложные идеи и ничтожные личности. Все зависит от хозяев СМРАП и от того, кому выгодны данные убеждения и такой тип личности. Для сексуально озабоченных буржуа, психопатов вполне понятен болезненный интерес к половой проблеме, которым спекулирует психоанализ. А психоаналитикам их профессия приносит доход при ничтожных издержках и малой затрате труда и знаний.
Есть и объективный фактор. Современная техническая цивилизация основана на индивидуализме, выгоде, жажде материальных ценностей и плотских утех. Она творит техногенную личность: ненасытного потребителя, приспособленца, невротика. Страдая от одиночества, дефицита общения, он (она) находят успокоение и утешение в доверительных беседах с психоаналитиком, делясь с ним своими переживаниями, внутренними конфликтами.
Секс в нашей жизни играет не последнюю роль. Но и далеко не первую (если не считать отдельные часы, дни или месяцы). Те, у кого не любовь, а именно секс выпирает на первый план, – существа ущербные, психопаты и маньяки, жертвы ранней импотенции. Убог их мир, если ими руководят устремления и эмоции, относящиеся к области, расположенной ниже пояса.
Искусство, которое потакает этим нравам под знаменем сюрреализма («над-реализма»), выражает «под-реализм» – низкий, подлый, низменный, болезненный, убогий. Да, нечто подобное существует, и в некоторых людях начинает преобладать. Но надо ли это культивировать? А если надо, то для кого, с какими целями? Вот над чем следует задуматься.
Фридрих Ницше предложил сравнение: «С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни его в землю, во мрак, в глубину, – ко злу».
Тут надо уточнить: во мраке земных недр – истоки чистых родников и целебных минеральных вод, а не только раскаленная магма. Но совершенно верно: распространяется область духовных исканий, открытий и откровений не только в светоносные высшие сферы, но и в темные глубины души человеческой, где скрыты многие демоны зла и всяческих мерзостей.
Искусство должно заглядывать и в такие темные закутки человеческой психики. Зачем? Чтобы насладиться смрадом и нечистью? Есть люди, которым это приятно и полезно. Они умеют ловко списывать свои подлости и мерзости на нехорошие инстинкты. Помните, как в комедии Е. Шварца «Обыкновенное чудо» король мило оправдывал свою жестокость тем, что его предки были убийцами, садистами.
Вот и сексуально-маразматические фантазии Фрейда в психологии, а Дали в живописи оказались востребованными в определенных социальных кругах, где сложились специфические типы техногенных личностей, во многом сформированные СМРАП.
Даже один и тот же фильм или рисунок можно воспринимать и понимать по-разному. Что уж говорить о сновидениях! Предложенный Фрейдом способ их толкования не отвечает требованиям научного метода, вызывает большие сомнения. В лучшем случае такова одна из множества гипотез, требующая изменений, дополнений, оговорок. Но если сторонник теории Фрейда убежден, что шляпа с округлым верхом и загнутыми полями символизирует мужские половые органы, то тут ничего не возразишь: как он желает, так и полагает.
…Идея сближения мнимости сна и реальной действительности вдохновляла не только Сальвадора Дали. Луис Бунюэль писал: «Именно безумная любовь к снам, удовольствие, ими порождаемое, без какой-либо попытки осмыслить содержание и объясняет мое сближение с сюрреалистами… Миллиарды и миллиарды образов рождаются каждую ночь, чтобы затем рассеяться, устилая землю покрывалом забытых снов. Все, абсолютно все в ту или иную ночь становится детищем мозга, а затем забывается».
Однажды его поразил удивительный сон: «Я увидел сияющую добротой, с протянутыми ко мне руками Святую Деву… Она говорила со мной, злобным атеистом, с огромной нежностью, под звуки хорошо различимой музыки Шуберта… Я стоял коленопреклоненный, с глазами, полными слез, внезапно ощутив, как меня переполняет трепетная и непоколебимая вера… Еще не пробудившись окончательно, я продолжал шептать: “Да, да, Святая Дева Мария, я верую”. И сердце мое сильно колотилось. Добавлю, что этот сон носил несколько эротический характер… Я просто ощущал влюбленность, был тронут до глубины сердца, но без всякой чувственности».
Почему атеист в сновидении стоял на коленях перед Девой Марией? Во-первых, он, подобно Дали, учился в иезуитском коллеже (что стало одной из причин презрения к церкви) и не раз молился перед изображением Богородицы. Во-вторых, атеиста возмущают не образы Иисуса Христа и Его матери, а то, что их используют церковники в своих корыстных целях. В-третьих, у него подсознательно сохранялось чувство вины за отречение от христианской веры. Все это высветило сновидение.
У Дали, судя по его мемуарам, подобных переживаний не было. Он без мучительных раздумий, легко и непринужденно перешел от воинствующего атеизма к его противоположности. Подобные пируэты не оригинальны. Однако творческим личностям они несвойственны. Объяснить такие поступки Дали можно тем, что он в своей вере был замкнут на себя. Более высоких идеалов у него, по-видимому, не было. Любимую Галу он обожествлял как свое второе «я».
Бунюэль считал образы воображения снами наяву. Он выдумывал, что бы предпринял, окажись в его руках власть над миром. Сначала запретил бы «средства информации как источник всех наших бед» (точней говорить о СМРАП). А еще он освободил бы мир «от нефти, другого источника наших бед» (иначе говоря, от тех, кто наживается на нефти и от непомерных полчищ личных автомобилей).
Для него это были не просто слова. Он всю жизнь восставал против пошлости, подлости и несправедливости буржуазного общества. А сны воплощал с первого своего фильма «Андалузский пес» и во многих других, включая «Скромное обаяние буржуазии».
А что сотворил бы Дали, получив неограниченную власть? В молодые годы – примерно то же, что и Бунюэль. Но после успеха в Америке, когда ему уже было за тридцать, он предпочел бы наслаждаться богатством и славой, для чего ему потребовались бы и продажные СМРАП, и пожирающие «кровь земли» автомобили, и обаяние буржуазии, желательно не скромное.
…Когда Дали стал писать картины на религиозные темы, он тем самым попытался перейти от под-реализма к подлинному над-реализму. Однако это «над» не поднялось у него, по сути, выше образа Галы и некоторых христианских символов.
Демон-искуситель или ангел-хранитель?
Журналист Фрэнк Уитфорд в «Санди таймс» летом 1994 года писал: «Беспомощный в житейском отношении, чрезвычайно чувственный художник был пленен жесткой, расчетливой и отчаянно стремящейся вверх хищницей, которую сюрреалисты окрестили Гала-Чума. О ней говорили также, что ее взгляд проникает сквозь стены банковских сейфов… Она просто взяла беззащитного и, несомненно, одаренного Дали и превратила его в мультимиллионера и “звезду” мировой величины. Еще до бракосочетания в 1934 году Гале удалось добиться того, что их дом начали осаждать толпы богатых коллекционеров, страстно желавших приобрести реликвии, освященные гением Дали».
Насчет толп коллекционеров, осаждавших якобы дом Дали и Галы в 1934 году, – явное преувеличение. Только через год Сальвадор стал знаменитым, о чем свидетельствовал, в частности, декабрьский номер американского журнала «Тайм» с его портретом на обложке.
Кем же была для Дали Гала?
Она практически сразу стала его музой-вдохновительницей и постоянной единственной моделью.
Луис Бунюэль, хорошо знавший Сальвадора в его молодые и зрелые годы, свидетельствовал: «Практически он никогда не интересовался женщинами. Как человек, склонный к воображению, с некоторыми садистскими тенденциями, он даже в молодости не был женолюбом и насмехался над друзьями, увлекавшимися женщинами. Невинности его лишила Гала. После чего он написал мне на шести страницах великолепное письмо с описанием радостей плотской любви.
Гала – единственная женщина, которую он действительно любил. Ему случалось обольщать и других женщин, в особенности американок-миллиардерш. Но при этом он только раздевал их, варил крутые яйца, клал им на плечи и, не говоря больше ни слова, отправлял домой».
По словам Бунюэля, «под влиянием Галы, буквально загипнотизировавшей его, он перешел от одной крайности к другой и начал делать деньги, вернее, золото, оно было его божеством всю вторую половину жизни».
Перехода от одной крайности к другой в денежном отношении у Сальвадора не было. В молодые годы, оставаясь на содержании отца, он мог не заботиться о заработке. Тогда первой и главнейшей его потребностью было творчество; к обогащению он не стремился. Отцовское «проклятие» поставило перед ним трудные материальные проблемы. Гала стала его спасительницей, «Сальвадоршей» («Сальвадор» по-испански – «Спаситель»).
Да, конечно, если она и была похожа на ангела, то на падшего. У нее были отличная фигура и страстная натура. Муж Элюар писал ей: «Я заметил в комнате широкую лунную дорожку, и я увидел тебя, правда-правда, совершенно голой с раздвинутыми ногами, и ты отдавалась двум мужчинам, буквально пожирая одного из них. И сейчас еще, вспоминая об этом, я думаю, что ты для меня – воплощение любви, воплощение самого острого желания и эротического удовольствия».
Что уж тогда говорить о Сальвадоре, которого, можно сказать, соблазнила и совратила чувственная опытная женщина на 10 лет его старше. «Еще никогда в жизни я не “занимался любовью”, – признавался он, – я представлял себе это действо как нечто активное и не соответствующее своей физической силе; это было не для меня».
По-видимому, это следует понимать так: он не надеялся на свои сексуальные возможности (физически он не был слишком слаб), а она в их дуэте играла первую партию. Она чарами любви и страсти почти мгновенно превратила юного старичка в молодого мужчину.
Ее появление и разрыв с отцом вызвали у него новый творческий импульс и содействовали появлению целого ряда картин, в частности, из цикла «Вильгельм Телль» и «Анжелюс» («Вечерний звон»). Покинула она своего молодого любовника, увозя в Париж его «Мрачную игру», «Портрет Поля Элюара». По ее словам, «я сразу поняла, что он – гений». Он подтверждал: «Она стала рассматривать меня как гения. Полубезумного, но обладающего большой духовной силой. И чего-то ждала – воплощения ее собственных мифов. Считала, что я, может быть, смогу стать этим воплощением».
Если так, то следует отдать должное ее проницательности, дальновидности, художественному чутью. Конечно, она слышала от мужа и друзей восторженные отзывы о его таланте. Но именно она поняла: из Дали можно создать фигуру мифическую. И умело принялась за дело.
Она связала с ним свою судьбу до того, как он стал хорошо, а затем и щедро оплачиваемым художником, дизайнером, и разделяла с ним не только успех, но и трудности. Гала избавила его от материальных забот, ведя не только домашнее хозяйство, но и его деловые отношения.
Судя по всему, идея попытать счастья и денег за океаном в 1934 году принадлежала Гале. Это было верное решение. Европейцы были пресыщены разнообразными художественными школами, оригинальными и талантливыми работами. Америке, падкой на сенсации, надо было не только показать произведения, но и произвести на нее впечатление самим появлением незаурядного художника. Это было осуществлено с блеском, обеспечив Дали постоянное внимание репортеров. Тем временем Гала разными способами, подчас далеко не безупречными, обеспечивала «первоначальный капитал».
Нередко нечестные финансовые махинации четы Дали списывают на беспринципную Галу. Однако «наивный и беспомощный» Сальвадор подписывал немало пустых листов (небесплатно, конечно), прекрасно понимая, что это позволит кому-то воспользоваться его именем.
Вот один из эпизодов его пребывания в США, рассказанный Луисом Бунюэлем (дело происходило в 1960-е годы):
«В Нью-Йорке к нему однажды пришли три мексиканца, которые готовили фильм…
Они просили у Дали только одного: разрешить снять его входящим в бар “Сан-Режис” и направляющимся к своему любимому столику с маленькой пантерой (или леопардом) на золотом поводке.
Дали встретился с ними в баре и переправил к Гале, которая, мол, “занимается такими вещами”.
Гала приняла гостей, усадила их и спросила:
– Что вам угодно?
Они объяснили. Выслушав, Гала резко спросила:
– Любите ли вы бифштекс? Вкусный, толстый и мягкий?
Несколько сбитые с толку и думая, что их приглашают обедать, все трое ответили утвердительно. Тогда Галя продолжала:
– Так вот, Дали тоже любит бифштексы. А вам известно, сколько они стоят?
Те не знали, что говорить.
Тогда она заломила такую сумму – десять тысяч долларов, что гости удалились несолоно хлебавши».
Можно и тут предположить: Сальвадор был далек от меркантильных проблем и увлечен творчеством, а Гала взяла такие дела в свои хищные руки. Однако он сам постоянно твердил, что они с Галой составляют единое целое. Да и без того очевидно: Сальвадор мог сам преспокойно сказать «да», не спрашивая о гонораре: ведь он тогда был богат. И если отправил мексиканцев к жене, то лишь затем, чтобы торговалась с ними она вместо него.
Свое отношение к богатству Сальвадор Дали высказывал не раз. Например: «Меня всегда завораживало золото. Это моя наследственная, средиземноморская, финикийская черта»; «Простейший способ освободиться от власти золота – иметь его в избытке»; «Дон Кихот был сумасшедший идеалист. Я тоже безумец, но притом каталонец, и мое безумие не без коммерческой жилки»; «Суть параноидального преломления в том, чтобы навязать жизни бред. Из этого, кстати, можно извлечь выгоду. В частности, таким образом я зарабатываю деньги»; «Я убежденный противник общества потребления. И потому выражаю ему презрение самым действенным способом: вытрясаю как можно больше денег, дабы распорядиться ими по своему усмотрению. Первый из великих художников, я стал работать на потребу публики. Но пример мне показал Эйнштейн. Когда его пригласили на какое-то торжество, гений спросил: “А сколько мне заплатят за то, что пойду?” Вот образец безукоризненной логики».
Можно считать подобные высказывания эпатажными, ироничными, но вряд ли усомнишься, что этот человек ясно сознает власть денег, стремится иметь их как можно больше и умеет это делать. Гала вела его финансовые дела, заключала договоры с его молчаливого одобрения.
С июня 1937 года Сальвадор по контракту с коллекционером Э. Джеймсом должен был год работать на него за щедрое вознаграждение. Жена сумела организовать дополнительные доходы. Ясное дело, Сальвадор делал вид, будто не догадывается об этом.
Гала смогла обеспечить Сальвадору безбедную и в материальном отношении беззаботную творческую жизнь – как ангел-хранитель. То, что она стала для него демоном-искусителем, было ему во благо.
«Если бы я не встретил Галу, я кончил бы свой век в конуре, в отрепьях, изъеденный вшами». Преувеличено, конечно, но по сути верно. Не случайно же в его картинах присутствуют костыли. Ему самому требовалась надежная опора. Хрупкая женщина со стальным характером оказалась весьма кстати и в самое нужное время.
«Я понятия не имею, беден я или богат, – признавался он. – Всем распоряжается жена. А для меня деньги – мистика».
Увы, для всех нас, для человечества в эпоху капитализма, власть бумажек, называемых деньгами, обрела магическую силу. (В нынешнем веке бумажные деньги вытесняются незримой виртуальной валютой, которая подчас, как доллар США, не обеспечена реальными материальными или духовными ценностями.)
Говорят, на картине Дали Христофор Колумб, ступивший на берег Нового Света, несет стяг с изображением Галы и надписью: «Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег».
Их брак был основан прежде всего на духовном единстве и глубокой взаимной привязанности. Половым отношениям Дали вообще придавал мало значения, а она с молодости привыкла к сексуальной свободе. До глубокой старости она пользовалась услугами молодых любовников.
Скончалась легендарная Гала 10 июня 1982 года в возрасте 88 лет. Корреспондент «Советской культуры» А. Медведенко из Мадрида:
«Дали был намерен исполнить последнюю волю жены: похоронить ее в Пуболе, находящемся в 80 километрах от Порт-Льигата, в замке, в свое время подаренном Дали своей возлюбленной. Однако древний испанский закон, изданный во времена эпидемии чумы, запрещал перевозить тело без разрешения властей. Дали ради Галы идет на нарушение закона. Обнаженное тело покойной завернули в одеяло и положили на заднее сиденье «кадиллака». За руль садится водитель Артуро. Их сопровождает сестра милосердия… Знаменитый «кадиллак» Дали, свидетель многих счастливых путешествий по Франции и Италии, превратился в катафалк. Через час с небольшим он доставляет покойную в Пуболь… Гроб с прозрачной крышкой с телом Галы был погребен в склепе замка 11 июня в шесть часов вечера в присутствии самого Дали».
Путь к славе и богатству
Осмыслить жизнь каждого человека, тем более творческого, одаренного, знаменитого, можно лишь в контексте тех событий, которые происходили в окружающем его мире, в его эпоху, в его стране, с его народом. Для жизни и творчества Сальвадора Дали характерно то, что он с некоторых пор стал отстраняться от текущих событий.
Это отчетливо заметно в его мемуарах. Он мельком писал о гражданской войне в Испании, о начавшейся Второй мировой войне, не упоминал о страшных бедствиях, выпавших на долю многих стран и народов Европы, а более всех – на СССР. Но как подробно повествовал он о пустячных событиях личной жизни, о своих страданиях от впившейся под ноготь застывшей «соплюшки»!
Да, конечно, это сделано отчасти нарочито, в угоду роли эгоиста, циника, параноика-эгоцентриста, которую он разыгрывал. Но он не очень-то притворялся. Смена социально-политических ориентиров определяла принцип его существования в обществе.
В юности и ранней молодости он не был таким беспринципным приспособленцем: активно интересовался политикой, был революционером (хотя бы на словах), атеистом, интернационалистом, сторонником большевиков и Советской России. Однако это практически не отразилось на его работах. Политические взгляды и выступления были для него больше проявлением демагогии, чем глубоким убеждением. Всерьез его увлекала только живопись.
В 1927 году, комментируя выставку в барселонской галерее рисунков Федерико Гарсиа Лорки, Сальвадор Дали писал: «В рисунках Лорки, поэтичных и страстных, на наш, каталонский взгляд, есть только один изъян, заметный лишь потому, что нам он несвойственен и в малой мере: рисунки Лорки день ото дня становятся все изысканнее и утонченнее».
Если иметь в виду технику исполнения живописных полотен, то же самое можно сказать о Дали. Однако содержание его работ начиная примерно с того же года трудно назвать изысканным и утонченным. У него на картинах появились гниющие трупы ослов, расчлененные тела, кровь и кал. Его все более обуревали образы собственной фантазии, навеянные психопатическими концепциями Зигмунда Фрейда.
Это началось до его знакомства с Галой и до того, как он официально примкнул к сюрреалистам. Он был свободным художником, ищущим свой путь в искусстве. Работал сначала в стиле импрессионистов, кубистов, дадаистов и в манере Миро, Пикассо. Все это было в молодости. Но и тогда он был искателем, а не подражателем.
Можно с полным основанием возмущаться его отношением к людям, обществу. Однако надо отдать ему должное: творчеству, вдохновению, искусству он не изменял. Психологически и сексуально он был ориентирован только на себя, на свои знания и впечатления, на свои поиски и свершения. Все остальное было для него второстепенным.
Дали не был сторонником искусства для искусства – направления, характерного для чудаков и непрофессионалов. Любое творчество имеет смысл или для личного удовольствия (так называемое «хобби»), или как общественное явление, пусть даже конкретное общество будет ограничено несколькими людьми или одним адресатом.
Не имея твердых политических и этических убеждений, Дали чутко реагировал на отношение публики к своим творениям, в особенности тех, кто понимал толк в живописи, в искусстве. Его вдохновляли хорошие отзывы о его работах. На его счастье, в похвалах у него не было недостатка.
«Творчество – по другую сторону баррикад», – высказался он. Такова была его позиция: не над схваткой, когда испытываешь боль за всех, кто страдает и гибнет, не с теми, чьи убеждения разделяешь, а в сторонке, «в кустах», выжидая и выбирая для себя тех, кто победит. Это не творчество, а жизненная позиция.
В 1929 году он определился как самобытный художник. У него выработались свой стиль, свои сюжеты, своя символика и трактовка художественных образов, шокирующая откровенность фрейдистского толка. «Траурная игра», «Великий Мастурбатор», «Загадка желания: моя мать, моя мать, моя мать», «Портрет Поля Элюара», «Просвещенные удовольствия», «Два балкона», «Осквернение гостии», «Незримый человек», «Имперский монумент женщине-ребенку, Гала (утопическая фантазия)». Эти работы 1929 года можно считать «видениями и фантасмагориями Дали». Многие свои находки данного периода он повторит в последующих полотнах.
Текучие формы, сложные композиции, трансформация образов, обилие символических фигур, особый интерес к мелким деталям. В «Незримом человеке» впервые применен способ «составного образа» из нескольких других, сочетаний света и тени. Появляются маски (нечто личное?). Явные выпады против церкви («Осквернение гостии», католической святыни). Проявление не только свободы творчества, но и освобождения от нравственных или религиозных запретов.
Картины следующих двух лет отражают его сближение с Галой («Головокружение», «Кровоточащие розы», «Сон») и разрыв с отцом (цикл «Вильгельм Телль»). В дальнейшем наиболее постоянной моделью становится Гала. Он по-прежнему лелеет если не в личной жизни, то в картинах фрейдистские комплексы. С 1932 года навязчивыми образами для него становятся персонажи картины Жана Франсуа Милле «Анжелюс»: мужчина и женщина на вспаханном поле слышат вечерний звон и склоняют головы в молитве.
Эта картина врезалась в память Сальвадора во время учебы в католическом коллеже. Позже, начитавшись Фрейда, он стал по-иному толковать сюжет. Женщина предстала ему в образе самки богомола, готовой сожрать партнера. Он, в свою очередь, прикрывает шляпой свои половые органы, а тачка с двумя мешками их символизирует…
«Ретроспективный бюст женщины» (1933; раскрашенный фарфор) несет сходную смысловую нагрузку в полном смысле этого слова. Голова пышногрудой красавицы увенчана длинным батоном, на котором покоится чернильный прибор, изображающий персонажей «Анжелюса». На безмятежном лице женщины копошатся мошки – символ порочных наклонностей и гниения; две косы завершаются початками кукурузы.
Даже на портрете виконтессы Мари-Лор до Ноай (1932) присутствуют все те же фигуры, причем мужчина стоит на краю обрыва, а из головы его торчит тележка с двумя мешками. В картине «Атавизм сумерек» мужчина, также с тележкой в голове, – полусгнивший труп; то ли это восставший из гроба, то ли обреченный на смерть за свою неодолимую похоть.
В некоторых его работах «Анжелюс» принимает гигантские размеры, трансформируется на разные лады.
Отзывался Дали о картине самого Жана Франсуа Милле двояко. Считал ее «убогой, безвкусной, примитивной, незначительной, пошловатой и до крайности традиционной» (писал это незадолго до того, как сам стал сторонником Традиции). В то же время, по его словам, «из всей мировой живописи только “Анжелюс” выдерживает накал замершего присутствия двух существ в гибельном, безлюдном сумраке, накал встречи, до краев наполненной ожиданием».
К середине 1930-х годов Сальвадор Дали окончательно убедился в том, что состоятельных людей, покупателей его произведений, не привлекают революционные порывы сюрреалистов, а успех имеют фантасмагории, выполненные в классической манере. Теперь он заговорил иначе:
«Все, что придумали мы, сюрреалисты, уже есть у Рафаэля. Все наши открытия – крохотная, почти неприметная находка художника, сознательно уловленная частица его тайных и явных откровений. Но все в Рафаэле так цельно, так едино и целостно, что мы не видим этой частицы отдельно…
А если говорить о чувстве, и, прежде всего, о чувстве смерти, об эросе, растворенном в линиях и полутонах, о нравственном чувстве, естественном, обыкновенном и могучем, то разве может кто-нибудь из нас хоть малость добавить к тому, что сделал Вермеер, переплавив пережитое в неземной свет, строгую поэзию и тихую глубь своих полотен? Классика – это значит, что в произведении искусства уже есть все – то все, которое отовсюду, – но этому всему совершенно точно определено место в строжайшей иерархии, так организующей шедевр, что никакая деталька (а имя им легион) не лезет в глаза. Классика есть целостность, космос, вера, а не раздробленность, не хаос и не цинизм».
Он стал соединять, казалось бы, несоединимое: мнимость представала на его полотнах как действительность; образы, рожденные воображением, были неотделимы от вполне конкретных предметов. Классическая манера исполнения подчеркивала реальность бредовых фантазий. Этим достигался поистине сюрреалистический эффект. Этот прием и называл Дали «параноидально-критическим» методом.
Примерно с 1936 года в его работах появляются ящички, выдвигающиеся не только из шкафов, секретеров, но также из людей. Понять его замысел помогает такой фрагмент его воспоминаний. Он относится ко времени гражданской войны в Испании, когда Сальвадор посетил свой родной дом в Кадакесе.
«Взгляд мой остановился на секретере вишневого дерева, и комок подступил к горлу: я же наизусть знаю все эти ящички, полочки, отделеньица, я же помню – до завитка! – этот древесный рисунок. Я отворил сердцевинку секретера… В шкафчике было пусто, и только в дальнем отсеке – просунешь руку и еле-еле дотянешься до дна – всегда валялись какие-то ключи, две-три пуговки, гнутая монетка, булавка в комочках бурой пыли и резная игрушка из кости – зайчик с обломанным ухом, следами клея на переломе и налипшими на него жесткими черными волосками. Они стояли торчком – казалось, увечное ушко щетинится, и почему-то это было очень противно. Мама любила наводить чистоту и всякий раз, убирая в шкафчике, выбрасывала всю эту дребедень, но не проходило и недели, как эта самая дрянь появлялась снова. Разумеется, не эта самая, а не отличимая от нее.
Сердце у меня дрогнуло, когда я открыл шкафчик и засунул руку в дальний отсек. Так и есть. Там, на дне, я нащупал ту, прежнюю дребедень: ключи – один ржавый, а другой – махонький и гладкий. Булавка, пуговки, гнутая щетка, а вот и зайчонок, вот клейкий шрам на обломке уха с налипшей черной щетиной. Рука моя была вся в пыли – той самой, памятной, залежавшейся, буроватой. Я встал против света, растопырил пальцы и засмотрелся на розовеющий мерцающий силуэт. Вот точно так же я разглядывал свою пятерню в детстве, когда выздоравливал после болезни. Пылинки розовели, мерцали, реяли. Пыль! Все преходяще, а этот комочек пыли – вечен. Он вне истории и тем сильнее ее. Пыль – динамит времен, в пух и прах она разносит историю».
Прекрасный пример литературного мастерства Дали, а также легковесности – как пыль, осевшая в укромном уголке, – его рассуждений об истории. Детство не исчезает бесследно. Оно остается в человеке сердцевиной, от которой невозможно избавиться. И воспоминания, подобно потайным ящичкам подсознания, выдвигаются, словно сами собой, приоткрывая оконца в прошлое.
Из картин этого периода отметим «Окраину параноидально-критического города: полдень на задворках европейской истории» (1936). В центре, на переднем плане, улыбающаяся Гала протягивает зрителю руку с кистью винограда. Из многих отчасти загадочных объектов выделим три. Конская статуя сзади уподобляется по форме кисти винограда и лошадиному черепу. Силуэт девочки, бегущей на площади со скакалкой, повторяется в звучащем колоколе на башенке. Справа – закрытый сейф с ключом на крышке (символ богатства?), а замочная скважина повторяет силуэт мальчика, стоящего в далекой подворотне. Та же фигурка видна слева в дверном проеме дворца (символ знатности и славы?).
«Больной параноик» (1936): фигуры мужчин и женщин, изображающие отчаяние, стыд, горе, складываются в два образа человека с улыбкой идиота. Возможно, это следует понимать как соединение в одном человеке множества духовных сущностей, находящихся между собой в разладе.
«Лебеди, отражающиеся в слонах» (1937) – несколько наивное превращение в слонов лебедей и сухих деревьев на берегу, отраженных в воде. Странно выглядит стоящая в стороне фигура мужчины, словно выписанная по фотографии. Вдали в море лодка, а на горе крепость. Что все это может означать, остается только догадываться.
Более понятно полотно «Метаморфозы Нарцисса» (1937). Ему Дали посвятил стихотворение (перевод Н. Малиновской):
Когда ясное, дивное тело Нарцисса к темному зеркалу, заворожив озерную гладь, склонится; когда белое тело в гипнотическом сне неутоленной жажды, наклоняясь к своему отраженью, оттиском серебристым застынет… … О Нарцисс! Исчезая в зыбком омуте отраженья, ты тело теряешь, а призрак все манит и манит… … Знаешь, Гала (а впрочем, конечно знаешь), это – я. Да, Нарцисс – это я.На переднем плане в картине Нарцисс, склоненный и отраженный в воде, рядом, повторяя части его тела, вздымается рука, держащая в пальцах похожее на его голову треснутое яйцо, из которого пробивается цветок нарцисса (он был назван по имени этого героя античного мифа). Сбоку собака, грызущая кости. На заднем плане мужчина на пьедестале и фигуры обнаженных встревоженных мужчин и женщин. А вдали на горизонте в виде вершины горы возникает нечто напоминающее Нарцисса…
Следующий этап в жизни и творчестве Сальвадора Дали определялся его пребыванием в США, куда он и Гала приехали в 1940 году.
Изобразив страшное лицо войны, Дали на следующий год, когда фашисты напали на СССР, в разгар мировой войны, пишет характерный «Мягкий автопортрет с жареной грудинкой» (1941). Растекающаяся маска вместо лица, подпорки, пустые глазницы, кое-где насекомые. Кусок нарезанного мяса напоминает нечто уже съеденное. Неужели Дали так откровенно выразил свою внутреннюю суть, а также свое отношение к поклонникам и покупателям?
Творчество превыше всего
Кличку «Авида Долларс» Сальвадор Дали признал, как мы знаем, только отчасти. По его словам, она достаточно точно отражала «ближайшие честолюбивые планы того периода».
Можно, конечно, съехидничать: мол, планы были не столько честолюбивы, сколько «деньголюбивы». Однако не надо забывать: Сальвадор Дали был не из тех, кто готов ради богатства идти на любые компромиссы. Материальное благосостояние, комфорт, капитал не были для него самоцелью. Они имели смысл только при условии творческой свободы.
Находясь в Америке, вдали от охваченной войной Европы, Сальвадор и Гала долгое время жили в поместье Хемптон-Менор в штате Вирджиния, принадлежащем одной из участниц «Зодиака» Кэресс Кросби. Здесь он писал не только картины, но и книгу «Тайную жизнь Сальвадора Дали…». Впрочем, первоначальные наброски этого произведения не отличались блеском стиля, а порой и грамотностью. Автор пренебрегал литературной обработкой материала, предоставив это своей жене.
Книга получилась яркой, образной и порой настолько откровенной, что известный писатель Джордж Оруэлл счел ее «зловонной», наполненной «сексуальными извращениями и некрофилией». Суждение, пожалуй, чрезмерно строгое, хотя и небезосновательное.
Другой известный писатель – Андре Моруа – дал иной отзыв: «Книга Дали представляет собой странную картину – дико смешную, агрессивную, оскорбительную, фанатично провокационную, беспечно красивую. Посмотрите, что стоит за этим: ум, полный уважения к традициям, и сердце, страстно жаждущее веры».
Так или иначе, американская публика охотно раскупала эту книгу, украшением которой были рисунки автора.
В том же поместье Дали пишет картину «Вечерний паук сулит надежду!» – одну из трех, посвященных войне. Из дула пушки вылетает конь, изливаются пластичные массы, одна из которых переходит в Нику, греческую богиню победы. Пластичная, искаженная почти до неузнаваемости фигура со смычком свисает с высохшего дерева, пытаясь играть на размягченной виолончели. Слева внизу ангелочек с ощипанными крыльями закрывает лицо рукой. От всего этого веет, пожалуй, тоской.
Поверив в свой литературный талант, Дали приступил к созданию романа «Тайные лики» (или «Скрытые лица»), который писал главным образом в Нью-Гемпшире, в поместье другого своего мецената – маркиза де Куэваса. На этот раз его сочинение, затрагивающее тему садизма и мазохизма, читательского успеха не имела.
Выставка полотен Дали 1941 года проходила в Нью-Йорке в галерее Жюльена Леви под лозунгом: «Последний скандал Сальвадора Дали, который станет началом его классического периода». На обложке каталога художник поместил репродукцию «Мягкого автопортрета с жареным беконом» (о ней мы уже говорили) в арке с гравюры Палладио.
По словам Дали, завершается «психологическая эра» спонтанного рисунка, дешевой философии, «прикрывающей духовное и техническое невежество… Юная, по-инквизиторски строгая морфологическая эра, одетая с головы до ног в архитектуру чистых форм, стоит уже, как лучезарная богиня, у дверей Храма искусств, вновь и вновь преграждая вход недостойным».
Он уже тогда осознал, что пора переходить к новым сюжетам.
По-видимому, первой картиной этого переходного периода стала работа 1943 года «Геополитическое дитя, наблюдающее рождение нового человека».
У этого любознательного ребенка изможденная мать, похожая на мужчину, указывает на вылупляющегося мужчину из мягкой планеты яйцевидной формы. Возможно, женщина олицетворяет европейскую науку. Историк и философ О. Шпенглер в те годы писал, что глобальная цивилизация стала результатом распространения «исключительно западноевропейской культуры… Рассуждать о том, в каких новых формах будет существовать человек будущего… – это всего только игра, которая кажется мне слишком незначительной, чтобы тратить на нее драгоценное время жизни».
Возможно, и для Дали это было игрой. Но он показал: новый человек рождается в Северной Америке, а рукой опирается на Западную Европу, сминая ее. Он продирается в трещину, из которой вытекает кровь. У навеса над яйцом угрожающе острые края. Как бы ни толковать эту аллегорию, она пророчит глобальное владычество цивилизации США. Это понятно: создавалась картина в США и для американцев. Ведь он же писал: «Отсюда, с маяка свободы, я гляжу на Европу».
На следующий год им была создана ставшая популярной картина «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения». Обнаженная женщина безмятежно лежит, находясь в невесомости. В ее руку нацелен иглоподобный штык. За ним – два свирепых тигра (полосатые, как пчела). Комментируя картину, он сослался на «открытый Фрейдом тип долгого связного сна, вызванного мгновенным воздействием». (Хотя все это было известно задолго до работ австрийского психолога.)
Следующая работа этого периода – «Апофеоз Гомера (Дневной сон Галы)». В этой фантасмагории он использовал многие свои приемы и образы; однако композиция оставляет желать много лучшего. Смысл его аллегорий путанный, если не считать камня на переднем плане с алхимическим символами и еврейскими письменами.
Словно не заметив чудовищного преступления американцев, спаливших в атомном пекле 200 тысяч жителей двух мирных японских городов, Дали писал: «Взрыв атомной бомбы 6 августа 1945 года был для меня просто сейсмическим потрясением. С тех пор атом стал излюбленной пищей моего ума».
Напомним, он и Гала именно тогда находились в Соединенных Штатах. Сальвадор умел приспосабливаться к текущей ситуации. Однако в своем творчестве он не был приспособленцем.
Осенью 1945 года знаменитый английский режиссер Альфред Хичкок, работавший в Голливуде, предложил Дали сделать декорации для сцен ночных кошмаров в фильме «Заворожённый». Режиссер на свой лад изменил его предложение, и Дали прервал с ним работу. Столь же неудачно завершилась и его попытка сотрудничать с Уолтом Диснеем.
Одна из последних картин переходного периода к «неоклассическому сюрреализму» – «Искушение святого Антония» (1946). Ужасные и соблазнительные видения Антоний решительно останавливает крестом, опираясь на камень. Вокруг пустыня; лишь на облаке нечто подобное граду небесному и фигура стоящего на коленях человека. Видения вышагивают на тонких и длинных ногах, похожих на паучьи.
Конечно, помимо таких программных картин Сальвадор Дали писал портреты многих американских богачей. Но он вовсе не потакал вкусам и желаниям заказчиков, а порой позволял себе по отношению к ним иронию, а то и сарказм. На него не обижались: Дали был в Америке знаменитой фигурой.
По словам Натаниэла Харриса: «Художник присвоил себе великое множество ролей, особенно после того, как триумф в Соединенных Штатах открыл ему дорогу. Помимо прочего, он был изобретателем, дизайнером одежды и украшений, писателем, художником-постановщиком кинофильмов, а также саморекламистом, одним из создателей стиля перформанс и, наконец, “звездой” множества коммерческих телевизионных шоу… Поставленное в Нью-Йорке “Сентиментальное собеседование” было сюрреалистической феерией, в которой участвовали танцоры с волосами, свисающими из подмышек до самого пола, огромная механическая черепаха, инкрустированная разноцветными лампочками, и маниакальные велосипедисты» (они показаны на одноименной картине 1944 года).
Несмотря на материальное благополучие и успех в США, Сальвадор (в отличие от Галы) так и не смог полюбить эту страну. В июле 1948 года чета Дали вернулась в Европу после восьмилетнего отсутствия. Лететь на самолете Сальвадор не рискнул, а когда пароход прибыл в Гавр, сразу же на шикарном «кадиллаке» отправился в Фигерас навестить отца.
Да, он вернулся домой победителем. На фотографии 1948 года он гордо сидит возле измученного смертельной болезнью отца, держа в руке американское издание своей книги «50 секретов магического искусства».
В ноябре 1949 года Сальвадор Дали на аудиенции у папы Пия XII преподнес ему картину «Мадонна Порт-Льигата». Папу римского, по-видимому, не покоробило сходство Богоматери с Галой и окно в мир, прорезанное через тела ее и младенца. На то воля художника! К тому времени католическая церковь взяла курс на обновление, отказалась от излишних строгостей, а Дали был знаменит, и его картину приняли с благодарностью. Тем более что Сальвадор заявил о своей приверженности католицизму.
В конце года вышла небольшая книга Аны Марии «Сальвадор Дали глазами сестры». В ней художник времен своей юности и молодости предстал не совсем таким, как в автобиографии. Его это возмутило, хотя отец взял сторону сестры. Тут сказалась неприязнь Аны Марии к Гале, которую Сальвадор боготворил.
21 сентября 1950 года умер отец, Сальвадор Куси. Все недвижимое имущество он завещал дочери. Брат в письме просил ее не продавать оставшиеся в доме его картины, прислать его книги и журналы, а также те картины, которые она пожелает.
В связи с завещанием отца к Сальвадору в Порт-Льгат приехал нотариус, настаивая на незамедлительной встрече. Художник в это время, как он пишет в «Дневнике одного гения», предоставил возможность «горячо и нежно любимому мозгу Дали погрузится в грёзы».
Нотариус, однако, решительно вошел к нему в библиотеку с официальными бумагами. Разгневанный Дали разорвал их. По его словам, он выкинул «нотариуса за дверь, дав ему на прощанье пинка под зад – пинок, впрочем, был символическим, ибо на самом деле я к нему даже не прикоснулся».
Нотариус, находившийся при исполнении служебных обязанностей, подал на него в суд. Благодаря влиятельным заступникам, Дали удалось избежать наказания, письменно извинившись перед нотариусом (об этом художник в своей автобиографии не упомянул).
…На картине «Атомная Леда» он представил свою любимую Галу идеалом женской красоты (не без нарочитой красивости). Она парит в воздухе, и даже морская поверхность отделена от земли. В более поздних работах Гала предстает в образе Мадонны. И в этих работах иллюзорный воображаемый мир обретает рельефность, осязаемость.
Об одном из таких полотен Дали писал: «На нем фигуры и предметы кажутся инородными телами в космическом пространстве. Я мысленно дематериализовал их. А затем представил их духовную сущность, чтобы получить возможность сотворить энергию». Тут он по своему обыкновению витиеватым выражением затемнил суть: использован прием, позволяющий в натуралистическом стиле изображать мнимую реальность.
То же можно увидеть на картинах «Я в возрасте шести лет, когда я верю, что стал девочкой, а пока с большой осторожностью приподнимаю кожу моря, чтобы рассмотреть собаку, которая спит под сенью воды» и «Обнаженный Дали, созерцающий пять упорядоченных тел, превращающихся в корпускулы, из которых внезапно создается Леда Леонардо, оплодотворенная лицом Галы».
Морская поверхность, лишенная массы воды, становится искусственной пленкой и воспринимается как «шутка гения», лишенная, увы, остроумия. Теперь Сальвадор Дали мог себе позволить подобные причуды. Он стал не только прославленным мастером, но и миллионером, картины которого покупаются за крупные суммы. Дуэт Гала – Дали оказался чрезвычайно успешным проектом.
…В середине XX века Дали писал: «Я не раз замечал, что самые ярые революционеры, заклятые враги академического рисунка, сокрушившие не одну гипсовую голову, эти ниспровергатели канонов, дожив до седых волос – не поздновато ли? – начинают украдкой рисовать в самой строгой академической манере – именно так, как их обучали на тех самых злосчастных головах!
Дали – не из этих ниспровергателей. Дали никогда ни к чему не возвращается, ибо никогда ни от чего не отрекается».
Вновь он лукавит: был же в свое время ниспровергателем классицизма. И – совсем уже скверно – не раз отрекался ради личных интересов от своих родных, друзей, убеждений.
На этот раз он признается: «Разум толкает меня к католичеству. Как многие приходят к пониманию религиозной истины через физику, я надеюсь постичь ее через метафизику».
Он вернулся к академизму и в манере письма, и в сюжетах на библейские темы. Вот некоторые работы 1949–1960 годов: «Мадонна Порт-Льигата», «Христос святого Хуана де ла Круса», «Ядерный крест», «Ультрамариново-корпускулярное Вознесение Богоматери», «Распятие или гиперкубическое тело», «Тайная вечеря», «Гваделупская Богоматерь», «Вселенский собор».
То, что Гала показана в образе Богоматери, не смутило ни римскую католическую церковь, ни официальные власти Испании. Прославленному художнику многое было дозволено.
В августе 1958 года Сальвадор Дали обвенчался с Еленой Дьяконовой. На следующий год в Ватикане удостоил Дали аудиенции папа Иоанн XXIII. Казалось бы, на склоне лет свершилось покаяние бывшего великого грешника…
Не тут-то было! Сальвадор остался верен себе.
В те же годы он пишет «Живой натюрморт» (1956), где все предметы в динамике, словно поднятые вихрем. И тут же фрейдистские символы. И вовсе уже откровенно эротическая: «Содомское самоудовлетворение невинной девы» (1954), где округлости стоящей спиной к зрителю женщины – в тонких чулках – сопряжены с формами, напоминающими рог носорога, но еще больше фаллос.
В «Дневнике одного гения» он отмечает: «Хотя на первый взгляд читателю может показаться, что 1954 год прошел для Дали впустую, – это вовсе не так… Во-первых, он написал пьесу в трех актах под названием “Эротико-мистический бред” с тремя действующими лицами. Как легко догадаться, эту лирическую драму, насыщенную яркими, сочными эротическими вербализмами, можно ставить только в очень узком, интимном кругу. Дали пишет в этот период также книгу “120 дней Содома прекрасного полоумного маркиза” и начинает фильм под названием “Удивительная история о кружевнице и носороге”».
Дали, как мифический Протей, изменчив и многолик в соответствии с обстоятельствами. Он признавался: «Я высокомерен и многообразно порочен… Все у меня переменчиво и все неизменно».
Иначе говоря, он неизменно переменчив.
Если в литературной работе его помощницей была Гала, то, приступая к крупным полотнам, он заключил договор о сотрудничестве с театральным художником Исидором Беа. При его участии Сальвадор Дали создал несколько грандиозных по размеру и содержанию картин преимущественно на религиозные темы. Особняком стоят крупные работы иного плана: «Открытие Америки…», «Битва при Тетуане» (1962), «Ловля тунца» (1966), «Галлюциногенный тореро» (1970).
После своего шестидесятилетия Сальвадор поднимается на созданный его талантом и усилиями Галы пьедестал, обретя славу и богатство. Чета Дали приобретает замок Пуболь, создает Театр-музей в Фигерасе. Сальвадор становится почетным членом Французской академии изящных искусств, награждается высшими орденами Испании и Каталонии, он получает титул маркиза Дали-и-Пуболь.
Вот он, счастливый финал трагикомедии жизни! Не кривя душой, он признавался: «Награды и почести радуют мое сердце. И если меня когда-нибудь захотят наградить орденом Ленина или медалью Мао Цзэдуна, я немедленно соглашусь и буду совершенно счастлив».
Да, внешне, формально все великолепно. Однако уже тогда Гала, утомленная бурной жизнью, достигнув преклонного возраста и не потеряв еще любовного пыла, отдалила его от себя. Он разом лишился главной опоры в жизни, которой она была для него.
«Последние годы, омраченные смертью Галы и собственной болезнью, – пишет Жан-Луи Гайеман, – Дали почти не работает. Он совершенно утрачивает волю и позволяет своему окружению, алчному и бесчестному, манипулировать собой; в частности, ставит авторскую подпись на репродукциях. Все это подорвало уважение к его творчеству на многие десятилетия…
Бессовестные и корыстные посредники, наживающиеся на стареющем Дали, бесконечные нахлебники, паразитирующие на его творчестве, превращали художника, по выражению Эдварда Джеймса, в профессионального трюкача. А близкие художника, строящие из себя историков, забывали о его творчестве, озаренном бесспорным талантом художника-виртуоза».
О многих десятилетиях, пожалуй, слишком сильно сказано. Однако всё остальное верно. На последних фотографиях Сальвадор Дали выглядит опустошенным стариком, не теряющим элегантности. Его последняя картина «Ласточкин хвост» напоминает чертеж.
Бурная жизнь завершилась. Фонтанирующее воображение иссякло. Осталось ожидание смерти. Теперь он ее не боялся. Ожидал встречи с ней спокойно, как переход ко сну и отдыху после утомительной суеты и тяжелой работы.
Умер он утром 23 января 1989 года.
Оставил он грядущим поколениям тысячи своих картин и рисунков, десятки статей и книг, а также историю жизни Сальвадора Дали, в которой он постарался слить воедино реальность и фантазию, бесстыдные откровения, безудержное самовосхваление и печальную насмешку над самим собой.
Личина, ставшая лицом
Испанский искусствовед Тарренте писал: «Сальвадор Дали – загадочный художник? Не думаю, что разгадать эту загадку трудно. Должно быть, под влиянием Галы Сальвадор Дали создал, следуя законам гротеска, свой образ – до крайности экстравагантный, – образ художника, которому все нипочем. Но эта наигранная поза – лишь способ совладать со своей природной застенчивостью. Все это безудержное кривляние ради одного: фотографий на первой полосе и на всех обложках…
Помню, однажды мы беседовали у него в мастерской – тихо, мирно и даже не об искусстве, а так – о том о сем. Вдруг в дверь позвонили, в прихожей раздались голоса. Дали вскочил – и я увидел актера перед выходом на сцену.
– Прости, – сказал он, – я должен надеть маску Дали».
К тому времени, пожалуй, это уже была не маска, а его второе лицо. Оно предназначалось для прессы и публики, но стало для него естественным. Относительно «природной застенчивости» можно говорить лишь с немалой долей иронии. Ею он не страдал во время своих публичных выступлений даже в молодые годы, а позже активно афишировал себя и свое творчество.
У него бывали весьма занятные высказывания: «Я так и не смог привыкнуть к унылой нормальности людей, которые населяют мир… Скажите на милость, почему человек должен держать себя в точности так, как прочие люди, как масса, как толпа? Почему в человеке так мало индивидуального?
Ну почему, например, человеку не развлечься, пустив под откос парочку поездов? Раз уж тысячекилометровые сети железных дорог опутали и Европу, и Америку. А ведь, заметьте, число тех, кто развлекается подобным образом, ничтожно в сравнении с числом тех, для кого лучшее из развлечений – это путешествие…
Не понимаю, почему до сих пор никого из тех, кто производит унитазы, не посетила счастливая мысль поместить бомбу в сливной бачок, чтоб она взорвалась, когда власть имущий дернет за цепочку!»
Кто же мешал ему проявить свою неповторимую индивидуальность подобным образом или хотя бы вылив кисель на голову какому-нибудь миллиардеру? Однако он предпочитал залезать в скафандр на потеху публики. Ни разу во всех своих чудачествах он не рискнул «подложить бомбу» – пусть даже умозрительную, словесную, живописную – имущим власть и капиталы.
Ясно, что писал он не призывы пускать под откос поезда и закладывать бомбы в унитазы, а показывая свою изобретательность, индивидуальность и оригинальность. Кому-то это покажется шуткой гения, но, на мой взгляд, это просто глупость и пошлость гения.
Не исключено, что у него были какие-то физиологические, а отсюда и психические отклонения. «У меня с детства какой-то стариковский рот, – писал он. – При виде моих зубов дантисты обычно лишаются чувств или издают вопль. Впрочем, не знаю, что именно они при этом испытывают – ужас или просто потрясение. С какой стати мои челюсти устроены столь удивительным образом, никто из дантистов пока не понял. Один из докторов сообщил мне, что оные челюсти являют собой беспримерную картину зубовного безобразия – равных ей нет и быть не может. Ну хоть бы один зуб расположился у меня там, где ему полагается, – так нет же! Мне недостает двух коренных зубов – они просто не выросли, как и два нижних резца после выпадения молочных (выпали они, кстати, первыми). Прочие же зубы повырастали, но не на своих местах».
Как знать, не отражают ли дефекты его челюсти и зубов каких-то физиологических, а в этой связи и психических его особенностей? Не объясняются ли таким образом странности его поведения?
«Особенность моей гениальности, – утверждал он, – состоит в том, что она проистекает от ума». Он вполне рационально оценивал и продумывал свои поступки, подобно артисту, желающему произвести эффект. Делалось это не столько из любви к искусству и публике, сколько с меркантильными целями, ради рекламы.
«Деньги вообще старят… – уверял он. – Деньги – как те плотоядные цветы с одуряющим ароматом: подлетит бабочка, чуть подышит – и рухнет в цветочную пасть. О, мои жалкие, щербатые, милые мои зубы с никуда не годной эмалью – знаки и символы моей старости! Придет день – и вы будете грызть золото, и только золото!»
Такие дни настали. Казалось бы, став миллионером, он мог сбросить маску и оставаться самим собой. Однако к тому времени она была уже не отделима от его лица. Он избрал для себя роль оригинала не только в творчестве, но и в поведении. Странности его были нарочитыми, искусственными. Хотя не исключено, что он слишком долго играл роль одержимого паранойей и в конце концов у него стали проявляться признаки этой болезни.
«Параноидно-критический метод», по его словам, представляет собой «строжайшую логическую систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных явлений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым моим опасным навязчивым идеям».
Возможно, создавая маниакально-бредовые образы, он избавлялся от своих фобий, выплескивая их на полотна. Это была «искусствотерапия» (кстати, подобный прием используется для лечения шизофрении). У зрителей такие произведения могли возбуждать патологические чувства.
О том, что он вдобавок ко всем своим способностям был еще и отличным актером, видно на цикле фотографий, где он гримасничает, демонстрируя разные образы, подчеркнутые конфигурацией усов. То клоун, то агрессивное насекомое, то мудрый философ, то безумный математик с усами, символизирующими бесконечность, то Рыцарь печального образа… О том, что он и в зрелые годы не был чужд политики, свидетельствует грозная мина и пять портретиков на усах: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Маленкова.
Отношение Сальвадора Дали к искусству, к людям, трудящимся и к жизни общества раскрывают его вариации на темы картины Милле «Анжелюс». Последняя из них – «Перпиньянский вокзал» – относится к 1964 году. Во всех случаях две одинокие фигуры на обработанном ими поле толкуются с убогих сексуально-фрейдистских позиций.
Дали, в отличие от Милле, не способен или не желает понять тяготы крестьянского труда, бедность и смирение тех, кто живет впроголодь, а работу на поле, начиная с рассвета, кончают в сумерках. Эти люди устали, выкапывая картошку, а им еще тащить ее домой. До половых утех им сейчас дела нет. Они молятся о другом.
Полностью выхолостив содержание «Анжелюса», Дали поступил как «великий мастурбатор», удовлетворяя себя собственными фантазиями на чужую тему, по сути своей не связанную с сексом.
Казалось бы, классическое наследие и без того предоставляет великолепные возможности для вариаций на тему половой страсти. А он выбрал «Анжелюс».
В детстве Сальвадор, глядя на репродукцию этой картины, видел обширное поле, двух молящихся людей и словно слышал отдаленный колокольный звон; «меня осенила тайная благодать, исходящая от картины; серебряным сиянием клинка в лунном луче эта светлая нота реяла над моим смятением». А начитавшись Фрейда и став воинствующим атеистом, он глумливо вытащил «подсознательный» сексуальный подтекст, которого у Милле не было.
…Конечно, о вкусах спорят (хотя и бесплодно), и я выскажу свое субъективное мнение. Бесхитростная картина Милле значительно сильней воздействует на зрителя, чем хитросплетения Дали, предлагающего ее варианты. У Милле – подлинный сюрреализм, ибо позволяет почувствовать, осмыслить и отчасти понять значительно больше того, что реально изображено.
У Дали – то, что я называю «под-реализмом», ибо низводит высокое содержание образов «Анжелюса» до примитивных схем фрейдизма и сексуальных фантазий автора.
Уточним: все зависит от зрителя. Для сытых, сексуально озабоченных бездельников и прохиндеев, для умов поверхностных и забитых продукцией СМРАП или просто для тех, кому требуются развлечения и загадочные картинки, вариации Дали на тему «Анжелюса» будут интересны, великолепны, а то и возбуждающи.
Он и не скрывал, что работает и актерствует для своих заказчиков, покупателей, ценителей и пропагандистов его личности и произведений. «Трудно привлечь к себе внимание хоть ненадолго, – говорил он. – А я предавался этому занятию всякий день и час. У меня был девиз: главное – пусть о Дали говорят. На худой конец, пусть говорят хорошо».
…Его детские, а затем юношеские фантазии, страхи, сновидения, похожие на реальность, и реальность, напоминающая сновидения, – все это со временем преображалось, дополнялось. Раскрепощенное сознание позволяло образам воображения вторгаться в реальность и подменять ее.
Как творческая личность он был смелым искателем, неутомимым работником, преодолевающим трудности. А в обыденной жизни оставался Протеем, меняющим свой облик по мере необходимости, приспособленцем, стремящимся угодить богатым.
В книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» (1941) он уже проявлял признаки усталости от своего утомительного актерства:
«Довольно отрицать – пришла пора утверждать. Хватит выправлять – надо поднимать, возвышать, сублимировать. Хватит растаскивать – надо собирать и строить. Хватит забавляться автоматическим письмом – надо вырабатывать стиль. Пора кончать с разрушением и разбродом – надо учиться ремеслу. Довольно скепсиса – нужна вера. Довольно блуда – нужна чистота. Довольно уповать на коллектив и униформу – нужны индивидуальность, личность. Нужна иерархия. И хватит экспериментов – нужна Традиция. Ни революций, ни контрреволюций – ВОЗРОЖДЕНИЕ!»
Но и это, как нетрудно убедиться, осталось декларацией, громкой фразой. Он сам был одним из тех, кто окончательно порвал с главной традицией классического искусства: стремлением к гармонии, красоте, высокой любви, добру и благородству.
…В «Дневнике одного гения» Дали пересказал свой первый литературный опыт. Когда ему было 7 лет, он сочинил сказку:
«Однажды июньской ночью мальчик гулял со своей мамой. Шел дождь из падающих звезд. Мальчик подобрал одну звезду и на ладони принес ее домой. Там он положил ее к себе на ночной столик и прикрыл перевернутым стаканом, чтоб она не улетела. Но, проснувшись утром, он вскрикнул от ужаса: за ночь червяк съел его звезду!»
Его отец пришел в восторг и был уверен: сказка лучше «Счастливого Принца» Оскара Уайльда. Такое суждение простительно отцу, души не чаявшему в сыне. Однако даже Сальвадор, который пересказал историю в зрелом возрасте, то ли не понял, то ли не пожелал понять суть притчи Уайльда. А она проста: принц обрел счастье, отдавая свои драгоценности беднякам, делая счастливыми других.
Уайльд имел в виду князя (принца) Рюриковича Петра Кропоткина. Бывший камер-паж императора Александра II отказался от благ, привилегий, карьеры, в том числе научной (он был выдающимся ученым). Князь Кропоткин стал народником-революционером, рисковал жизнью, был заточен в Петропавловской крепости, осуществил дерзкий побег. Он совершил подвиг во имя идеалов свободы, братства, чести, справедливости.
Сказка маленького Сальвадора напоминает индийскую легенду. Один раз в году происходит чудесный звездопад. В эту ночь раковины всплывают и ловят падающие звезды. Те, кому это удалось, опускаются на дно. Они обретают небесный дар, и в них рождается драгоценный жемчуг.
Вот и Сальвадору Дали посчастливилось обрести бесценный дар – талант творца. Как распорядиться им? Он поступил как мальчик в его сказке: припрятал свою счастливую звезду для себя. Иначе говоря, ради денег в банке («Avida dollars»!). И прожорливый червь жажды богатства и славы сожрал его звезду.
Послесловие. Трагедия мастера
Талант – вопрос количества.
Талант не в том, чтобы написать страницу, а в том, чтобы написать их триста… Сильные не колеблются… Литературу могут делать только волы. Самые мощные волы – это гении, те, что не покладая рук работают по восемнадцать часов в сутки. Слава – это непрерывное усилие.
Жюль Ренар1
Сальвадора Дали был безусловно талантлив или даже гениален – по тому критерию, который обозначен в эпиграфе.
Он прожил долгую жизнь, насыщенную творчеством и событиями; достиг всего того, о чем мечтал. Можно ли говорить о трагедии Мастера? Он был упоен творчеством и добился славы и богатства. Немного найдется крупных художников, создавших столько произведений. А ведь он еще был писателем, публицистом, дизайнером, скульптором, сценаристом!
По внешним формальным признакам жизнь его сложилась счастливо. Но в то же время в глубине души был он несчастным человеком. Об этом свидетельствуют его поведение и картины.
Дали назвал Чарли Чаплина шутом, воплотившим эпоху. И опрометчиво сравнил себя с ним, утверждая, будто достиг непревзойденной степени гениальности, ибо помимо шутовства еще и рисует, пишет книги, ставит спектакли.
Что и говорить, художник десятилетиями играл – в жизни! – роль шута, развлекая и привлекая к своей персоне состоятельную публику и создавая себе рекламу.
Ничего подобного Чаплин не делал. Он никогда не терял чувства собственного достоинства. Его киногерой Чарли – подлинный Рыцарь печального образа современной цивилизации.
Если нечто подобное и можно сказать о Сальвадоре Дали, то лишь с горькой усмешкой. Он явил печальный образ большого таланта, угождающего низменным инстинктам богатых и унизительно выставляя себя на посмешище.
Кстати, Чаплин был режиссером, сценаристом, композитором, писателем, а исполнял роли, раскрывая суть плутократии, власти капитала. В фильме «Мсье Верду» его герой говорит: убийство богатых женщин, на которых он женился ради наследства, – его маленький бизнес. А воротилы большого бизнеса убивают, грабят и развращают миллионы людей!
Вряд ли из озорства Сальвадор Дали признался: «Я бы не купил ни одну из своих картин». Преувеличил, конечно. Но в этих словах слышится горечь Мастера, сознающего свою творческую трагедию.
…Некогда, побывав на представлении «10 дней, которые потрясли мир» в Театре на Таганке, я отозвался: «Умение, достойное лучшего применения». То же можно сказать о таланте Сальвадора Дали. Творения его весьма разнообразны и нередко исполнены великолепно. Он создал свой живописный мир. Однако находиться в этом искусственном мире неуютно, а подчас неприятно и даже противно.
Не спорю: на вкус и цвет товарища нет. У кого-то его произведения вызовут восторг. И это неудивительно. За немногими исключениями его полотна выполнены рукой Мастера, щедрого на выдумку, на сложные сюжеты и неожиданные аналогии. Но достаточно ли этого?
Кому много дано, с того много и спросится. Будь Сальвадор Дали менее мастеровит и трудолюбив, менее умен и талантлив, то и спрос был бы невелик. Как человек одаренный во многих отношениях, он мог бы подняться над реальностью, осмыслить ее и выразить в своем оригинальном стиле. Он предпочел модные фрейдистские штучки, копания в нечистых темных подвалах души.
Догмы психоанализа роковым образом сказались на его творчестве. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Как вера в сомнительные теории – плохо. Как способ дать волю воображению, попытаться выразить образы, таящиеся в подсознании, – хорошо.
В искусстве, так же как в науке, эксперименты необходимы. А Дали был великим экспериментатором… или мистификатором?
2
«Мистификация глубоко чужда мне. Я ведь мистик». Так Сальвадор Дали дал понять, что под маской шута он скрывает свою подлинную сущность вдохновенного мыслителя и пророка. Насколько это оправдано?
Мистическое озарение – экстаз, освобождение от земного притяжения рассудка, ощущение единства с наивысшим, несказанным, божественным. Американский философ и антрополог Роджер Уолш назвал шаманов первыми в мире мистиками, ибо они «умели произвольно и систематически изменять состояние своего сознания».
Швейцарский психолог Карл дю Прель в книге «Философия мистики, или Двойственность человеческого существа» (1885) писал: «Образы сновидений приходят к нам из области бессознательного; во время сна бессознательное делается отчасти сознательным, и наоборот, исчезает сознаваемое нами во время бодрствования».
Он предположил, что мистическое мировосприятие – это переход, как во сне, в иной масштаб пространства и времени. Нечто подобное характерно для творческих озарений в искусстве, науке, философии, когда решение приходит внезапно.
Немецкий философ Эдуард Гартман в книге «Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного» (1869) отметил: «Сознательный разум действует… критически, контролируя, поправляя, измеряя, сравнивая, комбинируя, упорядочивая и подчиняя, выводя общее из частного, приводя частный случай к общему правилу. Но никогда он не действует производительно, творчески, никогда не изобретает. В этом отношении человек вполне зависит от бессознательного, и если он теряет бессознательное, то он теряет источник своей жизни, без которого он в сухом схематизме общего и частного будет однообразно влачить свое существование».
Эдуард Гартман и Карл дю Прель разрабатывали проблему бессознательного задолго до Фрейда. В отличие от него, они понимали: в этой глубинной духовной сфере зарождается сознание. Рассудок можно уподобить дереву, корни которого уходят в недра бессознательного, а листья впитывают живительную энергию Солнца, поднимаясь в небесную высь, к сверхсознанию.
Во фрейдизме бессознательное – клоака, заполненная духовной мерзостью, половыми извращениями, агрессией и жаждой власти.
Да, люди не бесплотные ангелы, пороки им не чужды. Однако многое, слишком многое зависит от духовной среды обитания. Имея опыт жизни при социализме и олигархическом капитализме, в народной и буржуазной демократии, не утративший здравого смысла житель России убедился, как много зависит от основных общественных установок – на коллективизм и справедливость или на индивидуализм и неравенство.
Сальвадор Дали в своем творчестве воплощал убогие догмы фрейдизма и старался приспособиться к буржуазному обществу. Это обеспечило ему коммерческий успех и славу. Для личности заурядной это было бы пределом мечтаний. Но ведь он не был таким.
Сверхсознание – вершина интеллектуального творчества, озарение, познание нового, вторжение в неведомое, а не формальные ухищрения. Сфера бессознательного хранит колоссальный объем информации, которую в обычном состоянии мы используем ничтожно мало, руководствуясь главным образом сознанием. Но порой она проявляется особенно ярко, хотя мы слишком редко этим пользуемся.
Дали мог стать мистиком, имея для этого прекрасные задатки. Он предпочел быть мистификатором, имитируя бред параноика, одержимого фрейдистскими комплексами.
«Но чтобы прожить новую половину жизни, – писал он в 1940 году, – я должен разделаться с той, старой. Я разорву цепи прошлого и обрету свободу. Ради нее недрогнувшей рукой я прикончу свое прошлое, не зная жалости и сострадания. Я скину свою старую кожу – поникшую оболочку, вместилище мятежа, свидетельницу моей борьбы и побед…
Новая кожа! Новая земля! Свободная, если такое бывает. Я выбрал ее, новую геологию, неведомую, девственно-юную, не пережившую трагедий страну – Америку. И сменил кожу».
Увы, слишком поздно попытался он сорвать с себя эту маску: она уже стала его лицом.
3
Сальвадор Дали так и остался выразителем личных душевных переживаний, психопатий, представлений Фрейда о человеке. Что ему помешало подняться над своими личными интересами и страстями, ограниченными самим собой, наглядно представленным в образе «Великого Мастурбатора»?
Наиболее очевидный ответ: он стал жертвой буржуазного общества, ориентированного на погоню за наживой. Однако в этом обществе проявилось много великих творцов в разных областях человеческой деятельности. Правда, в отличие от них, он приспосабливался к этой системе всеми возможными способами, вплоть до роли шута в жизни, а не на сцене.
Но почему эта проклятая буржуазная идеология, почему система капитализма столь сильны, что сохраняются до сих пор, тогда как СССР и западные страны народной демократии потерпели поражение? Выходит, прав был Дали, выступая за индивидуализм. По своему обыкновению, он встал на сторону сильнейших.
…Современная техническая цивилизация наложила свою железную печать на судьбу Сальвадора Дали.
О второй половине XX века он писал: «Прогресс в науке и технике очевиден и впечатляет. Однако если говорить о духовном уровне, наше время убого до крайности. Не случайно физика и метафизика сегодня окончательно разошлись. Прогресс растекся ручьями узкой специализации, а о главном – о синтезе – уже никто не имеет понятия».
Верное суждение. А отсюда и следствия: «Я думаю, что современное искусство – это полный провал… дитя времени, дитя краха». «Люди вообще мало что понимают. Особенно образованные – им недостает культуры».
…В XX век властно вошли машины, механизмы. Они преобразили производство, заполонили дороги, стали в считаные минуты убивать и калечить тысячи людей на войне. Индустриализация охватила все сферы жизни людей.
В США архитектор Франк Ллойд Райт в работе «Искусство и искусность механизма» (1906) провозгласил наступление эпохи новых образов, когда произведениями искусства становятся локомотив и пароход. Здания из стекла, стали и бетона подчеркнули переход к новой организации пространства. В живописи кубизм, конструктивизм, футуризм, абстракционизм ознаменовали отказ от подражания природным формам и объектам, разложение их на составные части и даже полное уничтожение.
1 ноября 1917 года Н. А. Бердяев прочел в Москве лекцию, отметив: «Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах. Окончательно померк старый идеал классически-прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам…
Слишком свободен стал человек, слишком опустошен своей пустой свободой, слишком обессилен длительной критической эпохой…
Последний пласт материального мира, открывшийся Пикассо-художнику после срывания всех покровов, – призрачный, а не реальный… Это – демонические гримасы скованных духов природы. Еще дальше пойти вглубь, и не будет никакой реальности, – там уже внутренний строй природы, иерархия духов».
Духи эти относятся к природе человека и порождены отчасти именно изменившейся реальностью, господством техники над живыми организмами, искусственных конструкций над естественными созданиями. Творческий дух человека восстает против этого. Бессознательно стремясь противостоять жесткой рациональной реальности, человек погружается в глубины собственного «я».
Многим казалось, что чудовищная Вторая мировая война ознаменует возрождение общественной жизни, заставит людей обратиться к высоким духовным идеалам. Владимир Иванович Вернадский писал тогда, что начнется эпоха ноосферы, торжества разума, справедливости и добра, а идеалы советской демократии содействуют именно этому пути.
Сальвадор Дали высказывался иначе: «Эта война положит конец всяческим революциям. Ведь утопии коллективистского толка, какие бы знамена над ними ни развевались, сколько бы они ни враждовали между собой, что бы ни провозглашали – атеизм, язычество, коммунизм или национал-социализм, – в конечном счете обречены. Их сметет возрожденная традиция индивидуализма, европейская, средиземноморская, католическая традиция».
Не сбылось ни то ни другое. Оправдались тревожные предчувствия Николая Александровича Бердяева: победоносная техника с новой силой стала перемалывать и подавлять живую природу Земли; человек, став заложником технического прогресса, начал все определеннее обретать образ и подобие машины.
Для постоянного развития техники нужен определенный тип техногенного человека: ненасытный потребитель продукции производства (военной, бытовой и любой другой); приспособленец, озабоченный личным благополучием, у которого безграничны материальные потребности и резко ограничены – духовные.
По этим показателям Сальвадор Дали – яркая и своеобразная разновидность техногенного человека. Удачливый беспринципный приспособленец и ненасытный потребленец. Первоначальный ЭгоДали превратился в двуглавое существо – ГалаДали, у которого всё на продажу ради рекламы, комфорта, богатства.
В отличие от примитивных техногенных типов, Сальвадор Дали был одержим творчеством. Во имя чего?
Увы, цели его оказались не выше тех, которыми руководствуются самые убогие представители буржуазного общества, озабоченные максимальным обогащением. Они – бездарные и подлые – не брезгуют воровством, обманом, казнокрадством, предательством. Самое печальное, что среди этой серой зловонной массы встречаются замечательные таланты, подобные Сальвадору Дали.
4
Чем дольше я работал над этой книгой, тем больше, как сказал бы незабвенный Остап Бендер, терял веру в человека.
Сальвадора Дали во многом можно упрекнуть, но не в измене искусству, творчеству. Это – высокое служение, достойное уважения. И все-таки одного этого слишком мало.
Как во многом другом, главным остается проблема смысла. Какой смысл искусства? Творчества? Жизни? Смерти? Цивилизации?..
Важнейшие вопросы бытия остаются без ответа, даже без обсуждения. Словно человечеству определено бессмысленное бытие, подобно стадным животным.
Что-то неладное, тревожное и едва ли не безнадежное творится на Земле. Она все определенней превращается из биосферы, области жизни, в техносферу, область господства механизмов и технологий.
Теперь не машины служат людям, а люди – машинам. (Это факт, подтверждаемый расчетами: более 95 % энергии, труда, материалов тратится на механизмы, и менее 5 % идет на нужды людей.)
Теперь СМРАП превратились в производство, штампующее техногенные личности разных модификаций, как стандартные изделия на конвейере.
Теперь деньги решают всё.
Теперь люди привыкают жить и умирать в механизме техносферы. А она постоянно укрепляет свою власть над живой природой и духовным миром человека.
Есть ли выход из этого механического круговорота, кроме неизбежной глобальной катастрофы?
Жизнь Сальвадора Дали подсказывает верное решение.
Он творил бредовый параноидальный мир. Но разве не безумен мир, в котором он жил и творил? Мир, в котором умный талантливый человек ради успеха играет роль шута и создает произведения на потребу богатых обывателей?
Своими свершениями Дали определенно показывает: у человека должны преобладать духовные интересы, творчество, свободные поиски истины. Своей трагедией творца он столь же убедительно показывает ничтожность индивидуализма, погони за богатством, служения имущим власть и капиталы.
Формула выживания человечества на планете предельно проста. Не устаю ее повторять, хотя она теряется, заглушаемая жизненной суетой и давящими на мозги СМРАП (не отсюда ли образ камня на голове в картинах Сальвадора Дали?). Итак, формула, обеспечивающая достойную жизнь людей:
«У человека должны быть ограниченными материальные потребности и безграничными – духовные. Только так можно достойно прожить каждому из нас и всему человечеству».
Приложения. Юношеские сочинения Сальвадора Дали 1919 г.
Веласкес
Мощь и напор – вот что отличает портреты, созданные Веласкесом. Жесткий, даже резкий рисунок, но это только на первый взгляд. Лица спокойные, с глубоким взором, полным внутренней силы.
Веласкес пишет портреты королей и высшей знати. Вот перед нами надменные, гордые, уверенные в своем праве и убежденные в своей значимости люди. Какой огонь мечут их взоры, рассыпая искры ненависти! Какие живые и разные лица! Лица власть имущих, отмеченные печатью порока; детски невинные лица изнеженных инфант; затаенная печаль в глазах карликов и шутов. Перед нами Испания, какой Веласкес ее увидел и перенес на полотно, а точнее сказать, Испания, созданная Веласкесом.
Его живописная техника, его мастерство потрясают. Кажется – но это только кажется, – что ему легче легкого дались и «Менины», и «Пряхи», эти непревзойденные шедевры. Иногда игра цвета на его полотнах напоминает импрессионистов.
Веласкес – величайший испанский живописец, гений мировой живописи.
Гойя
Кисти Гойи ничто не было чуждо. Все, чему он становился свидетелем, пробуждало его творческое любопытство. Он любил весь этот мир как художник.
Гойя перенес на полотно Испанию своего времени, ее дух, ее людей, обычаи и нравы. Взгляните на любой из его портретов – как зримо воплощен характер и чувства, владеющие человеком! А его гобелены и жанровые картины! Они переносят нас во времена Гойи. Как точно запечатлена в них эпоха и ее характерные типы – махи и тореадоры, их облик и галантные празднества! Как прозрачен, светел и радостен фон, какая гармония в пейзаже, как мягок и нежен мазок!
Но как резко – вдруг – меняется мир Гойи. Сравните его гобелены, игры и праздники – ясные, пронизанные светом, – с творениями его последней поры, в которых воплотились беды войны и кошмарные видения души, помраченной горем. Один взгляд на гойевский гобелен просветлит ваше сердце и наполнит его покоем. Но фрески и офорты измучат душу – их выморочный мир ужасает. Кажется, что фигуры на гобеленах Гойи танцуют – так зрима неслышная музыка, диктующая им движения. В офортах его персонажи корчатся, воздевая руки, и не музыка, а стоны и вопли задают здесь ритм.
Поразительно мастерство Гойи – офортиста и акварелиста! Все знают его серию «Капричос», это неприкрашенное свидетельство о прискорбном, больном времени. Говорят, что у Гойи черствое, глухое сердце. Неправда. Об ином свидетельствуют творения, пронизанные страданием и тоской. В них воплотились страхи и чаяния испанского народа и в то же время – муки и надежды художника.
Многие, и в том числе Беруэте, подмечали внешнее и внутреннее сходство Гойи и Бетховена. Их роднит даже глухота. Есть два Гойи: Гойя гобеленов, танцев и праздников и другой – Гойя офортов. Точно так же двулик Бетховен. Есть у него менуэты и гавоты, но есть и симфонии. Конечно, Бетховена и Гойю роднит время, ведь они современники, но, кроме того, схож их художественный темперамент.
Великий Гойя родился в 1746 году и умер в 1828 году. В день его смерти Испания потеряла одного из лучших своих живописцев, но имя Гойи навеки запечатлено в испанской душе и золотыми буквами вписано в историю мирового искусства.
Эль Греко
Душа человеческая смотрит на нас с полотен великого Эль Греко. Его творения божественны, в них властвует дух. Эль Греко словно бы забывает об академической выучке, оставляет в стороне материю и поднимает к высотам истинного искусства – идеального, чистого, не искаженного изысками живописной техники. Не надо искать в его портретах ни изящества Ван Дейка, ни точности, свойственной Гольбейну и голландцам, ни веласкесовской мощи характеров. Портреты Эль Греко вне нашего мира, вне земли; в них запечатлены облики душ, стряхнувших суету бытия, причастных иному, высшему и справедливому миру. В их глазах – тайна и неземной свет.
Худые, вытянутые фигуры, истощенные лица святых, их глаза, глядящие на нас с тоской и мольбой, а позади – не фон, но вечность, недостижимая и беспредельная, окрашенная неведомым светом. И все это вместе поражает, как молния, как буря, и дарует несказанное блаженство.
Эти вытянутые фигуры – примета гениальных полотен Эль Греко – исполнены такой духовности и столь высокого чувства, что душа, просветленная и умиротворенная, воспаряет в небо.
И всякий раз Эль Греко поражает, как молния, как буря, но этот запредельный вихрь исцеляет и очищает сердце.
Иные – их много, – стоя перед полотнами Эль Греко, видят лишь верхний слой: мастерство живописца, изысканную композицию, игру света и цвета… Им не дано проникнуть за холст, за краски; им неведомо то, ради чего Эль Греко сотворяет свою вертикальную гармонию. Сколько споров вокруг нее – этой личной печати художника, знака его творческой индивидуальности!
Тем, кто видит нарушение пропорций – и только, неведом язык живописца, и они ничтоже сумняшеся считают, что все дело в дефекте зрения художника или в его душевной болезни.
Это чистейшей воды чушь. Эль Греко писал так, как видел мир, и, чтобы воплотить свое видение, он нарушал пропорции, а на самом деле – выправлял их! Ибо истинное искусство не знает законов, принуждающих видеть или чувствовать так, а не иначе.
Неведомо, где и когда родился Эль Греко. Вообще известно о нем только одно – родом он был из Греции, с острова Крит, и подписывал свои картины Доменикос Теотокопулос.
Душа художника и вдохновенный труд проложили Эль Греко дорогу в бессмертие.
Микеланджело
Это величайший мастер-академист. Его полотна производят огромное впечатление – какая мощь, величие, напор! И пусть его фрески и картины декоративного плана перегружены рисунком, замысел всегда точен и чист, а движения выверены и гармоничны. Все соразмерно и безошибочно выстроено.
Работы Микеланджело заставляют особенно пронзительно чувствовать, что есть красота. В стенной росписи Страшного суда (Рим, Ватикан) величие дара Микеланджело воплотилось во всей полноте. Размах его фантазии завораживает. И в то же время все соразмерно и уравновешено, как в лучшие – античные – времена. Это сразу бросается в глаза. Его изображение Страшного суда – великая битва живописи и рисунка. Микеланджело – это само Возрождение. Именно в его работах Возрождение явило свою суть.
Дюрер
Дюрер запечатлел на своих полотнах немецкий народ – его обычаи, нравы, духовный и душевный мир. Здесь он не знает себе равных.
В его полотнах есть сила и простота, хотя они в то же время изысканно декоративны, что, вообще говоря, редкость для немецкого художника. Обычно фигуры у немцев тяжелы, скованы, неуклюжи, пропорции нарушены, а лица перекошены. Дюрер не имеет ничего общего с этой топорной, деревенской, сентиментальной манерой, которая поначалу так привлекает своим простодушием, но при всем том остается искусством для бедных, отмеченным печатью дурного вкуса.
Дюрер создал свое, новое искусство. Люди на его портретах живут – думают, чувствуют, наблюдают – и лишь еле заметное смещение пропорций, акцентирующее выражение лица, напоминает о предшественниках. Но и эта легкая тень развеивается, едва взглянешь на фон – чистый, пронизанный свежим ветром, спокойный и гармоничный. В глазах его персонажей, ясных и проницательных, бушует буря или таится печаль. Они устремлены вдаль, словно в надежде различить в сонме таинственных теней то, что так и останется неразгаданным, недостижимым…
Фоны Дюрера – его пейзажи – всегда исполнены гармонии, величественны и спокойны, словно бы выверены печальной, донесшейся издалека мелодией. Какой мощный контраст между фоном и персонажем – сгустком энергии и отчаяния!
Дюрер – мыслитель, а не только художник. Его место в одном ряду с Леонардо и Микеланджело. Удивительно хороши его гравюры, особенно «Отдых на пути в Египет», «Меланхолия», «Рыцарь и Смерть», «Святой Иероним в келье». Немногим художникам дано достичь такой глубины мысли и запечатлеть ее с таким мастерством.
Дюрер родился в Нюрнберге и прожил жизнь, исполненную вдохновенного труда, нещадно страдая от злокачественной лихорадки, подцепленной в Нидерландах. Когда великого художника не стало, немецкое искусство попыталось вступить на дорогу, проложенную им, но продолжить дело гения дано лишь избранным.
Леонардо да Винчи
Леонардо родился в городе Винчи в 1452 году и умер 2 мая 1519 года. Он в совершенстве изучил анатомию, архитектуру (в том числе парковую), скульптуру и живопись.
Леонардо, как и полагается человеку Возрождения, страстно любил жизнь и всякое знание. Он постиг многие науки и за все, что делал, принимался с воодушевлением и наслаждением. Жизнь манила его и завораживала. Поэтому столько жизни, столько движения в его полотнах – и как поразительно его мастерство! Вглядываясь в его творения, испытываешь восторг – сколько труда, любви и мысли вложено в каждый мазок! Леонардо работал неустанно и радостно. Его полотна озарены нежностью, в них явственно ощутимы творческое горение и могучий созидательный импульс.
Одна из самых значительных его работ – знаменитая «Джоконда». В ней воплотились душа самого Леонардо и его великий талант. Мягкие, влажные тени окутывают прекрасное лицо Джоконды, придавая портрету торжественность, и кажется, губы ее вот-вот дрогнут от дуновения легкого ветерка… Все вокруг объято покоем. Ее улыбка реет над горной грядой…
Сюрреализм и живопись
Изидор Дюкас, граф Лотреамон, пророчески заметил: «Поэзию должны творить все, а не некоторые». Эта дерзкая фраза, поставившая жирный крест на разного рода «художественных талантах» (а может статься, и на самой гениальности), в последнее время получила научное обоснование – я имею в виду открытие механизмов подсознания, сделанное Фрейдом.
Ведь язык символов, на котором изъясняется подсознание, – это единственный всеобщий, универсальный язык, понятный действительно всем. А понятен он всем потому, что никак не связан ни с образом жизни, ни с обычаями, ни с культурным уровнем, ни со степенью умственного развития человека. Этот язык – прямое производное от извечных жизненных величин: сексуального инстинкта, ощущения смерти, тайны – в чисто физическом смысле – пространства и тому подобных. Повторюсь: эти извечные жизненные величины универсальны, это понятия, общие для всех людей.
Так что сюрреализм, берясь за последовательное изучение подсознания, этой тонущей во мраке земли неведомой, неизбежно обретает целый ряд коренных отличий от всех остальных направлений духовного поиска и всех прочих художественных или антихудожественных устремлений. Ведь все они, даже самые мятежные, исполненные пафоса разрушения, как, например, дадаизм, исходят из разума и к разуму обращаются (причем не важно, эстетические или антиэстетические ценности они провозглашают). Суть в том, что их построения могут быть восприняты исключительно в сфере разума, сознания, тогда как сюрреализм и в малой мере не опирается на разум, не зависит от уровня культуры и восприятия. Его краеугольные камни – это не условные, переменчивые параметры, а постоянные – извечные – жизненные величины. Их я уже перечислил.
Художник-кубист обращается преимущественно к разуму, предлагая неожиданные пластические решения и намечая свой путь к эстетическим целям. Восприятие его полотен предполагает особый уровень духовной культуры, не обладая которым в кубизме почти ничего понять нельзя. А сюрреалистический образ – например, глаз, взрезанный бритвой, – всегда бьет в цель, кровью стучится в жилы, ибо исходит из садистских порывов к самоистреблению, из комплекса кастрации и прочих конфликтов подсознания.
Сюрреализм – это не новая художественная школа.
Сюрреализм, следовательно, не порождение какой бы то ни было исторической ситуации (а таковы все художественные школы и направления) и не может исчерпать себя вместе с нею.
Сюрреализм – это настоящая революция и в жизни, и в нравственности. И если сюрреализм использует все средства художественного творчества – живопись, поэзию, ваяние, – так только затем, чтобы с их помощью исследовать порывы, желания, страсти и те тайные, тревожащие смутные образы, вытесненные из сознания в подсознание. Мы, сюрреалисты, прибегаем к средствам художественного творчества затем, чтобы воплотить открывшийся нам новый мир галлюцинаторных образов страшной парализующей силы – «иррациональное как оно есть».
Мы не эстеты – никогда средство выражения не станет для нас самоцелью. Мы не отбрасываем технику, даже отжившую, даже академическую, даже ту, что художники ныне клеймят как дурной тон. Если она отвечает задаче, если окажется лучше всех прочих – прекрасно! Именно ею мы и воспользуемся, чтобы во всех подробностях предельно зримо запечатлеть наши видения, наш фантасмагорический мир.
В жизни человеческой сражаются две силы – и жестокое их противоборство, по крайней мере, сейчас, при капитализме, неистребимо.
«Идея наслаждения против идеи реальности».
Идея реальности учреждена всей системой рационального мироустройства, всеми его разумными связями, всей практической деятельностью и оправдана гнуснейшими логическими выкладками, эстетическими и всякими другими, столь же рациональными построениями, в которые, как в тюрьму, заключена мысль.
Идея наслаждения обусловлена миром подсознательных порывов и сновидений, иррациональными механизмами воображения. Стремление к наслаждению – неотъемлемое право человека.
Мы, сюрреалисты, хотим освободить воображение и подсознание от идеи реальности и от логики. Хотим достичь свободы – той самой, от которой все еще постыдно открещиваемся и которая между тем достижима, что полностью в нашей воле.
Так освободим же воображение, разрушим идею реальности и утвердим новое мировосприятие, пристанище потаенных порывов и ослепительных первозданных образов!
Это повлечет за собой, естественно, кризис сознания, который мы, сюрреалисты, – и я это заявляю во всеуслышание – считаем неминуемым и необходимым. Более того, мы приближаем его всеми возможными средствами.
Сюрреализм – не шутка, как полагают снобы разных стран и народов.
Сюрреализм – всем отравам отрава.
Сюрреализм – наисильнейший, наиопаснейший яд для воображения, превосходящий все известные яды.
Сюрреализм ужасно заразен!
Будьте бдительны! Я – носитель сюрреализма.
Кстати, в Нью-Йорке уже кое-кто заразился сюрреализмом и мучается в свое удовольствие от его животворных ран.
Январь 1934 г.
Рафаэль и Вермеер
Два мастера современной живописи ринулись в бой с академическим искусством – ведь наше время породило новый, худший изо всех видов академизма, и если прежде академическое искусство еще отличала кое-какая техника, то теперь ровным счетом никто не владеет ни рисунком, ни живописью.
Я полагаю, что современное искусство – это величайший крах, однако никакого другого искусства сегодня не существует, а то, которое есть, вполне созвучно нашему времени – эпохе краха.
Завтрашнее искусство произойдет из сегодняшнего: оно родится как протест против сегодняшнего академического искусства точно так же, как кубизм в свое время родился как протест против вакханалии импрессионистских ощущений, а сюрреализм стал естественной душевной реакцией на строгость кубистической формы.
А теперь слушайте хорошенько, что я вам скажу, потому что мысль моя хороша необыкновенно.
Новейшие открытия в биологии свидетельствуют, что всякую новую разновидность Природа отливает с нетленных матриц (нетленность, уточняет Дали, рождена исступлением). Академический же отпечаток дают тленные матрицы.
Вот почему я мистик.
Нетленная матрица, я хочу сказать (sic!), совершенный способ письма, был найден раз и навсегда в эпоху Возрождения. Матрица нетленна, если в ней, помимо всего прочего, есть исступление, экстаз, а если нет, это академическая болванка. Экстаз в живописи может воплощаться зримо, как у Веласкеса и Вермеера (и это, должно быть, наилучший вариант), но бывает и головная разновидность исступления, как у Рафаэля.
Веласкес, Вермеер и Рафаэль отлиты с нетленных матриц, сами нетленны, и, следовательно, они антиакадемики.
А эти жуткие итальянские футуристы, что накинулись на новый рецепт, и есть самые отпетые академики, да уже с гнильцой почище всякого Месонье, впрочем, он хоть и протух, а еще может – всякое бывает – прийтись нам по вкусу.
Мистицизм и реализм – вот девиз испанской живописи. А венец мистицизма – мистический экстаз, обретаемый путем совершенствования, путем восхождения к тайным покоям замка души при суровом художническом самодознании, исследовании мистического сна, тягостнейшего, изнурительнейшего, но и наигармоничнейшего изо всех снов. Художник-мистик и художник-реалист единосущны.
Это самодознание, исследование мистических снов лепит особую душу – с костяком наружу, подобную той, что Унамуно разглядел в Кастилии: костяк обращен наружу, а плоть – нежнейшая, трепетная плоть духа – обнесена им так, что расти ей больше некуда, только к небу, ввысь.
Разница между мной и Пикассо состоит в том, что его революция как была, так и осталась разнородной, а моя не только разнородна, но и однородна, а кроме того, продолжается по сию минуту.
Разговоры о моей живописи похожи на споры физиков о том, что такое свет – волна или частица. Дали до сих пор определяют то как волну, то как поток частиц, хотя французский эссеист Мишель Тапи уже догадался, что Дали – и частица и волна одновременно.
Вот объяснение слитности разнородных фрагментов моего бытия.
Как указывает на то мое имя – Сальвадор, спаситель, – я призван избавить современную живопись от лени и хаоса. Я жажду соединить опыт кубистов с божественной соразмерностью Луки Пачоли и поднять на заоблачную высоту сюрреализм, последнее прибежище атеизма и диалектического материализма. И тем восстановить великую традицию испанской мистико-реалистической живописи.
Именно потому, что я прошел и кубизм, и сюрреализм, мой «Христос, не схожий с другими» остается в русле классики. Думаю, из всех современных распятий мое наименее экспрессионистично, впрочем, самая большая новость сегодня – это Христос Прекрасный, как ему – Богу – и полагается.
Красота теперь дозволена снова – и этим (о, ирония судьбы!) мы обязаны сатанинским нападкам Пикассо на красоту.
Только что я закончил письмо Пикассо: «Благодарю тебя, Пабло! Твой иберийский гений покончил с уродством современной живописи. Не будь тебя, умеренность и аккуратность французской живописи висели б над нами как дамоклов меч еще лет сто и наше искусство хирело бы и чахло, пока бы не добралось наконец до твоих судорог, до твоих прекраснейших нелепиц, до твоих пугал.
С первого же удара ты поразил быка чистой физиологии, а затем и другого, еще чернее первого, – быка материализма. И началась новая эпоха мистической живописи – с меня, Дали».
Моя метафизика немного тревожит и меня самого – не чревата ли и она взрывом, подобным тому, что предсказал Эддингтон в теории расширяющейся Вселенной?
Если бы Землю населяли 9 миллионов Пикассо, 10 миллионов Эйнштейнов и 12 миллионов Дали, планета наша распухла бы до размеров Вселенной. Но не бойтесь:
СТОЛЬКО НАС НЕ НАБЕРЕТСЯ!
Ноябрь 1951 г.





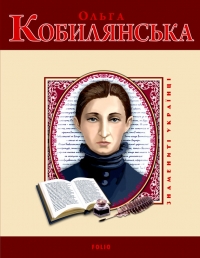
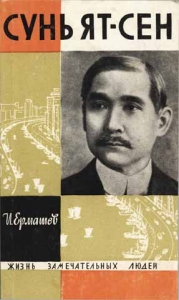


Комментарии к книге «Сальвадор Дали. Искусство и эпатаж», Рудольф Константинович Баландин
Всего 0 комментариев