Виталий Алексеевич Коротич Застолье в застой
Часть первая
Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах.
М. ЖванецкийЛучше водки хуже нет.
В. ЧерномырдинПьянствование водки ведет к гибели человеческих жертв.
Надпись на стене вытрезвителяВеликие открытия сплошь и рядом случайны. Архимед, сидя в ванне, выяснил, в каких отношениях находятся жидкость и погруженное в нее тело. Яблоко, упавшее на голову Исааку Ньютону, подвигло того на объявление одного из главных законов физики. В ряду «открывателей по случаю» стоит и алхимик из Прованса Арно де Вилльнев, бывший по совместительству врачом французского города Монпелье, который в 1334 году, перегоняя вино, получил спирт. Событие это прошло тогда почти незамеченным, тем более что одновременно строился папский дворец в Авиньоне, а в Милане запустили первые куранты на городской башне. Никому даже в голову не пришло, что случайно получена первая из двух жидкостей, которые поработят человечество на столетия, будут воспеты и прокляты множество раз. Впрочем, вторую роковую жидкость, бензин, изобретут еще нескоро; так что речь в этих заметках пойдет только об алкоголе.
На самом деле неизвестно, кто первым придумал дистилляцию. Само слово «алкоголь» — арабского происхождения; на Востоке, где давным-давно изобрели бумагу, порох и компас, определенно существовали перегонные змеевики, но патентных бюро тогда не было, телеграфа еще не придумали, и никто на Западе об этом не знал.
В древних восточных манускриптах есть множество изображений реторт, трубок, печей и аппаратов, очень напоминающих самогонные, так что можно почти наверняка полагать, что процесс дистилляции открыт давно и продукты его использовались не однажды.
В европейских источниках XIII века упоминается, что в Центральной Азии аборигены вовсю хлещут арак — молочную водку двойной перегонки.
Задолго до этого описаны заслуги александрийских монахов, которые разбрелись по свету после исламизации Египта, рассказывая о мастерстве дистилляции, которым они вроде бы хорошо владели.
А недавно археологи вырыли в Китае бронзовый сосуд, относящийся к династии Хань, правившей больше двух тысяч лет назад. Китайцы объявили, что в герметично закрытом сосуде плескалась водка, но никому не разрешили ее даже понюхать. Что ж, можно верить им или не верить, но есть множество доказательств тому, что мудрые восточные люди не только первыми попробовали разведенный спирт, но и первыми осмыслили вред от его избыточного питья. Недаром они позже ввели столько запретов на алкогольные напитки, разрушающие, по их мнению, человеческие сознание и печень.
Зато в европейский быт спирт внедрился вполне успешно. Через пятьдесят два года после открытия алхимика де Вилльнева проездом из Генуи в Литву по славянским землям двигался караван итальянских купцов. Всех, кому они оставляли свои знаки внимания, история не помнит, но московскому князю Дмитрию Донскому итальянцы подарили флягу с «горящей водой», которую в Европе использовали как лекарство для промывания гноящихся ран. О том, что это средство и внутрь можно принять, тогда речи не было…
Мне верится, что наши сообразительные предки могли изобрести перегонный змеевик раньше южноевропейских алхимиков, потому что их мышление было генетически направлено в эту сторону. Можно бесконечно цитировать былины с описаниями княжеских пиров и богатырских застолий. В одной я нашел даже упоминание о том, что не только богатыри, но и пьяницы водились в Древней Руси:
Приходил Муромец к погребам питейным, А там бродят голи кабацкие…Есть сведения, что православные монахи гнали спирт уже в начале XVI столетия, но все это на уровне разговоров о приоритете, о том, что и рентгеновский аппарат изобрел наш предок, однажды воскликнувший: «Бабы, я вас насквозь вижу!» Тем более что для запуска мощного производства необходимо было централизованное государство, которое в ту пору было не у всех славян. Серьезное винокурение подразумевает систему заготовки сырья, дистилляции, сбыта и еще много всего, включая охрану. Украина, в XIV и XV веках составлявшая южную окраину Литовского государства, ничего этого не имела, да и отдельной державой не была. Литва исповедовала католичество и развивала производство восковых свечей для храмов; выцеженный из вощин мед в основном шел на приготовление хмельного напитка. Если в украинских землях и гнали тогда что-то вроде горилки, то это нигде не зарегистрировано, и горилка не запатентована до сих пор. Согласно анекдоту, кое-кто продолжает думать, что это такая маленькая обезьяна вроде павианчика. А французы, между прочим, с 1334 года узаконили, что производят коньяк с момента получения спирта из виноградного вина. Англичане запатентовали свой джин в 1485 году, шотландское виски признано с 1490-х годов, а немецкий шнапс — с 1520 года. Сегодня никто не имеет права пользоваться этими названиями, кроме их законных владельцев.
С водкой все было не так просто. Поляки не раз пытались доказать в суде, что «вудка» — это их национальный продукт, но международный арбитраж в 1982 году признал первенство за московитами, так как царь Иван III в 1472–1478 годах установил госмонополию на производство и продажу хлебного вина, а в 1506 году первая партия водки из России была экспортирована в Швецию. Увы, польская «вудка» оказалась моложе.
По моему мнению, спор этот совершенно бессмыслен. Водку производят во множестве стран и, независимо от законов об авторском праве, ей торгуют во всем мире. Вот уж поистине продукт, объединяющий человечество, нравится нам это или нет…
Спорят не только о том, кто впервые получил алкоголь, но и кто впервые опился им. Пьют давно, во всяком случае, фраза «и я там был, мед-пиво пил» повторяется в самых древних сказаниях. Если вы помните, в Библии рассказано про то, как однажды надрался даже праведник Ной. Из множества эпосов и священных книг ясно, что хмельные продукты и желающие воспользоваться ими существовали испокон века. Киевский монах-писатель Феодосий Печерский еще в XI столетии сравнивал сумасшедших и пьяниц: «Бесноватый страдает поневоле и может удостоиться жизни вечной, а пьяный страдает по собственной воле и предан на вечную муку». По всему видно: досадили выпивохи лаврскому чернецу…
Многое в том, что и как пили, определялось природными условиями. В восточнославянских землях маловато солнца, полноценный виноград там не растет, даже с хорошим хмелем для пива бывают сложности. Кроме того, и сам винный стол — совершенно другая трапеза, он нуждается в долгих теплых ночах для посиделок на свежем воздухе, подразумевает обилие овощей и фруктов, которые в наших краях — продукты сезонные. Это у древних греков были в моде симпозиумы, то есть дружеское собрание в послеобеденное время, непременно с женщинами и вином. Великий греческий философ Платон считал, что пить вино после двадцати лет надо обязательно, а после шестидесяти лет можно не ограничивать себя в количестве выпитого.
Наши предки приспосабливались к своему климату и рациону, а ввиду отсутствия элитных виноградников получали алкоголь из подручных материалов. Пили перебродившие ягодные и фруктовые соки, квасили березовый сок. Лаврский летописец Нестор упоминает о хмельных напитках и о том, как в честь победы над печенегами в 966 году в Киеве гуляли семь дней и стояли на улицах «великие кады бочки меду, квасу и перевары». Пили много, уходить с пира «на своих двоих» считалось неуважением к хозяину. Хмельной мед долго еще оставался главным напитком в Центральной и Северной Европе; его вывозили из Киева в другие страны. Медовых лесов на тогдашней Украине было много: обходились без пасек — бортники попросту вычерпывали дикий мед из дупел. Популярен был алкогольный мед белого цвета, но для разнообразия готовили и красный, разбавляя его соком спелых вишен. Еще в XVI веке писали, что вокруг Киева леса переполнены медоносами; некоторые люди обходили их, опасаясь пчелиных укусов. При этом закон охранял мед: «А кто дерево зрубит со пчолами, заплатит гривну, чьи пчолы, и другую гривну судьям».
Впрочем, на своих напитках наши предки не замыкались. Приколотив щит на воротах Царьграда в 907 году, князь Олег доставил оттуда бочки трофейных вин, которые очень понравились киевлянам. Из Византии и Болгарии многое приходило в Русь и мирным путем, в частности, все пряности были оттуда: корица, анис, перец, кардамон, лавровый лист. Оттуда же везли вино. Вино также приходило из Франции (ведь дочь Ярослава Мудрого была тамошней королевой); его называли «романея» и, как византийские вина, разбавляли водой. Но привозные напитки были дороги, поэтому главным праздничным питьем оставался мед. Княгиня Ольга, желая порадовать город Коростень, приказала в 945 году приготовить к своему визиту много бочек медов, которые тут же отдала местным жителям на распитие.
Меды полагалось пить холодными, для полной изысканности — даже со льдом. Хранили их в прохладных помещениях. К 1146 году у князя Святослава, например, скопилось 500 барковцев, то есть около 750 тысяч литров питьевого меда. Записано в хрониках, что в 1183 году Святослав устроил пир по поводу освящения нового храма. Как застенчиво отметил летописец: «Иерархи были веселы…»
В течение веков главными напитками Украины было привозное вино и свои меды. В «Страшной мести» у Гоголя алкогольное меню все то же: «На двор выкатили бочку меду и немало поставили ведер греческого вина… Пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют».
Кстати, в течение столетий была одна особенность у пиров и столов наших предков: женщины не имели права не только пить, но даже и наливать пьющим. Женщины готовили закуску, но при этом еда считалась оскверненной, если женщина собственноручно резала животное для стола. Нередко хозяйка с курицей выходила к дороге и просила первого попавшегося мужчину свернуть шею птице…
В общем, жизнь как-то устраивалась, но до XV века сведений о том, что наши предки «принимали на грудь» горячее вино, то есть водку, не имеется. Продолжаю считать, что это не означало ее отсутствия. Имелись желающие выпить, было чем закусить, и творческая мысль работала неустанно. Кроме того, люди путешествовали, а в дороге, как известно, пьется с особенной охотой, и встретить в пути можно не только потребителей, но и производителей алкоголя. Так что происходил постоянный обмен опытом; свидетельство тому кавказские роги, из которых с незапамятных времен умели пить на Руси, греческая и даже арабская посуда, найденная в раскопках и демонстрирующаяся сегодня в музеях.
С древности люди перемещались из города в город, из страны в страну, неизбежно вырывались из привычного окружения, поселяясь в домах, где за определенную плату можно было получить ночлег и пищу. Развивалось то, что сегодня зовется гостиничным бизнесом. Вспомните старинные сказки, предания разных религий, мифы (одна легенда о Прокрусте, подгонявшем своих постояльцев под размер ложа, чего стоит…).
Киевская Русь обосновалась на торговых путях и, кроме Соловья-разбойника и Бабы-яги, отлавливавших незадачливых путников, конечно же появились на Руси крестьяне и вдовушки, подрабатывавшие постоем. Готовили хозяева сами, копчености и выпивка бывали своего производства. Надо отметить, что выгонка алкоголя и торговля спиртным испокон века бывали прибыльны и не всегда законны. Монастыри пытались прибрать к рукам гостиничное дело (помните знаменитую сцену в корчме из «Бориса Годунова»?), феодалы составляли им конкуренцию (Магдебургское право, которое, кстати, было дано и Киеву, позволяло местному начальству производить и продавать алкоголь по собственным ценам). Более того, некоторые феодалы в открытую, под страхом телесных наказаний, запрещали своим крестьянам пользоваться услугами «чужих» питейных заведений. Говоря по-современному, борьба между госмонополией на спиртное и самогонщиками пропитывает историю нашей страны и ее придорожных приютов издавна.
На Западе придорожные таверны упоминаются с XI века, к XIII столетию относятся первые упоминания о корчмах на территории нынешней Украины. Питейные заведения были разнообразны по названиям и форме, но похожи по содержанию: кабаки, корчмы, трактиры, шинки у дорог разрастались как грибы после дождя. В самом слове «трактир» слышится «тракт» — дорога (так же, кстати, как в итальянском аналоге трактира, «траттории»)…
В России чиновники долго не признавали «самогонщиков» и сразу попытались прибрать к рукам прибыльное дело, запрещая деятельность самодеятельных корчмарей, но, после долгих борений, первый «государев кабак» в Москве открылся только в 1533 году. Рядом с шинком-кабаком располагалась, как правило, винокурня, продукцию которой можно было продавать только законным питейным заведениям. Нелегальное изготовление и продажа спиртного карались батогами, штрафами, тюрьмой, конфискацией, ссылкой — в зависимости от тяжести прегрешения. Едой выпивох не баловали. Иван Грозный, например, держал специальный кабак для своих опричников, где вообще было запрещено закусывать, дабы люди больше болтали.
Царь Федор Иоаннович кабаки не просто закрыл, а повелел их разрушить. Борис Годунов отстроил кабаки, сдав их в откуп, и получил изрядные доходы в казну (кстати, Годунов же послал в подарок иранскому шаху Аббасу «два куба винных с трубами», которые были с благодарностью приняты — теперь в ортодоксально мусульманском Иране за такие подарочки в тюрьму сажают пожизненно).
Династия Романовых укрепила госмонополию на спиртное, расширила сеть корчм, шинков, кабаков и трактиров; эта монополия продержалась до недавних демократических передряг. Но так или иначе было узаконено огромное дело: в монопольках или у самогонщиков появились постоянные площадки для еды и выпивки вне дома, для собраний, игр, танцев; в корчмах гуляли свадьбы, плели заговоры и встречались с друзьями. Помните, как у Гоголя выглядит свадьба в корчме: «Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых, разрезали каравай, брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы — и пошла утеха…»
Впрочем, прошлое виделось по-разному разным исследователям. Историк Николай Костомаров писал о влиянии алкоголя на жизнь славянских народов с большей угрюмостью, вздыхал, что «в старинных песнях доблесть богатыря измеряется способностью перепить невероятное количество вина». Говоря о временах более реальных, чем былинные, Костомаров ужасался, что «значительные бояре не считали предосудительным напиваться до потери сознания с опасностью потерять жизнь. Царские послы, ездившие за границу, изумляли иностранцев своей неумеренностью. Один русский посол в Швеции в 1608 году в глазах чужестранцев обессмертил себя тем, что напился и умер от этого».
Долгое время Украина пила по-своему, российским законам не подчинялась, тем более что в XVI–XVIII веках существовала и «казацкая республика», Запорожская сечь, где кое-как обеспечивали себя едой и наладили нечто вроде независимого монопольного производства алкоголя. Правда, запорожцы организовали винокурни в то время, когда к западу от них, в Польше, и к северу, в России, это производство шло уже полным ходом. Российские цари рассылали сосуды с водкой в дар европейским монархам и философам, как почтенный национальный продукт.
Все описания запорожского быта содержат сведения о выпивках. Казаки вставали с рассветом, молились Богу и садились за единственную трезвую трапезу — утреннюю кашу, которую каждый заправлял по-своему: кто салом, а кто только цибулей. В полдень стол был пообильнее: с печеными рыбой и мясом и уже с оковитой — так от латинского «аква витэ», «вода жизни», звали напиток, позже обретший название «горилка» от «горячая вода» — общеевропейского имени спирта и водки. После захода солнца полагался ужин с выпивкой. Особенно гуляли после победоносных походов; пьянки тогда бывали пошире, с непременным привлечением к питью случайных прохожих. У шинкарей выкупались бочки с оковитой и выкатывались для общего пользования. Французский военный инженер Гийом Боплан, оставивший нам подробные описания украинского быта, карты Украины и заметки о запорожцах, писал в середине XVII столетия: «Нет в мире народа, который мог бы сравниться в пьянстве с казаками: не успевают просыпаться и вновь уже напиваются. Однако понятно, что все это бывает только во время отдыха, ибо когда находятся в походе или обдумывают какое-нибудь важное дело, то являются чрезвычайно трезвыми».
Казацкие застолья хорошо описаны в «Энеиде» Ивана Котляревского. К ней я и отсылаю любопытных за подробностями. Желающие могут еще вспомнить классическую оперу «Запорожец за Дунаем», где казак по имени Карась, вынужденный жить среди непьющих мусульман, умудрился добыть и выпить две кварты горилки и, мучимый жаждой, ищет третью, завалившуюся куда-то у него в шароварах. Если учесть, что кварта — это узкогорлая трехлитровая бутыль, то нетрудно вообразить себе и этого казака, и эту одежду…
Документально зафиксировано в 1766 году пребывание делегации запорожцев во главе с кошевым по имени Петро в Петербурге. В процессе переговоров казаки опустошили все привезенные с собой фляги, но никто из них не пожелал переходить на столичное алкогольное пойло. Официально, через члена Малороссийской коллегии графа Румянцева, в Сечь отправили Антона Головатого, который привез «для собственного их употребления 50 ведер вина горячего», то есть горилки. Умножьте ведерную емкость на пятьдесят и увидите, что так, между прочим, для хорошего настроения запорожцы добавили к своему петербургскому рациону ни много ни мало, а 600 литров водки. И всю выдули…
После воссоединения Украины с Россией правила торговли спиртным понемногу стали едиными, унифицировались и алкогольные мерки. Главной мерой было ведро, 12 литров. Пили помногу, но крепость спиртного, как правило, не достигала нынешних сорока градусов. В петровской армии, например, солдатам выдавали по две кружки водки в день, а кружка была мерой в 0,75 литра, одну шестнадцатую ведра, и крепость этой водки не превышала 15 градусов…
Крепкие напитки не преобладали в быту; немудрено, что Ерошка в толстовских «Казаках» один выпил ведро молодого вина под молодого барашка.
У Гоголя есть немало описаний украинского пьянства, когда спокойно поглощались огромные дозы: «Перед казаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин… Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай…» Все эти долевые порции высчитаны относительно ведра. Кварта, или четверть, — это три литра, а осьмуха — полтора. Штоф — квадратная бутылка — составлял 1,2 литра, десятую часть ведра. Бутылка — это двадцатая часть ведра, 0,6 литра, такую емкость до самого последнего времени соблюдали производители «Смирновской» водки, у них ящик водки содержал 20 бутылок, то есть одно ведро.
Дальше шли разливные емкости. Дома у меня хранится мерный шкалик середины XIX столетия (в названии слышится калибровочное слово «шкала» — шкалик пришел из голландских таверн). Из шкаликов не пили, они были медными кружечками в 75 граммов и клеймились по верхнему краю, чтобы трактирщики с корчмарями не обпиливали посудинку, уменьшая объем. Пили из чарки — это сосуд с ножкой, или из лафитника — это стаканчик без ножки. Там и там объем был в восьмую часть бутылки, 75 граммов. Была еще стопка, шестая часть бутылки — 100 граммов. Был бокал — это четверть бутылки, 150 граммов. Интеллигенты позволяли себе иногда пить из рюмки — это двадцатая часть бутылки, 30 граммов. В советское время к этим мерам прибавился стакан, 200 граммов. Что интересно — граненый, чтобы удобнее было держать, стакан проектировала знаменитый скульптор Вера Мухина. Та самая, чья скульптура «Рабочий и колхозница» недавно еще воспроизводилась везде — от эмблемы «Мосфильма» до почтовых марок…
В старину корчмари, как правило, брали недорого. Они зарабатывали на массовости потребления. Корчмы даже кропили отваром из муравьев, чтобы посетители держались этого места, как муравьи держатся муравейника. Денежное обращение входило в жизнь наших предков очень медленно, и часто в корчмах брали плату за выпивку сельхозпродуктами, а то и одеждой. Тут же, в корчме, все это и продавали.
Более того, требовалось, чтобы кабатчик «плохих питухов на питье подвеселял и подохочивал». Был официальный указ о том, чтобы «питухов не отгонять», принимать у них плату вещами, пока человек не пропьется до нательного креста. Правда, пропивавшиеся посетители корчм и трактиров по традиции обвиняли в своей бедности не собственное разгильдяйство, а корчмарей. Эти первые проблески марксистского мировоззрения прорывались в погромах и восстаниях, когда корчмарей громили непримиримо, как классовых врагов. Отсутствие сочувствия и внимания к себе алкаши болезненно ощущали во все времена. Знаменитый Веничка Ерофеев в свою книгу «Москва — Петушки» вписывает тоскливое впечатление уже от современных буфетчиков: «Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих!» В общем, я не припомню образа симпатичного корчмаря ни в фольклоре, ни в цивилизованной литературе (как говорил тот же В. Ерофеев: «Мне с этим человеком не о чем пить…»). Есть, правда, игривые байки о трактирщицах, но это не по части выпивки-закуски, а совсем про другое…
Впрочем, кроме трактиров и корчм, где можно было не только выпить, но и поесть, существовали еще шинки с кабаками, где уже только пили. Слово «шинок» — немецкого происхождения, а «кабак» — татарского. Чем дальше на запад, тем больше было шинков и корчм, а к востоку прибавлялось трактиров и кабаков; в Центральной Украине было примерно поровну того и другого.
Питейные заведения, где на всей огромной территории государства качество пойла и правила поведения были примерно одинаковыми, подходили под советское определение культуры: «Национальные по форме, интернациональные по содержанию». В кабаках и шинках выпивали; там не было принято снимать верхнюю одежду и даже головные уборы. Печи топились плохо — посетители грелись водкой. В шинках можно было пить у стойки, а можно было отойти к столу; подавали, как правило, сам шинкарь и члены его семьи — супруга и дети. Обслуживали «послойно»: если клиент вызывал доверие, ему могли предоставить отдельный кабинет и разрешить расплатиться в конце. А могли и вышвырнуть за дверь, не приняв заказа. У кабатчиков-корчмарей жизнь была нелегкая, а рука крутая — алкаши к деликатности не располагали…
Среди корчмарей, шинкарей, кабатчиков и трактирщиков было традиционно много евреев. В России им время от времени запрещали держать питейные заведения, особенно строго с конца XVIII века; но украинские порядки были полиберальнее, и евреи, особенно в Западной Украине, оставались при деле очень долго. К тому же в результате трех последовательных разделов Польши Российская империя продвинулась далеко на Запад, поглотив земли, где жило огромное количество евреев, около семисот тысяч, треть тогдашнего мирового еврейского населения. При Екатерине II было установлено нечто вроде узаконенной в дальнейшем «черты оседлости» — евреям не разрешали переезжать в большие города; они оставались на своих местах и занимались тем же, что и всегда. Корчмарство было традиционным еврейским промыслом (авторитету корчм, правда, не способствовал тот факт, что многие корчмари не хотели торговать традиционными для Украины закусками, салом и ветчиной, к которым по религиозным канонам им запрещено было даже прикасаться).
Евреи держались алкогольного бизнеса даже тогда, когда им бывало это запрещено, — перекупали право на корчмарство у местных помещиков. Сами же феодалы при этом охотно брали у шинкарей-корчмарей деньги в долг без отдачи и, как все должники, люто ненавидели своих кредиторов. Ненавидели корчмарей и постоянно пропивавшиеся завсегдатаи питейных заведений. Так исподволь и формировался корчемный антисемитизм. К тому же из Польши вместе с землями, до сегодня приросшими к Белоруссии и Украине, пришли в империю и сопутствующие сплетни — байки о «крови христианских младенчиков», которую-де евреи подмешивают в мацу, именно из тех времен. В общем, все получалось в соответствии с грустным афоризмом Ежи Леца: «Я знаю, откуда произошла легенда о еврейском богатстве, — евреи расплачиваются за все».
Неудивительно, что время от времени еврейские шинки и корчмы громили с большевистским энтузиазмом. В период «хмельниччины» такие погромы приобрели массовый характер и до сих пор горько упоминаются во многих энциклопедиях. Тот самый, описанный Кобзарем, победоносный реванш народных правдолюбов выглядел недвусмысленно: «Упали двері, а нагай малює вздовж жидівську спину»…
Впрочем, торговля алкоголем многократно реформировалась, и главным образом как раз не по национальному признаку. Ведь государственным деятелям во всех странах очень быстро приходит в голову, что можно хорошо заработать, облагая выпивку налогами. На территории Российской империи все казенные питейные заведения (кабаки, корчмы, шинки и прочее) должны были выкупать специальные «пити». Кто больше платил, тот, без учета происхождения и прочих подробностей биографии, получал право торговать винишком — лишь бы рассчитывался с казной. Государство даже брало на себя защиту таких заведений от громил и скандалистов и делало это довольно уверенно. На алкогольных откупах богатели сказочно, взятки здесь бывали немыслимые (Департамент податей и сборов, ведавший откупами, звали «Департаментом подлостей и споров»).
В общем, к середине XVII столетия пили массово, без удержу и везде. Православный патриарх Никон начал первую антиалкогольную кампанию — уж очень быстро народ спивался, даже по воскресеньям предпочитая шинки с кабаками семейным походам в церковь. Вначале это по традиции относили за счет корчмарских происков (как писал Тарас Григорьевич: «Запродана жидам віра, в церкву не пускають»), но постепенно пришло понимание, что корчма — дело добровольное, никого туда под конвоем не водят, так же как никого не выталкивают силой из церкви; причины несколько глубже. (Кстати, в это же время авторитет церкви очень страдал от борьбы между христианскими конфессиями, которая, увы, въелась в украинскую историю.) За пару лет до объединения Украины с православной Россией, в 1652 году, российский земский собор повелел закрыть все частные кабаки с корчмами, а в «государевых» кабаках ввел норму: по одной чарке на человека. Цену разливной водки резко повысили, запретили продажу алкоголя в долг, во время постов, а также по средам, пятницам и воскресеньям. Подействовало это далеко не сразу; выпивохи тогда еще не пили одеколонов, но уже страдали изрядно. Автоматически эти правила распространялись и на украинские земли; большой друг Украины хорват Юрий Крижанич с ужасом и сочувствием к народным привычкам писал о «корчемном самоторжии», то есть о ситуации с госмонополией на спиртное: «Люди мелкого счастия не в состоянии изготовить дома вина или пива, а корчмы нет, кроме корчмы царской, где и место и посуда хуже всякого свиного хлева, и питье самое отвратительное, и продается по бесовски дорогой цене». Между прочим, в это время ведро «казенного вина» стоило один рубль. Столько же стоила лошадь, а корову можно было купить за полтинник. Но, как всегда, пили, невзирая на цену, и, как всегда, государственные карательные меры ничего не решали…
Кстати, раз уже я вспомнил о Переяславе, то как раз в период очередного «полусухого закона» налаживание российско-украинских отношений не могло обойтись без противоречий и без чарки для сглаживания оных. Россия упрекала Богдана Хмельницкого за его слишком тесные связи с королем Швеции. Гетман, не желавший ссориться, настойчиво приглашал царского посланника Ф. Бутурлина и думного дьяка В. Михайлова отобедать с ним и за рюмкой порешать все проблемы. Россияне закапризничали, и Хмельницкий напомнил им, что другие царские послы бывали сговорчивее, всегда выпивали за его гетманское здоровье и он настаивает на совместном обеде, «если они не желают к тяжелой скорби его присовокупить еще новую». В общем, Бутурлин с Михайловым в гости пришли, а обильная выпивка с закуской (молочные поросята на вертеле) способствовала улучшению отношений Украины с Россией.
Вскоре начиналась Петровская эпоха, прорубание окон в Европу и очередной алкогольный срыв; у нас ведь все идет этакими волнами — то густо, то пусто. В общем, как знак своего правления, Петр открыл в Северной столице кабак сразу же после ее начального заселения, в 1705 году. Кстати, еще строители Петербурга получали по чарке водки ежедневно «для сугреву». Показывая пример стране, пил император неумеренно; описано, как однажды он выпил за день 36 стаканов вина. Из самых верных соратников Петр создал всепьянейший собор. Тот, кто не пил вровень со всеми, подвергался денежному штрафу и должен был осушить необъятный «Кубок большого орла». Петр повелел и женщинам пить наравне с мужчинами, а пьяные генералы на параде были обычным делом. Считалось за доблесть подпоить иностранцев. В 1720 году генерал-адмирал Апраксин принимал польское посольство на военном корабле, провозглашая частые тосты и каждый тост сопровождая пушечным залпом. Через полчаса поляков разнесли по каютам…
Застольная квалификация военачальников ценилась высоко и тогда. Участник императорского застолья вспоминает: «Пьют, бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик Апраксин начнет плакать-разливаться горючими слезами, что вот он на старости лет остался сиротою круглою, без отца и матери, а военный министр князь Меншиков свалится под стол…»
Справедливости ради надо отметить, что была у Петра и семикилограммовая чугунная медаль для неумелых и неумеренных пьяниц, которая вешалась на шею, и надлежало ее носить до застольного помилования. Петровские пьянки бывали беспощадны. Описано, как иностранный посол пытался спастись бегством от императора во время корабельного выпивона и со страху залез на корабельные снасти. «Тогда царь с «Кубком орла» в зубах взобрался к ослушнику, устроился рядом с ним и заставил в наказание осушить не одного, а целых пять «орлов»…»
Отмечая петровские алкогольные подвиги, следует вспомнить и усилия самодержца к восстановлению винного производства на Киевщине. Там это было делом не новым, потому что в Киево-Печерской лавре монахи занимались виноделием с XI века, это отмечено в летописях, так же как и то, что вина у них получались неважные. Петр I был достаточно самонадеян, чтобы поверить, что уж при нем-то все получится замечательно, и в 1706 году в Киеве был учрежден «регулярный сад» с виноградником. Кроме того, на склонах Днепра как раз возле нынешней Верховной рады чуть позже развели виноградники на террасах, открыли даже «Киевскую казенную кабацкую винокурню», но ничего лучше спирта из приднепровских виноградов не получалось — маловато было в «матери городов Русских» солнышка для хорошего вина. Так что пили, не привередничая, то же, что и всегда…
Когда говорят о том, что придворные пьянки — это национальная традиция, а загадочная славянская душа должна непременно быть проспиртована, я хотел бы напомнить, как, опять же при помощи вина, знаменитый историк С. Соловьев уточнял этот вопрос. Вначале он смешивал полстакана красного вина и полстакана воды: «Петр I женился на Екатерине I, немке. Затем, — продолжал Соловьев, — их дочь Анна вышла замуж за немца, герцога Гольштинского». Он отлил полстакана из розовой винно-водной смеси и дополнил стакан водой. Далее историк повторял операцию с ополовиниванием стакана и доливанием воды, говоря о браке Петра III с немкой Екатериной II, Павла I с немкой Марией Федоровной, Александра II с немкой Марией Александровной. Браков Александра III с датчанкой и Николая II с немкой он прокомментировать не мог, потому что произошли они уже после этой беседы. Но и так к концу рассказа перед Соловьевым стоял стакан чистой воды, которая с самого начала символизировала иностранную кровь. Так что в старину правители пили (и сейчас попивают) согласно собственному желанию, а вовсе не по причине ущербной наследственности, протянувшейся из времен Руси…
Последствия гулянок, если верить Гоголю, тоже были интернациональны: «Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела сидя перекупка с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбою — чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами…» Трактиры и корчмы, предки советского общепита, вошли в привычку, потеряли во многих случаях лоск, стали рутинны и неухоженны: «Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных вызолоченных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники… В комнате попадались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выставлено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички перед образами, висевшие на голубых и зеленых ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух — четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку…»
Жизнь менялась медленно, привычки оставались, а непостоянство законов придавало бытию даже некоторую загадочность… Что касается водки, то, с одной стороны, ее производство было государственной монополией, но с другой — случались и послабления. Повышая роль дворян в жизни империи, им с 1754 года разрешили винокурение, а всем недворянам было велено винокуренные заведения уничтожить. Правда, дворяне могли произвести лишь строго определенные количества алкоголя, согласно Табели о рангах, и только для собственного употребления. Дворяне первого, наивысшего, класса могли в год выкуривать для себя 1000 литров водки, а последнего, четырнадцатого, класса — только 30. Количества эти, как вы понимаете, соблюдались не всегда, зато стало хорошим тоном не предлагать гостям казенный продукт, а угощать своим.
В приличном доме содержалась водка на все буквы азбуки — от анисовой до шалфейной и яблочной. Поэт Н. Некрасов, например, у себя в имении Карабиха построил винокуренный заводик, выдававший более 20 тысяч литров водки ежемесячно. Поэт гнал и рябиновую, и классическую водку «Столовое вино № 21», и даже экзотический ром. Это было в порядке вещей. Помните, как во дворе у гоголевской Пульхерии Ивановны «кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком». Сама помещица умела и угостить. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник; если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки: вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах». Такая атмосфера в имениях сохранялась постоянно, и можно понять удовольствие, с которым уже в конце XIX века Александр Куприн описывает, как его угощали: «А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и всех не перечислишь…»
Известный в XIX веке бытописатель С. Максимов подробно рассказывает о нарастающем алкогольном разнообразии, о том, что и спиртовую основу для водки гнали уже далеко не из одной ржи, а «еще из картофеля, вареного или растертого, но во всяком случае смешанного с хлебным солодом. Из сока свекловицы с прибавкою дрожжей получают так называемую пейсаховку, еврейскую водку, любимую евреями нашего Юго- и Северо-Западного края. Пробуют гнать водку, или так называемое простое вино, из патоки на сахарных заводах, но подобный напиток не нравится любителям водки из простого народа. В последнее время стали гнать водку из того мха, которым на севере питаются олени…». Бедные олени: уже тогда выпивохи расхищали их корм! Очень похоже на анекдот о подорожании водки, дошедший до нашего времени; ребенок говорит отцу: «Теперь ты будешь меньше пить, папа, — подорожало». — «Нет, — ответствует родитель, — это ты теперь будешь меньше есть…»
При Екатерине II, в конце XVIII столетия, водочные доходы составляли треть государственного бюджета («Пьяным народом легче управлять», — говаривала императрица), в 1862 году — уже половину, а при Николае II — больше половины всех поступлений в казну. Такой «пьяный бюджет» был рекордным для Европы; в Англии, например, где крепкие напитки тоже были в чести, думали о здоровье нации, и самый большой доход от них однажды составил 23 процента бюджета. Парадокс алкогольной торговли, в частности, заключается в том, что, согласно европейским статистикам, убытки от пьянства превышают доходы от продажи алкоголя в 5–6 раз. Но прибыли-то явные, а убытки — косвенные…
В Российской империи водочный промысел так или иначе поощрялся почти всегда. Слова, приписанные киевскому князю Владимиру Крестителю: «Веселие Руси есть пити, не можем мы без того быти!» — цитировались постоянно. При Николае I, когда можно было свободно купить право на торговлю спиртным, водочные откупщики часто становились миллионерами. Бенардаки, отставной поручик (во втором, сожженном, томе «Мертвых душ» Гоголь вывел его под фамилией Костанжогло), разбогатев на вине, успешно занялся овцеводством, золотодобычей и выдал свою дочь замуж за французского посла в Петербурге. Откупщик Е. Гинцбург, выходец из небогатых витебских евреев, купил себе титул у герцога Гессен-Дармштадтского и стал бароном. В Крымскую кампанию при осаде Севастополя он торговал спиртным в осажденном городе до конца и «оставил южную сторону с кассою одним из последних, чуть не одновременно с командующим гарнизоном».
Постепенно питейные заведения расслаивались. Уже упоминавшийся С. Максимов писал: «Всякому кабатчику хорошо, потому что всякий со своим искусством и подходом: один очень ласков и больно знаком, у другого очень весело — продает он вино при музыке. Набираются к нему завсегдатаи, называемые также заседателями: пропившиеся люди, бессовестные, плутоватые. Они тренькают на балалайках, бойки на язык, шутливы и кажутся очень веселыми. К ним присоединяются подчас охотливые заезжие мастера играть на скрипках, гитарах, кричать всеми звериными и птичьими голосами и петь всякие песни: и такие, что хватают за душу и гонят слезы, и такие, что веселят и смешат тоже до слез и до упаду. Третий кабатчик, при недостатке денег наличных, и «за рукавицы» вино дает, и из платьишка берет под заклад всякое, какое пойдет ему на руку…» Но выделялись и питейные заведения, репутация которых была высока, где кабатчики выглядели как светские львы. По преимуществу у них уже не было вынесенного бара и стойки для выпивох, в такие трактиры шли не только чтобы выпить, но и вкусно поесть, побеседовать с друзьями. Николай Гоголь со своим приятелем и земляком, знаменитым актером Михаилом Щепкиным, любили, например, устраивать в трактире колоритные «украинские обеды». Эти трапезы завершались питьем жженки, которую друзья называли «Бенкендорф» из-за голубого пламени, напоминавшего им голубой жандармский мундир. С 30-х годов XIX века среди интеллигенции утвердилась мода на «хождения в народ», которым наши «властители дум» забавляются в разные времена, и кабаки с трактирами для такого хождения вполне годились. Новую репутацию обретали заведения, заметные не только своими водками, но также супами и десертами, хотя в глазах обывателей, особенно в провинции, они долго еще были «притонами» и «очагами разврата». Знаменитый некогда писатель Фаддей Булгарин отмечал: «У нас так называемые порядочные, т. е. достаточные люди, только по особенным случаям обедают зимою в трактирах. У нас и богатый, и достаточный, и бедный человек живет своим домом или домком. Даже большая часть холостяков имеют повара или кухарку, или велят носить кушанье из трактира на квартиру, чтоб, возвратясь из канцелярии или со службы, пообедать и отдохнуть, как говорится, разоблачась…» В общем, нужны были годы и перемены в сознании, чтобы репутации трактиров и трактирных завсегдатаев никого не пугали. Изменения эти происходили, но на фоне довольно грустного общего состояния в обществе.
К середине позапрошлого века прибыли государства и доходы откупщиков росли, но качество напитков падало: народ спивался. В кабаках и шинках торговали водкой, настоянной на табаке, добавляли к ней окись меди, поташ, подавали вместо вина «грязную, разведенную разными примесями жидкость». Как за сто лет до этого не выдержал патриарх, так и сейчас первым среагировал Святейший синод православной церкви. В 1859 году Синод постановил, что «благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в городах и сельских сословиях благой решимости воздержаться от вина». Тем временем люди были уже доведены до бунтов, громили корчмы с трактирами, поджигали кабаки и шинки. Когда церковь возглавила движение за трезвость, крестьяне целыми общинами отказывались от винопития, клялись на иконах — не брать в рот спиртного. Дошло до того, что в Воронеже испуганные откупщики стали предлагать дармовую выпивку, но никто ее не брал. Вот тут-то испугалось государство, потому что завибрировал державный «пьяный» бюджет. Через министра финансов Синоду было сделано внушение: «Совершенное запрещение горячего вина не должно быть допускаемо…», и вердикт о поддержке церковью движения за трезвость был отменен. Более того, вышел государев указ, гласивший: «Прежние приговоры городских и сельских обществ об удержании от вина уничтожить и впредь городских собраний и сельских сходов для сей цели не допускать». Помедлившие с роспуском ячейки Общества трезвости разгоняли даже с большим усердием, чем кружки социалистов…
Впрочем, за качеством продаваемой выпивки стали следить лучше. В 60-х годах позапрошлого века стали выпускать народную «Смирновскую» водку, появилась элитная водка фирмы «Вдова М. А. Попова», где использовался только чистый ржаной спирт В трактирах и кабаках вывешивали императорские портреты, которые должны были, по идее, дисциплинировать алкашей. Трактирщиков с корчмарями обязали доносить обо всех бунтарских речах, и это обязательство было общеевропейским (помните, как в Первую мировую войну пострадал бравый солдат Швейк, вольнодумствовавший в пивной у императорского портрета?).
В нашей стране тоже зарегистрирован забавный случай, поучительный и для нынешнего начальства. В конце XIX века солдат по фамилии Орешкин напился в кабаке и начал скандалить. Кабатчик указал ему на висящий здесь же портрет императора и пристыдил: «Как же тебе, служивому человеку, не стыдно буянить и охальничать перед лицом императора?!» На что солдат Орешкин, опережая свое время, по-большевистски прямо ответил: «А плевал я на вашего императора!» Солдата арестовали и завели на него дело «Об оскорблении величества». Такие дела всегда докладывали императору лично. Резолюция Александра III была недвусмысленна: «1. Дело прекратить. 2. Орешкина освободить. 3. Впредь моих портретов по кабакам не вешать. 4. Передать Орешкину, что я на него тоже плевал». Вот и все…
Со временем цивилизованные застолья все больше входили в моду. Для полиции даже составили специальную инструкцию с указаниями о том, каких пьяных следует задерживать, а каких не надобно трогать. Степени опьянения определялись так: «Бесчувственный, растерзанный и дикий, буйно пьяный, просто пьяный, веселый, почти трезвый, жаждущий опохмелиться». Но тем не менее Александр Куприн, описывая типы киевлян конца XIX века, пишет, что было среди них очень много крепко пьющих людей. Даже уличный попрошайка, чью речь писатель приводит в собственной записи, считал, что сочувствие прохожих будет вызвано таким текстом: «Господа филантропы! Обратите внимание на мое исключительно бедственное положение. Получал когда-то сто рублей — пьянствовал, получал двадцать пять — пьянствовал. Теперь я, как видите, босяк — и все-таки пьянствую!»
Понемногу отношение к трактирам менялось. Там стали заметнее «целовальники», то есть люди, поцеловавшие крест и на нем поклявшиеся не жульничать. Лучшие заведения с приличной кухней к середине XIX века выделились и стали зваться «ресторациями». Ресторации бывали с музыкой, в некоторых даже пели цыгане, а клиентов обслуживали профессиональные официанты; постепенно все приличные гостиницы обзавелись ресторанными залами. Ресторации, особенно заведения кавказской кухни, звались красиво: «Приют друзей», «Не уезжай, голубчик мой!», «Войдите!». Кроме этого, открывались клубы с фиксированным членством, означавшим принадлежность к элите, с хорошей кухней, с иностранными поварами. Работали чайные, где можно было перекусить, но не выпить, и (по немецкому образцу) пивные, где крепкие напитки подавали не всегда или только в виде исключения. Разрасталась сеть кондитерских и кафе, вводя соотечественников в европейскую моду. Кстати, кафе и кондитерские-шоколадницы выглядели очень по-разному и несли в себе след чужестранных конфликтов. Дело в том, что во Франции с конца XVIII века посещение кафе имело политический смысл, туда ходили по преимуществу республиканцы. Зато сторонники монархии налегали в кондитерских на шоколад. У нас кондитерские-шоколадницы были роскошнее, с ликерами за прилавком, с хорошо вышколенными официантами в черных костюмах, галстуках бабочкой и в белых перчатках. Среди кафе бывали и совсем простенькие, но самые напряженные интеллигентские споры велись именно в них. Первое время многие вывески были без слов: на кондитерских рисовали амуров с пирожными, а на кофейнях — толстого турка с трубкой…
Пытаясь хоть как-то упорядочить алкогольное производство (ведь даже процентное содержание спирта в водке не нормировалось никакими стандартами — все разбавляли спирт, как хотели), правительство создало в 1884 году особый Технический комитет, контролировавший качество водки. Вместе с другими видными химиками в нем трудился и автор знаменитой Периодической системы элементов Дмитрий Иванович Менделеев, чья работа «О соединении спирта с водой» стала докторской диссертацией. Менделеев, по сути, определил само понятие «водка». Согласно его формулировке, это продукт, получаемый при разведении ржаного хлебного спирта ключевой водой до 38–42 градусов крепости; именно в таком соотношении спирт и вода смешиваются лучше всего. Менделеев много работал и над изучением парадокса, согласно которому при соединении спирта с водой происходит сжатие смеси; смешайте пол-литра воды с полулитром спирта, и в сумме получится меньше литра — вроде бы недолив.
Но так или иначе, в 1894 году на научном уровне проблемы были преодолены и менделеевский состав водки был запатентован Россией под названием «Московская особенная» (в советское время он выпускался как «Московская особая водка»). Великий ученый был весьма уважаем, но при этом считается, что он же изобрел обряд приема на работу в свою лабораторию, когда новичку полагалось выпить пробирку неразведенного спирта.
В конце XIX века Святейший синод православной церкви еще раз приобщился к алкогольным проблемам, отправив группу иерархов по главным винным центрам Европы. Требовалось найти густое сладкое красное вино, которое использовалось бы при причастии, напоминая о крови, пролитой Христом за грехи наши. Во французском местечке Кагор такое вино нашли. С французами был подписан контракт, в котором они обязались не поставлять это вино больше никуда — только Русской православной церкви. Договор действовал до 1917 года, когда вся жизнь перевернулась вверх дном…
Царский премьер-министр Витте, которому повезло умереть за два года до Октября, успел обнародовать серию указов, согласно которым «продавец обязан обращаться с покупателями вежливо, отпуская требуемые пития без задержки», а покупатели «обязаны при входе в винную лавку снимать шапку, не раскупоривать в лавке сосуды с вином, не распивать вина, не курить и оставаться в лавке не более того времени, сколько нужно для покупки питий». В крупных городах водку продавали с семи утра до десяти вечера, а в деревнях заканчивали торговлю пораньше: летом к восьми вечера, а зимой — к шести. Упорядоченную торговлю алкоголем нарушила Первая мировая война: с 17 июля 1914 года продажу спиртных напитков запретили по всей стране. (Согласно воспоминаниям офицера из императорской свиты, в ставке у главнокомандующего, Николая II, все-таки пили, но понемногу: «Государь подходил к закусочному столу, стоя выпивал по русскому обычаю с наиболее почетным гостем одну или — много — две чарки обыкновенного размера особой водки, «сливовицы», накоротке закусывал… Государь за столом ничего не пил и только к концу обеда отливал себе в походную серебряную чарку один-два глотка какого-то особого хереса или портвейна».) Остальное население выкручивалось, как умело. Правительственный медицинский совет вынужден был запретить продажу без рецепта так называемых «Гофманских капель», состоявших из двух частей спирта и одной части серного эфира, которым выпивохи травились особенно часто, так же, впрочем, как «Киндербальзамом» — спиртовым раствором разных пахучих масел. В 1915 году делегация сената Соединенных Штатов приезжала изучать наш опыт борьбы с пьянством и грустно отметила, что после введения сухого закона возросла продажа сахара, а люди пьют что угодно, включая «одеколон, лаки, политуру и валериановые капли». Но мало кто учится на чужих ошибках; через некоторое время американцы ввели собственный сухой закон и получили точно те же последствия.
Народы обмениваются опытом, но результаты этих обменов не всегда выявляются немедленно. Придуманный (как принято считать) на Западе спирт переродился у нас в водку, которая стала у многих национальным напитком и одним из главных разрушителей народного здоровья. Придуманный на Западе (вне всяких сомнений) марксизм в смысле разрушения жизни преуспел у нас не меньше. Когда в бывшей империи бабахнуло революционное время, на сокрушение дворцов, а заодно и шинков с кабаками ринулись восставшие революционные массы, огромная часть которых восставала с самого дна общества. Лозунг Николая Бухарина «Грабь награбленное!» будет брошен в митинги чуть позже, но изнуренные массы по этой части и сами соображали неплохо; первым делом они принялись грабить винные склады. По документальным свидетельствам, после взятия Зимнего дворца в Петрограде революционные толпы так перепились, что охрана была снята повсюду и народ утолял жажду справедливости в лучших винных погребах страны. При этом бутылки разбивали без счета, бочки разламывали, погреба вскоре были затоплены вином и водой, матросы ныряли туда, выныривая с бутылками, многие революционеры при этом тонули. Позже матросы радостно обнаружили, что одежда у них настолько пропиталась малагами и портвейнами, что, замачивая ее в воде, можно продлить удовольствие, выпивая отжатую из брюк и тельняшек жидкость.
Вакханалия продолжалась довольно долго; только в 1919 году вышел декрет новой власти «О воспрещении изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Страна, в которой очень многие все еще не работали, а грабили, начала голодать, и декрет не запрещал выпивку — он пытался проследить, чтобы зерно и картофель в голодной стране не уходили в перегонные кубы. Шла Гражданская война — система жизни разрушилась, что уж тут говорить о системах общественного питания и алкогольного производства. До сих пор старые крымчане помнят, как белое и красное воинства по очереди грабили коллекции белых и красных вин Массандры.
Массовое озверение отражалось во всем; бытие надолго вперед пропахло водкой и кровью. Читаю воспоминания белогвардейского офицера Бронислава Сосинского, преследовавшего отряды Махно по Запорожью: «Есть в Бердянске трактир. Знаменитый трактир, доложу я… Когда ни придешь, то хозяин бьет посетителей, то посетители целым обществом, до крови, — хозяина. Целое лето ни одного стекла в окнах — все выбиты».
Писательница Надежда Тэффи, спасаясь от большевиков, бежит сквозь Украину, доехала до Одессы, где попадает на «пир во время чумы»: «Театры, клубы всю ночь были полны… Утром, одурманенные вином, азартом и сигаретным дымом, выходили из клубов банкиры и сахарозаводчики, моргали на солнце воспаленными веками. И долго смотрели им вслед тяжелыми голодными глазами темные типы из Молдаванки, подбирающие у подъездов огрызки, объедки, роющиеся в ореховой скорлупе и колбасных шкурках…»
Бытие с питием стали другими, писатель Исаак Бабель, живописавший быт Молдаванки с другой стороны, чем Тэффи, видел его тоже непразднично, потому что время было такое: «Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую, как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота…» Удобная жизнь осталась где-то в «проклятом прошлом»; уроженец Крыма сатирик Александр Аверченко ностальгически вспоминает: «У «Медведя» рюмка лимонной водки стоила полтинник… Любой капитал давал возможность войти в соответствующее заведение. Есть у тебя пятьдесят рублей — пойди к Кюба, выпей рюмочку «Мартеля», проглоти десяток устриц, запей бутылочкой «Шабли», заешь котлеткой данон, запей бутылочкой «Поммери». Имеешь десять целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярославец»: обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый…» Все это исчезло без возврата…
Надо сказать, что злейший враг «банкиров и сахарозаводчиков» Ленин сам не очень любил выпить и другим не давал. В Швейцарии и Германии он привык к пиву, особенно баварскому, да еще к «фруктовому ликеру на малине», который умела готовить ему жена. Так что без всякого душевного содрогания в 1921 году он отправил в Совнарком записку, где настаивал: «Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа». Прожекты водочной реформы следовали один за другим (отзвучием этого расхваленная Остапом Бендером водка из табуретки); ученые на полном серьезе предлагали получать водку из фекалий. Пролетарский поэт Демьян Бедный немедленно отозвался:
Вот настали времена, Что ни день, то чудо. Водку гонят из говна По три литра с пуда…Не надо улыбаться. Уже на моем веку верный ленинец Никита Хрущев однажды спросил у специалистов, сколько пшеницы и кукурузы уходит на производство водки, а услышав ответ, обнадежил: «Будем гнать из нефти!» Слава богу, обошлось…
Пока Ленин был жив, ленинцы, выпившие сверх нормы, старались не попадаться вождю на глаза. По настоянию Ильича в 1922 году было возбуждено более полумиллиона уголовных дел против самогонщиков, но ленинское здоровье слабело, он удалялся от государственных дел, и к тому же большевикам были очень нужны деньги, которые следовало откуда-то доставать. В общем, в том же 1922 году Совнарком разрешил выработку и продажу коньяка и виноградных вин, а в 1923 — наливок и настоек крепостью до 30 градусов. С первого января 1924 года страна стала пьянствовать абсолютно легально, невзирая на попытки «иудушки» Троцкого продлить действие сухого закона. Грандиозной пьянкой стали поминки по Ленину, и вскоре Сталин выступил со знаменитой речью: «Что лучше — кабала заграничного капитала или введение водки? Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что, если ради победы пролетариата и крестьянства нам предстоит чуточку выпачкаться в грязи, мы пойдем на это…» Выпачкались. С августа 1925 года в стране разрешили гнать все, что угодно, и из чего угодно; именем известного алкаша, председателя советского правительства Алексея Рыкова назвали новую тридцатиградусную водку — «рыковка».
То, что водку гнали не столько из пшеницы, сколько из свеклы и картофеля, обстановки не улучшило: еще Менделеев отмечал, что зерновая водка вызывает благодушие и расслабление, а картофельная — агрессивность и злобу. Но злобы в стране хватало и среди трезвых, так что выпивка добавляла очень немного. К 1936 году производство спирта по сравнению с 1919 годом увеличилось в 250 раз, выпить можно было где угодно.
У Михаила Зощенко есть фельетон о том, как в украинском городе Прилуки даже местное аптечное управление приобщилось к алкогольной торговле: в аптеках можно было получить не только спирт для дезинфекции, но и «пивка для рывка». Алкоголь был везде — им лечились, о нем рассказывали анекдоты, его давали в подарок. Помните спасительный рецепт из романа бывшего киевлянина Михаила Булгакова: «Единственное, что вернет вас к жизни, — это две стопки водки с острой горячей закуской». После строительства своей сочинской дачи И. Сталин, расчувствовавшись, собственноручно написал архитектору М. Мержанову рецепт самого целительного напитка: «Водка — 0,5 литра, красный перец — 1 стручок, чеснок — 2–3 дольки. Настаивать 2–3 дня»…
Водка, как средство улаживания отношений, как взятка, как аперитив, как сувенир, как лекарство и вообще как что угодно, заполнила множество жизненных щелей. Водка перестала быть просто алкогольным напитком и стала одной из важнейших составляющих советской жизни. Вопрос «Ты меня уважаешь?» утверждал пьяниц в их нетрезвом достоинстве, а фраза «Без пол-литры не разберешься» полноценно вошла в обиход. Так мы и жили.
Осмысливая ситуацию, Анастас Микоян, один из самых удалых демагогов и живучих чиновников, объяснял: «Некоторые думают и говорят о том, что у нас, мол, много водки пьют, а за границей, мол, мало пьют. Это в корне неверное представление… При царе народ нищенствовал, и тогда пили не от веселья, а от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь. Достанет иногда человек денег на бутылку водки и пьет, денег при этом на еду не хватало, кушать было нечего, и человек напивался пьяным. Теперь веселее стало жить…»
«Жить стало лучше, жить стало веселее!» — как гласили миллионы плакатов.
Особенно весело было, как известно, во время войны. С 1 сентября 1941 года на фронте начали выдавать по сто граммов водки на человека в сутки. Эту порцию можно было менять на шоколад или сахар, но такой возможностью практически никто не пользовался: не пить значило лишиться авторитета. Пили очень много; тем более что иногда спирт, выделенный для роты, доставался неполному взводу, вышедшему из боя. Многие участники войны рассказывали мне запомнившиеся им истории о фронтовых пьянках, поминках и дружбе, скрепленной водкой из алюминиевой кружки, а Константин Симонов однажды поведал, как ему после бурного застолья пришлось лететь на самолете с нетрезвым пилотом и тот всю дорогу почему-то пикировал, а потом рассказал, что где-то спьяну потерял полетные карты и поэтому пикировал на дорожные указатели, чтобы хоть как-то сориентироваться… В конце войны наша армия наступала сквозь винодельческие районы Европы — Венгрию, Румынию, Болгарию, Австрию, Германию, что тоже способствовало утолению жажды. Многие спились за войну…
Я грустно иронизирую, помня, что темой моих заметок является только рассказ о выпивке в нашем отечестве, да и то конспективный. Выдавить из губки, пропитанной нашей непростой историей, одни только водочные капли очень непросто. За каждым моим словом — столько нерассказанного и столько боли, что не загасишь ее ни из каких бутылок. Но все это вы читали или еще прочтете в других книгах; я лишь дополняю известное…
Почти все иностранцы, бывавшие у нас в войну и сразу после войны, отмечали, что народ пьет очень много, но питье это чаще всего было осмысленным — заздравным или поминальным. Для многих водка была и осталась ритуальным напитком, способом оживить беседу, возвратить воспоминания или развеселить гостя. Знаменитый американский писатель Джон Стейнбек, будущий нобелевский лауреат, впервые посетил Украину в 1947 году и запомнил, как его угощали в едва оживающих селах, как и с кем приходилось чокаться. «…Нас пригласили к столу. Украинский борщ до того сытный, что им одним можно было наесться. Яичница с ветчиной, свежие помидоры и огурцы, нарезанный лук и горячие плоские ржаные лепешки с медом, фрукты, колбасы — все это поставили на стол сразу. Хозяин налил в стаканы водку с перцем — водку, которая настаивалась на перце горошком и переняла его аромат. Потом он позвал к столу жену и двух невесток — вдов его погибших сыновей. Каждой он протянул стакан с водкой…»
Ладно: довольно об этом. Давайте еще раз оглядим общую панораму и возвратимся к главной теме моего сочинения. Жизнь менялась трудно и медленно. Большевики, вдоволь нафантазировавшись в швейцарских, французских и немецких кафе, реализовали свои прожекты, вызвав к жизни плохо управляемую стихию. Победив, они до поры до времени сдерживали ураган восстаний демагогией и террором, но все сухие и полусухие законы приходилось отменять вскоре после введения, потому что этого удара победившие пролетарии не простили бы никому. Руководители страны, «плоть от плоти народа», демонстративно пили так же, как подчиненные им массы, и даже гордились этим.
О пьянках сталинского политбюро написано много, так что не стану повторяться. Умный и циничный вождь народов ценил водку прежде всего как средство для развязывания языка; сам он выпивал не очень много, но непьющих соратников терпеть не мог. Впрочем, когда надо было, Сталин мог пить как лошадь. По свидетельству маршала А. Голованова, сопровождавшего вождя на конференции с лидерами союзников во время войны, Сталин дважды перепил самого Черчилля, который слыл записным бражником. Однажды он подарил британскому премьеру бутылку грузинской виноградной водки-чачи, но тот не решился откупорить сосуд при Иосифе Виссарионовиче, чье застольное превосходство Черчилль признал безоговорочно.
Именно при Сталине советская водка стала соответствовать самым строгим мировым алкогольным стандартам. Для ее очистки начали использовать липовый и березовый уголь, сам напиток гнали исключительно из зерна. После военной неразберихи производство водки было восстановлено к 1948 году, когда ввели новые технологии, модернизировали фильтры, использовали все, что удалось вывезти с немецких заводов, чьи напитки считались весьма качественными. В общем, признавая, что сталинское время не очень хорошо отразилось на многих людях, следует согласиться, что для водки оно было эпохой расцвета. В год смерти Сталина, в 1953-м, на всемирной выставке алкоголей в Швейцарии «Московская особая» водка получила золотую медаль, а чуть позже «Столичная» была признана одной из лучших на свете элитных водок.
Никита Хрущев, сменивший Сталина во главе страны, был человеком другой биографии и другого масштаба. Сформированный в недрах советской чиновничьей системы, он мог пить все, что угодно, и спьяну бывал несдержан. За Сталиным демонстративной несдержанности не замечали, но Хрущев буянил, твердо веря в собственную безнаказанность и безошибочность. Для застолий у Никиты Сергеевича были две особенные рюмки. Одна приехала с ним в Кремль из Киева, и он поднимал ее только в кругу «своих». В Киеве поэт Микола Бажан рассказывал мне, как однажды, выпив эту рюмку несколько раз подряд, Хрущев сообщил ему, как перед самой войной власти хотели санкционировать арест Бажана, да потом передумали, потому что Сталину понравился перевод «Витязя в тигровой шкуре», сделанный украинским поэтом. «В тот вечер, — говорил Бажан, — я мог бы выдуть литр без закуски, после того как запросто, между двумя тостами узнал, что был на волосок от смерти». Вторая памятная рюмка была подарена Хрущеву супругой американского посла. Рюмка была сделана так, что всегда производила впечатление наполненной и с ней можно было симулировать в том застолье, где не хотелось пить. Но таких застолий у Хрущева было немного. Как правило, у стола он говорил не задумываясь, энергично, не пытаясь ограничить себя ни в манерах, ни во времени, ни в словаре. Федор Бурлацкий, один из его помощников, вспоминал: «Он держал рюмку с коньяком, хотя она мешала ему говорить, размахивал ею в воздухе, выплескивал коньяк на белую скатерть, пугая соседей и не замечая этого…» Еще Хрущев любил украинские закуски. Главный кремлевский повар Анна Дышкант готовила для него домашнюю колбасу собственноручно. Для этого привозились под присмотром отобранные свинина, вода, соль и перец, чеснок, тонкие кишки и льняной шпагат. Хрущев любил, чтобы колбасу обжаривали непосредственно перед подачей на стол, и принимал под нее украинскую горилку с перцем, которую специально доставляли из Киева. Последние полвека советской власти кремлевская кухня была украинизирована до предела (за исключением коротких периодов правления Андропова и Черненко, которые питались только тем, что им прописывали врачи-диетологи). Руководящие товарищи пили горилку, ели борщи, кулеш, вареники, яичницу с салом и арбузы с черным хлебом. От Хрущева до Горбачева главной кашей в начальственном меню была гречневая, а сам Никита Сергеевич в революционном порыве сделал еще несколько попыток научить подчиненных закусывать крутой кукурузной кашей — мамалыгой. Но это не прижилось, как и ряд других опытов кремлевского реформатора.
Как-то на обеде с американским президентом Эйзенхауэром Хрущев велел подать тому селедку в горчичном соусе, тарелку вареной картошки (отбирались картофелины не более трех сантиметров в диаметре) и стаканчик холодной водки. Так состоялась одна из немногочисленных побед советского лидера над Соединенными Штатами, потому что Эйзенхауэр лизнул водку, понюхал закуску и сказал: «Не смогу. Это выше моих сил…»
За столами и на трибунах Никита Хрущев вел себя одинаково. Мне запомнилось, как однажды на его выступлении я оказался в первом ряду, прямо перед вождем. Произнося очередную пламенную речь, он так брызгал слюной и плевался, что после того, как оратор замолчал, ближайшим слушателям впору было идти в душ…
При Хрущеве водку производили по тем же рецептам и стандартам, что и при его усатом предшественнике; Никита Сергеевич разоблачал Сталина по всем направлениям, кроме алкогольного. Правда, Хрущев, кроме сталинского культа, пресек еще продажу водки в разлив — больше стали пить «на троих» в подворотнях.
Леонид Брежнев, возглавивший страну после Хрущева, был зауряден, как табуретка. Он пил, как все, поступал, как все, отчаянных решений не принимал. Закусывать он, как и его предшественник, любил украинской домашней жареной колбасой; для Леонида Брежнева было налажено специальное производство этой колбасы в особом цехе Запорожского мясокомбината. Колбасу старательно паковали в горшочки и спецрейсами отправляли в Москву, чтобы она еще теплой попала на начальственный стол. Почему-то именно при Брежневе, в 1964 году, все, что касалось водочного производства, количества алкоголя и алкоголиков, засекретили на уровне сведений о ракетах и подводных лодках; цензура строго надзирала за тем, чтобы эти цифры не попадали в печать. Но при Брежневе утвердили и новые государственные стандарты на водку, еще более ужесточили контроль за содержанием вредных примесей, придумали несколько новых сортов подороже, в частности «Посольскую» и «Сибирскую». «Горилка с перцем» шла тогда на экспорт с забавными этикетками: в центре было написано латинским шрифтом, что это «Украинская (Ukrainian) горилка с перцем», а по верхнему краю было крупно пропечатано: «Russian Vodka». Однажды в Нью-Йорке я подарил такую бутылку знающему толк в напитках американцу, и тот долго удивлялся, как это два великих народа смогли разместиться в одной бутылке. Помню, было однажды еще забавнее; в разгар холодной войны, после одной из самых грозных речей американского президента с трибуны ООН, тогдашний советский посол в Вашингтоне Анатолий Добрынин умолял меня достать ему где угодно две бутылки этой самой «Горилки с перцем», потому что: «Конфликты конфликтами, но американский государственный секретарь обожает этот напиток, он сегодня принимает личных гостей и очень просил…»
Как я уже говорил, цифры алкогольного производства были строго засекречены, но известно, что в 1980 году продажа спиртного возросла в восемь раз по сравнению с последним довоенным, 1940 годом. Страна в очередной раз погружалась в пучины пьянства, стали обычными не только начальственные междусобойчики, но и выпивки на рабочих местах с последующими производственными травмами и перевернутыми подъемными кранами. Решать вопросы было лучше всего на застольях; райкомы, обкомы и более высокие уровни власти периодически устраивали пьяные смотры своим кадрам, и там можно было договориться обо всем и со всеми куда лучше, чем в кабинетах. В общем, про это вы все наслышаны. Кто постарше, помнят, как в правление Юрия Андропова, почти не пившего по причине почечной болезни, начались очередная борьба с пьянством, пошли рейды по ресторанам и кафешкам, как отлавливали едоков, посмевших заказать графинчик выпивки к обеду в рабочее время, и доставляли их на суровый суд сослуживцев. Наряду с этим Андропов понизил цену на дешевые сорта, выпустив водку, которую прозвали «андроповка» или «школьница», по 4 рубля 70 копеек за пол-литра. Забавно, что вначале для «андроповки» изготовили этикетку синего цвета, но затем генсек счел, что так она будет ассоциироваться с цветом чекистских погон, и этикетка стала зелено-белой…
Водку начинали продавать только с одиннадцати утра, и до этого часа запрещалось торговать всеми спиртосодержащими жидкостями, вроде лосьонов с одеколонами, которыми алкаши орошали иссохшие за ночь души. «О позорный час в жизни моего народа!» — восклицал об одиннадцати утра Веничка Ерофеев в своем произведении «Москва — Петушки». Существовала шутка о том, как диктор объявлял точное время: «Просим всех непьющих убавить звук. Для остальных сообщаем точное время: одиннадцать часов утра…» Гонения на алкоголь нарастали и принимали дурацкие формы. Из программ вокальных концертов изымались произведения вроде «Шотландской застольной» Бетховена и народных «Вдоль по Питерской» или «Ой, засядем, браття, коло чари». Во время очередной антиалкогольной истерии у меня в киевском издательстве «Дніпро» как раз выходил роман, начинающийся с того, что я простыл в чужом городе и, чтобы подлечиться, бегаю по продуктовым лавкам в поисках водки и соленого огурца на закуску. Редактор отполировал мое сочинение согласно директивным указаниям, и помню, как я поразился, получив сигнальный экземпляр книги, начинающейся с того, что я почему-то мечусь по магазинам в поисках огурцов. Про водку не осталось ни слова…
Всякий раз, когда наши власти вмешивались в народные представления о здоровье и выпивке, то и другое сразу становились хуже. Забота о народном пищеварении и народной рюмке, как правило, заканчивалась питьем тормозной жидкости и циррозами печени. В последний раз получилось очень наглядно, потому что вместе с водочной торговлей рухнула и советская власть. Пришедшие в Кремль реформаторы во главе с Михаилом Горбачевым издали постановление от 17 мая 1985 года «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», считая, что с исчезновением водки из магазинов проблема ее питья рассосется сама собой. Помню, как вырубали виноградники Крыма, как люди, связавшие свою жизнь с виноделием, умирали от инфарктов или кончали жизни самоубийством, не в состоянии пережить это варварство. В те годы я как-то приехал на Кипр, и тамошние деятели со смехом сообщали мне, что Советский Союз расторг все контракты на поставку кипрских вин и просит во избежание международных санкций поставить вместо вина такое же количество виноградного сока за ту же цену. Украинские власти ретиво ударились в нелепую войну с самогонщиками, но сообразительный народ быстро усовершенствовал технику до того, что появились самогонные аппараты с компьютерными программами и дистанционным управлением. У магазинов «Юный техник» очереди выстраивались с шести утра, потому что там продавался набор для юных химиков за шесть восемьдесят, в состав которого входил змеевик… Антиалкогольная кампания была глупой и бессмысленной затеей, разрушавшей здоровье пьющих людей еще основательнее, чем выпивка в подворотне. Трагический юмор ситуации подчеркивался мгновенно размножившимися анекдотами. Например, клиент в парикмахерской спрашивает, дыхнув на мастера: «У вас есть такой одеколон?» Тот принюхивается, качает головой и дышит на клиента: «Такого одеколона нет. Есть только этот…» Помню, как расстроенный Горбачев у себя в кабинете рассказал мне полюбившийся ему анекдот о человеке из длиннющей очереди за водкой, который отправляется в Кремль, чтобы набить ему, Горбачеву, морду. Через час человек возвращается в очередь. «Ну как, набил?» — интересуются товарищи по несчастью. «Там очередь еще больше», — растерянно отвечает смельчак. Я только и смог спросить: «Кто вам такое пересказывает?», не получив от генсека никакого ответа. А тем временем чиновники на местах раскочегаривали антиводочную комедию! В Кремль один за другим летели угодливые рапорты о популярности безалкогольных свадеб. Помню, как киевское начальство докладывало, что в республике одержана очередная победа, так как почти никто и почти нигде не хочет даже глядеть в сторону спиртных напитков. Власть рушилась в обстановке принудительной трезвости и не менее принудительного вранья, отчего картина ее падения была еще живописнее.
В Советской стране пили почти все и почти всегда. Знаю, конечно, исключения, но и они были связаны с алкоголем. Два глубоко уважаемых моих приятеля, певец Иосиф Кобзон и художник Илья Глазунов, в юные годы обрели аллергию к вину и водке, за которую их все жалеют, но к выпивке Иосифа с Ильей уже не склоняют. У большинства же отношение к водке на долгие годы осталось одним из определяющих факторов в формировании личных отношений и откровенных бесед. Умение добывать спиртное для друга даже в самые трудные годы развивалось до виртуозного, взаимовыручка была высочайшей. Медики пили спирт, выданный им для работы, космонавты рассказывали мне, как за взятку им отправляли на орбиту тюбики с коньяком, химики перегоняли спиртосодержащие жидкости, летчики выцеживали спирт из компасов. Помню, как друзья-поэты присылали мне из Грузии почтовыми бандеролями резиновые грелки с виноградной водкой чачей, и я устраивал дома шумные водкопития, которых, пожалуй, не организовал бы, если б государство вело себя уважительно по отношению к своим гражданам и не толкало под локоток каждого, кто держит рюмку в руке. Алкогольные грелки были популярной формой взаимопомощи; у Сергея Довлатова есть прекрасное описание эластичной емкости с самогоном, которая, «меняя очертания, билась в руках, как щука». Переливая выпивку из грелки или бутылки в графин, я многие годы делил ее прежде всего с коллегами по литературе; писательская жизнь у нас издавна окутана спиртными ароматами. Тому же Довлатову принадлежит замечательное описание вдохновения, приходящего после выпивки: «Все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране, проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением… Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видимо, гармония таилась на дне бутылки». Ах, этот загадочный процесс вдохновения…
Около двухсот лет тому назад знаменитый казачий атаман Платов, которому представили историка и писателя Карамзина, приветливо кивнул тому: «Очень рад. Я всегда любил сочинителей, потому что все они пьяницы».
Когда я начинал писать эти заметки, в газетах сообщили о начале сноса самой знаменитой, той, что была изображена на этикетках советской «Столичной» водки, гостиницы «Москва» в одноименном городе. Тогда же сообщили, что белорусский литературный музей выкупает дверь от 414-го номера и часть лестничного пролета, в который вроде бы спьяну рухнул народный поэт Белоруссии Янка Купала, разбившись здесь насмерть в 1942 году. «Водочная» версия гибели поэта воспринимается как одна из самых вероятных; крепко пьющих писателей во все времена было немало. Тема выпивки, описания пьянок, монологи алкоголиков в знаменитых отечественных романах, пьесах, стихах — всего этого в такой концентрации не содержит больше ни одна словесность на белом свете. Судьбы и сюжеты переплелись. Павел Антокольский, один из самых культурных советских поэтов, вспоминал, как незадолго до революции он удостоился приглашения на завтрак от одного из популярнейших поэтов того времени Игоря Северянина. Но Антокольскому (который в дальнейшем и сам мог выпить изрядно) больше всего запомнились не разговоры о стихах, а то, как по-барски величественный Северянин заказывал себе на завтрак штоф водки и соленые огурцы.
Алкогольные мартирологи нового времени бесконечны. Несколько раз тяжко запивал Александр Блок. Непросыхавший Сергей Есенин окончил свои дни в ленинградской гостинице «Англетер». Микола Бажан рассказывал мне, как они выпивали в Харькове с Хвыльовым и другими ведущими писателями двадцатых — тридцатых годов, как в Киев приезжал Маяковский и сколь усердно поили его в ресторане гостиницы «Театральная», той самой, что бесконечно отстраивается сегодня рядом с Оперой в Киеве.
Одессит Юрий Олеша прославился, когда, пьяный в стельку, он принял адмирала в униформе за ресторанного швейцара и потребовал, чтобы тот вызвал ему такси. Когда возмущенный адмирал представился, Олеша сменил заказ и, поскольку шел дождь, потребовал вызвать катер. Бывший граф Алексей Толстой запомнился не только описаниями петровских пиров в своем историческом романе, но и своими путешествиями между Москвой и Ленинградом в отдельном купе, где он расставлял на столе водочные стаканчики разной емкости и выпивал их в зависимости от своего отношения к станции или полустанку, где притормаживал поезд. По прибытии графа выгружали на перрон при помощи трех носильщиков; угрызения совести советского Толстого не мучили. Зато они терзали руководителя Союза писателей Александра Фадеева; который однажды хорошенько выпил и застрелился… Редактор «Нового мира», считавшегося идейным противовесом партийной фадеевской словесности, Александр Твардовский тоже страдал задумчивыми запоями, утоляя жажду на даче водкой из зеленого чайника. Нобелевский лауреат Михаил Шолохов пил везде и всегда, особенно после написания «Тихого Дона» — может быть, поэтому ни разу больше и не взмыл до «тиходонского» уровня…
Покойный Юрий Нагибин, которого я хорошо знал и уважал, очень приличный прозаик, хоть и не уровня классиков, жил на писательской даче в Переделкине, где всегда было вдоволь собеседников и собутыльников. Он любил выпить, но его образ жизни и водочные дозировки не считались чем-то особенным, так — в порядке вещей. В «Дневнике» Нагибин меланхолически излагает свою жизнь в условиях дождливой погоды, случившейся однажды в конце октября. «Началось все с охоты… На утреннюю зорьку я не пошел, не мог очухаться, да и холодина собачий. Днем пил, а на вечерку потащился. И надо же — единственный из всех сшиб селезня в своем пере… Потом мы пили, не останавливаясь, три дня». Очень похожие воспоминания об охоте переполняют воспоминания о таких титанах украинской культуры, как поэт Максим Рыльский и актер Юрий Шумский, а великий юморист Остап Вишня не раз похохатывал над друзьями, забывавшими дома ружья, но обязательно бравшими на охоту звенящие бутылками рюкзаки…
Разноязыкая советская литература была проспиртована насквозь. Не хочу перемывать косточки уважаемым людям, но не только я один помню пьяных классиков украинской поэзии Сосюру и Воронька или то, как ползал по тротуару киевский поэт, всяческий лауреат Микола Нагнибида, которого в быту называли «Нагни бидон», а выпивох помельче и вспоминать не хочется. Максим Горький, которому как-то пожаловались на массовое пьянство мастеров слова, пробасил в ответ одну из своих знаменитых формул: «Пьяниц не люблю, непьющим — не доверяю». Ресторан Дома литераторов давно стал одним из самых престижных мест для выпивки в Москве; всегда пьяненького поэта Михаила Светлова показывали там, как местную достопримечательность, а он провозглашал, подняв стакан с коктейлем: «Утопающий хватается за соломинку!» Кафе «Эней» в украинском Союзе писателей молодо, но и оно помнит заплетающиеся голоса самых знаменитых киевских поэтов. На заре своей литературной карьеры я много работал и поэтому выпивал нечасто, что сразу же вызывало подозрения и в моем национальном происхождении, и в поэтическом будущем. Максим Рыльский, автор первой доброй, благословляющей статьи обо мне, однажды грустно заметил: «Що ж воно напише, як воно ж нічого не п’є?!», а Андрий Малышко, которого я в 60-х годах прошлого века, уже заканчивая медицинскую практику, дважды лечил от инфарктов, возникавших после его запоев, в перерывах между капельницами поучающе рассказывал мне о вдохновительной роли выпивки в родимой литературе. И вправду, пьянство не принадлежало к числу самых наказуемых советских грехов; каждый из нас может вспомнить случаи, когда ему приходилось пить немыслимые жидкости в неимоверных условиях, не жалея о результате. Со временем научился выпивать и я — как же иначе?
Лет тридцать назад мы с замечательным кавказцем, поэтом Кайсыном Кулиевым, были приглашены на поэтический фестиваль в македонский город Струга. Съехалось много народа со всего света, и очереди на выступление надо было ожидать часами. Мы с Кайсыном заскучали и зашли в соседствующее с театром кафе, где заказали кувшин вина. Минут через пять кто-то громко объявил, что в кафе выпивают «русские», хоть Кулиев балкарец, а я украинец. Тут же появились бутылки с местной виноградной водкой и новые собеседники. Почти не понимая друг друга, мы долго и горячо спорили, что-то уточняли и доказывали. За полночь выяснилось, что поэтический фестиваль закрылся, нас с Кайсыном вызывали на сцену несколько раз, но не нашли. «Славянская пьяная беседа! — возгласили наши македонские знакомцы, разводя руками. — Ни о чем, но шумно и долго…»
Остряки, исказив марксистскую формулу, говорят, что «питие определяет сознание». Я никогда не воспринимал эти слова всерьез, пока, поездив и поглядев, не стал запоминать, как японцы задумчиво — каждый сам с собой — потягивают из керамических чашечек свою теплую, солоноватую рисовую водку-саке. Немцы собираются в гигантских пивных, похожих на дворцы спорта, усаживаются за огромные столы, чтобы стучать кружками, общаться, объединяться. Американцы понастроили баров с длинными стойками, где каждый одиноко сидит лицом к единственному собеседнику — бармену и боком ко всем остальным, не видя их и не слыша. Южане — итальянцы, испанцы, грузины — пьют долго, с разговорами; на столе много зелени, сыров, но главное — уважить всех присутствующих, сказать красивый тост. Британцы бродят по своим пабам с кружками пива — закуску в пабах подают только пару часов в день, клиентура везде своя, все знают друг друга, и говорить им уже не о чем. Все-таки на Украине, России, в большинстве славянских стран пьют по-другому, решая мировые проблемы, стуча себя и собеседников по груди, клянясь в вечной дружбе и не менее вечной вражде. Здесь дело не в количествах выпитого, а в стиле жизни. Есть немало стран, где пьют не меньше нашего, но я так никогда и не свыкся с тем, что только у нас столько пьяных бесстрашно шляется по улицам, заговаривают со встречными, даже пристают к ним и ничего им за это не бывает. Даже сочувствуют: «Ну, выпил человек, ничего особенного…»
Когда миллионы людей пристрастились к спиртному, как у нас, их невозможно отучить от этой привычки одними только декретами. Существует опыт развитых стран, которые постепенно повышают качество напитков, отчего растет цена, но меняется и стиль питья, а также контингент потребителей. Есть и другие способы: в бывшей ГДР, к примеру, одно время снизили до 22 процент спирта во многих водках; но народ все равно предпочитал те, что покрепче. Есть еще системы узаконенной охраны непьющих людей от пьющих, так же как и курящих от некурящих. Когда я вижу наших юных пивохлебов с бутылками в мокрых ладошках, то вспоминаю, что в Америке за такое поведение они бы мгновенно оказались в полицейском участке. Там, если кому-то уж приспичило пить на улице, делать это можно, только поместив бутылку в коричневый бумажный пакет. Людей, публично отхлебывающих из пакета, обходят с презрительным сожалением. К тому же существуют четкие возрастные лимиты на продажу спиртного, а во многих штатах им торгуют ограниченное время и не каждый день. В Швеции тоже можно затовариться алкоголем только по будням и только до семи вечера. Строго контролируется качество выпивки; большинством государств запрещены аналоги наших бормотух с солнцедарами как продукты, разрушающие здоровье нации. Алкоголиков воспринимают как тяжелобольных, пьянство не поощряется, а внедрение в жизнь низкопроцентных коктейлей, отсутствие регулярных застолий с выпивкой тоже делают свое дело. Кстати, я только что употребил слова «пьянство» и «алкоголизм». Здесь, говоря по-одесски, «две большие разницы». Алкоголики похожи на наркоманов: они пьют мало, но регулярно, отключаясь, впадая в спячку уже после небольшого количества выпитого. Пьяницы пьют много и не знают удержу; удручающие водочные статистики создаются именно пьяницами (около десяти литров чистого спирта — никто не знает, сколько на самом деле, — у нас выпивает ежегодно каждая статистическая душа, включая новорожденных и старушек). В тексте я пользовался иногда бытовым термином «алкаши», объединяя им всех соотечественников, ежедневно пьющих и регулярно выдыхающих перегар в лица соседей по бытию. У нас сложились традиции этакого стыдливого отношения к алкашам, сродни отношению к больным венерическими болезнями: мол, вроде бы и болен человек, но это его личное дело. Мы стесняемся называть вещи своими именами, даже еще не определили толком, что такое алкогольный напиток. Были предложения исключить из реестра алкоголей пиво и, с другой стороны, считать алкогольными напитками все растворы, где спирта уже больше 2 процентов. У нас богатейший и очень доброжелательный алкогольный фольклор; застольные фантазии наползают одна на другую, некоторые из алкогольных обычаев даже подзабылись, вытесненные новыми выдумками. Лет сто назад в загородных усадьбах было модно пить водки и настойки домашнего производства «по словам». Например, «Бульвар» это — стаканчик «Брусничной», затем рюмка «Уманской», за ней — «Лимонная», «Вишневка», «Анисовка» и «Рябиновая». По такой схеме необременительно было пить «за дам», всего три рюмки, но вот «за коммунизм» или, напротив, «за капитализм» могут пить исключительно люди с луженой печенью. Хотя в старое время и тостов таких не было, а сегодня, наверное, знатоки придумали какой-нибудь способ не выпадать в осадок при крутых партийных застольях. Профессионалы-политики редко допиваются до белых мышек, так же как шинкари никогда не становились пьяницами…
Писать об этом можно бесконечно и возвышать или понижать уровни анализа до любой степени. Психоаналитики считают, что в основе человеческой личности находятся три составляющие. Одна из них не признает морали, законов и живет, стремясь к удовольствиям, не сдерживая своих влечений. Другая — подчинена всем правилам и законам, строго соблюдает моральные установки и Уголовный кодекс. Между этими двумя полюсами раздергана третья составляющая — то самое реальное человеческое Я, которое регулирует наши действия, дает им оценку. В конечном счете мы поступаем по выбору, всякий раз оценивая возможный поступок и совершая его или отказываясь совершить. Когда присаживаемся за стол, уставленный красивыми бутылками и тарелками, слушаем замечательных собеседников и умные тосты, наши Я конфликтуют между собой и до последнего решают, «пить или не пить», а также пробуют направить в благополучное русло слова и поступки каждого. Так и живем. Кстати, существует и сопутствующая питью наука о том, как закусывать и как выходить из похмелья.
Знатоки считают, что лучше всего закусывать традиционной едой: сельдью с отварной картошечкой и свежим зеленым луком, маринованными грибами, солеными огурцами, квашеной капустой. Не рекомендуется закусывать водку сыром, бараниной, отварной рыбой. Как видите, рецепты не меняются уже больше тысячи лет. Рецепты для спасения от похмелья тоже традиционны: кислое молоко, травяной чай с медом, огуречный или капустный рассол. В общем, с тех пор как водочный джинн выпрыгнул из бутылки, никаких особенных изменений в отношениях с ним не случилось и загнать джинна в бутылку, из которой он однажды выбрался, никто еще не сумел. Может быть, и не надо?..
Часть вторая
Манеры до некоторой степени указывают на характер человека. Они обличают его чувства, его вкусы, его душевное настроение, а также то общество, в котором он привык вращаться.
«Хороший тон. Сборник советов и наставлений». С.-Петербург, 1889Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу.
Плакат на стене столовой. Середина XX векаГосударство, в котором большинство из нас родилось, любило все начинать с чистого листа и по этой причине всячески уродовало свою историю. Личные истории граждан Советской страны тоже уродовались в угоду государственной моде. В анкетах долгое время была графа о социальном происхождении; заполнив ее, можно было оказаться под подозрением из-за знатных предков, а до начала 30-х годов и вовсе попасть в лишенцы, то есть лишиться права на труд и образование, если ты произошел не из потомственных пролетариев или нищих.
Разговор о традициях небедного дома, о том, как жили люди за пределами овечьих выпасов и хоздворов, был стойким табу советского бытия. Еще несколько десятков лет назад запрещали спектакли и фильмы, где привлекательно изображалась досоветская жизнь. Зато мы знали из подобострастных очерков, что Сталин обожал простой суп-харчо с большим количеством чеснока, видели на тысячах экранах и во множестве представлений, как Чапаев катал по столу картофелины, Буденный с Ворошиловым ели деревянными ложками борщ, а шолоховский Соколов на страх врагам выпивал без закуски стакан водки. В школе нам внушали, что до семнадцатого года страну в основном населяли голодающие бедолаги-труженики. Одновременно какими-то уголками приоткрывалась и другая жизнь — как правило, из книг классиков, но чеховско-бунинские дворяне представляли тот слой бытия, который — нам объяснили — значения не имел, а теперь вообще ушел и больше никогда не вернется.
Свежая советская знать быстро научилась жить по своим правилам, создала для себя отдельные системы лечения, питания и всего остального. Она была хамовата и не шибко образованна, отгораживаясь от так называемых широких народных масс системой собою же изобретенных и узаконенных привилегий, введя цирк с жонглерами и кинофильмы о передовиках производства в жанр главнейших искусств для осчастливленного большевиками народа. Застолья перешли в статус «приема пищи»; в образцовых фильмах «простые люди» не мудрили, как чеховские интеллигенты, а смеялись и ликовали у столов, уставленных тарелками с винегретом, гранеными стаканами и бутылками под стать этим стаканам. А затем, как в фильме «Кубанские казаки», красивые колхозницы с орденами во всю грудь ехали на грузовиках с арбузами и пели о немыслимом счастье. От дореволюционных пиров на ночлежных нарах, где краснобайствовали горьковские Актеры и Челкаши, до сталинских партийных выпивонов, где каждое слово ставилось на учет, опрощение нашей жизни уходило в традицию.
«Книга о вкусной и здоровой пище» — библия советского питания — учила нас введению в организм жиров, белков и углеводов без особенных изысков, «по-простому».
Первая советская поваренная книга написана какой-то К. Дедриной и с 1918 года многократно переиздавалась. Называлась она: «Как готовить на плите и примусе. Настольная поваренная книга для быстрого приготовления простых и дешевых обедов». И никаких фокусов…
Это достаточно спорные заметки, но мне захотелось вспомнить о том, что была когда-то у нас и другая жизнь, не с бутербродами на газетке и не с кашей у костра, как вершинной формой застолья. Как-то я наткнулся на запись П. Вяземского о том, что давным-давно, в начале XIX века, его друг великий поэт А. Пушкин «съел почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке». Лет через сто после этого события произошел Октябрьский переворот в Петрограде, и я попытался подсчитать, сколько лет и какой власти должно было пройти, чтобы в Торжке снова появились в свободной продаже персики…
Старинный город Белая Церковь расположен вблизи от Киева; английский врач-путешественник два века тому назад восхищался там садами А. Браницкой, которая заявляла: «Каждая страна может и должна себя довольствовать». В белоцерковских садах у Браницкой упомянутый англичанин «насчитал пятнадцать сортов фруктов. Персики, дыни и яблоки превосходного вкуса…». Где они сегодня, эти сады?
Была ведь в стране и такая, и этакая жизнь. Вспомните, насколько разнообразен у Гоголя рассказ о современных ему застольях: «Пасюк сидел на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками… Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки», или: «Обед был чрезвычайный: осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы… Бездна бутылок, длинных с лафитом, короткошеих с мадерою, прекрасный летний день, окна, открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака…» Естественно, что огромный народ жил, трудился и ел по-разному.
Сегодня хочется многое восстановить и в памяти, и в жизни. Очень интересны не только блюда, которые подавались на столы в разных регионах; характерен и ритуал, сопровождавший застолья. Если еда могла отличаться в зависимости от местности или национальной кухни, то застольный порядок в пределах одного государства бывал не столь разнообразен, особенно в городах. Поэтому иногда я, говоря «у нас», имею в виду всю страну, рухнувшую в октябре 1917-го, в которой я и вы никогда не жили, но которая была общей для многих из наших предков. Нравится она кому-то или нет, но прадеды с прапрадедами жили именно в ней.
Раздумывая о том, как и что именно ели до разрушения государства большевиками, я наткнулся в книге историка отечественных застолий профессора П. Романова на меню комплексного обеда в петербургском ресторане «Тулон» (были подобные рестораны и в Москве, и в Киеве, и в Одессе, разве что в удалении от столиц все стоило дешевле). Итак, вот это заурядное меню от 15 января 1897 года:
1. Суп марилуиз. Консоме легюм. Пирожки разные.
2. Стерлядь по-русски.
3. Седло дикой козы с крокетами. Соус поврат.
4. Жаркое пулярды и куропатки. Салат.
5. Сыр баварский.
Стоимость такого обеда была 1 (один) рубль. Чиновник невысокого ранга получал около ста рублей в месяц, так что вполне мог выдержать подобные расходы. Рабочим, получавшим около 25 рублей в месяц, бывало труднее, но не намного. Помню, как бабушка рассказывала мне о своих походах на рынок с одной только денежной мелочью в сумочке. В начале XX века килограмм говядины стоил чуть больше 30 копеек, два фунта сахарного песка обходились в те же три гривенника, а сливочное масло было уже по четыре гривенника за кило. Мяснику, который ежедневно отпускал в долг кости с остатками мяса на них и обрезки для пропитания домашних собак и кошек, полагалось платить меньше рубля в месяц — копеек семьдесят — восемьдесят…
Прохаживаясь взглядом по книгам и справочникам, изданным в разное время и в разных странах, разговаривая со знающими людьми, листая старые книги, я писал эти заметки, не претендуя ни на всеохватность, ни на безошибочность. Задумал я их давно, поэтому не исключаю, какие-то факты могли промелькнуть в моих еженедельных колонках. Простите за это. Забавы ради прилагаю к каждой главке рецепт блюда, которое умею готовить сам, — для полноты картины…
1
В 1908 году профессор Новороссийского университета в Одессе, основавший там же одну из первых в мире бактериологических станций, Илья Мечников получил Нобелевскую премию за исследование о пользе кисломолочных продуктов, в частности простокваши. Но научные работы мудрого земляка вовсе не доказывают, что наши соотечественники массово восприняли завтраки с кисломолочной едой как самое полезное начало суток. У Мечникова была своя работа и собственная диета, у остального населения — свои. Знатоки обычаев и сейчас спорят, в чем заключена единственная традиция и что именно, да еще и сколько раз в день ели наши предки. При этом многие из таких знатоков сходятся во мнении, что в так называемое «старое доброе время», как правило, принимали пищу лишь дважды в сутки: в полдень и вечером. Утром, конечно, топилась печь, где завтрак и обед готовились одновременно: варилась каша, супы разного рода или (с конца XVIII века) картофель, и вся эта еда в большинстве случаев ждала полуденного перерыва в работе, так как лучшее трудовое время было с шести часов утра и до двенадцати дня. Тем временем борщ или щи, капустняк, настаивались, каша «дозревала», не остывая в хорошо протопленной печи. Даже я хорошо помню, как еще затемно бабушка грохотала печными заслонками, разводя огонь, но никому не приходило в голову, что обильная еда последует сразу, с рассветом. Часа в три ночи бабушка ставила печь хлеб, а чуть позже — все остальное. Легендарные «косарские завтраки», когда косарям накрывали скатерть-самобранку прямо в поле, тоже происходили не с самого ранья, а попозже. Житейская практика регулировала обычаи. Рано утром пили жидкий чаек или кофе, и этого считалось достаточно во всех слоях общества.
Киевские князья когда-то начинали день с каши, она была для них и для остальных жителей Руси самой привычной едой, первой после материнского молока. Зерно содержит большинство жизненно необходимых человеку веществ; оно заслужило свой авторитет и даже ритуальное место в нашей жизни. Традиция «посыпания» зерном, а также кашеварства, вплоть до «последней каши», кутьи, жива до сих пор.
Старорусский царь Алексей Михайлович оставил в державных архивах отметку о том, что он вообще не завтракал. Разве что иногда выпивал стакан чаю без сахара, а еще мог съесть тарелочку каши с подсолнечным маслом. Та самая «царская трапеза» происходила попозже. Описывая, как ели в старину, знаток обычаев того времени А. Башуцкий отмечал: «Поутру, смотря по времени, кто когда встает, пьют чай, кофе, к которому подают что-нибудь хлебное…» И достаточно для начала.
Существует огромное количество мудрых сентенций, пословиц и поговорок, связанных с ритуалом еды и с отношением к ней в разное время суток. Наиболее распространена самая известная из них, о том, что завтрак следует съесть самостоятельно, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Что ж, и сегодня мы зачастую отправляемся ужинать в гости (где не всегда ясно, кто из приглашенных кому друг, а кто неприятель), нередко обедаем в ресторанах (во многих из них служебное общение включено в распорядок и даже появились вывески: «Деловые ланчи»). Только один завтрак в основном остался делом интимным. У специалиста по обычаям я вычитал, что важность завтрака подкрепляется еще и тем фактом, что люди чаще всего завтракают там, где они спят, то есть — с близкими, с членами своей семьи или с людьми, приравненными к таковым. Завтрак становится временем самого нестандартного общения (если люди просыпаются и выходят к нему одновременно). Впрочем, вспоминаю бесчисленные завтраки в бесконечных гостиницах по всему свету: и гостиницы были одинаковыми, и так называемый «шведский стол» со стандартными наборами нескольких сыров, нескольких джемов и нескольких сортов колбасы с ветчиной не поражал выдумкой…
Кстати, идея коллективного питания не вполне буржуазна. Советская власть, усердно ограждавшая своих граждан от подозрительного уединения, придумала, например, коммунальные квартиры, где интимность отсутствовала не только для завтрака, но и при посещении туалета. Я знаю несколько домов в Москве и Киеве, при постройке которых квартиры снабжались лишь маленькими плитками для разогрева еды, а не нормальными кухнями. Получать еду и жевать ее надлежало в больших коллективных залах для приема пищи, расположенных в цокольном этаже. Знаменитый архитектор К. Мельников в начале 30-х годов предложил строить жилые дома не только с общими столовыми, но еще и «сонно-концертные корпуса». Люди должны были не только есть вместе, но и спать вместе в больших залах с хорошей акустикой, где всю ночь из динамиков лилась бы специальная музыка, подобранная врачами. Женщину освобождали не только от кухонных, но и от других привычных забот. Семья в прежнем, буржуазном виде должна была отмереть, а некоторые ее функции брал на себя коллектив «дома-коммуны». Если тебе приспичило пообщаться с особой противоположного пола, следовало написать заявление и ждать, пока тебе подыщут подругу на ночь-другую. Так что недавние мои слова о том, что люди, завтракающие вместе, почти всегда — семья, содержат преувеличение. Оказывается, не только «шведский стол», но и «шведская семья» могли разнообразить нашу жизнь. На ленинградской обувной фабрике «Скороход» был создан особый фонд, куда отчислялись деньги из зарплат абсолютно всех рабочих мужского пола. Деньги эти предназначались для воспитания детей, родившихся от «товарищей по труду». Так что интимность завтрака — категория непостоянная…
Ничего не поделаешь, революционные идеи время от времени возникают в шальных мозгах, но, слава богу, не все из них приживаются. И все-таки современный быт стандартизирует жизнь, разобщая живущих. Происходит это постепенно, обычаи начинают меняться исподволь, но уже с начала XIX века ревнители славянских традиций отмечали, что старым обычаям следуют немногие: «Даже расположение дома в городе стало новомодным — своя половина у жены, своя у мужа, каждый принимает своих гостей. В разное время утром пьют чай и кофе…» Что говорить, если и поместное дворянство, то есть люди, проводящие большую часть года в своих деревушках, уходило от традиции. Помните, как Татьяна с Ольгой неспешно начинали день в имении пушкинских Лариных?
Уж ей Филипьевна седая Приносит на подносе чай. «Пора, дитя мое, вставай…»
Обычай выпивать первую чашку чая или кофе в постели стал почти что признаком благополучия. В сановных семьях, как и в старину, завтракали не очень обильно — жизнь там никогда не была связана с большим физическим напряжением, можно было и отложить главный прием пищи. А первая утренняя чашка кофе-чая, выпиваемая в постели, породила даже специальную сервировку, столики на коротких ножках, которые ставятся на одеяло поверх живота. Благодать! Почти как в современном анекдоте: «Вам кофе в постель?» — «Нет, в чашку…»
То, о чем вспоминает Е. Сабанеева, описывая быт в имении начала XIX века, все больше становилось милой подробностью жизни, а не самой жизнью: «Марья Петровна была отличная хозяйка. Ни у кого не пекли такого вкусного печенья к чаю, как у нее; что за вкусные булочки и заварные крендельки, и как нарядно и опрятно лежали эти булочки и крендельки на большом подносе, когда экономка Наталья, с ее степенным лицом, ставила этот поднос в столовой на стол каждое утро перед барыней, которая сама разливала чай. Семья собиралась вокруг стола, и было столько гармонии и патриархальной простоты в этом доме…»
Но погодите… Традиций сложилось немало, зачастую они не похожи, но ревнителей такого разнообразия все равно очень много. С одним из вариантов этой истины мне довелось недавно встретиться в пристанционном магазинчике неподалеку от моей дачи. Рано утром я попросил юную продавщицу отпустить мне стаканчик сливочного мороженого. «Маша! — крикнула продавщица себе за спину в подсобку. — Вынеси мужчине стаканчик!» Через минуту появилась эта самая Маша в белом халате, неся в руке граненый стакан с водкой и несказанно удивившись оттого, что мне с утра могло понадобиться что-то иное. Ничуть не застеснявшись, она сказала назидательно: «А у нас мужчины по утрам поправляются вот этим на завтрак…», как бы вынося меня за пределы сплоченных рядов местного мужского населения. Я смирился бы и занес эту ситуацию в память как анекдотическую, если б рядом по перрону не гуляли в ожидании электрички юные и не очень юные существа обоего пола, сжимая в потных ладошках пивные бутылки и сладострастно отхлебывая из них. А на перроне к их услугам был, кроме прочих, и книжный киоск, где торговали в основном детективами, которые хорошо расходились. Несколько детективов я купил, прочел, и они с закладками лежат на моем столе, как материал для рассуждений о тяжелой писательской доле. Я вам тоже советую почитать ширпотребную литературу, которую сочиняют не очень талантливые (это уж ладно — где их, талантливых, взять) и не очень сытые (а вот это и вправду достойно сожаления) писатели. Я сужу об авторах по тем сведениям, которые они предоставляют мне о своих героях. Поскольку в детективах среди героев непременно случаются люди очень богатые (кого же тогда грабить?), их образ жизни описывается мечтательно и вкусно. Завтракают богатые герои непременно осетриной на вертеле, омарами или жареными цыплятами, приготовленными особым образом, с немыслимыми африканскими приправами. И еще богатые герои непременно за завтраком пьют. Ах, чего они только не хлещут с утречка: текилу и разные сорта вермута, портвейн и виски, а самые патриотичные не отказываются от пива с водочкой тоже. Собственно, о писательской бескормице я рискую судить по яркости кулинарных видений, приходящих к мастерам пера, и по их полному незнанию того, чем могут питаться богатые люди, имеющие возможность заботиться о своем здоровье. Только что я отложил в сторону выпущенный в петербургском издательстве детектив, пометив там страницу, где герой приходит в гости к богатому «папику», как раз готовящемуся позавтракать: «Папик» показал головой в сторону бара. Охранник подошел к нему, вытащил бутылку «Абсолюта»… Затем последовали ликер и упаковка пива «Туборг». Вот это как раз то, что мне сейчас и надо…» Для меня такой текст, кроме прочего, в тысячный раз иллюстрирует старую истину, что мечтать куда интереснее, чем жить в кругу осуществленных мечтаний. Я знаю нескольких человек, которые завтракают водкой с пивом, но почему-то они не богаты. Даже наоборот. Но «красиво жить», а также мечтать о красивой жизни, устроенной по собственным представлениям, в условиях демократического общества запретить нельзя.
На самом деле материальная обеспеченность не имеет прямого отношения к изобилию на столе. Помню, как я однажды сподобился приглашения на завтрак к Арманду Хаммеру, одному из самых богатых американцев, и шел к нему, по наивности предчувствуя обильное угощение. На самом же деле мы с миллиардером уселись напротив друг друга за торцами огромного стола, и слуга принес нам по тарелочке с несколькими ломтиками сыра и по чашке травяного чая. Ничего больше на завтрак не полагалось. Остальную часть времени, выделенного на утреннюю трапезу, я выслушивал соображения Арманда Хаммера о здоровом питании, о воспитании в строгих британских традициях и его воспоминания о встречах с Лениным и прочими российскими политиками начала века. Было все это весьма поучительно и очень скучно.
Через много лет после этого, уже отягощенный опытом и возрастом, я в Лондоне брал интервью у тогдашнего британского премьера Маргарет Тэтчер. Госпожа Тэтчер назначила мне очень раннее время для встречи в ее резиденции, и, когда я промычал что-то вроде извинений за столь ранний визит и за то, что хозяйка небось и позавтракать еще не успела, будущая леди Маргарет с улыбкой сообщила мне, что всегда завтракает одинаково, так же, как многие другие британцы, — таблеткой витаминов и чашкой черного кофе. Так что с завтраком она управилась, и можно теперь побеседовать…
Вообще-то очень интересно сравнивать быт аристократов и тех, кто занимался их свержением в разные времена. В только что упомянутой Англии подобные тарарамы происходили еще в XVII веке, но королевский сокрушитель Кромвель тогда же дал понять, что фраза наших революционеров прошлого столетия «За что боролись?!», требующая неотложной дележки, имеет полное отношение к нему и его соратникам, быстро осваивавшим завоеванные замки с винными погребами. И во Франции, где свергнутая революцией семья короля Людовика XVI возмущала народ, завтракая кофе, шоколадом, хлебом и фруктовыми соками, революционеры себя диетами не изнуряли. Например, сразу же после казни королевы Марии-Антуанетты члены революционного трибунала (сохранился лист заказа) приказали подать себе поздний завтрак из жареных гусиных крылышек, паштета из гусиных печенок с соусом бешамель, а также печеных цыплят. Чуть позже они велели принести еще по дюжине тушеных жаворонков на каждого из участников застолья и побольше шампанского из королевского погреба. Революционная скромность во все времена оставалась в основном темой для выступлений на массовых митингах перед голодными толпами…
В течение нескольких десятилетий прошлого века и мы были экспериментальной зоной земного шара, где со своими собственными, а тем более с мировыми буржуазными традициями было покончено самым решительным образом. Пример показывали тогдашние советские вожди, чудившие за столами сверх меры. Сталин, подаривший народу знаменитую формулу: «Скромность украшает большевика», завтракал, например, не раньше двух часов дня по той причине, что поздно ложился спать и трапезы у вождей начинались далеко пополудни. Один из таких завтраков-обедов с советским политбюро описал в своих воспоминаниях Милован Джилас, послевоенный югославский руководитель, посетивший в середине 40-х годов Москву вместе с Иосипом Броз Тито. Дело было зимой, и, еще не усадив югославских гостей за стол, «Сталин предложил, чтобы каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил бы столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся…». При этом очень ругали британские традиции и англичан, потому что те высадились на Балканах и мешали благодатному русскому духу разлиться в этом регионе Европы. Для знакомства с регионом, где русский дух плодотворен, а начальство такое, как положено, югославскую делегацию из Москвы отправили в Киев. Гостям с Балкан запомнилась небывалая простота и близость к народу тогдашнего руководителя Украины: «Хрущев ездил с нами в колхоз и, твердо веря в правильность колхозной системы, чокался с колхозниками громадными стаканами водки… Небольшого роста, толстый, откормленный, но живой и подвижный, он как бы вырублен из одного куска. Он почти заглатывал большие количества еды… Хрущеву, как мне показалось, почти безразлично, что он ест, и что самое важное для него, как для каждого переутомленного работой человека, — просто хорошо наесться». Такое вот тогдашнее киевское гурманство, такой вот стиль жизни. За десяток лет до этого Ильф и Петров живописали воцарение этого стиля: «В ресторане киевского вокзала играет оркестр «У самовара я и моя Маша». Под эти жизнерадостные звуки, среди пальм, заляпанных известкой, бродят грязные официанты. На столиках лежат скатерти с немногочисленными следами былой чистоты. Под сенью засохших цветов стоят мокрые стаканы с рваными краями. Еще дальше пошли московские вокзалы…»
Все эти воспоминания — для оптимистов; сегодня хоть что-нибудь, хоть по капле, но меняется к лучшему. А проблемы есть у всех; с англичанами, например, тоже непросто. Традиционный британский завтрак с давних времен состоял из трех частей: говядины, хлеба и пива. Так что в каком-то смысле наши загуливавшие члены политбюро и даже уличные пивохлебы выглядят совершенно по-европейски. И по-российски тоже. Я вычитал, что знаменитый поэт-декабрист Кондратий Рылеев, чью песню о Ермаке мы поем до сих пор, почти двести лет назад устраивал у себя дома «русские завтраки», подчеркивая собственную верность национальным традициям. На завтрак у Рылеева подавалась водка, к ней — квашеная капуста, ржаной хлеб, соль и квас. Поэт И. Мятлев иронизировал в знаменитых стихах:
Патриот иной у нас Закричит: «Дю квас, дю квас, Дю рассольчик огуречный!» Пьет и мается, сердечный…В общем, нечего мудрить: есть такие традиции, а есть — этакие, у каждой — свои сторонники, и зовется это по-научному плюрализмом…
Невозможно высчитать единственную диету для всего населения огромной страны и тем более огромного континента. Одни привыкли так, а другие — этак, одним религия запрещает есть свинину, другим смешивать молоко с мясом, а третьи в определенные дни не могут ничего есть до захода солнца. Есть скоромные дни, а есть такие, когда рекомендуется питаться одной рыбой. Это — что касается традиций. Но есть еще наука. Согласно ей идет составление диет по группам крови, личным особенностям и анализам из поликлиники. Есть еще люди, которые не едят, а заправляются, как автомобили, и для них американцы придумали «быструю пищу», так называемую fast food с малосъедобными «Макдоналдсами» и другими подобными бутербродными заведениями. Сегодня только в США их уже около двухсот тысяч. Гоголь или Крылов, живописавшие славянские трапезы, не дожили до подобного безобразия, но мода уже распространилась и среди нас.
Мне очень хотелось составить единственно возможную схему завтраков, но уже в процессе писания стало ясно, что ничего из такого категоричного замысла не получится. Поэтому я заканчиваю писать свои заметки ранним утром и отправляюсь на кухню вкушать свои творог и кашку, которыми завтракаю много лет подряд. Все-таки завтраки — это интимная трапеза…
Я привык завтракать блюдами, не нуждающимися в предварительной сложной готовке: хлопьями, кашицами из полуфабрикатов, залитых молоком или водой. Люблю творог во всех видах, в крайнем случае могу ограничиться кофе или чаем с двумя гренками. Все продукты для таких трапез можно приобрести где угодно с более или менее надежными гарантиями качества. Но вдали от дома я всегда вспоминаю книгу о правилах поведения офицеров старой британской армии; руководство это попало ко мне в руки в Индии. За пределами своей части, то есть в удалении от пищи, прошедшей строгий контроль, офицер имел право есть только куриные яйца, сваренные вкрутую. Считалось, что таким образом можно избежать кишечных инфекций. В общем, как говаривали древние римляне, начинать следует Ab ovo, иначе говоря — «с яйца».
Я тоже люблю время от времени съесть утром «куриный фрукт» (так деликатно называли яйца в меню киевского института благородных девиц столетие тому назад). Но — яйцо должно быть сварено всмятку, а это не так просто, как некоторым кажется.
Прежде всего, яйцо следует вымыть. Короткая варка не гарантирует, что на скорлупе будет уничтожена вся грязь, накопившаяся там со времен курятника. Не следует приглашать к завтраку случайных микробов. Тогда же можно проверить свежесть «куриного фрукта». Если опущенное в воду яйцо ляжет на дно кастрюли, с ним все в порядке, если оно поднимется одним концом вверх — это продукт «второй свежести», если яйцо всплывет — сберегите его как метательный снаряд для концерта нелюбимого исполнителя и сами не ешьте ни в коем случае.
Поставьте на стол солонку, перечницу (если любите) и зелень (если есть).
Несмотря на холестериновые страхи, я люблю (и вам советую) с вареным яйцом масло и ржаной хлеб, они как бы усиливают вкус яйца всмятку.
Яйцо в кипящей воде следует держать 3 (три) минуты. От кипятка «куриные фрукты» могут треснуть, но если вода будет чуть подсолена — больше шансов, что обойдется без трещин. Можно опустить яйцо и в холодную воду. В таком случае надо подержать его там около минуты с момента закипания этой воды — замечательно сварится всмятку. Если с момента закипания пройдет 2 (две) минуты, получите «яйцо в мешочке», то есть упруго сваренный белок и желток консистенции расплавленного парафина.
Приятного аппетита!
2
С древних времен у человечества популярны несколько тем. Одна из этих тем — еда. Сегодня в самых разных концах планеты одновременно рассуждают почти о несовместимом. Одни — о том, где бы достать хорошую еду и поесть досыта, а другие — как не переесть. Одни — как исправить последствия прежних перееданий и похудеть, а другие — как спастись от голода. Вокруг человеческих столов сосредоточены ответы на очень многие вопросы времени, включая вопрос о том, хорошо ли организовано государство, заботливо ли оно. К сожалению, бедняков и голодных задарма кормят только в богатых странах. Профессорствуя в университете американского города Бостон, я ради интереса несколько раз заходил в пункты бесплатной раздачи еды и получал там вполне съедобное картофельное пюре с котлетами на одноразовой тарелке вместе с кофе в пластиковом кубке. Документов не спрашивали. Считается, что по доброй воле, даже «на халяву», нормальный человек лишнего есть не станет…
Это не совсем так. Люди в странах с нормальной социальной политикой имеют возможность есть до отвала, многие из них сегодня съедают немало лишнего и высиживают за обеденными столами слишком долго (по американским данным, среднестатистический человек из своей жизни шесть лет выделяет на сидение у стола над чашками-тарелками и ложками-вилками). Конечно, за это время упомянутый статистический объект о многом поговорил с соседями по столу, получил немало вкусовых впечатлений и заправил организм энергетическими ресурсами. Не секрет, что в разных цивилизациях и самых непохожих культурах многие люди находили во вкусной еде одну из главных радостей жизни. Еще от автора Илиады и Одиссеи мы усвоили термин «гомерические пиры», и великий Шекспир тоже был далеко не худосочным аскетом. Хороший аппетит не мешал французским писателям-толстякам Оноре де Бальзаку и Александру Дюма написать очень много книг, а тому же Дюма создать еще и кулинарные пособия, переиздающиеся до сих пор. Впрочем, может быть, худой Бальзак или тощий Дюма написали бы еще больше: американские врачи официально объявили, что человек, поддерживающий нормальный вес, живет на два года дольше, чем толстый обжора. В этом, конечно, можно засомневаться при взгляде на жителей голодающих регионов Африки или Азии, где толстяки почти вывелись, а с долгожителями тоже не очень хорошо. Но тем не менее…
Люди неохотно делятся тем, что имеют. Как-то американские экономисты обнародовали так называемый «закон пепси»: в год граждане США выпивают пепси-колы и кока-колы на десятки миллиардов долларов, раза в два больше, чем составляет валовой национальный продукт такой огромной азиатской страны, как Бангладеш. Если бы выпить упомянутых напитков вдвое меньше и деньги за каждую вторую бутылку пепси или коки перечислить тем же бангладешцам, то их уровень жизни повысился бы в два раза. В год американцы расходуют около 9 миллиардов долларов на косметику, это ненамного меньше годового бюджета Украины, на эти деньги можно было снабдить все человечество качественной питьевой водой, накормить сотни миллионов голодных. Мечты, мечты…
Культура сочувствия тоже формируется столетиями, и вполне возможно, что в упомянутой Бангладеш путника приветят щедрее, чем в Чикаго. Застолье — сохраненный в веках ритуал, и до сих пор у народов, берегущих свои привычки, застолья украшают жизнь. Те, кто еще не забыл гостеваний в Средней Азии или на Кавказе, подтвердят, что и в нашей бывшей, далеко не идеальной стране застольные традиции были крепки. Да и российские или украинские привычки на этот счет тоже вполне основательны. Другое дело, что за многие годы они менялись послойно и погосударственно, переформировываясь и формируя нас с вами. Культура быта многоэтажна и создается в течение веков. Очень интересно отслеживать ту или иную примету бытия и стараться понять — почему и как люди жили, ели, спали, вели себя именно так, а не иначе.
Крестьянский быт во всей Европе очень похож, потому что похож труд людей, работающих у земли. Городской быт различен. Если, проходя сквозь века, так называемый народный, мужицкий быт определялся прежде всего целесообразностью, то с людьми «благородными» обстояло не так просто.
Как отмечает замечательный эрудит Ю. Лотман, «в крестьянском быту поведение менялось в зависимости от календаря и цикла сельскохозяйственных работ» и «если крестьянин практиковать «некрестьянское» поведение не имел физической возможности, то для дворянина «недворянское» поведение отсекалось нормами чести, обычая, государственной дисциплины и сословных привычек». Крестьяне не бунтовали против своих сословных норм, у дворян же нестандартное поведение случалось и чаще всего становилось попыткой прорваться к свободе, о чем рассказано во множестве литературных произведений; вы их читали, и сегодня не о них речь. Сегодня речь о закономерностях. Я вспоминаю о том, что, например, наши предки определенно любили поспать.
Согласно летописям и другим свидетельствам очевидцев, предки и в других жизненных удовольствиях себе не отказывали, но сон, в частности сон дневной, принадлежал к числу их главнейших традиций, причем независимо от сословий. При этом натощак ложились спать только самые неимущие и несчастные, для остальных дневной сон был послеобеденным. В своем «Поучении», адресованном собственным детям, а также малознакомой ему лично широкой древнерусской общественности, князь Владимир Мономах напоминает, что днем, особенно после еды, надо непременно соснуть: «Ибо не только человеку, но и зверям, и птицам Бог присудил отдыхать в час полуденный». Киев, где Мономах княжил, был достаточно теплым городом, но в местах похолоднее наши предки, особенно зимой, прямо-таки по-медвежьи впадали в спячку, проводя во сне и дремоте до трех четвертей неярких суток. Свечи были дороги, лучины коптили, газет еще не придумали, а с книгами в древности была напряженка. Что же еще делать, как не любезничать, трапезничать и спать? Общество в огромной части своей дружно пожевывало да похрапывало, а любителей бодрствовать не любили, как сегодня зачастую не любят непьющих, подозревая в тайных недобрых умыслах. Самозванец Лжедмитрий, в частности, был обличен в чужестранстве еще и потому, что упомянутый псевдоцарь никогда не укладывался спать после обеда. С такими привычками, да в самодержцы? «Не верю!» — как позже говаривал Станиславский. Гоголь, характеризуя одного из своих героев, не преминул упомянуть о его верности всеобщей привычке: «Он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня…» Даже самый прозападный император Петр I после обеда, который он запивал поочередно то редкостной анисовой водкой, то привозным красным вином, то родимым квасом, непременно поступал согласно традиции, отправляясь на пару часов соснуть — примерно с двух до четырех пополудни. Сокрушитель наших контактов с Западом Владимир Ленин тоже любил вздремнуть — и другим советовал. «Ешь и спи побольше, — писал он супруге. — Тогда к зиме будешь вполне работоспособна». Эх, спали бы они крепче!..
Зачастую (и опыт наших недавних реформ об этом напоминает) бессонные и неутомимые преобразования жизни цепляются друг за дружку, вытягивая такой мочальный хвост подробностей жизни, что диву даешься. В том числе подробностей «едовых». Снова углубляясь в историю, напомню, что одержимый реформатор Петр I насильно обрил боярские бороды, породив «салфеточную» проблему: стало нечем вытирать замасленные рты. Создали элитные воинские части: понадобилось кормить гренадеров особенно сытно, и по этому случаю пришлось договариваться с Синодом, освобождать отборных солдат от церковных постов, которые в православной стране могли составлять больше 200 дней в году. Была создана «казацкая республика», Запорожская Сечь, но и тут сразу встала проблема питания, во многом и вынуждавшая большинство казаков на зиму расходиться по домам.
Распорядок жизни — дело важнейшее, а связь его с питанием — нераздельна. Люди ходят в гости, знакомятся, празднуют, печалятся, просто общаются за столом. Застолья разграничивают день, время даже для людей с плохим аппетитом зовется дообеденным и послеобеденным. Сохранилось много свидетельств гостей, которые приезжали в наши края и оставались поражены здешним распорядком дня. Писали о наших предках удивленно-снисходительно, примерно так же, как сегодня в американской и западноевропейской прессе пишут о нас. Объекты описания выборочны, в село Захлюпанка, где сроду не было и до сих пор нет водопровода, электричества и канализации, заморские гости не ездят. Визитеры пишут о том, что запомнилось при общении привычно поверхностном (так же сегодня: какой-нибудь болтливый депутат может отпечататься в анналах выразительнее великого ученого). Что поделаешь? Издавна странный стиль жизни отечественных «благородных людей», с которыми иностранцы только и общались в столицах, казался им расточительным, даже бессмысленным. Я цитирую гостью княгини Дашковой Марту Вильмонт, чье письмо от 24 сентября 1805 года приводит в своей книге знаток этикета пушкинской эпохи Е. Лаврентьева: «Неудобство, которое до смерти раздражает меня и с которым ничто на свете не сможет меня примирить, — это бессмысленная трата времени. В 9 утра наши горничные подают нам кофе, затем часа два бездельничаем — разговариваем, музицируем или гуляем… В час или в полвторого раздается звон обеденного колокола — похоронный звон по всем занятиям и досугу, и мы снова собираемся, чтобы приступить к торжественной долгой трапезе, во время которой от вас безо всякого снисхождения ждут, что вы будете есть каждое предлагаемое блюдо… В шесть часов семья собирается к чаю, а в полдесятого или в десять — на плотный ужин с горячим. И с этим ничего нельзя поделать!» Тогда же французский дипломат Жозеф де Местр пришел в ужас, подсчитывая свои расходы на званые обеды и пытаясь понять, откуда в империи, которая не сияет зажиточностью, его знакомцы берут деньги на все эти приемы с икрой, шампанским и осетрами. В записи от 18 августа 1803 года французский дипломат делает вывод, удивительно похожий на современные: «…При несметных богатствах все разорены, никто не платит долгов и взыскания нет никакого».
Лет десять назад в этом месте пришлось бы возглашать тираду о помещичьей безответственности и несчастных крепостных, но я пишу о стиле жизни той части общества, которая определяла его репутацию. Что поделаешь? Перефразируя классика, можно сказать, что репутации, как реформы, издавна ударяли (и ударяют) у нас «одним концом по барину, другим — по мужику»…
На родине упомянутого Жозефа де Местра за минувшие столетия застольные традиции укрепились, и сегодня в большинстве французских учреждений обеденный перерыв — двухчасовой. Вообще, в большей части Европы работают с утра до полудня, после чего следует перерыв на два-три часа; это время священно. Французское или итальянское застолье — сохраненный в веках ритуал, которому обучают с детства: нельзя есть поспешно, стол должен быть чист и хорошо сервирован, а салфетка на коленях — белого цвета. Еда обязана быть удовольствием, которое грешно портить. Не стану обсуждать с вами меню — важно не только то, что едят, к примеру, французы, но и как они это делают, потому что умение привносить в свою жизнь праздник вырабатывается очень трудно и долго, а теряется — увы! — куда быстрее. К сожалению, в советское время мы и в еде стали ни на кого не похожи, разве что кроме американцев, которые за столом трудолюбиво усваивают положенные калории. При этом думать и говорить о делах не возбраняется, поскольку ни на чем другом американцы сосредотачиваться не обучены, а едят они — между прочим. Мы тоже ели «между прочим» и жили кое-как, перекусывая в перекурах. По публикующимся в изобилии описаниям прежних начальственных трапез можно заключить, что и руководители Советской страны, обожавшие заботиться о себе, любимых, жили уныло и пировали на уровне сервиса вокзальных буфетов. Хоть деньги у них были; больше 80 лет назад, в 1922 году, было выделено первых 200 тысяч золотых рублей, чтобы закупить за рубежом отборные продукты питания для начальства. В стране был голод, фиксировались случаи людоедства, а из скудного тогдашнего бюджета выделялись золотые червонцы на питание ответственных работников и для отдыха лучших большевиков за рубежом. С тех пор эти суммы лишь нарастали, но все равно — ни жить, ни есть вожди так и не научились…
Перефразируя киноклассику, можно сказать, что культура быта — дело тонкое. Первый российский президент с бокалом водки и дирижерской палочкой — продукт своей среды и своего времени. Во многих странах, образовавшихся из бывшего Союза, появились именно такие руководители из лихорадочно прозревающих членов разных бюро и политбюро, которые быстренько отлипали от прежних своих партбилетов, но не могли отвыкнуть от стиля поведения, отработанного за многие годы. Ничего странного, что им бывало неуютно за нормальным французским или австрийским столом. И в приличном дореволюционном застолье было бы неуютно: культура быта — часть общей культуры жизни, она вырабатывается и усваивается постепенно. Когда-то, желая проиллюстрировать этот тезис, я стащил меню из «верхнего» буфета для главных кремлевских начальников и хотел его опубликовать, чтобы проиллюстрировать, как дешево и как скучно едят эти люди, как не умеют они из своих ежедневных икры с осетриной сварганить хоть что-нибудь праздничное. Но действовала цензура: меня потаскали по кабинетам, выпытывая, как я добыл секретное меню, и велели забыть о нем навсегда.
Тем временем люди во многих странах сохраняли и развивали вкус к жизни…
В Италии, где быт давно устоялся, с часу дня до трех часов большинство учреждений закрывается на обед; исключений из этого правила не существует. Едят не очень много, но вкусно. Количество блюд, которые здесь умеют готовить из теста и овощей, неисчислимо, а репутации поваров уважаемы не меньше, чем репутации футболистов. Здесь «проедают» свои зарплаты, как у нас их могут пропить: разные традиции удовольствий. Трапеза — это ежедневный праздник. Стол должен быть покрыт скатертью, из-под которой ни за что не выглянут несвежая доска или пластик. Обед на голом столе с колбасой на закуску, супом из бульонного кубика в качестве первого блюда и чем-то невыразительным на второе многие итальянцы восприняли бы как унижение. Все-таки еда — процедура, крайне необходимая для нормального бытия, но, если она совершается без удовольствия, жизнь становится куда менее интересной.
Встречи культур наводят на многие размышления. Забавная история произошла с Шарлем де Голлем, французским гурманом, генералом и президентом, который во время поездки по Сибири демонстративно возвратил в Париж свой самолет с поварами, запасами французских сыров и вин, заявив, что отныне хочет питаться только яствами местной кухни. Таковыми оказались пельмени разных сортов и водка. Де Голль посетил десять областей, вкушая это разнообразие, и, надо надеяться, научился отличать «Московскую» от «Столичной»…
«Как народы питаются, так они и живут», — сказал старинный философ, и он был прав. В общем, давайте почаще вспоминать, что жизнь должна радовать. Многие народы вокруг нас никогда об этом не забывали и живут, сберегая свою оригинальность и хорошее настроение. Может, и мы, сохраняя собственную самобытность, будем делать ее чуть человечнее, чуть удобнее, чуть добрее. Постепенно. Начиная с закуски…
Когда-то мы крепко дружили в Киеве с замечательным певцом Юрием Гуляевым и время от времени собирались семьями для застолья. У Юры и его супруги Ларисы одним из коронных блюд числилась капуста по-каталонски. Готовится она так.
Вначале — фарш. Для этого чуть больше ста граммов хорошей нежирной свинины, граммов пятьдесят — шестьдесят копченой грудинки, дюжину маслин, один сладкий красный перец, пару зубчиков чеснока смолоть в мясорубке, посолить по вкусу, добавить щепотку черного молотого перца, по щепотке майорана и мускатного ореха, вбить туда же одно яйцо. 15 граммов сухих грибов положить в теплую воду и держать там все время, пока вы будете готовить кочан капусты.
А кочан готовится так: он должен быть чуть больше килограмма весом, плотный. Положите его в присоленную кипящую воду на пять минут, затем выньте и дайте воде стечь. Аккуратно (очень важная процедура) отогните листья от кочерыжки (кроме самых наружных) и переложите их фаршем. Затем (снова же аккуратно) возвратите листья на место, восстановив форму кочана.
Поставьте кочан на кусок марли (или на несколько бинтов) и перевяжите его так, чтобы форма кочана восстановилась. Опустите кочан в глубокую кастрюлю, куда положите тонко порезанные грибы и еще два-три нарезанных перца. Вместе с отваром, в котором перед этим варилась капуста, или мясным бульоном (в крайнем случае даже из кубика) накройте кочан крышкой и поставьте в духовку, нагретую до 150–160 градусов, на три часа.
Приятного аппетита!
3
Одна из лучших привычек, усвоенных человечеством за всю историю, — конечно же встреча и прием гостей. Привечая гостей дома, накрывая для них стол, мы повторяем один из благороднейших старинных обрядов — разделяем с пришельцами хлеб и кров. С древности приход незнакомого человека считался знамением, никто не приходил «просто так», и поговорка «Гость в дом — Бог в дом» исполнена мистического уважения к пришедшему. Без уважения к гостю, без почтения к его безопасности не сложились бы ни культура странствий, ни мировая торговля, ни дипломатические отношения. Гость, он и в Африке гость; в середине XIX века знаменитый английский путешественник Дэвид Ливингстон писал: «В Африке каждый правитель гордится, что европеец — путешественник или резидент — посещает его территорию, и обеспечивает полную безопасность его жизни и имущества». Посланцы Киевской Руси странствовали до Византии, дочь Ярослава Мудрого выдали замуж в Париж, а другую — в Скандинавию, и свадебные кортежи сохранно пересекли сотни километров тогдашнего европейского бездорожья. Конечно, княжны странствовали с эскортом, но вряд ли он мог дать гарантии выживания в чужих землях без уважения к путешествующим. В XV веке тверской купец Афанасий Никитин успешно съездил в Индию и Персию, а за двести лет до этого Марко Поло — из Венеции в Китай во многом потому, что на их пути уважалось старинное право гостя. Гостей берегли с глубочайшей древности и, предоставив им кров, разделив с ними пищу, несли за гостей ответственность: жизнью и репутацией. На Кавказе вам и сейчас расскажут, что в старину убийца, скрывшись в доме убитого, оставался неприкосновенным. Дом, где ограбили гостя, считался опозоренным (вот бы внедрить эту традицию в наших гостиницах!).
«Гость в дом — Бог в дом», — говаривали наши предки, принимая гостей у себя (тем более что те прибывали не только на пиры, но и по делу). Древнейшие киевские православные храмы украшены византийскими мастерами, Кремль проектировали итальянцы; чужестранные умельцы добирались к нам сквозь всю Европу, слово «гость» определяло купца (помните арию Варяжского гостя из оперы «Садко»?) или даже просто доброжелательного странника. Лучшая комната в доме звалась «гостиной», а одной из главных традиций было гостеприимство (порой даже чрезмерное, с перебором, с «Демьяновой ухой», с анекдотом про то, что гость не может больше съесть ни одного вареника, потому что на первом уже сидит)…
Я перепрыгну через барьер времени, чтобы порадоваться: народ выстоял и смог сохранить традиции при всех большевистских попытках исказить или вульгарно приспособить их к политической повседневности. В Советской стране Рождество скоренько подменили праздником Нового года, кулич стал называться «кекс весенний», Пасху праздновать запретили, но поблизости от нее учредили Первое мая. Разговоры о коллективе трещали безостановочно, индивидуализм пресекался всей силой государственного нажима. Но поверх казарменного официоза люди выстраивали новые общности; ходили в гости и, где могли, спасались из казенных сообществ. Корреспондент газеты «Вашингтон пост» Роберт Кайзер как-то подарил мне свою книгу о советском менталитете. Написанная четверть века назад, у него в стране она переиздается и до сих пор считается классикой. Американец в ней удивлялся: «Они угощают друг друга чаем, воблой, шпротами, пирогом, купленным в булочной, или капустой, квашенной дома, и сидят до утра за тесными столами…» Сейчас, когда в гости стали ходить куда реже, многие и не помнят, как лет пятнадцать — двадцать назад одной из немногих радостей оставались походы «к своим». В гости отправлялись часто, не всегда предупреждая о визите. Во-первых, предупредить было трудно ввиду отсутствия телефонов, во-вторых — с какой стати предупреждать, а в-третьих, все равно зачастую приходили со съестными подношениями, иногда и со своими продуктами, а то и с только что сготовленной снедью в кастрюльке. О бутылках и говорить не стану — при хождении в гости они сплошь и рядом заменяли собой букеты прежних времен. Один рижский режиссер-диссидент рассказывал мне, что, когда его уволили из театра, в первый же вечер пришло человек десять и каждый принес по бутылке водки и торту: гости надрались, закусывая розочками из жирного крема. Хлеба не было…
Народ приучали есть с газетки и с замызганных пластмассовых столиков. Население перемешивалось, коренную интеллигенцию почти целиком уничтожили еще в Гражданскую войну и сталинские «чистки», а приехавшие на ее место жители деревень, которых тоже вытолкнули с обжитых мест, испуганно обвыкались в непривычной среде. Но даже в этих условиях исторические привычки преодолены властью не были. К счастью, только немногие скатились на уровень одного из героев бунинской «Деревни», который твердил: «Жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи!» В разоренной революционными фантазерами стране люди блюли чистоту в домах, ходили в гости, где, бывало, закусывали чем придется, но задушевно беседовали и говорили красивые тосты, за которые и посадить могли. Застолья в советское время происходили пусть от скособоченной, но стародавней народной традиции общих обедов и ужинов (коммунистическая идея в эту традицию не врастала, она только на поверхностный взгляд была похожа на христианскую, так мартышка бывает похожа на человека). В советское время люди нуждались в поддержке и дружеском общении «своих со своими» более чем когда-нибудь; общая трапеза сближала, почти роднила так же, как в стародавние времена (осталось же выражение «однокашники», определяющее близких людей, которые росли рядом и ели из одной миски; о человеке, с которым не следует иметь дела, говорили: «С ним каши не сваришь»). Как важно сохранить умение сидеть за одним столом и преломить хлеб с друзьями, принять гостя!
Пролистываю реестры обычаев и обрядов, издавна связанных с едой, и жалею, что многие незаслуженно позабылись. Созданная советской властью легенда о поголовной нищете в Российской империи вытеснила реальную информацию. А сведения о том, как ели в кругу людей просвещенных или зажиточных (во все времена эти две группы населения не сливались), и вовсе ушли в беспамятство да в нечасто и немассово читаемые сочинения классиков. А ведь есть о чем помнить…
Среди народа «попроще» одна из самых крепких традиций — артельность — выстояла во все времена. Много написано об «артельном котле», который создавался для питания в складчину, и тяжелейшим наказанием было отлучение от такого котла — изгнание из сообщества; у аристократов так «отказывали от дома». Артельность — типичная народная форма общения, которая прижилась издавна. Еще несколько десятилетий назад во многих деревнях даже семейные трапезы строились по артельному принципу: общий котел, общая миска, только ложки у всех свои. Глава семейства первым зачерпывал из большой миски с супом, за ним черпали все по очереди, а мясо и гущу делили поровну (бывало это и не так давно: я прочел воспоминание бывшего премьера — нынешнего посла на Украине В. Черномырдина о том, как в семье у них раньше садились к столу вокруг единственной суповой миски и, пока дед не зачерпывал из нее, никто не прикасался к ложкам). Совместная трапеза и воспитывала: издавна считалось, что вкус пищи зависит не только от мастерства повара, но и от поведения тех, кто ест. Людям, оскорбляющим сотрапезников поведением, отказывали от стола и от дома; это было одной из самых жестоких кар.
Понимая объединительный смысл общих трапез, их издавна устраивали в богатых домах. Поэт П. Вяземский записал: «Ежедневный открытый стол на 30, на 50 человек был делом обыкновенным. Садились за стол не только родные и близкие знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе незнакомые хозяину». Считалось удачей и доброй приметой пригласить, например, к рождественскому столу бедняка с улицы, обычными были раздачи еды и благотворительные посещения тюрем и «каторжных нор» людьми достаточно богатыми, чтобы накормить несчастных или облегчить их судьбу. Иностранцы зачастую отмечали и отмечают славянское хлебосольство как еще одну форму национальной безалаберности, а между тем общий стол — традиция древняя, спасительная, приросшая ко многим обрядам. Еще тысячу лет назад арабы описали обычай тогдашних русичей; наши предки, заключая мир, варили общую кашу — каждая из сторон приносила свою горсть крупы. Это же было свадебным обрядом — с крупой от невесты и крупой от жениха, — а ели кашу совместно. Подобные обычаи есть у других народов — но с поправками «на специфику», которая у нас не проходит. В Канаде мне рассказывали о тамошнем «артельном котле»: лесорубы разжигали костер совместно, наполняли котел водой сообща и засыпали туда общую крупу, бросали мясо. Но перед варкой каждый перевязывал свой кусок мяса особенным образом и, разделив кашу поровну, все-таки мясо ели согласно рыночной экономике — каждый отгребал в сторону собственный кусок. Обычаи народов пересекаются, разные формы общей трапезы и совместного бытия бывают непохожи, но затем вдруг становятся узнаваемы с поправкой на условия жизни.
Условия традиционной жизни в стране, где доминировало православное христианство, основательно прошивались религиозностью. Пищевые ограничения были безусловны, обсуждению не подлежали. В самом начале года после рождественских Святок гремела недельная Масленица, а затем наступал семинедельный Великий пост. От Рождества Христова до Великого поста был мясоед, после которого надлежало забыть о мясе, молоке и многих других роскошествах, не только гастрономических. Ресторанные меню строго выверялись, театры не работали, балы и пиры прекращались. Требовался не просто отказ от определенной пищи — полагалось отрешиться от всех мирских радостей и плотских удовольствий, например, в пост невозможно было венчаться. Человек, игнорирующий пост, считался «басурманом», и в «приличных домах» его не принимали. А ведь постных дней в году бывало больше половины; все обязаны были помнить, когда что можно есть и как следует себя вести. С Масленицы до Пасхи постились, на Пасху разговлялись разнообразными едой и питьем, пировали пятьдесят дней, до самой Троицы, после которой начинался Петров пост, который мог длиться и больше месяца. А затем на половину августа — Успенский пост. Следующий, сорокадневный Филиппов пост длился уже до самого Рождества…
В постные дни еда бывала невкусной, несытной, некрасивой, но благодарить за нее полагалось так же, как за стерлядь на вельможном пиру. Очень важно, что в первую очередь благодарили не хозяина, а Бога (слово «спасибо» самим своим звучанием напоминает об этом). Впрочем, запомнились и застольные вольнодумцы. В разных вариантах существует рассказ об архиерее, любившем поесть, который обнаружил на постном столе жареного поросенка и, перекрестив его, сказал: «Сие порося да обратится в карася» и начал есть, не дождавшись поросячьего превращения.
…Слегка иронизируя о застольных порядках, я нарушаю очень хороший давний обычай: на Руси строго воспрещалось даже подшучивать над едой, не то чтобы унижать или хулить ее. И невкусной, плохо сготовленной или пригорелой пище полагалось воздать хвалу, вместе с хвалой Богу, давшему хлеб насущный. «Аще ли кто хулит мяса идущие и питье… да будет проклят!» Сурово…
Рассуждая в этих заметках о подробностях застолья, я всегда помню, что трапезы различались не только богатством стола; бывали они еще званые и повседневные, обставляясь по-разному. Незваные гости чаще оказывались у стола, где хозяева не засиживались. За званым же столом хозяева главенствовали и шло соревнование амбиций. Сидели по рангам. В центре — хозяин, справа от него супруга, слева — главный гость. Тосты были строги. Первый — за государя, второй — за хозяина, третий — за хозяйку. Первый тост произносили не сразу же, как теперь, а лишь после первой перемены блюд (всего перемен полагалось от шести до двенадцати). Здесь на кону стояли хозяйские репутации, и только в самозащите граф С. Потоцкий мог надерзить императору Николаю I, сказав тому: «Государь, ваши обеды и ужины очень вкусны, но они не изысканны…»
Застольный этикет был строг. К примеру, вина сменялись после каждого блюда и были строго расписаны. При этом хозяин мог наливать гостям, а хозяйка — нет. Василий Пушкин (дядя поэта) в письме к Петру Вяземскому жаловался: «Хозяйка — дура пошлая, ни минуты не сидела за столом — сама закрывала ставни у окон, чтобы освободить нас от солнца, сама ходила с бутылкой теплого шампанского вина и нам наливала его в рюмки. Давно я на таком празднике не был и теперь еще от него не отдохну!» Это прислуге полагалось следить за тем, чтобы при каждой перемене блюд чистая тарелка была поставлена вовремя. Коль хозяйских слуг для этого не хватало, гости ставили у себя за стульями своих помощников. Причем разговаривать со слугами во время трапезы было дурным тоном; если они нуждались в словесных распоряжениях, значит, плохо вышколены…
С парадным обедом связана еще одна подробность, отмеченная великим знатоком обычаев Ю. Лотманом, который утверждает, что сложившаяся среди отечественной знати привычка сервировать закусочный стол в гостиной, отдельно от обеденного, вошла в европейскую моду лишь во второй половине XIX столетия; в этом мы долго были «впереди Европы всей». Закусочный стол щедро уставлялся «водками, икрою, хреном, сыром и маринованными сельдями». Французский маркиз Астольф де Кюстин, написавший знаменитую книгу о порядках в Российской империи середины XIX века, описывает заурядный прием, причем не в столице и даже не в губернском городе, а где-то в провинции, и предупреждает непосвященных, чтобы не переедали предварительных угощений («которые называются, если я не ослышался, «закуска»), поскольку сам обед еще впереди. Маркиз восторгается: «Слуги подают на подносах тарелочки со свежей икрой, какую едят только в этой стране, с копченою рыбой, сыром, соленым мясом, сухариками и различным печеньем, сладким и несладким; подают также горькие настойки, вермут, французскую водку, лондонский портер, венгерское вино и данцигский бальзам; все это едят и пьют стоя, прохаживаясь по комнате». В Белой Церкви, под Киевом, врач-англичанин по наивности объелся закусками, грустно констатируя: «Какой же я был неуч и как я ошибся! Ветчина, пирог, салат и сыр, не говоря о шампанском и донском вине, не составляли обеда, а только как бы прелюдию к нему…» Иногда в гостиной сервировали и десерт — он стоял там до разъезда гостей. Там же в конце приема подавали тарелочки с лимонной водой для омовения рук (тогда же родились и первые байки о простаках, выпивавших эту воду)…
Но главный-то стол был в столовой! Цветы, как правило, должны были украшать его во всякое время года. Столовую обставляли еще и цветущими растениями в кадках, на столах в течение всего обеда непременно стояли вазы с фруктами. Правда, с сервировкой бывали сложности. Дорогой фарфор долго добирался к нам из Европы, свой мы научились делать нескоро. Только в январе 1781 года был издан указ о начале производства фарфоровой посуды для двора императорского величества в Санкт-Петербурге, и сразу же выстроилась очередь на заказы из богатых людей со всех концов тогдашней империи. В очень богатых домах еще и в XIX веке сервировка бывала бронзовой, серебряной, золотой, в домах победнее миски бывали и глиняными или деревянными; хозяева выкручивались, как умели. Но музыка играла часто, особенно марш-полонез в самом начале!
Приближение к обеденному столу было ритуалом. Столовый дворецкий громко провозглашал «Кушать подано!» (фразу до того традиционную, что без нее не обходилось ни одно сценическое застолье и многие актеры начинали свою карьеру именно с этой реплики). В столовую, как правило, входили под музыку, парами, которые составлялись продуманно — кавалерам назначали дам. Хозяин с хозяйкой шли впереди, вводя приглашенных. Прежде чем сесть за стол, гость обязан был перекреститься, а перед самой едой всегда молились, и молитва занимала немало времени. Уже упомянутый маркиз Астольф де Кюстин был поражен тем, как истово молились перед едой аристократы в Английском клубе. «И делалось это не в семейном кругу, а за табльдотом, в чисто мужском обществе», — ахал де Кюстин. Представить себе украинскую семью, которая садится к столу, не перекрестив лбы, без молитвы с фразой «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!», было немыслимо. За пару столетий до наблюдательного французского маркиза де Кюстина австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн отметил набожность, демонстрируемую в разных краях тогдашней Российской империи при каждой встрече, не только застольной. Гость «трижды осеняет себя крестным знамением и, наклоняя голову, говорит: «Господи, помилуй!» Затем он приветствует хозяина такими словами: «Дай Бог здоровья». Потом они протягивают друг другу руки, целуются и кланяются, причем один все время смотрит на другого, чтобы видеть, кто из них ниже поклонился и согнулся… После этого они садятся». Трапеза вообще трактовалась многими как этакий обмен: Богом данная пища и — ответная благодарность Богу, передаваемая впрямую или через гостеприимных хозяев. Еще в «Домострое» утверждалось, что «есть надо с благодарностью»: тогда «Бог пошлет благоухание, превратит горечь в сладость».
Все эти ритуалы с целованием и поклонами давно уже поражали иноземцев и отмечались мемуаристами. Отступя чуть назад, ко времени, когда гостей еще не призвали к столу, следует отметить причмокивающие звуки обеденной прелюдии. М. Вильмонт: «Дама подает вошедшему джентльмену руку, которую тот, наклонясь, целует (именно «наклонясь», а не тянет ее вверх, как делают многие сегодня. — В. К.). В то же самое время дама запечатлевает поцелуй на его лбу, и не имеет значения, знаком ли ей этот мужчина или нет». Н. Сушков: «Мужчины подходят к ручке хозяек и всех знакомых барынь и барышень — и уносят сотни поцелуев на обеих щеках; барыни и барышни, расцеловавшись с хозяйками и удостоив хозяина ручки, в свой черед лобызаются между собою…» Ф. Вигель: «Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку». Приведенные три цитаты собраны Н. Марченко, знатоком старинного этикета, но примеры можно умножать многократно. Как ни странно это звучит: почти гомосексуальная привычка коммунистических лидеров брежневского разлива к объятиям и поцелуям взасос тоже тянется из глубин, как многое в советских обычаях, бессовестно извращавших и делавших посмешищем какие угодно традиции.
Уход из гостей тоже связан был с поцелуями. При этом первым мог уйти только «старший», самый главный гость, но даже ему хотя бы час после обеда полагалось еще побыть с хозяевами. В течение ближайшей недели после званого обеда полагалось нанести короткий визит благодарности (во многих странах и сегодня принято писать благодарственные письма гостеприимным хозяевам, у нас часто и позвонить забывают…).
Рассказывая обо всем этом, я вспомнил, как выдавали к советским праздникам продуктовые пайки из нескольких плавленых сырков и куска колбасы. Это был стол, который власть могла накрыть для своих послушных сограждан. Не было уже ни постных, ни скоромных дней, но были праздники, на которые мы все равно собирались, выставляя на столы «что Бог послал» и выпивая за то, чтобы нашим детям жилось сытнее и лучше. Власти меняются, люди меняются медленнее; в процессе перемен мы и сегодня в очередной раз зависли между дедами и детьми. Предки наши совершенно не заслуживают забвения: они были щедры и гостеприимны; уроки эти сделают и нас щедрее и лучше. Пируя или закусывая сегодня, не следует забывать, что во все времена пища имела не только потребительский смысл; в доме врага ничего нельзя есть, зато человек, с которым ты по доброй воле преломил хлеб за его или за твоим столом, становится тебе другом. Даже в старых сказках, если вы их еще помните, даже в распоследней избушке на курьих ножках желанного гостя вначале звали к столу, а вести деловые разговоры прилично было лишь после угощения. Нашим предкам жилось по-разному, но сколько же свидетельств об их добрых застольях зафиксировано в живописи и литературе! Вспомните народные натюрморты, кулинарные байки, сцены из пьес или красочные описания трапез, оставленные Николаем Гоголем! Наши предки, бывало, бедовали и голодали, но все-таки запомнились человечеству не только обидами и расплатами за них, не только умением драться или плясать вприсядку — они умели жить красиво и интересно. Авось и мы научимся…
Странно жили люди двести и даже сто лет назад. Никто не имел понятия об антибиотиках и качественном обезболивании, не было валидола с аспирином, не было научно разработанных диет по спасению от холестерола, но люди, случалось, все равно жили подолгу. Спасались качественной едой, чередованием постных и скоромных дней, работой на свежем воздухе; были и другие рецепты на этот счет в пушкинские и толстовские времена. Понятие о вкусной пище складывалось веками, долго оставаясь тождественным понятию о пище полезной. Мясо, незаменимый источник белка, обильно присутствовало в диетах, и люди еще не успели забыть, что этот пищевой продукт выкормил человечество и начал использоваться едва ли не одновременно с огнем, его обработавшим. Сегодня многим внушили, что мясо, особенно жирное, едва ли не ядовито, а лет сто назад прекрасно знали, что все зависит от того, как еда приготовлена. Даже просто прожаривая мясо на гриле, можно удалить из него множество не очень полезных составляющих. Проваривая кусок мяса, можно достичь любых результатов, если, конечно, повар знает, чего хочет. (Великий знаток нашей кухни В. Похлебкин пишет: «Кулинарные методы, даже старинные, дают возможность управлять самыми сложными процессами, если только мы понимаем их суть».)
Издавна мясные блюда на наших столах преобладали. Подавались похлебки, бульоны, разные студни, и ставились на стол просто подносы с вареным или жареным мясом, где бесхитростной горой накладывали разные сорта и гостям самим предлагали разобраться в этом изобилии. За столами в славянских, особенно украинских, землях издавна почетное место занимала свинина и приготовленные из нее ветчина или колбаса, продукты традиционные. В начале XIX века поэт В. Филимонов излагал свои впечатления от закусочного меню:
Тут кюммель гданьский разнесли, За ним, с тверскими калачами, Икру зернистую, угрей, Балык и семгу с колбасами…Жизнь моих предков, родителей и моя собственная крепко связаны с востоком и югом Украины. Я помню, как у родителей моего отца, у их соседей коровы были почти что членами семьи, их называли ласковыми именами, лелеяли, как добрых родственниц. Павших коров оплакивали, забивали для мяса их только в самые голодные годы и в самых безвыходных случаях. Источником мясной пищи в восточнославянских землях традиционно были куры, индюки, утки с гусями и конечно же свиньи.
Земли эти издавна были пограничьем, местами постоянных стычек с турками и татарами. Свинья, лежащая в центре двора, кроме прочего, гарантировала, что воинственный мусульманин не сразу решится войти. Кроме того, свинья напоминала, что на Рождество будет в доме праздник обжорства, будут колбасы, благо специалисты по преобразованию кабана в пищевые продукты жили в каждой деревне. Свиней этих не выпасали, как в западноевропейских краях, поэтому они обрастали не европейским беконом — салом с мясными прожилками, а толстым слоем сала, ставшего приметой национальной украинской кухни…
Неплохую «домашнюю» колбасу, изготовленную на мясокомбинате, можно купить сегодня в хороших супермаркетах. Копченое сало я покупаю, если удастся, на маленьких украинских сельских базарчиках. А вот хорошую колбасу-кровянку («кашанку») давно уже не видел в продаже. А ведь она готовилась первой: смесь гречневой каши с кусочками сала и свиной кровью становилась немыслимым деликатесом. Если вам попадется кровянка — смешайте ее фарш с картофелем, прожарьте на сковороде и добавьте кислой капусты. Под рюмочку водки… Кстати, во время одного из недавних визитов украинского президента Кучмы в Москву российский президент Путин угощал его за обедом именно колбасой-кровянкой.
Американцы сто раз допытывались у меня, почему колбаса у нас столь популярна; они любят жарить мясо и считают, что все должны поступать таким образом. Я им рассказывал, что, по разным источникам, уже в старину было на Украине описано около ста сортов разных колбас. Я объяснял заморским жителям, как взять кусок мягкой слабо-прикопченной колбасы, помыть его, подержать в кипятке минут десять. Затем с двух концов надрезать ножом и поджарить с лучком на сковороде. Посыпать майораном (это приправа для любого блюда из колбасы; майоран имеет и второе имя — «колбасная травка»). При всемирном страхе перед холестеролом такую еду уважают во многих странах.
Ничего не бойтесь: хорошая пища не бывает вредной. А первый же религиозный пост, который вы решитесь соблюсти, поможет вам вернуть свой организм в норму. Но будет что вспомнить…
4
Ах, обеды! В каждой стране и в каждой семье они разные, как различны люди, как по-разному устроена жизнь. Странствуя по Среднему и Ближнему Востоку, я запомнил пятничные обеды, запах и вкус плова, особенный ритуал обеденного мусульманского общения в этот день. Иудейские субботние трапезы тоже особенны — со свечами, застольной молитвой, разламыванием праздничной хлебной плетенки-халы. Наши православные воскресные обеды вошли в летописи, романы и стали сюжетом многих художественных полотен: живописнейшая часть жизни, а не только трапеза. Поэт Гавриил Державин подчеркивал два с лишним века тому назад:
Блаженство не в лучах порфир, Не в вкусе яств, не в неге слуха; Но в здравье и спокойстве духа…Правда, в других стихах он же воспел обеденное изобилие:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком, Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, Тут есть янтарь-икра и щука с голубым пером…Конечно же, обеды — это не только еда и «щука с голубым пером». В одной умной книге я нашел ссылку на исследование быта современных беспризорников. Оказалось, что самыми больными и несчастными из них были те, кто никогда не обедал в семье и не ел супа — это было как показатель последней степени запущенности, оторванности от нормальной еды и нормальной жизни…
Для многих из нас, полагаю, особенно для тех, кто рос в семьях, с детства, независимо от материального положения, обед бывал временем застольного общения, когда семья собиралась вместе. Общая трапеза сближает — это аксиома, и я сам, как мог, поддерживал традицию. В течение долгих лет, не реже чем раз в неделю, в одно и то же время сыновья приходили в гости, мы для них накрывали стол, продолжая традицию обедов-общений, которая, надеюсь, сохранится и в следующих поколениях нашего рода.
Кстати, в старину общение бывало не только обеденным, но еще и «чайным». Уже лет триста, как у нас пьют чай регулярно и массово, и лет двести, как приглашают «чаи гонять», то есть посидеть-поговорить за чашкой душистого напитка. В своей повести «Шлиссельбургская крепость» призабытый прозаик Н. Бестужев писал: «В тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе…» Лет сорок назад в Одессе я регулярно сиживал с друзьями вокруг самовара, раскочегаренного во всю мощь, и могу сравнить это по роскоши неторопливого общения лишь с британской традицией чаевничания у камина. Но все-таки обед со щедрым угощением, с горячими блюдами, общение, сдобренное теплотой гостеприимного дома, — все это незаменимо и неповторимо. Аксаков, Гоголь, Толстой оставили нам замечательные описания застолий — один обед у гоголевского Собакевича или трапеза старосветских помещиков чего стоят! А традиционная для наших обедов выдумка в подаче угощений! То погасят свет, внося небывалый торт со свечами, то предъявят огромного осетра на блюде, то поросенка с яблоком, то особенные бутылки, а то и нечто, сготовленное хозяйкой именно сегодня и как раз для этих гостей.
Есть одна чисто наша традиция — гостинцы. (Помните у Гоголя: «Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец».) В традицию вмещаются и узелки с разными вкусностями, даваемые вам в дорогу сельскими родственниками, и то, что во многих дорогих ресторанах вам предлагают взять с собой недоеденные яства. Все это отзвучие старинного обычая. На Руси издавна хозяин одаривал гостей угощениями со стола: мол, передайте домашним, которые прийти не смогли. Даже князья и цари лично жаловали сушеные сливы, орехи и засахаренные фрукты. На обеденном столе не должно было ничего оставаться; во времена Киевской Руси княжеские пиры заканчивались раздачей блюд гостям, а остатки затем развозили по городу, распределяя среди населения. Гостей одаривали непременно; хозяева попроще подносили куски пирога, колбасу, даже просто хлеб. Принимать такие дары надо было благодарно и обязательно — только нежеланного гостя выпроваживали с пустыми руками (осталось выражение «несолоно хлебавши», это когда и соли на стол не ставили, не дай бог дожить до такого позора!). В Средние века укоренилась традиция многих видов специальной выпечки, которая выносилась, как подарки, в конце обеда, было даже такое понятие «разгонный пряник». Записи о разного рода гостинцах встречаются в письмах и документах последние пять-шесть столетий. Да и сам я с детства запомнил, как, возвращаясь из гостей, родители обязательно приносили мне что-нибудь в салфетке; я до сегодня, уходя из гостей домой, беру со стола какую-нибудь коврижку.
Обед нередко торжествен, это самая ритуальная трапеза. Кроме торжественности, обед оброс вполне прозаическими традициями, это еще и «главная еда», когда не просто едят, а «наедаются». Это и трапеза, где полагается есть горячую пищу, одними закусками тут не обойтись. В старину наемные рабочие требовали горячей еды как одного из условий полноценного содержания. Сразу же объявлялось, что «ломтевание не в счет», то есть разные, по-современному говоря, гамбургеры за пищу не считались. В обед непременно подавалось варево; обычай этот непоколебим, он пришел на Русь из древности, не очень при этом совершенствуясь по пути. В одном из сочинений о еде я нашел цитату из средневекового римского повара, доказывающую, что за последние полтысячи лет в базовых обеденных рецептах мало что изменилось. «Кладу в горшок окорок, два фунта говядины, фунт телятины, цыпленка и голубя. После того как вода закипит, добавляю специи, зелень и овощи. Мой господин с удовольствием ест это блюдо шесть недель подряд». Варево, под разными псевдонимами — суп, щи, борщ, буябес, чанахи, бешбармак, чорба, уха, харчо, хаш — бывает (должно быть!) в самых изысканных ресторанных меню. Кстати, слово «суп» прижилось у нас в царствование Петра I для определения чужеземных похлебок; до этого у нас горячие жидкие блюда звали борщ, юшка, похлебка, селянка (солянка), и без первого блюда обед был неполноценен. Процитирую «в тему» аппетитные старинные стихи «кулинарного поэта» В. Филимонова:
Вот с кулебякою родной, Кругом подернута янтарной, Душистой, жирной пеленой, Уха стерляжья на шампанском. За ней — ботвинья с астраханским Свежепросольным осетром И с свежей невской лососиной. Вот с салом борщ, калья с вином С желтками красный суп с дичиной, Морковный, раковый, грибной.Если учесть, что минимум обеденных перемен в более или менее приличном доме был из шести блюд — два первых, два вторых и два третьих, то «приличный» обед убогим не выглядел. Обеды были разнообразны; специалисты отмечают немало особенностей национальных кухонь, отражавшихся в меню. Украинская кухня, в отличие, например, от русской или белорусской, считается утратившей многие традиции чисто древнерусской кухни, разрушенные во время монголо-татарского нашествия. Но зато на украинскую кухню повлияли не только западные, немецкая или венгерская, кухни, но и татарская с турецкой. В обеденном меню турецкие пельмени дюшвара (по мнению В. Похлебкина) превратились в вареники, приняв в себя украинские национальные наполнители — вишни, творог, цибулю, шкварки. «В пику басурманам» украинскую кухню переполнили блюда из свинины — ни в одной кухне их нет в таком количестве. Украина одной из первых, вместе с православием, восприняла византийские, греческие, растительные масла, олии. Я, например, нигде больше в мире не могу купить такого ароматного, с запахом жареных семечек, подсолнечного масла так называемого «горячего жима». За пределами Украины его, по-моему, и не умеют делать. Но, конечно, остался и свиной жир, сало, которым шпигуют, которое жарят, варят, коптят и солят. Им же зажаривают борщи — богатый украинский вариант супа с овощами и мясом…
Жаль, что сегодня супов, «первого», едят меньше и реже, многие знатоки диет и обычаев настаивают, что без супа обед неполон, особенно — наш традиционный обед. «Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи!» — мечтал Осип из «Ревизора». Великий автор пьесы, Николай Гоголь, удивлял петербуржцев своими борщами…
За советское время утвердились жидкие, «столовские» супчики, многие из нас за свою жизнь нормального супа и не едали. Большинство связывает супы с той баландой, которую довелось есть то ли в тюрьме, то ли в армии, то ли в столовке при общежитии. От этого воспоминания о супах неаппетитны, и в наших ресторанах супы не пользуются популярностью, хотя во Франции, например, есть заведения, где специализируются на супах, предлагая посетителям десяток сортов «первого». Мы могли бы не хуже. В. Похлебкин утверждает, что наш «суп любого вида должен быть густым — так, чтобы ложка стояла. Или чтобы в середине тарелки возвышалась горка. Жидкая часть супа должна быть вкусной, концентрированной и составлять лишь 30–35 % его объема».
Независимо от названий и рецептуры, густые похлебки входили в меню всех народов с древности, и едят их, как правило, после полудня: обеденное время простирается до глубокого вечера — как у кого получится. Возможны варианты: англичане в пять часов пополудни пьют свой знаменитый «файф-о-клок» — чай, а обедают позже, французские крестьяне обедают не раньше семи вечера — работа заполняет весь день, и время семейного застолья отодвигается к темноте. Последний российский император Николай II обедал непременно в кругу семьи, но не раньше восьми вечера. Участвовавший в его свержении Иосиф Сталин, для которого понятия семейной жизни не существовало, тоже не садился к обеду раньше восьми вечера. Естественно, при таком питании понятие ужина из ежедневного меню исчезает. Впрочем, различие обеда с ужином во многих культурах определяется поговоркой: «Раздели обед с другом, а ужин отдай врагу». С тех пор как в обеде сытность перестала быть самой главной характеристикой, трапеза еще больше срослась с застольной беседой, утвердив общение в роли основного элемента обеда. Во многих случаях демонстрация гастрономического богатства стала ненужной, ее культивировали какое-то время только в тех странах, чья упитанность ставилась под сомнение.
По традиции все президенты США демонстрируют свою экономность; верхом разгула на правительственных приемах стало в свое время жаркое-барбекю, которое Линдон Джонсон готовил собственноручно. Возводя свое питание, как многое другое, в пример для остального человечества, с середины 50-х годов американцы делали интенсивные попытки обучить нас поеданию гамбургеров из их предприятий «быстрого питания», но Хрущев, которого впервые угостили макдоналдсовской едой, уверенно заявил, что такой гадости наши люди в рот не возьмут. Процесс соблазнения советского начальства заморской застольной скромностью и синтетическими яствами на этом не прекратился, он просто задержался на три десятилетия, и все-таки при Горбачеве, пользуясь его же формулой, этот «процесс пошел». Когда Михаил Сергеевич посетил в 1987 году Вашингтон, я запомнил очередную назойливую демонстрацию американской «быстрой еды» — «фастфуда», которая, как еще очень многое за океаном, понравилась последнему советскому лидеру, с первого укуса распробовавшему и расхвалившему гамбургеры и хот-доги (и в 1989-м у нас открылся первый «Макдоналдс»).
Очень забавно вспомнилось мне столкновение традиций в самом начале горбачевского правления, когда мы пробовали притереть свои обычаи к иностранным. В 1988-м в Москву прилетел Рональд Рейган, американский президент, первая половина политической карьеры которого прошла в попытках сокрушить Россию, а вторая — в налаживании хороших отношений с ней. В ресторане Дома литераторов был устроен обеденный прием для американцев от имени нашей интеллигенции. Чего только на столах не было! Рейгану объяснили, что все эти грибочки-патиссончики, ветчина с икрой и сто сортов белуги-севрюги — наш обычный рацион. Удивленный президент произносил свои поучающие речи с цитатами из Толстого и Солженицына, а заодно оглядывал выставку кулинарных чудес, осторожно пробуя то одно, то другое блюдо. «Вот так мы ежедневно обедаем!» — сказал наш председательствующий.
Через день Рональд Рейган давал ответный прием-обед в посольской резиденции, так называемом Спасо-Хаус. Меню приема было на уровне студенческой забегаловки: предложили по бокалу белого калифорнийского вина, салат, жареную курицу и яблочный пирог. Играл джазовый квартет Дейва Брубека. «Мы обычно обедаем вот так…» — сказал Рейган. Но это еще ничего. Президент Ричард Никсон, приехав к нам, настоял на исключении из его меню на приемах всех продуктов с избытком холестерина, избегал куриных яиц, не говоря уже об икре. Никсон ужаснулся, когда на кремлевском приеме ему предложили знаменитый набор из трех фаршированных яиц — одно было с мясной начинкой, одно с рыбной, а третье — с икорной. Американский гость демонстративно питался творогом с кетчупом, по нескольку раз в день пользуясь томатным соусом из привезенных с собой запасов. Отъедались наши руководители на других встречах. Вот меню обеда, которым в декабре 1997 года шведская королевская чета потчевала Бориса Ельцина: «Шведский омар под соусом из шампанского. Суп из дикого голубя на прозрачном бульоне. Заяц, фаршированный печенью гуся, под соусом из дичи. Мандариновый десерт. Минеральная вода. Кофе». О спиртном меню застенчиво умалчивает. Мне запомнилось, что когда украинский президент Леонид Кучма с наследником Ельцина Владимиром Путиным пировали в одном из московских ресторанов, то в качестве главного блюда им была подана кровянка, многими забытое украинское кушанье, славившееся в Европе со времен Средневековья. Но это — для начальства, получить хорошую кровянку или «суп из дикого голубя» в рядовом ресторане все еще проблематично.
Что с древности доныне осталось в наших званых обедах — это «кормление по чинам». Не рассадка, которая всегда и везде совершается согласно протоколу, и всегда известно, кто сидит слева от хозяина, кто справа, кто в самом конце стола, а именно подача кушаний, даже их качество. Места гостей по отношению к хозяевам определялись по знатности, с головы стола начиналась и раздача блюд. Зачастую до дальних концов стола доходили только пустые тарелки. Впрочем, имел значение и аппетит приглашенных; в этом смысле характерен рассказ Ивана Крылова, знаменитого баснописца, славившегося неукротимым обжорством: «Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался… Сели — суп подают: на донышке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица… А пирожки? — не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мной обнес… Рыба хорошая — форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают — куда меньше порционного… За рыбою пошли французские финтифлюшки… На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо-то уж далеко… Вернулся я домой голодный-преголодный… Пришлось в ресторацию ехать».
Обеды разнообразились в зависимости от региона, от имущественного положения обедающих и еще от множества других причин. Но при всем разбросе меню народ кормился неплохо; даже в армии, рацион которой во все времена считался чем-то вроде базового для страны и давал возможность понять уровень народного питания. Легендарны запорожские куренные кулеши с мясом и кухни, которые располагались в подразделениях, кошах; вне боевых походов казакам разрешалось даже спиртное. А вот официальный солдатский рацион в российской петровской армии: ежедневно полагался фунт жареного или вареного мяса, два фунта хлеба, овощная похлебка на мясном бульоне, каша с маслом, а в зимнее время еще и две чарки вина плюс кварта пива. Можно было жить и выигрывать битвы у шведов с турками…
Бывали любители домашней пищи, которые не отрывались от нее ни при каких обстоятельствах, ни в битве, ни в отдыхе, особенно если хотели подчеркнуть свою исключительность. В конце XVIII века граф Станислав Потоцкий отправился на шведскую войну и, согласно свидетельству современника, «повез с собою пятьдесят индеек, пятьдесят пулярок, восемьдесят килограммов бульона в плиточках, огромную бутыль бордо и так далее». Такой антураж становился частью репутации. Знаменитый писатель и журналист Фаддей Булгарин в середине XIX столетия отправился в Польшу и нынешнюю Западную Украину. Вот как он сам вспоминает об этом: «Бричка в четыре лошади с кухонными снарядами, с поваром и поваренками, шли впереди, шестью часами перед главным поездом. На назначенных местах повар готовил обед и ужин. Завтрак и полдник везли с собою… Подъезжая к усадьбе или местечку, кучера хлопали бичами, ездовые трубили в рога и стреляли в воздух из ружей и пистолетов, чтобы дать знать, что едет пан». Чем не нынешний начальственный выезд?
Те, кто сам заботился о своих обеденных рационах, варьировали их по вкусу и возможностям. Знатоки отмечают застольную космополитичность нашей знати и смешение в дворянских рационах традиционных блюд с западноевропейской кухней, французской по преимуществу (хотя с древности до наших дней на интеллигентов время от времени находили также истерические приступы народолюбия, когда они, например, начинали демонстративно запивать еду не французским вином, а квасом, родив термин «квасной патриот», или отращивали усы и пили исключительно горилку с перцем да воду из родимой криницы). Забавно, что у большинства европейских народов самыми стойкими сторонниками национальной кухни бывали почему-то торговцы, купцы, они и питались обильнее других. У духовенства питание было строго регламентировано религиозными правилами. Крестьяне ели то, что сами выращивали да вылавливали, не гоняясь за иноземными диковинами. В средней полосе России народ потреблял немало курятины и другого мяса домашней птицы, те, кто жил ближе к морям, обильно разнообразил свой рацион рыбой. До сих пор во всем мире российский стол славен копченым осетровым балыком, икрой, семгой, севрюгой. К этому можно еще добавить грибы, которые в большинстве стран не только не едят, но и не собирают. Белорусы потребляют много изделий из «черной муки», — овсяной, ржаной, гречневой и гороховой, виртуозны с картофелем, который проник к ним раньше, чем к большинству соседей. Украинцы налегают на сало и свинину, национальная кухня сочится жиром; хавронья из средства отпугивания татар с турками стала любимым домашним животным. Коров только доили и почти не ели, а волы были тягловой скотиной; место говядины в украинских рационах гораздо скромнее, чем в России или Белоруссии. В глубокую старину коров, рогатых кормилиц, почти что обожествляли, как пчел. Пчелы неведомым образом производили чудесный мед, а коровы давали молоко — продукт еще более уважаемый… Украинская кухня разнообразна еще и потому, что сама Украина была растащена между Польшей, Россией, Румынией, Венгрией, Литвой; народ усваивал множество разнообразных традиций, в том числе кулинарных. До сих пор еще сохраняется объяснимая разница между традиционными меню в разных регионах страны.
Гарниры в славянских кухнях однообразнее; традиционная каша была незаменима в течение столетий, пока с конца XVIII века не начали насаждать картофель. 31 мая 1765 года вышел правительственный декрет, обязательный к исполнению во всех землях Российской империи: «Наставление о разведении и употреблении земляных яблок», с которого начинается гарнирная революция, принесшая в наш быт и малосъедобные чипсы, и картофелины, печенные в золе, и бефстроганов с жареной картошкой, и осетринку с картофелем вареным, и пюре, и картофельный салат, и даже картофельный самогон, в Дании учено именуемый аквавит, а в Белоруссии и Польше — по-простому бимбер. Дело в том, что на той же площади можно вырастить картофеля столько, что количество полученного из него спирта будет на порядок выше зернового, выработанного за счет той же территории. Считается, что дешевая водка вошла в обиход именно после внедрения в него картофеля, ставшего и сырьем для производства самогона, и закуской одновременно…
Где ни тронь обеденную тему — все интересно. Например, забавно проследить, как медленно шла эволюция столовых приборов. Им приписывалось мистическое значение: особенно ножу — знаку войны, старейшему столовому инструменту и оружию. Ложка рождалась из ореховых скорлупок и раковин; еще в прошлом веке были повседневны деревянные ложки — удобные, не греющиеся от горячей пищи. Высокомерная вилка появилась на столах лет триста назад и долго считалась во многих местах признаком избалованности, без которого можно обойтись или заменить ножом. Для твердой пищи гости за обедом испокон века обходились ножами, а для мягкой и жидкой научились пользоваться ложками, которые берегли и передавали в наследство (в летописях есть свидетельство о том, что дружинники киевского князя Владимира после крещения Руси в награду потребовали поменять свои деревянные ложки на серебряные). Вилки были редкостны во многих регионах еще в начале прошлого века: они медленно приходили с Запада, долго оставаясь редкостным «барским орудием». Да и с другой утварью бывало не густо. Д. Благово в своих записях «Рассказы бабушки» приводит свидетельство о чаепитии в богатом помещичьем доме конца XVIII столетия: «Матушка заваривала сама чай. Ложечек чайных для всех не было. Во всем доме и было только две чайные ложки: одну матушка носила при себе в своей готовальне, а другую подавали для батюшки». Гостей Лариных в пушкинском «Евгении Онегине» тоже угощали вареньем «с одною ложкою на всех». Дело, кроме прочего, было не в жадности или неустроенности хозяев. Просто чай очень медленно проникал в имперскую глубинку, его ввозили из Индии и Китая, он был очень дорог, но даже плохой — как в советские времена — чай еще не научились выращивать на Кавказе. Поэтому не все ложки в сервировке были одинаково нужны. Кстати, так бывало не только у нас. Из немецкого пособия по застольному этикету я вычитал, что в XVI веке на вопрос «Что делать, если тебе дают ложку, полную пищи?» воспитанный германец отвечал: «Ложку надо взять, содержимое съесть, затем вытереть ложку о скатерть и отдать обратно». В глубине времен нравы были куда проще нынешних! Заезжий принц, обедавший у Ивана IV («того самого», Грозного), свидетельствует, что не полагалось ему за царским столом ни отдельной тарелки, ни ножа, ни ложки, а все было выделено принцу «на пару» с соседом-боярином, даже суповая миска. Впрочем, в большинстве стран Европы в Средневековье посудины с супом подавали одну на двоих, считая, что такая сервировка способствует застольному общению. Иногда это делалось и с некоторой игривостью; хорошим тоном считалось усаживать кавалера и даму рядышком, выдавая такой паре одну тарелку, один столовый прибор и единственный бокал для вина…
Начав с разговора о том, как обедали и обедают у нас в стране, неизбежно уходим в дебри обычаев и подробностей жизни, простирающейся далеко за пределы гостевых столов. Есть о чем вспомнить, и все это интересно…
Я — некапризный едок, могу сжевать что угодно. Кроме вареного лука, который не терплю с детства, — разваренные слизистые лоскутья, которые ну никогда и никак не представлялись мне съедобным продуктом. Было это до тех пор, пока я не влюбился в луковый суп. Произошло это во Франции, где в провинциальном ресторанчике подали на первое что-то очень вкусное, но из чего — непонятно. В тот же вечер я выпытывал у повара все, что смог понять о приготовлении этого супа. Затем вникал в рецептуру, допрашивая других поваров, пока не обобщил знания и не сварил луковый суп самостоятельно. Этот рецепт и предлагаю вашему вниманию.
Главное, что нужно для супа: лук, молоко и сыр. Будем исходить из того, что вы обедаете вчетвером; в других случаях пересчитайте ингредиенты.
Сыром может быть любой из плавленых, но лучше — не самый обезжиренный и дешевый. Однажды в супермаркете среди сырков я обнаружил один с надписью на упаковке: «для лукового супа», он оказался в самый раз…
Возьмите два плавленых сырка, или 200-граммовую упаковку «Виолы», или такое же количество другого похожего сыра. Сырки нарежьте. Около двух литров не очень жирного молока (1,5 %) хорошенько нагрейте. Постепенно растворяйте в теплом молоке сыр, выделив для этого глубокую тарелку или большую чашу. Растирайте кусочки сырков ложкой, пока они с молоком не образуют однородную массу.
Мелко порежьте дюжину средних луковиц и на ста граммах масла обжаривайте их в металлической кастрюльке или глубокой сковороде. Не пережарьте! Доливайте в лук молоко, помешивайте, растирая комочки ложкой, пока лук с молоком не превратятся в пасту. Посолите по вкусу, поперчите, если любите.
Объедините сырную и луковую массы, активно помешивая, чтобы сыр не свернулся.
Приятного аппетита!
5
Основатель нашего бывшего государства обещал научить любую кухарку управлять Советской страной. То ли дело было задумано вовсе простенько, то ли Ильича вдохновила супруга, которая охотно бралась за государственные проблемы, но не кухарничала принципиально (в одном из писем Крупская гордо сообщала, что может «стряпать только горчицу»). Впрочем, строители нового мира не придавали значения таким мелочам; кухни опустели следом за продуктовыми складами, кухарки переучивались на госчиновниц. Нравы пролетарской твердыни вообще предполагали отказ от многих привычек, недавно еще бывших повседневными для миллионов российских мужчин и женщин. Сегодня мы по капле возвращаем себе многое из утерянного, но переучивать труднее, чем учить; люди, привыкшие сморкаться в скатерть, не сразу понимают, зачем им носовые платки. Польский писатель Славомир Мрожек заметил: «Революция привела к власти не труженика, а болтливого хама. Сейчас революция ушла, а хам остался». Хамством кичились; еще в 30-х годах прошлого века выражение «А мы в институтах не обучались!» считалось достаточным оправданием почти для любой несуразности. Помните, как нелепо выглядел старомодный Киса Воробьянинов на фоне молодых энтузиастов в косоворотках и насколько естествен был среди них бесцеремонный Остап? Нас называли «страной мечтателей» — а вот и мечта из того же романа об Остапе Бендере: «…Перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет…» В общем, говоря по-ученому, и этика, и этикет изменились существенно, вместе с образом жизни и словарем.
Наши жизни и наши репутации втянулись в эту карусель; помню, как в конце 70-х годов прошлого века владелец лондонских меблированных комнат, где я поселился, сразу же сказал, что каждое утро за моей дверью будет стоять большой кофейник с кипятком. Я поблагодарил его, но оказалось, что речь идет совсем не о сервисе: хозяин умолял меня не пользоваться «ужасными советскими кипятильниками, от которых может загореться проводка». И никакие мои объяснения не помогли — из страны победившей революции сюда заезжали исключительно люди с кипятильниками, а я был явно одним из них. Помню, как в тех же 70-х в парижском отеле «Република» я оказался одновременно с труппой замечательного московского театра с Таганки. Запах супчиков и котлет, доносившийся из всех номеров, доказывал, что наши актеры изобретательны не только на сцене. Ходил слух, что кто-то из костюмеров умеет готовить цыплят табака, зажав тушку между раскаленными утюгами… Новые времена привели за собой новые правила выживания и преобразовали то, что когда-то звалось «хорошим тоном». Впрочем, есть еще нечто, именуемое традиционным менталитетом. Смягчая иронию в адрес наших современников, можно вспомнить, что французы ахали и в начале XIX века, когда к ним пришла армия, победившая Наполеона.
Триумфаторов обслуживал «Вери», один из лучших парижских ресторанов, где наши бравые казаки-гусары считали обязанностью (согласно пушкинскому стихотворению)
…Каждым утром у Вери В долг осушать бутылки три.Я не удивился, а подумал о живучести традиций, когда почти через двести лет после этого выслушал рассказ захлебывающегося от восторга знакомого писателя о том, как он надрался в столице Франции и как сладко проспал после этого два дня в парижском отеле — до отлета домой. Можно и так…
Но все-таки не надо забывать, что большинство из нас происходит не от шумных кутил; для множества современников, как и для наших предков, живших сто или двести лет назад, стол служит не просто подставкой для стаканов и рюмок. Еще в первой половине прошлого века, когда радио или телевидение не въелись в быт с нынешней назойливостью (а в начале столетия их попросту еще не было), общая трапеза была и временем обмена новостями, и способом ухода от одиночества, знаком того, что ты живешь в сообществе дружески расположенных к тебе людей. Законы общения были строги, но основаны на взаимном уважении. То, что многим сегодня кажется ненужными условностями, было так же необходимо, как правила заседаний парламента или регламент торжественного приема. Беседуя за обеденным столом, можно было обрести или потерять репутацию, можно было нажить друзей или врагов; самые осторожные отмалчивались, как и сегодня. В старину, как и теперь, была заметна часть общества, преобразующая обеды в политические собрания, машущая руками над тарелками, брызжущая слюной, соком, пивом и водой в лица собеседников.
Правила хорошего тона были в обществе чем-то вроде правил дорожного движения на современных шоссе. Их, конечно, можно было не соблюдать, но это себе дороже. Из любопытства я взял с полки книгу об этикете, изданную в Санкт-Петербурге в 1889 году. Она определено могла попасть на глаза будущему супругу Надежды Крупской, который в это время только еще готовился заварить несъедобную кашу и как раз обучался в университете. Поесть Ильич любил и старался ни в чем себе не отказывать, благо была такая возможность — родители помогали. Согласно воспоминаниям современников, за столом будущий главный революционер обходился без крайностей и следовал этикету, потому что в противном случае могли выставить вон. Нож держал в правой руке, а вилку в левой, причем располагал их почти параллельно тарелке. Никогда не упирался локтями в стол, работая ложкой. Суп ел без шума, из ложки отхлебывал сбоку, а держал ложку большим и указательным пальцами. Хлеб ломал кусочками над своей тарелкой, а не кусал от ломтя и не сорил крошками. Рыбу ел вилкой, никогда не подносил нож ко рту. Даже странно, что он так легко, без усилий, пользовался столовыми приборами, а в дальнейшем все-таки опроверг старинную аксиому: «Люди живут так, как они едят». Но не бывает правил без исключений…
Когда я читаю не Гавриила Державина с описаниями роскошеств царского стола два с лишним века тому назад и не Сергея Аксакова или Льва Толстого с их пересказами помещичьих трапез в XIX столетии, а беру в руки Владимира Набокова, живописующего быт не самой богатой российской семьи начала XX века («Отец заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра» или «Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярко возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жаренного в сметане зайца — которого он не терпел»), то понимаю, какую именно жизнь растерзали на революционных штыках последователи казанско-питерского студента Ульянова. Жизнь эта никогда не вернется, но все равно интересна. Во всяком случае, интереснее для меня, чем вычитанное описание любовной трапезы в одном из только что изданных российских романов. Герой романа, обольщающий свою пассию по имени Светлана, «вынул из кейса коньяк и сельдь исландскую в винном соусе, начал говорить комплименты…». Могу повторить: «Люди живут так, как они едят», в том числе те из них, кто прихлебывает коньячок под селедочку. Кстати, о прихлебывании: я прочел в одном нашем издании, посвященном этикету, что надо стараться, коль пьют из горлышка, не пить из одного сосуда сразу со многими незнакомцами. Никто уже не ставит под сомнение само публичное питье из горла — привыкли. Уставы такой жизни, к сожалению, передаются по наследству. На вечере в московском Доме литераторов я позволил себе нечто ироническое по поводу дирижерских упражнений бывшего российского президента в Берлине. Ах, как налетела на меня критикесса, сочинявшая в миру книги о Михаиле Булгакове, но в политике отстаивавшая право пролетарских президентов вести себя так, как те привыкли. «Ну и пусть повеселится по-нашему! — восклицала она. — Умом Россию не понять, и не надо наших людей подгонять под общую мерку!» Получилось, как в гоголевской пьесе, где сваха хвалит своего клиента: «Что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю неделю бывает пьян; иной день выберется и трезвый».
Похожие объяснения, наверное, были даны американцам в 1964 году, когда на приеме у тогдашнего их президента Линдона Джонсона советский глава государства Никита Хрущев выловил в хрустальной вазе с подкисленной водой, которую ему подали для омовения жирных рук, кусочек лимона и принялся его жевать. Конечно же, кое-чего в застольном этикете проспиртованным умом не понять; но — был бы ум… Впрочем, казусы с «большими вождями» случались в разные времена.
Подробности ушедших обычаев и минувших эпох бывают связаны с едой самым забавным образом. Петр I, введший бритье в собственную привычку и заодно приказавший подданным сбрить бороды, неожиданно этим осложнил этикет. Раньше бороды, как сейчас салфетки, служили императорским подданным также для вытирания ртов (причем от бани до бани бород никто не мыл). Когда же бороды сбрили, возродился старый обычай класть на стол капустные листы для вытирания рук и лица. В домах побогаче постепенно приучились к полотенцам или специальным вышитым платам, подаваемым для гигиенических целей. Кстати, и в Европе салфетки намного младше ложек с ножами, их внедрили с середины XV столетия. До этого пользовались широкой скатертью, которая закрывала колени гостям и заодно служила им для вытирания рук и ртов (по этой причине скатерть на торжественных трапезах часто сменяли). Переклички времен бывают странны: в середине века XX подобным же образом скатерть использовалась на обедах у Иосифа Сталина. Несколько участников сталинских застолий независимо друг от друга вспоминают, что гости вождя скатертей за обедом не берегли, а при перемене блюд обслуга просто брала скатерть за углы и уносила ее вместе со столовыми приборами и блюдами с недоеденной пищей, остававшимися на столе. Тут же стелили новую скатерть, и все дела…
Ах, эта гигиена, ах, этот этикет! Чем выше ранг законодателя жизненных стилей, тем неожиданнее бывают подробности. Императрица Екатерина II, к примеру, принимала первых визитеров еще до завтрака, восседая на ночной вазе. Это считалось вполне приличным, благо императрица по грудь была закрыта специальной ширмой, а посетителям сервировали чай. В екатерининские времена у дам из высшей знати стало вообще модным принимать визитеров во время одевания. Обычай держался еще в XIX столетии; не только в столице, но и в губернских городах с начала позапрошлого века распространялись подобные моды, которые уже звались «французскими». М. Бутурлин вспоминает: «Дивовы продолжали держаться парижских модных привычек и, между прочим, принимали утренних посетителей, лежа на двуспальной кровати, и муж и жена в высоких ночных чепцах с розовыми лентами…» Ах, этот кофе в постель, с гостями, восседающими на этой же постели с чашечками в руках! А гоголевские герои, вкушающие пищу в купальных костюмах, погрузившись по шеи в пруд? Понятие нормы смещалось в сторону эксцентрики не однажды и не только при Екатерине. Впрочем, с императрицей, склонной чудить, связаны еще многие анекдоты, в том числе застольные; князь А. Голицын записал для нас один из них, позже инсценированный в рекламе банка «Империал». Однажды в сочельник полководец А. Суворов, еще не снискавший полного комплекта лавров за победы над турками, поляками, французами и прочими врагами империи, но уже знаменитый, грустно сидел за ранним обедом у императрицы, ничего не пил и не ел. На вопрос, почему он так печален, Александр Васильевич ответил, что до тех пор, пока, согласно ритуалу, он не увидит звезду, пировать ему не пристало. И Екатерина II распорядилась принести звезду ордена Андрея Первозванного, которую тут же, за столом, вручила полководцу, отчего аппетит у того сразу улучшился.
Количество легенд о сановных застольных чудачествах бесконечно. Здесь и цари, передававшие из поколения в поколение не только изысканные манеры, но и легенду о своем всемогуществе. Причем это могло воплотиться в дорогостоящее соревнование Петра I с саксонским императором Августом по скручиванию серебряных тарелок в трубочки и в показную скромность Павла I, запретившего во дворце «особые столы» даже для членов своей семьи — император с наследниками и домочадцами серебряными ложками хлебал из заказного фарфора кашу с молоком. Показной скромностью отличался и Николай II, последний император России. Но порода наличествовала; я имел возможность общаться с «командой» Владимира Романова, считавшегося в 80-х годах законным наследником царского дома. Ничего самодержавного в этих людях уже не было, но яичницу они руками не ели…
У советских вождей, свергнувших самодержавие, манеры были построены на плебействе, смешанном с пьяным размахом, отчего произошло множество легенд о сталинских пьянках, где решались человеческие судьбы и унижались собутыльники так, как этого не бывает даже у бомжей, в самых примитивных междусобойчиках. Дочь Сталина, Светлана, вспоминала в своих книгах простоту отцовских меню и то, как за праздничным столом вождь оскорблениями довел до самоубийства ее мать, Надежду Аллилуеву. У Молотова и Калинина арестовали жен, но все равно «соратники» приходили на унизительные застолья, где Хрущев отплясывал гопак, а Буденный пиликал на гармошке. «Люди живут так, как они едят». Я не раз читал, как во время обедов у Сталина члену его политбюро Микояну после провозглашенного тем тоста всегда подкладывали торт на стул. Анастас Иванович исправно садился в торт и ни разу не решился запротестовать по этому поводу. Простотой нравов запомнился Никита Хрущев, у которого тем не менее дома в столовой всегда висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина (разоблачив Сталина, Никита Сергеевич снял его портрет со стены)…
Застольные нравы говорят о многом: многозначительны и пушкинское веселое бражничество, и шевченковские ностальгические запои, и мрачные выпивоны на сталинской даче с их аурой обреченности. Спились не только ленинский предсовнаркома Рыков, «всесоюзный староста» Калинин или сталинский идеолог Жданов. Спился Василий, сын Сталина. Не лучше сложилась судьба брежневской дочери Галины. В Америке мне довелось работать неподалеку от провинциального университета, где устроился на должности политолога сын Никиты Хрущева Сергей. Этому для аппетита уже не нужен был марксистский иконостас, да и худо он смотрится на стенах американского домика; Сергей Никитич вел себя тихо, выпивал скромно, как и положено при его нынешнем статусе. Доживает в калифорнийской богадельне Светлана Аллилуева, сталинская дочь. Недавно опубликованы мемуары брежневской племянницы, тоже слинявшей в Калифорнию. Судя по всему, в правительственных кормушках и начальственных застольях идеи не закреплялись, умирая в первом же поколении наследников.
Но все равно: когда я вижу в метро громко перекликающихся между собой, будто в густом лесу, утренних хлебателей пива с бутылками, когда со мной заговаривает девица, набившая рот жевательной резинкой, когда молодой посетитель ресторана берет котлету рукой из общего блюда, я сразу же, по одним только манерам, представляю себе, как такой человек рос и воспитывался, как садились за стол у него дома, и пробую понять, в котором поколении потомки этих людей научатся вести себя за столом, есть, беседовать… Или это уже навсегда, как включенные мобильные телефоны у зрителей в партере наших академических театров?
Происходившее с нами и нашей страной в течение последних столетий некоторые исследователи называют «русской драмой». А где драма, там и драматургия. У Вильяма Похлебкина есть целая книга о роли трапез в сюжетах классических российских пьес, где он доказывает, что, так же как в реальной жизни, вне застолий на наших сценах не происходит ничего серьезного, а обеденные меню и манеры собравшихся точно отображают состояние общества в каждый данный момент. Наверное, так и есть; об этом и мои заметки…
Когда на столе появляется селедка, это придает закуске незаурядный характер. Известно, что селедку можно приготовить множеством способов, выловленная осенью, она лучше весенней или летней, и так далее. Знаменитая селедка под шубой украшает водочные столы, и, увидев ее, никто, как правило, уже не думает о том, что могут быть еще какие-нибудь замечательные кушанья из этой рыбы. Но было время, когда в Киеве, городе моей молодости, на столах царил форшмак. Дело в том, что Украина, ставшая границей позорной царской «черты оседлости», проходившей примерно от Прибалтики через Белоруссию на Киев — Одессу — Херсон, впитала в себя миллионы евреев, мигрировавших к нам из Европы через Германию и Польшу, и благодарно приняла многое из культуры древнего народа, его традиций, в том числе кулинарных.
По пути в Восточную Европу евреи заговорили на языке идиш, бывшем, по сути, диалектом немецкого, и столь же естественно переняли многие другие приемы общения и питания у встречавшихся им народов. Эрудиты считают, что национальное еврейское кушанье форшмак (на идиш это значит «предвкушение») на самом деле произошло из прусской кухни, только там аналогичное блюдо (по сведениям В. Похлебкина, чей рецепт форшмака я не раз с успехом использовал) было из жареной, а не молотой холодной селедки. Но еврейский вариант немецкой еды достоин вашего уважения.
Разделайте две жирные «осенние» сельди, вымочите их в молоке или кипяченой воде и пропустите через мясорубку вместе с полукилограммовым мякишем размоченного белого батона, двумя луковицами, большим кисловатым яблоком и добейтесь того, чтобы полученная смесь была однородной (может быть, ее для этого надо будет еще раз смолоть). Сварите вкрутую три яйца и мелко порубленные белки смешайте с только что полученной массой. Это и есть форшмак. Дальше — детали, хотя и немаловажные. Оставшиеся три желтка перетрите с тремя столовыми ложками слабого винного уксуса, таким же количеством растительного масла, столовой ложкой горчицы и двумя столовыми ложками сахара. Можно еще по вкусу добавить душистый и черный перец, если любите. Сформируйте из селедочной массы горку по форме селедочницы и смажьте ее желтковой смесью. Украшайте по вкусу — колечками лука, зеленью — все равно будет вкусно.
Приятного аппетита!
6
Недавно мне довелось побывать на кухне дорогого современного отечественного ресторана. Откровенно говоря, я привык, что разные сферы жизни в каждой стране существуют на похожих уровнях, и поэтому не ожидал такого: свежие прекрасные продукты, умные молодые лица поваров, французский кухмейстер и наш классный повар во главе производства. Очень понравилось даже то, что при входе в кухню меня нарядили в белый халат с колпаком: вокруг было чисто до стерильности — об этой характеристике пищи заботились не меньше, чем о ее вкусе. Пришло приятное и четкое ощущение, что одна из самых престижных и нужных профессий возрождается. Поварской труд ведь не так заметен, как работа строителей или балерин, но, если он становится уважаем, значит, жизнь идет на поправку. В общем, хазановский выпускник кулинарного техникума если и работает сегодня где-нибудь, то не выше «Макдоналдса»; вкусно приготовленная, «штучная» еда — дело нешуточное. Когда-то официант в престижном нью-йоркском ресторане «Четыре времени года» поинтересовался у меня, хороша ли была пища, и я по российской привычке отмахнулся от него, сказав нечто вроде: «Вскрытие покажет!» Официант, растерявшись от такого разгильдяйства, пригласил метрдотеля, и я долго объяснял им смысл своей шутки; они-то привыкли, что хорошую еду готовят старательно, а обсуждают и вкушают уважительно. Здесь все одно к одному; умение вести себя за столом и даже умение пользоваться столовыми приборами тоже входят в систему уважения к повару и результатам его труда. Когда-то, оказавшись за обедом поблизости от бывшего французского президента Жискара д’Эстена, я, помню, залюбовался тем, как он ест рыбу. Это было словно пароль, предъявленный окружающим: «Я богат и хорошо воспитан, но это не мешает мне уважать плоды чужого труда и ваше общество. Приятного аппетита!..» Можно, конечно, есть с ножа и одалживать вилку у соседа по столу. Но при этом вы сразу смещаетесь в ту человеческую категорию, где ведут себя именно таким образом. Манеры, как некий код, группируют людей и расставляют их по местам. В Англии выпускники одного колледжа или однополчане облегчают взаимное узнавание, заказывая однотипные галстуки, запоминающиеся, словно корабельные флаги: образуется система кодов, упрощающая знакомство. Подделки очень затруднены. Много лет я входил в художественный совет академического оперного театра в Киеве и помню, в какой ужас пришел специально приглашенный знаток манер и обычаев из Англии, посетив несколько спектаклей. «Как они ведут себя! — возмущался он. — Как они стоят, как дамы приседают в поклонах, как они веерами обмахиваются, как мужчины целуют дамам ручки! Графини и князья у вас (а во многих операх действовали знатные особы) движутся, как торговки рыбой на пристани!» — «Во-первых, все они вышли из народа, а во-вторых, они уже народные артисты. Поздно переучивать, сэр…» — ответил ему я.
Признаки благополучия различаются в разные времена. В устроенных государствах на общественное положение очень влияет репутация. У нас, как водится, все по-другому, и сегодня показателем благополучности в первую очередь становятся престижная квартира и дом за городом, знаменитая любовница, столик в дорогой харчевне и дача в Испании. Раньше это бывали титулы, ордена, знаки благоволения от правящих особ или золото в слитках, сваленное в секретном месте. В общем, времена и критерии меняются, но все же, по-моему, остался один признак жизненной устроенности, который уже много сотен лет определяет солидное положение в обществе: личный повар (сегодня уже можно прочесть интервью с поварихами бывших хозяев жизни — Хрущева или Брежнева либо сегодняшних властительниц душ — Пугачевой и Лолиты). У нас это звание только возрождает свою престижность, а во Франции двести или триста лет назад повара по авторитетности и влиянию уже находились на одной из верхних строк табели о рангах (недавно у нас прошел французский фильм о Вателе, управляющем и поваре, который был знаменит в Париже не менее, чем его «король-солнце», Людовик XIV). Собственно говоря, и у нас в стране в XVII столетии придворные с ног сбились в поисках повара-виртуоза для императрицы Елизаветы Петровны, хотя искали в столицах и на Севере, на Украине и на Кавказе. Еле уговорили шведку из Гетеборга, но та согласилась поработать только несколько лет. Вот каков был спрос на хороших мастеров очага до эпохи микроволновых печей, бульона в кубиках и fast food!
Даже не обладая исключительными талантами в приготовлении пищи, повар должен был по крайней мере знать грамоту и уметь лудить-паять кухонную утварь. Армейских кашеваров тоже отбирали из самых ловких и сообразительных солдат, потому что зачастую от качества кормежки зависел исход битвы…
Поварам многое прощали. Е. Лаврентьева цитирует запись о том, как девица из высших слоев общества сбежала с поваром. Девицу вскоре отловили и выдали замуж за кого положено, но «дерзкий повар не был наказан во внимание его искусства и снова занял свое место у плиты на кухне». Вот так…
Неплохими поварами были многие известные люди. Писатель Владимир Одоевский славился своими кулинарными фантазиями и считал, что «важнейшее приложение химии есть кухонное искусство», а один из дедов Пушкина, Петр Ганнибал, облек кухонные фантазии в литературную форму, издав пособие по кулинарии. Сам Александр Пушкин любил приглашать гостей на макароны, вошедшее тогда в моду итальянское кушанье. Александр Дюма сочинил целый рассказ о том, как в странствиях по Кавказу он постигал искусство приготовления шашлыков на шомполе, а задолго до этого его славный земляк философ Мишель Монтень написал знаменитую «Науку о еде». Возвращаясь в наши края, стоит помнить, как в Петербурге Николай Гоголь умудрялся устраивать целые фестивали родной ему украинской кухни с котлетками, пампушками и галушками, а Тарас Шевченко приглашал к себе в мастерскую Академии художеств на кулеш — пастушью пшенную кашу, заправленную жареным салом с луком…
Поваров не без оснований считали людьми искусства. Крепостной кондитер Василий Тропинин стал великим художником-портретистом, а юного крепостного художника и поэта Тараса Шевченко аттестовали при продаже и как способного «кухарчука», то есть поваренка. Личный повар Павла I Жюль Бенуа основал целую династию художников и искусствоведов, продлившуюся до наших дней…
Политики тоже не гнушаются поварского искусства: из недавнего времени можно вспомнить американского президента Эйзенхауэра или югославского маршала Тито, знаменитых своим умением хозяйничать не только на политической кухне, но и с обычными сковородами, жаровнями и кастрюлями.
Неудивительно, что сегодня в Париже на знаменитых поваров ходят, как на теноров в оперу: в такое-то время там-то будет приготовлено то-то! Я не раз видел, как после особенно удавшегося обеда всю кухонную бригаду приглашали в главный зал и посетители ресторана устраивали ей овацию. Замечательно…
Повар может разрушить ваше здоровье, может поддержать его, может обрадовать вас, привлечь к вам друзей и может испортить праздник; повар очень влиятелен, он интимно близок к человеку, для которого готовит еду. Со временем секретные службы и родственные им учреждения начали разрушать эту близость, выстраивая свои фильтры. Ведь во все времена повар мог не только накормить, но и отравить, что породило множество ритуалов, которые до появления современных охранников, санитарных инспекторов и специалистов-токсикологов соблюдались весьма старательно. У западноевропейских средневековых вельмож в обеденном зале всегда хранились магические предметы для спасения от ядов. Это бывал ювелирно оправленный драгоценный рог единорога и вделанные в золото зубы акулы. Было распространено убеждение, что рог и зубы покроются кровью, если соприкоснутся с отравленной едой. Поэтому повар, прежде чем подать блюда на стол, передавал их хозяину, который колдовскими предметами ковырялся в пище и определял степень ее вредности. У восточных славян правители были попроще и, как обычно, полагались на личную заинтересованность своих приближенных в выживании. Действовало это не всегда. Почти тысячу лет назад, когда повара еще напрямую общались с правителями, на Руси произошло событие, вошедшее в летописи: придворный повар, выполняя приказ великого князя Святополка Ярополковича, прикончил своего господина, удельного князя Глеба Владимировича. Летопись констатирует факт: «Собственный повар Глеба, именем Торчин, зарезал своего князя, аки непорочного ягненка». Случилось убийство 5 сентября 1016 года; кулинарный историк Вильям Похлебкин предлагает отмечать эту дату как юбилейную — День повара…
Постепенно главным уничтожителем своих врагов правители сделали не кухонный нож, а яд; роль повара в применении этого оружия тоже была огромна. Правители откровенно боялись отравления, и многие цари, князья и гетманы на всякий случай прикармливали при дворе специалистов по изготовлению ядов и противоядий (если судить по опере Римского-Корсакова «Царская невеста» об Иване Грозном или по пьесам Корнейчука о Богдане Хмельницком, отравители толпами бродили вокруг восточнославянских тронов). В общем, доставка блюда к царскому или другому такого же ранга столу была делом непростым.
Все начиналось с сервировки: ключник лично расстилал скатерть и ставил на нее разные солонки с хреновницами. Царская пища на этот стол шла долго: повар под строгим надзором пробовал ее, прежде чем отправить на специальный «кормовой поставец», где дворецкий сосредотачивал все подносы с царской едой, тоже понемногу пробуя от каждого. Ключники, которые несли блюда от кухни до дворца, также были обязаны при свидетелях попробовать еду с подносов, которые они доставили. Блюд на хорошем обеде бывало, кстати, несколько десятков, и большую часть их правитель раздавал своим приближенным в качестве особой милости. Так что определить кушанье, которое он отведает сам, было невозможно. После того как дворецкий снимал пробу, подносы оказывались у стольников, которые тоже пробовали еду и вместе со всеми более ранними дегустаторами некоторое время ожидали, когда подействует яд, если таковой был в яствах. После этого кушанья принимал слуга-кравчий, охранитель стола. Он тоже пробовал еду, уже на глазах у хозяина (тот показывал, откуда именно пробовать), и подавал ее. Судя по отзывам, после всех дегустаций что-то оставалось и самому правителю. Алкогольные и безалкогольные напитки гоже в обязательном порядке отхлебывали все, кто к ним прикасался. Остальное выпивал хозяин стола.
Дворцовые повара славились умениями, но долго не жили: первая же ошибка чаще всего становилась последней — как у сапера. У лиц, не принадлежавших к правящей династии, с этим было попроще, и здесь поварами обменивались, их продавали и покупали, за рецептами их блюд охотились. Автор переиздаваемых сегодня книг о старинной жизни М. Пыляев отмечает, что граф Нессельроде, министр иностранных дел при Николае I, а затем имперский канцлер, завел искуснейшего повара, француза Мону, которого за большие деньги брали напрокат в другие дома, а кроме того, «почти вся наша знать отдавала своих кухмистеров на кухню Нессельроде, платя его повару за науку баснословные деньги». Вдали от столиц нравы были попроще. Полтавский помещик П. Полюбаш, «маршал» местного дворянства, завел порядок, при котором «беда, если блюдо почему-либо не приходилось по вкусу хозяину: тогда призывался повар; рассерженный маршал вместо внушения приказывал ему тут же съедать добрую половину его неудачного произведения и затем скакать на одной ножке вокруг обеденного стола». Это и много других подобных наблюдений из времен, когда крестьян еще только хотели освободить из крепостной зависимости, но еще не загоняли в колхозы, приводит в своих подробных заметках «Из прошедшей жизни малорусского дворянства», публиковавшихся в журнале «Киевская старина», А. Лазаревский. Почти в то же время другой мемуарист, Э. Стогов, приводит иной пример. Он услышал тетушкин рассказ о том, как в трудное для семьи время их повар «содержал весь дом на свои деньги». «Повар ведь крепостной, откуда он взял столько денег?» — спросил я тетку. «Конечно, нажил от своих господ, — отвечала она смеясь и заметила: — Богатые господа живут и дают жить другим».
В числе традиций, отмененных советской властью, оказалась и эта («Живут и дают жить другим»). Когда-то, публикуя документы о убийстве царской семьи, я был поражен, что в проклятом екатеринбургском подвале вместе с Романовыми без всякого суда застрелили и старика повара Харитонова, которому большевики чего-то там не смогли простить. Революционная нетерпимость, окатившая нашу страну в прошлом веке, возвращала порядки к беспределу времен крепостничества или даже рабовладения. Никита Хрущев в украинской вышитой рубахе, плясавший гопак вприсядку вокруг закусочного стола на сталинских обедах-ужинах, немногим отличался от несчастного повара, скачущего на одной ножке вокруг стола у полтавского «пана-маршала». Кстати, возвращаясь к разговору о контроле за едой: вопреки всем обычаям, Сталин, принимая гостей у себя, будучи хозяином, никогда не попробовал первым ни одного блюда. Настойчиво угощал приближенных и, когда они, немного поев, оставались в живых, клал то же самое и себе в тарелку. Хрущев вспоминал, как вождь, желая чего-нибудь поесть, уговаривал: «Возьми, Никита, попробуй с этого блюда!» — и затем внимательно глядел на жующего гостя. Самыми интересными бывали обеды Сталина с Лаврентием Берией, потому что на них Иосиф Виссарионович ел свое, а Лаврентию Павловичу привозили обед в судках из кухни НКВД; и он ничего, кроме этой пищи, не ел. Так вот и жили-были верные соратнички по пролетарскому делу. Кстати, одной из версий смерти Сталина до сих пор считается его отравление; никто этого слуха документально не опроверг. Бывший охранник покойного вождя Петр Лозгачев вспоминает, что в ту самую свою последнюю ночь в начале марта 1953 года Сталин вызвал его и велел принести две бутыки маджари, молодого грузинского вина, которое он называл «соком». После полуночи было велено принести еще одну бутылку. Пил Иосиф Виссарионович с обычными своими гостями из политбюро. Хрущев вспоминал, как они расставались в пятом часу утра: «Когда мы вышли в вестибюль, Сталин, как обычно, вышел проводить нас. Он много шутил и был в хорошем расположении духа. Он замахнулся, так, вроде пальцем или кулаком, толкнул меня в живот, назвал Микитой. Когда он был в хорошем расположении духа, то всегда меня называл по-украински Микита…» Затем Сталин возвратился к себе и умер, оставив множество тем для размышлений о том, почему это произошло и в каких отношениях был он с последним кругом своих собутыльников, потому что если вождя и траванули, то могли это сделать только они. На «нижних этажах» контроль считался непробиваемым…
Люди, в старину звавшиеся «прислугой», остались и при советской власти, но каждого из них отбирали, подробно и долго разглядывая в кадровые микроскопы. Было их, старательно отфильтрованных «органами», около пятидесяти человек. Членов политбюро называли они не по именам-фамилиям, а «объектами», у каждого из которых был порядковый номер, как у Джеймса Бонда: 001, 002, 003 и так далее. Каждое блюдо, приготовленное для кремлевских обитателей, дублировалось; одну тарелку направляли «объекту», а другую — хранили для контроля, а также немедленного исследования санитарным врачом. Оставшиеся от приготовления продукты сберегались в специальном холодильнике — тоже для контроля, «на всякий случай». Это при том, что продукты завозились со спецбаз и спеццехов, фрукты и овощи доставлялись самолетами из Ташкента. Повара носили кители, как в старое время, но теперь их кители были с погонами, и звались эти люди уже «обслугой», которой, как правило, доверяли. Иногда к обслуге даже привыкали; Семен Буденный, любимый большевистский конник, женился в 1937 году на своей поварихе Марии. Но все-таки главным в обслуге числился офицер, надзиравший за всеми, головой отвечавший за безопасность. У Сталина это была родственница супруги Лаврентия Берии, которую звали Александра Накашидзе. Вероятно, благодаря ей Сталин не получил ни одной посылки от матери — та регулярно посылала ему с обычной почты из Грузии сушеный инжир, чурчхелу и другие знакомые с детства лакомства. «В пути посылку сто раз могли подменить», — считали охранники. Александра Накашидзе, пока служила, бдила изо всех сил и отвечала «за все», в том числе за работу поварих-домоправительниц, бывших самыми приближенными к Сталину женщинами; одна из них и зашла первой к не проснувшемуся 5 марта 1953 года вождю. Снова эти повара с поварихами…
Интересно, что, когда главного ниспровергателя Сталина, Никиту Хрущева, разжаловали, он впал в панический страх перед отравлением. Свою кухарку Хрущев заставлял есть с ним за одним столом и первой пробовать каждое блюдо…
Трудно жили вожди, ели безрадостно и без особого аппетита… Но начиная с Ленина их заклинивало на кулинарных ассоциациях. Мало того что он, Ильич, обещал кухаркам доступ к государственному кормилу, он и о Сталине сказал: «Этот повар умеет готовить только острые блюда!» И был прав…
XX век стал временем самых светлых надежд и чудовищных беззаконий. Он был эпохой перемен, когда огромные массы людей срывались с мест и, гонимые войнами, революциями, террором, голодом, меняли места проживания, образ жизни, встречались с незнакомыми им обычаями и едой. Основы традиционного питания были потрясены, повара и едоки научились многому за короткое время: было бы что есть и из чего еду приготовить. Кулинарные знатоки считают, что общегосударственной, «столовской» пищей именно в XX веке в недавней нашей стране стали и полтавские вареники, и одесский куриный супчик с лапшой, и плов, и бефстроганов; украинцы начали есть пельмени, а русские — свиное сало, всем пришлись по вкусу эстонские сырники. В. Похлебкин утверждает, что так называемые петербургские «новомихайловские котлеты» из ресторана тамошнего Купеческого клуба вместе с волной столичных жителей, бежавших от ленинского переворота, попали в 1918-м на Украину гетмана Скоропадского и стали там «котлетами по-киевски». Ну и на здоровье!.. Кстати, традиция заимствования очень важна для поварского дела, и некоторые продукты издавна вживались в ту же украинскую кухню, переменив имена. У риса, например, было звание «сорочинского пшена», хотя проследить связь этого продукта с любимыми Гоголем Сорочинцами непросто. На самом же деле оказалось, что «сорочинское» получилось из «сарацинского», то есть мусульманского, арабского, так как со времен позднего Средневековья рис приходил на Украину с востока через Турцию — Венгрию, меняя имя, но не утрачивая вкусовых качеств. Украинская еда вообще разнообразна, но и региональна: в одесском рационе много еврейских и греческих блюд, турецкая, румынская и венгерская кухни влияли на меню жителей Буковины и Карпат, а русская — на еду в Слобожанщине и Донбассе. У одноименных украинских блюд существует множество вариантов: знаменитые борщи варятся по нескольким десяткам рецептов, и все хороши…
Всегда надо знать, кто что сварил и кому что скормили. Хорошие повара могут приготовить нечто съедобное даже не из первосортных продуктов, а вот плохие — перепортят самые лучшие заготовки. Мир становится все компактнее, мы учимся сами и многому научили других (работая в американском Бостоне, я иногда обедал в тамошнем уютном ресторанчике «Санкт-Петербург», где местные повара сочинили такую осетрину по-царски, которой я и дома никогда не пробовал). Сквозь все пережитые радости и трагедии, сквозь вековой опыт мы входим в эпоху специалистов, уважение к которым возрождается и (хочется верить) вытеснит из жизни хоть часть засидевшихся в ней болтунов. Деятельность преобразует жизнь и репутацию человека так же, как очаг своим теплом преобразует продукты, делая из сырья нечто съедобное, удобоваримое…
Уважение к поварам начинается именно с уважения к очагу, бывшему с древности центром жилья. Печь была местом, где готовят пищу и пекут хлеб, на печи спали, и ею лечили. Очаг был сердцем дома. Вся жизнь происходила вокруг огня, у очага — в других помещениях спали, принимали гостей, но, накрывая на стол или восставая от сна, снова возвращались в кухню. Вообще, кухни доминировали в доме, они бывали капитально разделены с жилыми помещениями, иногда кухню строили в отдельном домике во дворе (как и сейчас делают в загородных или деревенских домах так называемые летние кухни). В общем — все отсчеты начинаются от огня, в печи как бы сконцентрировалась идея дома, и человек, управлявший очагом, был — и остался — одним из главных персонажей жизни, которая изменяется не так уж быстро, как иным людям кажется.
В основе моего утреннего питания всегда были молочные блюда, и я уже много лет не могу начинать день без ложки творога или без сырников, либо — в крайнем случае — без мюсли или овсяной кашки на молоке. Утром никогда не хочется возиться у плиты, поэтому я делаю заготовки накануне. Одна из самых любимых, особенно летом, — старинное украинское блюдо, имеющее много названий. В современных поваренных книгах я встречал его под именем «мочанка».
Не мудрствуя лукаво, смешайте полкило свежего маслянистого творога (от его качества зависит очень многое — сами приготовьте творог или покупайте у проверенной молочницы) со стаканом свежей сметаны. Затем — по вкусу — возьмите перья зеленого лука и укроп, мелко их порубите, смешайте с творогом и сметаной. Варьируя количество зелени, вы с нескольких попыток сможете получить смесь, от которой потом долго еще не откажетесь по утрам.
Приятного аппетита!
Из архива автора
Период моих самых шумных застолий пришелся на то время, когда у меня и моих друзей фотоаппаратов, как правило, не было, а посторонние фотографы поблизости не бродили. Впрочем, и тогда, и в дальнейшем не было желания увековечиться со стаканом, рюмкой или чашкой в руке, поскольку я всегда был уверен, что лучше всего пьется и закусывается в обстановке интимной.
Альбомов за свою жизнь я так и не составил. Теперь, разбирая множество снимков, набитых в пакеты, коробки и папки, рассыпанных по дачным и квартирным углам, пытаюсь систематизировать застольное прошлое, отбирая только те фотографии, где я запечатлен с какими-нибудь емкостями или чем-то съедобным в руках либо на ближайшем столе. Снимки вне трапезной обстановки я откладывал в сторону, хотя и среди них есть немало забавных.
К сожалению, у меня нет ни одной фотографии, увековечившей застолья семейные, которые всегда были задушевны, умеренны и строги. В семье у нас пили немного; разве что с гостями, да еще по воскресеньям отец опрокидывал рюмку водки к обеду. Наливали из графинов, а не из казенных бутылок; перед этим мама настаивала водку на каких-то корочках, травках и еще неведомо на чем. Это было вкусно, но мне попробовать не давали до зрелых лет.
Как большинство сверстников, я впервые вкусил спиртное не то чтобы в подворотне, но и не за столом с накрахмаленной скатертью. Выпивал в основном за компанию — на праздниках, студенческих демонстрациях и по множеству случайных оказий. Пил не очень усердно, потому что занимался спортом, входил в разные сборные, а кроме того, писал стихи, и мне казалось, что нетрезвые мозги с пьяным телом не помогут в любимых мною занятиях.
Взросление шло с накапливанием жизненного опыта. Когда я стал врачом, то выяснил, что в моем окружении почти нет людей непьющих, а когда стал профессиональным писателем, то непьющих вокруг себя не помню совсем.
Медицина осталась воспоминанием, красным дипломом и записями в трудовой книжке. Я понемногу осваивал литературную жизнь во всем ее разнообразии, а многие особенности моего нового бытия просто не воспринимались на трезвую голову. Патриарх украинской поэзии Максим Рыльский, чьи добрые слова о моих стихах я без конца перечитывал, был человеком не просто выпивающим, а — запивающим, и основательно. Одним из запомнившихся первых учителей был замечательный украинский поэт Андрий Малышко, которого еще в мои медицинские времена я дважды госпитализировал по поводу инфарктов миокарда, до которых он допивался. Малышко лежал в отдельной палате, я его вел, деваться друг от друга нам было некуда. Мы о многом беседовали; я навсегда благодарен Андрию Самийловичу за его рассказы и уроки. Позже наши беседы продолжились. Время от времени Малышко, чье сердце работало совсем плохо, зазывал меня к себе домой, ставил на стол бутылку водки, закуску и просил пить, получая удовольствие от наблюдений за тем, как в мою утробу вкатывалась жидкость, запрещенная ему строго-настрого мною же. Со стен на нас глядели прекрасные полотна Труша, Пимоненко и других классиков украинской живописи; Малышко читал грустные и прекрасные стихи. Фотографов, слава богу, не было.
Не буду перечислять, с кем довелось выпивать, — не упомню, — но постепенно я научился не садиться к столу со всеми подряд. Жизненный опыт должен быть этаким решетом, сквозь которое просеиваются люди и впечатления, иначе жизнь превратится в свалку случайных людей и путаных впечатлений.
Это был частный прием, по сути, корпоратив. Столик стоял в зале чуть сбоку, и никто на него не обращал внимания. И напрасно.
С Петром Лучинским я познакомился еще тогда, когда он руководил комсомолом Молдавии, затем наше знакомство укрепилось, когда Лучинский был заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, давая мне должностные принципиальные указания. После этого он поработал вторым секретарем ЦК компартии Таджикистана, а позже стал даже членом политбюро ЦК КПСС. Затем события вдруг ускорились, Советская Молдавия стала независимой Молдовой, но тот же Лучинский возглавил ее парламент, а со временем стал и президентом. Затем ушел в отставку. Так же, впрочем, как стал отставником и другой застольный наш собеседник, на фото указующий пальцем и объясняющий мне нечто важное. Это Александр Квасьневский, бывший президентом Польши в конце XX века и в начале нынешнего. Служил он до этого министром спорта и министром по делам молодежи. Побыл социалистом, причем самым левым, возглавляя наследницу Польской объединенной рабочей партии «советского» времени, правившей в Польше, но постепенно передумал…
Встретил я отставных президентов на веселом застолье, когда много пили, вкусно ели и никто ни над кем не посмеивался. Жизнь такая. Надо приспосабливаться к переменчивым ветрам времени. Профессиональные политики тоже служат — важно лишь вовремя понять, кому именно. Все это утомительная работа. Даже на парусной яхте менять галсы утомительно и рискованно…
Так получилось, что нас с Робертом Рождественским часто зазывали в гости к водоплавающей публике — морякам и речникам. Всегда бывало по-разному, но одно повторялось — адмиральский чай. Впервые мы получили его, кажется, на Балтике у командующего флотом. В кают-компании адмирал жестом скомандовал вестовому, и тот принес нам с Робертом два подстаканника со стаканами чая, заваренного дочерна. Мы отхлебнули чайку, и вестовой тут же долил коньяка в стаканы до прежнего уровня. Еще отхлебнули, и так далее. Через полчаса мы уже хлебали коньяк из полных стаканов.
На фото мы гостим у командования Дунайской флотилии. Постоим еще немного (Рождественский — третий слева, а я — второй справа) и пойдем пить адмиральский чай…
Подружились мы с Георгием Гречко как-то сразу; он был человеком умным и в то же время удивительно компанейским, тактичным и дружелюбным при все своем космонавтском дважды геройстве и заслуженном научном авторитете. Но раз речь идет о застольях, расскажу про пиршество историческое, случившееся как бы само по себе.
Мы были в Болгарии на очередном миролюбивом конгрессе и на который-то день скучных заседаний решили втроем — вместе с Робертом Рождественским — купить ящик водки, ящик какой-нибудь фруктовой воды «для запивки» и уединились в одном из наших гостиничных номеров. Поговорить было о чем, и незаметно мы выпили как водку (это была венгерская абрикосовая палинка), так и «запивку». Поскольку упомянутых жидкостей было в избытке, дальнейшие воспоминания пунктирны.
Утром, когда нам надо было улетать в Москву, Гречко будили всем гостиничным персоналом и не добудились. Мы с Робертом кое-как до аэропорта добрались, но в Москве выяснилось, что свой чемодан он забыл сдать при отлете и оставил на память братьям-болгарам. Кое-как похмельно переночевав, я добрался до Киева, где почти немедленно принял телефонный звонок от Рождественского. «Посмотри, пожалуйста, свой паспорт», — попросил Роберт. Я распахнул документ, увидел его фотографию и все, что к ней прилагалось. «Понимаешь, — сказал Роберт. — Я пошел на почту получать перевод, а мне говорят, что это не я». Какие были вегетарианские времена! Доблестные пограничники двух государств позволили нам странствовать, не вникая в паспортные подробности (а может быть, наши припухшие личности на время стандартизировались…).
Мы с Гречко не раз вспоминали про все это, и он вспомнил заодно, как случай может управлять событиями даже более важными. В одном из его космических взлетов все было на грани катастрофы, и он, Гречко, почти наугад ткнул пальцем в правильную кнопку — все обошлось, репутация советской космонавтики не пострадала, никто не погиб.
Много раз после этого я пробовал опубликовать этот рассказ, как свидетельство героизма и сообразительности наших людей, но цензура всякий раз снимала его, поскольку ничего подобного у нас случится не может. Так и не напечатали.
А нам с Гречко было еще много о чем вспомнить…
С Евгением Евтушенко мы бражничали во множестве мест — навскидку вспоминаю — бывало в Москве и Киеве, в Хельсинки и Сеуле, в Нью-Йорке и Бостоне. Нас одновременно избрали депутатами последнего парламента нашей бывшей страны — обоих от Харькова. Всякий раз это было интересно. Мы делились друзьми и своими незаурядными знакомцами — у него в застольях я познакомился со многими — от американской кинозвезды Уорена Битти до российской скоропостижной знаменитости Натальи Негоды. Как-то он привел в Москве ко мне домой Стивена Коэна, профессора Принстонского университета, и мы, изрядно выпив, что, наверное, различимо и на снимке, до полуночи спорили о судьбе Бухарина — Стив Коэн тогда писал книгу о российских революционерах, в том числе о красивых мечтаниях и мечтателях, утонувших в крови.
В самом конце, после ампутации, Евтушенко позвонил мне под Новый год из Оклахомы и вдруг заговорил о той, оставшейся позади, жизни, раскрепощенной и легкой. Такой она ему представилась в конце пути, хоть такой никогда не была. А может быть, мы еще не все поняли…
Мое литературное поколение было сиротским. У нас забрали учителей — ведь могло, наверное, все сложиться и так, что был бы у нас шанс общаться с Маяковским и Мандельштамом, с неломаными Ахматовой и Зощенко, может быть, даже с Набоковым, Гумилевым или Буниным. Не сложилось. Нам назначали в учителя многих из тех, у кого учиться было нечему, но некоторые мои сверстники, как бы там ни было, выстояли.
Здесь две очень дорогие для меня фотографии. Одна: мы на одном из поэтических фестивалей в бывшей Югославии пьем вместе с кем-то из македонских поэтов, но и с Семеном Кирсановым, человеком, пытавшимся экспериментировать в новой русской поэзии, дружившим с Маяковским, Багрицким и Бабелем, рассказывавшим мне очень о многом и многих то, чего я не мог прочесть тогда нигде.
Второе фото: с Миколой Бажаном, классиком украинской литературы, чудом выжившим в 30-х годах, когда он несколько лет подряд спал одетым, ожидая ареста. Мы подружились, когда мне было лет двадцать пять, а ему шло к шестидесяти, но это была именно дружба, искренняя и откровенная. Однажды он повез меня в свой родной городок Умань под Киевом, а по дороге мы притормозили около леса, выпили-закусили на травке. С Бажаном мы дружили до последних его дней, и он, безжалостный к себе, учил меня на своих ошибках.
Я никогда не судил старых писателей, проживших во времена, которые мне и не снились. У таких, как Леонид Леонов, за плечами было две мировых войны, годы революции, террора, разрушения, стройки, безнадежное зачастую желание вписаться в неимоверную жизнь.
В 1949 году, когда Сталину исполнилось 70 лет, Леонов выступил с предложением праздновать Новый год не 31 декабря, как доселе, а на два дня раньше, 29-го, в день рождения Сталина. Ну и ладно. Зато доносов, говорят, не писал…
С народным артистом СССР Георгием Жженовым мы сблизились как-то исподволь. Может быть, помогло и то, что я не завалил его сочувствиями по поводу двадцати украденых у него лучших лет жизни, а помог ему написать и издать небольшую повесть «Саночки», о страшной жизни в сталинском концлагере и про то, как человек побеждает зло, — это была не джек-лондоновская литературщина, а рассказ о жизни актера, ни за что изъятого из искусства. Он не сыграл своих Ромео, он не создал семьи в молодости. Но он выстоял. Справедливость восторжествовала — он вернулся на экраны и сцену, стал знаменит, но как же пульсировала и болела в нем его непрожитая жизнь — до самого последнего дня. Не обида, а просто неутолимая боль. Мы сфотографировались, перед тем как сесть за обильный стол и вкусить щедрую, как он сказал, «пайку»…
С Михаилом Сергеевичем Горбачевым я пил чай неоднократно. Водки не пил никогда. Однажды, когда Михаил Сергеевич встретил меня объятиями, ехидный фотокорреспондент из-за моей спины заснял мгновенное выражение его лица: напряженное и ждущее неведомо чего. Так он и к моему редакторству относился. Он уважал независимо мыслящих людей, но в то же время боялся чужих независимостей, а свою так и не обрел. При этом он был хорошим и порядочным человеком в общении и в работе.
Пил ли он? Наверное, пил, и, должно быть, умеренно. Мне всегда было приятно с ним общаться, он никогда не был страшен, даже во гневе. Я как-то спросил у него, почему он с такой легкостью уступил власть после нелепого путча. Топнул бы ногой, вывел патрули на улицы, приструнил Ельцина… «Что ты, что ты, — сказал Михаил Сергеевич. — Могла же кровь пролиться…» Возможно, он был прав. По-своему. Не партийно-ленинской правотой…
Людмила Марковна Гурченко была поразительно искренним человеком; все, что она говорил и делала, никогда не вызывало сомнений. Она была нескрытна в своих решениях и оценках; очень многое было у нее однажды и навсегда. Включая жизненные принципы и даже словарь.
Пару лет назад после прекрасного концертного выступления для Гурченко был устроен банкет, где, сидя с ней рядом, я вдруг сдуру сказал, что, мол, пожалей себя. Двигаясь с такой бешеной энергией, выкладываясь без жалости к себе — можно упасть однажды и не встать. Не дай бог. Гурченко тут же поднялась и сказала: «Вот Виталик только что заявил, что я однажды е…бнусь на сцене и умру. Так вот — я хочу для вас выступать именно так и всегда буду выступать, не жалея себя. И вы меня не жалейте».
На другом застольном снимке Людмила Марковна рядом с супругом, но в ином, угрюмом настроении — это все из-за того, что неподалеку сидит за столиком Иосиф Кобзон, после развода с которым Гурченко не переносила его даже на расстоянии пистолетного выстрела…
В моей книге, изданной в ее родном Харькове, есть стихотворение, посвященное Гурченко. Ничего не сказав мне, она сама перевела его на русский язык и сделала песней, которую записала. Супруг Людмилы Марковны Сергей Сенин рассказал в газетном интервью, что Гурченко как раз смотрела первую копию только что снятого фильма-концерта, и на этой песне, которую она назвала «Советчики», сердце ее остановилось. Перевела она стихи очень точно — и по смыслу и по тексту: «Друзья мои и советчицы, как вам в те дни жилось, когда в беду опрометчиво мне попасть довелось? Сочувствовать с доброй миною не стоило вам труда. Жалельщики мои милые, как вам жилось тогда?..» Искренний, добрый человек, она всю жизнь тосковала по искренности и доброте.
Американский посол Джек Ф. Мэтлок устроил в своей московской резиденции Спасо-Хаус вечер поэзии для нас с Андреем Вознесенским и Борисом Заходером, замечательно пересказавшим по-русски сказку Алана Милна про Винни-Пуха. Мэтлок читал собственные переводы наших с Андреем стихов на английский, а мы читали оригиналы. После вечера был прием с коктейлями. Странно, но вечер прошел незамеченным для родимых бдительных скандалистов, да и в Америке никто не напал на посла за избыточное дружелюбие.
Воздух тогда был свежее, что ли. Заканчивался XX век…
Неповторимость грузинского застолья охраняется тамадой. Тамада знает, в каком порядке произносятся тосты, кому и когда предоставить слово, как не забыть никого из гостей и не разрешить выпивохам осквернить праздничный стол.
Застолье ведет мой друг Джансуг Чарквиани, знаменитый поэт, депутат, лауреат, редактор и прочая, но сейчас он прежде всего тамада. Смиренно склонясь перед его монологами, сижу в крайнем правом углу фотографии, радуясь, что я в Грузии и что такое замечательное застолье объединяет нас.
Грузинское застолье многослойно, и то, что после тостов и торжественных речей мы посетили с тамадой Джансугом Чарквиани сауну, было столь же традиционно.
А теперь, с вашего позволения, несколько шагов назад, и взгляните, как выглядело одно из первых моих вкушений традиционных грузинских яств. Осенью 1964 года мы с Джансугом Чарквиани ели только что приготовленную чурчхелу — самый традиционный грузинский деликатес — орехи, закопченные в тесте, которое замешано на виноградном соке. Считалось, что пара таких чурчхелин — достаточное пропитание для целого дня. Чурчхелу давали всадникам, уходящим в поход.
Джансуг Чарквиани умер осенью 2017 года, ему было 86 лет. Мне без него тоскливо.
Иногда возникает желание поесть и даже выпить в одиночестве, как поляки говорят, «до люстра», то есть чокнуться со своим отражением в зеркале. Почему бы и нет? Важно только быть безмерно искренним с самим собой и знать меру выпитому…
Вячеслав Малежик окончил МИИТ, институт инженеров транспорта, расположенный по соседству с домом, где я живу в Москве. Он стал знаменитым эстрадным певцом и композитором. Мы подружились не только из-за соседства, но на наших отношениях замкнулась неожиданно важная подробность моей жизни.
В семь лет я жил в оккупированном Киеве, скитаясь со стаей таких же одичавших пацанят по развалинам. Однажды ко мне подошел пожилой немецкий солдат. Понятие «пожилой» для меня в те годы было весьма неопределенным, но запомнилось, что немец был небрит. От такой встречи ничего хорошего ждать я не мог, поэтому сразу дернулся удрать, но немец придержал меня. Он меня разглядывал, и, наверное, это было не самое радостное впечатление его жизни, потому что у немца потекли слезы. Может быть, разбомбили его детей, может быть, еще что-то, но немец заплакал. Это было странно, и еще страннее было, что этот солдат сказал себе самому «Варум криг?» — «Почему война?», достал из сумки губную гармошку и подарил ее мне.
В Киеве был уже Бабий Яр, ежедневно гремели облавы и расстрелы, и встреча эта кажется мне странной до сих пор. Но губную гармошку я сберег. Когда увидел, что иногда в концертах Малежик аккомпанирует себе на такой же, подарил гармошку ему. Певец играет на ней, а мне вспомнилась такая вот странная музыка…
Когда на этом вечере, лет десять — двенадцать тому назад, нас вызвали на сцену всех вместе, Вахтанг Кикабидзе сказал мне: «Какие мы старые стали». Сейчас, увидев фотографию, я подумал, что сегодня, когда все, кто на этом снимке, стали еще старше, перешли на девятый десяток, никогда уже не удастся собрать на одной сцене всех нас — Кобзона, Кикабидзе, Виктюка и меня. Даже если кто-то этого захотел бы…
И еще одна фотография; не помню, где это случилось лет десять назад, но причина была серьезная, должно быть, что-то вроде «Голубого огонька». Слева направо сидят у стола Евгений Евтушенко, Нани Брегвадзе, а ко мне склонилась поющая Лайма Вайкуле. За прошедшие годы столько неодолимых заборов между нами нагородило жестокое время. Обидно…
Году в 1988-м в столице Шотландии Эдинбурге проходил культурный фестиваль, куда пригласили участников из России. Выставки, спектакли, общение с прессой — все было как надо. У нас с моим другом писателем Фазилем Искандером была совместная пресс-конференция, и журналисты спросили у меня, есть ли в Советской стране цензура и чего она касается. Я ответил примером: «Понимаете, если я хочу опубликовать статью об армии или госбезопасности, цензура не пропустит ее в печать, пока статью эту не завизируют в специальных структурах армии или КГБ. Таков порядок». Я не стал погружаться в суть дела, но советский официальный журналист, который вел пресс-конференцию, тут же улыбчиво дополнил, насколько он меня уважает и ценит мое мнение, но все-таки нельзя не сказать, как наш народ любит хранителей закона и порядка в стране. Наши люди попросту не позволят опубликовать клевету на своих любимцев.
Я сказал, что мне надо отдохнуть, и сошел с трибуны. Фазиль Исканднр ушел следом. Олег Ефремов, который участвовал в культурном фестивале и слушал все это, сказал: «Да ну их на фиг, объяснителей. Пойдем и выпьем за то, что без них лучше».
У него в руке уже был бокал. Мы заказали себе такие же и дружно двинули в бар.
Художник Илья Глазунов не пил спиртного. Он коренной петербуржец (в самые-рассамые советские годы он никогда не употреблял слова «Ленинград»), блокадник, не раз умиравший от голода, и когда-то чуть не погиб от вина, выпитого с голодухи. С тех пор — ни капли. Но пиры он умел устраивать знатные. Вот и сейчас в мастерской, где стены встык покрыты иконами, которые Глазунов собирал по разрушенным храмам и реставрировал за свои деньги, накрыт прекрасный стол. Во главе стола сидит французская певица Мирей Матье, которую он только что рисовал, а гости и сам хозяин — вокруг.
Кого я ни приводил к Илье в мастерскую — все немели при виде спасенных им сокровищ, как на другом снимке восхищается Мирей Матье, стоя между мной и поэтом Андреем Дементьевым.
Позже Глазунов передал спасенные им коллекции музею и все, что собрал, — восстановленному им же славному Московскому училищу ваяния и зодчества, которым руководил до последнего вздоха. Летом 2018 года во Флоренции и Венеции прошли выставки дипломных работ учеников Глазунова. Итальянцы восхищались одним из последних, по их мнению, оплотов реалистического искусства в Европе. Все живописные «измы» Глазунов отвергал, считая, что художник должен научиться рисовать, как рисовали классики, а потом уже пусть резвится. Когда он писал мой портрет, то приговаривал: «Это и Третьякову не стыдно было бы показать…»
Режиссер Роман Виктюк на полгода младше меня. Он родился в городе Львове, который был в ту пору еще польским, и крещен греко-католиком, это такой вариант православия на грани с католицизмом. Всю жизнь Роман Григорьевич существует «на грани». Окончив московский ГИТИС, он работал в Вильнюсе, Москве, Киеве, в провинциальных театрах, отстаивая свое право на творчество, которое никого не обслуживает, и решает прежде всего проблемы искусства. Сейчас он ставит спектакли по всей Европе, у него есть свой театр в Москве. Живет он в Москве на Тверской в квартире, принадлежавшей когда-то сыну Сталина Василию. Семьи у него нет. Все не так, как у всех.
Виктюк, что редкость немыслимая, является сегодня одновременно народным артистом России и Украины. Он эпатажен, но умеет быть интересным сразу для многих. Интересно разговаривать с ним, выступать, путешествовать. Мне доводилось видеть, как он прибирает к рукам любую аудиторию. Уникальный человек…
С замечательным певцом Юрием Гуляевым мы дружили много лет домами, так что многие привычки стали обычаем. Гуляев, например, никогда не садился за руль выпивши. Вот и сейчас он приехал ко мне вместе с водителем, который сидит за столом с нами и отвезет его домой после застолья.
Другой знаменитый баритон, тоже народный артист СССР, Дмитро Гнатюк вообще не пил ничего, кроме минеральной воды. В Киеве мы жили с ним в соседних подъездах и по вечерам иногда гуляли вместе, вспоминая времена актерских и всяких других возлияний.
С Евгенией Семеновной Мирошниченко я дружил почти полвека. Народная артистка СССР, лауреат всяческих премий, уникальное оперное колоратурное сопрано, она пела на всех лучших сценах, включая миланский Ла-Скала. Она умела сыграть любую роль и никогда не умела устроить собственную жизнь. Тысячу раз она при мне варила обед, потому что не умела найти помощницу, но для друзей становилась сама помощницей в беде и радости. Женя Мирошниченко хоронила моего старшего сына и первая пришла в акушерскую клинику, когда родился другой мой сын.
Когда она недавно умерла, мой мир намного уменьшился…
После того как меня перевели работать в «Огонек», в моей бывшей киевской квартире поселился народный артист СССР и, несмотря ни на какие звания, прекрасный актер и добрый человек Богдан Ступка. Он меня вполне искренне благодарил за то, что звал «прекрасной аурой» доставшегося ему жилья. Когда встречались, в застольях, он всегда предлагал выпить за это. Логично…
Сфотографировать Иосифа Кобзона в застолье с рюмкой в руке невозможно, потому что он давно уже бросил пить. Он человек великого таланта и немыслимой силы воли. Его искренне уважают и любят миллионы людей, но ему и завидуют, его ненавидят, а Кобзон преодолевает все. Репертуар его необъятен — однажды я слушал, как он замечательно спел целое отделение оперной классики…
Болеет он тяжко, лечится мужественно. Когда я начинаю с докторами капризничать, они мне иногда говорят, что, мол, у вашего друга Кобзона все намного серьезнее, а он послушен. Он верен в своих привязанностях, а непослушен в основном с желающими его унизить и подчинить.
Несколько лет назад у меня зрение совершенно разладилось — катаракты в обоих глазах. Никому не жалуясь, я молча страдал, отшучивался, мол, на свете не осталось ничего, что хочется увидеть подробно. Вдруг мне позвонили из солидной глазной клиники, сообщив, что Кобзон оплатил обе операции по замене моих мутных хрусталиков и меня сегодня, прямо сейчас, ожидает лучший хирург. От благодарностей обычно отмахивается. Знаю, что он содержит какие-то детские дома, помогает многим и надеется, что, если надо будет, ему тоже пособят. Но на всякий случай Иосиф купил для себя и семьи участок на еврейском кладбище, чтобы потом близким не надо было никого ни о чем просить (И. Д. Кобзон скончался 30 августа 2018 г. — Ред.).
Мы выпили с великим польским кинорежиссером Анджеем Вайдой много чашек кофе и две рюмки коньяка, но я так и не мог ответить ему на вопрос, почему новые фильмы Вайды не идут на советских экранах.
Я придумал ответ, что, мол, у нас длинная очередь, мы не видели еще и старых, вполне кассовых и идейно безвредных фильмов Чарли Чаплина и Луиса Бунюэля, Орсона Уэллса и Альфреда Хичкока, но его это не убедило. Себя я тоже не убедил…
Шли 90-е годы, мир понемногу раскрывался все шире. Знаменитый мексиканский писатель Октавио Паз пригласил в Мехико писателей и редакторов по своему выбору, в том числе меня. Шли интересные семинары, но многие гости Паза придумывали для себя собственные программы. Мы с польским иммигрантом, поэтом, лауреатом Нобелевской премии по литературе Чеславом Милошем посетили все исторические музеи Мехико, нашли и осмотрели подробно дом, в котором жил и был убит Лев Троцкий. Утомившись от впечатлений, зашли пообедать, и Милош задумчиво сказал мне: «Понимаешь, рассказали нам, как в древности здесь играли в футбол человеческими головами, как вырывали сердца у живых, как в новые времена закапывали в песок пленных, проламывали голову ледорубом. Тебе не кажется, что не все люди произошли из единого на всех корня? Я не ощущаю своего генетического родства со всеми этими сокрушителями черепов».
Вы себя никогда не спрашивали, анализируя повороты истории, почему люди такие разные?
Михаил Задорнов до конца жизни пытался докопаться до истины. Вроде бы развлекая людей с эстрады, он в то же время на полном серьезе пытался понять не только соотношения нашей и американской цивилизаций, но и хотел разобраться в особенностях цивилизации славянской, составлял словари нашей древней речи. Так, до самого конца жизни существуя в нескольких ипостасях, он был исследователем и сатириком, но постоянно — интересным и требовательным собеседником. С ним было интересно.
С Александром Розенбаумом мы подружились еще и потому, что он получил медицинское образование и поработал врачом. Нам было что вспомнить и легче было общаться. Медицина не только в большей степени подпускает к человеку, чем любая иная профессия, она еще учит верить друг другу.
Не знаю, что именно нас с Михаилом Жванецким впервые сблизило, но еще в 80-х годах мы друг друга зауважали. Встречались от случая к случаю, но всегда радостно. Эта фотография сделано случайным свидетелем нашего взаимного узнавания у ресторана напротив киевского дворца «Украина». Вот просто так шли и увидели друг друга. Случайно рядом был ресторан. Случайно зашли туда и, как сейчас помню, взяли по борщу, по котлете с гречневой кашей и пол-литра водки. Все съели и выпили. По возвращении в Москву Михаил Жванецкий со всей солидностью, приличествующей классику, немедленно подарил мне свое шеститомное собрание сочинений. Оглядываемся на улицах в ожидании новой встречи.
Куда прежде всего идут люди в Одессе? В порт и на Приморский бульвар. Жюри первого одесского фестиваля современного кино под названием «Золотой Дюк» пошло по этому же маршруту. Затем мы посетили портовый бар и под впечатлением выпитого сфотографировались в полном составе (кроме Эльдара Рязанова, который был чем-то занят). Нам портовый фотограф выдал по моряцкой фуражке, а Мише Жванецкому еще и трубку, как морскому волку. В первом ряду сидят Жванецкий и французский кинокритик, чью фамилию я забыл. Во втором стоят Никита Богословский, Станислав Говорухин, Илья Глазунов и я. Наше жюри, проведя первое застольное заседание, приготовилось начать просмотр конкурсных фильмов.
На дне рождения у Ирины Дерюгиной, которая пару десятилетий назад была идеалом и чемпионом всего, чего можно, в художественной гимнастике, я между тостами подумал о преходящести земной славы, об Алине Кабаевой, сменившей Ирину Дерюгину, а затем и о сменщицах Кабаевой. Мы сфотографировались с Ириной и ее мамой, знаменитым тренером советской сборной Альбиной Николаевной Дерюгиной, пожелав друг другу не забывать ни о чем прекрасном, что произошло в наших и окружающих нас жизнях.
Накануне моего дня рождения я совершил очередную глупость, когда полез разнимать дерущихся собак и моя собственная овчарка тяпнула меня за голову. Пес мой извинялся после этого всю оставшуюся ему жизнь, а я праздновал свой день в кепке, потому что пораненную голову страшно было показывать. «Ничего, — сказал Борис Олийнык. — Нас всегда одни и те же собаки кусали за головы. Выпьем за то, что мы оказались сильнее».
Выпить с Иваном Драчом и Борисом Олийныком, сверстниками, с которыми мы вместе пришли в литературу, вместе получали свои выговоры и премии, надо было непременно. Что я и сделал. Как бы ни складывались наши жизни, они соединены навсегда — особенно теперь, когда нет уже в живых Ивана с Борисом.
Перед Виталием Кличко я обнажил свою покусанную голову. Мы дружны много лет, я гостил у братьев в Гамбурге, мы обедали в московских и киевских ресторанах, у меня на даче и не раз преломляли хлеб за порядочность, соединявшую достойных людей во все времена. Виталий Кличко перестал царствовать на ринге, стал киевским мэром, но я пожелал им с братом выигрывать все бои и в дальнейшем.
Иначе — зачем подниматься на ринг?
Перед Новым, 1991 годом Павел Глоба принес мне гороскоп для публикации в журнале. Он предлагал объявить нашим читателям, что в 1991 году Горбачев будет отстранен от власти, в стране начнутся большие перемены и (это он сообщил мне лично, не для печати) мне лучше на время уехать куда-нибудь подальше на год или около этого, чтобы не попасть под паровые катки общественных перемен.
Глобу я отругал, гороскоп публиковать запретил, но все сбылось точно по предсказаниям. До сих пор не понимаю, каким образом Алан Чумак по телефону снял приступ радикулита у моей родственницы, как Джуна Давиташвили купировала у меня приступ головной боли, а Кашпировский мог обезболивать полостные операции по телевидению.
В мире должны быть непонятные вещи, и я всегда уважал это. Если что-нибудь меняется к лучшему, я радуюсь такому событию, даже ничего не понимая. Столько на свете необъяснимого зла, что непонятое добро должно утешать и обнадеживать.
По какому поводу я тогда оказался в южном американском штате Теннесси, вспомнить не могу, но помню, что там в это время происходил фестиваль местных самогонщиков. Все они гнали виски по собственным рецептам, предлагая желающим попробовать продукт и оценить его в баллах. Самогонщики соревновались одержимо, и я не мог не поделился с двумя из них рецептом отечественной табуретовки, который был выслушан весьма уважительно.
Опыт проведения таких соревнований я был бы рад распространить дома, но не сложилось…
С преподобным Джесси Джексоном я познакомился в Вашингтоне на инаугурации Буша-старшего, избранного 41-м президентом США 8 ноября 1988 года. Чикагская газета предложила мне написать о событии и оформила все нужные бумаги. Я поприсутствовал и написал, они остались довольны.
Тогда же я познакомился с преподобным Джесси Джексоном, который недавно участвовал в предвыборной гонке, оказался только вторым по популярности в своей Демократической партии и выборы проиграл.
Но репутация соратника Мартина Лютера Кинга была у Джексона несокрушима — он поучаствовал в первых алабамских протестах и был с Кингом до дня, когда того застрелили, а затем организовал новые походы и митинги, проповедовал о расовом равноправии в своих церквах. Он считал, что нет на свете такой боли, которую он лично не должен бы утолить.
Джексон нашел меня со словами о том, что 7 декабря, только что, произошло землетрясение в Спитаке, город уничтожен и он готов ехать в Армению немедленно, уже собрал лекарства и деньги. Он готов лететь в Спитак хоть сию минуту.
Мы пообедали вместе, поговорив о разнице между добрыми намерениями и их воплощением в жизнь. К стыду своему, я только позже понял, насколько Джесси Джексон был серьезен и как я отупел в болтовне о благих делах, насколько отвык от людей, взаправду поспешающих делать добро.
Это был хороший урок, потому что через несколько дней после моего возвращения в Москву туда прилетел преподобный Джесси Джексон со своими благотворительными грузами. У него был заказан борт на Спитак. Он зашел ко мне в редакцию и, не теряя времени, немедленно полетел в страдающую Армению.
Насколько знаю, он до сих пор так живет, поучительно будоража Америку и окружающий мир.
Мэром города Атланта, того самого, откуда Мартин Лютер Кинг начинал свои марши за расовое равноправие, стал друг и соратник Кинга Эндрю Янг.
Он первый чернокожий, поднявшийся так высоко в американской политической иерархии. Позже он стал послом Соединенных Штатов в ООН.
Я сказал Янгу, что мельком встретился с Кингом незадолго до его гибели, в 1967 году, когда он вел протестный антирасистский марш в Чикаго. Мы встретились в штабе у демонстрантов и в ответ на банальности, которые я начал изрекать, и мои восторги о борьбе против расизма Кинг спросил, есть ли у меня сын. Я сказал, что есть. «И если он тебе скажет, что хочет жениться на чернокожей девушке, что ты ответишь ему?» — «Well…» — ответил я ничего не значащим междометием, нечто вроде «Дайте подумать». Кинг не захотел больше со мной беседовать, отставил свой стаканчик с кофе и ушел. «Похоже на него, — сказал мне Эндрю Янг. — Он считал, что расизм уже въелся людям в подсознание, и надо вышибать его оттуда. Он не любил, когда задумывались там, где, он считал, следовало ответить мгновенно». — «Но теперь Кинг победил!» — сказал я. «Хочется верить», — улыбнулся в ответ Янг.
Обед с президентом США Роналдом Рейганом случился в другой раз. Сейчас никаких застолий не было, да и обстоятельства после интервью в Белом доме к застольной беседе не располагали, но я решился: «Господин Рейган, разрешите задать вам личный вопрос. Вы стали президентом своей страны, вы богаты, вы стали кинозвездой, в общем — вам удалось осуществить все американские мечты. Вы счастливы?» Рейган на минутку задумался, пошевелил губами и ответил: «Понимаете, я никогда не ломал себя. Всего, чего я достиг, я добивался, оставаясь самим собой, таким, как я есть. Это самое главное — не сломаться на пути к цели. Мне удалось…»
Премьер министр Великобритании Маргарет Тэтчер назначила встречу в резиденции на Даунинг-стрит, 10 рано, часов в девять утра. «При таком напряженном графике вам, должно быть, и позавтракать некогда», — сказал я после приветствия. «Ни в коем случае, — ответила Тэтчер. — Я завтракаю всегда традиционно: таблеткой витаминов и чашкой кофе. Это занимает немного времени».
Дальше все было согласно схеме, заранее объявленной мне помощницей британского премьера. «Не настаивайте на своих вопросах, потому что госпожа Тэтчер, как правило, традиционно говорит только то, что она намерена сказать в данный момент. Обычно она не дает интервью в привычном понимании, а делает заявления». Так все и было. Маргарет Тэтчер традиционно сказала то, что намеревалась довести до сведения человечества, и я поблагодарил ее за это от всей души. После чего, согласно традиции, меня угостили чаем.
Шейх Джабер аль-Ахмед-ас-Сабах являлся тринадцатым представителем династии, правящей в Кувейте уже 245 лет. Мы встретились в его дворце ранним утром — это естественно, потому что часов с одиннадцати начинается в Кувейте сиеста, никто не работает, все жмутся к кондиционерам — в пустыне жара немыслимая. Кувейтский шейх, ну точно как эмиры и другие Гарун ар-Рашиды из восточных сказок, выходит из дворца часа в четыре утра и, стараясь быть неузнанным (во что мне плохо верится, но такова древняя традиция), посещает базары, слушает, о чем там рассуждают его подданные, знакомится с ценами и возвращается в дворцовый уют.
Для граждан Кувейта есть немало гарантированных законом социальных удобств, чужих здесь не жалуют, палестинцев и иракцев, которые всячески норовят просочиться во владения шейха, фильтруют, как только могут.
Мы поговорили с эмиром о ценах на нефть, о том, как по ночам в пустыне торгуют контрабандным алкоголем, который правоверным пить не полагается. Я не выдал, конечно, эмиру его чиновника, который, встретив меня в аэропорту, спросил, не привез ли я собой водки, и огорчился, узнав, что — не привез.
Мы выпили крепкого ароматного кофе из маленьких чашечек, и я ушел в гостиницу прятаться от жары. Сервиз, из которого мы пили кофе, мне позже подарили на память от имени шейха Джабера аль-Ахмеда-ас-Сабаха.
В конце XX века Алекс Хейли стал одним из самых известных американских прозаиков. Его роман Roots, «Корни», переиздавался несколько раз, по нему сняли популярнейший сериал.
Задуман роман блестяще. Хейли несколько лет рылся в документах, выясняя, как его африканские предки попали в Америку. Он узнал все маршруты рабовладельцев и докопался даже до названия корабля, в трюме которого перевезли за тридевять земель его предков. Он узнал, где они работали, кто из его родни полег на хлопковых плантациях Алабамы. Затем проследил свой собственный путь, выяснил, какой ценой его предки выбивались в люди в течение нескольких столетий. А после этого писатель отправился в Либерию и нашел отправную точку своего рода. Ему трудно было говорить с людьми, у которых была одна с ним генетика, но совершенно иное мышление. Но он счастлив, что сумел обсудить с ними все, что хотел.
Вот такому исследованию посвятил Алекс Хейли несколько лет своей жизни и никогда не пожалел об этом. Он уверен, что каждый человек должен узнать свои корни.
Мы пили кофе и кукурузное виски у камина, обсуждая единственную тему — о путях на свободу из рабства и в обратном направлении. Одну из главнейших на свете тем.
Меня потрясло корейское жизнелюбие и то, как они сумели за недолгое время из японской колонии, из полурабского состояния подняться до статуса мощной державы с одними из лучших в мире электроникой и автомобилестроением.
Традиции приема гостей здесь тоже удивительны. Однажды, когда в шумном Сеуле проходил конгресс международного ПЕН-клуба, мы с Евтушенко погрузились в пучину этих самых традиций.
Нас потчевали немыслимыми яствами. Еда на множестве тарелочек была переперчена так, что даже ее цвет не разрешал забыть, почему большинство блюд оранжево. Это все от перца, главной и, по-моему, единственной специи, участвующей, кажется, и в десертах. Не знаю, ел ли я собачатину — предупреждали меня, что есть собак запретили, но для уважаемых гостей делают исключение. Впрочем, если и ел, то не понял, какого собачатина вкуса, из-за того же перца. Гарнир, как везде в Азии, — рис, из риса же алкоголь.
Но как красиво это сервировалось, какие девушки в национальных корейских сарафанах сидели возле нас с Евгением, как они наливали нам рисовой водки и чистили для нас красных креветок в оранжевой перечной упаковке!
Но самое острое блюдо хозяева приберегли для десерта. Нам с Евтушенко сказали, что девушки входят, так сказать, в меню и находятся в нашем распоряжении до утра. Все оплачено.
До сих пор стыдно, до чего мы оказались не готовы к широте корейского гостеприимства. Так и не приняли кореянок. Сослались на усталость, еще не помню на что, спрятались в номерах и слушали, как позвякивают наши телефоны, потому что девушки — их оплатили ведь до утра — скучали в креслах гостиничного вестибюля, время от времени напоминая нам о себе.
Верхний слой
Всегда следует различать времена, выделять законы, по которым развиваются в них человеческие судьбы, и отмечать юбилеи, так как они дают почву для раздумий. Времена вовсе не беспамятны; каждая эпоха из прожитого опыта выбирает то, что ей ближе и поучительнее. Нас десятилетиями приучали к тому, что история не цельна, а порезана на куски, как червяк под лопатой. Были у нас отрезки истории «до и после татаро-монголов», «до и после Переяслава», «до и после Запорожья», «до и после Октября», «до и после обретения независимости»… На самом же деле это одна река времени, на которой качаются, как бакены, несколько особенно памятных дат.
Недавно подряд случились важные юбилеи. 350 лет назад, в 1654 году, произошла Переяславская рада, после которой гетман Богдан Хмельницкий подписал документы, надолго сблизившие Украину с Россией. Но 240 лет назад (тоже круглая дата) украинская гетманщина завершилась. Последний гетман Кирилл Разумовский обратился в 1764 году к императрице Екатерине II с просьбой подтвердить «старые права и вольности Малороссии». В просьбе было отказано, и вскоре по указу Екатерины гетманская власть была пресечена, Разумовский сдал регалии царским чиновникам, приехавшим из Петербурга, перестал быть гетманом, зато, по царскому велению, стал генерал-фельдмаршалом. Украинским крестьянам повезло меньше, потому что с 1783 года их закрепостили. Казачество вскоре слили с регулярной армией, а казацкую старшину уравняли в правах с дворянством, дав ей возможность врасти в общероссийские распорядки. Несколькими указами общество вроде бы сбалансировали: низы присоединили к низам, элиты — к элитам…
Поскольку я в основном рассуждаю о временах более или менее приближенных к нашему, то буду исходить из реальных обстоятельств. Обстоятельства эти во многом определил Ленин, у которого в этом году тоже юбилейная дата — 80 лет со дня смерти. В составе основанного Лениным государства Украина пробыла почти три четверти XX века…
В 2004 году исполнилось 80 лет со дня рождения одного из самых свободолюбивых творцов мирового — и украинского — кино Сергея Параджанова. Такое впечатление, что он не мог дышать одним воздухом с Владимиром Ильичом. Ленин умер, и только тогда Параджанов решился показаться на свет…
В общем, река времени очень разнообразна. Конечно, в верхних слоях такого потока должно быть чище всего, хотя это все теория, не подтверждаемая историческим опытом. Грязнее всего вроде бы должна стать противоположная часть течения, низы реки времени, ее дно (Горький так и назвал свою пьесу о тех, кто «выпал в осадок», — «На дне»). Но и здесь нет постоянства. Более того, случаются такие водовороты истории, когда вся муть со дна всплывает наверх, а верхние слои погружаются в холодную глубину.
Итак, в 2004 году кроме личных (в том числе августовского восьмидесятилетия замечательного украинского прозаика Павла Загребельного) можно отметить сразу три юбилея с государственным привкусом, поскольку пожила Украина при гетманской власти, при царской и при советской. Опыта — як в Сірка блох. Ну и что? Тем более что в конце XX века советская власть закончилась и началась другая, вроде бы непохожая на предыдущие.
Каждый поворот колеса фортуны, каждая смена властей в любом государстве безжалостно перемешивает слои населения. Каждое державное переустройство перевешивает иконостасы по своему выбору, и Украина, пройдя за четверть тысячелетия сквозь гетманщину, самодержавие и советскую власть, так нагляделась на святых и мучеников несовместимых религий, что иногда начинает их путать. В общем, какую из тем, предложенных юбилеями, ни тронь — везде есть о чем задуматься. «Современность мнима, история — реальна», — писал Лев Гумилев.
…Помню, как бурно праздновали в Киеве трехсотлетие Переяславской рады. Я маршировал по Крещатику в составе сводной студенческой колонны и вместе с другими размахивал бумажным цветком. Где-то вверху, на трибуне, поднятой к небесам, стояли тогдашние украинские вожди и махали точно такими же, как у меня, цветочками, всячески изображая свою близость к народу. Хотя каждый из нас понимал, что вожди существуют отдельно, в своем особом слое, откуда благосклонно способствуют нашему дальнейшему процветанию в рамках руководимого ими государства.
Власть — это господство одних людей над другими. Иерархии, сортировка членов одного общества были всегда, начиная с самых древних времен, когда иерархия определялась размерами кулака и физической силой, дающей преимущество над соседями в борьбе за теплое место у костра. Сегодня власть начинается с политического владычества; в достижении своих целей государства не брезгуют ничем, есть у них для этого армия, полиция (в том числе тайная), суд и много чего еще. Государства, при всем их разнообразии, всегда стремились выделить своих властителей и рассортировать подданных, и лупят их при этой сортировке бичом из бегемотовой шкуры или современной полицейской дубинкой — решающего значения не имеет. Еще за несколько столетий до нашей эры древнегреческий философ Аристотель уже понял, что во все времена были, есть и будут лишь три типа государственной власти: монархия, аристократия и демократия, то есть власть одного, власть немногих и власть большинства. Но Аристотель же предупредил, что эти три типа власти легко скатываются в извращения: монархия — в тиранию (жестокое бесконтрольное владычество), аристократия — в олигархию (власть узкой группы политиков-толстосумов), а демократия — в охлократию (то есть власть толпы). Учитель Аристотеля Платон уточнял, что, каким бы ни было государство, всякий раз состоит оно из тех же трех сообществ: элита, стража и рабы…
Правильность древнегреческих предсказаний мы усваивали на собственном опыте. Про рабов и стражу написаны большие тома, и элита оказалась весьма разнообразной. К ней причисляли и аристократию, и буржуазию, и интеллигенцию, и высших чиновников. Выяснилось, что она может быть назначаема как часть аппарата власти, а может определяться общественным мнением и состоять из самых уважаемых людей. Сразу же напомню, что важность людей для всенародной судьбы выясняется не сразу и элиты по этому принципу формируются только посмертно. А как сортировать прижизненно? Отделить умных от дураков не удавалось еще никому, да и страшновато выявлять, кто есть кто, по этому принципу. Но как-то разделять граждан государствам необходимо, и везде это делают по-своему. В Индии, например, все определяется при рождении; перейти из касты в касту, из одного слоя общества в другой там невозможно, если ты индуист, то есть исповедуешь главную религию общества. Один из самых слезливых сюжетов индийского кино — любовь представителей разных каст, которым ни за что нельзя быть вместе, а тем более пожениться. Впрочем, проблема это всемирная. Помните трагический романс Даргомыжского о том, как «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь» и по этой причине у них сладиться не могло (ничего не поделаешь — генерал принадлежал к одному из четырех верхних слоев российской общественной классификации, а титулярный советник был всего девятым классом из четырнадцати). Верхние могли снизойти к низшим, но сами низшие должны были знать свое место. Японцы удивленно комментировали роман Толстого «Воскресение», где барин, по их мнению, облагодетельствовал дворовую девку, переспав с ней и оказав тем самым ей честь, а в романе это почему-то подано как трагедия…
В Англии недавняя трагедия принцессы Дианы ведь тоже начиналась с того, что ее подыскали в невесты наследному принцу по знатности, а не по влечению. Впрочем, в Британии человеческая породистость блюдется, выстроенная в столетиях, рыцарские звания присваиваются монархом нечасто, палата лордов концентрирует самых родовитых, самых титулованных, и никто не оспаривает мест «сэров» и «пэров». Вообще, как утверждал английский классик Дж. Пристли, двадцать из тридцати англичан знают, к какому классу себя отнести, и очень этим гордятся.
В Соединенных Штатах все определяется деньгами; американцы веруют, что в конце концов твои достоинства должны воплотиться в банковском счете. Есть клубы для богатых людей, есть районы, где эти люди живут: американская национальная элита — это прежде всего витрина жизненной успешности.
Упомянутые расклады возможны в устоявшихся и поэтому достаточно понятных обществах, но никак не у нас, где издавна, особенно с советских времен, слишком многое не выставляется напоказ. Давно не стареет строка, что у нас «внизу — власть тьмы, вверху — тьма власти». Причем — власти разнообразной: и денежной, и державной, и всяческой. Кто у нас богаче кого, сказать трудно, потому что, увы, банковские счета самых оборотистых соотечественников хорошо скрыты и американские чековые стандарты здесь не проходят. Родословные? От них мы отвыкали все послеоктябрьское время, и трудно осудить за это людей, у одних из которых предки были неграмотны, а значит, по-советски благонадежны, а у других были знатны и поэтому подлежали уничтожению. Большевики добивались, а во многих случаях и добились разрыва памяти, провала в человеческих связях, в том числе в глубине истории, — иначе они не смогли бы выжить. Никогда не забуду, как моя мать сжигала фотографии своих предков, среди которых были царские генералы и один ее дед в ранге тайного советника (до начала 30-х годов она из-за этого не имела права учиться и числилась в «лишенках», выйдя из такого состояния лишь благодаря браку с моим отцом, который был пролетарского происхождения). Зато по отцовской линии я знаю, что одного из прадедов звали Иваном Петровичем, но никакие подробности на сей счет не сохранены…
Между тем на цивилизованных уровнях бывшей империи родословные были чтимы, существовал официальный «Гербовник…», была «Родословная книга», были «Столбцы» — перечни старейших родословий, и записанные там звались «столбовыми дворянами». Александр Герцен, например, прослеживал свою родословную с XV столетия, Пушкин напоминал, что фамилии его предков «поминутно встречаются» на страницах отечественной истории. Даже если некто, как Ломоносов, учившийся в Киеве и ставший знаменитым в столицах, говорил: «Я сам знаменитый предок», то и в этом было уважение к чужой славе и желание стать достойным родоначальником для потомков. Тарас Шевченко знал своих родичей на несколько поколений в глубь истории, и вообще было хорошим тоном «ведать свой корень». Когда в опрокинутой стране Маяковский хвастался, что «я дедом казак, другим — сечевик, а душою — грузин», была в этом попытка подладиться под новый стандарт и встать в интернациональный строй. Но Владимир Владимирович хорошо помнил о дворянстве своего отца, уважал собственное происхождение; бездомных и беспамятных не чтили ни в одно время и ни в одном обществе. Дворянство впитывало в себя людей разных национальностей, и в так называемой «Бархатной книге», реестре древнейших родов — от Рюрика, есть множество редкостных фамилий, в том числе, как отмечают старинные справочники, литовцев, волынян, галичан, немцев, евреев, шведов, греков… Род Валуевых, давший империи известного министра-мракобеса, происходил, к примеру, от литовцев Воловичей, а боярский род Квашниных-Самариных считался вышедшим из Галичины, где начался от некоего Нестора Рябца. Левшины произошли от Левенштейна, Яхонтовы — от фон Долена, фаворит императрицы Екатерины Потемкин — от польских шляхтичей Потемпских. Писательские родословные тоже были не проще, чем у Маяковского: знаменитый писатель Карамзин произошел от татарина Кара-Мурзы, Пушкин — от «арапа» Ганнибала, Лермонтов — от шотландца Лермонта, Грибоедов — от поляка Гржибовского. В Гоголе было достаточно польской крови — от рода Яновских, которые давно прижились в украинских землях…
Человеческое разнообразие сортируется в любом государстве; делалось это и в стране наших предков. Купцы и крестьяне оставались как бы сами по себе: играя в жизни важные роли, они не принимали видимого участия в управлении этой жизнью. У духовенства была своя система санов — от патриарха до диакона, — которая в их кругу соблюдалась. Главными столпами, на которые опиралась империя, были чиновники, военные и придворные; они считались элитой, их-то и распределяла петровская Табель о рангах, утвержденная 22 января 1722 года. Военные, гражданские и придворные чины разделялись на четырнадцать классов. «Четырнадцатый, — как писал маркиз де Кюстин, — самый низкий класс. Ниже его находятся только крепостные, и единственное его преимущество в том, что числятся в нем люди, именующиеся свободными. Свобода их заключается в том, что их нельзя побить, ибо ударивший такого человека преследуется по закону». Николая Гоголя, например, выпустили из Нежинского лицея в звании «действительного студента» и как раз с правами этого самого четырнадцатого класса…
Петровская табель не имела ничего общего с демократией, за что многие свободолюбивые иностранцы ее недолюбливали. «Здесь все зависит от чина. Не спрашивают, что знает такой-то, что он сделал или может сделать, а какой у него чин», — писал удивленный гость имперской столицы. Визитер из республиканской Франции описывает, как за столом в Эрмитаже поблизости от императора рассаживались высшие сановники и иностранные послы. «Рядом с этим столом стоит другой круглый стол, предназначенный для министров второго разряда, жен, дочерей, сестер и представленных иностранцев. За все другие столы, наполняющие залу (а их поставлено по крайней мере на 400 человек), садятся как попало».
Положение в обществе завоевывалось годами, продвижение по лестнице чинов было медленным, порядок соблюдался строго. Почет, пусть и подчеркнутый, оказывался исключительно по рангам. Знаток древних обычаев Е. Лаврентьева цитирует свидетельство из XIX века: «На верхнем конце стола восседал его превосходительство, имея по правую руку свою супругу, а по левую — самого сановитого гостя. Чины уменьшались по мере удаления от этого центра, так что разная мелюзга 12, 13 и 14-го класса сидела на противоположном конце. Но если случалось, что этот порядок по ошибке был нарушен, то лакеи никогда не ошибались, подавая блюдо, и горе тому, кто подал бы титулярному советнику прежде асессора или поручику прежде капитана…»
Как позже пошутил Чехов, мужчина обязан состоять из «мужа» и «чина».
Чины имели наименования — от канцлера для первого класса до коллежского регистратора для четырнадцатого. Без службы нельзя было получить чин. Дворянин мог перейти в следующий класс, лишь прослужив в низшем три-четыре года. За особые заслуги этот срок мог быть сокращен, но делалось это гласно и специальным указом с мотивацией льготы (примерно так сегодняшний офицер получает внеочередное звание). Иногда императорским указом мог быть присвоен чин вне всяких очередей; так Пушкин к новому, 1834 году получил в подарок придворный чин камер-юнкера, это был пятый класс, всего на ступеньку ниже генеральства. Зря в советское время нам внушали, что великого поэта обидели, — чин был очень высок; обидеться Пушкин мог разве что на одну из обязанностей камер-юнкера — дежурить во время императорских балов и торжественных церемоний. Но его об этом и не просили…
Соблюдалась система титулований. Нижние пять классов откликались на «ваше благородие», следующие три были «высокоблагородиями», дальше шли «ваше превосходительство» и «высокопревосходительство». Для императорской семьи и князей была система титулования с «величествами» и «сиятельствами». Недворяне, поступив на гражданскую службу, могли получить низший, четырнадцатый, класс через десять или двенадцать лет. Достигнув восьмого класса, они могли претендовать на дворянское звание, а с пятого класса — на потомственное дворянство (с начала XIX века для этого требовалось еще и университетское образование). Военным было полегче: там потомственное дворянство получали все офицеры; армейская служба была не очень прибыльна, но почетна. Все-таки военный человек, особенно в гвардии, должен был сам, за свои деньги, заказывать себе дорогое обмундирование, покупать коня, одевать и содержать денщика. Все, даже количество лошадей в упряжке, было строго нормировано: генералы имели право запрячь цугом шесть лошадей, полковники и майоры — четыре, а низшие офицеры — пару. У гражданских лиц иерархия была столь же заметна. Молодой Николай Гоголь немало написал о людях, вынужденных мучительно карабкаться по иерархической лестнице, — тем более что матушка в каждом письме переспрашивала его о чине. То-то мучились этим и гоголевские герои: Поприщин рвался в испанские короли, Нос прогуливался в обществе принца, а Хлестаков назначал себя в Государственный совет. Тем временем сам Гоголь ходил пешком, а на почтовых станциях получал лошадей последним, соответственно чину, тогда как знакомые надворные и коллежские советники на дальние расстояния путешествовали комфортно, по городу раскатывали в дрожках, а статские советники — в каретах. Все это имело огромное значение в человеческой сортировке; фон Брадке в своих «Записках», публиковавшихся в «Русском архиве», отмечает, что если визитер приходил пешком, то «прислуга в передней не подымалась с мест, и вы сами должны снимать с себя верхнее платье». При этом «мужчина еще мог ездить в открытом экипаже в две лошади, но даму непременно должна была везти четверка». Жены имели чин по мужу, а дочери — по отцу, пока не выходили замуж. Сыновья должны были пробиваться самостоятельно, но родительские возможности, конечно, принимались в расчет. Когда, не имея пристойного чина и связей, Николай Васильевич Гоголь попробовал устроиться на преподавательскую должность в Киевский университет, ему было отказано. «Я почти нуль для него», — записывает будущий классик после беседы с попечителем Киевского учебного округа. Помните, как «значительное лицо» кричит на несчастного Акакия Акакиевича в «Шинели»?.. Попытки Гоголя приобщиться к «высшему свету», понять его правила были мучительны, непрерывны и не очень успешны. В Риме он влюбился в женщину (что бывало с Гоголем редко) красивую и хорошо воспитанную, Александру Россет. Идя на свидание к ней, он оделся согласно нежинским представлениям о великолепии, почти как молодой Евтушенко: в серую шляпу, малиновые панталоны и голубой жилет. «А перчатки?» — спросила дама, иронически оглядев Николая Васильевича. Он еще долго вспоминал свое унижение…
В империи подданные классифицировались четко, чему способствовали чины, обязательные к упоминанию в любом случае, мундиры, обязательные к ношению, и система наград. Долгое время награды были сугубо материальными; императрица Елизавета, например, за оду в свою честь пожаловала Ломоносова двумя тысячами рублей. Сумма эта была немыслимая, да еще и деньги были медные — привезли награду на двух подводах, и весила она, считая по-современному, 1800 кг. Петр I ввел ордена (всего их в империи было восемь), заменив традиционные денежные награды системой знаковых отличий. Некоторые ордена были сделаны из драгоценных металлов и стоили очень дорого. Забавно, что во многих случаях награжденный получал только бумагу о праве на обладание наградой, а орденский знак должен был заказывать за свои деньги, поэтому случалось, что те же ордена бывали разных размеров и даже чуть разного вида. До 1845 года любая степень любого ордена приносила потомственное дворянство, а с середины XIX века — только высшие степени. Так что — на эту тему классиками написано очень много — все было четко размечено, и каждый сверчок знал свой шесток; зовется такая система отношений классовым обществом. При этом все-таки и здесь важно отметить, что расслоение было гласным, определялось заслугами и объяснялось. Система была очень далекой от идеала, но, повторяю, гласной, с откровенными привилегиями и четким соблюдением порядка (еще при Петре I вышел строгий указ: «Кто выше своего ранга будет себе почести требовать или сам место возьмет, выше данного ему ранга, тому за каждый случай платить штрафу — два месяца жалованья»). Хотя такой порядок был очень нагляден, тогда (и теперь — коррупция вечна) чиновники в нашей стране ловчили и лодырничали, брали взятки, вводя власти в задумчивость, не прошедшую до сих пор. Чиновники никогда не получали очень уж высоких зарплат, и как ресторанные официанты требуют свои чаевые, так и чиновники требовали «отстегнуть» им при каждом случае. Помните жалобу Поприщина в гоголевских «Записках сумасшедшего»: «Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси ему: «это», говорит «докторский» подарок; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста…» Ровно 130 лет назад, в 1874-м, воспитатель Александра III К. Победоносцев внушал своему воспитаннику: «Укоренилась язва — безответственность, соединенная с чиновничьим равнодушием к делу. Все зажили спустя рукава, как будто всякое дело должно идти само собой, и начальники в такой же мере, как распустились сами, распустили своих подчиненных…» Что изменилось сегодня, кроме стиля, которым изложены старинные претензии? Читая Гоголя, Салтыкова-Щедрина или драматурга Островского, не раз возвращаешься к мысли о том, что бюрократия вечна и, перетекая между временами и юбилеями, она сращивает времена даже в тех случаях, когда все другие соединительные слои крошатся. Бюрократы, как тараканы, пережившие ядерный взрыв, оказываются живее всех живых…
Процессы самоочищения происходят в любом обществе, но никто никогда не собирался истреблять чиновников, потому что без них государство не выживет. С многих чинуш были как бы и взятки гладки. То, чего не простили бы офицеру или гражданскому аристократу, сходило с рук многим представителям «крапивного семени». А ведь при этом, как правило, всегда делались попытки разобраться в общественных элитах, очистить их, вышвырнуть из «ближнего круга» проворовавшихся или даже попавших под серьезное подозрение.
Человек, которому не подали руки, должен был стреляться с обидчиком либо застрелиться сам, иначе перед ним закрывались все двери. Обязательным условием для досоветских элит было: порядочность уважаемых в обществе людей не должна ставиться под сомнение. Офицерская формула «Богу — душу, жизнь — Отечеству, женщине — сердце, честь — никому!» выходила далеко за пределы армии и соблюдалась при любых обстоятельствах. Проигравшись в карты, дворяне пускали пулю в висок, не желая жить в нищете, но не заплатить проигрыш и жить в бесчестии было еще страшнее. Честность в обществе заразительна, и не случайно вчерашний крепостной крестьянин Тарас Шевченко писал: «Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою», — это было вполне в духе времени. Понятие чести не являлось барской выдумкой, абстракцией, как многим внушили в послеоктябрьской стране. Пушкин и Лермонтов погибли на дуэлях, защищая честь; они не могли поступить иначе. Под честное слово брали в долг и заключали многотысячные сделки. Герцен в своих знаменитых мемуарах «Былое и думы» вспоминает, как в захваченной Наполеоном и уже горящей Москве его отца привели к французскому императору и тот спросил, сможет ли он доставить его, Наполеона, письмо русскому царю. «Не знаю, — ответил дворянин. — Путь долог…» — «Но вы можете дать мне честное слово, что сделаете все, дабы письмо доставить?» — повторил Наполеон. «Я даю слово», — сказал отец Герцена. «Мне этого достаточно», — ответил Наполеон и вручил ему пакет.
Мальчиком Петр Котляревский, сын сельского священника из Ольховатки под Конотопом, помог генералу Лазареву не заблудиться в метель, и тот пообещал не забыть своего спасителя. Генерал вскоре умер, но успел сдержать данное слово, определив мальчика в кадеты. Петр Котляревский выучился и, начав военную службу с самых низов, дослужился на Кавказе до генеральских эполет. Однажды император Александр I как бы между прочим спросил у тридцатипятилетнего генерала, кто ему протежирует, намекая на то, что подобные карьеры возможны лишь при наличии «мохнатой лапы» в верхах. «Никто, — ответил молодой генерал. — Продвижению по службе я обязан лишь мужеству моих солдат!» Хмыкнув, Александр высказал сомнение в искренности Котляревского, и тот немедленно подал в отставку. «Честь — никому!»
Один из высших аристократов страны, писатель Алексей Константинович Толстой, сочинивший знаменитый роман «Князь Серебряный», совершенно по-самурайски считал, что честь — это верность в службе кому-то, кто выше тебя по рангу. Но такая верность подразумевает и откровенность во всем. Толстой дружил с Александром II, участвовал в обсуждении его проектов, в том числе одобрял освобождение крестьян в 1861 году, резко выступал против всесилия сыскного ведомства. Считалось, что это он уговорил императора освободить Тараса Шевченко из ссылки и всячески заступался за Чернышевского. Но, несмотря на свою близость к трону, А. К. Толстой с братьями Жемчужниковыми придумал Козьму Пруткова, от имени которого издевался над косностью и глупостью чиновников — это входило в его представление о чести. В романе он описал террор опричников, наивно доказывая, что беззаконие можно одолеть честной службой — без революций. Император иногда обижался на писателя, удалял его от себя, но А. К. Толстой повторял, что «честь — никому», сохраняя репутацию порядочного человека в любых обстоятельствах…
Гвардейский генерал Михаил Драгомиров в конце XIX века командовал в Киеве военным округом. Когда в Киевском университете начались студенческие волнения, царь велел двинуть войска против студентов. «Армия не обучена штурмовать университеты», — отрапортовал генерал. Царь повторил приказ. Драгомиров окружил университет пушками и послал телеграмму: «Ваше величество, артиллерия в готовности, войска на боевых позициях, противники отечества не обнаружены». Когда Драгомиров пребывал в отставке, он продолжал быть любим многими, славился своим гостеприимством, помогал малоимущим, а его супругу офицеры чтили за вкусные обеды, которые она готовила для них бесплатно. Илья Репин увековечил генерала в образе одного из самых колоритных запорожцев с люлькой на знаменитой картине…
Я очень схематично излагал систему чинов, хотя она скрепляла и сортировала общество, просуществовав с некоторыми изменениями до самого Октябрьского переворота. Моральные принципы были достаточно постоянны, но все-таки за последние полтора века многое менялось в стране. Другими стали отношения внутри общества в связи с отменой крепостного права. Изменились отношения внутри элит, когда в начале прошлого века был создан парламент при сохраненной самодержавной власти. На веку многих современников дважды — в 1917 и 1991 году — менялись формы собственности. Чиновничество тоже менялось, приспосабливаясь к новым элитам.
В октябре 1917-го оказалось сложнее всего. Переворот, где соединили свои усилия и потомственный русский дворянин Ульянов-Ленин, и сын спившегося грузинского сапожника Джугашвили-Сталин, и потомок богатого еврейского купца Бронштейн-Троцкий, отменил немало прежних классификаций. При этом наиболее активно уничтожалась связанная с системой прежних ценностей формула «Честь — никому!», которая столетиями была одной из важнейших для человеческой репутации. Раньше в обществе существовали, мощно влияя на события, такие факторы, как общественное мнение, репутация, «доброе имя». В советское время их зачислили в «буржуазные предрассудки», было отключено несколько прежних «линий жизни»: среди них — демократия, рыночная экономика с конкуренцией, свобода слова, общественое мнение. Власть усердно искореняла умение своих граждан критически оценивать ситуацию — что было непременным достоинством для прежних элит. Насаждалась холопская вера в мудрость и всемогущество системы, подкрепленная мощью репрессивного аппарата. Мы оказались первым обществом в известной истории, где государственную мифологию берегли всеми силами правительства, армии и охранного ведомства. У Солженицына в его концлагерных мемуарах есть упоминание о людях, которые оказались на Соловках даже за то, что невпопад улыбнулись при каком-нибудь партийном призыве. Так называемая пролетарская власть не снисходила до мнений своих подданых, внушив им, что думать будут те, кому партия это поручит, а повиноваться — все остальные. Этого оказалось достаточно для того, чтобы общество задохнулось.
Большевики с первых своих шагов прежних цивилизаций не признавали, традиционные моральные ценности высмеивали, насаждая свою «классовую справедливость», усвоив ленинское: «Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата… Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем».
Провокационные разговоры о всеобщем равенстве, которыми демагоги пользовались уже немало раз, затрещали с новой силой. Большевики врали, что теперь элитой в обществе станут простые труженики — рабочие и крестьяне, кухарки научатся управлять государством, а для начала можно пограбить, забирая себе все, что нравится, потому что, мол, праведно нажитых богатств не существует. Аристократия, буржуазия, прежнее офицерство, интеллигенция вычищались из жизни под пение «Отречемся от старого мира!».
Группы населения, составлявшие самую влиятельную, самую богатую его часть и зачастую не существовавшие по отдельности, стали как бы не нужны, поскольку обществу отныне надлежало быть однородным, как манная каша. Я забыл сказать о купцах, которых теперь искореняли, а раньше вроде бы тоже не звали в элитные слои общества, но без которых полноценная жизнь не состоялась бы. Константин Станиславский, чей Художественный театр не возник бы без помощи С. Т. Морозова, пишет о других купцах и фабрикантах, поддерживавших отечественную культуру: «С какой скромностью меценатствовал П. М. Третьяков! Кто бы узнал русского Медичи в конфузливой, робкой, худой фигуре, напоминавшей духовное лицо… Вот другой фабрикант — К. Т. Солдатенков, посвятивший себя издательству тех книг, которые не могли рассчитывать на большой тираж, но были необходимы для науки и вообще для культурных и образовательных целей. М. В. Сабашников, подобно Солдатенкову, тоже меценатствовал в области литературы и книги и создал замечательное в культурном отношении издательство. С. И. Щукин собрал галерею картин французских художников нового направления, куда бесплатно допускались все желающие знакомиться с живописью. Его брат П. И. Щукин создал большой музей русских древностей. А. А. Бахрушин учредил на свои средства театральный музей…» А украинские меценаты — Харитоненко и Терещенко! В музеи, основанные на их деньги, мы до сих пор ходим, восхищаясь картинами, которые эти люди купили для нас с вами.
Их-то, бывших на виду, и призвали грабить в первую очередь…
Обращение к самым низменным инстинктам удалось. Ясно, что нормальные рабочие и крестьяне грабить не шли, но и работать им не давали голосистые, рукастые люмпены, вырвавшиеся на передний план. Новые завоеватели страны хотели всех повязать круговой порукой, сделать своими сообщниками. Все делалось «на хапок», «по-быстрому» еще и потому, что большевики после успешного Октябрьского переворота вначале вообще не поверили своему счастью, общества не переустраивали, элиты не выделяли и планы у них были на уровне «цыганского счастья» из анекдота («Если б я стал царем, то схватил бы кусок сала и убежал»). Недавно мне довелось прочесть найденное в архивах частное письмо одного из творцов Октября Николая Бухарина, который откровенничал с другом в самом начале Гражданской войны: «Деникин под Тулой, мы укладываем чемоданы, в карманах уже лежали фальшивые паспорта и «пети-мети», причем я, большой любитель птиц, серьезно собирался в Аргентину ловить попугаев. Но кто, как не Ленин, был совершенно спокоен, и сказал, и предсказал: «Положение — хуже не бывало. Но нам всегда везло и будет везти!» В это везение поверили не все сразу. Будущий ленинский нарком культуры Луначарский, когда-то, кстати, учившийся в одной киевской гимназии с Михаилом Булгаковым, тоже задергался в страхе перед возмездием, когда судьба переворота чуть провисла, и вдруг, на всякий случай, с перепугу, окрестил своего сына…
Уже сто раз описано, как после смерти Якова Свердлова вскрывали его сейф с бриллиантами, припрятанными «на всякий случай». Главным держателем «аварийного общака» числилась вдова Свердлова Клавдия Новгородцева. У нее были набиты драгоценными камнями три ящика комода и сундук. Новые хозяева жизни с самого начала повели себя, как шпана; может быть, поэтому советская элита так и не сложилась. Были главари, а элиты не было. Было «классовое чутье», но при отсутствии элементарной порядочности. На правовом беспределе элиты не строятся, даже у воровских объединений есть своя этика, свой «закон».
К тому же новая элита возникала скоропостижно, отменяя и растаптывая прежних хозяев жизни. Лацис, руководивший одно время украинской ЧК, а затем ставший заместителем у Дзержинского, разъяснял: «Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». Сам Дзержинский был еще более категоричен и краток: «Для расстрела нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим нужным и расстреливаем, вот и все». Знаменитый писатель Владимир Короленко вздыхал из Полтавы: «Никто не знает, кто его может арестовать и за что…» Василий Шульгин рассказывал из Киева: «Я на минуточку остановился на Большой Васильковской, которая теперь называется Красноармейская, где был наш клуб «русских националистов». В 1919 году членов этого клуба, не успевших бежать из Киева, большевики расстреливали «по списку». Где-то нашли старый список еще одиннадцатого года и всех, кого успели захватить, расстреляли». Иван Бунин пытается понять происходящее в Одессе: «Встретил мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: «Деспот, сукин сын!» Чуть дальше: «День и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться из этого дьявольского мрака»…
Даже при самых оголтелых тираниях законы есть — пусть жестокие, но законы. В тоталитарном советском обществе законов не было. А было «чутье», которого в кодексы не запишешь. Поэтому в кодексы с конституциями вписывали все, что угодно, а судили и правили исключительно по «классовому чутью». Какие там права человека, какие законы?
Украину (еще один юбилей — 70 лет со дня погромных процессов 1934 года против национальной интеллигенции) прочесывали с первых послеоктябрьских лет, но этого властям показалось недостаточно, и 28 марта 1934 года тогдашний украинский вождь П. Постышев пишет чекистскому начальнику В. Балицкому: «Надо обязательно семьи арестованных контрреволюционеров-националистов выгнать из квартир и обязательно выселить их из пределов Украины на север. С работы членов семей арестованных надо немедленно снять, с учебы — тоже. Повторяю, надо как можно скорее выселить семьи из Украины, а также и всех тех, кто с ними жил в одних «гнездах». Хотя, может быть, на последних пока фактического материала и не имеется, но все равно — это несомненно одна шайка-лейка». В это же время на встрече с украинскими писателями Сталин говорит им, что «надо уничтожать классы путем классовой борьбы», и советует не огорчаться, что часть национальной элиты, интеллигенция, норовит уйти в эмиграцию: «Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее…» 7 февраля 1938 года Сталин поддержал ретивость украинских карателей, не успевавших передавить всех, кого им было велено уничтожить: «Дополнительно разрешить НКВД УССР провести аресты кулацкого и прочего антисоветского элемента и рассмотреть дела их на тройках, увеличив лимит для НКВД УССР на тридцать тысяч». Принцип уничтожения прежних элит оставался неизменным все советское время. В 1939 году, когда войска вводились в Западную Украину, была издана новая директива: «В целях предотвращения заговорнической предательской работы — арестуйте и объявите заложниками крупнейших представителей помещиков, князей, дворян и капиталистов». Как раньше сказал Николай Бухарин, объясняя бессудебный террор: «Когда вы видите змею, вы же не спрашиваете ее о намерениях, а убиваете гада. Так и мы поступаем с представителями враждебных классов…»
Беззаконие вошло в привычку. Люди узнавали новую власть, понимали, что они объединены с ней не общим делом, а страхом, и привыкали к такой жизни. Подавлялись все слои населения, в том числе и тот самый рабочий класс, то самое крестьянство, об интересах которых так вдохновенно болтали большевики на пути к власти. Элита в новых условиях не вызревала, а назначалась, но о ней речь пойдет дальше.
Пока же, кроме вранья о всеобщем равенстве (какие уж тут элиты?), была запущена еще одна страшная бацилла, разлагавшая общество на корню, — зависть. Как бактерии чумы или сибирской язвы, она жила всегда, но вызывала эпидемии только в благоприятных условиях. Советская власть запустила эту бациллу в переустроенную ею жизнь, где зависти оказалось привольно.
…Несчастный гоголевский чиновник Башмачкин не завидовал «значительному лицу», осязая разницу в их общественном положении. Сегодня американец из среднего класса не завидует миллиардеру Биллу Гейтсу, понимая, откуда у того деньги, и сознавая всю меру пристального контроля над заработками «компьютерного короля». Зависть людей неразмышляющих, воплощенная в призывах «Забрать и поделить!», «Грабь награбленное!», стала лозунгом, начертанным на красных большевистских знаменах. Сегодня под ними сражаются «лесные армии» в Боливии, Перу и на Филиппинах, грабящие соотечественников побогаче, но зовущие грабежи «коммунистическими экспроприациями». До чего же быстро кандидаты в Робин Гудов превращаются в обычных налетчиков! Уроженец Киева, замечательный философ Николай Бердяев назвал коммунизм «идеологией зависти», чем-то вроде срамной болезни. Вспоминая о своей одесской молодости, писатель Юрий Олеша, выросший в небогатой семье, рассказывал: «Я никогда не завидовал… Чужая ограда не пугала меня и не угнетала моих чувств. Напротив, поставя на нее локти и глядя в чужой сад, я как бы взвешивал то, чем обладали другие, сравнивая его с тем, чем буду обладать я. Ни статуи чужих садов, ни цветники, ни дорожки, сверкающие суриком гравия, не раздражали моего самолюбия, когда я, маленький гимназист, приходил из города готовить к переэкзаменовкам богатых сверстников».
Мне попались на глаза изданные в Лондоне воспоминания князя Владимира Оболенского, где он в основном размышляет именно о моральных катастрофах, случившихся в бывшей его стране, и пишет о том, как под влиянием демагогии «народ впал в безумие со всеми сопутствующими явлениями — манией величия, манией преследования и прочими навязчивыми идеями». Одной из таких навязчивых-навязанных идей князь определял зависть, проявлявшуюся разнообразно, даже по мелочам. Он вспоминает, как однажды в обществе таких же оборванных и ограбленных жителей страны ехал куда-то в революционном поезде без билетов, где в четырехместное купе набилось шестнадцать человек, а в коридор — без счета. Ехавшие в коридоре вскоре начали завидовать тем, кто ехал в купе. «Мы, — пишет Оболенский, — внушали зависть, периодами переходившую в жгучую ненависть. Коридорные стояльцы начали с отчаянием колотить в нашу дверь и требовать, чтобы мы их впустили… Ибо все мы, как «привилегированные», были для них ненавистными «паршивыми буржуями», которых ломившиеся к нам люди грозились выбросить в окно».
Именно зависть внедрялась в человеческое сознание, а не жажда справедливости, потому что никакой справедливости в новосозданном государстве не предвиделось. Пришел всемогущий страх. Позже драматург Афиногенов напишет пьесу под названием «Страх», утверждая, что 80 процентов населения страны направляют свои действия страхом. Чтобы никто не дергался, с 21 февраля 1918 года в стране восстановили смертную казнь, 16 июля 1918 года убили царскую семью, 5 сентября 1918 года ввели концлагеря, с декабря 1918-го ЧК получила статус полной самостоятельности. Какая там элита! Какая там пролетарско-крестьянская власть! Однажды начавшись, вакханалия лишь углублялась, выбрасывая на поверхность новые жертвы и новых вождей, новых хозяев и новых палачей. Один из творцов Октября, Лев Троцкий, позже, оценивая круговую поруку новой элиты, напишет, что «политика Сталина отражает страх касты привилегированных выскочек за свой завтрашний день».
Когда вот так, директивно, обрушивается моральный ориентир, летят к чертям и все остальные, стрелки компасов начинают вертеться, путая направления, и сообщество сложиться не может. В нескольких религиях, в том числе в древнем христианстве и в иудаизме, самым страшным состоянием является именно хаос, когда утрачены ориентиры добра и зла, когда все становится допустимым. Вполне понятны слова Павла Загребельного, который сегодня пытается понять общество, жившее по извращенным правилам несколько десятилетий подряд: «Що з нами відбувається? Ми мовби новонароджені діти. Самі не знаємо, чого нам хочеться, куди йти, як жити далі. Є побудження до мислі, але немає мислі. Є спонука до дії, але немає дії. Тоді що ж це? Життя? Ні, це божевілля, на яке ми й не знаємо, де копати зілля».
В прошлом бывало не всегда справедливо, но существовало строго сортированное общество с правилами, где было понятно, кто есть кто. Кроме того, отечественные элиты были породнены с мировыми, с европейскими, никогда не стремились существовать обособленно. Писатели, художники, купцы, промышленники и политики бывали своими в Берлине и Париже, в Каннах и в Баден-Бадене (многим это помогло выжить после Октябрьского переворота). Они не обнимались-соединялись поверх кордонов, как призывал безнациональных пролетариев Карл Маркс, а достойно входили в состав мировых элит, сохраняя приметы своей страны и своего национального происхождения. А как же еще?
Элиту величали у нас по-разному, иногда называли аристократией, понимая этот термин как нечто духовное. Аристократами были странствующий философ Григорий Сковорода, потомок чернокожего слуги Александр Пушкин, недавний крепостной крестьянин Тарас Шевченко, незаконный помещичий сын Александр Герцен и представитель древнего рода граф Лев Толстой. Принадлежность к аристократии надлежало выстрадать и постоянно подтверждать своим чувством справедливости, желанием эту справедливость бесстрашно отстаивать. Поскольку никакими классовыми критериями здесь и не пахло, аристократов любого рода, бедных и богатых, духовных и потомственных, большевики расстреливали и гноили с остервенением людей, занимающихся самозащитой. Удалось: искоренили…
После Октября первые формулы новой элиты предложил Ленин, сообщивший, что, конечно же, у нас всем владеют рабочие и крестьяне, но они еще не готовы для управления государством, поэтому надо создать элитную группу революционеров-партийцев («дюжину талантливых лидеров», как он сказал) и путь эта группа занимается делом. Чуть позже, 3 марта 1937 года, покончив со старой интеллигенцией, дворянством и всеми прежними элитами, Сталин, уже объявленный «Лениным сегодня», уточнил, что новую элиту составят 3–4 тысячи коммунистов — это «высший командный состав», 30–40 тысяч — «офицерский состав», 100–150 тысяч — «унтер-офицерский состав». А остальные? Их можно попросту «взять за морды». Классовый и полицейский принципы в отборе новых элит соблюдался строжайше. Тогда же, в 30-х годах, родилась грустная шутка, что, если бы на пост директора советского физического института претендовали буржуазный спец Альберт Эйнштейн и братишка с Балтфлота Ваня Хрюшкин, предпочтение бы отдали Ване…
Великий художник-реалист Илья Репин давно и с огромным уважением писал картины из жизни трудно работающих людей, сочувствовал им и, как своих «Бурлаков», делал таких людей объектами общественного внимания. Но репинское уважение к реальности не простиралось достаточно далеко, чтобы согласиться с новой властью, объявившей, что отныне общественные низы станут новой элитой и они-то теперь будут править пролетарским государством. Репин не верил этому до тех пор, пока к нему несколько раз подряд безнаказанно не ворвались пьяные мародеры. После этого художник предпочел покинуть страну. Композитор Сергей Рахманинов эмигрировал вскоре после того, как в процессе борьбы за социальную справедливость его дом ограбили дочиста, а любимое фортепьяно вытолкнули с верхнего этажа на улицу, чтобы послушать, как оно брякнет. Народный артист Шаляпин поглядел-поглядел на все это и тоже уехал. Скульптор Александр Архипенко из принципа взял себе украинский паспорт образца 1919 года и уплыл с ним подальше, за океан, тем более что обладателей таких паспортов в Киеве уже расстреливали. Перечислять дальше?
Неподалеку от Нью-Йорка я несколько раз посещал кладбища, где покоятся люди, которые вынуждены были бежать из Украины. На одном из них похоронен Архипенко. Под Парижем есть знаменитое мемориальное кладбище, где среди сотен великих россиян похоронены писатель Иван Бунин, художник Константин Коровин, танцовщик Сергей Лифарь… Прах балерины Анны Павловой покоится в Лондоне, композитора Игоря Стравинского — в Венеции. Перечислять дальше? Национальные элиты были расстреляны или вышвырнуты из государства большевиков. Бывший харьковчанин В. Горовиц стал за океаном известнейшим пианистом планеты, бывший одессит Я. Хейфиц возглавил реестры лучших скрипачей, В. Зворыкин изобрел в Америке телевизор, В. Леонтьев стал там же нобелевским лауреатом по экономике, выпускник киевской политехники И. Сикорский в эмиграции построил свои знаменитые вертолеты. Как такие люди, цвет нации, были нужны все эти годы ограбленной и обезглавленной стране!
…В конце 30-х годов уже взрастили молодежь, фортепьянами не увлекавшуюся, получившую в идолы Павок Корчагиных и Павликов Морозовых, не знающих сомнений знаменосцев новой морали, которые ни во что не ставили ни свои собственные жизни, ни жизни других людей. Молодых обучили ходить строем и внушили, что, по формуле новой власти, все мы «винтики», которые вполне заменяемы в любой конструкции. «Единица — вздор, единица — ноль!» — восклицал «лучший, талантливейший» поэт Владимир Маяковский незадолго до того, как он покончил с собой.
В процессе сортировки от молодежи, не вписывавшейся в систему, научились избавляться радикально; с 8 апреля 1935 года смертную казнь распространили на детей с 12 лет. Ничего нового: молодежь во всех тоталитарных обществах возглавляет кампании отказа от прежних ценностей и ее затем гонят под пули, на стройки, в топки разные Ленины-Сталины, Мао, Гитлеры и Пол Поты.
До 30-х годов общество сортировали, не допуская «лишенцев», то есть членов семей бывшей элиты, к учебе (только с 1935 года им разрешили учиться в школе) или к занятию государственных должностей. Прежняя элита выжигалась, что называется, каленым железом. К тому времени мы уже были изолированы от всего мира, не участвуя ни в каких международных конгрессах и соревнованиях кроме тех, которые проводили сами, а в литературе, кино и на сцене утвердился образ придурочного интеллигента, беспомощного дурачка-гимназистика и победоносного пролетария, вроде Максима из популярной кинотрилогии, который разгоняет всех банкиров в меховых пальто и босиком, со счетами в правой руке, налаживает работу национализированного большевиками банка. Все это были агитационные картинки для развлечения пролетариев, потому что в 30-х годах уже начала полноправно утверждаться новая элита, которую позже нарекут номенклатурой. Босиком номенклатурщики не ходили, а меховые пальто заимствовали без отдачи у тех самых «осколков прошлого». Супруга Калинина взяла для себя соболью шубу расстрелянной императрицы, а супруга Молотова выписала из Госхрана венчальную корону Екатерины II для подарка супруге американского посла. Сам Ленин занял имение великого князя Сергея Александровича в деревне Горки, где ему в 1924 году (юбилей!) предстояло помереть…
Тоска по чужой собственности заедала большевиков постоянно. Декретов, направленных на проникновение в чужие карманы, выпускалось несчетно. (Вроде: «Все владельцы стальных ящиков обязаны немедленно по зову явиться с ключами для присутствия при производстве ревизии стальных ящиков» или «Все золото и серебро в слитках немедленно конфискуется и передается в общегосударственный золотой фонд».) Грабили с размахом и при общем единомыслии вождей в грабительском деле. Мне встретились воспоминания одного из харьковчан, пережившего годы безвременья: «Троцкий, остановив свой поезд на пять минут в Харькове, приказал украинскому ЦИКу на всей территории Украины ввести красный террор… Часов с десяти утра до часов пяти пополудни вся Большая Новодворянская улица была очищена от жильцов, которым было разрешено брать с собой из квартиры только одну смену белья и больше ничего. Квартиры были оставлены жильцами в полном порядке, с мебелью, библиотеками, роялями, бельем, посудой; а самим выгнанным было предложено не толкаться на улице и не хныкать, а скорее убраться куда-нибудь к знакомым, так как уже с вечера в их квартирах должна начать нормальную работу Чрезвычайная комиссия по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией, кратко называемая ЧК… Около часу ночи по улицам города рассыпались «пятерки», имевшие в себе одного коммуниста на четырех беспартийных. Пятерки, беря с собой председателя домового комитета, входили в квартиры и производили «изъятие излишков»… Забирали все: наличные деньги, золотые часы, кольца, портсигары, ложки». Когда начались протесты по поводу того, что представители новой власти ведут себя, как обычные оккупанты, Владимир Ильич высказался и по этому поводу: «Перейду, наконец, к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и речь. Попало здесь особенно лозунгу «Грабь награбленное!» — лозунгу, в котором я, как к нему ни присматриваюсь, не могу найти что-нибудь неправильное». Может быть, это проблема семейного воспитания вождя, может быть — партийной политики, но лидер революции мыслил вот таким приблатненным образом.
До сих пор идут споры о судьбах награбленного. Бывшая империя была одним из богатейших государств; в ней большевики обчистили все банки, все квартиры, все ломбарды и магазины. В феврале 1922 года был издан еще и декрет об изъятии церковных ценностей, которые в прежнем государстве не были учтены. Большевики, попутно убивая священников и верующих (киевского митрополита Владимира оскопили, изуродовали и, пристрелив, голого выбросили на улицу), ограбили все церкви, костелы, мечети и синагоги (а только православных храмов в стране было больше 80 тысяч, и многие из них существовали по 300–400 лет). Золотые монеты ссыпали в ящики и мешки, паникадила и дароносицы плющили молотками, драгоценные оклады срывали с икон и книг. Воображаете, какие богатства были захвачены таким образом! Если верить болтовне, что эти сокровища принадлежат народу и будут поделены на равные части, то на каждого гражданина Советской страны определенно приходилось куда больше сребра и злата, чем на любого из сегодняшних кувейтских нефтеарабов. Но вместо изобилия на страну обрушилась нищета, начался голод, оскудение было таким, каких не упомнят и за столетия. Куда же исчезли баснословные наворованные богатства? Нам остались легенды о неких «общаках», затаенных в швейцарском банке. Впоследствии обнаружились несколько кремлевских сейфов, принадлежавших внезапно преставившимся видным большевикам, куда те ссыпали драгоценности «для личного пользования», но где же остальное? Нашлись только бумаги о покупке в Лондоне двух шестиэтажных жилых домов по 6 миллионов фунтов стерлингов каждый и об установке за 4 миллиона фунтов памятника над могилой Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в том же Лондоне. Где остальные награбленные миллиарды? Кто скажет?..
Когда Ленин со товарищи призывал к грабежу, откликнулись на этот призыв далеко не все. В своих воспоминаниях Владимир Набоков рассказывает, как само собой разумеющееся, историю, приключившуюся в Крыму, уже перед самым бегством его семьи из России. Вдруг «к нам подкралась разбойничьего вида фигура, вся в коже и меху, которая, впрочем, оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга, на буферах, в товарных вагонах, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, неожиданно присланные друзьями». Так что какое-то время кроме ленинского наказа грабить в обществе действовала еще и библейская заповедь «Не укради»… По отношению к этой заповеди люди раскрывались по-разному. Князь Оболенский в своих воспоминаниях пишет об одном из прежних друзей, ослепшем аграрии-виноделе: «В январе 1918 года Крым был занят большевиками, имение Голубева было превращено в совхоз, а в его доме поселились матросы-комиссары. Добравшись до его подвалов, они пьянствовали и дебоширили, а иногда приходили покуражиться над ним. Голубев жил на попечении старого кучера, который его кормил… Большевики отняли у него самый драгоценный ему предмет — пишущую машинку. Так он и сидел целые дни один, устремив мутные слепые глаза в пространство». Множество людей пробовали разобраться в происходящем, нашаривали пути сотрудничества с новой властью, выискивали в ней элиту, с которой можно иметь дело. «Он тщетно искал в установившемся образе правления каких-либо общих норм и принципов, чтобы положить их в основу своих отношений с новой властью, и совершенно растерялся, не видя вокруг себя ничего, кроме грубого насилия», — вздыхает Оболенский.
Как быстро разлетались вдребезги прежние представления о морали и чести, об устроенной жизни! Не у всех, конечно, только — у очень уж многих. Изменялись принципы общения — «классовых врагов» избегали, патриотично стало писать доносы, разоблачать вчерашних приятелей. В середине 30-х годов в Киеве накопились доносы на половину членов партийной организации города. На вечеринки ходить стало опасно — вдруг чего-нибудь сболтнешь спьяну…
Заметки эти — прежде всего о нас, сегодняшних, об уроках времени, о том, кто, куда и откуда пробирается в лабиринтах уже прожитых жизней, усвоенных и непонятых уроков. Менялись нормы порядочности и стандарты поведения, слои общества смешивались, отстаивались, путались…
Представления об интеллигенции и интеллигентности тоже менялись неоднократно, тем более что при советской власти к этому слову пришивали хвостики: интеллигенция становилась «трудовой», «гнилой» и еще какой-то. Самое главное, что для той части элиты, которая издавна считалась живущей усилиями своего ума, была в новом обществе выделена роль «прослойки», а ее моральные качества были не раз поставлены под сомнение. Чуковский приводит беседу, которую вели его друзья вскоре после Октября, принимая характеристики как должное и никого не осуждая: «Горький — двурушник… Когда он с нами — он наш. Когда он с ними — он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там, и здесь». За короткое время «Буревестник» опубликовал и заметки, разоблачающие большевиков, и апологетические статьи о Ленине и Сталине, стал одним из основателей нового Союза писателей и родил столь нужный властям лозунг: «Если враг не сдается — его уничтожают». Многими все это было воспринято как должное — ничего, мол, не поделаешь, жизнь диктует условия. Чуть позже тот же Чуковский записал фразу из своего разговора с Горьким: «Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя». Вырабатывалась привычка к жизни в Советской стране с ее единовластием и единомыслием, от которых было некуда деваться. Самое забавное, что такая ситуация смущала далеко не всех. Привыкали к тому, что единомыслие — не так уж и плохо, тем более что власть (надеялись многие) вот-вот оглядится, поймет, что была не права, и сделает все по-другому. Но власть не спешила меняться и закручивала гайки все туже. Шло отмежевание от прошлого вместе с его стандартами, его героями и его культурой — время разрывалось на части. Новую власть критиковать не разрешалось, да и немногие решались на такое. Процитирую директиву, которой руководствовался украинский Главлит во второй половине XX века и которая гласила, что необходимо изымать и запрещать «произведения, идеализирующие старину, уход в далекое прошлое», кроме того, было велено запретить «произведения, в которых обобщаются отрицательные явления нашей действительности, носящие временный характер и не типичные для нашего общества (например, бюрократизм некоторых звеньев советского аппарата, взяточничество, «блат» и др.)». В цековской записке о сценарии фильма Игоря Савченко про Тараса Шевченко отмечается, что требуется задержать съемки, поскольку: «Повествуя о пребывании Шевченко на Украине, автор чрезмерно широко показывает его в обществе панов…» Советские культурные элиты вызревали под надзором, старательным до идиотизма. В уничтоженной империи не было никакого «самодержавного реализма», у нас же появился «реализм социалистический», породивший самое ужасное, что может произойти с интеллигентской душой, — самоцензуру.
Сразу же скажу, что нет надобности идеализировать отношения деятелей культуры с государством ни в какую эпоху. И украинских бандуристов рубили вместе с бандурами за их пение прямо у дорог, и русский царь Алексей Михайлович в XVI веке приказал утопить в Москве-реке несколько сотен возов с гуслями, дудками, домрами и бубнами для пресечения «бесовских игрищ». Через триста лет после этого Лермонтов писал о Пушкине: «Восстал он против мнений света, один, как прежде, — и убит», а Леся Украинка в следующем столетии расказывала о том, как трудно «жив поет нещасний», который «мав талан до віршів не купований, а власний…».
Размышляю о писателях, потому что сам я один из них, а все интеллигентские взлеты с падениями прослеживаются на писательских судьбах довольно типично, но не лучше и не хуже, чем на всех прочих. Писатели бывали у нас заметной частью общества, а некоторые из них обретали время от времени статус «властителей дум», что в других странах случалось крайне редко. В бывшей империи с ними иногда заигрывали, как с Пушкиным, иногда пытались искоренить, как Шевченко, но всегда это было в рамках существующих общественных отношений и законов. Писатели служили власти, как Булгарин или Кукольник, спорили с властью, как Некрасов или Белинский, содержали французских певиц, как Тургенев, прибивались к антидержавным заговорам, как Чернышевский. Иногда писатели возносились до ранга тайного советника, как Державин, или до академика-графика, как Шевченко. Они же, как Шевченко, тянули лямку ссыльного солдата, их вешали, как Рылеева, карали за вольнодумство, как Радищева, или назначали цензорами, как Гончарова. Писателей убивали на дуэлях, как Пушкина и Лермонтова, отлучали от церкви, как Льва Толстого, они проигрывались в казино, как Достоевский, и сходили с ума, как Гаршин. История литературы полна жизнеописаний трагических и странных, но есть одна закономерность, которую точно сформулировал великий швейцарец Альберт Швейцер: «Когда общество воздействует на человека сильнее, чем человек на общество, начинается деградация». Именно поэтому мне гораздо больнее говорить о литературе советской, которая стала частью не общественной жизни, а аппарата власти и, слава богу, в основном умерла вместе с ним. Конечно же я не имею в виду Мандельштама с Ахматовой, Пастернака, Булгакова или Тычину в его вершинных взлетах. Но, поддавшись усилиям государства приспособить литературу к собственной пользе, слишком многие советские интеллигенты пошли на службу административной системе.
Это было полным выпадением из традиции! Владимир Набоков искренне удивлялся: «Писателей и книги можно запрещать и изгонять, цензоры могут быть мошенниками и дураками, рассвирепевшие цари могут бушевать, сколько им вздумается. Но что за чудное открытие сделано в советское время; имею в виду создание литературного сообщества, в котором сочиняют то, что государство прикажет…»
Совершенствовались методы приспособленчества. Существовали формы мимикрии, которые стали считаться приличными хотя бы потому, что не были связаны с доносительством. Одну из них излагает Аркадий Белинков, литературный критик, бежавший из страны в 60-х годах: «Поскольку пересматривать свое мировоззрение хочешь не хочешь, а все равно надо, то уж лучше это делать как следует, то есть не бросаться сразу, как свистнут, неприлично давя всех, с совершенно неуместными визгом и улюлюканьем, а прийти в подходящий момент и сказать, вот так, мол, и так. Говорить нужно с подкупающей искренностью, с достоинством и ощущением внутренней свободы, и в то же время с глубокими переживаниями». Этим методом пользовались мэтры, такие, как Максим Горький или Максим Рыльский, — здесь надо было иметь выправку и светскую репутацию. Но результат всегда был плачевен. Бордюгов, известный современный историк, пишет: «Примиряясь с революцией, интеллигенция сначала резервировала за собой право критически относиться к некоторым ее сторонам, например к политике власти в отношении интеллигенции. Затем, примиряясь с этой политикой, она резервировала за собой скептическое отношение к установлению некоторых нравственных норм. Потом, примиряясь с этими нормами, интеллигенция резервировала за собой право не принимать преобладание вокальной музыки над инструментальной и т. д. и т. п. В конце концов объект какого-либо резервирования сводился к нулю, оставалось лишь право «безоговорочно соглашаться».
У советской власти интерес к интеллигенции, особенно творческой, то обострялся, то исчезал напрочь. Сама интеллигенция — вернее, та ее часть, что сохранилась в стране, — дергалась, пытаясь выжить и сберечь достоинство в одно время, что бывало зачастую немыслимо. Власти были подозрительны и суровы. Вот выдержка из секретного доклада ОГПУ от декабря 1931 года: «В своей творческой практике антисоветские элементы среди интеллигенции (литература, кинематография) становятся на позиции грубого приспособленчества и политического лицемерия — во имя общественной маскировки, а в ряде случаев и материального благополучия. Вместе с тем ими создается подпольная литература «для себя»…» Иногда писатели перебирали меру. Даже Михаил Булгаков вдруг рванулся написать пьесу «Батум» о Сталине, и понадобилось вмешательство вождя, чтобы пресечь этот порыв. Алексей Толстой однажды так расстарался, произнося верноподданнический тост на правительственном приеме, что Сталин подошел к нему, хлопнул по плечу и перебил словами: «Хватит стараться, граф!»
Не все холуйствовали. Интеллигентское несогласие, даже сопротивление, иногда прорывалось в открытых формах, как диссидентские вспышки последних советских лет или подметные, уходящие за рубеж, письма разного рода, во многом похожие на письмо без подписей, распространявшееся в дни Первого съезда советских писателей (тоже юбилей, этот съезд собрали ровно 70 лет назад, в 1934-м). Письмо было адресовано иностранным гостям мероприятия: «Вы устраиваете у себя дома различные комитеты по спасению жертв фашизма, вы собираете антивоенные конгрессы, вы устраиваете библиотеки сожженных Гитлером книг, — все это хорошо. Но почему мы не видим вашу деятельность по спасению жертв от нашего советского фашизма, проводимого Сталиным. Этих жертв, действительно безвинных, возмущающих и оскорбляющих чувства современного человечества, гораздо больше, чем все жертвы всего земного шара, вместе взятые, со времен окончания мировой войны…» Настроения в писательских делегациях тоже были разнообразны. В своей записке от 31 августа 1934 года НКВД, в частности, сообщает партийному начальству о том, что творится в украинской делегации на писательском съезде. Цитируют слова поэта Михайля Семенко: «Все идет настолько гладко, что меня одолевает просто маниакальное желание взять кусок говна или дохлой рыбы и бросить в президиум… Разве можно назвать иначе, как не глумлением, всю эту лживую церемонию? Добрая половина людей, сидящих в зале, особенно делегатов национальных республик, страстно желала бы кричать о массе несправедливостей, протестовать, говорить человеческим, а не холуйским языком, а ее заставляют выслушивать насквозь лживые доклады вождей о том, что все благополучно…» (В 1937 году Семенко навсегда исчезнет в Соловецком концлагере; стихи его переиздаваться не будут.)
Постепенно высказываемые вслух претензии мельчали. Через год после создания Союза советских писателей Максим Горький пишет секретарю ЦК А. Андрееву о том, что «литератор живет на берегу моря, но не купается, что было бы полезно ему. Почему не купается? У него нет 3 рублей на покупку трусиков. А он ценный работник…».
Как все меняется: уровни мышления, интонации, сама жизнь!
Иронизировать можно сколько угодно, но в 1917 году растерянный философ Федор Степун восклицал, размышляя над случившимся: «Интеллигенция десятилетиями подготавливала революцию, но себя к ней не подготовила. Почти для всех революция оказалась камнем преткновения, большинство больно ударила, многих убила», а Зинаида Гиппиус вздыхала: «Мы — весь тонкий, сознательный слой России, — безгласны и бездвижны, сколько бы мы ни трепыхались. Быть может, мы уже атрофированы…» А теперь вот Горький пишет партийному начальству о трусиках…
Наблюдая всеобщее погружение в трясину, Максим Рыльский иронизировал в двусмысленном стишке:
Хоч номінально ми в Європі, В найкращій із її країн, Але фактично — в Конотопі, Що мучить нас, як сучий син!Провинциализация советской культуры была умышленна и ужасна. Ни в какие международные культурные ассоциации Советская страна не входила, было специальное постановление политбюро «О нецелесообразности участия в художественных выставках за границей» (кстати, тем же решением была одобрена продажа за границу трех полотен Рембрандта). Украинская культура страдала еще больше, находясь под двойным присмотром — из центра и от родимых доносчиков. Погружение в «духовный Конотоп» обрывало прежние связи, вышвыривало из общения с окружающим миром. Интеллигентнейшие друзья Рыльского по группе писателей-неоклассиков, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович погибли в концлагере. А сам Максим Тадеевич заплатил свою цену (Тычина называл это «Поцілувати пантофлю Папі») и был принят в партию специальным решением ЦК от 9 апреля 1943 года. 12 мая 1944 года таким же постановлением в партию зачислили Павла Тычину.
Иногда вожди снисходили до интимности с прирученными писателями. Вот несколько строк из письма Сталина драматургу Александру Корнейчуку от 28 декабря 1940 года: «Читал Вашу «В степях Украины». Получилась замечательная штука — художественно цельная, веселая-развеселая… Между прочим, я добавил несколько слов на 68 странице. Это для большей ясности. Привет! И. Сталин». Через два дня, 30 декабря 1940-го, специальным постановлением ЦК в партию была принята Ванда Василевская, супруга Корнейчука. А Михаил Шолохов и вовсе позволял себе панибратствовать с вождем. Вот строки из письма от 11 декабря 1939 года: «Дорогой товарищ Сталин! 24 мая 1936 года я был у Вас на даче. Если помните — Вы дали мне тогда бутылку коньяку. Жена отобрала ее у меня и твердо заявила: «Это память и пить нельзя!» Я потратил на уговоры уйму времени и красноречия. Я говорил, что бутылку могут случайно разбить, что содержимое ее со временем прокиснет, чего только не говорил! С отвратительным упрямством, присущим, вероятно, всем женщинам, она твердила: «Нет! Нет и нет!» Дальше Шолохов клянется, что к очередному сталинскому дню рождения он непременно допишет «Тихий Дон» и тогда уж точно вылакает пресловутую бутылку за здоровье вождя…
Так что вроде бы жизнь была — с общением, с полным отмежеванием от стиля «проклятого прошлого», о котором было запрещено думать и вспоминать.
…Общение — слово однокорневое с «обществом», и во все времена люди не могли подолгу выдерживать одиночество. Тем более раньше, во времена, когда еще отсутствовали телефон и телевизор, радио и массовая периодическая печать. Помните, роман графа Толстого «Война и мир» начинается французским текстом — это был язык дворянского общения — и описанием бала у фрейлины Анны Шерер, где были представлены «люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу». У балов, проходивших в мире, обреченном большевиками на разрушение, были свои сценарии и строгие правила. К балам готовились — это были праздники общения, показы мод, ярмарки невест. На балу не мог появиться человек, которому «отказано от общества», чья порядочность поставлена под сомнение. Балы происходили на разных уровнях, но без них невозможно было стать заметным среди «своего круга». Константин Станиславский вспоминает, как в годы его молодости «балы давались ежедневно и молодым людям приходилось бывать в двух-трех домах в один вечер… Приглашенные приезжали чуть ли не цугом, со своей прислугой в парадных ливреях на козлах и сзади, на запятках. Против дома, на улице, зажигались костры, и вокруг костров расставляли угощение для кучеров. В нижних этажах дома готовился ужин для приехавших лакеев… Чаще всего танцы кончались при дневном свете следующего дня, и молодые люди прямо с бала, переодевшись, отправлялись на службу в контору или в канцелярию»… Это не было любовью к разгулу, а — в основном — служило средством утоления тоски по цивилизованному общению. Балы давали даже те, кто не мог себе позволить этого слишком часто, — таковы были правила совместного бытия (помните, как отец Евгения Онегина, служивший «отлично, благородно», давал всего по три бала в год и все-таки «промотался наконец»). Императорские балы происходили под большие оркестры, но и на деревенских приемах, где сопровождать танцы своей игрой на скрипке или на пианино мог иногда один лишь местный учитель музыки, поведение приглашенных бывало строгим, а репутация, умение себя вести определяли место человека в обществе.
Конечно, случалось всякое, и рядом с бальными залами полагалось иметь одну или несколько комнаток с топчанами, где могли бы отлежаться перебравшие гости.
Общение происходило и в клубах; например, в Киеве с конца 30-х годов XIX века были Дворянский и Купеческий клубы (если приглядеться, среди потолочной лепнины в концертном зале Киевской филармонии можно увидеть жезлы Меркурия — в здании когда-то было Купеческое собрание), было Литературно-артистическое общество, был Украинский клуб. Работали свои театры и приезжали европейские, в том числе почти ежегодно — французский. А во время знаменитых Контрактовых ярмарок киевские балы и концерты гремели на всю Европу, к ним готовились подолгу, и бывали они заметны издалека…
На разных уровнях постоянно отрабатывались нормы общения, взаимной терпимости, сосуществования в обществе, которые въедались в кровь и не уходили никогда. В 20-х годах обнищавший писатель, бывший киевлянин Михаил Булгаков приходил в газету «Гудок», где он тогда работал, всегда в белых манжетах, крахмальном воротничке и аккуратно завязанном галстуке. Один из его коллег шутя рассказал, что Булгаков встретил его однажды утром в пальто, наброшенном на пижаму. Писатель покраснел, возмутился: «Такого не могло быть!»
В советские годы функции прежних балов были перегружены на митинги и демонстрации, где массовое общение происходило, но под строгим контролем. Как на балах все начиналось с торжественного полонеза, на демонстрациях начиналось с колонны знаменосцев, вместо распорядителя танцев был диктор, выкрикивавший лозунги из вчерашней «Правды». Тоже играл большой оркестр, будто на балу во дворце… Общество воспитывает своих граждан для жизни, которую им готовит: одно общество воспитывает таких людей, а другое — этаких.
Те самые люди, которых еще долгое время после установления советской власти называли «осколками разбитого вдребезги», не ломались так просто. В своем «Архипелаге…» Солженицын рассказывает несколько историй о человеческой несгибаемости, о том, как в нелюдских концлагерных условиях выживали именно те представители «старого мира», кто не сдавался и следил за собой. Это порода, воспитание, называйте как угодно. Лев Толстой в неоконченном романе о декабристах описал женщину, которая за сотню лет до ГУЛАГа разделила с мужем все тяготы ссылки, а затем все-таки возвратилась в столицу из Сибири: «Нельзя было представить ее себе иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она споткнулась или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно». Ах, как сладко поиздевались над такой публикой в новые времена!
…Когда вскоре после Октября советская правительственная делегация самого высокого уровня приняла участие в переговорах о перемирии с германской делегацией, многим казалось, что прошла целая геологическая эпоха от конца XIX века с его старомодными элитами и этикетами. Немецкий генерал Гофман вспоминает: «Против меня сидел рабочий, которого явно смущало большое количество столового серебра. Он пробовал то одну, то другую столовую принадлежность, но вилкой пользовался исключительно для чистки зубов. Прямо напротив, рядом с принцем Гогенлоэ, сидела мадам Биценко, а рядом с нею — крестьянин, чисто русский феномен с длинными седыми кудрями и огромной дремучей бородой. Один раз вестовой не мог сдержать улыбку, когда спрошенный, какого вина ему угодно, красного или белого, осведомился, которое крепче, и попросил крепчайшего». Новые хозяева жизни только еще осваивались, но лет через сорок с лишним, когда глава Советского государства будет стучать туфлей о трибуну в ООН, к этому отнесутся без удивления. Мир с трудом, но привык к нашим обновленным манерам.
Через полвека после выхода в свет романа «Война и мир» с бывшими элитами, а также с балами, графьями и бытовым французским языком в основном было покончено. Со времени Октябрьского переворота 1917 года все вожди новообразованного государства и по-русски разговаривали с акцентом или с ошибками (не говорю уже про руководителей Украины, которые украинского языка не знали, хотя, как Постышев или Каганович, иногда пытались его изучать). Ошибки в речи, поведении или манерах в расчет не принимались — формирование новой элиты требует времени, а в условиях, когда, как пелось в партийной песне, «кто был ничем, тот станет всем», — тем более. Вождь украинских большевиков Павел Постышев высказывался категорично: «Было время, когда представителями украинской культуры «пар экселянс» были прежде всего кооператоры, профессора и так далее. Эпигоны их сидят ныне на скамье подсудимых на процессе СВУ. Жизнь прошла мимо них. Пролетарская революция осудила их на погибель».
Элита гибла… Зато множество людей, из которых выжгли основы тысячелетней народной этики, представления о религии, о национальных традициях, получили возможность рвануть в политику и руководство страны. Культ малограмотности стал политическим принципом; вдохновенные люмпены приняли Октябрь с полным восторгом.
Поддерживая такие перемены, Надежда Крупская подписала инструкцию всем политпросветам. Супруга вождя революции приказывала изъять из библиотек и больше не издавать труды философов, расходившихся во мнении с ее мужем. Впредь запрещалось пользоваться произведениями философов Платона, Декарта, Канта, Спенсера, Шопенгауэра… Даже философские произведения Льва Толстого подлежали изъятию. Все доморощенные философы-демократы подлежали удалению из страны, а их произведения — безусловному запрету. Питирим Сорокин в 1922 году заканчивал книгу под характерным названием: «Влияние голода на человеческое поведение, социальную жизнь и организацию общества». Тогда же он узнал, что среди выживших до той поры представителей интеллигенции снова идут аресты. Он зашел в ЧК справиться, в чем дело, и его задержали, сообщив о заочном приговоре к высылке из Советского государства. Осенью из страны без всяких судов и следствий был выслан 161 человек, вершинные представители интеллигенции: ректоры Московского и Петербургского университетов, философы Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, Ф. Степун, С. Булгаков, тот же П. Сорокин, крупнейшие ученые, журналисты, писатели… С каждого брали подписку, что он никогда не вернется — в случае возвращения смельчакам грозил расстрел на месте. Все это было продумано и теоретически обосновано задолго до высылки — в известном письме Горькому, отправленном еще в сентябре 1919 года, Ленин пишет, что интеллигенция — это «не мозг, а говно нации». Себя он, видимо с полным к тому основанием, к интеллигентам не причислял…
Мы на горьком опыте усвоили, что при любых революционных переменах наверх выбрасывается и берет власть в свои руки далеко не лучшая часть общества, причем происходит это быстро и немилосердно. Высланный впоследствии философ Питирим Сорокин писал в начале 20-х: «Три с половиной года войны и три года революции, увы, сняли с людей пленку цивилизации, разбили ряд тормозов и «оголили» человека. Такая школа не прошла даром. Дрессировка сделала свое дело. В итоге ее не стало недостатка ни в специалистах-палачах, ни в убийцах, ни в преступниках. Жизнь человека потеряла ценность. Моральное сознание отупело. Преступления стали «предрассудками». Нормы права и нравственности — «идеологией буржуазии»…»
Рубили под корень. То, что большевики звали социальным экспериментом, было немилосердным опытом, поставленным на человеческих судьбах. Миллионы людей убили, миллионы были изгнаны из страны — вся структура общества изменилась неузнаваемо. Руководители переворота разогнали парламент и сразу же заявили, что никакой демократической борьбы за власть впредь не потерпят. Ленин постоянно напоминал: «Порядочно все, что совершается в интересах пролетарского дела». Главное для новой власти было — не смущать себя предрассудками. Одессит, один из поэтов опрокинутого общества, Эдуард Багрицкий призывал:
Если прикажут «Солги!» — солги, А если прикажут «Убей!» — убей.Разгром прежних элит, не умевших жить по таким правилам, был безжалостен.
Максим Горький вспоминает, как в 1919 году он рассказал Ленину про петербургскую княгиню, которая после Октября приходила на городские кухни и требовала костей для своих собак. Не стерпев унижений, она решила утопиться в Неве, но псы побежали за ней и воем заставили хозяйку отказаться от самоубийства. «Да, этим людям туго пришлось…» — задумчиво изрек Владимир Ильич. Корней Чуковский записывает в «Дневнике», как на кухне петроградского «Дома искусств» галантно раскланиваются, выпрашивая дешевые обеды, бывший князь Волконский и бывшая княжна Урусова. «В их разговоре французские, английские фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы и на лице покорная тоска умирания. Я сказал ему на днях: «Здравствуйте, ваше сиятельство». Он обиженно и не шутя поправил: «Я не сиятельство, а светлость…»
Когда-то английский писатель Дэвид Корнуэлл, известный у нас по псевдониму Ле Карре, под которым он опубликовал несколько политических детективов, переведенных на многие языки, спросил у меня: «Почему в вашей стране люди так неулыбчивы, иногда грубят без видимой причины, бывают бесцеремонны?» В вопросе не было никакой предвзятости — Дэвид хорошо знает нашу страну и не раз писал о ней. «Представь себе, — начал я отвечать, — что у вас выслали бы из Лондона всех либеральных философов, что уехали бы многие литераторы, ученые и музыканты; кроме того, расстреляли бы всю палату лордов, всех землевладельцев и вообще всех титулованных британцев, всех обитателей Букингемского дворца, начиная с королевской семьи…» — «Не надо, — перебил меня побледневший писатель, — я понимаю…»
Три с половиной века тому назад на Британских островах Кромвель пролил королевскую кровь, но даже тогда это было после судебного разбирательства и не влекло за собой разрушения всей структуры общества. Рубка голов во время Французской революции тоже несравнима по масштабам с происходившим в нашей стране. Тоталитарные режимы, несколько раз захватывавшие власть в европейских странах, все-таки пытались прибрать к рукам и использовать уже сложившееся общество с его механизмами. На полное разрушение окружающего мира решились только большевики.
Заварив кашу, революционеры ощущали постоянный дефицит времени. Все делалось ими горячечно быстро, без оглядки: 10 ноября 1917 года была отменена петровская Табель о рангах, 22 ноября объявлено о конфискации всех меховых пальто, 11 декабря — школы отделены от церкви, 14 декабря введена госмонополия банков, 16 декабря отменены в армии все воинские звания, с 21 декабря — отменены все прежние кодексы законов. Основаны народные суды, действующие на основе «революционного правосознания». Новое общество благословляет новых хозяев жизни чинить суд и расправу. Подвыпившие люмпены, кичащиеся пролетарским происхождением, не озабоченные общечеловеческой моралью и традициями, ощутили себя представителями новой элиты и перешагивали через культурные слои, перепрыгивали через традиционную мораль, вооружаясь классовым сознанием, издеваясь над «осколком разбитого вдребезги» — поганым интеллигентом в шляпе. Позже Александр Довженко огорченно запишет, что мы стали единственным в мире обществом, придумавшим термин «гнилая интеллигенция». Слово «старый интеллигент» стало знаком отчуждения от народа, а «народные», «новые» интеллигенты, не всегда умеющие читать-писать (на Первом съезде советских писателей было несколько неграмотных делегатов), начали с того, что по-быстрому научились выступать с разоблачительными речами на политических процессах. Николай Бухарин подводит под это теоретическую базу: «Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике». Видимо, эти «интеллигенты» уже не подойдут под ленинское определение из письма вождя к Максиму Горькому.
Интеллигентские воздыхания никому не нужны. Ленин уточняет: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть». Что хотим, то и воротим!..
Соученик Ленина по симбирской гимназии, поруководивший Временным правительством, которое ленинцы свергли, Александр Керенский писал, вспоминая события того времени: «В один поток слилась стихия революции и стихия разложения и шкурничества». Годы революционных разборок залегли в документах и мемуарной литературе кровавыми пластами, где много стреляют и мало живут по-человечески. Помню, как полвека назад я почти с недоверием читал воспоминания советского писателя Валентина Катаева о Дерибасовской, центральной улице родной его Одессы последних предреволюционных лет, где «духовой оркестр играл волшебно-печальный вальс, и такты, которые мягко отбивал пыхтящий турецкий барабан, улетали за пределы катка, отдаваясь в бриллиантово освещенных витринах Дерибасовской. И в душе моей было нечто такое щемящее, что я готов был заплакать от счастья». Неужели об этих же местах рассказывает будущий нобелевский лауреат Иван Бунин? Он едет по той же Дерибасовской, но уже в первые послеоктябрьские годы и наблюдает, как проспект «затоплен серой толпой, солдатней в шинелях навскидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и всем, всем, всем. А на тротуарах сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой навозный лед, горы и ухабы. На полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили многие мужики с бородами:
— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.
Я спросил:
— Так что же делать?
— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш…»
Все это не так просто, но жизнь сломалась на удивление быстро. Листаю книгу о правилах поведения в обществе, изданную у нас сто пятнадцать лет тому назад, и в первой же главе утыкаюсь во фразу, которая связывает репутацию страны и отдельных ее представителей с признаками давно забытыми, с тем, как люди разговаривают, ведут себя за столом, едят и пьют. «У приличного общества есть своя грамматика, свой язык, свой кодекс… Светский этикет европейских народов основан на благовоспитанности, которая имеет широкое и серьезное значение». Странно выглядевшая в советских условиях книга сообщает, как правильно общаться за столом с соседями справа и слева, и напоминает, что при каждой перемене вин надо пить из соответствующей рюмки или бокала. Авторы книги и вообразить не могли, что вскоре будут у нас руководители государства, хлещущие водку из стаканов, смеха ради (гы-гы!) подкладывающие друг другу торты на стулья и проводящие правительственные балы под гармошку (на кремлевском приеме для лучших женщин страны в 1935 году на гармошке играл маршал Буденный, пели частушки, а когда завели патефон с фокстротами, Сталин велел «прекратить эту пошлость»)…
…Помните, как в «Двенадцати стульях» Остап Бендер, герой, порожденный советским временем, верящий в его будущее («Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать!») и уже ощутивший свое могущество, всласть издевается над дворянином Воробьяниновым и священнослужителем отцом Федором, представителями некогда авторитетных сословий разрушенного революцией мира. Новые хозяева жизни шли в социализм с новыми манерами, сметая с дороги «наследие проклятого прошлого». Начинался новый век…
Мне не хочется верить злой иронии одного западного политолога, который на вопрос о том, сколько времени займет возрождение цивилизованного бытия в бывшей Советской стране, ответил: «То есть вы хотите знать, через какое время уха может снова стать аквариумом?»
…Век социальных экспериментов все-таки завершился. Три разновидности социализма: наш, то есть марксистско-ленинский, немецкий, то есть национал-социалистический, и европейская социал-демократия — осуществляли в XX столетии свои проекты на всю катушку, не стесняясь в средствах. Наш вариант существовал лет семьдесят, нацистско-фашистский — лет двадцать, а европейские социал-демократы приходили к власти то там то сям на несколько лет и быстро этой власти лишались, поскольку народ отказывал им в доверии. Самое главное, что обеспечило провал социалистического эксперимента, — ни в одной стране, возглавленной социалистами разных модификаций, жизнь не стала заметно лучше, а в Германии и у нас были к тому же черные годы бесправия и террора. Постиндустриальное общество, в которое мир входит сегодня, оглядывается на страшный опыт социальных фантазий и демагогии и все больше устремлено к здравому смыслу. «Социализм», «капитализм» — эти термины мало что означают в чистом виде; элементы социализма не погубили Швецию, а капитализм не сделал Колумбию процветающей…
Когда американские студенты допытывались у меня, чем плохи идеи коммунизма (нас учили — это самая благословенная стадия социалистического развития), я отвечал им, что идеи вовсе не плохи, даже замечательны. Все дело в том, что при попытке их осуществления были застрелены миллионы людей, еще миллионы уморены голодом и замучены в концлагерях. Я не считаю, что такую цену можно платить даже за райскую жизнь. Тем более что раем у нас и не запахло. Произошли чудовищные утраты национальных элит, лучших умов и древних родов, воплощавших непрерывность и благородство национальной истории. Взамен изгнанных и уничтоженных у нас так и не появились новые Бунины и Рахманиновы, Хвылевые и Курбасы, Стравинские и Шаляпины, Павловы и Нижинские. Как позже писал Владимир Нарбут: «Нагайками не выбьешь «Войну и мир»…» Потери в элитах невосполнимы, и никакие обещания социальных фантазеров не заменят перемолотых ими судеб.
Корней Чуковский, пытаясь понять происходящие процессы, обращается к классикам, перелистывает Льва Толстого: «Читая «Анну Каренину», я вдруг почувствовал, что это — уже старинный роман. Когда я читал его прежде, это был современный роман, а теперь это произведение древней культуры… Теперь — в эпоху советских девиц, Балтфлота, комиссарш, милиционерш, кондукторш — те формы любви, ревности, измены, брака, которые изображаются Толстым, кажутся допотопными». А чего мудрить? В сентябре 1918 года развод был упрощен, а церковные браки запрещены. Александра Коллонтай, заправлявшая у большевиков в этой сфере, указывала: «Семья перестала быть необходимой. Она не нужна государству, ибо отвлекает женщин от полезного обществу труда, не нужна членам семьи, ибо воспитание детей берет на себя государство». Николай Бухарин уточнял: «Ребенок принадлежит обществу, в котором он родился, а не своим родителям» (надо отдать должное «бухарчику» — в личном плане его предсказание сбылось; после расстрела Бухарина его сыну присвоили фамилию матери, Ларин, и отправили его в концлагерь, где Ларин просидел до «реабилитанса» 50-х годов).
В сентябре 1918 года вышли новые декреты о семье, браке и школе. Где вы, петровские указы, запрещавшие венчать девушек, которые не умеют подписать своего имени? Где вы, отныне отвергнутые обряды сватовства, обручения, венчания? Где вы, кормилицы, гувернантки, няни, бравшие на себя заботу о воспитании детей, обучавшие многому — вплоть до правильного произношения и хорошей походки (гимназии ведь появились только в начале XIX века, да и то в больших городах; домашнее образование долго еще оставалось в чести). Герцен писал, что его мировоззрение сформировал домашний учитель словесности студент Иван Протопопов да еще гувернер, француз-якобинец Буше. Леся Украинка воспитывалась и получала образование только дома, навсегда сохранив благодарность своим учителям. Константин Станиславский вспоминает, как родители «устроили нам целую гимназию. С раннего утра и до позднего вечера один учитель сменял другого; в перерывах между классами умственная работа сменялась уроками фехтования, танцев, катания на коньках и с гор, прогулками и разными физическими упражнениями. У сестер были русские, немецкие и французские воспитательницы…». Владимир Набоков запомнил всех своих домашних учителей, а среди них и «украинца, жизнерадостного математика с темными усами и светлой улыбкой». Где родители, разговаривавшие с детьми на «вы» и следившие за их воспитанием? «Мать, — вспоминает Набоков, — в гостиной нашего сельского дома часто читала мне перед сном по-английски… Прежде чем перевернуть страницу, кладет на нее руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым, голубиной крови, рубином (в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить комнату, людей, огни, деревья под дождем — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить за деньги, вырученные за это кольцо)». В другом месте Набоков вспоминает об одном из друзей дома: «Ко мне, ребенку, он обращался на «вы», — не с натянутой интонацией наших слуг и не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери… (словно хрупкое «ты» не могло бы вынести груз ее обожания) — но с учтивой простотой взрослого, говорящего с другим взрослым, которого он знает недостаточно коротко, чтобы ему «тыкать»…»
Куда девались невесты из многократно высмеянных в советские годы знаменитого Смольного института или Институтов благородных девиц, работавших на Украине в Киеве (для правобережного дворянства) и Полтаве (для левобережного)? Девушек из далеко не зажиточных семей учили там домоводству, иностранным языкам, хорошим манерам, танцам, музыке (ей, кстати, обучал в киевском институте Микола Лысенко). Выпускницы получали дипломы «домашних наставниц» и шли преподавать в дома побогаче. Исчезли, оставшись посмешищами в гоголевских и чеховских пьесах, свахи, сводившие молодых и знавшие, где водятся женихи и невесты «соответствующего круга». Процесс сватовства и замужества был обставлен множеством ритуалов, куда — на всех уровнях общества — у крестьян, мещан, дворян — входила непременная беседа с родителями невесты, официальный «сговор». Сговариваться с девушкой без родительского согласия считалось неприличным, хотя жизнь есть жизнь и гоголевский Афанасий Иванович «увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него», а Курагин в «Войне и мире» пробовал соблазнить и похитить Наташу Ростову без всяких благословений…
Но, преодолевая сложности, брак совершался прекрасно! Известный своими заметками о жизни наших предков в XIX веке маркиз де Кюстин описывает одно из виденных им венчаний по православному обряду: «Стены и потолки церкви, одежды священников и служек — все сверкало золотом и драгоценными каменьями; люди самого непоэтического склада не могли бы взирать на все эти богатства без восторга… Перед благословением в церкви, по обычаю, выпустили на волю двух сизых голубей; они уселись на золоченый карниз прямо над головами молодых супругов и до самого конца церемонии целовались там». На другой день после свадьбы молодым полагалось делать визиты, а затем устраивался свадебный бал. Считалось, что от знакомства до брака проходит около полугода, а осенние браки благополучнее весенних и летних, потому что молодые, которые женятся осенью, встречаются летом и успевают разглядеть друг друга в деле, в хозяйстве, во дворах, а не только на балах и зимних посиделках, как те, кто сочетается весной (помните: «Жениться в мае — всю жизнь маяться…»).
Все эти подробности уничтоженной жизни ушли быстро и, кажется, навсегда. Я достаточно циничен, чтобы не ахать по поводу целующихся над алтарем голубков, но флирт Остапа Бендера с мадам Грицацуевой или твердость руки Марютки из «Сорок первого», убивающей возлюбленного по причинам классовых разногласий, тоже не вызывают восторга. Помню, что и мой процесс бракосочетания занял минут десять в ЗАГСе и чуть больше — в разговорах с родителями; был еще домашний обед с друзьями и родственниками. Не знаю, прогресс ли это, тем более сейчас, во времена все ускорившей сексуальной революции и однополых браков, уже регистрирующихся во многих странах.
Если уж вдаваться в теорию, то напомню, что у философов не существует единого определения прогресса, тем более — в личной жизни. Отсталый Гегель считал, что критерием прогресса является увеличение свободы в обществе. Передовой Маркс объявил критерием прогресса развитие производительных сил. В обществе, исповедующем марксизм, появились термины «человеческие ресурсы», «рабочая сила». Человек, семейный или одинокий, с общественного дна или из «новой элиты», занимал свое место в строю и расценивался как воспроизводимое природное сырье, вроде леса. Его швыряли во все горнила без жалости; при этом марксисты считали свои догмы абсолютной истиной, а себя — мессиями, несущими человечеству счастье. Они тоже были взаимозаменяемы, эти философы (помните сталинское: «Незаменимых людей нет!»?), и послушно растворялись в своем деле. Зато считалось, что их устами говорила история, а современные люди — глина, из которой предстоит вылепить будущее. Потери на этом пути неизбежны, но все они — на благо несмышленого человечества. «Не можешь — научим, не хочешь — заставим!» Николай Бухарин уточнил: «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная с расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Человеческие материалы всех стран, соединяйтесь!
Иван Бунин незадолго до отбытия из Одессы в эмиграцию записал: «Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, равенство, братство, социализм, коммунизм!» И вывеска эта долго еще будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею народа».
Уселись очень вскоре, почти сразу.
Бывший киевский политик и газетчик, убежденный монархист Василий Шульгин, которому довелось принимать отречение от престола последнего российского императора, писал в «Трех столицах»: «Без панов жить нельзя. Что такое «паны»? «Паны» — это класс, который ведет страну. Во все времена и во всех человеческих обществах так было, есть и будет. Его называли: высшими кастами, аристократией, дворянством, буржуазией, интеллигенцией, элитой, классом «политиканов», «революционной демократией» и, наконец, на наших глазах называют «коммунистами» и «фашистами». Иногда правящий класс окрашивается в национальные цвета, и тогда его называют то «варягами», то «ляхами», то «жидами». При всей разности у всей этой формации людей есть нечто общее…»
Вначале у нового «панства» со старым общими оказались дворцы, винные погреба, меховые пальто и бриллианты. В смысле: новые хозяева присваивали себе собственность прежних. В харьковской летописи революционных лет сохранилось одно из воззваний того времени: «Мы должны ограбить у буржуазии те народные миллиарды, которые хитрая буржуазия превратила в шелковое белье, меха, ковры, золото, мебель, картины и посуду».
Ну ладно, одна мечта сбылась, ограбили. Что дальше? Как и кто будет править ограбленной страной? В «Апрельских тезисах», сочиненных в революционном 1917-м, Ленин пообещал, что после захвата власти его сторонниками возникнет совершенно новый аппарат власти, где «плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего», и вообще Страна Советов будет «новым типом государства без полиции, без постоянной армии, без привилегированного чиновничества». Нарушение этих обещаний и легло в основу придуманного Ильичом общества.
Дело в том, что вскоре после прихода к власти Ленина осенила гениальная идея о новой сортировке населения и принципах управления им. Он решает поставить под контроль все запасы еды и, выдавая ее, сделать хлеб мощным средством управления государством. Так же как раньше вождь отслеживал, чтобы в частных руках не осталось денег и, кроме госхранилищ, ценности нельзя было сберегать больше нигде, так и теперь он поставил перед единомышленниками новую задачу: «Ни один пуд хлеба не должен оставаться в руках держателей. Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, врагами народа, предавать их революционному суду». При этом, ясное дело, определять, что такое «излишек хлеба», имела право исключительно новая власть. «Распределяя его, — подчеркивал Ильич, — мы будем господствовать над всеми областями труда».
А дальше — просто. Новой элитой страны стали те, кого в тюрьмах зовут хлеборезами, то есть — пробившиеся к распределению харчей. Даже самые правоверные большевики понимали, что никто без хорошей подкормки на них работать не будет, поэтому новая элита формировалась не вокруг принципов, а вокруг кормушек, которые, по-своему, тоже были точками приложения принципов. Если бы, как кричали на митингах, в грядущем мире предвиделось распределение «по способностям» или, не дай бог, по репутациям, самые шумные большевики первыми рванули б на баррикады, потому что с образованием и порядочностью у большинства из них было туго. Но хватательный рефлекс развился очень быстро, и его закрепили.
Захватывали все — чужое движимое и недвижимое имущество, автомобили, дачи, продукты и винные погреба. Бывшие царские курорты, всякие крымские Ливадии с Алупками, мигом превратились в места отдыха новых хозяев жизни. Уже в 1918 году была организована столовая для «народных комиссаров», где подавали на изъятом севрском фарфоре. Оглядев меню, Ильич посетовал, что «грузины без вина никак не могут», и для Сталина нашлись коллекционные вина. Ленин лично контролировал доставку продуктов в кремлевские столовые. В рационе всегда должно было числиться по нескольку сортов икры, рыбные деликатесы, сыры, а также грибочки с огурчиками, к которым вождь пристрастился за время ссылки в Шушенском.
Сохранилось меню обедов Дзержинского за 1920 год, тот самый, когда в стране царил голод, а в Поволжье фиксировали случаи людоедства: «Понедельник — консоме из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски. Вторник — солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцами. Среда — суп-пюре из спаржи, говядина-булли, брюссельская капуста». И так далее. Тем временем в стране распространяли байки про голодные обмороки вождей. Знай народ правду, он бы из кое-кого сделал «шпинат с яйцами»…
В дневниках Корнея Чуковского есть запись о том, как гневался Максим Горький, до которого доходили слухи о начальственных рационах: «Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо — пускай отпустят за границу, раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. А провизия есть… в Смольном куча икры — целые бочки… Вчера у меня одна баба из Смольного была, так они все это жрут, но есть такие, что жрут со стыдом…»
Впрочем, стыд, как говорится, глаз не выедал, а в своей любви к привилегиям революционеры уверенно продолжили традиции свергнутого ими строя. Разве что у советских правителей все делалось втихаря, тогда как прежние правители не стеснялись выставить напоказ даже плоды своих нелепых решений…
Например, последний гетман Украины Кирилл Разумовский заказал себе в Лондоне персональную карету со специальным механизмом для вкатывания туда постели. Это было столь небывалое сооружение, что до самой отправки ее в Батурин, в гетманскую резиденцию, карету демонстрировали англичанам за деньги, выручив на таком показе несколько тысяч золотых рублей. Доставка кареты обошлась гетману в 18 тысяч тогдашних рублей — сумма небывалая. Когда же Разумовский решил карету опробовать, оказалось, что восьмерка лошадей с трудом протащила ее четыре версты и встала…
Тогда же, в знаменитые эпохой реформ екатерининские времена, почти одновременно с отменой гетманщины и переводом Разумовского с его нелепой каретой из гетманов в генерал-фельдмаршалы, Екатерина II впервые в родимой истории приказала официально платить зарплаты чиновникам. До этого многие годы канцелярские служители разных рангов кормились исключительно тем, «кто что даст по своей воле». И за взятки считался явный перебор, когда чиновника заносило и он брал больше, чем ему было положено. А поскольку каждый сверчок был обязан знать свой шесток, всем было положено по-разному и все по-разному брали…
Например, после смерти Григория Потемкина императрица Екатерина II пожаловала один из его дворцов полководцу Суворову. Сокрушитель вражеских армий не любил роскоши и немедленно потребовал, чтобы все пуховые перины во дворце заменили мешками со свежим сеном, а при перестройке убрали большинство зеркал и выбросили золотую ванну. Все эти приказы были выполнены немедленно и охотно. Куда так быстро исчезли удаленные пуховики и золотая ванна, до сих пор неизвестно. Никто этому не удивился и почти не искали: мол, надо же дать возможность перестройщикам заработать…
Привилегии-приработки, пусть не такие нелепые, существовали на всех уровнях и бывали узаконены. В старом Киеве урядник, самая низкая должность в магистратуре, получал дополнительно к зарплате 12 ведер вина, меда и пива, 12 бревен и 12 возов дров. Писарь — чиновник рангом повыше — имел уже 50 ведер вина, меда и пива, 50 бревен и 50 возов дров. А вийт, высокое начальство, имел право еще на хутор с сеножатью и озером, а также получал всего по 100 — бревен, возов и ведер, плюс 10 ведер вина добавочно на Пасху. Так было не только в Киеве; почему-то считалось, что подкормленные чиновники воруют меньше.
Но чиновники приворовывали всегда и при любых обстоятельствах. Я нашел забавный документ о том, что, когда императора Павла I мучил насморк, врач посоветовал ему смазывать нос салом. С тех пор по требованию, присланному из дворца, «для лечения носа императора» туда ежедневно поставляли пуд лучшего сала. Тот же Павел I однажды решил опроститься и запретил во дворце «особые столы» для себя и семьи. Ну и что? Многие чиновники украдкой столовались отдельно…
Бывали подношения одноразовые, но значимые. Екатерина II, например, на каждый Новый год привыкла получать огромное золотое блюдо с грушами, ананасами, персиками, сливами, абрикосами. С утра, волнуясь, она всегда ждала подношения. Примеров таких может быть множество, и не секрет, что система подношений существует вне времени, будучи ограниченной по закону только в нескольких странах. Но повторяю, жизнь большевистских чиновников, новой элиты нового мира, была возведена в ранг государственной тайны. Этот господствующий, эксплуататорский и привилегированный класс советского общества был совершенно из общества выделен и отделен от него тысячей перегородок. Для новой элиты главным стала не власть и не служение делу, а привилегии, приложенные к должностям.
При этом любой советский чиновник никогда не был уверен в своем будущем. Могли возвысить, а могли прийти в кабинет, забрать и затоптать сапогами в подвале. Даже в более поздние времена, когда сапогами забивали не так часто, зависимость от системы привилегий, от кормушки сохранялась во всей строгости. Помню, как в конце 80-х годов я пришел, клянча какие-то очень секретные документы для публикации, к тогдашнему министру КГБ В. Чебрикову. Тот уже с порога от меня отмахнулся. «Я ухожу в отставку. По всем вопросам иди к моим заместителям, — пробурчал он и вдруг спросил: — У тебя есть машина?» — «Есть», — ответил я. «А у меня нет… У тебя есть дача?» — «Есть». — «А у меня нет. В общем, понимаешь, у меня было все, положенное по должности, все было казенным, а сейчас, без должности, я тоже хотел бы жить не хуже тебя…»
На любом уровне чиновники обязаны были ощущать зависимость от системы и ее подачек. Система умела управляться с теми, кто ее терпеть не мог, научилась подкармливать тех, кто ей верно служил. Больше всего она не любила тех, кто пытался стать от нее независим, избегал ее наказаний и не нуждался в ее подачках. Зависимость же от властных льгот была системе приятна…
В последнем романе выдающегося украинского политика и писателя В. Винниченко один из героев, разочарованный советскими переменами, пишет брату: «Так, так, ти прислужився Україні й збудував соціалізм. Та який прекрасний! Які чудесні дачі, вілли, автомобілі, яхти у Сталіна та його яничарів-міністрів! А які коханки! А які горілочки, вина, кав’ярні У царя такого соціалізму не було». Герой Винниченко очень старался, но «недополучил»…
Сегодня я знаю многих интеллигентов, которые бедуют и во всем обвиняют не себя, а очередную власть, которая, мол, недорассчиталась с ними, так преданно ей служившими. Есть еще один вариант — это обида на народ, который не соответствует интеллигентским ожиданиям, возлагавшимся на него. Пушкинская ирония в этом смысле всевременна:
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит жизни клич. К чему стадам дары свободы? Их можно резать или стричь.Недавно у одного из современных политологов (В. Третьякова) я наткнулся на перечень признаков, которые, по мнению исследователя, свойственны нашей интеллигенции едва ли не во все исторические эпохи. Первое — это постоянные требования денег у власти. Второе — постоянное недовольство народом (при царе, при большевиках, при современных властях). Третье — преклонение перед богатством, роскошью, большими деньгами. В совокупности, мол, это приводит к тому, что, когда интеллигенция обеспечена сама, о нищете народа она не вспоминает, но, когда ее достаток падает ниже желаемого уровня, она тут же начинает жалеть народ… Дальше, анализируя состояние нашей интеллигенции, сформировавшейся под прессом нескольких едва ли совместимых традиций, исследователь пишет о том, кем она, по его мнению, «претендует быть»:
«1. Быть умнее других (народа и власти); 2. Быть честнее других (народа и власти); 3. Быть моральнее других (народа и власти); 4. Быть воспитанней других (народа и власти). То есть интеллигенция — это не власть и не народ». А кто?
Можно принимать это или не принимать, но призадуматься стоит.
Партия родила свой правящий класс, а затем этот класс рассортировал общество, повлиял на множество отношений и оценок в нем и устроил собственную жизнь, как умел. Это было нетрудно, так как безнравственная власть внушила всем ощущение полной своей безнаказанности и научила граждан путать такие разные понятия, как Отечество, государство, страна. Более того, государство поручало совершить преступление, заверяя, что всю ответственность оно, государство, возьмет на себя. Я разговаривал с бывшими палачами, со следователями, калечившими и казнившими невиновных, — у этих людей не было никакого ощущения вины; как будто их загипнотизировали.
Об этом много написано, и не стану сейчас повторяться. Один из главных исследователей номенклатуры, югославский политик Джилас писал, что Маркс скончался в Лондоне как нищий эмигрант, но ценимый философ, Ленин умер предводителем революционеров, а Сталин — божком. Новые божки повели себя совсем не по-божески, но подтвердили ленинский тезис о том, что госаппарат складывается как система господства одного класса над другим. Только так.
Эти заметки написаны вовсе не с той целью, чтобы в тысячный раз пожурить вечных хозяев жизни — ее прожорливые элиты, которые как бы сами выползают наверх из всех норок и хозяйничают, словно мыши на кухне, где нет кота.
То, что многие сегодня зовут революцией, произошло в нашей стране так же директивно, как множество других изменений — от директивно установленного в Древней Руси христианства до директивного воссоединения в Переяславе, до директивного развала империи на полтора десятка новорожденных держав. Мы вроде бы движемся по направлению к постиндустриальному обществу — это единственное направление, совпадающее с мировыми тенденциями прогресса. Но у нас при этом не осуществляется ни китайский вариант целенаправленных начальственных реформ сверху, ни волна осмысленных преобразований снизу — как в странах Восточной Европы. Будто бы восстал Ильич с мавзолейного ложа и еще раз взмахнул ручонкой: «Мы пойдем другим путем!» Пошли. А каким?
Описаны три проверенных способа смены правящих элит. Первый мы усвоили лучше всего — это большевистская ломка с беспредельным насилием. Есть еще реформистский метод — им воспользовался Петр I, вводя свою Табель о рангах. Можно еще покупать лояльность чиновников деньгами и льготами — так делают в Азии, некоторых странах Латинской Америки и, частично, у нас.
Элиты формируются медленно и умирают с обществами, в которых созрели. Как элита разрушенной империи пыталась приспособиться к жизни в новом обществе и вымирала в нем, так и сейчас прежняя номенклатура освобождается от партийного имиджа, частично вымирая, а частью трансформируясь в новую элиту. Среди нынешних управленцев — до 70 процентов тех, кто работал в старых властных структурах, и они всячески демонстрируют свою способность перемениться. Недавняя номенклатура была однопартийной, нынешняя — плюралистична и многопартийна, ну и что?
Павло Загребельный разводит руками: «Учора нам втовкмачували, що ідеал світлого кохання незмірно вищий і дорожчий за хліб щоденний і поцілунок коханої, сьогодні «зримые черты» замінено ринковим раєм, вільною конкуренцією (замість сталінсько-ленінського «соцсоревнования»), європейсько-атлантичними ідеалами, і знов наш нещасний розум неспроможний позбутися пригнічення».
Но должен же быть выход! Двадцать лет назад (тоже юбилей?) Тенгиз Абуладзе снимал свой знаменитый фильм «Покаяние», который заканчивается всем известными словами о необходимости отыскать дорогу к храму. Начинается фильм не менее поучительно: сценами многократного выкапывания и погребения одного и того же трупа, неумения и нежелания уйти от прошлого и сосредоточиться на извлечении из него уроков.
Сегодня, обсуждая подобные вопросы, многие ученые с надеждой приводят пример германской судьбы в XX веке, когда по сути те же самые люди, но в обществах, устроенных по-разному, повели себя непохоже. Нравственность населения меняется медленно, но уровень нравственности германской власти изменился в лучшую сторону, и это резко поменяло всю жизнь.
Эти заметки я начал со слов о юбилеях — 240 лет назад в Украине закончилась гетманская власть. С тех пор отсюда уходили царизм и власть советская. Пройдя горнила нескольких общественных устройств, нескольких систем жизни, чему мы научились?
Мы получили в наследственное владение то, что имеем, — такую страну и такой народ, — ничего другого у нас не будет. Это — как унаследовать старое жилье и начать с того, что громогласно ужасаться его состоянию. Можно, конечно, выйти еще раз на площадь и громко рассказывать всем, до чего плохое наследство досталось нам, как предки не берегли дом, пили, безобразничали, дядя в карты проигрывался, и вот сейчас приходится латать то крышу, то стены, а денег нет. Может быть, надо решительнее влиять на обстоятельства? Может быть, попробовать перестроить дом? Как именно? Сам не знаю…
На посошок
С переменой государственного устройства перемешиваются слои общества. Образ поведения и жизни при этом меняется в зависимости от того, какой слой оказывается на самом верху. Прежний стиль бытия сохраняется самое большее в течение двух поколений, пока еще живы учителя, воспитанные в нем, а затем приходят новые люди, новые привычки, даже новый словарь. Сегодня мы знаем, что Октябрьский переворот не привел на общественные вершины рабочих и крестьян, которым, вопреки митинговым обещаниям, не дали ни земли, ни фабрик, ни заводов. Но, настрадавшись, мы многому научились в XX веке и в конечном счете выстояли, сберегли душу. Те на Западе, кто говорит, что возрождать нас к цивилизованной жизни так же безнадежно, как уху воскрешать в аквариум, не желают понять этого. Бог с ними… Главное, что мы не заблудились в истории. Те, кто насыщал жизнь байками о светлом будущем, лишали нас непрерывности бытия, скрывая от нас прошлое, затаивая его, издавая сочинения исключительно о том, как угнетенные трудящиеся варили кашу на кострах и размахивали красными флагами.
Слава богу, не забылась другая жизнь. Вопреки всему, на самом деле существует то, что красиво зовется «эстафетой поколений». Помню деда, который выходил к воскресному обеду только в чистой белой рубахе и не садился, если рядом с ним стояла женщина. Помню еще многое, что я старался передать своим детям и чему сыновья будут учить моих внуков. Эстафета эта не сугубо семейная. Если у вас не сбереглись личные воспоминания, надо заглядывать в литературную классику, одно из самых честных зеркал. Для этой книги я черпал информацию из летописных сведений и старых писателей, из Державина и Крылова, Гоголя и Герцена, Бунина, Чехова, Куприна, Набокова, из современников — от Катаева до Солоухина и Загребельного… Выписки и закладки в прочитанном я делаю уже много лет. Работая над этой книгой, перечитал немало собственных записей, в сотый раз пролистал журналы — от «Киевской старины», которой в XIX веке зачитывались прабабушки (несколько переплетенных комплектов до сих пор хранятся у нас в семье), до «Всесвіта» и «Огонька», которые я редактировал в конце XX века.
Информации стало больше: за последние годы на нас обрушился мемуарный дождь. В нескольких томах переизданы очерки французов де Кюстина и Дюма о том, как жили наши предки полтора с лишним века назад, вышло немало воспоминаний, до которых попросту нельзя было добраться в советское время. (Помню, как мы были в Париже с Булатом Окуджавой и он буквально по страничке собирал у эмигрантов издания-переиздания 20-х годов, как я скупал у букиниста книги и разрозненные номера журналов, выходивших здесь в середине прошлого века. Многие приведенные здесь примеры — оттуда.) Я как бы сращивал собственную и чужие жизни, листая страницы, в достоверности которых сомневаться не мог, перечитывая сборники исторических былей, небылиц, анекдотов — прошлых веков (и нынешние, собранные покойным Юрием Никулиным). А многоязычные руководства по этикету! А поваренные книги! Иностранные и наши: от классической Елены Молоховец до не менее классического Вильяма Похлебкина! И конечно же современные исследования старого быта — Юрия Лотмана и Нонны Марченко, Павла Романова, Анатолия Макарова и Елены Лаврентьевой — с ними многое становилось объемнее, предметнее и понятней. Я очень благодарен этим исследователям, которые не только помогали увидеть события, но и подсказывали мне направления поиска.
Очень непросто было находить достоверные книги о жизни правителей минувших веков; нет мемуаров, сочиненных ими самими. В середине XX столетия традиция изменилась; кое о чем рассказали Владимир Винниченко и Александр Керенский, появились книги Аллилуевой, хрущевские воспоминания, интервью Горбачева. Сегодня из серьезной газетной периодики тоже можно вылущить множество информации о том, что ели Владимир Ленин и Феликс Дзержинский, как вели себя в быту Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Особенно признателен я Александру Яковлеву, благодаря усилиям которого удалось прочесть многие материалы политбюро, достоверно фиксировавшие стиль мышления и бытия недавних вождей. Говорят, что старые зеркала живут собственной жизнью, сохраняя в себе все отражавшиеся в них лица. Зеркала бьются к несчастью; давайте будем беречь их и протирать, заглядывать в них, сращивать времена, воскрешать забытые, обращенные к нам лица и голоса. Сегодня мы возвращаемся по следу и видим, что дом наш не порушен в фундаменте. Его надо основательно ремонтировать, но жить в нем можно уже сейчас. Все зависит от того, как мы будем хозяйничать в собственном доме…






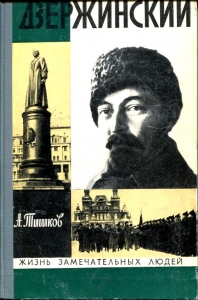


Комментарии к книге «Застолье в застой», Виталий Алексеевич Коротич
Всего 0 комментариев