Юрий Александрович Олсуфьев Из недавнего прошлого одной усадьбы
© Вздорнов Г. И., 2009
© Изд-во «Индрик», 2009
© Коноплев А. Б., 2009
* * *
INSANIA Графу Ю. А. Олсуфьеву
Воскресшей памятью, к истлевшим именам Я уходил, неосторожный, В померкшие поля, по стертым ступеням. С душой тоскующей мешая фимиам, Как с этой пылью придорожной. В туманной прелести морская полоса, Сквозь дым скользящий, протекала, И ветер шевелил и трогал волоса, И утра брезжила тревожная краса, Вставало солнце – и сверкало. И в дымной пристани проснулись корабли, В песок окутанные вязкий. Их крылья в небосвод подняться не смогли. И маки темные стоят. И отцвели У мутных вод забытой ласки. Отчалить медленно на чутком корабле? Соленый ветер развевался. Но снасти сплетены в запутанном узле. Остаться… Или плыть к невидимой земле? И я стоял – и колебался: Там гордых мучениц горячая тоска Свою любовь запечатлела За медной тишиной и тяжестью замка. Да не дотронется случайная рука Их недоступного предела. Василий Комаровский1909О Юрии Александровиче Олсуфьеве
Автор публикуемых воспоминаний – Юрий Александрович Олсуфьев – человек далеко неординарной судьбы. Аристократ по рождению, юрист по образованию, человек разносторонних гуманитарных знаний, он вошел в историю отечественной культуры как замечательный ученый-медиевист, выдающийся организатор музейного и реставрационного дела. В воспоминаниях он обнаруживает еще одну грань своего таланта: «Из недавнего прошлого одной усадьбы» (или, по другому предполагавшемуся названию, «На слиянии двух рек») – превосходный образец мемуарной литературы, источник разнообразных сведений по истории русской жизни конца XVIII, XIX и отчасти начала XX века. Но не только историческая добросовестность определяет существо воспоминаний Ю. А. Олсуфьева. Они дают на редкость сочную картину дворянского усадебного быта эпохи, которая почти не нашла своего воплощения в мемуарной литературе. «Из недавнего прошлого» – неповторимое свидетельство о деревенской, а отчасти и столичной жизни такой России, которая невозвратно исчезла в годы первой мировой войны и двух революций – Февральской и Октябрьской. Воспоминания написаны на пятом году Октября, но уже тогда они воспринимались как сон, как «не может быть».
Воспоминания «Из недавнего прошлого» имеют подзаголовок «Буецкий дом, каким мы оставили его 5-го марта 1917 года». Речь идет о родовой усадьбе Олсуфьевых Красные Буйцы в Епифанском уезде Тульской губернии. Расположенная, по-старому, на северных рубежах Дикого поля, при слиянии рек Буйчика и Непрядвы, эта усадьба впервые упомянута под 1663 годом, когда она была пожалована царем Алексеем Михайловичем одному из предков Юрия Александровича. Первый усадебный дом и каменная церковь в Буйцах, развалины которой сохраняются и по сей день, были выстроены в конце XVIII века по инициативе князя Александра Михайловича Голицына – вице-канцлера и обер-камергера Екатерины II, известного также своими благотворительными начинаниями в Москве. Но до второй половины XIX века Буйцы почти не использовались для постоянного пребывания семьи Олсуфьевых, члены которой жили либо в Петербурге, либо в Москве. Впервые Буйцы были основательно приспособлены для летнего отдыха родителями Юрия Александровича в 60–70-х годах XIX века, а местом постоянного жительства они сделались только в начале следующего, уже XX столетия.
Юрий Александрович Олсуфьев родился в 1878 году в Петербурге на Фонтанке, 14. Этот трехэтажный дом напротив Михайловского замка и наискосок от Летнего сада был построен в XVIII веке, но позже переделан А. И. Штакеншнейдером и А. В. Щусевым и в таком виде существует теперь. Родителям Ю. А. Олсуфьева принадлежал верхний этаж дома, откуда впоследствии, после смерти отца в 1907 году, были вывезены многие старинные и памятные предметы, украсившие Олсуфьевскую усадьбу в Буйцах. Отец – граф Александр Васильевич Олсуфьев – принадлежал к известному дворянскому роду, представители которого, по разысканиям Юрия Александровича, упоминаются в источниках с XVI века; мать – Екатерина Львовна – была урожденная графиня Соллогуб, предки которой имели румынское происхождение. Как и всякая высокопоставленная петербургская дворянская семья, родители Юрия Александровича были тесно связаны с жизнью царского двора: отец был генерал-адъютантом и гофмаршалом при Александре III и Николае II и умер в должности управляющего придворной частью Московского Кремля. Да и сам Юрий Александрович, вплоть до окончания университета, числился в «золотой» молодежи, в «белоподкладочниках». Воспитываясь в придворной семье, он был товарищем детских игр великих князей – сыновей Александра III; особо доверительные отношения сложились у него с младшей дочерью императора – великой княжной Ольгой Александровной, тогдашний облик которой запечатлен на известном портрете В. А. Серова и чей фотографический портрет с автографом до сих пор сохраняется в семье наследников Юрия Александровича. В детстве и молодости Ю. А. Олсуфьеву случалось не раз общаться с Александром III и вдовствующей императрицей Марией Феодоровной, а затем с Николаем II и Александрой Феодоровной. Не удивительно, что после женитьбы в 1902 году на Софье Владимировне Глебовой (из рода Облагини) ему, не занимавшему в отличие от отца и деда никакой придворной должности и не служившему в гвардии, пришлось все же примириться с назначением Софьи Владимировны фрейлиной при дворе молодой императрицы.
Олсуфьевы могли гордиться замечательными представителями своей семьи. По обычаю роднясь с другими дворянскими фамилиями, они были теснейшим образом связаны с Васильчиковыми, Голицыными, Горчаковыми, Толстыми, Трубецкими, Долгорукими, Зубовыми, Мейендорфами, Розенами, Салтыковыми и многими-многими другими известными в российской истории титулованными родами. Один из предков Юрия Александровича – Василий Дмитриевич Олсуфьев – был гофмейстером Петра Великого, упомянутый прапрадед князь Александр Михайлович Голицын – основателем Голицынской больницы и картинной галереи при ней, другой прапрадед – адмирал Григорий Андреевич Спиридов – героем Чесменского сражения с турецким флотом. Наряду с государственными и общественными деятелями XVIII–XIX веков на страницах воспоминаний длинной чередой проходят и иные лица: родной дядя автора Алексей Васильевич Олсуфьев – кавалерийский генерал и вместе с тем знаток римской литературы, переводчик Марциала, друг Фета; Василий Алексеевич Комаровский – поэт; его брат Владимир Алексеевич – художник; сводный брат и друг Юрия Александровича Петр Иванович Нерадовский – художник-портретист и хранитель Русского музея, постоянный обитатель и фотолетописец буецкой жизни. Перед нами с большей или меньшей отчетливостью высвечиваются десятки лиц, сопровождаемые пристрастной, но всегда умной оценкой автора воспоминаний, не впадающего в какие-либо крайности и «окончательные» характеристики, которыми так страдают мемуары современников. Тут, несомненно, сказываются прочные традиции воспитания Ю. А. Олсуфьева, основанного на чисто английском сдержанном отношении к личности другого человека.
Записки Ю. А. Олсуфьева не являются воспоминаниями в общепринятом смысле этого слова. Если подавляющее число мемуаристов ставит своей целью обрисовать окружающее их общество, выделить наиболее яркие жизненные ситуации, вскрыть или хотя бы назвать явные и тайные причины совершающихся событий, в «Недавнем прошлом» на удивление мало признаков внешней среды: это прежде всего жизнь семьи. В какой-то мере это перекликается с «Семейной хроникой» Т. А. Аксаковой-Сиверс, но последняя, в силу самой биографии Татьяны Александровны, обладает значительно большей пространственно-временной и биографической насыщенностью. В воспоминаниях Юрия Александровича – узкая география: почти все внимание сосредоточено на усадьбе Красные Буйцы. Здесь на первом плане не люди, а вещи. Только отталкиваясь от вещей, предметов искусства и быта, автор возвращает свою память к родным, друзьям и знакомым – предкам и современникам. Здесь, наконец, полностью отсутствует эпоха революции, определившей спустя полтора десятка лет смертный конец автора и Софьи Владимировны Олсуфьевой.
Нет нужды пересказывать комментируемый текст воспоминаний. Но необходимо сказать о последующей судьбе Буец и их обитателей.
Красные Буйцы, несмотря на почтенную старину усадьбы, никогда не были ни памятником архитектуры, ни памятником истории. Хотя основная часть жилого дома была выстроена в XVIII веке, к моменту окончательного водворения Олсуфьевых в Буйцы она уже была значительно осовременена, а при Юрии Александровиче окончательно потеряла облик сооружения классической эпохи: все было принесено в жертву комфортабельности. Поселившись в деревне на долгие годы, Ю. А. Олсуфьев постепенно завел образцовое помещичье хозяйство (в частности, конный завод), снабдил его заграничными машинами, применил передовую технологию обработки почвы и выращивания зерна, пригласил в качестве управляющего имением трудолюбивого и понимающего немца, отстроил неподалеку от дома здание конторы, детский приют и школу. Недаром воспоминаниям предпослан эпиграф из Пушкина: «Звание помещика есть та же служба».
Многолетние старания создать цветущую усадьбу дали свои плоды. Буйцы сделались не только удобными во всех отношениях для семьи Олсуфьевых и их гостей, но и источником порядочного дохода. Благодаря собственным трудам Юрий Александрович и Софья Владимировна вели далеко не скудную жизнь: ежегодно ездили за границу, регулярно выезжали в Петербург и Москву, поддерживали великосветские связи, заказывали дорогие безделушки у Фаберже и портреты у Серова, строили и меценатствовали и даже, как в прежние дореформенные времена, держали гончих и устраивали в соседних полях и лесах многолюдные охоты. Можно напомнить, что при личном участии Ю. А. Олсуфьева на Куликовом поле вблизи Буец был сооружен архитектором А. В. Щусевым храм-памятник во имя Сергия Радонежского, а С. В. Олсуфьева многое сделала для учреждения здесь монастырской общины и мастерских шитья. Даже в годы первой мировой войны, находясь на Кавказе, Олсуфьевы не прекращали благотворительной деятельности. Софья Владимировна восстановила древний грузинский монастырь в окрестностях Тифлиса и заказала для монастырской церкви из мореного буецкого дуба иконостас по рисункам В. А. Комаровского.
Прочная, уютная и счастливая жизнь в Буйцах, длившаяся для Юрия Александровича почти с момента его рождения (он был привезен в Буйцы шестимесячным ребенком в 1879 году), а для Софьи Владимировны с года ее замужества, кончилась сразу после Февральской революции, иными словами – после отречения царя от власти и стихийного выступления народных масс. Выходец из среды дворянской элиты, Юрий Александрович с женою и четырнадцатилетним сыном буквально бежал из родового гнезда и уже никогда более не возвращался в Буйцы. В главном доме и флигеле все оставалось примерно в том виде, как это было в предшествующие годы. Лишь отдельные, наиболее ценные предметы через преданных слуг, ставших как бы членами семьи, удалось постепенно переместить в новый дом, купленный Олсуфьевыми в Сергиевом Посаде под Москвой. Как правило, это была не антикварная немецкая, датская и голландская мебель, отданная ими в 1917 году в монастырь на Куликовом поле, не картины и книги, а серебро, рукописи, миниатюры, родовые реликвии небольшого размера, фамильные документы, фотографии, памятные подарки друзей. Многое же другое – за исключением, пожалуй, серовского портрета Софьи Владимировны, спасенного несколько позже П. И. Нерадовским, – было вскоре расхищено, продано, сожжено. И все-таки отдельные вещи попали в государственные музеи. Так, в частности, большой портрет Миши Олсуфьева, написанный Д. С Стеллецким в 1913 году, десятилетиями хранился в Епифанском краеведческом музее, пока, наконец, в 1956 году (после ликвидации Епифанского музея) он не был передан в Тульский музей изобразительных искусств.
Послереволюционный быт Олсуфьевых сложился по примеру многих «бывших»: они, особенно на первых порах в Сергиевом Посаде, немало бедствовали и никогда не были уверены в прочности дальнейшего существования. Надо, однако, отдать должное Юрию Александровичу: уже в 1918 году он активно включается в новую жизнь и начинает сотрудничать в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, а затем и в Сергиевском историко-художественном музее. При поддержке Софьи Владимировны и сына Миши он готовит к изданию древние рукописи по истории лавры и одно за другим публикует описания художественных коллекций монастыря. За десять лет он опубликовал более двадцати книжек – примерно две трети всей печатной продукции Комиссии и Музея. Столь активной издательской деятельности способствовали, правда, новизна самого дела и энтузиазм научного коллектива, где бок о бок с Ю. А. Олсуфьевым работали также П. А. Флоренский, С. П. Мансуров, П. Н. Каптерев, И. Е. Бондаренко, Т. А. Александрова-Дольник, М. В. Шик, А. Н. Свирин.
С 1928 года, когда началась «культурная революция» и поход воинствующего атеизма на прежние ценности, обстановка в Сергиевском музее резко ухудшилась, причем на первых порах пострадали не столько экспозиции, разработанные Ю. А. Олсуфьевым и другими работниками музея, сколько их авторы. Дворянское происхождение и родственные связи Олсуфьевых стали настолько одиозными, что под угрозой ареста Юрий Александрович однажды не возвращается из Москвы в Сергиев, а спустя некоторое время устраивается по предложению И. Э. Грабаря в московские Центральные государственные реставрационные мастерские. Распрощавшись с капитальным домом на Валовой улице в Сергиевом Посаде, Олсуфьевы переезжают сначала в Котельники под Москвой, затем в деревянный половинный домик в деревне Мешаловка, примерно в пяти километрах от железнодорожной станции Люберцы, и, наконец, в Косино. При тогдашних совсем не совершенных способах сообщения с Москвой Ю. А. Олсуфьеву приходилось добираться до места службы пешком и пригородными поездами, но мещанская среда подмосковных рабочих поселков была надежным укрытием для семьи, уже напуганной первыми арестами, ссылками и расстрелами. На уцелевших любительских фотографиях тридцатых годов мы видим Ю. А. Олсуфьева за починкой дымовой трубы и вскапыванием огорода, и он мало чем отличается по внешнему своему виду от обитателей пригорода. Вряд ли кому приходило в голову, что в тесных комнатках мешаловского домика, за всегда задернутыми занавесками, живут сын бывшего коменданта Московского Кремля и фрейлина последней императрицы России.
В Центральных государственных реставрационных мастерских Ю. А. Олсуфьев занял должность эксперта по древнерусской живописи. Некоторая неопределенность основной направленности работы давала повод привлекать его к решению любых научно-реставрационных и производственно-бытовых задач. Покойный знаток архитектурной истории Москвы В. С. Попов, сотрудничавший в тех же мастерских и почти ежедневно встречавшийся с Ю. А. Олсуфьевым, вспоминал, что тот был постоянно занят разнообразной текущей работой: заполнял карточки по учету памятников монументальной и станковой живописи «для ведшегося им обширного каталога», определял накопившиеся за предыдущие годы негативы, вел журналы расчистки икон, вызывался на советы по реставрации шитья, писал научные отчеты о командировках в старые русские города. По рассказам реставратора Н. Я. Епанечникова, часто сопровождавшего Ю. А. и С. В. Олсуфьевых в таких поездках, их жизнь в экспедиционных условиях «поражала своей скромностью и нетребовательностью в пище, ограничивавшейся часто вареной мелкой рыбешкой и картофелем, порою даже без растительного масла».
В 1934 году московские мастерские были упразднены по причинам, не имевшим с наукой ничего общего. Но поскольку ликвидировать реставрационную практику в целом значило бы поставить под удар сохранность всех музейных коллекций, Наркомпрос РСФСР распорядился сосредоточить часть бывших работников мастерских в Третьяковской галерее. Именно здесь – в должности заведующего секцией реставрации древнерусской живописи – Ю. А. Олсуфьев провел последние четыре года своей жизни. Как и прежде, он много времени уделял изучению иконописи и обследованию провинциальных коллекций на предмет выявления наиболее выдающихся произведений. Еще большей заботы требовали теперь памятники монументального искусства. Маршруты его поездок – Новгород, Псков, Старая Ладога, Ярославль и другие исторические города. С необыкновенной энергией он исследует причины заболевания отдельных фресковых циклов, технику их исполнения и технологические приемы их консервации и реставрации, руководит экспедиционными группами, пишет необходимые отчеты и рекомендации ведения дальнейших работ, готовит к публикации статьи по древнерусской фресковой и станковой живописи. Он становится наиболее авторитетным специалистом и по иконописи, и по стенописи, по технике их исполнения и реставрации. Его фундаментальная работа «Вопросы форм древнерусской живописи», печатавшаяся в 1935 году в журнале «Советский музей», до сих пор остается наиболее ценным исследованием формообразующих приемов древнерусского художника.
Юрий Александрович Олсуфьев разделил судьбу тысяч своих современников. Как стало известно совсем недавно, он был арестован 24 января 1938 года, а 7 марта «за распространение антисоветских слухов» (статья 58, пункт 10, часть 2 УК РСФСР) постановлением тройки при Управлении НКВД СССР по Московской области приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 14 марта 1938 года. А четыре года спустя, 1 ноября 1941-го, арестовали и Софью Владимировну Олсуфьеву: когда в октябре 1941 года возникла реальная опасность захвата Москвы немцами, она оказалась в числе неблагонадежных, которыми в первую очередь считались бывшие аристократы. Как и ее мужу, ей предъявили аналогичное обвинение и приговорили к лагерям сроком на десять лет. Колонна заключенных, в которой вместе с С. В. Олсуфьевой оказался и художник В. М. Голицын, дошла до Казани. По данным следственного дела, Софья Владимировна скончалась в превращенном в концлагерь бывшем Свияжском монастыре 15 марта 1943 года. Аналогичный конец ожидал бы, скорее всего, и сына Олсуфьевых Михаила Юрьевича, но ему выпала другая карта. С разрешения родителей он еще в 1924 году тайно – через Владивосток и Китай – эмигрировал из СССР и осел в королевской Румынии, где Олсуфьевым, по линии бабушки Марии Николаевны, урожденной Россети-Розновано, принадлежали значительные земли, в частности благоустроенная усадьба Кишло в Бессарабии. Румыния надолго стала второй родиной младшего Олсуфьева, пока по семейным обстоятельствам он не эмигрировал вторично – теперь уже из Румынии Чаушеску – в Париж. Здесь он и скончался в 1984 году. По слухам, Михаил Юрьевич был вынужден бросить свой двухэтажный дом в Бухаресте, как и его родители дом в Буйцах, на произвол судьбы, с той только существенной разницей, что особняк в румынской столице уже не был настолько наполнен семейными реликвиями, как усадьба Красные Буйцы.
Рукопись Ю. А. Олсуфьева «Из недавнего прошлого одной усадьбы» сохранилась в его архиве, разрозненные части которого находятся ныне по меньшей мере в трех или четырех московских музеях и библиотеках. Воспоминания существуют в двух экземплярах: первый экземпляр, автограф, принадлежит Отделу рукописей Российской Государственной библиотеки (ф. 218, № 175.1), а второй (авторизованная копия Ольги Александровны Бессарабовой) находится в частном собрании в Москве. В подлинной рукописи 110 листов большого формата, заполненных, как правило, с обеих сторон, в копии – 107 листов. В обеих рукописях помещен план Буецкого дома, исполненный рукою Ю. А. Олсуфьева и имеющий подробные указания на предназначение всех более чем двадцати комнат главного дома и флигеля.
Воспоминания Ю. А. Олсуфьева написаны в 1921–1922 годах в Сергиевом Посаде и менее чем через год помещены им в Отдел рукописей Румянцевской библиотеки. Так было сделано, конечно, для более надежного сохранения документа. Имеется пояснительная записка относительно возможной публикации воспоминаний следующего содержания: «В Государственную Румянцевскую библиотеку, в Отделение рукописей. Передавая при сем в Отделение рукописей четыре свои рукописи: 1) Общения, ч. I, II;
2) Из недавнего прошлого одной усадьбы;
3) Статистический отчет по Красному и Даниловке 907–912 и 4) Очерк одного хозяйства за десятилетний период до революции, я позволю себе выразить свою волю, чтобы в течение 25 лет со времени отдачи этих рукописей в Румянцевскую библиотеку право их изданий принадлежало бы исключительно мне или сыну моему Михаилу Юрьевичу Олсуфьеву, а затем – кому угодно с условием издания без пропусков. Юрий Александрович Олсуфьев, 2 мая 1923 года» (ф. 218, № 175.6).
Любопытные подробности о первоначальной истории воспоминаний сообщают некоторые письма Ю. А. Олсуфьева, который, кстати сказать, не любил писем и писал их в случаях крайней необходимости. Когда весной 1922 года Олсуфьевы получили от П. И. Нерадовского чудом вызволенный из разграбленного Буецкого дома портрет С. В. Олсуфьевой, написанный В. А. Серовым, Ю. А. Олсуфьев в благодарственном письме Петру Ивановичу сообщил о только что завершенной им рукописи: «Сидя у себя в Посаде, я отдался прошлому и написал свои воспоминания. Быть может, когда-нибудь их издам. В них очень часто, но легко упоминаетесь Вы» (Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, ф. 31, № 1132, л. 1). Год спустя мы находим еще одно упоминание о записках. В письме от 13 декабря 1923 года на имя хранителя Отделения рукописей Румянцевской библиотеки Г. П. Георгиевского Ю. А. Олсуфьев выразил очевидную надежду на публикацию записок: «Что касается моего маленького романа, написанного несколько месяцев тому назад, о котором мы с Вами беседовали, то я думаю его назвать “На слиянии двух рек”; это тема, которая много раз повторяется в содержании и в некотором смысле даже символична» (Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки, ф. 218, № 175.7, л. 1 об.). В том же письме Ю. А. Олсуфьев извещает адресата, что он находится в Москве, но отбывает «в свой мирный и безмятежный Посад». Но минуло совсем немного лет, и Сергиев Посад перестал быть и мирным, и безмятежным, а мечты о публикации воспоминаний отошли в такое же прошлое, как и сами воспоминания.
Публикуя их теперь, более восьмидесяти лет спустя после завершения рукописи, я обязан сделать следующие пояснения. Согласно воле автора, записки издаются без купюр; сокращенно написанные слова, названия, имена и намеренно зашифрованные фамилии дополняются в угловых скобках. Переводы с французского, английского, итальянского и латинского консультировались С. Ю. Завадовской, причем в переводах даны лишь наиболее существенные фразы и выражения, проясняющие смысл текста. Чтобы отделить переводы от текстологических примечаний издателя, они включены непосредственно в текст и подобно другим конъектурам заключены в прямые скобки. Написание ряда общеупотребительных слов приведено в соответствие с нынешними орфографи ческими нормами (например, коридор, а не корридор; галерея, а не галлерея и т. п.). Слегка изменена пунктуация и – согласно содержанию – местами открыты новые абзацы в тексте. Все это не меняет, конечно, ни стилистики, ни общего характера текста. Работа публикатора осложнилась, правда, тем, что текст второго экземпляра (копии) обнаруживает некоторые расхождения с автографом. Очевидно, автор, неоднократно обращаясь к оставшейся у него копии, вносил в нее отдельные изменения, дополняющие, сокращающие либо, наконец, уточняющие текст автографа. В этом последнем, в свою очередь, встречаются редкие поправки, отсутствующие в копии, время которых следует определить промежуточной стадией работы над рукописью, когда оригинал и копия еще не разошлись по разным архивохранилищам. Это обстоятельство потребовало от меня сверки обеих рукописей и внесения в публикуемый текст разночтений с копией (в издательских примечаниях фамилия Ю. А. Олсуфьева обозначена инициалом О, а фамилия О. А. Бессарабовой – инициалом Б).
Текст воспоминаний приготовлен мною в сотрудничестве с А. К. Митюковой и Ф. И. Павловой. Немало ценных указаний я получил от Е. П. Васильчиковой и А. В. Комаровской. Архивные фотоснимки извлечены из фотоальбома «Красные Буйцы» и остатков большого фотоальбома П. И. Нерадовского, которые находятся в одном из частных собраний в Москве. Там же сохранились и отдельные предметы из Буецкой усадьбы. Но значительная их часть, как уже говорилось, поступила в Тульский художественный музей, где они выявлены мною с помощью сотрудников этого музея М. Н. Кузиной и Л. В. Чербы. Фотоснимки двух портретов из Русского музея получены стараниями М. Г. Малкина и Г. А. Поликарповой. Фотографический материал для публикации подготовлен В. А. Соломатиным. Всем названным лицам публикатор считает своим долгом выразить сердечную благодарность.
* * *
В июне 1991 года исполнилось мое давнее желание посетить места, описанию которых посвящены десятки страниц «Воспоминаний» Ю. А. Олсуфьева. Если Куликово поле и храм Сергия Радонежского близ обелиска на Красном холме приведены ныне в почти идеальное состояние, то село Красное, или Красные Буйцы, оставляет тягостное впечатление. Нет, пожалуй, другого места Тульской области, где контраст между дивным по красоте ландшафтом и чудовищным по безобразию строительством воспринимался бы так, как это воспринимается в Буйцах. Хутор Кичевка, на который открывался вид с южной стороны усадьбы Олсуфьевых, превратился в центральную часть дикого по бесплановости поселка с населением около полутора тысяч человек. Земля разрыта тяжелой техникой, дороги разбиты, типовые дома выстроены без всякого участия художника и архитектора. Непрядва и Буйчик заросли ивняком до полной неузнаваемости их русел. Не избежала печальной участи запустения и усадьба Олсуфьевых: на месте пострадавшего от пожара так называемого «большого» дома, теперь целиком разрушенного, выстроена новая больница, которая никак не вписывается в окружающий пейзаж; от Олсуфьевского дома уцелела только его крайняя западная часть – отдельно стоящий флигель; хозяйственные сооружения из белого камня, датируемые еще XVIII веком, не сегодня-завтра развалятся от заполняющих их гаражей; церковь вконец обезображена, ее колокольня и купол снесены, а кладбище и могилы родителей Ю. А. Олсуфьева давно разрыты и ликвидированы. Вся местность, где прежде цвели сады и благоухали травы, превращена в подобие свалки, а подлинная свалка устроена как раз там, где находился Олсуфьевский дом. И только случайно сохранившийся коридор «нижней» гостиной, пол которого был выстлан квадратными черными и белыми плитками, указал мне на расположение восточного флигеля. Найдутся ли люди в Буйцах, Епифани и Туле, которым была бы небезразлична судьба Олсуфьевской усадьбы и которые займутся ее восстановлением? И приведением в порядок Красных Буец в целом, благо Буйцы и их окрестности в скором времени должны войти в российский национальный парк «Куликово поле», начало которому, по существу, было положено именно семейством Олсуфьевых.
Г. И. ВздорновЮ. А. Олсуфьев Из недавнего прошлого одной усадьбы
Из недавнего прошлого одной усадьбы Буецкий дом, каким мы оставили его 5-го марта 1917 года
Посвящаю жене моей гр. С. В. Олсуфьевой
«Поминовение» есть путь к оживотворению, поэтому и воспоминание до некоторой степени оживляет, причащает к жизни, воскрешает[1]. Все злое как таковое и чуждое жизни по существу не может входить в круг творчески воспринимаемого, а, наоборот, все доброе и потому жизненное подлежит быть творчески возносимым к жизни.
Воспоминаемое[2] должно быть завершенным, причем завершенным в прошлом, отсюда – то грустное, что всегда сквозит в воспоминаниях: прошлое покрыто тенью смерти, и оно воскресает в слезах разлуки…
Таким завершенным в моем прошлом – жизнь в Буйцах, образы которой светлой чередой восстают в моей памяти.
Звание помещика есть та же служба.
Пушкин[3]Наша усадьба была расположена на высоком левом берегу реки Непрядвы, приблизительно с версту ниже устья впадающей в нее речки Буйчика. Дом был одноэтажный, длинный; он состоял из трех частей: из средней, деревянной, и из двух почти одинаковых кирпичных флигелей с мезонинами по сторонам средней части; только флигель, который был с восточной стороны, был соединен со средней частью дома так называемой «нижней» гостиной и огибавшим ее с северной и западной стороны коридором, тогда как западный флигель стоял отдельно.
Красные Буйцы. Слева на дальнем плане церковь Архангела Михаила, в центре – двухэтажное здание конторы, справа – дом Олсуфьевых. Конец XIX века. Частное собрание, Москва
Дом был обращен на юг. Средняя, деревянная часть, построенная еще в XVIII столетии из липы, вероятно, своих же буецких лесов, и восточный флигель были оштукатурены и выкрашены в светло-розовый цвет, а западный флигель был выбелен по кирпичу; окна дома были белые за исключением окон западного флигеля, которые были выкрашены в светло-желтый, кремовый цвет; у южных окон средней части и восточного флигеля были зеленые ставни; с южной стороны той же средней части и восточного флигеля было два балкона с белыми круглыми колонками в духе скромного деревянного Empire; балкон среднего дома по сторонам и спереди, за исключением входа в него, был застеклен в косую клетку, а балкон флигеля с боковым входом с западной стороны был открытым: в конце лета он зарастал со всех сторон вьющимся растением с желтенькими цветочками, название которого я не знаю. С севера дома было три балкона: у средней части – с колонками и не застекленный, а у флигелей – в виде крылечка на квадратных столбиках; такое крылечко у западного флигеля служило единственным входом в этот флигель; полы балконов и ступени были выкрашены в серую или, скорее, в сизую краску. Главный подъезд дома был с севера и вел в коридор, который соединял восточный флигель с средней частью; этот подъезд в виде крыльца был выстроен к нашей свадьбе по рисунку нашего друга П. И. Нера довского в русском стиле; он был с двумя пузатыми колонками, с массивной дверью черного дуба, добытого в окрестностях Буец из шлю з<ов>, построенных Петром I на Дону; у двери снаружи вместо ручки было тяжелое медное кольцо; в боковых стенках крыльца было два арочных оконца с оконными переплетами кружками; крыша в косую клетку образовывала высокий фронтон. Таков был вид этого крыльца, когда мы приехали в Буйцы с С<оней>[4] вскоре после нашей свадьбы в сентябре 902 года; но пузатые колонки нам скоро надоели: они не шли к общему стилю, или, скорее, бесстилью дома, и мы переделали их на толстые квадратные пилястры; тогда же крыша была спущена вместо фронтона третьим скатом наперед, что придало всему крыльцу более уютный вид и связало его с домом.
С западной стороны средней части дома было небольшое деревянное крылечко, выкрашенное в белый цвет, которое служило черным ходом. Дом был покрыт зеленой железной крышей, трубы были тоже зеленые, причем на трубах средней части были небольшие зеленые розетки. Летом, местами, дом обрастал различными вьющимися растениями, причем особенно хороши были клематисы с сине-лиловыми колокольчиками, а с южной стороны, перед «нижней» гостиной, из года в год ставились длинные зеленые ящики с вьющейся геранью, привезенной черенками моею покойною матерью из Алжира, где в 90-х годах у моих родителей была премилая вилла «Lablаbdji» в Moustapha Supèrieur [ «Уединение» в Верхней Мустафе], купленная для моей матери. Мой покойный отец шутя называл эту виллу своей подмосковной.
Таким был внешне наш незатейливый дом, где я провел счастливые годы детства и где мы с С<оней> так мирно, так полно прожили до тяжелых годин великой войны и рокового 17-го года.
Впервые я привезен был в Буйцы в 1879[5] году, приблизительно шести месяцев, из Петербурга, где я родился в Олсуфьевском доме на Фонтанке[6]. С тех пор я проводил лета в Буйцах, где мы жили с моей матерью и бабушкой графиней Марией Николаевной Соллогуб (моя мать была <у>рожденна<я>[7] графиня Соллогуб), а отец, состоя при г<осу даре>, лишь временами, всегда на короткий срок, приезжал к нам в Красное, как звали Буйцы мои родители; зимы мы жили в Петербурге; после женитьбы и по окончании мною университета мы с С<оней> решили совсем поселиться в милых Буйцах[8], куда меня всегда влекло с ранних лет моего детства.
Но я уклонился от описания дома и усадьбы.
Скажу еще о доме, что он был очень прост, светел, радостен; несколько раз переделанный, он был первоначально построен в XVIII столетии для приездов моих родичей, которые в Буйцах никогда постоянно не жили (Буйцы были превращены в жилое имение лишь моими родителями в середине 70-х годов), но об истории усадьбы я уже рассказал в своей книжке «Из прошлого села Красного, Буйцы тож, и его усадьбы».
В доме с флигелями было двадцать две комнаты, большею частью небольших, к описанию которых я и намерен приступить, сказав предварительно несколько слов об общем характере усадьбы.
Ю. А. Олсуфьев. Из прошлого села Красного, Буйцы тож, Архангельского прихода, и его усадьбы. 1663–1907. Москва, 1908. Обложка оформлена Е. Е. Лансере. Частное собрание, Москва
Плоский Епифанский большак, широкой полосой среди бесконечных полей, рассекая широкие села и перебираясь через полноводные реки по убогим и кривым мостам, минуя густые зеленые перелески из дуба или веселых берез, как-то вдруг выходит на просторное наше село: сначала видна белая колокольня, затем показываются белая церковь вдухе Louis XVI с широким зеленым куполом[9] и два ряда изб по обеим сторонам дороги, а далее, среди зелени садов – белые стены, крыши и службы усадьбы. Впереди дома с севера был когда-то просторный двор; теперь он весь засажен деревьями и кустами и потому дома не видно с дороги; входишь в дом, выходишь на полукруглую площадку перед ним с юга и поражаешься красотой столь внезапно открывающегося вида: как бы с птичьего полета видна долина полноводной Непрядвы, которая течет тут сначала с юга на север, затем у мельницы делает крутой поворот на восток, протекает под самым бугром, на котором стоит усадьба, и бесконечными извилинами скрывается вдали своих заливных лугов. На холме направо видна слобода других Буец с деревянной церковкой; несколько левее и внизу – слобода Богдановка со своими высокими соломенными крышами в темной зелени ветел; ближе к усадьбе – старая водяная мельница с раскидистыми ивами; впереди, за рекой – наш хутор Кичевка с его постройками голландского вида и поля; между хутором и рукавом Непрядвы Болдовкою, прямо перед домом – обширный яблочный сад, а влево, в конце долины – дубрава Терны, которая спускается к реке и заливным лугам, а еще дальше – снова села, поля и чуть заметные Себинские леса. Место поистине прекрасное, и становится понятным, почему село получило наименование Красного.
На высоком холме над мельницей сохранились следы древнего городища; исследователи предполагают, что оно еще дотатарского периода; по-видимому, тут в древние удельные времена был сторожевой городок князей Черниговского дома и как раз тут, быть может, проходила грань между княжеством Одоевским и Рязанским; до сих пор в конце долины Непрядвы, близ села Суханова, заметны следы древнего пограничного рязанского города Дорожена. Но я не буду затрагивать здесь истории нашего края; что же касается самих Буец, то скажу лишь кратко, что они были пожалованы в середине XVII века царем Алексеем Михайловичем моему предку, стольнику князю Якову Ефимовичу Мышецкому, что они были и во всем носили характер старой родовой вотчины со своими обычаями и привычками, быть может, столь же старыми, как вековые дубы Буецких лесов…
Вокруг дома был раскинут моей матерью декоративный сад, который состоял преимущественно из различных кустарных пород, главным образом из самых разнообразных сортов сирени и шиповника; кустарники красиво цвели в начале лета, превращая усадьбу в сплошную корзину благоухающих цветов; возле дома были клумбы из одноцветных групп летников, которые ежегодно выписывались моей матерью и которые впоследствии поддерживались С<оней>. С севера, за дорогой, на месте, где в былые годы стояли избы дворовых людей, был посажен, тоже моей матерью, большой фруктовый сад с прямыми аллеями, обсаженными березами и липами. Лишь так называемый «старый сад» с южной стороны западного флигеля существовал задолго до приезда моих родителей в Буйцы. Сады вокруг дома были так расположены, что нигде не заслоняли прекрасного вида, который и придавал основной характер всей усадьбе.
Красные Буйцы. Вид на долину реки Непрядвы из окна нашего дома. После 1902. Частное собрание, Москва
Но пора перейти к описанию комнат дома, какими мы оставили их в 17-м году, когда 5 марта мы покинули, быть может навсегда, нашу родную усадьбу.
* * *
Начну с крайней комнаты дома, с нашей спальни в восточном флигеле. Это была просторная, светлая, скорее низкая комната во всю ширину дома с шестью окнами на юг, восток и север, из которых два, прилегавших к северо-восточному углу, были замуравлены. Окна были белые, со стеклами в косую клетку, как во всем восточном флигеле, а также и в части, которая соединяла этот флигель с средним домом; в остальных частях дома рамы были обыкновенные, в шесть квадратных звеньев. Окна спальни и вообще всего флигеля были небольшими; у них, как и у других окон дома, были белые деревянные внутренние ставни, которые заставлялись тяжелыми железными закладками с крючками. На окнах висели прямые, светлые, холщевые занавеси, вышитые цветочками в нашей мастерской шитья, устроенной С<оней> при детском приюте. Стены были выкрашены в светло-розовую клеевую краску. На полу был линолеум, по своему мелкому рисунку напоминавший соломенный мат. В спальне преобладала новая белая мебель в духе Louis XVI, заказанная к нашей свадьбе моей матерью у звенигородских кустарей по рисункам моей двоюродной сестры М. Васильчиковой[10]; кроме этой мебели в спальне стояла светлая карельская береза, заказанная для нас тоже моей матерью у петербургского мастера Комова, как и вся карельская мебель «нижней» гостиной. Белая мебель была обита холстом, вышитым мелкими цветочками, как и занавеси. Постели были никелевые, местами покрашенные белым.
Красные Буйцы. Вид части дома Олсуфьевых с южной стороны. Справа стеклянный балкон с выходом из библиотеки и большой гостиной, Далее – отдельно стоящий флигель и двухэтажное здание конторы. Конец XIX века. Частное собрание, Москва
Но приступлю к более подробному описанию и постараюсь вспомнить все, что так уютно заполняло эту комнату. Как войти в спальню, влево от белой одностворчатой двери в западной стене, приходившейся почти рядом с юго-западным углом, стояло белое кресло; над ним были развешены орнаменты, сделанные темперой нашим другом графом Владимиром Комаровским[11]; далее следовала большая прямоугольная кафельная печь, расписанная С<оней> гвоздиками; за этой печью вровень со стеною было зеркало другой печи, тоже кафельной, которая выходила в переднюю, откуда и топилась; в ней был вставлен котел, нагревавший воду для спальни, в которую был проведен медный кран; тут стояла небольшая низенькая скамеечка, выкрашенная бурой краской, с медной дощечкой и надписью, что на ней графиня Мария Алексеевна (моя бабушка Олсуфьева)[12] кормила грудью своего младшего сына Александра (моего отца). Скамеечка прежде стояла в уборной моего отца на Фонтанке. Зеркало упомянутой печи было тоже расписано С<оней>, на этот раз – тюльпанами. В простенках между двумя печами висело небольшое масло в золоченой рамке – гуща сада и уединенная дорожка, вещица почему-то понравившаяся моему отцу и купленная им на какой-то выставке. Выше зеркала печи было развешено несколько детских акварелей нашего сына М<иши>[13] – сказочные терема. Вправо от двери, на простенке между дверью и углом, насколько я припоминаю, висел мой портрет акварелью, сделанный Дмитрием Семеновичем Стеллецким в один из частых приездов его в Буйцы в 10-х годах, а над ним – рисунок карандашом в ореховой овальной рамке «мамушки», няни моего отца, которая еще прежде была нянюшкой у Хилковых.
План дома Олсуфьевых в Красных Буйцах. Чертеж Ю. А. Олсуфьева с указанием названий комнат. Из экземпляра «Воспоминаний» в Российской Государственной библиотеке, Москва
Посередине северной стены, между окнами и под прямым углом к стене, стояли постели, по обеим сторонам которых у стены было два столика светлой карельской березы с откидывающимися вперед дверцами; перед ними лежало по коврику темно-малинового сукна. Над постелями на стене висел продолговатый дагестанский ковер, привезенный моим отцом из Дагестана, когда он был послан государем в 90-х годах состоять при больном великом князе Георгии Александровиче. На ковре висел евангельский текст на английском языке: «Blessed are the peace manners» [ «Блаженны миротворцы»] – надпись, бывшая во время кончины моего любимого воспитателя англичанина Mr. Cobb[14] над его постелью. Выше, в дубовой рамке, была фотокопия с «Нерукотворного Спаса» Васнецова, подаренная нам к свадьбе В. Ко маровским (графом Василием Алексеевичем). У изголовьев висел старинный медный образок великомученика Георгия, данный мне моими родителями в моем самом раннем детстве и всегда висевший над моей подушкой, затем – образок Явления Божьей Матери преподобному Сергию, который был у С<они> тоже с детства, наконец – сломанный медный крестик с серебряным ободком. История его такова: осенью 901 года, когда мы с С<оней> еще не были женихом с невестою, была веселая охота в Красном Ржавце[15]. Я сидел верхом около дуба, держа своих собак на своре и, конечно, больше думая о С<оне>, которая стояла рядом, нежели о гоне в противоположном перелеске; во время разговора со мною С<оня> дотронулась рукою до дуба: под рукою оказался крестик, воткнутый, вероятно, кем-нибудь в дерево как сломанный. С тех пор, обложив крестик серебряным ободком, мы храним его в память беседы, которая имела для нас существенное значение.
Александр Васильевич Олсуфьев. Фото барона К. К. Розена. 1880. Частное собрание, Москва
Дом Олсуфьевых на Фонтанке, Петербург. В центре – отец Ю. А. Олсуфьева Александр Васильевич Олсуфьев. Фото конца XIX века. Частное собрание, Москва
Над столиками висели две фотографии с картины Beato Angelico – два трубящих ангела. Перед окнами стояло по креслу. В простенке между окном и северо-восточным углом стоял умывальный столик С<они>, закрытый от остальной части комнаты низенькими белыми деревянными ширмами, стена же над умывальным столом была обделана светло-розовыми квадратными кафелями. Выше висела французская гравюра – «Le mage», в черной рамке, обычной для гравюр Буецкого дома.
Дом Олсуфьевых на Фонтанке, Петербург. Комната нижнего этажа. Фото конца XIX века. Частное собрание, Москва
Посередине восточной стены стоял широкий низкий диван орехового дерева, прокрашенного черным, вероятно 50-х годов; он был обит зеленой ковровой бархатной материей с каким-то мелким рисунком темным; по сторонам его были откидные полочки. Над диваном висел поясной портрет маслом моей матери, девушкой лет двадцати, написанный Константином Маковским. Портрет был в тяжелой золотой раме овальной формы. Моя мать – в голубом платье с черной бархоткой на шее, как тогда носили, и с черным локоном. Она не любила этого портрета, как и манеры Маковского и вообще того направления в искусстве, которое получило название передвижничества. Моя мать была одарена тонким умом и талантливостью. Обладая своенравным характером и будучи единственной дочерью (братья ее умерли в раннем детстве), она была всегда первым лицом не только в родительском доме, но впоследствии и в своем. Она принадлежала к семье, которую нельзя отнести к «столбовому» русскому дворянству с его традициями и обычаями. Причиною тому было то, что ее отец, граф Лев Львович Соллогуб, с одной стороны, был сыном разоренного войною 12-го года графа Льва Ивановича, женатого на княжне Горчаковой, сестре канцлера, и тоже не обладавшей состоянием, а с другой, что он был женат на молдаванке Россети-Розновано, хотя и знатного господарского рода, но не имевшей почти никаких связей с Россией, куда судьба ее забросила в ранней молодости, спасая ее и членов семьи Розновано, сторонников России, от преследования турецкого правительства. Не обладая в России ни имениями-вотчинами (бессарабские имения бабушки графини Марии Николаевны как-то не укладываются в понятие русской вотчины), не располагая сколько-нибудь значительными средствами, семья деда Соллогуба не занимала в высшем русском обществе того места, которое принадлежало ей по происхождению. Дед мой был давно генерал-майором в отставке, и они подолгу живали за границей: в Швейцарии, Германии и Италии. Казалось бы, что такие условия жизни должны были бы воспитать в моей матери человека оторванного, беспочвенного, но получилось как раз обратное: моя мать отличалась именно жизненностью. Ей дорого было все в жизни, каждое малейшее ее проявление как на протяжении истории, так и в окружающей ее действительности. Все подлинное, не сглаженное «культурой», останавливало ее внимание и неудержимо влекло к себе, будь то на шумной Каннебьере, на рыбном торгу в Венеции, в еврейском местечке Липканах или на берегах Непрядвы.
Юрий Александрович Олсуфьев в годы студенчества. Около 1900. Частное собрание, Москва
Моя мать в молодости не бывала при дворе и не была фрейлиною; выйдя замуж за моего отца, когда ей было около 27 лет, она была поставлена в тесное общение со двором покойного государя Александра III и как нельзя более усвоила всю сдержанную этику этого малоэкспансивного двора в противоположность широковещательной «идейности» предшествовавшего царствования. Такая сдержанность граничила с гонением на всякую идею и философичность вообще. Тон двора, который несомненно отражал заграничные[16] склонности мысли и вкуса, пронизывал общество даже до мелочей: одежда «cloche» [колоколом], тупая обувь, на балах «le ridicule du pas expressif» [смехотворность чересчур выразительных па], наконец моды на уродливых собачонок «beaux par la baideur» [прекрасных в своем безобразии] и т. д., все это было косвенным следствием боязни идейности, присущей тому времени. Моя мать благоговела перед царской семьей и двором, внимательно прислушиваясь к «le on dit» [мнению] петербургского общества, в сущности не любя ни двора, ни общества.
Помню в детстве, как на другой день после одного детского бала в Аничкином дворце, помню как сейчас, проезжая с нею в карете вдоль Марсова поля, она внушала мне не говорить, что на балу мне было скучно; я слушал и проникался придворностью. В Петербурге моя мать ездила в положенные дни во дворец, делала визиты, заказывала себе нужные наряды, к которым была более чем равнодушна, но вне Петербурга она отдавалась всем своим вкусам и наклонностям. Помню как однажды летом в Туле я увидел ее в ресторане на берегу Упы обедающей со своей любимицей, домашней ключницей Василисой, или «Васей», как звала ее моя мать, повязанной платочком и в паневе: лакеи суетились вокруг «графини Олсуфьевой» и ее необычной спутницы! Василиса Никифоровна, из буецкой семьи Куролесовых, была женою моего дядьки Митрофана Николаевича Стуколова, из буецких же крепостных; она была глубоко предана моей матери, просиживала с нею целые бессонные ночи, когда моя мать неделями страдала астмою.
Лев Иванович Соллогуб. Миниатюра. Первая половина XIX века. Частное собрание, Москва
Екатерина Россети-Розновано, урожденная княжна Гика. Миниатюра. Первая половина XIX века. Частное собрание, Москва
В молодости моя мать в обществе не пользовалась большим успехом, несмотря на то, что тогда была стройна и, скорее, красива; я думаю, что большая внутренняя жизнь мешала ей легко сближаться с людьми своего круга и чувствовать себя между ними вполне свободно. В летах уже преклонных, хотя умерла она не старой, ей было всего 57 лет, страдая сахарной болезнью, она была очень тучна; прикованная к креслу или кушетке, последние годы она с трудом могла двигаться, и вся жизненность ее как бы сосредоточивалась в ее неизменно блестящих и умных серых глазах, с которыми так гармонировали своим блеском ее серьги – два крупных грушевидных индийских бриллианта. Она всю жизнь страдала астмою, а затем диабетом, но я никогда не помню, чтобы она роптала.
Моя мать любила, чтобы в доме было бы много народу, много служащих и вообще чтобы все было бы в изобилии. Домоправительницей, однако, она была плохой, ни в чем не зная меры: она любила животных, потому не смели продавать лошадей; она любила птиц, поэтому своих кур почти никогда не резали и они водились на каждом хуторе в Буйцах сотнями; делая запасы каких-нибудь английских печений на года, она не замечала, что в доме часто не хватало необходимого. Она любила часами говорить со своими служащими, вникая во все их интересы, но, конечно, не нравоучительно и без всякой мысли наставлять, а просто так, потому что с ними легко говорилось. Она была чрезвычайно гостеприимна, и никто, кажется, не умел так широко и щедро наградить или отдарить, как моя мать, к которой, мне кажется, было чрезвычайно применимо выражение «un grand coeur» [доброе сердце].
Юрий Александрович Олсуфьев и Софья Владимировна Глебова (Олсуфьева) накануне свадьбы. 1902. Частное собрание, Москва
Она очень привязывалась к людям, в особенности к своим служащим, и уход или даже намерение уйти с ее службы ввергали ее в большое горе. Помню, как она плакала при одном только предположении некоторых буецких крестьянских семей переселиться в Сибирь. Шутя же она уверяла, что любит больше «собачье отродье», чем людей. Она, действительно, страстно любила собак, которые наполняли Буецкую усадьбу и комнаты моей матери, что, конечно, не содействовало их чистоте и порядку. Кроме собак в комнатах моей матери всегда можно было видеть попугаев с испанскими названиями, различных перюшей, черепах, лягушек и причудливых экзотических рыб. Собак она держала исключительно породистых – умных, сметливых крысоловок различных пород, которых выписывала из Англии, и, совсем в духе времени, не любила собак, к которым шли бы «благородные» клички вроде «Lady», «My Lord» и т. д. Большая любительница садоводства, огородничества и цветов, она не переносила избитых «деланных» клумб, а любила цельные цветочные подборы; некоторых цветов она совсем не любила, как и некоторых пород собак, называя такие цветы глупыми или даже вульгарными. В Буйцах, бывало, она вставала с солнцем и почти своими руками сажала кусты и деревья, невзирая часто на непогоду и дождь.
В Красных Буйцах. Слева направо: С. Н. Глебова, неизвестная, Л. В. Глебо ва, С. В. Глебова (Олсуфьева), Ю. А. Олсуфьев, А. В. Глебова, неизвестная; на переднем плане – мальчик из семьи Глебовых, в кресле справа – Екатерина Львовна Олсуфьева. 1902. Частное собрание, Москва
Моя мать была чрезвычайно суеверна, несмотря на то, что постоянно читала «La revue scientifique» [ «Научное обозрение»] – журнал, чуждый тогда всякого спиритуализма. В молодости она занималась спиритизмом, но перестала им заниматься по совету своего духовника. Она всегда ходила к обедне, но молилась ли она в церкви – не знаю. Дома, за прической (в Петербурге ее причесывала моя бывшая кормилица и няня Александра Алексеевна Шагаева, а в Буйцах – Василиса Никифоровна), она всегда читала Евангелие по-фран цузски. За границей она любила посещать католическую службу (отец ее, граф Лев Львович, был католиком и только под старость перешел в православие) и была, если можно так выразиться, очень католична, полагаясь исключительно на Церковь и почти совершенно исключая свое личное участие в духовной жизни.
Она была очень щедра, как я говорил, очень добра, много помогала, но не в силу надуманного чувства долга, а просто потому, что ей хотелось помочь. Помню, как не один раз, где-нибудь в темной избе или в душной палате уездной больницы, проводила она ночи у постели больного сыпным тифом служащего или катила на лошадях за 60 верст, чтобы ходить за одной бывшей служащей, заболевшей тоже тифом. В один из таких разов она сама заразилась сыпным тифом и тяжело проболела им в Буйцах. Она была вспыльчива и даже гневна, главной причиной чему была ее болезнь, но гнев ее обыкновенно, как часто только потом оказывалось, имел основание – она прекрасно знала людей. Она обладала тонким юмором и, как обыкновенно бывает в таких случаях, сама мало и незаметно смеялась. Когда в нашем уезде (Епифанском) еще мало была распространена ветеринарная помощь, то, кажется, ни одна эпизоотия не обходилась без моей матери, которая нарочно приезжала для борьбы с нею из Петербурга. Она любила не только собак, но вообще всяких животных, и стаи голубей, наполнявших чердаки Буецкого дома, были отдаленными потомками раненых голубей на tire à pigeon [охоте на голубей] в Ницце, которых она подобрала, вылечила и привезла в Буйцы.
Моя мать любила жизнь, жизнь в далеком прошлом, в настоящем, в будущем, но близкое прошлое вспоминать она избегала, скажу более – к близкому прошлому она относилась как-то мистически боязненно: оно миновало, от него веяло холодом смерти, говорить о которой она боялась. Она, например, ни разу во всю жизнь не произнесла имени своего покойного отца, которого, я знаю, она глубоко любила. Для нее вечность как-то вязалась с земной жизнью, и, сажая какое-нибудь дерево, она думала о внуках, которых она еще не имела, а покупая какое-нибудь ожерелье, она представляла себе, как носить его будет жена внука, когда ни внука, ни тем более жены его не было. Моя мать всем существом своим ненавидела шестидесятничество и русскую интеллигенцию, которой справедливо приписывала все гнилое и уродливое в русской жизни. Русских священников она тоже недолюбливала, видя в них корень[17] русской интеллигенции, а русского монашества она совсем не знала, католические же монастыри за границей очень любила и благоговейно их посещала, но скорее эстетически, нежели религиозно. Моя мать прекрасно говорила и писала по-французски, свободно говорила по-немецки и итальянски, знала румынский язык и изъяснялась по-английски. Письма моему отцу она всегда писала по-французски, начиная их с фразы «Саша, mon chery» [мой дорогой]. Несмотря на то, что долгие годы в молодости она провела за границей, она прекрасно владела русским языком, и можно было заслушаться ее простым, понятным говором, когда приходилось ей беседовать с буецким народом.
Моя мать любила юг, море, преимущественно Средиземное, и каждый раз, когда в начале осени, в прозрачные сентябрьские дни вереницы журавлей тянулись к югу, на глазах матери навертывались слезы.
Она не переносила морализма, доктринерства и, кажется, одинаково ненавидела сентиментальности, даже всякого намека на сентиментальность. Я никогда, например, не смел первый к ней подойти, чтобы ее поцеловать, и только раз в своей жизни, перед венцом, решился поцеловать ее руку после благословения.
Не любя затрагивать «принципиальных» вопросов, она только раз при мне возмутилась, когда моя гувернантка Miss Southworth отрицала таинство евхаристии, и только, кажется, раз «принципиально» меня поощрила, когда я, еще будучи студентом, поспешил в соседнюю деревню (Гороховку), чтобы отправить в город мужика, искусанного бешеной лошадью. Это было только два раза, но зато как памятны мне эти два случая.
Боязнь сентиментальности была одной из причин кончины ее без причастия: еще утром в день смерти моя мать желала причаститься, но стоило только сентиментальной родственнице предложить ей позвать священника, как моя мать холодно ответила: «Нет, не надо». Она умерла 17 ноября[18] 902 года в Москве у тетушки моей графини Зубовой, у которой остановилась, чтобы присутствовать на нашей свадьбе, бывшей в сентябре этого года. Похоронена моя мать в Буйцах, рядом с церковью, в склепе, в котором пять лет спустя был похоронен и мой отец. Мой отец и я не сговорившись решили написать на ее могиле: «Блаженны милостивые…» Прошло несколько лет после кончины моей матери, и я увидел ее во сне: вся в светлом, она стояла среди цветущих груш; «Юрий, смотри, как здесь хорошо!», – воскликнула она, обратившись ко мне, и этот сон как нельзя более отражал один из самых светлых образов матери, сохраненных моей памятью о ней.
Я подробно рассказал здесь о моей матери, так как ею была устроена для постоянной жизни Буецкая усадьба, ею были посажены Буецкие сады и лесные посадки, и она положила начало жизни нашей семьи в Буйцах, которые горячо были ею любимы. Впервые она приехала в Буйцы с моим отцом после свадьбы в 1875 году; в 78 году, в то время как отец в свите наследника был на войне, а моя мать принимала участие в тылу армии, Буецкий дом, пришедший в ветхость (тесовая крыша обросла, как рассказывают, мхом), был возобновлен по поручению моих родителей управляющим В. Ф. Ганом. При моих родителях в доме было очень просто: мебель была большею частью из дуба своих лесов, комнаты белились, а полы красились охрой почти ежегодно весною к их приезду; наблюдение за ремонтом поручалось аккуратному буфетчику Андрею, который заблаговременно присылался для этого из Петербурга.
Вспоминаю, какою радостью были для меня, ребенка, эти весенние приезды наши из Петербурга в Буйцы. Меня везли со станции с бабушкой графиней Марией Николаевной в старой карете, обитой внутри красным штофом и запряженной четверней; карета эта когда-то принадлежала моему grand oncle’y [двоюродному дедушке] Александру Дмитриевичу Олсуфьеву; правил кучер Прокофий. Бывало это в самом начале мая. Все казалось каким-то особенным в Буйцах: и воздух, и запах свежей краски, и скрип открытых оконных рам, колеблемых весенним теплым ветром, и пение того же ветра в замочных скважинах, и черные полосы вспаханных огородов за рекой, и полный жизни, майской жизни «старый» сад направо от дома, в котором были приготовлены для меня кучи золотистого песка, и тихая, наконец, речка в изумрудных лугах… Позже, в отрочестве, я тоже остро чувствовал весну в Буйцах, но всегда с налетом чего-то грустного: тихие, длинные весенние зори, вечерние звуки возвращающихся стад и вся полнота возрожденной и благоухающей природы, все это дыхание очнувшейся земли вызывали во мне почему-то чувство смерти и тяжелых предчувствий, сливаясь в одно переживание, в переживание весны…
Простота в доме при моих родителях как нельзя лучше вязалась, я сказал бы, с их жизненным тактом, благодаря которому они так просто сближались с людьми простыми и бедными. Заполняться же вещами дом стал уже при нас, когда, покинув Петербург, мы окончательно поселились в Буйцах.
Но вернусь к описанию спальни. Диван, который стоял под портретом моей матери, был, между прочими подарками, подарен нам к свадьбе моими двоюродными братьями М.[19] и Д.[20] Олсуфьевыми и раньше стоял у них в нижнем этаже Фонтанкского дома. Он нам так нравился, что мы, признаться, сами его у них выпросили. Между стенкою дивана и портретом моей матери висела темпера графа Владимира Комаровского, закантованная золотой бумажкой – в стиле XVIII века. Перед замуравленным окном стояло белое кресло; в промежутке же между окном и портретом моей матери были развешены: портрет С<они> в гладкой золотой рамке, написанный Д. С. Стеллецким пастелью, – С<оня> сидит в столовой на петровском стуле, она в красном платке, черной бархатной юбке и лаковых башмаках, сзади большой резной шкаф Renaissance; затем старинная гравюра, изображавшая пышное празднество во Флоренции; акварельный эскиз Стеллецкого – половецкая царевна; потом фрагмент миниатюры на пергаменте из старой итальянской книги «Bella Marianna» – вещь, привезенная нами как-то из Венеции. В северо-восточном углу стоял шкаф красного дерева, а над ним висела гравюра, парная той, какая была над умывальником и тоже носившая название «Le mage».
В простенке между портретом матери и другим окном той же восточной стены висели: акварельный портрет Натальи Ивановны Толстой[21], двоюродной сестры моего отца; портрет бабушки графини Марии Алексеевны Олсуфьевой с моим отцом ребенком – милая акварель, вероятно, конца 40-х (В оригинале было: «самого начала 50-х». Исправлено рукой О. в копии.) годов, и фотография моего отца молодым человеком в штатском, снятая в его студенческие годы или за границей; эта фотография была в овальной ореховой рамке 60-х годов и была как-то дана мне тетушкой баронессой Марией Васильевной Мейендорф, сестрой моего отца. Тетушка была замужем за другом детства бароном Феодором Егоровичем Мейендорф<ом>: отец барона Феодора Егоровича был генерал-адъютан том и обер-шталмейстером государя Николая Павловича; мой отец рассказывал, что, бывало, в Петергофе детьми они с Мейендорфами забирались на запятки коляски старика барона, который сгонял их своим длинным бичом.
Софья Владимировна Олсуфьева на обрыве реки Непрядвы. Красные Буйцы, около 1904. Частное собрание, Москва
Перед окном стоял небольшой туалетный столик карельской березы с бронзою начала XIX столетия[22]: средняя часть его крышки подымалась и открывала зеркало, а боковые части той же крышки откидывались на сторону – под ними были ящички; столик этот был из старой карельской мебели, собранной моей матерью для моих двух петербургских комнат в начале 90-х годов; здесь, у С<они>, он стоял закрытым; на нем было зеркало с гладкой серебряной рамкою моей бабушки графини Марии Николаевны, перед которым на тонкой прозрачной салфетке были расставлены туалетные приборы С<они>, подаренные ей в чемодане к свадьбе моей матерью, – граненый в клетку хрусталь с серебряными золочеными крышками; тут же стояло два флакона 30-х годов молочного стекла для туалетных вод, купленных мною в Туле, а среди этих вещей лежало небольшое граненое яичко зелено-голубого стекла – из детских вещиц С<они>; такие вещицы обычно никем не берегутся и живут на столах годами, напоминая самым неожиданным образом события прошлого, ничем как будто и не связанные с ними.
Перед столом стоял красивый белый стул XVIII столетия[23] времен Анны Иоанновны, с подушкой малинового бархата; он был приобретен мною у одного старьевщика в Туле. Из окна открывался далекий вид на долину Непрядвы с се заливными лугами; вдали налево виднелась старая дубрава Терны; а перед самым окном в саду на высоком пьедестале белого тесаного камня в духе Renaissance (формы опрокинутого обелиска) был поставлен бюст Леонардо да Винчи, темная бронза с позолотой, талантливое произведение Стеллецкого и его милый нам подарок.
В юго-восточном углу помещался киот, еще моей бабушки графини Марии Николаевны, выкрашенный в духе 50-х годов темно-бурой краской; в киоте были иконы: Спасителя и Корсунской Богоматери, благословение наших родителей нам на свадьбу (иконы XVI–XVII века); икона Спасителя – благословение мне, тоже на свадьбу, императрицы Марии Фсодоровны; икона св. Георгия Победоносца – благословение мне дяди Розена (барона Николая Константиновича, двоюродного брата моей матери); небольшой серебряный складень с иконами св. Георгия и св. Софии[24] – благословение моей кормилицы и нянюшки Александры Алексеевны Шагаевой на нашу свадьбу; затем серебряный золоченый крест с частицею креста Господня[25] – благословение митрополита Филарета Московского моему деду графу Василию Дмитриевичу и много других памятных образков и реликвий; перед образами висела бронзовая лампадка с головами херувимов, купленная нами в Венеции у антиквара на площади Colleoni; в столике киота хранились священные книги и между ними маленькое английское Евангелие в гладком кожаном красном переплете, в юные годы подаренное мне моим воспитателем Mr. Cobb’ом в Алжире, когда мы проводили там зиму 92–93 года; в Евангелие была заложена фотография Mr. Cobb; и Евангелие и эта фотография живо напоминали мне Алжир, первый приезд туда ночью на пароходе Marechal Bugeau, вход в освещенную гавань, затем яркое и теплое алжирское зимнее утро, южные горловые клики, пестрые наряды, белые бурнусы, груды апельсинов, пальмы, пряные запахи и всю ту контрастность сияющего юга с недавно покинутым далеким и хмурым севером, напоминали мне и прогулки с Mr. Cobb по тенистым chemins romains [римским дорогам], разговоры и чтение с ним Евангелия, наконец, полные благоговейного приличия английские службы, на которых я любил бывать в Алжире, и весь английский тот уклад, который так меня пленял в отрочестве.
Выше я упомянул о моей няне Александре Алексеевне; она теперь умерла; ни к кому в раннем детстве я не был так привязан, как к ней, и никто, кажется, не имел тогда на меня такого влияния, как дорогая няня. Она была дочерью бедного деревенского псаломщика Тверской губернии; скоро овдовев (муж ее пропал без вести), она вынуждена была, оставив своего единственного сына на воспитание у «чужих людей», взять место у нас в доме моей кормилицей; вскоре мальчик ее заболел и умер в отсутствие матери, которая не могла меня покинуть, – она еще кормила меня грудью; этот грустный рассказ меня в детстве трогал до слез и я искренно хотел всегда всех жалеть и любить; особенно щемило мое детское сердце упоминание в этом рассказе слова «чужих»: у «чужих людей». Позже няня Александра Алексеевна находилась при моей матери. Она умерла в 15-м году в Вязьме у дочери своей Знаменской (муж последней был там инспектором училища), о чем мы получили уведомление на Кавказе.
Между двумя окнами южной стены спальни стоял большой шкаф новой карельской березы с зеркалом во всю дверку; перед окнами было два белых кресла; на простенке между киотом и окном висела фотография с картины Mantegna – «Георгий Победоносец»; фотография с картины Нестерова – старец, удящий рыбу, вещь, которую я очень любил и сейчас люблю, и фотография царских врат Буецкой церкви, написанных по нашей просьбе П. И. Нерадовским[26]. Он писал их в Петербурге, это «Благовещение» в духе раннего Возрождения; Божия Матерь представлена у окна, в которое виден буецкий вид – извилины реки в светлой весенней зелени лугов, а на подоконнике арочного окна стоят гвоздики. Вспоминаю, с каким удовольствием мы с С<оней> открывали ящик с этими створками и, как сейчас помню, – на северном балконе дома; это, вероятно, было в 8 или 9 году.
В простенке между другим окном и северо-западным углом стояло небольшое бюро светлого красного дерева с круглой рубчатой крышкой, которая отодвигалась; на бюро стояли кой-какие фотографии, между прочим моя, ребенком: я снят в шотландском костюме с огромным датским догом Султаном, подаренным имп<ератрицей> М<арией> Ф<еодоровной>[27] моему отцу. Над бюро висела большая фотография моего тестя В<ладимира> П<етровича> Г<лебова>, заказанная в Париже, в рамке светлого карандашного дерева.
Перед постелями стояли низкие ширмы ясеневого дерева, ког да-то стоявшие в «большой» гостиной у двери, а перед ними – диван-постель с откидывающимся к спинке матрацем; такие диваны делались в Липканах[28], бессарабском имении моей тетушки фон Дитмар, рожденной Розен, двоюродной сестры моей матери; диван был обит светлым кретоном с розами.
Рядом с диваном стоял небольшой складной столик петровских времен из цельного красного дерева, на котором были расставлены семейные фотографии С<они>; наконец, почти посередине комнаты был круглый дубовый стол (из буецкого дуба), всегда покрытый холщевой скатертью, вышитой шелками в буецкой мастерской (кажется, вышиты были вазы); на этом столе стояла приземистая зеленая фаянсовая лампа с большим гофрированным абажуром и лежали различные предметы постоянного употребления: разрезной нож, шкатулка с нитками и иголками (насколько помню – старая испанская), большая раковина, в которой лежал золотой наперсточек С<они>, и другие вещицы. Под этим столом был постлан ковер – гладкий, с крупным рисунком в персидском духе, кажется, парижской работы; это был кусок, отрезанный от огромного ковра, лежавшего когда-то в гостиной моих родителей на Фонтанке; помню, тогда говорили, что совершенно такой же ковер был в одной из гостиных Аничкина дворца.
* * *
Дверь из спальни, о которой я упоминал, вела в небольшую проходную комнату без окон, но со стеклянной дверью на южный балкон флигеля. Стекла этой двери были в косую клетку; дверь была белая; стены комнаты были выкрашены в светло-зеленую клеевую краску; на полу был линолеум с малозаметным рисунком, большая часть которого была покрыта ковром с крупными букетами из роз на черном фоне, тканом в женском Белевском монастыре на заказ из буецкой шерсти. По сторонам стеклянной двери стояло два парных, узких и очень высоких, комода карельской березы, в которых хранились старинные деревенские наряды: кички, паневы, каталки – большею частью местные. Эти комоды прежде помещались в моей спальне на Фонтанке.
Против двери, у северной стены комнаты, стоял длинный, неглубокий белый диван в духе Louis XVI, обитый зеленой шелково-пеньковой материей с полосами, на которых были вытканы розовым гирлянды, такой же материи были и занавеси на стеклянной двери.
Диван был из белой мебели, заказанной для петербургской гостиной на Фонтанке по образцу старинной мебели, бывшей в старом Олсуфьевском доме на Девичьем поле в Москве. Этот дом с белыми колоннами, с анфила дой высок их комнат, с мансардами и с двум я флигел ями по сторонам, с полукруглыми террасами и тоже <с> колоннами был построен в конце XVIII столетия моим прапрадедом вице-канцлером и обер-ка мергером князем Александром Михайловичем Голицыным, которому некогда принадлежали и Буйцы. Позади дома был огромный сад и оранжереи. Дом затем перешел, как и Буйцы, дочери князя Александра Михайловича – княгине Екатерине Александровне Долгоруковой, а по смерти ее (она умерла бездетной) в силу завещания прапрадеда, скрепленного, между прочим, тремя императорскими подписями: Екатерины, Павла и Александра, – старшему ее племяннику, сыну ее сестры Дарьи Александровны – Александру Дмитриевичу Олсуфьеву, после которого достался его сыну Василию Александровичу и был продан последним (Василий Александрович разорился) в начале 80-х годов под клиники. Это был один из типичнейших особняков староарбатской Москвы. П. Б. Мансуров рассказывал мне, что, кажется, ни в одном доме он не видывал столько портретов, как в доме на Девичьем. Над диваном висела большая гравюра конца XVIII или начала XIX столетия – король Прусский с сестрами. Перед диваном стоял белый круглый стол. В северо-западном углу была угольная кафельная печь, вверху которой было вставлено несколько кафелей 30-х годов с синенькими цветочками; они привезены были как-то нами из Белевского уезда, в одну из поездок наших по усадьбам и церквам в поисках материала для нашего издания «Памятники искусства Тульской губернии».
В задней стене комнаты была дверь в детскую нашего сына М<иши>; над этой дверью и рядом с нею были эскизы маслом Нерадовского – буецкие темы: долина Непрядвы после грозы, вид на дубраву Терны в летние сумерки, зимние виды усадьбы и буецкая баба Варвара в буецком наряде – коричнево-красной паневе, проложенной сбоку синим и обшитой золотой тесьмой, и в «занавеске». Над дверью в северной стене, которая вела в небольшую переднюю, расположенную рядом с описываемой проходной комнатой с севера и одинаковую с нею по размеру, а также над дверью из спальни висели небольшие гравюры XVIII столетия в черных деревянных рамках: одна – Мадонна в коричневых тонах, напоминавших сепию, другая, кажется, – курчавое дерево. В простенке между углом и дверью из спальни висело небольшое масло – голова какого-то старика, подаренное мне тетушкой Еленой Васильевной Энгельгардт[29]. Посередине комнаты была повешена медная люстра, вывезенная моими родителями из одной синагоги в Бессарабии; по стилю она скорее напоминала немецкий барокко XVII века и могла быть того времени. Таких люстр было несколько в Буецком доме.
Прежде, при моих родителях, когда наша спальня была разделена на две комнаты, которые служили одно время гостевыми, эта небольшая комнатка с выходом на балкон была маленькой гостиной для гостей; в ней тогда не было только что описанных вещей, а, помнится, стоял дубовый стол (домашнего изделия), покрытый тонким красным сукном с каким-то турецким узором, и мягкая мебель; по утрам тут подавался гостям кофе.
Особенно памятны мне в детстве приезды дорогого Николая Петровича Богоявленского и жены его Надежды Петровны, которые всегда останавливались в этих комнатах. В то время Николай Петрович был лейб-медиком и старшим врачом Евгеньевской общины. Мои родители очень любили Богоявленских, а моя мать особенно верила Николаю Петровичу как врачу. Тихий, ласковый и добрый Николай Петрович по приезде в Буйцы серьезным докторским тоном заявлял, а мои родители с ним соглашались, что меня следует освободить от всех занятий на целый день; каким счастливым был для меня весь этот день: бывало, ехали ловить неводом рыбу в Семеновский пруд, с чаем, а вечером – веселая иллюминация вокруг дома!
* * *
Юрий Александрович и Софья Владимировна Олсуфьевы в Красных Буйцах. 1902. Частное собрание, Москва
Соседняя с севера комната, как я уже говорил, была передняя. Из нее была стеклянная дверь на маленький балкон или, скорее, крыльцо флигеля на его северной стороне, по сторонам которой было два небольших оконца; низ этой двери был замуравлен, и стеклянный верх служил третьим, довольно широким окном; другая дверь, тоже стеклянная, в восточной стене вела в длинный светлый коридор, который шел вдоль северной стороны детской; стекла этой последней двери были квадратными; она тоже, как все двери дома, была выкрашена в белую краску; эта была третьей дверью в передней, т<ак> к<ак> о двери из соседней проходной комнаты я уже упоминал. Против стеклянной двери в коридор приходилась кафельная печь, одно зеркало которой, как говорилось, выходило в спальню; в верху печи было вставлено несколько старинных арабских изразцов, привезенных моей матерью из Алжира; печи придавался уютный вид глубокой нишей, в которой был вделан котел для горячей воды. Передняя была выкрашена в светло-зеленую краску; на полу был линолеум с едва заметным рисунком.
Юрий Александрович и Софья Владимировна Олсуфьевы в Красных Буйцах. 1902. Частное собрание, Москва
Из передней вдоль южной, а затем и западной стены вела ко мне в кабинет в мезонин, или светелку, как называл эту комнату мой отец, белая лестница; балюстрада из прямых квадратных белых столбиков, поставленных друг к другу ребрами, и толстый темно-красный ковер с блестящими медными прутьями придавали ей теплый и красивый вид. В передней у среднего окна стоял большой дубовый ларь, окованный железом, XVI–XVII века, купленный нами у старика-иконника Дубровина в Ярославле в одну из наших поездок на Север; по сторонам его стояло два испанских стула тисненой кожи XVII века[30]; напротив у лестницы стоял тоже старый русский ларь, а на нем – большой медный кувшин, привезенный моим отцом из Дагестана. Рядом стоял третий испанский стул – такой же, как два предыдущих.
Против лестницы, у восточной стены, в простенке между печью и юго-восточным углом был грушевого дерева комод с резьбою болонской работы XVII века[31], привезенный из Италии моими родителями; на нем лежало старое медное блюдо, кажется датское, и стояло два датских же толстых, медных, витых подсвечника, привезенных моим отцом из Копенгагена, где ему часто приходилось бывать с покойным государем Александром III. Над комодом стояла большая икона Знамения, написанная Д. С. Стеллецким для строившейся тогда Куликовской церкви и стоявшая здесь временно. Над дверью из соседней проходной комнаты висела старая французская гравюра в черной рамке: «Les enfants d’illustre maison» [ «Дети из благородного семейства»] – два мальчика в камзолах XVIII столетия, играющие с барсуком; старый сложный герб довершал впечатление доброго старого французского быта – «ancien régime». Над дверью-окном висела длинная гравюра классического сюжета, несколько ниже ее, в маленьких простенках между окном-дверью и небольшими оконцами, были две гравюры – баталии XVIII века с турками, наконец над дверью в коридор – гравюра тоже XVIII столетия: встреча Диогена с Александром Македонским; все эти гравюры были в черных деревянных рамках. Забыл упомянуть, что в узеньком промежутке между печью и северо-восточным углом стоял ящик для дров, выкрашенный в желтый цвет с широкими зелеными полосами.
* * *
Лестница, которая шла ко мне наверх, выходила на небольшую площадку, с которой белая дверь с узкой рамой вверху для освещения площадки вела в кабинет. Площадка и пролет лестницы были отделены от кабинета белой перегородкой. На стенах перегородки и в углу лестницы была расположена старая резьба по дереву, которую я как-то вывез из нашего уездного городка Епифани[32]; она валялась в мусоре на чердаке оградной башни собора. Это были сцены церковного содержания, надо думать, из иконостаса старого собора времен Анны Иоанновны. Судя по сохранившейся местами позолоте, резьба была вся позолочена по левкасу; это были типичные для XVIII столетия фигуры, исполненные движения, претендующего на естественность. По стенам вдоль лестницы висели следующие вещи: «Времена года» Сомова, закантованные золотым ободком; васнецовское коронационное меню, лежавшее у прибора моего отца на обеде в Грановитой палате[33]; небольшой этюд маслом П. И. Нерадовского буецкой девочки Наташи Кузнецовой; старая немецкая гравюра XVII века – замок; фотография с картины Сверчкова «Красное Село»: в коляске императрица Мария Александровна с великими князьями, к которой в сопровождении свиты подъехал государь; за коляской стоит мой дед Василий Дмитриевич, а впереди Матвей Иванович Толстой; самая картина находилась у дяди моего графа Алексея Васильевича в его московском доме на Поварской; выше висело изображение фрегата «Светлана», масло, написанное в Японии; на этом фрегате мой отец в шестидесятых годах проделал путешествие в Северную Америку; будучи тогда адъютантом наследника, он вызвался сопровождать в Америку великого князя Алексея Александровича; фрегатом командовал Посьет; отец, всегда любивший море, на всю жизнь сохранил самое горячее воспоминание об этом путешествии. Потом висела акварель брига «Петергоф» с катающимися на нем великими княжнами, дочерьми государя Николая Павловича, на ревельском рейде – вещь, подаренная моему отцу его троюродным братом Феденькой В.
Далее висело два гравюрных портрета, подаренных моему деду Василию Дмитриевичу, и, если не ошибаюсь, оба с автографами: один графа Михаила Юрьевича Виельгорского, другой – председателя Государственного Совета князя Орлова; на портрете Виельгорского Васей Комаровским карандашом были приписаны стихи Михаила Алексеевича Веневитинова на тему, кого Виельгорский, его дед, любил; помню из них строку: «кто был умен и славен». Еще выше было два буецких вида маслом, довольно наивные произведения старика-художника, давно покойного Ростислава Кузьмича Цехановского, но которые я любил по воспоминаниям о Буйцах времен моего раннего детства; оба вида изображали старую буецкую мельницу: мужик в грешневике под мельницей удит рыбу, женская фигура в красном платочке проходит через плотину, на бугре видна наша усадьба – восточный флигель еще не соединен с средней частью дома, а за «старым» садом виднеются красные стены строящегося, так называемого «большого» дома для конторы и служащих. На площадке перед лестницей стоял старинный резной арабский ларь, привезенный моей матерью из Алжира[34], а за ним, почти во всю вышину стены, была икона Архангела Гавриила, написанная Стеллецким для иконостасной двери на Куликове и так же, как и «Знамение» внизу, стоявшая здесь временно.
Юрий Александрович и Софья Владимировна Олсуфьевы в Красных Буйцах. У клеток с попугаями. 1902. Частное собрание, Москва
Я только что упомянул о Ростиславе Кузьмиче Цехановском; он живал у нас в годы моего самого раннего детства, но почему он у нас бывал, я не знаю; помню его высоким стариком с большой седой бородой, молчаливым, всегда за работой с масляными красками; в Буйцах он написал много больших образов для церкви в духе академизма; помню, писал он их в только что тогда построенной «нижней» гостиной, а обводил их черными полосками кривой мальчик Трошка, на несколько лет старше меня; затем помню Ростислава Кузьмича в Ницце, где он жил в каком-то флигеле нашей виллы с белыми стеклянными дверьми, это было в зиму перед коронацией Александра III, когда моего отца доктора послали на юг после тяжелого плеврита. Все эти детские воспоминания как сквозь сон представляют мне былое, представляют его не цельным и последовательным, а разобщенными детскими впечатлениями: вот Ницца, Villa de l’Anglais, le mont Boron [Английская вилла, гора Борон], милая, веселая Оля, сестра няни Елена Андреевна, какой-то ошейник, который отец перебросил через стенку с верхом, унизанным битым стеклом, конечно, море с большим пляжем, опрокинутые лодки и игра в путешествие с Мейендорфами (Шуваловыми); старик Миклашевский в цилиндре; рыбачьи шхуны и покупка мне моей матерью модели яхты с названием «Toujours le même» [ «Неизменная»] (этот кораблик с трехмачтовым кораблем «Нестором» составляли часть моей флотилии в Буйцах, которая пускалась моим отцом со мною по Непрядве и которая возбуждала во мне самое пылкое и широкое воображение; впоследствии, до самого последнего времени, эти кораблики хранились на полках в кладовой «большого» дома); морские похороны Гамбета; осмотр французского фрегата; затем посещение какого-то couvent [монастыря]; апельсины, изюм и миндаль после завтрака, разговоры о Корсике и поездка туда из Ниццы моих родителей; наконец – марионетки в Париже и толстая, жизнерадостная там тетка Марианна Свистунова, которая везет меня куда-то в своей карете: мне было тогда всего четыре года!
В доме Олсуфьевых на Фонтанке, Петербург. Сидят (слева направо): Ю. А. Олсуфьев, Л. В. Глебова и А. В. Олсуфьев. Стоят (слева направо): П. И. Нерадов ский, Владимир и Василий Комаровские, С. В. Олсуфьева. Около 1904. Частное собрание, Москва
* * *
Но войдем в мой кабинет. Это была невысокая, продолговатая комната поперек дома с тройным, так называемым итальянским окном на юг и с окном на север; стекла в окнах и тут были в косую клетку; комната была выкрашена светло-зеленым; пол был покрыт линолеумом такого же рисунка, как в спальне; посередине комнаты был постлан толстый дагестанский ковер в темно-бордовых красках, а у письменного стола, стоявшего около южного окна, был коричневый ковер верблюжьей шерсти. Посередине восточной стены была кафельная печь, расписанная вверху С<оней> вазами, которые она списала с одного изразца в Алжире. Против печи приходилась дверь; она вела в небольшую чердачную комнату с верхним светом, служившую моему отцу уборной, а мне – чуланом для склада зимних рам и других вещей.
Лестница, как говорилось, была отделена от комнаты белой перегородкой до потолка, которая образовывала прямой угол. Войдя в кабинет, налево, в простенке между северным окном и дверью, висела гравюра начала прошлого столетия – русские пленные генералы в 12-м году во Франции; среди них – Захар Дмитриевич Олсуфьев. Ниже висела цветная гравюра – великий князь Константин Павлович с сигарой на террасе Лазенковского дворца. Под северным окном стояла дубовая скамья из дуба петровских шлюз<ов>; скамейка была заказана моей матерью по образцу крестьянских и была покрыта подушкой красного сафьяна. В простенке между окном и северо-восточным углом стоял всегда закрытым складной шахматный стол цельного дерева петровских времен; на нем лежали в особом фермере неоплаченные конторские счета; перед ним стоял стул, тоже цельного красного дерева, но светлого оттенка[35]; он был из теперь сгоревшего Петровского дворца на Каменном острове, о чем гласила и надпись, вырезанная моим дедом Василием Дмитриевичем на медной дощечке на спинке стула. Под столом на полу стоял дубовый крестьянский ларец, купленный мною у даниловского крестьянина Воробьева (Даниловка – соседнее наше имение, купленное моим отцом в начале 80-х годов у своего двоюродного брата Василия Александровича Олсуфьева и когда-то составлявшее одно целое с Буйцами), в нем хранились счета оплаченные; над столом висела небольшая печатная статистическая таблица, показывавшая результаты буецкого хозяйства за шесть лет; ближе к окну был телефон, соединявший кабинет с конторой в «большом» доме; на этом же простенке, над столиком, висел большой поясной портрет в натуральную величину маслом лесника Артамона Спицына, написанный в конце 90-х годов П. И. Нерадовским. Артамон был много лет лесником в нашем Семеновском верху – двух старых дубовых лесах в четырех верстах от усадьбы, соединенных между собою густой посадкой из сосны, ели, ясеня и дуба моей матерью в начале 90-х годов. Артамон был родом лебедянец из села Романова, обладал свирепым голосом и огромной силой: он рассказывал, как в молодости, на родине, он задушил матерого волка, который напал на стадо и который был задержан овчарками; при этом он любил показывать глубокий шрам на ноге от укуса этого волка.
Семеновские посадки были любимым местом для моих осенних охот с гончими: запрягались легкие «толстовские» санки[36], в которые укладывались ружье «cock-real» [марка оружия] в кожаном футляре и длинные финские лыжи; я ехал крупной рысью по большаку; широкая рысистая гнедая матка Кобячиха или кобыла Девятка прекрасно знали поворот в посадки и править не приходилось; сзади в охотничьих санях парою, с двумя-тремя смычками гончих[37], поспевали за мной Феодор и Сергий. Феодор был буфетным мужиком; страстный охотник, горячий, он до самозабвения любил природу. Сергий с детства был у нас в доме, сначала выездным казачком у моей матери в Петербурге, затем «человеком» в доме. Это был ловкий, сметливый и умный молодой человек, прекрасный служащий, любивший держать дом в образцовом порядке; он умел принять и гостей, до тонкости зная все наши отношения к приезжим; он прослужил у нас с года нашей свадьбы до зачисления в силу необходимости в санитары на Кавказе. Веселая охота кончалась около трех часов дня, когда мы с несколькими русаками, проголодавшись, спешили домой. «Видишь ты, как Светланка погнала, я и выбежал на канаву, вокурат он…», – доносился возбужденный голос Феодора, который направо и налево рассказывал про свои удачи и неудачи на охоте.
Дома С<оня> уже отобедала: ей подавала Дуня, жена Феодора, что было крупным нарушением буецкого этикета; но вот уже смеркается, и мороз крепнет; Сергий, переодевшись, привычным жестом задергивает занавеси в гостиной и зажигает лампы, а там – чтение, тихие беседы и долгие, долгие думы…
Однако лесник Артамон завел меня в чащу воспоминаний, и я поспешу вернуться к описанию кабинета. На той же стене, но ближе к северо-восточному углу была большая фотография в широкой черной раме с портрета дядюшки графа Алексея Васильевича Олсуфьева, только что выпущенного из Пажеского корпуса в лейб-гусары; это было перед самой венгерской кампанией, в которой дядя принимал участие. В промежутке между упомянутым углом и печью стоял большой резной диван-ларь темного дерева[38] с прямой спинкой, ита льянской работы XVII века, вывезенный моими родителями из Италии. Над ним висела старая французская гравюра – «Les baigneuses» [ «Купальщицы»], в черной рамке, затем другая гравюра, тоже старая французская – праздник Вакха, и два маленьких этюда Стеллецкого: группа из картины Ghirlandaio и средневековая золоченая статуя Мадонны в Limoges; оба этих талантливых наброска были подарены нам Стеллецким в 912 году в Ракше, у Комаровских[39], где Дмитрий Семенович вместе с Комаровским тогда писали иконостас для Куликовской церкви и куда этим летом мы с С<оней> и сыном ездили их повидать. В. Комаровский в то время недавно женился на двоюродной сестре С<они> – на В<арваре> С<амариной>.
За печью стоял дубовый шкаф со стеклянными дверцами для ружей и охотничьих принадлежностей, а на нем стояло чучело фазана, убитого мною как-то в Гатчине, куда я в молодые годы приглашался к в<еликому> к<нязю> М<ихаилу> А<лександровичу> и в<еликой> к<няжне> О <льге> А<лександровне> по воскресеньям. В этих охотах принимали участие, кроме меня, князь Д. Б. Голицын, ловчие государя В. Р. Диц и Ларька Воронцов (граф Илларион Илларионович). В эти юные годы я дружен был не столько с в<еликим> к<нязем> М<ихаилом> А<лександровичем>, как с в<еликой> к<ня>ж<ною> О<льгой> А<лександров ной>. Ко мне с большой ласкою и исключительной милостью относилась и императрица М<ария> Ф<еодоровна>. Несмотря на мой юношеский возраст и<мператри>ца любила со мною беседовать; это бывало за чаем или в ее небольшой гостиной на самом верху Аничкина дворца с окнами на Невский проспект. Помню, как вскоре после убийства Сипягина я оказался у в<еликого> к<нязя> М<ихаила> А<лександровича> и был позван к и<мператри>це. Я был тогда студентом университета. И<мператри>ца расспрашивала меня о настроениях студенчества и говорила о тех лишних тратах, которые, по ее мнению, позволял себе покойный министр, например, по отделке им своей квартиры в русском стиле на казенные средства, причем, говоря о министрах, употребляла выражение «они», как о чем-<то> обособленном и самодовлеющем.
Софья Владимировна Олсуфьева с сыном Мишей. Около 1904. Частное собрание, Москва
Юрий Александрович Олсуфьев с сыном Мишей. Около 1904. Частное собрание, Москва
В имении Безобразовых-Комаровских Ракша Моршанского уезда Тамбов ской губернии. Слева направо: Д. С. Стеллецкий, С. В. Олсуфьева, С. П. Мансуров, Ю. А. Олсуфьев и Владимир Комаровский. Июль 1912. Частное собрание, Москва
Бывая часто в Гатчине, Аничкином и Александрии, мне не раз приходилось близко видеть в интимном кругу г<осударя> и<мператора> Н<иколая> А<лександровича>. Раз как-то, еще гимназистом старших классов гимназии Мая, я был зван в Александрию и почему-то шел один приморской дорогой, когда неожиданно повстречался с г<осударем> и молодой и<мператрицей>. Г<осударь> поздоровался со мною и, обратившись к и<мператри>це, меня представил ей, сказав: «This is the young count Olsoufieff» [ «Это молодой граф Олсуфьев»]. В одну из встреч в Аничкином дворце г<осударь> горячо, ходя большими и порывистыми шагами по комнате, говорил мне о русском искусстве и особенно восторженно – о произведениях Нестерова. По окончании мною гимназии г<осударь> убеждал меня (это было в Александрии) не поступать в Московский университет, зараженный нигилизмом, а непременно в Петербургский; впрочем, я не знаю, почему г<осударь> говорил мне о Москве, когда мы жили в Петербурге, разве он только знал, что в Москве кончил курс мой отец.
Другой раз вспоминаю обед в Александрии у и<мператрицы> М<арии> Ф<еодо ровны>. Кроме ц<арской> семьи был только Сережа Шереметев (Сергий Владимирович, внук по матери в<еликой> к<няги>ни М<арии> Н<иколаевны>) и я. Г<осударь> остроумно рассказывал про какого-то губернского предводителя дворянства, который ежегодно при представлении повторял ему все тот же анекдот; после обеда (обед был на террасе) стало сыро и и<мператрица> А<лександра> Феодоровна заботливо просила г<осударя> надеть пальто.
Владимир Алексеевич Комаровский с женой Варварой Федоровной, урож денной Самариной. 1912. Частное собрание, Москва
Но воспоминания о царской семье заполнили бы целую тетрадь, здесь же упомяну еще, что студентом я был приглашен на свадьбу в<еликой> к<ня>жны О<льги> А<лександровны> в Гатчине. Накануне мы вдвоем с ней объезжали в двуколке ею любимые гатчинские места. Нам обоим было грустно. На другой день была свадьба и проводы молодых на вокзал; я так и слышу грустное «до свиданья» в<еликой> к<няги>ни с особым твердым и протяжным произношением слога «да». Позже мы были в переписке…, началась размолвка…, в<еликая> к<няги>ня писала мне: «I try to be good» [ «Я стараюсь быть добродетельной»], писала между прочим и про свадьбу в<еликой> к<няжны> Ирины А<лександ ровны> с Юсуповым: они оба ей не нравились и она противополагала Ирине А<лександровне> в<еликую> к<няжну> О<льгу> Н<иколаевну>, с которой, по выражению в<еликой> к<няги>ни, они были «одного теста». Последние годы переписка наша совсем было прекратилась, когда, неожиданно, в 16-м году я получил от нее открытку на английском языке, как и все ее письма, в запечатанном пакете через тульского воинского начальника, в которой она поздравляла меня со днем моего рождения (28 октября), говорила о сообщенном ей солдатами в госпитале з<аговоре> в армии против г<осударя> и просила меня что-нибудь сделать, чтобы предупредить. Письмо это в пакете должен был передать мне в Буйцах один раненый, который, не найдя меня дома, благоразумно отдал его тульскому воинскому начальнику, сообщив от кого; последний, не вскрывая пакета, не замедлил препроводить его мне при соответствующем отношении в Тифлис. Я был озадачен, что предпринять, и свез письмо кн. Орлову, который был тогда помощником наместника в<еликого> к<нязя> Н<иколая> Н<иколаевича>. Объяснив ему свои дружественные отношения с детства с в<еликой> к<няги>ней, я дал ему прочесть ее странное и, надо сознаться, наивное обращение ко мне. Орлов только пожал плечами, задумался и имел вид, что все равно сделать ничего нельзя…
В эту осень на Кавказ к в<еликому> к<нязю> Н<иколаю> Н<и-колаевичу> приезжал Гуч<ков> под предлогом осмотра санитарного состояния армии… Я к нему первый не поехал, и он у меня не был, ограничившись письмом с выражением любезности по поводу виденных им в Батуме учреждений Земского Союза. В это же приблизительно время в один из моих приездов в Москву по делам Союза кн. Г. Е. Львов меня подробно расспрашивал о в<еликом> к<нязе> М<ихаиле> А<лек сандровиче>…[40]
* * *
Между охотничьим шкафом и юго-восточным углом комнаты помещался огромный диван, построенный когда-то дома, кажется, Петром Лапиным, или Артемычем, как звали этого мастера на все руки: он был и обойщиком, и маляром, и переплетчиком; брат его Тимофей Артемыч, хромой, из «приказных» людей, был десятки лет буецким конторщиком; он нюхал табак с мятой и по вечерам прочитывал, кажется, все газеты, получаемые через нашу контору, а когда случайно, бывало, встретит в газете нашу фамилию, то, тщательно подчеркнув это место красными чернилами, торжествующе нес мне его показывать. Оба они давно умерли. Диван был покрыт бессарабскими коврами; над диваном по восточной и южной стене, образуя прямой угол, была полка из черного шлюзного дуба для фотографий, рисунков и мелких вещиц, на стене же за полкой, над диваном, висел тоже бессарабский ковер – черный, с узором, напоминавшим писанки; ковер огибал угол и закрывал все пространство между полкою и диваном. В углу висела икона великомученика Георгия на коне, написанная Цехановским, в небольшом киоте карельской березы. На полке стояли: фотография г<осударя> и<мпе ратора> Н<иколая> А<лександровича> с собственноручною надписью «Графу А. В. Олсу фьеву» (моему отцу); фотография в<еликого> к<нязя> М<ихаила> А<лександро вича> молодым артиллерийским офицером; карандашный рисунок Нерадовского – карикатура на моего двоюродного брата Д. А. (графа Д. А. Олсуфьева), Митя с выражением читает нам «Медного всадника»; затем группа молодежи на Таврическом катке: тут в<елики>е к<нязья> Кир<илл>, Бор<ис> и Анд<рей> В<ладимирови>чи, Звегинцевы, Горчаковы, Урусовы и я, мальчиком лет 12, с моим воспитателем Mr. Cobb. Как живо вспоминается это время в Петербурге: кончили завтракать, моя мать с длинными перчатками желтой замши и порт-картом [сумочка для визитных карточек] в руках спешит по визитам, карета уже подана, спешит и высокий выездной Феодор в длинной темно-синей ливрее с серебряными гербовыми пуговицами и цилиндре с кокардой; а мы с Mr. Cobb на извозчике отправляемся в Таврический дворец. Там придворный каток, куда допускались самые лишь тесно связанные со двором. Но нас знают, и бритый старик-швейцар, похожий на римского сенатора в красном, привычно-почтительно нам кланяется. В огромном вестибюле толпятся выездные лакеи приезжающих дам; мы проходим ряд запустелых зал, которые живо говорят о веке Екатерины и пышного князя Таврического… Но вот и последний зал, где услужливый придворный лакей в серой тужурке с золотыми пуговицами надевает мне коньки и подает мне мои санки; он называет меня: «Ваше сиятельство». Его все благодарят, но имени его никто не знает. Выхожу на ледовый спуск: тут все знакомые – и взрослые и дети.
Часто, часто вспоминаю тебя, северная столица, моя родина. Вот морозное, туманное утро, огненной иглой блистает петропавловский шпиль; прогремела пушка, обозначая полдень, безучастным ревом заревели гудки Монетного двора, глухо промчалась карета по торцовой мостовой набережной, а куранты Петра и Павла, как в раздумье, бросая свои унылые звуки во мглу морозного воздуха, заиграли свой обыденный «Коль славен…» В этот час я, бывало, ребенком возвращался с прогулки в сопровождении няни или англичанки Летним садом к завтраку…
Далее на полке в светлой березовой рамке стояла большая фотография моего отца неуклюжим, коренастым молодым человеком в штатском. Это было вскоре после того, как отец мой поступил на математический факультет Московского университета. Дед мой – граф Василий Дмитриевич – уже несколько лет как скончался (он умер в Риме в 1858 году), бабушка графиня Мария Алексеевна жила тогда за границей, и отец мой был поручен попечению своей старушки-тетушки Екатерины Дмитриевны Мухановой. Тетушка Муханова рано овдовев (муж ее был убит в 12-м году своими же казаками, принявшими его за француза, в то время как он говорил по-французски со своими товарищами), жила в своем особняке в одном из стародворянских московских переулков недалеко от Арбата. Рассказывают, что она очень похожа была на свою мать – Дарью Александровну Олсуфьеву[41], от которой унаследовала весь тонкий и изысканный уклад времени Marie Antoinette; этим она очень отличалась от своей сестры Софьи Дмитриевны Спиридовой, всегда окруженной, по привычкам старого русского барства, карликами и шутихами, вносившими в дом ее грязь и безалаберность. Тетушка не была богата, но все у нее было хорошо: и туалет, и дом, и небольшая подмосковная, название которой я забыл, и старый дворецкий Bijou, и выезд.
К моему отцу тогда был приставлен в качестве дядьки Тихон Иванович, бывший камердинер деда из дворовых людей. Надо было видеть, рассказывал мне мой отец, как Тихон Иванович оскорбился, когда бабушка графиня Мария Алексеевна после освобождения крестьян имела неосторожность ему сказать, что он теперь свободен и волен даже уйти. Тихон Иванович зорко следил за своим питомцем, и отец вспоминал, как дядька его по вечерам влезал на крышу против окна комнаты, где он готовился к экзаменам и часто засыпал за книгою, чтобы иметь возможность его вовремя будить. Отец, хорошо выдержав экзамены, поступил в университет на математический факультет шестнадцати лет.
Не могли веяния времени не оказать влияния на горячего, юного студента, и мой отец, естественно, оторвался от тех связей, которые его с детства сближали с двором (он был товарищем детства великих князей, сыновей государя Александра Николаевича). В университете он скоро сблизился с интеллигентной староуниверситетской семьей Лебедевых, в кругу которой неразлучно со своим сверстником и другом Иваном Лебедевым он и проводил свои университетские годы. Я впервые видел Ивана Николаевича уже стариком, дряхлым, чахоточным «неудачником», страдавшим запоем, но как ласков, как удивительно сердечен был этот «неудачник», этот, казалось, «никому не нужный» человек! Ко всем благожелательный, приятный собеседник, человек чистых и благородных намерений, он обладал кроме того талантливой поэтической формой, и небольшая тетрадь его красивых стихов хранилась в одном из шкафов нашей библиотеки в западном флигеле. Жизненные пути моего отца и Ивана Николаевича, однако, разошлись широко, но как трогательна, вспоминаю, была встреча обоих друзей в коронацию государя Николая Александровича: отец был только что назначен генерал-адъютантом, а скромный Иван Николаевич шел к нему во дворец в какой-то накидке «вечного студента», по поводу которой шутя он повторял латинскую поговорку – «omnia mea mecum porto» [все мое ношу с собой]. И действительно, у Ивана Николаевича ничего не было: всю свою небольшую часть состояния он давно передал брату, у которого была большая семья. Для Ивана Николаевича отец мой оставался тем же прежним «Сашей», вспоминалось старое, те далекие университетские годы, которые обоим были так дороги…
В один из приездов государя Александра Николаевича в Москву отец студентом был вызван им на бал во дворец, и государь, подойдя к нему, оторопевшему юноше, громко гаркнул: «Говорят, Сашка, ты демагогом стал, когда же увижу тебя гусаром?» Но гусаром, по примеру двух старших братьев Алексея и Адама, моему отцу стать было не суждено, и он, по окончании математического факультета с отличием (его кандидатское сочинение носило название «Эйлеровы интегралы»), поступил в четвертую батарею гвардейской конной артиллерии, где он мог применить свои математические склонности; затем он назначен был адъютантом к наследнику Александру Александровичу, что и положило начало его долголетнему военно-придворному поприщу.
В те годы, будучи еще холостым (он женился в 75 году), мой отец занимал в Олсуфьевском доме на Фонтанке нижний, сводчатый этаж, а семья дядюшки графа Адама Васильевича, который был тогда флигель-адъютантом, а затем свиты генерал-майором Александра II, помещалась в среднем этаже[42]. Отец тогда жил в семье дяди и проводил часть лета, свободного от службы, в Никольском, родовом имении Дмитровского уезда моей тетушки графини Анны Михайловны, жены дядюшки графа Адама Васильевича, рожденной Обольяниновой.
Старая усадьба Никольское была устроена всесильным любимцем Павла Петровича – Петром Хрисанфовичем Обольяниновым: огромный белый дом с колоннами, полукруглые галереи по сторонам флигеля, древний парк с широкими аллеями и вековыми липами, которые спускались к гладям обширных прудов, белые павильоны в парке – все это хранило отпечаток своего времени.
При тетушке графине Анне Михайловне Никольское было одним из интеллектуальных центров, где тетушка любила собирать «передовых» людей, ученых и земских деятелей, где читались научные и литературные новинки… В Никольском строились школы, больницы, устраивались читальни, благодетельствовалось население всей округи, воспитывались и субсидировались целые поколения интеллигентов и полуинтеллигентов «на счет графини». Признаюсь, было что-то благородное в этом барском размахе шестидесятничества, которым так доверчиво грешило наше «передовое» дворянство.
Воспитанный в богобоязненной и церковной по своим традициям семье моего деда Василия Дмитриевича, дядя граф Адам Васильевич постепенно уступал влиянию тетушки графини Анны Михайловны и вышел в отставку после воцарения Александра III, чтобы почти безвыездно поселиться в Никольском, но он хранил в себе черты, которые были, как будто, недоступны тетушке с ее по преимуществу умственными склонностями – это тонкое и глубокое не только понимание природы, но и общение с нею. Помню, как однажды во время сева раннею весною клевера у дяди вырвалось: «Ах, Юрий, что может быть лучше весны!» Дядюшка умер в 901 году, когда тетушки уже не было в живых. «Миша, как хорошо умирать!», – сказал дядя своему сыну, и это было чуть ли не последними его словами. Перед кончиной он возложил на себя мощевик, вероятно тот самый, которым благословил его отец и который в настоящее время находится у нас[43]. Моя мать, не выносившая шестидесятничества и русской интеллигенции, чуждалась Никольского и всячески оберегала моего отца от его молодых университетских влечений. К Никольскому периоду должен быть отнесен и дьякон Александр Михайлович, который, больше собеседник и хороший чтец, чем служитель алтаря, много лет пробыл в Никольском и постоянно приглашался, чтобы вслух читать тетушке. Прошло много времени с тех пор; дьякон давно был переведен в Москву, но в коронацию государя Николая Александровича отец, живя в Москве, непременно захотел его разыскать и поехал к нему со мною (я тогда был гимназистом). Какая шумная, восторженная была встреча! Толстый дьякон, еще бодрый старик, потянулся за гитарой, и сразу полились звуки какой-то давно забытой студенческой песни, сразу, видимо, у обоих ожило давно минувшее… Как чуждо все это теперь нам, но как свойственно все это было тургеневскому прошлому!
Затем, на той же полке, была наша фотография женихами, летом 1902 года в Бегичеве, имении тогда молодых Толстых, и фотография Лины Толстой, старшей сестры моей невесты и будущей жены, с своим старшим сыном Ваней на руках. Толстые недавно тогда купили Бегичево, кажется у Панютиных; длинный старый белый дом с анфиладой высоких комнат, хвойный парк с темными и глубокими прудами были еще времен Смирновых, которым Бегичево принадлежало в 30-х годах и где не раз бывали Пушкин и Гоголь. С Бегичевым как нельзя лучше вязался облик Л<ины> Т<олстой>, столь чуткой к поэзии прошлого, столь музыкально восприимчивой к настоящему!
Милое, славное Бегичево в глубоких калужских сугробах, как живо пом ню я свой первый приезд туда в глухую зимнюю пору. Мы были там на святках с другом Нерадовским. Мы приехали туда поздно вечером из Буец. Я так и вижу длинный освещенный дом, так и слышу приветливые голоса милой, веселой семьи: там проводили праздники все Глебовы. Как памятны мне затем светлые морозные дни, катанье с гор и снежная тропинка за парком, по которой мы ушли вдвоем с С<оней> вечерней зарей. Заря уже потухала, и тени старых елей становились все длиннее; мы вышли на поляну, крепчал мороз и багровел запад между стволами черных елей… Мы были одни, мы говорили о жизни, о смерти, о нашей молодости; говорили о будущем, которое мы тогда без слов почувствовали, что будет для нас общим… Затем возвращение в освещенный дом, веселые игры, веселые споры… Потом грустный отъезд, охота на волков в Медынском уезде, опять Буйцы, чтение Баратынского, Москва, вечер у Глебовых, снова Петербург, письмо и – жениховство.
Еще дальше, все на той же полке, была группа: я, мальчиком лет одиннадцати, мой родственник и друг юности А. Горчаков[44] и оба наших воспитателя – Mr. Cobb и Н. Д. Чечулин[45]. Рядом стояли фотографии того же Горчакова, Павла Николаевича Салькова, этого друга нашей семьи, и моего дядюшки, или, скорее, grand oncl’a Розновано[46], двоюродного брата моей бабушки графини Марии Николаевны, бравого полковника румынской службы, одно время председателя парламента, горячего сторонника России и некогда офицера конной гвардии при государе Николае Павловиче, перед чьей памятью дядюшка благоговел. Тут же стояла группа веселой молодежи, собиравшейся на Захарьинской у Мейендорф<ов> в середине 90-х годов (тогда дядя Феодор Егорович был начальником канцелярии императорской главной квартиры); тут мои двоюродные братья и сестры и их двоюродные; тут Петр Шереметев и брат его Сергей, оба студентами; затем Сила Орлов[47], Тока Гагарин, Роя Голицын – тоже студентами, Раевские, Уварова, Ирина Нарышкина, Левшины, С<ко ропадс>кие[48] и я, гимназистом должно быть, седьмого или восьмого класса гимназии Мая, в штатском, в котелке, «наиприличнейший из нас», как выразился про меня какой-то рифмоплет этой веселой компании.
Я только что упомянул Ирину Нарышкину, память <о> которой заставляет меня к ней вернуться. Это была дочь Василия Львовича Нарышкина и жены его – грузинки, урожденной княжны Орбелиани (воспитанница фельдмаршала князя Барятинского). Нарышкинский дом был одним из самых богатых и элегантных тогда в Петербурге. Эти Нарышкины были единственными потомками родного брата царицы Натальи Кирилловны. В их доме, в детстве, я учился танцевать и там видел Эммануила Дмитриевича Нарышкина, grand oncl’a [двоюродного дедушку] Ирины, этого торжественного царедворца былых времен (говорили, что он был побочным сыном Александра I). Высокая, хорошо сложенная, смуглая, как все Нарышкины, Ирина обладала большим шармом: всегда приветливая, милая, простая; я знал ее с детства. Помню, как однажды мы танцевали с нею на детском балу в Аничкином дворце и как, не заметив ее со мной, подбежал ко мне молодой офицер с предложением танцевать с его сестрой и я с долей возмущения ответил ему, что у меня уже есть «дама». Тут же я узнал, что молодой офицер был государь наследник, которого я видел тогда впервые. Но скоро Ирина Нарышкина меня переросла: она была выезжающей барышней, а я – застенчивым гимназистом. Помню ее на балу у Клейнмихель, окруженной толпой кавалеров, затем уже замужем за моим старшим по годам приятелем – добродушным Ларькою Воронцовым на рауте у Воронцовых, на котором была вся царская семья, наконец – плачущей над гробом молодого Барятинского… С Воронцовым она разошлась и вышла за князя Сергия Долгорукова, но и с ним, кажется, не была счастлива и вскоре умерла, говорят, отравилась. Было всегда что-то грустное в ее глубоких, черных глазах… Почему-то, вспоминая ее, мне всегда приходит на память «Сказка для детей» Лермонтова.
Ближе к окну стояла копия маслом Нерадовского с портрета Ге моего дяди графа Адама Васильевича в форме свиты генерал-майора; наконец – фотография моего покойного двоюродного брата Алеши Васильчикова[49], которого я очень любил, в длинной дорожной накидке.
Между стенкою большого углового дивана и полкою на восточной стене висела фотография с картины Боттичелли «Шествие Весны», а на южной стене – большая фотография бабушки графини Марии Николаевны в ореховой овальной раме, стоявшая прежде в кабинете моего отца на Фонтанке. Над полкою на восточной стене были развешены три фотографии: две в дубовых рамках с картин Васнецова «Игорево побоище» и «Каменный век» и одна – в красной раме с бронзою – «Великий постриг» Нестерова.
Перед южным окном и перпендикулярно к нему стоял небольшой письменный стол XVIII столетия, с бронзовыми ручками его ящиков, типичного рисунка Louis XV; он был окрашен в бурый цвет, а верх его был оклеен клеенкой, покрытой красной масляной краскою; стол этот стоял здесь еще при моем отце и достался от прапрадеда адмирала Григория Андреевича Спиридова, героя Чесмы. Возможно, что он был корабельным столом, если принять во внимание его небольшой размер. В ящиках стола сохранились и печатные этикетки XVIII века с именем мастера – итальянца в Ливорно и датою 177… года. На столе стояла стеклянная чернильница моего отца – круглая, плоская, с медной крышечкой; рядом с нею – граненый стакан розового оттенка из старого соллогубовского хрусталя, в нем была насыпана дробь для втыкания перьев; затем помнится и другая чернильница, небольшая, дорожная; по сторонам первой чернильницы стояло два старорусских медных прорезных подсвечника, с двумя свечами в каждом; за чернильницей, в кожаном красно-желтом футляре, были настольные часы, а на них – небольшая бронза, копия с античной; тут же, рядом с чернильницей, лежала маленькая безделушка, я иначе не умею ее назвать – крошечная скамеечка, с которой мопсик тащит за хвост кошку, первый детский подарок мне в<еликой> к<ня>жны О<льги> А<лександровны>. Посередине стола был красный кожаный бювар, а вправо от него – пенал соррентской работы. В нем годами хранились: тушь, циркуль, маленькие ножички, сделанные мне из косы мальчиком Васей Калмыковым, сыном нашего старшего скотника и постоянным моим спутником в юные годы; затем – перламутровый ножичек с серебряным лезвием для фрукт<ов> – заботливый подарок мне моей матери; маленький разрезной деревянный ножичек, вырезанный мною как-то очень давно, в мои отроческие годы; я ехал однажды летом вечернею зарею по Гороховской дороге на своей паре «синих» арденчиков; за «Шаталиным верхом», или лощиной, где летом вдруг, бывало, ощущаешь прохладу, росла одинокая ветла; я подъехал к ней, срезал ветку и поехал дальше, вбирая в себя сладкий запах зреющей и нагретой солнцем ржи…; ножичек, сделанный из этой ветки, служил мне памятью об этом летнем вечере, об этом незначительном случае с веткой, когда я как-то теснее сблизился, породнился с природой… Наконец, среди разных безделушек, которые я уже плохо помню, был другой разрезной ножик, еще более для меня памятный, чем первый. Он разрисован был для меня Евдокией Петровной Саломон, сестрой Надежды Петровны Богоявленской, о которой я говорил раньше. Милая Евдокия Петровна приезжала к нам в Буйцы по пути в Оптину, куда она ездила к отцу Амвросию. На одной стороне ножичка была нарисована ракета tennis’a и голова Талисмана, любимой лошадки моего детства, подаренной мне моими родителями в Ялте в 86 году, когда отец мой сопровождал царскую семью в Крым и когда мы проводили там весну на даче Paio; это была моя первая верховая лошадь. Талисман прожил очень долго и оставил после себя целое потомство таких же Талисманов, из которых один служил верховой лошадкой нашего сына М<иши>. На другой стороне ножичка была изображена лодка – моя байдарка, которая составляла, можно сказать, целую эпоху в моей юности; в эту лодку, предназначенную для одного только человека, мы ухитрялись садиться с Mr. Cobb вдвоем и уплывали на ней по бесконечным извилинам Непрядвы, то выплывая на середину реки, то подплывая к берегам под нависшие ракиты или раздвигая ее острым носом водоросли и трос<т>ники. Мы брали с собою книгу, читали вслух, беседовали, изучали Писание. Бывало, летом возвращались уже в сумерки: гладь реки сливалась с берегами и все становилось призрачным, подымался туман над рекой, где-то слышался внезапный всплеск или крик запоздалой цапли, направлявшейся к лесу… То было в годы моего англоманства и англиканства.
На столе еще лежали: домашняя приходо-расходная книга, которую я вел с года нашей свадьбы; затем, помнится, небольшая серебряная пепельница работы Boucheron, подаренная мне по какому-то случаю тетушкой Марией Андреевной С<оллогуб>; длинные ножницы для бумаги еще моего отца; березовый пресс-бювар с прокладкой на крышке из полосок черного дуба, заказанный для меня С<оней>, разрезной ножик черного дерева, наконец, другая пепельница – большая медная, привезенная моему отцу П. И. Нерадовским с Дальнего Востока в Японскую войну; кроме того, на столе стояло две фотографии: моего отца в генерал-адъютантском сюртуке и фотография С<они> семнадцатилетней невестой, вставленная в кругу широкой квадратной рамки гладкой зеленой кожи с тисненым золотым узорчиком и с бронзовым ободком вокруг самой фотографии; – вот, кажется, все, что обычно заполняло мой письменный стол, когда он был в порядке и не был завален бумагами, тетрадями и книгами во время работы.
У стола стояло темной окраски кресло с камышовым сидением и полукруглою спинкой с точеными столбиками; оно когда-то принадлежало деду моему графу Льву Львовичу Соллогубу. Под столом была старинная медная лохань, привезенная моим отцом из Дании и употреблявшаяся для ненужных и бросаемых бумаг. Рядом с письменным столом и прислоненным к нему справа стоял другой стол – дубовый, с инкрустацией из черного дуба, старой вологодской работы. На нем лежали кой-какие книги, счеты, большой разрезной ножик слоновой кости с фотографией Елены Михайловны Всеволожской, сестры тетушки графини Анны Михайловны, в золотом обрамлении с рубинчиками, кабинетная лампа, фермер с личными счетами, ящичек черного дерева с отделеньицами для почтовой бумаги и конвертов, отделанный мною в юные годы за уроками ручного труда по шведской системе; мой отец придавал почему-то большое значение этим урокам, которые преподавались в Петербурге модным тогда учителем П. А. Мешицким, побывавшим в Швеции; наконец, большой стакан XVIII столетия с вырезанными на нем всадниками в камзолах и шляпах того времени, подаренный мне моим покойным приятелем графом Петром Шереметевым. Рядом с этим столом был стул начала XVIII века, цельного красного дерева, обитый черной клеенкой, с ножками, заканчивающимися орлиными когтями, держащими шары[50]. Стул этот с такими же двумя другими стульями, стоявшими в коридоре, были выменены моим отцом в Петербурге в нашей приходской церкви во имя великомученика Пантелеймона, одной из старейших церквей столицы.
На подоконнике окна помещалась довольно плоская витрина красного дерева с самыми разнообразными предметами, из которых вспоминаю: небольшое собрание русских серебряных рублей и медных монет; кремневый пистолет[51] моего предка князя Михаила Михайловича Голицына, генерал-адмирала императрицы Елизаветы Петровны, работы парижского мастера Delanne с античной серебряной маской на рукоятке и с серебряным голицынским гербом, окруженным Андреевской цепью; два пистолета, тоже кремневых[52], другого моего предка – адмирала Григория Андреевича Спиридова; большая серебряная медаль в честь Чесменской победы, на которой моим предком адмиралом Алексеем Григорьевичем Спиридовым вычеканенная на медали фамилия Орлова была заменена фамилией его отца – Спиридова, истинного виновника одержанной победы; кожаный портсигар с серебряным автографом цесаревны Марии Феодоровны «До скорого свидания» – милое внимание моему отцу перед отъездом его на войну 78 года; другой портсигар, тоже подарок императрицы Марии Феодоровны, глянцевой зеленой кожи, обложенный сверху и снизу рубчатым серебром; большая яшмовая печать моего деда графа Василия Дмитриевича с Олсуфьевским гербом; кожаный футляр с целой серией вкладывающихся друг в друга гладких серебряных стаканчиков; они принадлежали моей матери и были совсем в ее духе; целое собрание серебряных карандашей, большею частью подаренных великой княжной Ольгой Александровной; мои маленькие серебряные детские часы, подаренные мне в Буйцах бабушкой, как сейчас помню, в столовой, под салфеткой, за первые успехи в английском языке; я, конечно, очень заботился об этих часах и уверял няню, что никогда не женюсь во избежание забот о жене, которые представлялись мне неизмеримо большими, чем заботы о часах; шпора, копье и два медных ангела[53] с древок знамен, найденные на Куликовом поле, часть которого входила в состав нашего Казанского хутора, в десяти верстах от Буец; небольшая бронзовая пластинка с чеканкою амурами, найденная в соседних Буйцах на горе близ деревянной церкви; она, вероятно, составляла украшение какого-нибудь кресла empire в доме моего двоюродного дяди Владимира Александровича Олсуфьева, жившего в тех Буйцах в 60-х годах; у него, рассказывают, был хороший дом неподалеку от деревянной церкви, от которого открывался прекрасный вид на долину Непрядвы; непосредственно к дому прилегал лес; Владимир Александрович женат был на Менде, был мировым посредником, любил ружейную охоту и умер молодым за границей; он похоронен на Смоленском кладбище Троице-Сергиевой лавры; ему же принадлежала тогда Даниловка, унаследованная после него вместе с его Буецкой усадьбой его братом Василием Александровичем[54], который продал усадьбу с лесом купцу Шалыгину, а Даниловку – моему отцу; это было в самом начале 80-х годов.
Вспоминаю еще: небольшую стеклянную собачку из розового стекла, вылитую при нас в Мурано; две больших серебряных медали за коневодство; наконец, серебряную дощечку с выгравированным на ней крейсером «Рюрик»; она поднесена была моему отцу морским ведомством по случаю спуска, на котором мой отец присутствовал в свите государя Александра III. Отец, как я уже упоминал, всегда любил море и морское дело. Помню, в детстве, весной, ходили мы с ним смотреть на прибывшие императорские яхты: апрель, тепло; Нева уже несколько дней как прошла, весь Петербург толпится у ее берегов; яхты «ошвартованы» в конце Английской набережной – «Александрия», «Славянка» и другие. Пахнет смолой и краской, ярко блестит медь, зигзагами играют тени на воде… Отец знает почти всех офицеров; разговор о переезде в Петергоф, о шхерах, о постройке «Полярной звезды»; тут и капитан Фредерикс, командир «Царевны», опытный моряк и не менее опытный царедворец. На гранитной балюстраде греются длинные весенние мухи, на яхтах слышится бодрое «есть», а с Балтийского завода доносится стук сотен молотков: там достраивается уже спущенный военный корабль… Это давно, в благополучное царствование Александра III, этого любителя моря.
Рядом с витриной, и тоже на подоконнике, был привинчен железный ларчик, в который запирались деньги. В простенке между окном и юго-западным углом стоял несгораемый шкаф с различными документами; в нем хранилась и старая вотчинная железная печать Буец – Олсуфьевский герб с графскою короною и с надписью кругом: «Село Красное Буйцы тож с деревнями». Прежде этот несгораемый шкаф помещался в нижней кладовой на Фонтанке. На шкафу стоял тяжелый железный ларь со сложной системой секретных замков; он сооружен был в слесарной мастерской моего отца, устроенной им в Никольском, когда он, состоя уже адъютантом цесаревича, был вольнослушателем Технологического института и увлекался прикладною техникой. В этом ларе хранились буецкие планы начиная с XVIII столетия с торжественными титулами владельцев, выписанных полностью, вроде: Его Высокопревосходительства генерал-аншефа и таких-то орденов кавалера и т. д. Ларь этот прежде, во времена столь памятного для Буец управляющего Василия Феодоровича Гана, находился в конторе, которая раньше, кажется еще в крепостное время, помещалась в кухонном флигеле, затем была перенесена в западный флигель, сохранивший название Ганского от жившего в нем при конторе управляющего Гана и, в конце концов, – в так называемый «Большой» дом, построенный в начале 80-х годов.
Василий Феодорович Ган был управляющим в Буйцах в мое раннее детство. Жена его Юлия Карловна, конечно, занималась молочным хозяйством. Василий Феодорович считался хорошим хозяином и хорошим строителем, в чем они особенно сходились с моим отцом, таким же любителем строительного дела. При нем, должно быть еще в конце 70-х годов, было введено в Буйцах девятипольное хозяйство, была приобретена паровая молотилка английского завода Маршалла, чуть ли не первая в уезде, были заведены различные сельскохозяйственные машины, а старые здания перестраивались и покрывались железом. Я еще помню в детстве эти огромные риги с широкими растворами и узкими калитками, сложенные из белого известкового камня, иногда с топчаками, с высокими соломенными крышами, в которых жили сычи и из которых выглядывали остроконечные окошечки; как уютны и домовиты были эти риги, в которых с давних времен под протяжную песнь и мерные удары цепа слагался тот мирный крепостной уклад, который сохранил свои тихие образы на полотнах Венецианова.
Василий Феодорович называл мою мать «грефиня», рожь – «аржа», а картофель был у него неизменно женского рода – «картофель она»; по утрам, бывало, он приходил к бабушке графине Марии Николаевне пить кофе, следы которого уносил на своей длинной седой бороде и усах. Раньше он служил у дяди моего графа Алексия Васильевича в его орловском имении Голубеях[55] и любил вспоминать и рассказывать про дядю. Несмотря на то, что он был лютеранином, он состоял у моего отца помощником церковного старосты и, стоя за свечным ящиком, ревностно исполнял свои обязанности. Затем Василий Феодорович уходил и был снова приглашен управлять Буйцами уже в годы моего отрочества, когда он и умер; он похоронен был в церковной ограде Буецкой церкви.
Прислоненной к этому ларю и обращенной к письменному столу стояла в тонкой белой рамке гравюра с портрета Зарянки цесаревича Александра Александровича. Мой отец особенно любил этот портрет, который напоминал ему время его назначения к великому князю адъютантом. Цесаревич без бороды (впрочем, бороды были тогда запрещены), с небольшими усиками, с приятным, мужественным выражением лица. После кончины государя мой отец просил императрицу дать ему портрет Зарянки, но государыня пожелала его оставить у себя.
Глебовы, Толстые и Олсуфьевы у памятника на Куликовом поле. Начало XX века. Частное собрание, Москва
На том же несгораемом шкафу лежало большое конское тавро кованого железа с инициалами моего прапрадеда князя Александра Михайловича Голицына и с княжеской короною; оно сохранилось со времен буецкого конного завода прапрадеда, о котором до сих пор свидетельствуют варки и старинные просторные конюшни Буецкой усадьбы. Над шкафом и железным ларем висела копия маслом с портрета Крюгера моего деда Василия Дмитриевича, сделанная Цехановским; он в придворной форме и в Александро-Невской ленте; портрет был заключен в широкую черную раму; раньше он висел в кабинете моего отца на Фонтанке.
Вдоль восточной стены стоял длинный дубовый ларь немецкой работы XVII века[56]; на его стенках были изображены тонкой рельефной резьбой сцены из Священного Писания. Этот ларь прежде стоял у моего отца в Петербурге и, кажется, привезен им был из Дании. Между ларем и дверью в чердачную комнатку стоял стол, сделанный по заказу моей матери из шлюзного дуба по образцу крестьянских; под ним был продолговатый ящик с отделениями, в которых хранились письма: моих родителей ко мне, дяди Алексея Васильевича на английском языке, которым любил блеснуть дядюшка, моей няни Александры Алексеевны, друзей моего детства и т. д.
На дубовом ларе стояла фотография государя Александра III в рамке красного дерева с золоченой короной, пожалованная моему отцу императрицей после кончины государя и снятая незадолго перед тем; я хорошо помню государя именно таким в Крыму в начале 90-х годов, когда мне мальчиком случилось быть при моем отце в Севастополе во время царского смотра флота; я был при отце и за высочайшим завтраком, который имел место на одном из броненосцев; вдруг, во время закуски, государь, обратившись ко мне, предложил мне выпить чарку водки за его здоровье, что я и исполнил с восторгом; в это же, кажется, пребывание в Крыму государь добродушно во время прогулки в Гурзуфе вымазал меня и великого князя М<ихаила> А<лександровича> известью; кажется, за год до этого и тоже в Крыму я красил яйца с в<еликим> к<нязем> М<иха илом> А<лександро вичем> в Ливадии и был одет в английской курточке с толстыми шерстяными чулками, которые склонны были спускаться, а государь, заметив это и подкрадываясь сзади, зацеплял их крючком своей палки, чем, конечно, ускорял их падение; затем – пройденная акварелью фотография моей матери, кажется, невестой, в бархатной рамке темно-бордового цвета; фотография моего двоюродного брата графа Дмитрия Адамовича Олсуфьева, маленькая фотография моей матери девушкой с собакой King Charles Рико и небольшая фотография в стеклянном пресс-папье старушки няни моей матери Дарьи Ивановны Ярцевой. Я хорошо помню няню древней старушкой, которая, бывало, присматривала и за мной в моем раннем детстве и говорила про себя и меня: «старый да малый». Няню очень любила моя мать, при которой она пробыла несколько десятков лет. Она отличалась прямотой, и когда обрадованная бабушка привезла к ней моего отца женихом и спросила ее: «Ну, каков жених?», то няня отвечала: «Поживем – увидим». Впоследствии она очень полюби ла моего отца, который платил ей тем же. Няня умерла у нас на Фонтанке в 80-х годах; на ее памяти было нашествие Наполеона, которого она даже, кажется, видела где-то под Москвою.
Граф Дмитрий Адамович Олсуфьев. Начало XX века. Частное собрание, Москва
С. К. Зарянко. Портрет великого князя Александра Александровича. 1867. Государственный Русский музей, Петербург
Тут же были: портрет моего деда Василия Дмитриевича – круп ная миниатюра на кости, вставленная в широкую квадратную белую рамку, заменившую бронзовую, современную пор трету в духе Louis Philippe; большой серебряный ковш, украшенный частью старого Олсуфьевского герба (лев с колесом), с медалью в память закладки храма Спасителя, поднесенный моему деду Василию Дмитриевичу как московскому губернатору в то время; наконец, небольшой золоченый Будда, подаренный моим родителям бароном Андреем Николаевичем Корф<ом>, генерал-губернатором в Восточной Сибири в царствование Александра III, женатым на двоюродной сестре моей матери, на Софье Алексеевне Свистуновой – Sophie Korff. Софья Алексеевна была дочерью моей grand-tante [двоюродной бабушки] Надежды Львовны Свистуновой, рожденной графини Соллогуб, сестры моего деда графа Льва Львовича. Я помню тетушку Надежду Львовну в старости; она часто бывала у нас на Фонтанке и однажды приезжала в Буйцы со своей незамужней дочерью Марианною. Помню, как однажды в «нижней» гостиной при звуках вальса (играл Mr. Cobb) у старушки показались слезы: она вспомнила былое… В молодости она была красавицей, за ней ухаживал весь двор, Лермонтов писал в ее альбом стихи. У тетушки Надежды Львовны я видал акварель Гагарина – бал у Барятинских в Петербурге, в их доме на углу Миллионной и Машкова переулка; тетушка в воздушном красном платье участвует в grand rond [бальный танец], среди молодых кавалергардов – сын <хозяина> дома, будущий фельдмаршал князь Барятинский.
На том же ларе вспоминаю: кожаный бумажник алжирской работы; пепельницу, подаренную моему отцу императрицей Марией Феодоровной, – в виде горшочка для сметаны, но серебряного, облитого синей и коричневой эмалью; потом небольшую коробочку, искусно выточенную из черного дерева князем Алексеем Ивановичем Шаховским для моего отца и с его серебряными инициалами. Князь Алексей Иванович был женат на двоюродной сестре моего отца, на Софье Александровне Олсуфьевой, но давно овдовел. Был когда-то флигель-адъютан том государя Александра Николаевича, в турецкую кампанию командовал корпусом, впрочем, кажется, не совсем удачно; считался, да и был большим оригиналом; так, например, когда при Александре II был обычай целовать государя в плечо, то дядюшка не соглашался это делать, говоря, что целуют только женщин. Я его помню у нас на Фонтанке важным старым генералом; он был значительно старше моего отца, но любил его и любил бывать у него[57]. Он терпеть не мог давать руку, особенно молодежи, говорил чрезвычайно лаконично, любил вспоминать старое время, прекрасно представлял, как в старину входили в гостиную, держа в одной руке высокую трость, а в другой – шляпу. У него было две страсти: хороший, тонкий стол и токарный станок, на котором он был мастер по точке дерева и слоновой кости. Князь Алексей Иванович владел старым Олсуфьевским имением Вазерками Пензенской губернии, принадлежавшим некогда моему прапрадеду Адаму Васильевичу; оно было променено дяде Шаховскому Дмитрием Александровичем Олсуфьевым[58], его шурином, на дом на Тверской.
Еще на этом ларе стояли: деревянный ящичек соррентской работы, серебряная кружка с рельефными сценами Куликовской битвы из серебра моего деда и, вероятно, того времени, за исключением крышки, которая, можно думать, была XVIII столетия; затем соррентской же работы шкатулка, в которую клались мною счета по постройке Куликовской церкви[59], строившейся по инициативе еще моих родителей под моим председательством и на нашей земле на всероссийские сборы. Ее строил академик А. В. Щусев в духе стилизации древнерусских мотивов. Дмитрий Семенович Стеллецкий и В. Комаровский писали иконостас и немало противились той нарочитой архаичности, которой так увлекался Щусев; следствием такого воздействия на добрейшего Алексея Викторовича было то, что церковь значительно была упрощена и освобождена от надуманной архаики ее первоначального проекта.
Еще вспоминаю: бронзовые подсвечники – высокие колонки, копии с античных; бронзовую лампочку в виде головы фавна, тоже копию, кажется, с помпейской; наконец – два белых обливных глиняных, соединенных между собой, старорусских судочка, служивших у моего отца в его кабинете на Фонтанке для перьев, которые втыкались в насыпанную в них дробь. На соседнем с ларем дубовом столе лежали копировальные книги, копировальный пресс, портфели с почтовой и конторской бумагой и, в большом кожаном футляре, грамота государя Александра II на графское достоинство моему деду Василию Дмитриевичу.
Дед мой, Василий Дмитриевич, много лет состоял гофмаршалом при цесаревиче Александре Николаевиче и в день его коронации был возведен с нисходящим потомством в графское достоинство.
Церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле. 1904–1917. Сооружена по проекту А. В. Щусева. Современная фотография
Василий Дмитриевич был человеком близким к Церкви, любил все родное, любил и проявление этого родного в памятниках старины. Он умел ценить все то, что представляло истинную культуру России, в особенности монастыри, Москву с ея сокровищами прошлого и ту духовную среду, которая могла выдвинуть такую личность, как митрополит Филарет. Последний уважал Василия Дмитриевича и не раз отзывался о нем в своих письмах. Императрица Мария Александровна как-то заметила, что она Василию Дмитриевичу обязана в своем обращении к православию. Мой дед был значительно старше наследника, и я не думаю, чтобы они вполне сходились во взглядах; можно с уверенностью сказать, что Василий Дмитриевич в отношении к наследнику, а затем и молодому государю был «plus royaliste que le roi» [ «большим роялистом, чем сам король»]. Мой отец, между прочим, рассказывал мне, что возвращавшийся однажды под утро с гвардейского кутежа наследник Александр Николаевич в сопровождении своих молодых сверстников подошел к двери кавалерского домика в Петергофе, где жил Василий Дмитриевич, и стал стучаться; вышел камердинер моего деда, его дворовый человек и, преградив дорогу расшумевшейся молодежи, строго заявил наследнику, что Василий Дмитриевич «почивают». Наследник сейчас же удалился и на другой день извинялся перед своим маститым гофмаршалом. Позже Василий Дмитриевич был назначен обер-гофмейстером (должность, первым носителем которой при Петре I был прадед его, тоже Василий Дмитриевич Олсуфьев), а в коронацию государя Александра Николаевича – состоящим при особе императрицы и заведующим делами августейших детей. Он умер в Риме в 1858 году внезапно; при кончине его был только мой отец, которому было лет 14; незадолго до кончины он говел и причащался Святых Тайн. Он похоронен был в Даниловом монастыре, где лежал и его отец – Дмитрий Адамович. Чин погребения совершал митрополит Филарет, о чем он упоминает в одном из своих писем к архимандриту Антонию. Грамота на графское достоинство[60] была написана на пергаменте, и в ней был изображен в красках новый Олсуфьевский герб, который содержал кроме эмблем старого, еще герба времен Петра I, эмблемы новые – кресты и орлиное крыло с крестом, с заменою старого девиза «In Deo spes mea» [ «На Бога уповаю»] тоже новым: «Никто как Бог».
Граф Александр Васильевич Олсуфьев. Портрет работы П. И. Нерадовского. 1906. Государственный Русский музей, Петербург
Дмитрий Адамович Олсуфьев. Акварель. Начало XIX века. Частное собрание, Москва
Василий Дмитриевич Олсуфьев. Миниатюра. 40-е годы XIX века. Частное собрание, Москва
Над ларем, почти во всю ширину стены, в тонкой черной рамке висела старая английская гравюра – «Поклонение волхвов»; у Божьей Матери – типично английское выражение. Посередине стены висел поясной портрет моего отца, написанный маслом Петром Ивановичем Нерадовским в Петербурге, за год или за два до кончины отца; отец изображен в натуральную величину в бухарском халате, который он любил надевать по утрам и который был дан ему по какому-то случаю эмиром Бухарским. Другой такой портрет, сделанный одновременно, но на котором отец с несколько иным выражением, был у моего брата графа Дмитрия Адамовича на Фонтанке. У отца – грустное, болезненное выражение; он уже был тогда болен, но выражение это часто бывало у него и раньше. Портрет был в рамке светлого дуба, прямой, с округленными углами.
Под этим портретом висела фотогравюра моего воспитателя горячо любимого Mr. Cobb, снятая в 93-м году в Алжире фотографом Geiser’ом, на вилле которого мы и проводили тогда зиму. Ближе к двери висели небольшие портреты: моего отца, мальчиком, с собакой Бушкой, в костюме, который носили мальчики, игравшие с великими князьями, сыновьями государя Александра Николаевича; фотография моей матери девушкой, в пестром итальянском платье, очень, между прочим, похожая; она была подарена мне по моей просьбе тетушкой Екатериной Константиновной фон Дитмар; фотография моего деда графа Льва Львовича Соллогуба, где он в штатском, снятая, вероятно, на водах за границей, где-ни будь в Баден-Бадене, про который, по рассказам моего дяди Е. В. Энгельгардта, дедушка любил напевать:
Баден-Баден так хорош, Что на рай земной похож, Там девицы все гуляют И мой взор всегда прельщают,на что бабушка графиня Мария Николаевна укоризненно произносила: «Finissez, Leon!» [ «Левушка, прекрати»]; парный ему портрет бабушки графини Марии Николаевны; фотография моего деда графа Василия Дмитриевича в шубе и меховой шапке, какой тогда не носили и за которую в связи с ношением им серьги в левом ухе (которую носил и мой отец) и с московскими вкусами деда находились люди, которые считали его старовером; на самом деле дед любил старообрядцев за их традиционность, и они долго хранили о нем в Москве благодарную память; фотографии моей бабушки графини Марии Алексеевны: одна – маленькая, пройденная красками, другая, снятая в Ревеле, – бабушка выглядит добродушной бодрой старушкой, она вся в белом: белый чепчик и белое платье; затем – третий портрет бабушки, увеличенная копия с предыдущего, сделанная Нерадовским маслом и вставленная в старинную черепаховую рамку; наконец, фотографии: моей двоюродной сестры Лизы Олсуфьевой, графини Елизаветы Адамовны, и отца Георгия Соболева, обе снятые Нерадовским. Лиза – перед Никольским домом; светлая, радостная, любвеобильная, она умерла в конце 90-х годов, около 30 лет, всеми искренно оплакиваемая; граф Лев Николаевич Толстой написал ее родителям полное самых горячих чувств письмо; на ее похоронах в Никольском сошлось буквально все окружное население, среди которого Лиза провела всю свою жизнь; но это влечение к народу в ней не было «народничеством», этим уродливым проявлением шестидесятничества, нет, это была простая любовь к народу, который ей был милее всего на свете; Лиза, оставаясь преданной Церкви, несмотря на то, что тетушка графиня Анна Михайловна по своему рационализму уклонилась от нее, как-то выразилась: «Люблю я нашу Церковь, бедненькую и потрепанную», какой русскую Церковь делало в глазах общества отношение к ней той университетской среды, в которой любила вращаться тетушка; но не прошло и нескольких десятков лет, как «передовая» мысль эволюционировала в сторону Церкви, далеко теперь идеологически не «бедненькой» и не «потрепанной».
Фотография отца Георгия, или «отца Егора», как все его звали в Буйцах, изображала его на завалинке его ветхого домика, с открытым Евангелием в руках, с волосами, заплетенными в косичку. Отец Егор пробыл настоятелем Буецкой церкви свыше пятидесяти лет, помнил похороны Александр I, тело которого везли через Тулу, и знал еще мою прабабушку княгиню Екатерину Александровну Долгорукову, которой Буйцы принадлежали до начала сороковых годов и где она, между прочим, прожила во время нашествия французов на Москву в грозный 12-й год. Отца Егора очень любили мои родители, и простодушный батюшка, в свою очередь, был глубоко предан нашей семье. Он любил рассказывать про доброе старое время в Буйцах и вспоминать приезды их владельцев, членов нашей семьи, в особенности моего деда Василия Дмитриевича. При моем поступлении в университет отец Георгий благословил меня серебряным старинным крестиком, найденным в Буйцах, который хранится у меня до сих пор; он скончался почти в одно время с моей матерью и похоронен рядом со склепом моих родителей, немного восточнее; памятника над собой он просил не ставить, просто и смиренно говоря: «Пусть по мне ходят».
Первым его крестником в Буйцах был дядька мой Митрофан Николаевич Стуколов, умерший в 8-м году, когда ему было за шестьдесят лет. Я уже, кажется, упоминал о Митрофане, без которого нельзя себе представить не только Буец моего детства и молодости, но и моих родителей, поэтому не могу не воспользоваться здесь случаем и не посвятить ему несколько строк моих воспоминаний.
Прежде всего Митрофан, или «Николаевич», как его звали, не был «лакеем», а неотъемлемо входил в состав нашей семьи. Он был из буецких крепостных, затем служил в Буйцах же у Владимира Александровича Олсуфьева, был взят в солдаты и, проделав всю войну 77-го года с лейб-гвардии Литовским полком, включая Плевну, поступил к нам в дом в год моего рождения в качестве выездного моей матери. Он был довольно высокого роста, худощав, носил небольшие бакенбарды, ходил прямо и ровно и ценил свою походку. Я так и вижу его в серой тужурке с серебряными гербовыми пуговицами, toujours avec un mot pour rire, всегда с готовой пословицей на устах или каким-нибудь экспромтом – рифмою вроде «Роман, худой карман», но всегда кстати и очень метко. Николаевич обычно слегка юродствовал и говорил скороговорками, как, например: «Потерянного ворохами не соберешь корохами», или «О, Господи, без беды разве Бога вспомнишь», или, обращаясь ко мне, которому часто говорил на «ты», – «Не свисти, Святого Духа высвистишь», и т. д. Николаевич страстно любил Буйцы, это «золотое дно», по его выражению; любил вспоминать крепостное время и смешно рассказывал, как он получил розги на конюшне за то, что погубил всех откармливаемых каплунов в лесу «Заказ», которым он не нашел ничего лучшего как протыкать билизу палочкой. Он любил хозяйство и ценил людей хозяйственных. Несмотря на свою самую искреннюю преданность нашей семье, он никогда не забывал своих односельчан, интересы которых он всегда старался согласовать с таковыми своих господ.
Много рассказов существовало про его чудачества; в особеннос ти любила и умела их рассказывать Ольга Алексеевна Сперова, милая «Оля» моего детства, сестра няни Александры Алексеевны. Так, вскоре после поступления Митрофана выездным моя мать велела ему ехать «вместе» с нею «по визитам», и вот Митрофан, в ливрее, не замедлил последовать за моей матерью в карету, оправдываясь на ее удивление ее же приказанием ехать с нею «вместе». Докладывал он не иначе как «наша графиня приехала». Раз как-то карета моей матери внезапно остановилась среди шумной улицы и видно было, как Митрофан жестикулировал и с кем-то оживленно говорил с козел; моя мать озабоченно высунулась из окна кареты, чтобы узнать не задавили ли кого, на что Митрофан преспокойно отвечал: «Земляк вон, Шаталин Василий, вон на бочке-то едет, три года не видались!» Этим объяснилась остановка кареты. Когда Николаевич был уже приставлен ко мне в качестве дядьки, то как-то в Петербурге моя мать вошла в детскую и, почуяв сильный запах лука, недовольно стала наговаривать Николаевичу: «Разве ты не знаешь, что у нас сегодня гости будут обедать, а ты опять ел лук!», на что Николаевич хладнокровно возразил: «А вы-то его нешто не ядите?!» Николаевич любил выпить, даже иногда пивал запоем, и тогда он был «нехорош». После одного такого случая моя мать, желая его припугнуть, рассерженно заявила ему, что она его совсем отправит, на что Николаевич, размахивая руками и крича, как бы отругиваясь, отвечал: «Отправите, отправите, куда отправите, я и так дома!»
Набожным Николаевича нельзя было назвать, как и вообще беззаботный буецкий народ, но последние годы своей жизни, после смерти своей жены Василисы Никифоровны и моих родителей, он сильно тосковал и часто повторял, обращаясь ко мне: «Нет, граф, пора, пора и мне туда, отжил, довольно, наших там больше!», разумея под «нашими» членов своей и нашей семьи. Он умер-уснул в самый день Рождества 908-го года; нам пришли об этом сказать, когда все мы (я с С<оней> и семья Глебовых) готовили елку для сына М<иши> в буецкой столовой.
Николаевич был очень ласков ко мне в детстве, бывало к урокам будил чуть слышно, говоря: «Голубок, а голубок, вставать пора; одеваться не копаться, а выходить погодить». Он будил так тихо, что я сейчас же опять засыпал, и когда его за это укоряли, то он оправдывался, что будил, но что будил тихонько, чтобы не разбудить, причем добавлял: «Мы-то все одни, а их много!» Под «их» подразумевались мои учителя. Честности Николаевич был безукоризненной. Николаевича особенно любила моя тетушка Ольга Васильевна Васильчикова, называла его, как я в детстве, «Ми», вязала ему шарфы и неизменно обнималась с ним при встрече.
Отец Егор (Соболев) – священник церкви Архангела Михаила в Красных Буйцах. 90-е годы XIX века. Частное собрание, Москва
Однако пора продолжить описание моего кабинета, от которого я невольно отвлекся. На белой двери, которая вела в чердачную комнатку, или кладовку, висел рисунок начала 80-х годов Цехановского нашей церкви, затем фотография старого Олсуфьевского дома на Девичьем поле, подаренная мне Т. В. Олсуфье вой, фотография торжественного поезда маленького наследника Алексея Николаевича к святому крещению в Петергофе: его везут в золотой карете, непосредственно за которой едет верхом на своем смирном Сером мой отец в полной генерал-адъютантской форме, которому была оказана честь везти цесаревича к купели; за ним командир конвоя барон Александр Егорович Мейендорф и другие лица, назначенные участвовать в церемониале; потом фотография парада: перед фронтом какой-то пехотной части проходит, здороваясь с нею, государь Николай Александрович, а за ним, в качестве дежурного генерал-адъютанта, идет мой отец. Над дверью висел продолговатый карандашный рисунок того же Р. К. Цехановского – буецкий вид из дома в начале 80-х годов; вещь очень посредственная, но она живо переносила меня в годы раннего детства и почему-то всегда напоминала мне цвет жасмина вдоль дорожки «старого» сада, посыпанной ярким золотистым песком: сияющий июньский день, я в платьице сбегаю по этой дорожке среди гула пчел, жадно собирающих свою душистую ношу, а с балкона доносится ласковый зов няни. Впоследствии эта дорожка была уничтожена, а жасмин был пересажен в так называемый «английский» сад.
На перегородке, отделявшей лестницу, на стенке ее, обращенной к югу, висел большой эскиз Стеллецкого тульской Палаты древностей, несколько в духе иконописных строений; к сожалению, по недостатку средств он не был осуществлен. Под ним, за прибитой планочкой, размещались мои ножи: тут был любимый мой в детстве финский нож «фискарс», подаренный мне моей матерью, и другой «фискарс» с моими инициалами, вырезанными на его рукоятке черного дерева моей гувернанткой Miss Southworth, и другие спутники моего мальчишеского возраста, когда особенно дорожат такими предметами.
Внизу, у стенки этой перегородки, был деревянный приступчик, так же, как и вся перегородка, выкрашенный в белую краску; он повышал собою пролет лестницы; на нем стоял старорусский окованный ларец, подаренный мне на свадьбу моей двоюродной сестрой М. А. Васильчиковой, затем кожаный porte-feuille [бумажник] с многочисленными отделениями – подарок императри цы Марии Феодоровны моему отцу, и кой-какие папки с разными ненужными бумагами, которые хранились на «всякий случай». На ларце стоял глиняный подсвечник для пяти свечей[61] – образец русской народной керамики. Другая стенка перегородки, обращенная к востоку, была вся заставлена доверху дубовой этажеркой, сооруженной еще при моем отце его любимым плотником буецким крестьянином Феодором Корбоновым, этим талантливым самоучкою, который был одновременно и слесарем и машинистом и который с сыном своим Степаном, тоже теперь покойным, изобретал машину perpetuum mobile. При этом Корбонов был представителем ультраконсервативной, если применимо такое выражение к крестьянам, части буецких мужиков, выписывал себе «Крестьянский вестник», одно время «ходил» в старшинах, любил говорить о законности, за что и сам был прозван в селе «человеком законным».
Елизавета Адамовна Олсуфьева в усадьбе Никольское Дмитровского уезда Московской губернии. Около 1895. Частное собрание, Москва
На полках этажерки хранились отчеты по имениям, которые я сам ежегодно тщательно сводил, отчеты по мастерской вышивок, по приюту, записные книжки, тетради с записями по хозяйству и записями личными, ружейные футляры, астролябия моего отца, сопровождавшая его, кажется, в Америку, и несколько глиняных кувшинов с медведями из коллекции народной керамики моей матери, составленной ею в начале 80-х годов и стоявшей прежде в старой буецкой столовой, обращенной нами в так называемую «красную» гостиную, о которой речь будет впереди; такие кувшины были поднесены как-то моим отцом государю Александру Александровичу, который пожелал заказать по их образцу серебряные; эти глиняные произведения выделывались преимущественно в соседнем Скопинском уезде.
Кроме того, на полках годами лежали какие-то ящички с давно забытым содержанием, фонари, фотографические пластинки и всякого рода неопределенные вещи, которые трудно описать на память, но которым свойственно заполнять полки давно обжитого дома. Среди записных книжек вспоминается одна небольшая в твердом переплете – это был детский дневник моего отца 50-х годов. Записи велись по дням, и события, по-видимому, относились к жизни его семьи за границей; фигурируют фамилии Столыпиных, Вяземских, семьи поэта. В конце дневных записей неоднократно читается: «Опять Машеньку прибил». Машенька – младшая сестра моего отца, будущая баронесса Мейендорф. Зато на одной из страниц поперек имеется запись и самой Машеньки: «Сашка все врет»[62].
С этим кабинетом, с этой «светелкой», как звал эту комнату мой отец, вяжутся в памяти счастливые для меня приезды моего отца в годы моего детства. Каким праздником были для меня эти приезды! Отца ждали с нетерпением не только я и наша семья (моя мать и бабушка), но и вся усадьба: всюду слышалось – «граф едет». В назначенный день я ехал навстречу верхом на своем неизменном Талисмане, в сопровождении милой Miss Southworth верхом на рыжем Магните и конюха Степана Бусагина, разодетого в татарский наряд – черный с золотом, одна из причуд моей матери. Но вот уже за Кащеевским лесочком в пыли жаркого июльского дня показывается ямщицкая тройка (отец почему-то не любил выписывать на станцию своих лошадей); отец в белом кителе и в флигель-адъютантской фуражке; он не один, с ним дорогой друг нашей семьи Эдуард Клепш. Они оба радуются выбраться на простор епифанских полей после придворной сутолоки в Красном Селе; спешим к дому, а там – рассказы отца о государе и его семье, осмотры хозяйства и веселые прогулки по любимым местам красивых Буец.
Поляна в Саликовом лесу. Слева направо представлены П. А. Меглицкий, кучер Павел, Н. П. Богоявленский, бабушка графиня М. Н. Олсуфьева, мистер Кобб, А. В. Олсуфьев, кучер Степан Бусагин, П. А. Яблочкина, Н. П. Богоявленская и Е. Л. Олсуфьева. Около 1890. Частное собрание, Москва
Не могу обойти молчанием этих милых, милых мест. Вот – старые Терны: это столетние редкие дубы на левом берегу Непрядвы; их видно из дома в конце долины; они спускаются с бугра к реке и к заливному лугу; у их подножия в густой и сочной траве – родник. Мы ездили туда, бывало, на тройках, верхом, на лодках, а возвращались часто пешком вдоль берега. Весной в Тернах цвели незабудки, затем крупные лиловые ирисы. Вспоминаю там сенокосы: паневы с золотом, пушки в ушах, красивые свежие лица и несмолкаемые песни. Это в детстве. В юные годы – ужины: повар Кузьма, фургон с провизией, буфетный Александр и Павел расставляли складной стол и походные стулья, поодаль располагались «люди»; там жарился шашлык на вертеле, а во льду студились мед или имбирное пиво, специальности буфетчика Андрея. Тут бабушка, моя мать, Прасковья Андреевна, мой отец, Богоявленские, Mr. Cobb, Клепш, мой учитель Меглицкий… Позже вспоминаю веселый ужин там с Глебовыми и проводы их уже ночью, пешком, лесом, в Барыковку… Помню там и С<оню> невестой и грустный разговор об отъезде…
Буецкие крестьяне на гумне. Фото начала XX века. Частное собрание, Москва
Другим таким любимым местом были липы в конце Саликова леса. Дорога туда шла вдоль опушки по направлению к Непрядве, гладкая, тенистая дорога; налево старый березняк и высокие черные дубы, направо – редкие столетние березы и редкие, еще более старые, дубы; за деревьями виднелось поле, полное, ровное и густое, как щетка. Тройка, фыркая и отмахиваясь от мух, весело бежит крупной рысью по наклонной дороге; мелькают деревья, мелькают и световые пятна на яркой зелени опушки… Но вот и конец Саликова, он кончается канавой, заросшей молодыми деревьями; за ней – дубовая посадка моей матери, а там и несколько правее – Терны. Тут у самой дороги высокий вековой дуб, вокруг него молодые березки; мы поворачиваем круто влево, чтобы остановиться у группы раскидистых лип. После чая идем пешком лесным оврагом вверх, пробираясь к сторожке лесника; из оврага выходим на лесную стрелку, где был старый ровный дубняк, его особенно любил мой отец; ближе к сторожке дубы переходят в древние березы, между которыми густые заросли осинника и молодого дуба. Тут в мае цвели крупные купавы и ландыши… Или в том же Саликовом лесу, но с противоположной стороны – Поляна. Дорога к ней шла от сторожки опушкой. Направо от дороги – редкие, старые, высокие березы; под ними ярко-зеленая трава, в которой в начале мая сплошными коврами цвели незабудки. Минуем старую дикую яблоню, растущую у самой дороги, и вот уже скоро конец леса. Тут мы поворачиваем направо мимо куртины старого осинника и выезжаем на Поляну. Со стороны леса к ней подходят большие березы и молодой, густой осинник. На Поляне свежая трава и кое-где березы; впереди – наши буецкие поля между лесами Заказом и Околками, продолжением Саликова. Прекрасное место в летние вечерние зори, когда поля, часть Заказа и Околки еще освещены заходящим солнцем, когда веет вечерней прохладой, запахом трав и зреющих полей! Таким вечером я как-то, в детстве, вышел на эту Поляну с моим отцом; была полная тишина, вдруг в лесу, в Околках или Заказе, послышался стук топора; отец прислушался и сказал, что это, вероятно, порубка; начало темнеть, где-то близко громко прокричал перепел и внезапно смолк, пролетел огромный жук, в осиннике стала биться какая-то птица, мне сделалось жутко и мне приятно было чувствовать себя рядом с моим отцом, с которым всегда в детстве мне было хорошо и спокойно. На Поляну мы часто, бывало, ездили пить чай; ее особенно любила моя мать. Вспоминается эта милая Поляна и во время лесных сенокосов, которыми всегда заведывал мой дядька Митрофан Николаевич; ему поручалось это, «чтобы не портили леса». На Поляне он метал высокие стога, недалеко от широкого куста шиповника. Еще помню, как однажды, поздно осенью, я, мальчиком, возвращался с этой Поляны с моим воспитателем Mr. Cobb. Уже стемнело, мы спешили домой, был день моего рождения (28 октября) и в этот вечер должен был приехать из Петербурга мой отец; мы вернулись в освещенный дом; отец уже приехал и привез мне, как сейчас помню, большой складной нож в роговой ручке.
Воспитатель Юры Олсуфьева мистер Кобб. Около 1890. Частное собрание, Москва
Юра Олсуфьев на «Талисмане». Около 1890. Частное собрание, Москва
А то – пруд в Заказе. Гороховской дорогой подъезжаем к углу леса. Тут дубы в два-три обхвата, у некоторых уже засохли верха. От угла, налево, вдоль опушки ведет дорога к пруду, а направо и тоже вдоль опушки – к избе лесника; по ее сторонам тонкий молодой березняк, кое-где прерванный черными приземистыми дубами; сквозь его веселую зелень как, бывало, красиво светились золотые летние зори… Тут же, у угла леса, начинается глубокая ложбина, которая направляется тоже к пруду, но по ней не было проезда. В ложбине – свежая трава, а по ее краям высятся высокие, стройные, вековые дубы, они кажутся еще выше от глубины ложбины, они нечасты и их длинные раскидистые ветви едва соприкасаются друг с другом. Мы едем вдоль опушки до следующего угла леса; оттуда видны Буйцы: зеленый купол церкви, высокие соломенные крыши и темная зелень ветел на одоньях. Домовито засело село на скате широких долин Непрядвы и Буйчика. С этого угла мы поворачиваем вправо и снова едем вдоль опушки старого леса. Тут редко кто ездит, дорога поросла травой, и пристяжные все чаще забегают и задевают за молодые дубчики – молодое поколение высящихся за ними стариков. Мой отец, жалея деревья, предлагает выйти из экипажей и пройти пешком. Но вот и пруд, он времен еще прапрапрадеда Семена Кирилловича Нарышкина; он глубоко вдается в поля и только правым концом, мелким и покрытым зарослями осок, прилегает к лесу и образует продолжение той ложбины, которая начинается на той стороне леса у угла и о которой я уже упоминал. На высокой плотине – ряд старых ветел, за ними поля, а там, вдали – село Бахметьево, а еще дальше и вправо – высокие ветлы Барыковского сада… Изумительно красочны бывали отсюда закаты: поля зреющих хлебов как-то сливались в световых отблесках с многоцветными лучами заходящего солнца и что-то бесконечно прекрасное и недостижимое манило к себе в этих сияющих и золотистых зорях летнего заката. К самому берегу пруда столпилось несколько вековых дубов, они молча, как бы украдкою, глядятся в зеркало стоячих вод…
Красные Буйцы. В мастерской П. И. Нерадовского. Начал XX века. Частное собрание, Москва
Еще вспоминаю Потапов пчельник в том же Заказе, весною, когда поет кукушка и цветут лютики, или жарким летом, в несмолкаемом хоре стрекоз… Это небольшой прудик и поляна, окруженные сравнительно нестарыми березами и осинами, где когда-то, еще в крепостное время, был пчельник Потаповых или Писакиных. Я помню еще старика Сергия Семенова Писакина[63]; вечно, бывало, он что-то прибирал на своем уютном гумне; он когда-то был бурмистром; носил он белую холщовую рубаху и грешневик; сын его Максим был высокий старик с темной бородой, жена Максима, Ирина, носила белую каталку и черную клетчатую паневу. Сыновья их – Павел, Григорий и Митрофан – были женаты на красавицах; все трое теперь умерли. Особенно хороша была собою Татьяна, жена скромного, тихого Митрофана. Я видел ее впервые лет двадцать пять или тридцать тому назад; все село возило к нам на гумно рожь, в широком растворе огромной риги стоял высокий воз, а влево от него, как сейчас вижу, была она, стройная, как точеная. На ней была белая холщовая рубашка, белая «занавеска» и красная панева; обута она была в лаптях, и толстые онучи красиво обвивали ее ноги. Ее русые волосы, заплетенные в высокие косы и повязанные одним белым платком, были едва видны лишь на висках. Темно-серые глаза ее обладали каким-то особенным блеском и светлостью… Ей было лет двадцать. Я остолбенел, так поражен был я ее фигурой, ее свежестью, ее красотой… Прошло много лет с тех пор, и ни одна гнилая мысль в моей памяти о ней не смела коснуться ее светлого образа. Почему-то, вспоминая ее, я всегда слышу какую-то старую колыбельную песнь…
Совсем другое был Козий верх, где мы тоже любили бывать. Это высокий обрыв над Непрядвою напротив дубравы Тернов. Плавно протекает там река в безлюдии широкой долины… Какими жуткими бывали оттуда летние закаты, когда солнце в знойной мгле опускалось раскаленным шаром и когда[64] пахло нагретой за день полынью… Чем-то вещим веяло от этих закатов: мнились далекие стихийные века, ощущалось Дикое поле, как исстари называлась вся эта местность за Непрядвою, именно «Дикое», чудились витязи Задонщины…
Наконец, Большая лука во время сенокоса: широкий заливной луг полон веселого народа; там сено ворошат, тут его дружно сгребают в валы, а у реки Феодор Власов[65] уже поставил семь огромных стогов; звуки, краски, цветные наряды и «ай люли» и «ай люли» ритмичных хороводов – это сенокос на Большой луке, это праздник буецкого лета!
Но вернусь к приездам моего отца в Буйцы. Он останавливался наверху, в кабинете. Своего камердинера Феодора[66] он с собою обыкновенно не привозил, и его обязанности исполнял мой дядька Митрофан Николаевич. На полу раскладывались чемоданы и свертки, от которых пахло свежестью и одеколоном; но вот по коридору слышатся торопливые и скрипучие шаги толстого буфетчика Андрея[67]; он, почтительно раскланиваясь на ходу, вносит поднос с чаем и густыми сливками. Отец вынимает привезенный мне подарок, с которым я сбегаю вниз и показываю его Miss Southworth, няне и другим. Счастливые, незабвенные годы детства!
После нескольких радостных дней отец вдруг становился задумчивым, даже мрачным, и это длилось днями. В эти дни он формулировал жизнь в какую-то своеобразную, фаталистическую и безотрадную, систему; эти настроения он скрывал от чужих людей, при которых он бессознательно прикрывался веселым и простецким добродушием, при них он бывал таким, каким внешне столь удачно изобразил его граф Лев Николаевич Толстой в лице Богатырева. Отец предан был государю Александру Александровичу и его семье, но с великими князьями обходился сдержанно, хотя и почтительно. Он, бывало, называл их «высочайшими шерамыжниками», повторяя данное им по какому-то случаю наименование покойным государем. Великие князья его тоже недолюбливали, и мне рассказывали, как однажды за игрою в карты с братьями государя отец заспорил с ними и, будучи очень вспыльчив, ударил кулаком по столу (он был, между прочим, очень силен); тогда один из великих князей, кажет ся, Павел Александрович, заметил Сергию Александровичу: «Оставь, разве ты не знаешь Олсуфьева!» Впрочем, отец был очень отходчив, и гнев его так же быстро проходил, как и возникал. В общем же он был крайне снисходителен, в особенности к низшим себя, обладая в этом отношении чисто дворянскою чертою, в отличие от интеллигенции, которой, поглощенной борьбою за существование, редко свойственно бывает это чувство.
Мой отец легче сближался с людьми скромными и стоящими ниже его по положению; раз как-то он сказал мне: «Не умею я с министрами и не знаю о чем с ними говорить». С буецкими крестьянами у него были какие-то торжественные отношения, построенные на взаимном доверии и уважении. Он говорил с ними громко, просто, ясно и убедительно и относился к ним как младшим товарищам по какому-то им одним известному, важному и общему делу. Свои крестьяне его называли «Ваше сиятельство» или «Ваше графское сиятельство». С годами отец становился все мягче и терпимее. Он чаще хаживал в церковь и подолгу читал Писание, в особенности ветхозаветное. Трудно сказать, насколько он был православен, ибо в значительной доле рационалистично относился к Церкви, но помню, как обрадован он был тем, что С<оня>, будучи невестой, причащалась Святых Тайн; взяв письмо ее об этом, весь растроганный (это было для него редко), он понес его моей матери, которая, больная, тогда уже не вставала. Раньше, наоборот, он склонен был считать, что Церковь «pour le peuple» [ «для народа»], которому «нечем ее заменить». Мой отец умер весною 907 года в Аббации; он долго болел сердечною болезнью и в тяжелые минуты страдания говорил, что надеется на милость Божию. Говоря о смерти, он высказывал, что ему даже интересно видеть потустороннее. Он умер без причастия, в чем мы должны отчасти винить себя.
Рассказом о моем отце я кончаю описание моего кабинета. Добавлю еще, что посередине комнаты без определенного места стояло буковое кресло-качалка с плетеным сиденьем и спинкою, покрытое подушкой красного бархата, вышитой посередине каким-то узором; подушка была пристегнута к креслу красными же ремешками; что, также посередине комнаты, стояло другое кресло, низкое и глубокое, с прямой мягкой спинкой, откинутой назад, с прямыми ручками, обтянутое суровой зеленоватой материей с крупным растительным рисунком; затем, что широкое тройное южное окно задергивалось прямыми занавесями красного солдатского сукна, обшитыми по краям зелеными полосами, и что занавесь такого же сукна, но зеленого цвета, разделяла всю комнату пополам на линии печки и угла перегородки; она, бывало, задергивалась в зимнюю стужу, когда на дворе бушевала метель, неистово стучась в окна и завывая в отдушинах печи, когда путник в поле в снежном вихре не знает, едет ли он вперед или назад, или стоит на месте, когда ворон на снегу ему мерещится уж волком, когда, наконец, он слышит протяжный звон в селе и торопит на его зов своих усталых лошадей…
* * *
Из маленькой проходной комнаты внизу, как я уже говорил, вела дверь в соседнюю с нею детскую. Это была продолговатая комната с двумя небольшими окнами, обращенными на юг, со стеклами в косую клетку; она была выкрашена, как почти все комнаты Буецкого дома, в светло-зеленую клеевую краску; коричневый линолеум покрывал ее пол, местами закрытый монастырскими ковриками наподобие того, который был в проходной комнате. Посередине северной стены приходилась кафельная печь, причем на ее переднем зеркале была неглубокая впадина и кафельная же полочка; печь топилась из коридора, шедшего, как уже упоминалось, вдоль северной стороны детской. В этой же северной стене, ближе к северо-западному углу комнаты, была небольшая белая дверь, которая выходила в тот же коридор. На окнах были темно-синие шторы, которые поднимались на снурках.
У восточной стены, направо от двери из проходной комнаты, стоял диван-кровать, такой же, как в спальне; он был обит полосатой материей – серой с зеленым. На нем укладывались М<иши>ны гости, кто-нибудь из его двоюродных братьев Толстых. Перед диваном стоял дубовый стол домашнего изделия с четырьмя скрещенными ножками; таких столов в мое детство было много в Буйцах; они отличались прочностью и устойчивостью, что особенно ценил в столах мой отец. Над диваном были развешены кой-какие открытки Сомова, закантованные в золоченые бумажки, и, тоже закантованные, рисунки в<еликой> к<няжны> О<льги> А<лександровны> – кошки в разных видах, которые она дарила мне в детстве ко дню моих именин. В простенке между северо-восточным углом и печью стояла белая постелька М<иши>, а у ее изголовья – маленький дубовый столик; над постелью висели М<иши>ны иконы, а выше – большая фотография Сикстинской Мадонны; в промежутке между печью и дверью помещался низенький стол, выкрашенный в белую краску, с умывальником; над ним висела гравюра в тонкой черной рамке с изображением, кажется, воза и собаки; она в моем детстве всегда висела в старой детской над низким, широким диваном между окнами.
Посередине западной стены стоял довольно низкий, широкий и очень уютный шкаф; внизу он был глухим, а верх его был со стеклянными дверцами, причем стекла были небольшими квадратиками в белых переплетах; весь шкаф был также выкрашен в белую краску; низ его служил раньше пеленальным столом М<иши>. В нем хранились М<иши>ны коллекции: тут было небольшое собрание местных окаменелостей, собранное еще мною в детстве, преимущественно с добрым Эдуардом Клепш, страстным любителем геологии, затем – оружия, найденного на Куликовом поле и в его окрестностях; наконец – монет, большею частью медных, русских. Внизу в шкафу лежали коробки с игрушками. В промежутке между северо-западным углом и этим шкафом стоял продолговатый низкий столик, тоже выкрашенный белым, на котором прежде ставилась ванна, а позже стоял ящик с разными столярными инструментами. В промежутке с другой стороны шкафа стоял финский складной, светлого, покрытого лаком, дерева, стул, какие вообще были в детской. В юго-за падном углу была полка с иконами, которые потом были, кажется, перенесены к постели М<иши>.
Между окнами был повешен на стене небольшой шкафчик из светлой полированной березы; в нем на полках толстого зеркального стекла было расставлено античное стекло и античная бронза, подаренная М<ише> В. Комаровским. Большинство этих предметов было найдено в Керчи. Под этим шкафчиком стоял мягкий диван, покрытый кретоном; в простенке между окном и юго-западным углом стоял дубовый комод работы буецкого столяра Ивана Акимова, а между другим столом и юго-восточным углом – большой желтый шкаф, в котором лежали подушки для приезжих гостей.
* * *
Коридор вдоль северной стороны детской начинался со стеклянной двери, о которой я упоминал при описании небольшой передней, рядом с проходной комнатой. Это был светлый коридор с тремя окнами; он тоже был выкрашен в светло-зеленую клеевую краску, и на полу был коричневый линолеум. По стенам его были развешены красивые французские гравюры XVIII столетия, часть которых была в тонких черных рамках, а часть – в таких же белых. Гравюры преимущественно изображали морские виды: какой-нибудь старый порт, маяк и тихий прибой; в порту фрегат с высокой кормой и с длинным вымпелом на передней мачте, на которой собирают паруса. Я любил эти гравюры с детства: они говорили мне о юге, о Ривьере, о теплом Средиземном море, к которому меня всегда влекло, как и мою покойную мать. Вспоминаю тут и другие гравюры, тоже морские виды: обильная тоня с крупными рыбами, в лодках тешатся ловлею кавалеры и дамы в туалетах XVIII века. Под гравюрами – торжественные раскидистые гербы сеньориальной Франции с не менее торжественными дедикациями. Еще вспоминаю одну тонкую французскую же гравюру XVIII столетия – какого-то сановника, держащего письмо с лаконичным адресом: «Au Roy» [ «Его Величеству Королю»].
Вдоль южной стены коридора против окон стояли стулья красного дерева петровских времен с черными клеенчатыми подушками[68]; таких стульев, кажется, было семь или восемь; напротив их, вдоль северной стены с окнами, по концам ее, стояло два дубовых стола венецианской работы XVII или XVIII века[69], поддерживаемые мальчуганами, сидящими на львах. На них, помнится, стояли: два бронзовых подсвечника Renaissance с гербами Медичи, купленных моими родителями во Флоренции и признаваемых за подлинные; затем два подсвечника, тоже бронзовых, с аистами, копии с античных; подсвечник Louis XVI, подаренный нам старушками Нарышкиными при посещении их Козловки, когда мы ездили к ним снимать фотографии для нашего издания памятников искусства; мраморный лоток с мраморными же яйцами, когда-то стоявший на одном из столиков маркетри в большой гостиной на Фонтанке; плоская раковина, оправленная в серебро, в которой лежали небольшие деревянные волчки, выточенные моим отцом и, бывало, пускаемые им его ловкими, сильными пальцами; круглые часы XVII века в кожаном кожухе, предназначавшиеся моей матерью для подарка в<еликому> к<нязю> М<ихаилу> А<лександровичу>, собиравшему одно время часы, и почему-то ему не подаренные, они куплены были в Алжире; куски белого и зеленого мрамора с написанными на них надписями моего деда Василия Дмитриевича – Roma и дата; обломок мраморной витой колонки, подобранной как-то сыном М<ишей> в Монреале (Сицилия); наконец, кусочек мрамора с римского форума с фрагментом надписи – Неведомому Богу, привезенный моей тещей С<офьей> Н<иколаевной> Г<лебовой> из Рима и всегда возбуждавший споры о допустимости таких вывозов.
Перед средним окном стоял длинный узкий ларь темного дерева с тонкой рельефной резьбой по бокам, итальянской работы XVII или XVIII века[70]; на нем против среднего окна стоял небольшой резной дубовый ларец, можно думать, XVI века и тоже итальянский[71]; по сторонам длинного ларя, на пол у, стояло два древнерусских ларчика с шатровыми верхами, окованных прорезным железом[72]; наконец, рядом с ними – два стула цельного красного дерева, начала XVIII столетия, совершенно такие же, как описанный мною стул у меня наверху в кабинете. Они тоже были выменены моим отцом, как и первый, в Пантелеймоновской церкви; итальянские же лари и столы с мальчуганами были привезены моими родителями из Италии и стояли при них на Фонтанке: столы по сторонам большого камина черного мрамора в кабинете моего отца, а лари – в передней.
Темное дерево этих старинных вещей красиво выделялось на фоне светлой окраски коридора и придавало последнему староголландский вид, немножко в духе внутренних переходов Марли или Монплезира. В небольшом простенке между стеклянной дверью из передней и северо-восточным углом висела витрина, в которой хранилась терракота – рельеф Диониса Лакридского, найденный при нас в Дельфах и отнесенный к VI веку до нашей эры, и небольшая глиняная статуэтка – женский бюст с выражением на лице недоговоренной улыбки, столь свойственным греческим примитивам; она привезена была нами из Жержента (юг Сицилии).
Описанным коридором и соседней детской заканчивался восточный флигель; далее следовала «нижняя» гостиная и тоже светлый коридор, составлявший продолжение первого и огибавший гостиную с северной и западной стороны, причем гостиная и коридор соединяли флигель с среднею, старою частью дома.
* * *
В этом коридоре было одно окно на север, а за ним – дверь из парадного крыльца, которое я описал, когда говорил о внешнем виде дома. Пол этого коридора был выстлан небольшими квадратными плитками, черными и белыми. Против парадной, довольно широкой, но, скорее, низкой двери приходилось зеркало и топка печи, выходившей остальными своими тремя сторонами в «нижнюю» гостиную. Около топки стоял высокий белый деревянный экран, который прикрывал штукатуренное зеркало печи, захватываемое руками истопников. Тут же против двери была небольшая кафельная печь-тумба в черном железном обрамлении, которая топилась лишь <в> большие холода. В самом начале этого коридора, сейчас же за стеклянной дверью с небольшими квадратными стеклами, отделявшей его от коридора, вдоль детской и под прямым углом с ним был коротенький коридорчик, кончавшийся стеклянной дверью с матовыми стеклами в светлый чулан с одним узеньким окошком на южную сторону дома. Таким образом, коридорчик и чулан отделяли кирпичную стену флигеля от восточной, уже деревянной стены «нижней» гостиной. В этом небольшом коридорчике у кирпичной стены была поставлена узкая и высокая печь из гофрированного железа, которая отапливала как коридор, так и чулан при помощи проведенного в него душника.
По стенам основного коридора, в отличие от только что упомянутого небольшого коридорчика, были устроены белые деревянные стойки для ружей, сабель, нагаек, стиков и т. д. Тут были и кремневые ружья, и ружья пистонные времен крымской кампании, и магазинки с турецкого корабля «Луфта Джемилла», взорванного на Дунае Дубасовым[73], затем японское ружье и ружье австрийское, современного типа, поднятое где-то по соседству с нашим бессарабским имением Кишло в конце 14-го года. Одно из кремневых ружей, охотничья одностволка, было с красивой золотой насечкой и витым стволом, работы известного в свое время тульского мастера Гольтякова; оно куплено было мною в Туле у антиквара Невернова. Из холодного оружия вспоминаю два гусарских палаша моих дядей графа Алексея и графа Адама Васильевичей, пожалованные им великими князьями, кажется, при выходе в офицеры; ряд хороших кавказских шашек, затем несколько шашек моего отца, причем одна из них, переделанная из кавказского «Волчка», была, если не ошибаюсь, подарена ему покойным государем Александром III.
Тут же были испанские ножи, привезенные мне моим дядею покойным князем Михаилом Александровичем Горчаковым из Мадрида, где он был посланником; наконец, охотничий нож образца ножей императорской охоты, подаренный мне в<еликим> к<нязем> М<ихаилом> А<лександровичем>; на одной стороне его лезвия были инициалы золотом в<еликого> к<нязя>, на другой – мои. Из стиков маленький с костяной ручкой и с серебряным рубчатым ободком был подарен мне в детстве на елке Марией Васильевной Дурново, рожденной Кочубей. Мария Васильевна любила забавляться со мной, тогда мальчишкой лет восьми или девяти; брала меня за верх моих широких матросских штанов и утрясала меня в них, как в мешок; это было во время уроков танцев у них в доме на Английской набережной; учил нас танцевать известный Александр Петрович Троицкий, который, бывало, одним легким шагом-шассе перелетал через всю залу; при нем был маленький, забитый человечек, игравший на скрипке, под звуки которой мы учились приседать и выделывать различные pas. Троицкий всегда был во фраке, а маленький музыкант – в сюртуке.
На полу коридора, под окном, стояла медная корабельная пушка на зеленом лафете. Она была отлита для наследника Александра Александровича, но почему-то была подарена моему отцу начальником пушечного литейного завода генералом Поповым. Из этой пушки, бывало, палили в торжественно празднуемые именины моей бабушки графини Марии Николаевны – 22 июля. Приглашался в качестве канонира кузнец Пимен, служивший когда-то в артиллерии; толпа любопытного народа окружала пушку; бабы стояли поодаль, а мужики спорили – одни утверждали, что выстрел слышен в Михайловском, другие горячо возражали, уверяя, что он слышен не только в Михайловском, но и в Суханове. Во время стрельбы бабушкины моськи тщательно запирались, после того, как однажды они разбежались от подобного салюта и пропадали «во ржах» с неделю, когда были найдены исхудалыми одним из конных гонцов, разосланных во все стороны. В этот день с утра бабушкин стул в столовой убирался цветами: крупными пионами с круглой тумбы перед домом, и к кофе появлялся огромный сдобный крендель, который «очень удался Кузьме»[74], как обычно замечала бабушка. Сейчас же после кофе подавалась «синяя» пара на отлете в корзинке. Правил старый кучер Павел, одетый в новую синюю суконную поддевку и синий картуз. Он надевал безрукавку и ямскую шляпу с павлиньими перьями только когда правил полной тройкой. Бабушка в сером платье и белой кружевной косынке едет в церковь, которая от дома не далее полуверсты. Пристяжка, круто подобрав голову, то и дело задевает за нависшие ветки сирени в тесной аллее; раздается трезвон; обедня. Старичок-батюшка – «отец Егор». Мы становимся на наше обычное место у окна, отделанное дубом. На синеве неба ясного июльского утра мелькают стрижи, но вот показываются легкие кудрявые облака, и солнце, то прячась за ними, то снова выглядывая, бросает свои яркие лучи в верхние окна церкви. Старый дьячок Павел Андреевич, в длинном коричневом сюртуке в талию, что-то машет с паперти сторожу на колокольне, очки у него подняты на лоб. В церкви пахнет кумачом, пестреют каталки. Обедня кончается молебном и многолетием царской и нашей семье, после чего бабушка снова празднично едет домой на паре «синих», а мой отец, я и гости предпочитаем идти пешком. В этот день посылалась моими родителями поздравительная телеграмма императрице Марии Феодоровне и со вниманием ожидался «высочайший» ответ. Обед накрывался или на стеклянном балконе, или в «старом» саду, к которому приглашались соседние батюшки, конечно, «отец Егор», которого отец любил усаживать рядом с собой, чтобы иметь возможность получше его угостить, и наши управляющие. Перед домом водились хороводы, вечером устраивались фейерверки и иллюминация, которой и кончался веселый день.
Над небольшим собранием оружия на стенах коридо ра бы ли раз вешены соответствующие по содержанию английские гравюры – сцены из войн в Индии, вроде взятия Сирингапатама и т. д. Против коридорчика, ведшего в чулан, висели кольчуга, шлем и наручники: они когда-то принадлежали Спиридовым и были, кажется, туркестанского происхождения, а над ними – медная стенная лампа. В коридорчике против печи гофрированного железа припоминаю французскую гравюру: Наполеона III верхом в сопровождении свиты. Исключением из общего батального содержания гравюр в коридоре была большая старинная гравюра, должно быть начала XVIII столетия, висевшая между зеркалом печи, выходившей в гостиную, и концом коридора – какого-то магната с латинскою надписью. Коридор кончался высокой белой дверью, всегда открытой, за которой шел другой коридор, на этот раз не вдоль, а поперек дома с западной стороны «нижней» гостиной. Он освещался по своим концам: с севера – довольно большим с низким подоконником окном, а с юга – стеклянной дверью на площадку перед домом. Это был тоже очень светлый коридор, выкрашенный, как и другие, в светло-зеленую клеевую краску. Пол был желтый, охряный, покрытый посередине довольно широкой полоской линолеума.
Петр Иванович Нерадовский в Барыковке у Глебовых. Около 1910. Частное собрание, Москва
Церковь Архангела Михаила в Красных Буйцах. 1795. Фото конца XIX века. Частное собрание, Москва
В конце западной стены коридора был широкий пролет, в котором почти во всю его ширину помещалась деревянная крашеная лестница в пять ступеней, ведшая в среднюю часть дома, которая была значительно выше восточного флигеля. В этом же пролете рядом с лестницей, по ее правую сторону, если обратиться к ней лицом, была высокая, до самого потолка, круглая белая железная печь с медною дверкою, перед которой стоял тоже белый деревянный щит, или экран. Тут же находился ящик для дров, выкрашенный в белые и зеленые полосы. Против пролета, в восточной стене коридора, была белая двухстворчатая дверь, которая вела в так называемую «нижнюю» гостиную, в противоположность «верхней», или «большой», гостиной в старой части дома. Стена коридора, отделявшая его от гостиной, была снизу забрана белой деревянной панелью, над которой был проложен ряд старинных, очень красочных изразцов, привезенных моей матерью из Алжира. Посередине этой стены стоял небольшой и неглубокий белый шкафик, а на нем бронза – умирающий гладиатор, копия с античной. В шкафике почему-то издавна хранились запасы почтовой бумаги и тетрадей, а также хорошего английского мыла, которым долго потом приятно пахла бумага. По сторонам шкафика было два белых стула в духе Louis XVI из петербургской мебели. На этой стене в широких рамках, белых с зеленым, висело три французских гравюры: Людовика XVI, Людовика XV и Наполеона I в мантии и императорских регалиях. В северо-восточном углу коридора стояла стойка для палок и зонтиков, а в небольшом простенке между юго-восточным углом и дверью в гостиную – высокие английские часы с маятником, в футляре красного дерева, XVIII или начала XIX столетия.
Посередине противоположной, западной стены стояла ясневого дерева вешалка, на которой, среди изобилия всякой верхней одежды, выделялись два одинаковых романовских дубленых тулупа, в которых, бывало, мы с С<оней> закутывались, когда ездили на станцию или в другой дальний зимний путь. На вешалке, между прочим, лежал и мешок для этих тулупов и вообще для зимних вещей, когда кучера выезжали за нами на станцию или возвращались порожнем. Над вешалкой висел большой клык мамонта, найденный в русле Непрядвы неподалеку от дома, и огромная бедровая кость, тоже мамонта, подаренная моим родителям Васильчиковыми и найденная в их Березовке Саратовской губернии.
Между вешалкой и пролетом с лестницей стоял ясневый столик, а на нем – темного мрамора часы из петербургской столовой. На столике лежали шапки, пояса, башлыки и т. д., а над ним висело большое зеркало до потолка в дубовой раме. Оно раньше было в столовой на Фонтанке, над камином. В промежутке между вешалкой и северо-западным углом коридора, приблизительно на уровне верха вешалки, выходило небольшое внутреннее оконце из «няниной» комнаты; окно это приходилось как раз против коридоров вдоль северной стороны дома и из него была видна в конце их печь с алжирскими изразцами, о которой я говорил при описании маленькой передней, рядом с проходной комнатой у нашей спальни. Под этим оконцем висели кожаные щиты с серебряными украшениями, но откуда они были – я не знаю, только помню их в былое время в кабинете моего отца на Фонтанке. Тут же стоял дубовый ломберный стол, никогда не открывавшийся, так как у нас в доме не играли в карты. У окна, в начале коридора, стояло два стула ясневого дерева с высокими прямыми спинками, которые отчасти загораживали собою низкое окно.
* * *
Красные Буйцы. Выход из церкви после пасхальной заутрени. Частное собрание, Москва
Но перейдем в «нижнюю» гостиную, дверь в которую ведет из коридора; она несколько «заедает», и ее нужно толкнуть.
Это светлая, среднего размера комната с двумя большими окнами на юг, стекла которых – в косую клетку. Стены выкрашены в светло-розовую краску, такую же, как в нашей спальне. Пол покрыт темным линолеумом с черными полосками, на котором разостлан почти во всю комнату бледно-голубой чоколовский ковер. На окнах прямые занавеси той же зеленой полосатой шелково-пеньковой материи, которой был обит белый диван в маленькой проходной комнате у спальни, затем вся мебель этой гостиной и верхней, «большой», о которой я буду говорить дальше. Мебель светлой карельской березы в духе нового Empire как нельзя лучше вяжется с общим характером этой светлой комнаты. Она была подарена нам на свадьбу моей матерью, которая заказывала ее через мою двоюродную сестру М. Васильчикову в Петербурге у Комова; впрочем, я, кажется, упоминал об этом, говоря о карельской березе в спальне.
Красные Буйцы. Выход из церкви после пасхальной заутрени. Частное собрание, Москва
Но постараюсь описать эту гостиную по порядку. Налево от две ри, вдоль западной ее стены, стояла кушетка; в ее ногах рядом с дверью – сто лик для шелков, который в отличие от остальной новой, светлой карельской мебели гостиной был из той же березы, но темной, и был начала[75] прошлого столетия; на стене, у двери, приблизительно над этим столиком висело два карандашных этюда Серова – натурщица и императрица Елизавета Петровна; последний этюд был двухсторонний: на одной стороне было поясное изображение государыни, на другой – она верхом, причем Серо вым были записаны и краски; он, кажется, делал этот рисунок с портрета императрицы в Музее Александра III в Петербурге. Эскиз был в золоченой вращающейся рамке. Над кушеткой висело два больших панно в тонких черных дубовых рамках – темпера Д. С. Стеллецкого: «Ночь» и «Вечер», подаренные нам им с парными панно «День» и «Утро», в таких же рамках и висевшими в той же гостиной на противоположной стороне. Они изданы были в свое время в «Аполлоне» и представляли одно из первых исканий Стеллецкого в области иконописных стиля и техники. В северной стене гостиной ближе к северо-западному углу комнаты приходилась большая кафельная печь, расписанная С<оней> зелеными вазами, рисунок которых был взят ею в Петровском, Голицынской подмосков ной, где жила сестра ее Л<юба> замужем за князем А. В. Голицыным. В небольшом промежутке между углом и этой печью висела темпера, тоже Д. С. Стеллецкого – эскиз занавеси к «Борису Годунову», красивая, красочная вещь, написанная им под свежим впечатлением древнего шитья в Кирилло-Белозерском монастыре.
Вдоль северной стены, за печью, стоял стул с круглой спинкой, потом шкафик со стеклянными дверками, в котором был красивый чайный фарфор, Попов, голубой с розами, подаренный С<оне> ее матерью, и торжественный чайный сервиз моей бабушки графини Марии Николаевны, завода Корнилова, должно быть 50-х годов, красный с золотом; на шкафике, покрытом легким полотенцем, был расставлен новый датский фарфор королевской фабрики, а среди него стояла большая фарфоровая кружка завода Миклашевского с выпуклыми колосьями пшеницы; она была подарена мне моей тетушкой графиней Александрой Андреевной Олсуфьевой, когда я, еще гимназистом старших классов, был у нее в Волокитине, в ее имении Черниговской губернии, где когда-то процветал известный фарфоровый завод ее отца – Андрея Михайловича.
Далее следовал такой же стул, как между печью и шкафиком, а за ним – большой мягкий угловой диван с высокой спинкой, занимавший собою весь северо-восточный угол гостиной. Он покрыт был холщовой материей, сшитой широкими полосами – серыми и лиловыми. Над стулом рядом с печью висела закантованная фототипия с карандашного портрета Л<юбы> Г<олицыной>, сестры С<они>, нарисованного их родственником Раото’м Трубецким, когда ей было лет 17–18: красивая, грациозная вещь, оригинал которой был у родителей С<они> на Молчановке. Над шкафиком висела небольшая вещица – темпера Дягилевой-Луговской, intérieur, напоминавшая нам детство нашего сына М<иши> и купленная нами на одной из выставок в Москве; она была вставлена в тонкую золоченую рамку. Над вторым стулом была не большая березовая полочка, на которой стояла плоская, очень изящной фор мы античная кратера – глина с фигурами черным, привезенная нами из Дельф. Над диваном, по северной стене, были развешены в тонких светлых березовых рамках фотографии с любимых произведений искусства в Италии: конной статуи Марка Аврелия, Colleoni, нескольких Мадонн Bellini, Георгия Рафаэля, Van der Goes’a и других. Помню, как большую фотографию Bellini, висевшую тут, мы купили с С<оней> выходя из Академии в Венеции в одно из бодрых ярких зимних утр. В самом углу на полочке стоял древний эмалевый итальянский триптих, привезенный моей матерью из Италии, а под ним глиняная расписная лампада барок ко, купленная нами у одного крестьянина в Жерженте (юг Сицилии). Над этим же диваном на восточной стене висело два панно Стеллецкого, о которых я уже упоминал, затем два эскиза П. И. Нерадовского к иллюстрациям «Братьев Карамазовых»: «Верующие бабы» и «Старец Зосима с Алешей». Первый эскиз был нарисован под влиянием буецких типов и буецких нарядов.
Д. С. Стеллецкий. Панно «Ночь» и «Утро». Темпера. 1912. Тульский музей изобразительных искусств
Княгиня Любовь Владимировна Голицына, урожденная Глебова (1882–1948). Имение Голицыных Петровское под Москвой. Частное собрание, Москва
Рядом с диваном стоял стул с круглой спинкой, такой же, как предыдущие, а за ним, приблизительно посередине восточной стены – бюро С<они> с стеклянным шкафом на нем для книг. На бюро, всегда открытом (оно закрывалось круглой, хорошо полированной крышкой из карельской березы) стояли между разными вещами, обы чными для письменного стола, из которых помню небольшой желтый бювар свиной кожи и гладкое серебряное позолоченное перо, фарфоровая чернильница Дельфт, белая с синим, и два серебряных подсвечника Louis XVI, подаренных С<оне> к свадьбе нашим общим с нею дядюшкой небезызвестным Leon Golitzin, князем Львом Сергеевичем Голицыным, бабка которого была рожденна<я> гр. Соллогуб, откуда родство со мною, а жена которого была графиня Орлова-Денисова, близкая родственница С<они> через Трубецких. За этим бюро С<оня> обыкновенно занималась по утрам, принимая должностных лиц маленького буецкого мирка; к ней являлись сюда учительницы, надзирательница приюта, заведующая мастерской вышивок, наконец – толстая и почтенная Авдотья Леонтьевна, буецкая экономка, со своим докладом о том, что делается в кладовых и погребах, где что «бродит» и как что «лежит».
В шкафу над бюро лежали кой-какие книжки в красивых переплетах, в числе которых особенно памятна мне книжка «Фауст» в белом кожаном переплете, которую мы с С<оней> почему-то избрали в качестве чтения (по наивности, конечно) сейчас же после свадьбы в Никольском, где мы провели первые две недели. Никольское тогда пустовало, дядя и тетя умерли, и мои двоюродные братья М. и Д. Олсуфьевы родственно предоставили нам гостеприимство своей усадьбы.
На шкафу над бюро стояли две лепные вещицы Стеллецкого – «матрешки» из его surtout de table [настольного прибора], расписной гипс, а выше, на стене, быть может слишком высоко, висела его же темпера «Яуза». Между бюро и юго-восточным углом стоял довольно узкий диванчик; над ним во всю высоту стены висел портрет сына М<иши>, десятилетним мальчиком, написанный темперой Д. С. Стеллецким в Буйцах в 13 году, почти в натуральную величину. М<иша> изображен иконописно в старорусском наряде на фоне импровизированной стены с иконными фресками и большого польского шкафа XVIII столетия, стоявшего в столовой. Портрет был под толстым зеркальным стеклом в рамке, сделанной в Буйцах из яблонного дерева, запасы которого у нас были после прореживания большого сада, посаженного моей матерью в начале 80-х годов, на моей памяти. Этот портрет в ярких иконных красках был выставлен Стеллецким на одной из выставок «Мир искусства» и возбудил немало принципиальных споров о возможности применения иконописных приемов к живописи. Споры эти нашли себе отклик и в художественной литературе, но здесь не место говорить о них подробнее, а хочется в связи с этим портретом вспомнить то время, когда гостил у нас и писал его милый друг Дмитрий Семенович.
Зима 912–913 г<ода> была снежная. Настал февраль. Непрерывной чередой стояли яркие дни: днем на солнце таяло, а ночью снова подмораживало, и снег к утру покрывался тонкой и блестящей корочкой льда. На противоположной стороне, за рекой, на Кичевских холмистых полях, сравненных сугробами, даже из окон дома были видны лисицы, которые то передвигались, то останавливались, и, взмахнув хвостом, снова пускались бежать по снежной равнине. Подавались ковровые сани, запряженные парой вороных кобыл гуськом; кучер Котов в высокой меховой шапке и армяке, щеголевато подпоясанном ремнем с серебряными бляхами, стоя в санях и то и дело подтягивая к себе длинный кнут, спокойно сдерживает нетерпеливых лошадей… Мы ездили тогда на лисиц и наганивали их на длинных тонких лыжах… Вечером – оживленные разговоры об искусстве, о Париже, о строящемся Куликове, об его убранстве… Тогда Дмитрий Семенович рисовал утварь для Куликовской церкви, которая должна была быть выполнена в Москве Ф. Я. Мишуковым. То было особенным временем, временем подъема и ощущения полноты жизни…
В узком простенке между юго-восточным углом и окном висело две маленьких акварели покойного Heath’a, англичанина, воспитателя государя Николая Александровича и великих князей, его братьев. Heath’a любил мой отец, и пылкий, «честных правил» старик бывал у нас на Фонтанке. В детстве вспоминаю, как он однажды жаловался на одну черту своего старшего августейшего воспитанника, которую он определял как «want of criticism» [ «недостаток критического подхода»].
Перед обоими окнами на тонких высоких ножках стояли две витрины из обыкновенной светлой березы, обитые внутри бархатом цвета gris perle [жемчуга]. В одной хранились: античное стекло, греческие геммы, обломки греческого мрамора теплого воскового цвета, того мрамора Афин, Елевсина и их окрестностей, который так отличается от холодного белого мрамора Рима; древние лампочки, из которых одна была подарена нам на острове Эгине, одним словом – кусочки античного мира, который был тогда особенно нам дорог; в той же витрине были кабильские (провинция Алжира) женские украшения, привезенные из Кабилии моей матерью. Другая витрина была посвящена почти исключительно XVIII и первой половине XIX века: в ней было собрание ретикюлей моей матери, затем плоские, покрытые эмалью часы бабушек, разные серебряные коробочки, черепаховый разрезной ножичек бабушки графини Марии Алексеевны, золотые очки прадеда Дмитрия Адамовича, веера, наконец – пластинка резной кости с довольно скабрезной сценой, пожалованная по какому-то случаю государем Николаем Павловичем моему деду Василию Дмитриевичу. Перед витринами стояло по мягкому табурету карельской же березы. Между окнами помещался такой же шкафик, как у противоположной стены; в нем береглись зонтики бабушек, преувеличенно малого размера, с кружевами, на тонких длинных палочках с коралловыми ручками. На шкафике был расставлен красивый ажурный китайский фарфор, а над ним висел этюд В. Комаровского маслом – «Розовый павильон в Павловске».
Д. С. Стеллецкий. Портрет Миши Олсуфьева. 1913. Темпера. Тульский музей изобразительных искусств
Дмитрий Семенович Стеллецкий в своей мастерской на вилле Венден, Франция. 1928. Частное собрание, Москва
В юго-западном углу стояла вращающаяся этажерка, которая в виде исключения для «нижней» гостиной была красного дерева. Над нею, на южной стене, висела фототипия с картины Саврасова «Грачи прилетели», подарок нам П. И. Нерадовского, а на западной стене, в узком простенке между углом и дверью – рисунок пером Пирогова: возок, запряженный тройкой гуськом.
Перед печью был круглый столик, на котором стояли настольные часы, серебряные, рубчиками, в красном сафьяновом футляре, обладавшие приятным музыкальным звоном; они подарены были моему отцу императрицей Марией Феодоровной. Кроме часов на этом столике стояла фотография моей любимой тетушки Ольги Васильевны Васильчиковой, сестры моего отца. Она была замужем за Александром Алексеевичем Васильчиковым, в свое время директором императорско го Эрмитажа, автором известного труда «Семейство Разумовских». Тетуш ка была большая оригиналка и обладала неподражаемым юмором и умением смешить. Не было конца ее выходкам и шуткам. Как-то Нерадовским был написан ее портрет, когда она была уже тучной, сморщенной старухой; тетушка, остановившись перед своим портретом и откинув назад голову, с пафосом произнесла: «Qu’elle est belle!» [ «До чего хороша!»]. Она двигалась быстро и говорила почти скороговоркою. Она всегда была центром того общества, в которое попадала; молодежи говорила «ты», чуть ли и не молодым великим князьям; руки своей целовать не давала, отговариваясь: «Je suis vieille et laide» [ «Я уже стара и безобразна»]. Об архивах своего мужа уверяла, что от них пахнет «дохлятиной». Она глубоко чтила память своих родителей, в особенности своего отца, от которого унаследовала, между прочим, любовь к монастырям, которые она часто и благоговейно посещала. Последние годы своей жизни она подолгу живала в женском Влахернском монастыре близ Дмитрова, но в монастырь не поступала (ее муж давно умер), объясняя это тем, что и так, живя в монастыре, она весь монастырь смешит и только «в грех вводит». Она любила подразнить своего старшего брата графа Алексея Васильевича, тоже большого чудака, который в таких случаях, бывало, говорил: «Au fond la tante Olga est méchante…» [ «В сущности, тетушка Оля злюка…»], «и обжора она», добавлял раздосадованный дядюшка. Про время своей молодости она любила вспоминать: «Мы, Олсуфьевы, Мейендорфы, мы просто были государевыми дворовыми». Любя и зная двор, она всегда отличалась самостоятельностью, и когда умер мой отец в Аббации и мы с С<оней>, вернувшись в Москву, уже не поехали в Кремль, где жил мой отец (он последнее время был заведующим придворной частью в Моск ве), а остановились в доме Глебовых на Молчановке, то тетушка похвалила, сказав: «Вот за это люблю, служба кончилась, и делать там нечего, это по-нашему, по-Олсуфьевски!» Тетушка ценила простой русский народ, совместно с которым любила и умела шутить и молиться. Частица ее дневника, написанного в 50-х годах, вошла в неизданные еще мемуары ее дочери и моей двоюродной сестры М. Васильчиковой.
Ольга Васильевна Васильчикова (Олсуфьева) с дочерью Марией Александровной. Около 1895. Частное собрание, Москва
У столика стояло два-три стула, как и вся мебель гос тиной – карельской березы. Перед диваном был другой стол, больше первого; на нем была лампа в деревянной тумбе, сделанной в Буйцах из простой березы; у этого стола стояло два глубоких кресла с высокими, круглыми, как-то особенно хорошо полированными спинками. Посе редине гостиной висела медная люстра, похожая на ту, какая была в описанной мною проходной комнатке, но несколько больше ее. При родителях моих вид этой гостиной был совсем иной: в ней стояли тогда фортепьяно и фисгармония, была мягкая мебель, а по стенам висели старинные гравюры в тонких черных рамках, столь обычных для буецкого дома.
Упоминая о гостиной при моих родителях, я невольно переношусь воспоминаниями в годы моего отрочества: вот теплая июньская ночь; я на площадке перед домом; открыты окна гостиной, и из них льются звуки классической музыки – на фортепьяно играет А. О. Штейн, а на фисгармонии – Mr. Cobb. Полная луна отражается в зеркальной глади реки, освещая медленно влекомые течением круги, которые исчезают в тенях ночи. Река шумит в запруде, а в сочной траве, где-то близко у реки, как бы отбивая такт, вторит музыке звонкий коростель. Ночь полна таинственных желаний и образ за образом какого-то мечтательного будущего строится моей юной фантазией… На площадке и мой отец – он сидит на скамеечке и тоже о чем-то призадумался, докуривая свою папиросу, а с освещенного стеклянного балкона доносятся голоса моей матери, бабушки и приезжих гостей…
* * *
Широкая лестница, ведшая из коридора в среднюю часть дома, была выкрашена охрою, а перила ее – в белую краску; она выходила на площадку, или переднюю, с окном на юг и двумя дверьми: одной, прямо против лестницы, в проходную комнату с книжными шкафами, другой, направо, в комнату няни. На лестнице была постлана ковровая дорожка в красно-оранжевых цветах, которая шла через всю переднюю до самой двери в комнату со шкафами. При выходе лестницы на площадку по сторонам ее стояло два венецианских канделябра – негры со стеклянными подсвечниками 50-х годов. В южной стене у лестницы была вделана в шт укат у рку майолика – копи я Ма донны раннего Возрож дения, привезенная нами из Флоренции.
* * *
В светлой передней по стенам были расставлены белые стулья в духе Louis XVI, все из той же петербургской мебели, на стенах, в черных рамках, были развешаны гравюры, из которых почему-то хорошо помню «La bataille d’Azincourt». Посередине передней висел черный, кованого железа болонский фонарь, привезенный из Италии моими родителями и висевший при них на Фонтанке в темном проходе перед столовой. Перед окном стояла белая железная подставка для бывшего тут при моей матери аквариума, в котором водились рыбы экзотических пород и за которыми аккуратно присматривал Семен, старший огородник и ученик в этом деле моей матери. Но рыб давно не стало, аквариум был отнесен в кладовые, а Семен, переведенный нами в садовники, тоже давно запил, по-видимому, не выдержав столь высокого назначения Теперь на этой подставке зимой ставились цветы и в феврале тут ярко цвели цинерарии, как бы заманивая грядущую весну.
* * *
Раньше чем перейти к описанию соседней с передней няниной комнаты, я хотел бы рассказать в нескольких словах о расположении комнат в средней части дома.
Общество в Красных Буйцах. На заднем плане: А. В. Олсуфьев, доктор Стародубов и П. А. Меглицкий, в среднем ряду: Э. Клепш, П. Н. Сальков, Н. П. Богоявленский, бабушка М. Н. Олсуфьева и П. А. Яблочкина, в нижнем ряду: г-жа Стародубова, мистер Кобб, Юра Олсуфьев, Е. Л. Олсуфьева и Н. П. Богоявленская. Около 1895. Частное собрание, Москва
Первоначально, в старину, старая часть дома, построенная, надо думать, еще в XVIII столетии из липы, состояла всего-навсего из семи комнат: большой средней с двумя окнами и стеклянной дверью на север и с такой же дверью и со столькими же окнами на юг; эта комната, ближе к своей южной части, была разделена стенкой, посередине которой была открытая арка; таким образом получалась как бы вторая комната. Теперь это «большая» гостиная и за аркою – библиотека. По сторонам гостиной было по три комнаты с восточной и западной сторон, причем из каждых трех комнат одна, о двух окнах, была на северной стороне дома, а две – с одним окном в каждой – на южной, и эти две комнаты, обращенные окнами на юг, в сложности равнялись по величине соседней комнате на северной стороне. По-видимому, позже было пристроено с каждой стороны с тарой части дома еще по две комнаты: с восточной – теперешняя нянина и передняя, с западной – тоже передняя и небольшая оранжерея. Эти последние бы ли переделаны: сначала на вторую комнату моей матери и в мою спальню, затем, уже после моей свадьбы, первая – в уборную, вторая – в буфет. Северная комната с западной стороны гостиной была моей детской, а из двух соседних с нею комнат, обращенных на юг, одна была комнатой старушки няни Дарьи Ивановны, а другая – девичьей; позже, после смерти няни, эти две комнаты были соединены, и в них жила моя мать, а когда приезжал мой отец, то они поселялись в восточном флигеле в комнатах, которые иногда отводились гостям, а затем были обращены в нашу спальню. После нашей свадьбы и кончины моей матери обе ее комнаты были заняты моим отцом, моя же детская была превращена в столовую, а моя спальня (на месте оранжереи) – в буфет. Наконец, спустя несколько лет, уже после кончины моего отца (он умер в 907 году), столовая была расширена за счет первой комнаты моего отца, составлявшей когда-то, как говорилось, две комнаты – нянину и девичью; таким путем получилась большая комната с окнами на обе стороны дома, разделенная двумя довольно толстыми, белыми, гладко оштукатуренными колоннами – современная столовая.
В Красных Буйцах. На переднем плане сестры Глебовы – Любовь, Александра и Софья, во втором ряду – С. Н. Глебова (слева), П. В. Глебов (брат сестер Олсуфьевых), Е. Л. Олсуфьева (в центре) и Ю. А. Олсуфьев. 1902. Частное собрание, Москва
Три комнаты с восточной стороны гостиной остались такими же, какими они были в старину; из них большая, на северной стороне дома, была при моих родителях столовой, а затем нами была сделана гостиной, так называемой «красной» – по красной обивке стоявшей в ней карельской березы.
Из двух южных комнат, соседних с бывшей столовой, первая, то есть та, которая была рядом с передней, которую я описал, при моих родителях была, как и теперь, проходной комнатой с книжными шкафами, а вторая, рядом с большой гостиной, или точнее – с частью ее за аркою, иначе говоря библиотекой, была комнатой моей бабушки графини Ма рии Николаевны, а затем, после нескольких лет неопределенного назначения, была превращена нами в «иконную», т. е. в ней было размещено наше небольшое собрание древних икон. Когда «красная» гостиная была столовой, то теперешняя нянина комната служила буфетом. Еще добавлю, что все эти комнаты были выкрашены в светлые клеевые краски, окна были в шесть квадратных звеньев, что комнаты средней части дома были несколько выше, чем в флигелях, и что в них были красивого, тонкого профиля карнизы, причем карнизы комнат, выходящих на север, были шире, нежели карнизы южных комнат, что вполне соответствовало и их величине. Еще маленькая подробность – внешние углы внутри крайних комнат старой части дома были срезаны наискось.
* * *
Сказав в общих чертах о плане средней части дома, снова обращаюсь к няниной комнате, где я прервал свое описание. Нянина комната была с одним окном на север и небольшим внутренним окном в коридор, почти всегда задернутым ситцевой занавеской, розовой с цветами. Она была выкрашена в обычный для Буецкого дома цвет. Вдоль западной стены няниной комнаты, отделявшей ее от «красной» гостиной, первым стоял дубовый столик, на котором, помнится, в уголочке стоял небольшой нянин самовар, прикрытый полотенцем, затем был большой шкаф с платьями С<они>, далее – кровать няни. У окна стоял раздвинутый дубовый стол, на котором гладили и который, стоя прежде в девичьей, всегда, помню, служил той же цели. В простенке между северо-восточным углом и внутренним окном стоял комод, покрытый кружевным полотенцем; на нем стояли зеркальцо и разные туалетные вещицы, принадлежавшие няне. Над ним висели две большие фотографии в дубовых рамках няниных родителей, почтенных крестьян Суздальского уезда. Под внутренним окном стояли какие-то сундуки, вероятно, с домашним бельем. Весь юго-восточный угол комнаты был занят большой, крайне домовитой печью, со шкафом, медными дверцами и приспособлениями для самовара; печь эта сохранилась с тех пор, как эта комната была буфетом. На стенах висели большие гравюры в черных рамках самого случайного характера, большею частью какие-то ожесточенные сражения XVIII столетия, что, конечно, не очень вязалось с крайне мирным характером няниной комнаты.
* * *
Другая дверь из передней, приходившаяся напротив лестницы, вела в небольшую квадратную проходную комнату с одним окном на юг. Из этой комнаты, в свою очередь, в ее северной стене была дверь в «красную» гостиную. Комнатка была выкрашена в светло-зеленую клеевую краску, впрочем, мало видную за четырьмя дубовыми шкафами с книгами, которые закрывали собою стены; два из них были по сторонам двери из передней, а два – напротив, у западной стены. Дверцы шкафов были из проволочной сетки. На стенках шкафов, обращенных к двери из передней, висели небольшие фотографии в тонких березовых рамках с любимых итальянских картин раннего Возрождения, привезенные нами из Флоренции: Ghirlandaio, Fra Angelico, Botticini и других. На шкафах в глиняных кувшинах годами почему-то хранился ковыль. Против двери из передней, между двумя книжными шкафами у западной стены, стоял желтый комод XVIII столетия с бронзою и бронзовыми ручками того времени; на нем был поставлен мраморный бюст хорошей работы, кажется, Peterson’a – индейский[76] вождь «The White Cloud» [ «Белое Облако»]. Он был приобретен моим отцом в Риме и напоминал ему его путешествие в Америку, где он охотился на бизонов с представителями этой благородной, но вымирающей расы. Отец, никогда не будучи охотником, тем не менее тогда убил бизона, нагнанного им верхом, голова которого была привезена им и подарена в Никольское. Над бюстом висел масляный портрет моей прабабки Марии Васильевны Олсуфьевой, рожденной Салтыковой[77], под стеклом, в широкой черной раме. Покойный барон Н. Н. Врангель приписывал его кисти графа Ротари или одного из его учеников. В простенках между окном и шкафами, а также у противоположной окну двери в гостиную висели кой-какие гравюры и фотографии с картин в старых рамках карельской березы; из них вспоминаю гравюру какого-то магната в латах XVIII столетия, которая в былое время висела у меня в первой моей комнате на Фонтанке, и фотографию с картины Рябушкина «Приезд послов». Над дверями в гостиную были повешены огромные оленьи рога, привезенные из Беловежа.
Северо-западный угол комнаты был занят печью, которая отапливала и «красную» гостиную и которая выходила сюда одним зеркалом поперек угла. Топка печи была из этой комнаты и была прикрыта высоким деревянным экраном, выкрашенным в белую краску. В нашем доме экраны ставились перед печами, которые были не кафельными, а штукатуренными и потому не всегда имевшими чистый и аккуратный вид. На полу был темный линолеум с мелким малоразборчивым рисунком. Посередине комнаты висела медная бессарабская люстра, вывезенная из синагоги, как и другие подобные ей люстры в доме. Наконец, у окна, на трех высок их с толиках, стояли три клетки с попугаями; было два зеленых – Дон Коко и Лори, еще моей матери, привезенные ею из Марсе ля, и один – белый какаду, подаренный нам О. Г<лебовой>, женою брата С<они>. Он грустно, бывало, говорил – «попочка спать хочет, спа-ать, спа-ать». Зеленые попугаи только отчаянно кричали, в особенности по утрам, когда к ним приходила чистить их баба Федосья. Лори был очень ласков, давался гладить и чесать, причем ложился даже на спину, а Коко был злой; Федосья называла его не иначе как «Тигра» или «Дикой». Она ходила за ними чуть ли не со своего детства и с ними беседовала на, по-видимому, взаимно понимаемом ими языке, причем она начинала эту громкую беседу с возгласа «труа, труа», который дружно подхватывался зелеными попугаями. Попугаи стояли тут и в мое детство, когда соседняя «красная» гостиная была столовой. Еще раньше в этой проходной комнате был наблюдательный улей с летком, проведенным в окно. Другой такой улей стоял в передней на месте стойки для аквариума, о которой я упоминал. Это было когда моя мать увлекалась пчеловодством и когда была устроена ею пасека в «старом» саду, а амшинник – рядом с теперешним tennis’om, где тогда были парники. Пчеловодами были два Степана – один «ученый», другой – его помощник из буецкой слободы Бутырок по фамилии Макаров. Моя мать своих пчел как-то даже выставляла на выставке в Туле и получила за них серебряную медаль. Помню все это как сквозь сон. Позже пчелы были переведены в Ясленский лес, где под наблюдением лесника Ивана, прозвищем Лавяга, они просуществовали до первых годов нашей жизни в Буйцах с С<оней>.
Неизвестный художник. Мария Васильевна Олсуфьева, урожденная Салтыкова (1728–1792). Конец XVIII века. Частное собрание, Москва
В мое детство почти у всех наших лесников, большею частью еще крепостных, бывали пчельники. Лучший из них был у лесника Саликова леса, дворового человека Петра Митина. Это был сильный старик с ярко-рыжими волосами, несмотря на свои восемьдесят лет, он всегда имел привычку прибавлять к словам, по старому дворовому обыкновению, частицу «с», сокращенное – сударь. Шестого августа, в Преображение, он, бывало, появлялся в парадном крыльце с чашкой душистого сверкающего меда, завернутой в красном платке, и подносил его бабушке графине Марии Николаевне. Пчельник его был в ложбинке неподалеку от его ветхой избушки; он огорожен был старым плетнем; вокруг росли дубы, а внутри – старые, раскидистые яблони; по соседству был таинственный прудик; посреди пасеки на полу под острым двускатным навесом, на полочке, стояла икона, а в шалаше висели пучки каких-то душистых трав и пахло трутовым куревом. Тут вечно, бывало, копошился сутулый старик Митин, которого все побаивались и считали даже колдуном.
Особенно памятен мне этот пчельник в яркие осенние дни, когда лес стоит золотой, когда пахнет листом, пораженным первыми морозами, когда внезапно с треском взлетает вальдшнеп из гущи молодого осинника, когда щелкает торопливый дрозд в орешнике и трещит хлопотунья сорока, эта предвестница зимы, когда с высокого дуба в тиши прозрачного дня увесисто падает на влажную землю зрелый жолудь, когда, наконец, в опустелом поле летит и стелется паутинка, а на опушке перелеска трубят охотничьи рога, вызывая стаю гончих… В это время в юные годы я возвращался, бывало, с ружьем из соседнего Шалыкина леса с парою убитых вальдшнепов, дома – уютный чай в «нижней» гостиной и пирог с вареньем; в гостиной уже вставлены зимние двойные рамы.
* * *
Гофмаршальский жезл Василия Дмитриевича Олсуфьева. 1836. Дерево, слоновая кость, золото и цветная эмаль. Частное собрание, Москва
«Красная» гостиная, в которую вела дверь из проходной комнаты, была продолговатой, средней величины комнатой с двумя окнами на север. Она выкрашена была тоже в светло-зеленую краску. Кроме двери из проходной комнатки, в ней было еще две двери; одна тоже, как и первая, была в южной стене и вела в «иконную» комнату (впрочем, она всегда была закрыта), другая, в западной стене – в «большую» гостиную. Все три двери, в отличие от других дверей дома, были из полированного ясеня, привезенного, кстати сказать, из родового лесного смоленского имения моего отца, проданного им в 80-х годах для покупки соседней с Буйцами Даниловки его двоюродного брата Василия Александровича Олсуфьева; двери сделаны были в мое детство буецким столяром Иваном Акимовым и его помощником Григорием, всегда, бывало, приговаривавшим: «чистенько, чистенько». На окнах на деревянных кольцах висели прямые занавеси из полосатого тика. Пол гостиной был из сосновых некрашеных досок, проложенных довольно широкими рейками черного дуба. Гостиная была заполнена старой карельской березой, начала XIX столетия, собранной для моих петербургских комнат в мои юные годы моей матерью. Большая часть мебели была приобретена ею у маркизы Траверсе в Царском Селе, кажется, внучки известного адмирала царствования Александра Павловича. Мебель, еще в Петербурге, была обита красной шерстяной материей, которая осталась и после перевозки ее в Буйцы.
Красные Буйцы. Кабинет карельской березы и портрет Василия Дмитриевича Олсуфьева с семьей. 1846. Местонахождение неизвестно
Но постараюсь вспомнить каждую вещь этой красивой комнаты. Посередине восточной стены[78], направо от входа в гостиную из проходной комнаты, стоял большой диван с прямой мягкой спинкой, обрамление и боковые стенки которого были карельской березы. Рядом с ним, в сторону юго-восточного угла комнаты, был небольшой столик, сверху оклеенный зеленым сафьяном и предназначавшийся прежде для бульоток; на нем стояла лампа в красной фаянсовой вазе. По сторонам дивана и этого столика было по креслу карельской березы с тонкими точеными ручками и с круглыми веерообразными спинками. В юго-восточном углу стоял небольшой шкафик, в виде исключения – ясневый. В нем хранилось изысканное собрание тростей моих дедов, частью пожалованных государями; среди них была и шпага моего прапрадеда Адама Васильевича Олсуфьева, статс-секретаря императрицы Екатерины II. Из тростей вспоминаю: янтарную трость XVIII столетия; трость с тонкою геммою; трость с набалдашником из разноцветного золота и чеканкою Louis XVI[79], принадлежавшую моему прапрадеду князю Александру Михайловичу Голицыну, вице-канцлеру и обер-камергеру императрицы Екатерины; трость с набалдашником дымчатого топаза с резными на нем античными профилями и орнаментом Louis XVI, осыпанном бриллиантами и рубинами – подарок моему деду Василию Дмитриевичу императрицы Марии Александровны; трость с тяжелым прямым набалдашником в стиле Louis Philippe, пожалованную ему же государем Николаем Павловичем; затем – с поперечной золотой ручкой в том же стиле; такую же – с ручкой слоновой кости вместо золота; трости с фарфоровыми ручками Saxe; трость с головою Наполеона, вырезанной из слоновой кости, и другие…, наконец – гофмаршальский жезл моего деда Василия Дмитриевича.
В другом углу, северо-восточном, был овальный столик, подаренный мне моим дядей графом Адамом Васильевичем; на нем стояла хорошо исполненная модель стальной пушки на зеленом лафете, вероятно 60-х годов, и бронзовая лампочка для масла – Empire; пушка была подарена моему отцу моим покойным двоюродным братом А. Васильчиковым, получившим ее в свою очередь от князя Кочубея (управляющего Удела ми). Тут же на столике в последние годы стояла фотография моего деда Василия Дмитриевича, в шубе и меховой шапке, такая же, как у меня наверху в кабинете; она принадлежала императрице Марии Александровне, у которой всегда находилась на письменном столе, и после кончины императрицы каким-то образом доставшаяся моему отцу.
За столиком, в углу, была деревянная стойка для палок. Там стояли: любимая палка моего отца из толстой виноградной лозы с отмеченным на ней моим отцом аршином, мой отец всегда ходил с ней по хозяйству, и вся усадьба знала «графский костыль»; трость моего прапрадеда Адама Васильевича с кругленьким набалдашником слоновой кости; высокая трость моего прадеда Дмитрия Адамовича с маленьким золотым или даже медным набалдашником, на котором типичным для XVIII столетия почерком была вырезана лаконическая надпись: «Олсуфьева трость»; наконец, элегантная трость черного тростника с черным, круглым, глянцевитым набалдашником и с золотым рубчатым ободком под ним – подарок принца Валлийского моему отцу. Это было так: отец сопровождал наследника Александра Алексан дровича и цесаревн у в Англию и там как-то, гул я я на Isle of White [остров Уайт] по берегу моря с наследным принцем, будущим королем Эдуардом VII, заметил последнему: «Quelle jolie canne Vous avez, mon Seigneur» [ «Какая у вас красивая трость, Ваше Высочество»], на что галантный принц возразил: «Elle est à Vous!» [ «Она – ваша»]. Из того же пребывания в Ан глии отец рассказывал следующий случай: был торжественный обед у королевы Виктории в честь русских августейших гостей, на котором был и мой отец в числе других лиц свиты; он одет был во фраке и башмаках, которые неимоверно жали ему ноги, и вот, во время обеда, он потихоньку их снял; заметила это сидевшая с ним рядом графиня Александра Александровна Апраксина (будущая княгиня Оболенская), которая не замедлила отпихнуть их возможно дальше; но вот обед кончается, королева встает, – и ужас моего отца, оставшегося в одних чулках!
Перед диваном стоял небольшой прямоугольный стол, оклеенный зеленым сафьяном, со срезанными наискось углами; по сторонам его стояло два стула с высокими спинками, а под ним был постлан оранжевого цвета чоколовский коврик с голубым ободком. Над диваном и стульями во всю ширину стены висел ряд маленьких гравюр – порты Франции в рамках карельской березы, проложенной черным деревом, как все рамки гостиной. Выше, посередине стены, был большой семейный портрет маслом, кисти Грира: мой дед Василий Дмитриевич, бабушка Мария Алексеевна и мой отец, лет семи, в русской красной рубашке. Он написан был в Царском Селе. По сторонам портрета было два длинных декоративных панно: морские виды XVIII столетия, масла, в коричневых красках. Ниже ряда гравюр с видами портов над обоими креслами висело по новому расписному кафелю Дельфт – изображения домика Петра I в Амстердаме; они были куплены моей матерью на одной художественной выставке в Соляном Городке и были вставлены ею в новые же рамки карельской березы, заказанные по образцу старых, заполнявших стены гостиной. Над маленьким столиком у дивана висел тонкий, красивой обливы гипс – профиль государя Павла Петровича в круглой рамке грушевого дерева, сделанной собственноручно моим отцом; он был как-то приобретен нами в Венеции у маленького антиквара на площади Colleoni; тут же висела миниатюра 40-х годов в рамке тисненой кожи – нашей доброй соседки, Дельфины Ивановны Сафоновой, рожденной графини Русалковской. Она представлена амазонкой, совсем еще молодой. Я знал ее уже в очень преклонных летах, высокой, худощавой и сутулой старушкой, всегда с черной круглой шапочкой на голове[80] и всегда говорящей по-французски.
Дельфина Ивановна, родом полька, была замужем за коренным помещиком старых нижних Буец, за Петром Михайловичем Сафоновым, род которого жил в Буйцах еще в XVII веке. Петра Михайловича я не помню, но о нем рассказывали, что он был прямой, справедливый человек и, как подобает помещику того времени с такими качествами, был мировым посредником нашей округи. Он любил говорить по-французски, но говорил плохо, причем часто повторял в каждом удобном случае выражение: «Je le tue» [ «Я его убью» – фр. искаж.]. Давно овдовев, не имея детей, Дельфина Ивановна продолжала жить в Нижних Буйцах в полном помещичьем довольстве в своем старом просторном деревянном доме, построенном Сафоновыми еще в конце XVIII столетия[81]. Перед домом был широкий двор, обсаженный развесистыми березами; в него вели белые кирпичные ворота с большими шарами белого камня. Позади дома тенистый сад состоял из прямых липовых аллей, между которыми были куртины с яблонями; ближе к глубокому пруду, который отделял усадьбу от деревенских изб, были заросли малинника, где в жаркие июльские дни, когда парит перед грозой, пахло крапивой, бузиной и грачами. В доме со стороны двора были большие светлые комнаты с высокими окнами, где подавался чай в красивых широких чашках 50-х годов, где приветливая старушка любила угощать своими неиссякаемыми запасами варенья, которое вносилось маленьким старичком-буфетчиком, откуда, наконец, я в детстве, бывало, любил смотреть, как во дворе гоняют на корде выездных лошадей, до которых Дельфина Ивановна была большой охотницей: она всегда держала четверку пегих, на которых ездила летом в карете, а зимою – в возке. Дельфина Ивановна дружила с моей бабушкой графиней Марией Николаевной, и я, ребенком, часто бывал в ее доме, где все дышало старым временем: и кожаные диваны в кабинете, и альков Louis XVI с золотыми гирляндами по зеленому и белому, и скамейки-рундуки в прихожей, и стенные часы с сиплым басом, и немного затхлый старопомещичий запах в комнатах, и легкий шорох на лестницах и в переходах невидимой челяди, засуетившейся по случаю приезда неожиданных гостей…
Дом Сафоновых в имении Нижние Буйцы на левом берегу Непрядвы. Конец XVIII века. Из «Памятников искусства Тульской губернии».
Где все это теперь?! И следа не осталось от этого барского гнезда XVIII века, и только разве буецкий старик какой, и то от нечего делать, глядя на камни и пни на месте усадьбы, промолвит: «Настоящая барыня была Дельфина Ивановна, царство ей небесное, строгая, но и милостивая была к нам, мужикам».
Дом Нарышкиных в имении Козловка. Первая четверть XIX века. Из «Памятников искусства Тульской губернии»
На этой же стене, около северо-восточного угла, висел небольшой гравюрный портрет, закантованный белой бумажкой – прапрадеда Адама Васильевича, сравнительно молодым, вероятно в царствование еще императрицы Елизаветы Петровны, особым доверием которой он пользовался до самой кончины этой государыни. Между окнами стояло бюро карельской березы с бесчисленным количеством ящичков и отделеньицев[82]. Оно стояло открытым, и на нем был раскинут дорожный сундучок-горка с письменными принадлежностями, оклеенный внутри зеленым сафьяном; с подобным сундучком путешествовал в свое время небезызвестный Павел Иванович Чичиков. На бюро была круглая стеклянная чернильница в виде шара с маленькой серебряной крышкой, подаренная мне Эдуардом Клепшем; затем целое собрание старых семейных печатей: моего деда Василия Дмитриевича, его матери – прабабушки Дарьи Александровны Соллогуб[83], Мухановых и другие; тут же лежали: огромный, хо рошо обкуренный чубук, завернутый в замшу, кажется, прапрадеда Дмитрия Адамовича; плоские, тисненой кожи, с типичной вазой два футляра XVIII столетия для брегетов, вместо которых в одном из них хранилась визитная карточка моего деда Василия Дмитриевича еще молодым офицером с надписью: «Basile Olsoufieff, capitaine des Guardes» [Василий Олсуфьев, капитан гвардии]; бронзовая медаль с профилем моего grand oncl’a канцлера князя Горчакова, брата моей прабабки Соллогуб; его чернильница; небольшой выдвижной карандаш из черного дерева и кости в виде гофмаршальского жезла с надписью на крышке его кожаного футляра: «Ni jamais, ni toujours c’est le devise de mon jour» [Ни никогда, ни всегда – вот девиз моего дня] – подарок моему отцу его друга Клепша по случаю неоднократного исполнения моим отцом обязанностей гофмаршала при государе Александре III; маленькие серебряные подсвечники Empire, купленные моей матерью; фотография в<еликой> к<няжны> О<льги> А<лександровны> девушкой лет семнадцати с ее автографом, в китайской лаковой рамке, тоже, как и фотография, ее подарок мне[84]; золоченой бронзы подстаканник Empire с хрустальным стаканом, подаренный мне старушками Нарышкиными в Козловке; наконец, пресс-папье моей бабушки графини Марии Алексеевны – вышитая кошка бисером под стеклом в обрамлении зеленой кожи с бронзовой чеканной золоченой ручкой начала XIX столетия.
Адам Васильевич Олсуфьев. Гравюра. Вторая половина XVIII века. Частное собрание, Москва
Антуан Ланг. Портрет Дельфины Ивановны Сафоновой. Миниатюра. 1841. Тульский музей изобразительных искусств
Я так часто упоминал Эдуарда Клепша, что считаю себя обязанным пояснить, кем был этот дорогой друг нашей семьи. Эдуард Клепш был генералом австрийской службы и много, много лет состоя в России австрийским военным агентом, был очень любим как покойным государем, так и всем петербургским обществом В молодости, в войну Австрии с Наполеоном III, он тяжело был ранен навылет в горло; его считали убитым, и в доме его служили по нем панихиды, как вдруг неожиданно после шести месяцев он явился к своей матери. Оказалось, что он был поднят на поле сражения одной доброй крестьянкой, которая и вы ходи ла его в течение нескольких месяцев. Он был назначен тогда императором Францем-Иосифом флигель-адъютантом, а затем вскоре был послан в Россию. Он был очень дружен с моими родителями и часто бывал в Буйцах.
На бюро, посередине, стоял бронзовый бюст Петра I, довольно удачная работа Опекушина – «Здесь да будет Петербург»; несколько ниже, на плечиках бюро, стояло два бронзовых подсвечника Empire и две бронзовых ливретки на подставках белого мрамора.
В. И. Гау. Мария Николаевна Соллогуб. Акварель. 1846. Тульский музей изобразительных искусств
В. И. Гау. Лев Львович Соллогуб. Акварель. 1846. Тульский музей изобразительных искусств
По сторонам бюро были кресла, такие же, как у дивана; затем, под окном, ближе к северо-восточному углу, стоял столик, тоже карельской березы с бронзою, а далее, между ним и углом – снова кресло. На столике в маленькой плоской витрине палисандрового дерева было собрание золотых монет и медалей; между ними – золотой медальон с профилем моего деда графа Василия Дмитриевича. Золотые монеты были преимуществен но русские, с конца XVII века, но были и древние византийские, частью еще моих родителей, а частью привезенные мною с Кавказа. По сторонам витринки были расставлены эбеновые слоны разных величин, привезенные из Индии и купленные моей матерью. Над бюро висели: литография мое го деда Василия Дмитриевича московским губернатором, следовательно 30-х или 40-х годов; портрет углем Молинари моей прабабки Дарьи Александровны и моего деда, ее сына Василия Дмитриевича, мальчиком лет пятнадцати[85], в широких черных рамках, которые почему-то делались у Васильчиковых в Кораллове; затем две премилые акварели 40-х годов, подаренные мне в Липканах тетушкой фон Дитмар – моего деда графа Льва Львовича Соллогуба и бабушки графини Марии Николаевны, совсем молодыми[86]; акварели были работы Нau (?) и были заключены в голубых паспарту с золотом, как это делалось в то время. По сторонам этих семейных портретов висели кой-какие гравюры XVII и XVIII столетия, больше ради своих карельских рамок, нежели содержания. В простенке между окном и северо-восточным углом, среди гравюр и видов старого Canterbury, привезенных мною оттуда в 90-х годах и вставленных тоже в рамки карельской березы, висела акварель начала XIX столетия – Невский проспект с Аничкиным дворцом, по предположению П. И. Нерадовского – рисунка Черн<е>цова; ниже – небольшая фотография с картины, висевшей в большом Царскосельском дворце в одной из гостиных, прилегавших к церкви. Это – осмотр императрицей Екатериной II памятника Петру I в мастерской Фальконета. В числе немногих лиц, ее сопровождавших – мой прапрадед Адам Васильевич Олсуфьев и другой мой прапрадед и не меньший ценитель искусства – вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын; немного в стороне – художница девица Колла. Прапрадед Адам Васильевич был почет<ным>[87] членом Академии художеств, одним из первых директоров театров и императорского фарфорового завода и собирателем гравюр и русских лубков. В голицынском архиве в Петровском, в бумагах Ивана Ивановича Шувалова, я видел счета Шувалова на привезенные им из Италии картины для Адама Васильевича, этого любителя и знатока итальянского языка и приятеля Казановы. Императрица Екатерина писала ему[88] по какому-то случаю: «Vous qui avez du gout» [ «Вы с вашим вкусом»] и т. д.; Кваренги рисовал ему проекты церкви и павильонов для его сада, о чем упоминал в своей автобиографии. В Петербурге у Адама Васильевича был прелестный дом на Фонтанке елизаветинских времен; он до сих пор существует и принадлежит теперь католической духовной коллегии (его не следует смешивать с Олсуфьевским домом на Фонтанке, купленным моим дедом в 40-х годах, в котором я родился). Его биографы, Адама Васильевича, между прочим, отмечают, что он не был заражен вольтерианством, как большая часть бар того времени.
А. Молинари. Василий Дмитриевич Олсуфьев. Акварель. 1811 или 1812. Тульский музей изобразительных искусств
А. Молинари. Дарья Александровна Олсуфьева. Акварель. 1811 или 1812. Тульский музей изобразительных искусств
Князь Александр Михайлович, другой мой прапрадед (его дочь была матерью моего деда Василия Дмитриевича), составил известное собрание картин в Голицынской больнице, построенной под его наблюдением, когда он доживал свой блестящий век в Москве, его двоюродным братом и другом князем Дмитрием Михайловичем. Это собрание было потом невежественно распродано для доходов больницы. В то время им был построен и дом на Девичьем поле, доставшийся его старшему внуку Александру Дмитриевичу Олсуфьеву. Рассказывают[89], что князь Александр Михайлович был деликатнейшим и наивоспитаннейшим человеком своего времени. Раз как-то он поехал на званый обед, а люди его, по недоразумению, завезли его совсем в другой дом. Дедушка заметил это только тогда, когда вошел, почетно принятый скромными хозяевами, польщенными таким высоким посещением; не показав вида, он просидел у них вечер как ни в чем не бывало. В карете своей князь Александр Михайлович возил с собою любимую настойку, которая называлась им «пестру-остру». Впрочем, в этом ему ни насколько не уступал и другой мой прапрадед Адам Васильевич Олсуфьев, возивший в своей карете окорок вестфальской ветчины и портер, за которыми как-то послала императрица Екатерина, видя его рассеянным и неспособным приняться за дела. Таков был век Екатерины!
Н. Г. Чернецов. Вид Невского проспекта с Аничковым дворцом. Акварель. 1823. Из усадьбы Олсуфьевых Красные Буйцы. Местонахождение неизвестно
В самом углу, который был срезан, как уже упоминалось, наискось, висел над столиком с пушкою паспарту, закантованный в золотой бумажке с заказанными мною фототипиями с семейных миниатюр, принадлежавших моей тетушке Дарье Васильевне Моро, сестре моего отца, и переданных ею ее внучатым племянникам Милорадовичам. Тут были портреты: прапрадеда Адама Васильевича, почему-то в колпаке, князя Александра Михайловича Голицына, княгини Голицыной, рож денной Кантемир, прабабушки Марии Васильевны, рожденной Салтыковой, и многие другие. Над ними висел портрет дедушки Василия Дмитриевича в синем паспарту с золотом, такой же, как над бюро карельской березы, подаренный нам старушками Нарышкиными все в ту же нашу поездку к ним в Козловку, о которой я не раз упоминал, а на самом верху – неболь шой образок Божией Матери, обложенный серебряным ободком, он был дан мне в благословение Тульским архиепископом Никандром, пробывшим в Тульской епархии более тридцати лет; бывало, когда мы приезжали к нему с моей матерью, то добродушный архипастырь приказывал открыть бутылку шампанского, которым радушно нас угощал.
Д. Г. Левицкий. Портрет князя Александра Михайловича Голицына. 1772. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Ф.-Г. Друэ. Портрет князя Дмитрия Михайловича Голицына. 1762. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва
Простенок между другим окном и северо-западным углом был настолько узок, что в нем едва умещался своим боком небольшой ко мод из ясня с черным и с бронзовыми ручками, начала XIX столетия, стоявший в простенке между углом и дверью в «большую» гостиную, иначе говоря – у западной стены комнаты. На этом комодике под стеклянным колпаком стояли часы золоченой бронзы – амуры с бабочками, первой половины XIX века, свадебный подарок С<оне> ее тетушки Марии Николаевны Кристи; тут же стояли: другие настольные часы в черном кожаном футляре; барометр моей матери, стоявший прежде всегда на ее бюро красного дерева в теперешней библиотеке; два миниатюрных портрета, в эмалевой рамке с золотою гирляндою в духе Louis XVI типичной работы Фаберже, моего отца и меня студентом, подаренных отцом моей матери по случаю двадцатипятилетия их свадьбы, миниатюры были сделаны П. И. Нерадовским; затем миниатюра цесаревича Александра Николаевича в тяжелой бронзовой рамке, пожалованная им моему деду Василию Дмитриевичу; наконец, два подсвечника Empire золоченой бронзы. Над комодом висело несколько гравюр, из которых вспоминаю «The brooke he loved» [ «Любимый ручей»], новую, купленную мною в Лондоне, и гравюру XVIII столетия «La sainte famille» [ «Святое семейство»], когда-то висевшую в моей спальне на Фонтанке. Над дверью в «большую» гостиную висела гравюра XVIII столетия – морская авария, с автографом моего прапрадеда Адама Васильевича; она случайно была куплена в Париже, где иногда попадались и другие гравюры моего прапрадеда, похищенные французами в 12-м году в доме его сына, моего прадеда, Дмитрия Адамовича на Тверской.
Императрица Елизавета Алексеевна. Миниатюра. Первая четверть XIX века. Частное собрание, Москва
Император Александр I. Миниатюра. Первая четверть XIX века. Частное собрание, Москва
Почти весь простенок между этой дверью и юго-западным углом был занят большим диваном с отлогой, красиво полированной спинкой карельской березы, перед которым стоял круглый столик и табуреты из той же березы. Над диваном висели портреты: Александра Дмитриевича Олсуфьева, старшего брата моего деда Василия Дмитриевича, литография 40-х годов, на которой он представлен в своем саду на Девичьем поле; небольшой портрет прапрадеда адмирала Григория Андреевича Спиридова в красивой рамке карельской березы с бронзовыми розетками по углам; княгини Екатерины Александровны Долгоруковой, сестры моей прабабки Дарьи Александровны, фототипия с портрета Vigée Le Brun, тоже в рамке карельской березы; две фотографии, данные мне Дягилевым, с портретов князя Александра Михайловича Голицына Левицкого и Семена Кирилловича Нарышкина, родного дяди по матери князя Александра Михайловича; Нарышкин, Голицын и дочь последнего княгиня Долгорукова были последовательными владельцами Буец; снимки, подаренные Дягилевым, были сделаны перед известной портретной выставкой, устроенной им в Таврическом дворце в начале 900-х годов; оба портрета принадлежали тогда моей троюродной сестре Татьяне Васильевне Олсуфьевой, а в былое время висели в Олсуфьевском доме на Девичьем поле; портрет князя Александра Михайловича был затем продан Третьяковской галерее, а портрет Нарышкина, на котором Семен Кириллович в камзоле и шляпе XVIII столетия был изображен в рост и в натуральную величину, сгорел в усадьбе Татьяны Васильевны в Щелкове, по соседству с Олсуфьевским Никольским; тут же висели две парные небольшие миниатюры государя Александра Павловича и императрицы Елизаветы Алексеевны в овальных бронзовых рамках с гирляндами по черному[90]; наконец, акварельный портрет в овальной ореховой рамке моего прадеда Николая Руссет, или Россети-Розновано, отца моей бабушки графини Марии Николаевны Соллогуб, сделанный в первой половине XIX столетия в Париже.
Великая княжна Ольга Александровна – младшая дочь императора Александра III. 1898. Фотография с автографом, подаренная Ю. А. Олсуфьеву. Частное собрание, Москва
А. Молинари. Александр Дмитриевич Олсуфьев. Акварель. Около 1815. Частное собрание, Москва
Об Александре Дмитриевиче Олсуфьеве, чей портрет занимал здесь центральное место, я очень мало что знаю. По рассказам, это был большой московский барин первой половины XIX столетия: он умер в 1852 году. В Москве он жил в своем старом Голицынском доме на Девичьем поле, обладал очень большим состоянием, доставшимся ему, как и этот дом, от его родной тетки княгини Екатерины Александровны Долгоруковой, умершей бездетной, был женат в первом браке на Кавериной, во втором – на Марии Васильевне Нарышкиной, вдове графа Бальмена, был почетным опекуном Московского присутствия и камергером. Дядюшка граф Алексей Васильевич рассказывал, что Александр Дмитриевич убедил своего младшего брата, моего деда, выйти из гусарского полка и поселиться в родовом Ершове, когда усмотрел намерение женить брата на дочери банкира Velio, фаворитке императора Александра I, с намеками на флигель-адъютантство.
Бабушка Мария Васильевна была воспитана своей теткою графиней Евдокией Ивановной Воронцовой, которую она горячо любила и на чьем портрете, хранившемся у Марии Васильевны, была надпись: «Хочу, чтобы с тобою хоть тень моя была». Этот портрет до последнего времени был у Марии Васильевны Богдановой, рожденной Олсуфьевой, внучки Марии Васильевны[91]. Мать Марии Васильевны, Анна Ивановна Нарышкина, была рож денная графиня Воронцова и была дочерью графини Марии Артемьевны, рожденной Волынской. Существует семейный рассказ, что семья казненного Волынского, в том числе и Анна Артемьевна, возвращаясь из ссылки, повстречалась на Волге с отправляемым в свою очередь в Сибирь Бироном. По теряв первого мужа в 12-м году, Мария Васильевна совсем еще молоденькой поселилась в Англии вблизи своих родственников Воронцовых; сохранилась даже такая подробность, что она в Англию брала с собой своего негритенка и арфу. Тогда русским послом в Лондоне был дядя ее граф Семен Романович Воронцов, брат княгини Екатерины Романовны Дашковой, дочь которого, графиня Екатерина Семеновна, замужем за лордом Pembroke, была очень дружна с Марией Васильевной; последняя крестила ее второго сына Sydney Herbert, будущего министра иностранных дел Англии.
Мой отец рассказывал, что тетушка его Мария Васильевна любила, бывало, выйдя из своего экипажа, пройтись пешком, причем за нею следовало два лакея; во время подобных прогулок к ней подбегал в потрепанной фризовой шинели дядя моего отца Алексей Алексеевич Спиридов, большой чудак и шутник, и к досаде важной тетушки с притворной услужливостью предлагал ей свою руку. О прапрадедушке Спиридове, чей портрет, как говорилось, висел на этом же простенке, упомяну, что в знаменитом Чесменском сражении, вступая в бой на своем флагманском корабле «Евстафий» с кораблем командующего турецким флотом, Григорий Андреевич в одной руке держал пистолет, а в другой – бокал вина, который он выпил за здравие императрицы. И тут можно воскликнуть: таков был век Екатерины! Оба корабля, как известно, взорвались.
Рядом с диваном в сторону двери в «большую» гостиную стоял легкий черный пюпитр для нот; впрочем, в этой комнате никогда ни на чем не играли.
В юго-западном углу гос тиной был угольный столик, на котором стояла фотография покойной Л. С.; там же стояла статуэтка барабанщика времен Louis XVI – французская бронза. К всегда закрытой двери в «иконную» комнату был прислонен шкаф карельской березы с бронзою и со стеклянными дверцами, в нем лежали издания по искусству: «Старые годы», «Мир искусства», «Золотое руно» и другие. Особенно памятны мне эти книги в приезды В. Комаровского (Владимира): открыты книжные шкафы, вынуты художественные издания; все Буйцы, вся наша жизнь, пожалуй, – все мы открыты суду этого друга, этого беспокойного художественного деспота, он бранит, он поощряет, он тут же творит своими отрывисто брошенными словами, своим выражением, своей интонацией…[92]
На этом же шкафу с книгами на черной подставке стоял глобус, принадлежавший моему отцу еще в детстве. В узком простенке между шкафом и кафельной печью, которая была посередине южной стены, стояло небольшое круглое кресло с круглой спинкой и отлогими ручками; на нем лежала шелковая голубо-зеленая подушечка с вышитой на ней С<oней> вазой Louis XVI светлыми серебристыми шелками; над креслом висели две вещи, обе связанные с братьями Комаровскими: одна – небольшая темпера Владимира Комаровского – кавалер и дама XVIII столетия, в ярких красочных переливах, подаренная нам вскоре после нашего путешествия с ним осенью шестого года по Италии, когда мы вместе были в Венеции, Флоренции, Фиезоле и Риме; помню, как впечатлялся он перламутровой многокрасочностью венецианских лагун, неоднократно нашедшей отклик в его произведениях; дру гая – акварель, портрет поэта Веневитинова, копия, сделанная для меня П. И. Нерадовским с семейного подлинника, бывшего у Василия Комаровского. Комаровские приходились внучатыми племянниками Веневитинову. На портрете юного поэта была начертана эпитафия Батюшкова:
Здесь юноша лежит, Над камнем роза дышит, А старость дряхлою рукой Ему надгробье пишет: «Как знал он жизнь, Как мало жил».Последние две строки принадлежали самому Веневитинову. Эта копия была исполнена в год нашего первого знакомства с Василием Комаровским, когда я был второй год в университете, а он только что поступил и жил на Галерной. Мы как-то очень скоро с ним сблизились. После петербургского безыдейного англоманства меня привлекали в нем широта мысли и изящная, творческая оценка окружающего; его талантливость, его тонкое понимание русского общества и течений русской мысли, конечно, ставили его неизмеримо выше моего петербургского товарищества и выше той придворной среды, в которой я воспитывался. В нем живы были старые дворянские литературные традиции Пушкинского времени, которые одновременно были и традициями его семьи, связанной дружбою с Пушкиным. Я так и вижу, как, немного прищурившись и что-то наблюдая с доброю и несколько затаенною улыбкой, он вполголоса напевает старую пушкинскую песенку:
Ах, тетушка, ах Анна[93] Львовна, Василья Львовича сестра, Была ты к маменьке любовна, Была ты к папеньке добра. Ох, тетенька! Ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра! Была ты к маминьке любовна Была ты к папиньке добра.Василий Алексеевич Комаровский. Около 1905. Частное собрание, Москва
Часы. Франция, XVIII век. Бронза. Местонахождение неизвестно
После нашей свадьбы он часто бывал у нас в Буйцах, где пленяли его бурые осенние бугры и черные дороги. Они говорили ему что-то, что было скрыто от нас… Бывало, вечером, глухой осенью, в «большой» освещенной гостиной он декламировал нам свои стихи, своего «Князя-епископа» или звон кие французские рифмы; он говорит несколько возбужденно, часто глотая слова, затем, потирая руки, спрашивает то С<оню>, то меня о впечатлении, потом снова декламирует, красиво, увлекательно… Только теперь я вполне оценил его поэтический дар, его глубокое, космическое восприятие, которое, быть может, он сам в себе мало сознавал. Дорогой друг! Скромный, удивительно скромный, ласковый, всегда доброжелательный! Комаровский рано умер, совсем молодым, осенью 14-го года, когда события мировой войны резко отразились на его здоровье: он был болен эпилепсией. В тяжелые минуты душевного угнетения он как-то писал мне, прося за него молиться. Его похоронили на старом Донском кладбище близ монастырской стены; я приехал на похороны из Буец; был хмурый осенний день, но когда опускали гроб в могилу, то вдруг яркий луч солнца осветил его на миг, как бы отдавая покойному свою последнюю дань. Комаровский оставил небольшую тетрадь своих поэтических исканий, которую издал, назвав ее «Первая пристань».
В этом же простенке висела фотография с картины, хранящейся в Эрмитаже, – Набережная Невы в царствование Петра I; на месте теперешнего Эрмитажа – дом моего прямого предка обер-гофмейстера императора Петра Василия Дмитриевича Олсуфьева.
Перед печью стоял экран карельской березы с вышивкой крестиками 30-х годов; в промежутке между печью и дверью из проходной комнаты стояло маленькое детское креслице государя Александра Павловича, тоже карельской березы, обитое красным сафьяном[94]. Оно куплено было моей матерью у одного петербургского антиквара, которому оно досталось при распродаже разного скарба из Таврического дворца; остается удивляться, как могло Дворцовое управление допускать подобные продажи. Над ним висела гравюра, но какого содержания, теперь уже не помню. В другом промежутке, между дверью и юго-восточным углом, висел небольшой портрет маслом моего отца, мальчиком лет двенадцати, в форме лейб-гвардии Эриванского полка, он стоит на часах в Зимнем дворце – потешная служба входила в состав занятий-игр великих князей и их молодых сверстников. Над дверью висела французская гравюр XVIII столетия – «Le pâté d’anguille», тоже, как и гравюра над дверью в гостиную, с подписью моего прапрадеда Адама Васильевича. На обратной стороне этой гравюры была сделана надпись его же рукой: «Получил от Сережи». «Сережей», можно думать, был или его сын Сергей Адамович, будущий пензенский губернский предводитель дворянства, или небезызвестный его шурин – Сергей Васильевич Салтыков[95]. Посередине гостиной была медная люстра, похожая на прочие такие же люстры Буецкого дома, о которых мне приходилось уже не раз говорить. Наконец, наискось вдоль комнаты, от двери из соседней проходной к двери в «большую» гостиную, была постлана простая деревенская дорожка в лиловых и черных красках, придававшая особый уют комнате и нисколько не нарушавшая ее стильного целого.
* * *
Соседняя «большая» гостиная, если не принимать во внимание ее части за аркою, занятой библиотекой, была квадратной, очень пропорциональной комнатой с двумя окнами и с наружной стеклянной дверью на север. Кроме того, в ней было еще две двери, обе у северной стены: одна в восточной стене, ясневая, из «красной» гостиной; другая в западной стене напротив первой, белая, которая вела в столовую. Юго-восточный угол гостиной был заполнен большой штукатуренной угловой печью, топившейся из библиотеки за аркою. На полу был темный линолеум, купленный в 80-х годах в Париже; он почти не был виден под серо-зеленым «бархатным» ковром, покрывавшим весь пол гостиной. Стены были цвета gris perle [жемчуга]. На окнах, дверях и арке висели прямые шелково-пеньковые занавеси опять такой же материи, какая была в «нижней» гостиной. Мебель была белая с светло-зеленой прокраской в стиле Louis XVI – копия с мебели того времени, которая, как я упоминал, стояла в гостиной старого Олсуфьевского дома на Девичьем поле; она была обита такой же материей, как на занавесях. Мебель, картины, гравюры и вещи в гостиной придавали ей характер XVIII столетия, с которым очень вязались белые колонки северного балкона, видные в окна и дверь; когда же летом двери гостиной и соединенной с нею аркою библиотеки бывали открыты, то гостиная с северной стороны, с колонками балкона, производила впечатление павильона в саду, через который открывался прекрасный вид на юг, на долину Непрядвы, луга и села.
Князь П. И. Багратион (?). Миниатюра на крышке табакерки. Начало XIX века. Частное собрание, Москва
Адмирал Алексей Григорьевич Спиридов с дочерьми. Миниатюра. Начало XIX века. Частное собрание, Москва
Но попробую перечислить все по порядку в этой любимой комнате. Налево от двери вдоль восточной стены стоял мягкий диван, отделенный от двери низенькими белыми ширмами с вышитыми в нашей мастерской мелкими цветочками по холсту. Между ширмами и диваном стояла восьмигранная тумба красного дерева, а на ней часы Louis XIV – амуры со сферою, золоченой бронзы, работы парижского мастера Causard, Horloger du Roy [Казара, часовщика Его Величества][96]. Перед диваном был круглый стол Louis XVI розового дерева – маркетри; по его краю была инкрустация – вазы из светлого дерева; на нем стояла лампа с белым восченой бумаги гофрированным абажуром в вазе Дельфт – серой с синим. У стола были расставлены белые кресла и стулья.
Над диваном висел портрет С<они>[97], уголь с пастелью, несколько меньше натуральной величины, рисованный Серовым в 911 году. Он закантован был в сером бумажном паспарту с золотом, в общем овальной формы, но с прямыми вертикальными сторонами, заказанном самим Серовым. Этот красивый, грациозный портрет передавал не только черты С<они>, но и черты отдельных членов ее семьи, ее матери, сестры, несмотря на то, что Серов ни с кем из них не был знаком. Он рисовал С<оню> зимою, в одной из верхних комнат Глебовского дома на Молчановке, по вечерам, с верхним электрическим светом, что и послужило причиною столь густых теней. По поводу этого портрета сам Серов, шутя, выражался: «бывает хуже», а относительно положения руки С<они>, прислоненной к печи, добавлял: «Молодым будет нравиться, а кто постарше, тот будет спрашивать – ну зачем так рука?»
У печи стояла белая этажерка с полочками, отделеньицами и с не большим шкафиком, в дверке которого под стеклом была гравюра Watteau «La bergère impruden te»
В. А. Серов. Портрет Софьи Владимировны Олсуфьевой. Уголь, пастель. 1911. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва
[«Неосторожная пастушка»]. На полках были книжки стихов, брошюры, цветочные каталоги, альбомы с фотографиями, одним словом все, что бывало на столе, а затем убиралось поблизости ради порядка; в среднем отделеньице этажерки в красивых переплетах XVIII столетия стояло несколько томов Rousseau, подаренных мне Линою Толстой больше ради переплетов, чем самого Rousseau. Верх этажерки был заполнен красивыми вещами: посередине стояли часы Louis XVI – золоченая бронза с белым мрамором[98], подарок моей матери дядюшки Дмитрия Александровича Олсуфьева, двоюродного брата моего отца, жившего всегда в Париже; по краям – две фарфоровые вазы 50-х годов завода Миклашевского в виде корзинок с гирляндами цветов; между <ними> – миниатюра моей прабабки Розновано, рожденной княжны Гика[99]; она декольте, с жемчужным колье и красным тюрбаном в прическе, миниатюра была сделана в Париже в начале прошлого столетия; затем миниатюра моего прадеда графа Льва Ивановича Соллогуба[100], последнего владельца Гор Горецких, где живал Державин и писал дифирамбы красивой владелице Горок, моей прабабке графине Наталье Львов не Соллогуб, рожденной Нарышкиной, дочери известного екатерининского вельможи и шут ника «Левушки» Нарышкина, как звала его императрица, Льва Александровича; миниатюра семьи другого моего прадеда Алексея Григорьевича Спиридова – в широкой бумажной рамке с бронзовыми розетками того времени[101]; Алексей Григорьевич в черном адмиральском мундире в виде фрака, как тогда носили, с лентой и Георгиевским крестом, полученным им, кажется, при Чесме, когда он мичманом состоял при своем отце адмирале Григории Андреевиче; с ним его три дочери: будущая графиня Толстая, Даксергоф и младшая (она родилась в 1801 году) – Мария Алексеевна, впоследствии Олсуфьева, моя бабушка; круглая черепаховая табакерка с тонким миниатюрным портретом князя Багратиона с золотым ободком, в крышке которой была заключена прядь его волос[102]; эту табакерку подарил мне дядюшка Дмитрий Александрович Олсуфьев; она, по семейному преданию, была дана Багратионом Александру Дмитриевичу Олсуфьеву, который вынес раненого князя из траншеи под Бородином (Александр Дмитриевич, кстати сказать, отличался силой); другая черепаховая табакерка, овальной формы с амурами из разноцветного золота[103]; круглая табакерка папье-маше с золотыми инициалами Д. и А. в крышке, на фоне голубого шелка[104]; две серебряных табакерки Louis XV; круглая серебряная табакерка с чернью и с профилем императрицы Екатерины II; небольшая коробочка белого дерева с миниатюрой государя Александра Павловича в детстве[105], в голубом полосатом платьице; миниатюра была вставлена в крышку коробочки и была обведена золотым ободком в виде веночка; она была подарена нам Владимиром Комаровским, тогда как коробочка и золотой веночек были сделаны мною у Фаберже; небольшой медальон Louis XVI золоченой бронзы с профилем черным с одной стороны и инициалами – тоже черным – с другой; как профиль, так и инициалы были под слегка выпуклым стеклом; небольшая ваза Louis XVI в виде урны белого фарфора с гирляндами[106], императорского фарфорового завода с маркою Екатерины II; зеленая чашка Empire завода Поповых, подаренная мне архиепископом тульским Парфением, любителем русского фарфора, когда я фотографировал пред меты искусства Тульского архиерейского дома для нашего издания; высокий стеклянный бокал XVIII столетия, подаренный мне стариком Алексеевым, соседом Глебовых по Тараскову; небольшой подносик – nouveau Saxe; лупа овальной формы, заключенная в черепаховых стенках с рубчатым серебром, моей прабабушки Дарьи Александровны Олсуфьевой; печат ка Louis XVI горного хрусталя без вырезанных на ней инициалов; печатка дымчатого топаза с соединенным гербом Олсуфьевых и Мухановых – бабушки Екатерины Дмитриевны Мухановой, сестры моего деда Василия Дмитриевича; еще печатка, тоже дымчатого топаза, в стиле Empire с инициалами бабушки графини Марии Николаевны; серебряная сахарница Louis XV, купленная моей матерью у наследников Дельфины Ивановны Сафоновой[107]; серебряная ложка для мелкого сахара, того же времени; серебряный стаканчик, выбитый из старого испанского пятифранковика с сохранившимся вверху ободком Louis XVI, подаренная мне дядюшкой князем Михаилом Александровичем Горчаковым; серебряный стакан, покрытый синей эмалью с золотыми чеканными букетами, венецианской работы XVII–XVIII столетий[108]; небольшая темпера Владимира Комаровского в белой рамке – изысканная стилизация XVIII века в изумрудных красках с золотом; небольшая вазочка античного стекла, купленная нами в Риме при выходе из музея Терм и обложенная нами золотым ободком в Неаполе; наконец золотая восьмигранная плоская табакерка Directoire с поперечными на ней широкими полосками, отмеченными гравировкой, которая как-то особенно хорошо выглядела на белом.
Часы. Франция, XVIII век. Мрамор, бронза, эмаль. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва
В промежутке между печью и аркою стояла мягкая кушетка; над нею висело зеркало в золотой рамке Louis XVI, подаренное моей матери дядей Александром Алексеевичем Васильчиковым, а выше – часы золоченой бронзы в том же стиле и того же времени.
Юго-западный угол гостиной был весь занят большим мягким угловым диваном, обитым лиловым репсом, со спинкой и боковыми стенками в виде перильцев из тонких прямых точеных столбиков, выкрашенных белой краской; над ним в углу висел небольшой образ Спасителя в серебряной золоченой ризе 40-х годов, в простенке между аркою и углом были две французские гравюры XVIII столетия – охоты: «Le départ pour la chasse» [ «Отъезд на охоту»] и «Le retour de la chasse» [ «Возвращение с охоты»], на них seigneur’ы, дамы, слуги, откормленные кони вида першеронов, собаки, сокола и почтительно кланяющиеся вилланы, затем, конечно, великолепные гербы и не менее великолепные дедикации; они были в рамках, белых с зеленым.
Табакерка с инициалами Д. и А. Около 1800. Частное собрание, Москва
На западной стене гостиной посередине висело масло – козы, вещь французской школы XVIII столетия в красивой ажурной золоченой рамке в виде виноградных лоз, эта картина была подарена моей матери дядей Васильчиковым; под нею висела marine [морской пейзаж] – масло, тоже французской школы XVIII века, в золоченой рамке с попе речными рубчиками, она была из спиридовских картин; по сторонам висело два поясных портрета XVIII столетия, масла в золоченых рамках Louis XVI кисти Христинека – прадед Дмитрий Адамович Олсуфьев и, вероятно, его брат Владимир Адамович, они оба в военных формах царствования императрицы Екатерины II; особенно хорош был портрет Владимира Адамовича, почти юношей. Прадед Дмитрий Адамович был в самом начале прошлого столетия московским губернским предводителем дворянства; в Москве он жил в своем обширном доме на углу Тверской и Леонтьевского переулка, купленном им в конце XVIII столетия у Шереметевых. Этот дом до последнего времени принадлежал правнукам Дмитрия Адамовича – семье его внука Василия Александровича, давно покинутый Олсуфьевыми, вероятно после смерти прабабушки Дарьи Александровны, при которой он описан в мемуарах моей двоюродной сестры Васильчиковой, он превратился в доходный дом, а недавно окончательно был профанирован кинематографом и каким-то медицинским управлением; я как-то, проходя мимо, заглянул в него: только благородный полукруглый угольный фасад с высокими окнами и красивыми плоскими полуколоннами, типичные для Louis XVI пропорции и соотношения окон, круглая гостиная с тонкой лепкой на карнизе потолка и мраморный камин Louis XVI в зале говорили о его красивом прошлом.
У этой стены стоял белый круглый стол с белыми же креслами и стульями, на нем была высокая лампа с матовым стеклянным шаром в старой китайской вазе; эта лампа при моем деде была масляной, а затем уже была переделана на керосин. На этом же столе стояла небольшая фотография с рисунка, изображающая всю семью моего деда Василия Дмитриевича; на его коленях его младший сын, совсем маленьким – мой отец; рисунок принадлежал моей тетушке Дарье Васильевне Моро, старшей сестре моего отца. Ближе к двери в столовую, под прямым углом к стене и спинкою к окну, стоял небольшой белый диван в духе Louis XVI, тоже копия, как и вся мебель, с одного такого дивана в доме на Девичьем.
Спаситель. Вышивка С. В. Олсуфьевой по рисунку Д. С. Стеллецкого. 10-е годы XX века. Частное собрание, Москва
В узеньком простенке между дверью в столовую и северо-западным углом стояло белое кресло, а над ним, сколько себя помню, висела английская гравюра начала прошлого столетия в тонкой черной рамке – всадник Байроновского вида в сюртуке и цилиндре на хорошо собранном вороном коне. Бывало, в раннем детстве, когда я начинал плакать, старушка няня Дарья Ивановна пугала меня этим всадником, говоря, что если я буду продолжать плакать, то он приедет и меня возьмет.
Перед окнами стояло по столику бобу – маркетри, тонкой работы из светлого дерева конца XVIII столетия[109]. У моих родителей они были в большой гостиной на Фонтанке. На них стояло по высокому канделябру Louis XVI золоченой бронзы, подаренных С<оне> к свадьбе ее дядей князем Петром Николаевичем Трубецким. Кроме канделябр<ов> на столиках были: небольшая бронзовая статуэтка – scène rustique [сельская сцена] XVII–XVIII веков италь янского происхождения – крестьянин верхом на лошади с вьюками[110], затем плоские настольные часы в бронзовой рамочке моей матери, две вазочки матового стекла с черны ми вертикальными полосами – Мурано, подарок В. Комаровского С<оне> в Венеции; серебряное блюдо с античной сценой, привезенное моим родителям из Парижа молодыми С-ми после свадебного путешествия; серебряные часы Louis XIV, луковица с интересными рельефами на крышке, подаренные мне В. Комаровским из вещей его покойного брата Василия; целая серия серебряных табакерок в виде мопсов разных величин, вероятно первой половины прошлого столетия, купленных моей матерью; наконец большие, золоченой бронзы, часы-луковица, оставшиеся после старушки Прасковьи Андреевны Яблочкиной, доживавшей свой долгий век у нас в Буйцах.
Я не могу не посвятить несколько слов этой старушке. Прасковья Андреевна была первой ученицей первого выпуска Николаевского института в Москве. Это была маленькая-маленькая старушка со сморщенным, как печеное яблочко, личиком. Она долгие годы была demoiselle de compagnie [компаньонкой] нашей соседки Дельфины Ивановны Сафоновой, а после ее смерти была взята к нам в дом, где состояла при моей бабушке, говорила с ней по-французски, читала ей вслух, гуляла с ней и возилась с ее моськами. Она любила вспоминать старое время в Москве, всегда рассказывала о каких-то Приклонских, восторженно упоминала Каткова и была ярой патриоткой, на почве чего особенно любил подразнить ее мой отец, и тогда раздавались возгласы раздосадованной старушки: «Mais monsieur le comte, mais madame la comtesse!» [ «Но граф, но графиня!»]. Она не прочь была полакомиться, впрочем, всегда очень скромно, причем говорила, вспоминая старое: «Какие вина я пивала, какие дыни я едала!» Она боялась лошадей, а как нарочно мои родители и бабушка всегда брали ее с собой на прогулки в экипажах, когда ездили пить чай или ужинать в леса. Спускаясь в экипаже с горы, она, бывало, причитала: «пух и перья, пух и перья», чтобы не упасть, как пух, а уж если и случится такая беда, то упасть так же легко, как падает перо. Прасковья Андре евна боялась решительно всего на свете, знали это все, конечно, и старик-кучер Павел, который, бывало, во время прогулки где-нибудь в ясневом лесу, обернувшись к ней с козел, с несколько лукавой улыбкой нарочно говорил: «Прасковья Ан дреевна, а ведь тут лисиц мно го», и бедная старушка погру жалась в страхи. С кучером Пав лом на тройке смирных «синих», бывало, всегда ездила бабушка графиня Мария Николаевна, а с кучером Прокофием – моя мать на тройке вороных или гнедых с Ласковым в корню. Павел был бодрый, плотный старик с довольно широкой седой бородой, он был родом из писаревской Орловки. Прокофий был худощав, несколько сутул, с тонкими, красивыми чертами лица, с глубокими серыми и умными глазами и жиденькой темной бородкой, которая не седела, несмотря на то, что ему было за шестьдесят. Оба они любили выпить, но с тою разницею, что с Павлом в таких случаях решительно нельзя было ехать, а с Прокофием можно было. Павел пел песню «Ой усы, ой усы, усы развалистые мои» и хвалился своей трубкой, уверяя, что в ней какая-то «нутряная» провол<о>ка «польского серебра». Прокофий правил тройкой по-ямщицки и, сидя бочком на облучке, не прочь был вступить в беседу философского характера. Он понукал лошадей: «Эй вы, шар-ша-вые». Оба были умные, добрые, преданные нам слуги, которые прожили у нас десятки лет, и мои детские годы полны самыми благодарными воспоминаниями об их заботливости и ласке ко мне, ребенку. Прокофий продолжал быть старшим кучером и после нашей свадьбы; он умер, кажется, в 7-м году у себя дома в Даниловке от рака в печени. Павел умер раньше; последние годы он был привратником у главных ворот усадьбы, при которых в моем детстве в этой должнос ти сос тоял ма леньк ий старичок с огромной седой бородой, похожий на дедушку Мороза – Аверьян Иванович Редин, из деревни Семеновки. В ранней молодости он ездил форейтером у прабабушки княгини Екатерины Александровны Долгоруковой. Аверьян Иванович имел обыкновение благословлять «своих господ» при выезде их из ворот усадьбы. Он неразлучен был с дубинкою, которую называл «буланчиком» и которой наводил панику на мальчишек, пытавшихся пролезть в сад за китайскими яблочками.
Но я далеко уклонился от описания гостиной. В простенках между дверью на балкон и окнами стояло по белому креслу; над ними в белых витринах висело два веера XVIII столетия с типичными для этого времени сценами[111]; так, на одном из них при помощи кнопки целовалась пара влюбленных молодых; моя мать иногда брала эти веера на придворные балы. Выше витрин с веерами было по старой французской гравюре XVII–XVIII столетий – кажется, из войн Людовика XIV, которые носили названия что-то вроде «La halte des officiers» [ «Офицеры на бивуаке»]. Между дверью из «красной» гостиной и северо-восточным углом было тоже белое кресло, а над ним висела большая фототипия с портрета прабабушки Дарьи Александровны Олсуфьевой в туалете своего времени – «Marie Antoinette». Оригинал был в семье моего дяди графа Алексея Васильевича. Наконец, над обеими дверями висели тонкие французские гравюры XVIII столетия на мифологические темы. Посередине гостиной была красивая люстра Louis XVI – золоченое дерево со стеклом Мурано, привезенная нами из Венеции. В гостиной появлялся иногда небольшой рабочий столик для шелков палисандрового дерева с выгнутыми ножками, вероятно XVIII столетия, которым С<оня> пользовалась при своем домашнем вышивании; последнее время она вышивала шелками хоругви для Куликовской церкви по рисункам Стеллецкого. Лиловая дорожка из двери в дверь служила продолжением дорожки в «красной» гостиной, о которой я упоминал при описании этой комнаты.
Тени прошлого теснятся в моей памяти в связи с «большой» гостиной: вот темный осенний вечер; моросит унылый дождь, закрыты ставни и задернуты занавеси; в гостиной тепло, светло и уютно, мы ужинали, няня увела Мишу спать, из буфета еще доносятся шум тарелок и кой-какие возгласы Феодора[112], но и эти звуки скоро умолкают; мы с С<оней> вдвоем; на улице темно, и сыро и холодно, в доме светло и уютно, мы себя чувствуем одни; нам хорошо в уюте дома, нам приятно сознавать всю бездну окружающего нас неуюта… Мы читаем стихи Зинаиды Гиппиус «Все дождик, да дождик…», и вещи в доме как-то оживают и каким-то молчаливым хором нас обступают… Мы дремлем действительностью, убаюканные унылым капаньем дождя, тишиною освещенного дома, молча глядящими живыми вещами[113].
Еще и еще теснятся тени милого былого: тоже осень и та же гос тиная, но в доме много гос тей: «брали буецкие леса» – это Г<лебовы> охотились в наших лесах; широкий двор полон охотников, кучеров, собак и лошадей; верховых отводят в Барыковку. Затем у нас обед – веселый, шумный; в доме светло, открыты все комнаты; тут родители С<они>, ее братья и сестры, тут, конечно, Миша Толстой и граф Лев Бобринский; оживленные беседы, буецкие наливки, а поздно – отъезд гостей в Барыковку на тройках в темную, глухую осеннюю ночь…
А то – мы с С<оней> одни в гостиной; вечер, входит батюшка отец Петр[114], молодой, красивый, почтительный. Он рассказывает нам о том, что делается в селе, о хоре, об отдельных крестьянах, а мне докладывают: «Александр Иванович[115] пришел, наверх прикажете?» Это заведующий Буйцами с докладом и за распоряжениями.
* * *
За аркой, как говорилось, была библиотека, которая составляла как бы продолжение гостиной. Это была узкая комната с двумя окнами и стеклянной дверью на южный балкон и кроме того с двумя небольшими одностворчатыми внутренними дверьми по концам: одной, налево – в «иконную» комнату, другой, напротив этой правой двери – в столовую. Последняя дверь была всегда закрыта. Пол библиотеки был покрыт таким же темным линолеумом, как и в гостиной. По стенам стояли простые дубовые шкафы с железными сетками, совершенно такие же, как в проходной комнате с книжными шкафами; их было пять: как войти, налево от арки, стоял один шкаф и занимал пространство до зеркала печи, выходившей в гостиную; направо, от арки до угла, помещалось два шкафа; напротив, в простенках между стеклянной дверью и окнами, было по одному шкафу. Исключением общего характера этих шкафов был большой резной дубовый шкаф немецкой работы XVI века (на нем была даже дата)[116], прислоненный к закрытой двери в столовую. Он привезен был моим отцом из Копенгагена и стоял у него в кабинете на Фонтанке с сигарам и. Против топки печи был дощатый экран, на котором С<оней> был изображен красками петух, взятый ею с какого-то восточного орнамента.
В юго-восточном углу стояли палки; из них помню коротенькую кизиловую, с поперечною ручкою, моей матери, и дубинку какого-то необыкновенного дерева, привезенную моим отцом с острова Мадеры, который он посетил во время своего плавания в Америку. Перед ближайшим к этому углу окном стоял пустой аквариум еще моей матери. На полу перед шкафом, направо от арки, всегда почему-то стоял кипарисовый ящик с черным полумесяцем; он был подарен моему отцу с папиросами султаном Абдул-Гамидом в один из проездов моего отца через Константинополь, когда мы возвращались морем из Алжира и провели там более недели (это было в начале 90-х годов). На Саламлыке мне удалось тогда видеть султана и Османа-пашу, защитника Плевны; султан оказал большое внимание моему отцу, прикомандировал к нему офицера, который показывал нам дворцы, музеи и султанские конюшни. Лошадей мы осматривали совместно с стариком князем Сангушкою, большим знатоком коневодства. Мне было тогда четырнадцать или пятнадцать лет.
Тут же на полу лежало два футляра с астрономической и подзорной трубами. Первая была приобретена моим отцом в Париже и была довольно большого размера. Мой отец любил наблюдать звездное небо, следить за спутниками Юпитера или показывать кольцо Сатурна; для него звезды как-то отождествлялись с потусторонним, и небесный свод его восхищал; бывало, в теплые летние вечера он целые часы проводил на площадке перед домом со своим другом Эдуардом Клепшем за телескопом и полушутя говорил, что желал бы жить на маяке в одиночестве, чтобы всецело предаться созерцанию мира звезд. Рядом с футляром телескопа стояла его стойка орехового дерева с разными блестящими медными приспособлениями.
Над дверью в «иконную» комнату всегда висела гравюра государя Александра Павловича верхом на белой лошади, а над балконной дверью, тоже с незапамятных времен – гравюра с известной картины Сверчкова: государь Николай Павлович в санках, запряженных просторным, красивым вороным рысаком. На боковых шкафных стенках, обращенных к арке, висели некоторые эскизы Д. С. Стеллецкого к постановке «Феодора Иоанновича», а на стенках шкафов у балконной двери были вставлены в тонких вращающихся рамках его же письма – послания к нам, написанные древним почерком и иллюстрированные красивыми и стильными группировками. Посередине комнаты висела старорусская медная люстра, кажется, вологодской работы. Дубовая стремянка с ручкой довершала обстановку библиотеки. Библиотека заключала в себе преимущественно книги по естествознанию, отвечая отчасти вкусам моих родителей, а еще больше – их времени.
Сборы на охоту. Усадьба Глебовых Барыковка. Граф Михаил Львович Толстой. Частное собрание, Москва
* * *
«Иконная», рядом с библиотекой, была маленькая комнатка с одним окном на юг, одинакового размера с соседней с нею проходной комнатой с книжными шкафами, за ее восточной стеной. Вся нижняя часть этой восточной стены, а также и южной стены до самого окна, которое было почти рядом с юго-за пад ным углом, была занята полками из черного шлюзного дуба. Таким образом полки образовывали прямой угол, заполняя собой юго-восточный угол комнаты. Северная стена комнаты, в которой была закрытая дверь из «красной» гостиной, была не видна за большим шкафом Renaissance темного полированного дерева, с гладкими стенками, красивыми карнизами и резным медным внутренним замком, современным шкафу[117]. Он, вероятно, был когда-то церковным и был привезен моим отцом из Дании.
На стенах и на верхних полках были древние иконы, которые я перечислю: посередине восточной стены в витрине темного дерева с темно-лиловым бархатом была большая, в светлых красках, икона великомученика Георгия на коне XV или самого начала XVI века, приобретенная нами у Е. И. Брягина; по сторонам ее, и того же времени, а быть может, и несколько древнее, были две иконы из чина – апостолов Петра и Павла, приобретенные у покойного Д. И. Силина; ниже, на верхней полке, вдоль той же стены и вдоль южной стены были расставлены следующие иконы: св. Михаила Клопского XVII века, Божией Матери Владимирской XVII века, Вознесения конца XVII века, Умовения ног XVII века, Христа Эммануила начала XVII века, Господа Вседержителя (семи вершков) XV века, найденная нами у ярославского иконника Дубровина и купленная еще не расчищенной, Божией Матери Казанской XVII века, Божией Матери со Спасителем итало-критского письма, Божией Матери – Madre di Consolazione – тоже итало-критского письма (обе эти последние иконы были куплены нами в Венеции) и Положения во гроб, также итало-критская, привезенная нами из Афин. В самом углу над полками была икона Божией Матери Тихвинской XV века, приобретенная у Е. И. Брягина, перед нею на подставке кованого железа, сделанной дома, была лампадка. Кроме того, на той же верхней полке под стеклом был вышитый воздух XVII века, найденный мною у тульского старика Иконникова; два серебряных ковша XVII века (один с цаплею, привезенный еще моими родителями из Константинополя, вероятно немецкой работы, другой – приобретенный мною в церкви села Красина в Каширском уезде)[118]; затем тут же был изразец, привезенный нами из Кирилло-Белозерского монастыря, и древняя грузинская терракота с изображением креста, подобранная нами по пути из Мцхета в село Метехи; наконец, серебряная ложка XVII века, подарок двоюродного брата А. Васильчикова; несколько старинных серебряных перстней восточного происхождения, две древних медных чернильницы и старый костяной расписной ларец вологодской работы, купленный в Ярославле у Дубровина. Над полками на южной стене висело надиконостасное резное Распятие, так же, как и серебряный ковш, привезенное из церкви села Красина, можно думать, конца XVII или начала XVIII века; рядом под стеклами висели три вышитые пелены первой половины XVIII столетия из Епифанского собора[119] и шитое золотом бархатное оплечье оттуда же, но конца XVII века. В узком простенке между юго-западным углом и дверью библиотеки, на доске, покрытой бархатом темно-бордового цвета, были развешаны серебряные и медные крестики XVII века, большею частью найденные в Буйцах и их окрестностях[120].
Между дверью и зеркалом печи, которая выходила в «большую» гостиную и топилась из библиотеки, висели две иконы: наверху – Благовещения, письма Д. С. Стеллецкого, чуть ли не первая написанная им икона, и большая икона Страшного суда палеховских писем, купленная в Туле. Над дверью, за стеклом, висел красочный эскиз В. Комаровского иконостаса Куликовской церкви. В комнате стоял дубовый стол с инкрустацией черного дерева, такой же, как у меня наверху, и два кресла: одно длинное, с высокой, откинутой назад спинкой, обитое коричневым репсом, парное тому, что стояло наверху в кабинете, другое – низкое, глубокое, покрытое красным сафьяном – любимое кресло моего отца, всегда стоявшее у него в кабинете на Фонтанке; впрочем, и первое кресло прежде стояло там же, но я не помню на нем моего отца. Перед этим первым креслом была небольшая скамеечка для ног, обитая зеленым сафьяном. На полу был одноцветный темный линолеум, почти не видный под коричневым ковром верблюжьей шерсти. На окне были прямые занавеси довольно толстого красного сукна, обшитые зелеными полосами. Посередине «иконной» висела большая медная голландская люстра, привезенная моим отцом из Парижа и висевшая при нем в его кабинете на Фонтанке[121]. Эта тяжелая люстра и огромный шкаф Renaissance, заполняя собою небольшую комнату, тем не менее не давили, а, наоборот, придавали ей какую-то теплоту и насыщенность. На полках и в шкафу были преимущественно книги нашей покупки в серых холщевых переплетах с красными кожаными наклейками на корешках; тут преобладали книги, имеющие[122] отношение к истории церкви, истории искусства, вообще истории, античные писатели и писатели эпохи раннего Возрождения, затем новые авторы: Oscar Wilde, Verhaeren, Метерлинк и другие…
Я любил длинными осенними вечерами сидеть за книгами в этой комнате. С каким увлечением перелистывались здесь маленькие тетради только что полученного «Гермеса», с каким наслаждением читались древние – Сафо, Пиндар и другие, как уносилась мысль на берега журчащего Алфея или в шумную, пеструю Александрию. Как остро чувствовалось раннее Возрождение и красота вторжения Карла VIII в еще Боккачиевскую Италию; с каким манящим чувством трансцендентности влекли к себе писатели первых веков и, наконец, незыблемые глубины святоотеческих писаний. Казалось, не было преград мыслям и переживаниям, и этому как нельзя лучше содействовало сознание изолированности комнатки, которую окружали необъятные равнины полей и однообразие столь же необъятного крестьянского люда.
В мое детство и раннюю молодость эта комнатка была бабушкиной спальней. Бабушка, графиня Мария Николаевна, была чрезвычайно скромна и довольствовалась весьма простым устройством в своей комнате. Беленькая постель, шкаф для платьев, комод, покрытый чем-то белым, умывальный столик у печки и два-три венских стула составляли всю обстановку. На окне висела прямая занавесь из тоненьких деревянных жордочек; в уголке над постелью блистал небольшой медный складень. В комнате пахло хорошим одеколоном и казанским мылом. По утрам бабушка проводила долгие часы за молитвой, в белом чепчике и беленьком капоте, по старому молдавскому обычаю она читала молитвы и Евангелие по-гречески. Я, бывало, подбегал утром к ее двери; стучась, спрашивал: «grand’maman, peut’on entrer?» [ «Бабушка, можно войти?»] и после утвердительного ответа входил здороваться с бабушкой при гаме и ревнивом лае очнувшихся бабушкиных мосек – Бирюка и Мопсы. После этого мы уже вместе с бабушкой шли в столовую пить кофе. На столе у каждого прибора стояли коричневые, обливной глины сливочники с затопленными сливками, в конце стола, где садилась бабушка, стоял коричневый поднос с кофейными чашками – серовато-синими с синими цветами; в это время спешил в столовую буфетчик Андрей, на ходу раздувая бабушкин медный кофейник с мешочком. Андрей одевался в Буйцах в длинный, застегнутый доверху, весьма «приличный» пиджак при черном галстуке, завязанном бантом; в Петербурге же он всегда был во фраке. Бабушка была моим казначеем, и когда, бывало, я просил ее выдать мне «из моих» денег, конечно, какой-нибудь пустяк – «vingt ou trente copecks pour le charpantier André, qui m’a fait un manche à mon marteau» [ «двадцать или тридцать копеек для плотника Андрея, который сделал рукоятку к моему молотку»], – то бабушка долго доставала деньги из комода, тщательно завернутые в беленькую тряпочку, отсчитывала нужную мне сумму и серьезно сообщала мне, сколько у меня еще осталось денег.
Бабушка графиня Мария Николаевна скончалась в Неаполе в 1899 году, когда мои родители проводили там зиму, а я, студентом первого курса, приехал к ним на праздники и, заболев тифом, остался там до весны. Был яркий, теплый февральский день; ликующий Неаполитанский залив пестрел парусными лодками; Corso шумел народом, а бабушка, сидя в кресле, умирала. Она накануне причастилась. Мы обступили ее кресло: моя мать, отец, няня Александра Алексеевна и я; в это врем я к окну подошел музыкант и послышались звуки: «Addio, bella Napoli»; мы бросились к окну, чтобы прекратить пение, но бабушка слабым голосом произнесла: «Laissez le chanter, il gagne son pain!» [ «Оставьте его – он зарабатывает свой хлеб»]. Это было чуть ли не последними словами умирающей. Окинув нас всех по очереди добрым, улыбающимся, светлым взглядом, который я никогда не забуду, бабушка в полном сознании тихо скончалась около восьмидесяти пяти лет от роду. Еще незадолго до смерти она была настолько бодра, что подымалась с нами на Везувий. Тело ее было перевезено в Петербург и было предано земле на Волковом кладбище рядом с дедушкой графом Львом Львовичем, с ее сыновьями, умершими в детстве, и с моей маленькой сестрицей Марией, которая умерла в двухнедельном возрасте.
* * *
На стеклянном балконе, прилегавшем к библиотеке, мы всегда, бывало, летом пили дневной чай. Вспоминаю детство: бабушка, моськи, шумящий самовар, сладкий пирог и дыни; дневной жар уже спал; скрипя колесами, медленно выезжает на площадку перед домом бочка с водою, запряженная старым Чалым; за нею следуют садовники и поденные деревенские девушки; они поливают цветы, и пахнет землей, жадно воспринимающей влагу, и левкоями[123].
Или вот уже с неделю или больше как не было дождя, душно, парит, но со стороны Михайловского надвигается черная туча; прогремел гром, и далеко раздались по долине его раскаты; запахло дождем, западали первые капли – крупные и мокрые, затем снова гром, и хлынул ливень стеной; он перестает на миг, чтобы приняться с новой силой. Перед балконом, в конце площадки, появляется лужа; в ней брызги частых капель сливаются с потоком дождя… Но вот направо показался клочок синего неба; выглянуло и солнце, а туча темным свинцом стоит уже далеко за Сухановым и как-то особенно ярко белеет перед нею сухановская церковь; над долиной, из края в край, перекинулась радуга, уткнувшись одним своим концом в золотые отблески ярко-зеленого луга… Я сбегаю с балкона, полной грудью вдыхая освеженный воздух, и пускаю кораблики по мутной воде собравшейся лужи. Еще вспоминается мне в связи со стеклянным балконом «старый» сад: тихий, теплый майский день; ни малейшего ветра; я играю в саду на песке; воздух насыщен пчелиным гулом; вдруг гром, отрывистый, близкий, и заблистали на солнце золотом редкие капли… «Домой, домой, скорей на балкон», зовет меня няня, и хлопнула зеленая калитка сада, но дождь уже перестал, снова голубое небо, снова несмолкаемый пчелиный гул, снова длинный ясный день буецкого безбрежного лета, каким только мнится лето в далекие детские годы.
* * *
Рядом с гостиной была столовая, светлая комната поперек дома с двумя окнами на север и двумя – на юг. Она была разделена двумя белыми колоннами, которые красиво выделялись на светло-желтых стенах комнаты. У западной стены была большая кафельная печь с уютной нишей, в которой стояла красивая французская ваза Empire[124], несколько серебряных чарок XVIII столетия, подаренных моей матери дядюшкой князем Львом Сергеевичем Голицыным, и серебряный колокольчик. В верху печи был вделан большой кафель начала XIX столетия – рельеф с амурами[125], подаренный как-то тоже моей матери моим покойным двоюродным братом А. Васильчиковым. Пол в столовой был такой же, как в «красной» гостиной: сосновые некрашеные доски с прокладкою черного дуба. На окнах были прямые занавеси – белые с синими полосками, они висели на березовых кольцах, которые при малейшем прикосновении издавали сухой деревянный звук. В столовой было четыре двери: две в ее восточной стене, о которых я упоминал при описании «большой» гостиной и библиотеки, и две другие – в западной стене, почти напротив первых; одна из них, та, которая была ближе к северной стене столовой, вела в буфет, а другая, ближе к южной стене – в мою уборную, или ванную, комнату.
На двери из гостиной с моих юных лет велись отметки карандашом роста как жителей Буецкой усадьбы, так и гостей. Тут, помнится, были отмечены: мой отец, моя мать, бабушка, Прасковья Андреевна, кажется, самая маленькая из всех, В. Ф. Ган, Николаевич, няня Александра Алексеевна, Mr. Cobb, Клепш, Сперовы, Mr. Cooce, докторша Елизавета Ивановна, дядюшка Розновано, граф Дмитрий Капнист, А. А. Берс, А. А. Гирс, отец «Егор», Нерадовский, мои двоюродные братья Олсуфьевы, Колонна с дочерью Констанцией (родственник моей матери через Обрезковых), граф Петр Шереметев, Левшин, граф Никс Клейнмихель, Васильчиковы, князь Роя Голицын, А. В. Щусев, Толстые, Бобринские, Голицыны, Мейендорфы, конечно, Глебовы, Д. С. Стеллецкий, С. П. Мансуров, граф Василий Петрович Орлов-Денисов, братья Комаровские, причем В. Кома ровский (Володя) вместо подписи изобразил себя в спину, и многие другие… Между окнами стояло по большому шкафу позднего Renaissance, XVII века, темного дерева с чрезвычайно тонкой и стильной резьбой[126]. Шкаф, стоявший у северной стены, был, вероятно, польского происхождения, но оба были вывезены моим отцом из Копенгагена. Особенно хорош был своими пропорциями и рисунком орнаментирующей его резьбы шкаф у южной стены. Прежде эти шкафы стояли у моего отца в кабинете на Фонтанке с книгами, у нас же в первый шкаф клались различные мелочи со столов гостиных при наших отъездах, а во втором хранилось серебро.
Но расскажу о вещах в столовой подробнее. Налево от двери из гостиной стоял диванчик начала прошлого столетия с высокой спинкой и высокими боковыми стенками красивого изгиба[127]; он был мореного в красный оттенок дуба и был обит черной клеенкой; другой такой диван стоял в той же столовой наискось от первого, за противоположной колонной у двери в уборную. Эти диванчики принадлежали когда-то моему деду Василию Дмитриевичу и в 30–40-х годах стояли в губернаторском доме в Москве, когда мой дед занимал эту должность. За колонною, у всегда закрытой двери из библиотеки, стояло фортепиано, покрытое холщовой вышивкой. На нем обычно ставилась высокая лампа с гофрированным абажуром в белой гладкой колонке, заказанной мною Кузнецову нарочно для этой столовой. Над фортепиано, на двери, висело темного дуба старофлорентийское зеркало[128].
Красные Буйцы. Уголок интерьера. Английские и французские цветные гравюры и диван. Первая половина XIX века. Местонахождение неизвестно
Перед юго-восточным окном стоял аквариум, в котором рос папирус, затем следовал уже упомянутый шкаф Renaissance; перед вторым окном в южной стене стояли стулья, такие же, как вокруг обеденного стола посередине столовой и в разных промежутках у стен. Стулья эти были цельного красного дерева и были подарены нам к свадьбе моей тетушкой Екатериной Константиновной фон Дитмар; они сделаны были по образцу наших же стульев Петровских времен. Между прочим, мне известно, что они были из красного дерева с разобранной императорской яхты «Державы». В юго-западном углу столовой висел образ Божьей Матери, написанный на глиняном блюде Цехановским; выше него был образ, тоже на блюде, Нерукотворного Спаса, а ниже – крест черного дерева с распятием из слоновой кости, хорошей итальянской работы, случайно доставшийся моей матери: в одно из ея путешествий в молодости по Италии этот крест был необъяснимо найден ею в ее сундуке.
У западной стены столовой, между дверью в уборную и колонною, стоял, как я уже говорил, второй диванчик моего деда Василия Дмитриевича, а между колонною и печью – стеклянный шкаф карельской березы, наполненный красивым фарфором и стеклом. Тут был чайный сервиз Empire французской работы в помпеевских красках[129]; маленький кофейный сервиз, тоже начала прошлого столетия, с видами[130], доставшийся моей матери после друга ее Елены Васильевны Тучковой; несколько стаканов молочного стекла с неграми, XVIII столетия, подаренных князем Львом Сергеевичем Голицыным; две чашки Empire с портретами государей Александра Павловича и Николая Павловича[131], из которых в Петербурге, бывало, любил пить крепкий чай с густыми сливками мой причудливый дядюшка граф Алексей Васильевич; кувшин Vieux Berlin; тарелки – Попов; чернильница золоченого фарфора в виде амура[132], тонкой работы начала прошлого столетия, милый подарок нам В. Комаровского (Владимира), и т. д. Тут же стояло стекло с розовым оттенком XVIII столетия – разрозненные рюмки и бокалы старого Соллогубовского сервиза. На шкафу было расставлено красивое серебро: бульотки XVIII столетия в виде ваз Louis XVI, моего прапрадеда князя Александра Михайловича Голицына; чайники и молочник гладкого серебра с львины ми мордами, с ручками черного дерева и с гербами Дельфины Ивановны Сафоновой[133] – они были приобретены моей матерью у ее наследников; высокая солонка Елизаветинского времени[134]; наконец кофейник того же времени, подаренный моей матери как-то долго гостившими у нас на Фонтанке князем Георгием Кантакузином (родственником моей матери), А. А. Гирсом, моим двоюродным братом А. Васильчиковым и Павлом Николаевичем Сальковым, с их автографами.
Перед печью помещался складной петровский стол цельного красного дерева, служивший закусочным. У северо-западного окна стоял красный расписной арабский ларь XVII века[135], привезенный моей матерью из Алжира и несколько напоминавший старорусские северные лари. В промежутке между окнами у этой стены был шкаф Renaissance, о котором я говорил в начале описания столовой. На нем лежало два венца из нашей церкви, времен ее основания и замененных нами новыми за ветхостью этих[136]. В небольшом простенке между дверью из гостиной и северо-восточным углом помещался неглубокий белый шкафик со столовым бельем; на нем тоже стояло красивое серебро – различные чайники и подсвечники Empire[137]. Наконец, посередине столовой был обеденный раздвижной дубовый стол, кажется единственная некрасивая вещь в доме; впрочем, он всегда был покрыт или пестрым ковром, или толстым рыжим сукном. Он прежде был закусочным столом на Фонтанке и, заказанный в 70-х годах, был типичен для этого времени. Под ним лежал ковер, такой же, как в нашей спальне, и тоже когда-то составлявший часть большого ковра, бывшего в гостиной на Фонтанке. Забыл упомянуть, что на фортепиано стоял небольшой музыкальный ящичек, подаренный мне еще в детстве; он играл Blau Danube, марш и еще две-три трогательных вещицы. На стенах столовой было развешано собрание редких английских и французских цветных гравюр начала прошлого столетия в рамках красного дерева с бронзою. Оно было собрано моей матерью и висело прежде на Фонтанке. Д. С. Стеллецкий убеждал нас перенести эти гравюры в светлые коридоры дома, так как, по его мнению, они не вязались со шкафами Renaissance, стоявшими в столовой; мы же находили, что гравюры хорошо выглядели на фоне желтых стен и шли к белым колоннам этой комнаты.
Вспоминая столовую, я почему-то вижу раннюю весну в Буйцах: первый день Пасхи, мы проснулись поздно, в доме и на лицах праздничное настроение; с улицы доносится непрестанный звон; мы идем в светлую столовую; там накрыт большой стол с разговлением: тут и Олсуфьевский каймак, которым в былые времена мой дед Василий Дмитриевич угощал молодых великих князей и который потом всегда подносился моими родителями к Пасхе государю Александру Александровичу, а затем – вдовствующей императрице Марии Феодоровне. Приходит батюшка отец Петр; он преисполнен торжественности великого дня; краткое молебствие, затем мы усаживаемся за стол, вспоминаем ночную службу, хвалим певчих, а со двора все доносится несмолкаемый звон. На зеленеющих буграх – толпы разряженного народа, качели, катание яиц… Сергий[138] спрашивает, когда я буду христосоваться; это христосование, по обычаю прежних лет, со старшиной, сельским старостой, служащими и всею дворнею. Я назначаю час, кладу замшевый мешок с серебряными рублями на столик красного дерева перед печью, и начинается христосование; благопристойные лица, примазанные волосы, трехкратный поцелуй и «покорнейше благодарю».
А то – конец марта; зимний, уплотненный путь узкой и высокой лентой желтеет среди осевшего снега, кое-где еще торчат уже ненужные вехи, журчат ручьи и набухают ложбины, над проталинами высоко поют жаворонки, а в черных ветлах копошатся и кричат грачи.
С порывами теплого ветра доносится редкий великопостный звон, то дребежжаще-звучный, то протяжно-унылый[139]. Вот молодая женщина, стройная и гибкая, в новом желтом полушубке, в лаптях и онучах осторожно выбирает себе путь по плотине набухшего пруда… Чувствуется в природе, в людях, в этом звоне, что что-то готовится: вершится действо обновления, вершится действо весны!
Прежде, как я говорил, северная часть столовой, отделенная стеной, была моей детской, и сколько детских воспоминаний восстает в моей памяти, когда я представляю себе эту милую комнату[140]: вот я совсем маленький, меня усаживают за кругленький столик у окна; Василиса принесла мне ужин, а няня громко разговаривает и смеется с зашедшей прачкой Варварой; летний закат обдает золотом кусты сирени перед окном, в которых чирикают воробьи; косые лучи освещают пылинки в воздухе, которые то подымаясь, то опускаясь, медленно движутся навстречу лучам, на карнизе потолка играют световые зайчики; в комнате жужжит большая муха и стукается о железную сетку в окне… Бывало, в такие вечера, когда я был постарше, Василиса рассказывала мне про старое время в Буйцах, про свою молодость, как однажды, еще в крепостное право, она с другими вязала рожь в Околках и как приезжали из Петербурга молодые господа – мои дяди графы Алексей и Адам Васильевичи.
Но мне уже десять лет: теплый летний вечер второй половины июля. С площадки перед домом видно зарево далекого пожара; где горит, «Бог весть»; зовут стариков-кучеров, они долго всматриваются в даль: «Должно Исленьево, а то, пожалуй, Выселки» Над заревом заметен огненный столб, а выше – как бы крест; тишина полная, лишь легкий шум воды доносится с мельницы. Кто-то промолвил: «Человек сгорел, это человеческая душа отходит», и все это – в безмолвии дали; мне жутко, я вбегаю в освещенный дом; ужас и страдание где-то далеко и не там, где я; я ложусь в свою свежую постельку; прозвенел медный образок у изголовья, меня крестит и целует няня; в углу на столике светится ночник…
* * *
Рядом со столовой, прилегая к ее западной стене, были буфет и моя уборная. В буфете было два окна: на север и на запад, в проулок между средней частью дома и западным флигелем, стоявшим отдельно. Кроме двери из столовой, в буфет была еще дверь в конце южной стены в маленькую прихожую. Буфет был выкрашен светло-зеленой клеевой краской; пол покрыт был линолеумом, за исключением той его части, которая приходилась под столом, на котором мылась посуда, под фильтром и водопроводом; тут он был выстлан черными и белыми плитками квадратиками. У южной стены буфета была большая кафельная печь со всеми приспособлениями, необходимыми для буфета.
Но перечис лю все по поря дк у. На лево от двери из столовой с тоял широкий шкаф темного дерева, вероятно XVIII столетия, с серебром; он занимал почти весь простенок между дверью и юго-восточным углом. Между этим углом и печью, которая очень далеко вдавалась в комнату, стоял ларь для столового белья, предназначавшегося в стирку; на нем, бывало, сладко почивал дежуривший по вечерам служащий, в уютном соседстве с теплой печью. Между печью и дверью в прихожую стоял дубовый стол для мытья посуды, а над ним было несколько полок, выкрашенных в белую краску; рядом с ним, у самой двери, стоял фильтр; дверь прилегала почти к самому юго-западному углу. Простенок между этим углом и западным окном был снизу покрыт белой деревянной панелью, и сюда была проведена вода из железного бака, подвешенного в прихожей. Другой такой бак снабжал водою ванну в уборной, а в баки вода накачивалась при помощи ручного насоса из бочки, в которой она подвозилась из бассейна на дворе.
Перед западным окном стоял столик, затем, между окном и северо-западным углом, был желтый шкаф с запасной посудой. Перед северным окном помещался большой стол с толстой доской белого мрамора, покрытого войлоком и клеенкой. Стол этот прежде стоял в буфете на Фонтанке. Над ним, несколько наискось от него, в простенке между северо-западным углом и окном, висели стенные часы с боем; в другом простенке, между окном и северо-восточным углом, рядом с которым приходилась дверь из столовой, стоял дубовый шкаф с посудой. В этом углу, на угольничке, был небольшой образочек Божьей Матери. Раньше, как я говорил, эта комната была моей спальной, а еще раньше, в мое детство, на ее месте была оранжерея, где, бывало, в теплые летние вечера мне готовили ванну и где так приятно, помню, пахло укропом и нагретыми солнцем кирпичами пола.
* * *
В уборной было только одно окно на юг; она была выкрашена так же, как и буфет, в светло-зеленый цвет. Вторая дверь (первая была из столовой) вела в прихожую. При входе в уборную направо от двери из столовой и под прямым углом к стене стоял дубовый комод, на нем лежал сундучок красного дерева, обложенный по краям железом; он раньше принадлежал моей бабушке графине Марии Николаевне. За комодом, у той же восточной стены, до самого угла стоял очень покойный дубовый диван, обитый репсом; он прежде стоял в уборной моего отца на Фонтанке, в его светелке. Над ним были развешаны фотографии, большею частью принадлежавшие моему отцу и имевшие отношение к его молодым годам. Все они были в ореховых рамках, обычных для шестидесятых годов. Тут была большая овальная фотография офицерства 4-й гвардейской батареи; за колесом орудия стоит мой отец, молодым офицером; рядом с ним Мальцев, Щербинский, Палицын, Милютин и другие; затем фотографии частного духового оркестра наследника Александра Александровича; на одной из них наследник играет на вальтгорне, по одну сторону его – мой отец, играющий на корнет-и-пистоне, по другую – мой дядя граф Адам Васильевич, в форме свиты генерал-майора, играет тоже на корнете, тут принц Ольденбургский, князь Прозоровский, Штюрмер и некоторые другие. Мой отец рассказывал, что как-то они уж очень надоели своей игрой цесаревне, которая вылила на них из окна кувшин воды, чем немедленно прекратила игру зарвавшихся музыкантов; это было в Царском Селе. К этому же времени относится рассказ моего отца, как во время игры в карты к нему сзади подошла цесаревна и, видя его лысину (отец мой был лыс с молодых лет, по поводу чего покойный государь Александр Александрович говорил, что Олсуфьеву Бог лица за правду прибавляет), не преминула ее похлопать, но так как было это летом и был жаркий день, то лысина, естественно, оказалась очень влажной, и Мария Феодоровна только вскрикнула: «Ай, болото!»
Все это относится к периоду так называемого малого Аничкинского двора наследника, в противоположность большому двору государя. Двор этот был чрезвычайно замкнут и интимен. С ним неразрывно связаны имена графа Сергия Дмитриевича Шереметева, Владимира Алексеевича Шереметева, князя Владимира Барятинского, князя Владимира Оболенского, графини Александры Александровны Апраксиной, моего отца и еще немногих лиц; время это мой отец особенно любил вспоминать.
На этой же стене были фотографии из путешествия моего отца в Северную Америку с великим князем Алексеем Александровичем. Великого князя, кроме моего отца, сопровождал еще граф Шувалов, «Боби» Шувалов, с которым, между прочим, мой отец никогда не сходил ся. Они оба в тот же день были назначены адъютантами к великим князьям: Шувалов к наследнику Александру Александровичу, а мой отец – к великому князю Владимиру Александровичу, но наследник, узнав о таком назначении перед выходом приказа, упросил государя поменяться адъютантами с братом, государь согласился, приказ был изменен в ночь, и мой отец получил назначение к наследнику. Они расходились с Шуваловым и в отношении к организованной последним тайной лиге охраны государя. Моему отцу такая лига казалась унизительной и как-то недостойной идеи русского государя, и он наотрез отказался принять в ней участие.
Вдоль северной стены уборной стоял у северо-восточного угла дубовый туалетный столик, на нем было зеркало в ясневой рамке еще моего деда Василия Дмитриевича и кой-какие серебряные туалетные приборы: кружка для бритья, подаренная моему отцу его товарищем по артиллерии Щербинским, круглая серебряная мыльница моего деда Василия Дмитриевича, его же серебряная лохань с кувшином и другие. Над столиком была дубовая полка, на которой стояли флаконы с eau de Lubin, eau de violette, eau de Quinine, затем духи Atkinson’a White rose, единственные употреблявшиеся моим отцом, и New mown hay [одеколоны разных наименований], которые любила моя мать; тут же стояла граната с датой службы моего отца в 4-й батарее. Между полкою и столом висели бубенчик на деревянном козьем ошейнике и тростниковая свирель, привезенные нами из Олимпии, где мы приобрели их у черноглазого пастушка, звучно оглашавшего своими трелями холмы на этой свирели. Под столиком всегда лежал мой Gladston bag – чемодан толстой кожи, купленный мне моим отцом в Лондоне, когда мы были там летом 96-го года.
В северо-восточном углу была икона трех Московских святителей, написанная Цехановским. В простенке же между этим углом и зеркалом буфетной печи, приходившемся за туалетным столом, висели: рисунок П. И. Нерадовского – Павел Николаевич Сальков, фотография – семья моей двоюродной сестры А. Милорадович, у рож денной Васильчиковой, фотография моих родителей и меня в Англии с семьей моего покойного воспитателя Mr. Cobb и серия небольших фотографий в одной общей рамке, снятых А. А. Гирсом, когда наш сын М<иша> был совсем еще маленьким и мы из-за него проводили часть лета в соседней Глебовской Барыковке, избегая эпидемии скарлатины, которая свирепствовала тогда в Буйцах. Это было в 905 году.
К нам в Барыковку тогда приезжал мой отец, который, страдая подагрой, вынужден был взять продолжительный отпуск, там мы узнали об ужасном Цусимовском поражении, и до нас доходили туда тревожные известия о всей России. Мой отец горячо принимал к сердцу наши военные неудачи и с грустью следил за развивавшимися событиями, его далеко не удовлетворяла та среда, которая окружала тогда государя, и он не раз вспоминал тот оптимизм, который царил в высших сферах при начале злополучной войны, когда государь ему заметил: «Я жду прибытия на Дальний Восток (таких-то) частей и тогда можно быть спокойным». Ход войны показал иное. Отец в то время считал необходимыми внутренние реформы, но не шел далее выборных от земств в Государственном Совете, без всякого ограничения верховной власти. О государе в раздумье он вы ражался: «C’est un lâcheur» [ «Это не постоянный человек»] (от слова lâcher – бросать), отмечая этим выражением черту государя перебрасываться с одного человека на другого.
В соседней, так называемой Бибиковской Барыковке тогда проводил лето мой шурин Петр Глебов со своей первой женой, рожденной Треповой, дочерью Дмитрия Феодоровича Трепова, игравшего в те годы немалую роль при дворе. Он, между прочим, приезжал в то лето в Барыковку к своей дочери.
Павел Николаевич Сальков в позе «гатчинского» Павл I. Около 1892. Частное собрание, Москва
Графиня Анна Михайловна Олсуфьева и Павел Николаевич Сальков в парке усадьбы Никольское. Около 1892. Шуточная фотография. Частное собрание, Москва
Рисунок Нерадовского, о котором я только что упоминал, изображал дорогого Павла Николаевича Салькова именно таким, каким хранит его образ моя память. Павел Николаевич в темной шинели с бобровым воротником, в теплой фуражке с козырьком и в сапогах с преувеличенно тупыми носками переходит панель на Фонтанке, очевидно, направляясь к подъезду нашего дома. Но кем был Павел Николаевич, о котором неоднократно приходилось мне упоминать в моих воспоминаниях? Внешне это был скромный чиновник еще Николаевской формации, бритый, с коротко подстриженными, довольно густыми усами, при этом чиновник, не сделавший «карьеры»; его товарищи по Училищу правоведения давно были членами Государственного Совета и сенаторами. Казалось, что для него «начальство» должно было бы быть высшим критерием в жизни; оно так и было, но таким «начальством» для Павла Николаевича являлись Олсуфьевы, Всеволожские – семьи, с которыми он был неразлучен и которым он предан был до самозабвения. Со Всеволожскими он был даже в дальнем родстве, но по скромности никогда об этом не говорил. Живя постоянно то у Всеволожских, то в семье тетушки графини Анны Михайловны, то у нас, он никогда не был «приживальщиком». Мой отец, который очень его любил, часто говорил, что Павел Николаевич всегда готов отдать семерицею за оказанное ему малейшее внимание. Он намного был старше моего отца, говорил ему «Саша, ты», а мой отец называл его Павлом Николаевичем и тоже говорил ему «ты». Павел Николаевич, бывало, любил пообедать у своих старых высокопоставленных товарищей по Училищу, послушать новости, затем по-детски точно рассказывал все моей матери или моему отцу. Он любил слово «распекать», которое произносил с особым ударением на последнем слоге, причем принимал грозный и начальственный вид; впрочем, все в доме знали его доброту, а главное простоту, и решительно все его любили и уважали. Когда я был в университете и мои родители по зимам уезжали за границу – «dans les roses» [ «к розам»], как выражался Павел Николаевич, – то мы вдвоем с ним оставались на Фонтанке и вместе коротали время, угощаясь иногда устрицами у «Медведя», до которых милый старик был большим охотником. Павел Николаевич был очень ласков со мною и был единственным, кто нежно называл меня иногда Юренькой. В один из отъездов моих родителей за границу, должно быть в зиму 900-го года, в то время, как я на день уезжал из Петербурга с моим приятелем графом Никсом Клейнмихелем на охоту, Павел Николаевич тихо скончался в кабинете моего отца на Фонтанке, где он спал: его утром нашли мертвым на диване. Ему было тогда за восемьдесят лет. Я благоговейно отвез прах этого дорогого друга дома в Олсуфьевское Никольское, где он был похоронен рядом с членами семьи, которую он так горячо любил.
Между туалетным столиком и северо-западным углом стоял большой дубовый платяной шкаф, сделанный, как и комод, стоявший в этой же уборной, столяром Иваном Акимовым из дуба своих лесов; в нем, между прочим, хранился генерал-адъютантский мундир моего покойного отца и его ордена, к которым, кстати сказать, он относился более чем равнодушно и уверял, что можно дослужиться до любого ордена при двух условиях: обладать хорошим пищеварением для долгой жизни и не слишком провороваться. Конечно, говорил он это в шутку, но в этих словах до некоторой степени отражалось и отношение к орденам покойного государя Александра III, который недоумевал, как «пустой» орден может побуждать людей служить, жертвовать и т. д. Как все это непохоже было на отношение к орденам еще моего деда Василия Дмитриевича, который относился к ним как к священному и, получая их, осенял себя крестным знамением. Мой отец был очень не тщеславен, держась в этом отношении правила деда: на службу не напрашиваться, но от службы не отказываться. Впрочем, он раз изменил этому правилу, отказавшись от генерал-губернаторства в Москве, уверив государя, что лишен всякого административного опыта; тогда генерал-губернатором был назначен генерал-адъютант Дубасов.
На шкафу стояла какая-то давно забытая электрическая машина моего отца, а рядом лежали две огромные соломенные шляпы, в которых в жаркие июльские дни мы по утрам, бывало, ходили с Николаевичем (моим дядькою) на реку купаться. Около шкафа висела в березовой рамке большая фотография Николая Петровича Богоявленского, о котором я рассказывал в начале моих воспоминаний. В западной стене уборной, рядом с северо-западным углом, была дверь в маленькую прихожую; она была настолько близка к углу, что половина ее была заслонена боковой стенкой упомянутого платяного шкафа. Между дверью и кафельной печью в той же стене была белая обливная металлическая ванна с медной колонкою для нагревания воды; ванна стояла перпендикулярно к стене и была отгорожена от двери невысокой белой перегородкой, доходившей приблизительно до середины комнаты. Стенка у ванны была забрана белой деревянной панелью, над которой был проложен ряд алжирских изразцов. Выше тут висела детская акварель сына М<иши> – корабль, в очень свежих красках, как бывает у детей, нарисованный им под впечатлением нашей поездки с ним из Афин на Крит зимою 12-го года. В узком промежутке между печью и юго-западным углом, вверху, висел гравюрный портрет великой княгини Марии Александровны в детстве, а ниже – английская гравюра какой-то Lady с попугаем. Перед окном стоял токарный верстак моего отца. Между окном и юго-восточным углом весь простенок был занят большим дубовым умывальным столом, обитым светлой клеенкой, на котором стояло два таза с кувшинами и разные умывальные принадлежности, между прочим – серебряный стакан моего отца, данный мне еще в де тстве. Стена за с толом бы ла до половины покрыта бледно-розовыми, почти белыми квадратными кафелями, а выше была дубовая полка, на которой были расставлены деревянные жбаны, вероятно болгарские, привезенные моими родителями с турецкой войны, затем лежали тыквы, приспособленные для воды – того же происхождения, что и жбаны; тут же стоял арабский металлический кувшин и арабская глиняная чашка красной глины – «terre d’Afrique» – с позолоченным орнаментом. Над полкою висели три гравюрных портрета великих князей в детстве: Александра Александровича, Владимира Александровича и Сергия Александровича, все три в тонких черных рамках; несколько ниже их ближе к окну – небольшая английская гравюра: спящая девушка на диване, эта последняя была в белой рамке, а ближе к двери этюд Поленова – болгарский домик, в котором одно время жил мой отец на войне 78-го года На окне была холщовая занавеска с пружиною, перед диваном был постлан монастырского изделия ковер – черный с красными цветами[141], подаренный нам на свадьбу батюшкой Алексеем Кирилловичем Сперовым и женой его Ольгой Алексеевной, сестрой моей нянюшки Александры Алексеевны. Алексей Кириллович в былые годы был сельским учителем, сначала у нас в Буйцах, а затем в нашей Даниловке, и был первым моим учителем грамоты. Он женился у нас в доме на Ольге Алексеевне Вознесенской, сестре няни, которую я очень любил в детстве. Мы ездили к ним на свадьбу в село под Тулой, где отец Алексея Кирилловича много лет состоял священником. Это было в конце 80-х годов. Помещица этого села, фамилию которой я совсем не помню, предоставила для свадьбы весь свой старинный деревянный дом с длинной анфиладой комнат, и я вспоминаю, как веселы были мои родители, в особенности мой отец, приводя в восторг всех собравшихся гостей. Алексей Кириллович был затем посвящен в священники и получил приход в селе Изроге на Красивой Мечи в Ефремовском уезде. Я храню самую светлую и благодарную память об обоих, к которым был горячо привязан в детстве.
Наконец, посередине уборной висела медная люстра, очень похожая на остальные бессарабские люстры в доме.
* * *
Уборная комната была несколько короче, чем соседний с нею буфет, и в конце получавшегося от этого промежутка между внешней, западной стеной дома и внутренней, тоже западной стеной уборной, к югу был чулан, а ближе к буфету – совсем маленькая прихожая. В чулане, в его западной стене, было одно окно, а прихожая освещалась небольшим оконцем над наружной ее дверью, выходившей в сенцы. Прихожая была разделена наискось невысокой белой перегородкой с раздвижной дверью, так что сообщение между уборною и чуланом было отделено ею от такового между буфетом и сенями. В прихожей висели лубочные картинки в чер ных рамках, когда-то дареные мне в детстве Дельфиной Ивановной Сафоновой; хорошо помню из них собак, с любопытством заглядывающих в коровник, и зеленых попугаев. Сени, служившие черным хо дом, были дощатые, выкрашенные как снаружи, так и внутри белой краской, с выходом на север; в них было маленькое оконце на юг, перед которым стоял ледник, в наружной стене сеней был устроен шкаф для провизии, требующей прохладного помещения, а на одной из других его стен висел китайский гонг, шумным звоном которого летом сзывали к столу.
* * *
За небольшим проулком был западный флигель; в нем две комнаты с севера были заняты книгами, остальные комнаты внизу были гостевыми, это были небольшие уютные комнатки с уютной мягкой мебелью, устланные небольшими ковриками и похожие на монастырские кельи. Наверху, в мезонине, помещалась старушка М-lle Vavère, состоявшая при сыне М<ише>, а в конце флигеля, с отдельным выходом на его западную сторону, были две комнаты, занимаемые садовником, почтенным Феодором Яковлевичем Леем.
Под прямым углом к этому флигелю с севера стоял кухонный флигель, или «графская кухня», где кроме просторной кухни была комната повара, кладовки и столовая наших личных служащих.
Бывшие графские конюшни в Красных Буйцах. Конец XVIII века. Современный вид.
В линию с нашим домом, к западу, был большой, поместительный двухэтажный кирпичный дом для служащих, рабочих и конторы, построенный моим отцом в 80-х годах и носивший название «большого». Перед этим домом, с его северной стороны, был широкий двор, с запада и севера замкнутый каретными сараями, нашей, так называемой «графской», конюшней и конюшней рабочей. Все эти постройки были сложены еще в XVIII или начале XIX столетия из огромных белых известковых камней своих же каменоломней. С восточной стороны двора был упомянутый кухонный флигель и каменная стена с калиткою, соединявшая этот флигель с западным флигелем дома; с южной его стороны была каменная же стена, шедшая от этого последнего флигеля к большому дому и, наконец, большой дом.
Во дворе были: ледник, крытый цементный бассейн на пятьсот ведер, куда накачивалась вода из родников под горою в полуверсте от усадьбы конным приводом, и прачешная, которая тоже называлась «графскою» в отличие от людской, вне двора.
О. Анатолий (Потапов, 1885–1922), старец Оптиной пустыни, духовник Мансуровых и Олсуфьевых. Фотография из архива. Частное собрание, Москва
Пейзаж в Красных Буйцах. Вид со стороны усадьбы. Современная фотография
Перед нашим домом с севера был другой большой двор, прямоугольный, окруженный низенькими каменными стенами с востока и севера, а с запада – кухонным флигелем и частью рабочих конюшен, но двор этот, как говорилось в начале воспоминаний, был весь засажен деревьями, кустарниками и цветниками. Посередине северной его стены, которая была с кирпичными пилястрами, вероятно еще XVIII столетия, были главные ворота усадьбы, построенные по рисунку графа Владимира Комаровского в 912 году к двухсотпятидесятилетию владения Буйцами нашей семьей и заменившие старые дубовые ворота времен моего отца. Это были два круглых, довольно высоких, толстых белых кирпичных столба, завершенных плоскими конусами из белого веневского камня с такими же шарами; по сторонам к столбам примыкали калитки в виде арок, тоже отделанные белым камнем. На столбах были две даты: 1663 и 1913 года; они были кованого железа в духе шрифта XVIII века. Первая дата была годом пожалования Буец царем Алексеем Михайловичем. Строил эти ворота мой любимый каменщик, покойный Антон Савинов из села Хованщины нашего же уезда. Им были вытесаны, кстати сказать, из белого камня и порталы Куликовской церкви, тогда как самая церковь была сложена артелью владимирцев. Антон обыкновенно появлялся в Буйцах весной, в белом фартуке, в сопровождении двух-трех подмастерьев и приступал к выполнению задуманной еще зимой постройки: какой-нибудь беседки, стенки или спуска в саду; или чего-нибудь более утилитарного – приюта, школы, хозяйственного здания. Любил я эти появления всегда охотливого и исполнительного Антона, любил и видеть, как воздвигались постройки: с каждым рядом кирпичей как-то запечатлялось время, и, вспоминая теперь эти строения, невольно слышишь голоса давно умолкшие и видишь жизнь минувшую.
За воротами, вправо от широкого проспекта, который шел к церкви, тянулся ряд старинных зданий: домовитый «житный двор», амбар, длинная рига, наконец за ними – новый двухэтажный кирпичный приют, построенный нами в 906 году. Налево от проспекта и за церковью раскинулось широкое село…
Но время, давно время кончить. 5-го марта 17-го года, взяв с собою икону Тихвинской Божьей Матери и святого Николая Чудотворца, мы выехали из Буец, направляясь сначала в Оптину к отцу[142] Анатолию, которого глубоко чтила С<оня>, затем в Москву. Будущее представлялось нам смутным и тревожным. Наш путь лежал на станцию Птал. Мы с С<оней> ехали в передних санях с конюхом рабочей конюшни Александром Андроновым[143], так как оба наших кучера – Николай Котов[144] и Трофим Валяев[145] – были на войне; за нами следовали в других санях М<иша> с няней, в них правил Степан Бусагин[146]. Не доезжая мельничного моста через Непрядву, мы оба оглянулись на дорогую нашу усадьбу, на милый светлый дом на горе… Увидим ли мы его снова и когда, или в последний раз он представляется нашим взорам – таковы были наши мысли, исполненные грустных предчувствий. Но тогда все было так мирно в Буйцах и вспоминается восклицание буецкой девушки Андриановой, вырвавшее еся у нее по поводу переворота: «А должно мы уж очень плохи стали, коль царь от нас отказался»; так, по-видимому, преломлялась в умах доброй части буецкого народа чуть ли не мировая революция!
В Оптине отец Анатолий благословил наше намерение приобрести дом в Сергиевом Посаде, куда мы и переехали жить под покров Преподобного.
* * *
Бывают периоды в жизни государств и отдельных личностей, когда все кажется незыблемым, почти вечным. Таким периодом в моей жизни были годы, прожитые мною в Буйцах от 1879 по 1917 г<од>.
Сергиев Посад, 1921–1922Общения Выписки из записных книжек
Записные книжки Ю. А. Олсуфьева существуют в двух вариантах. Полный экземпляр в трех тетрадях хранился у племянницы Юрия Александровича Екатерины Павловны Васильчиковой (Москва) и в свое время именно с этого экземпляра мною была снята копия. Е. П. Васильчикова скончалась в 1994 году. Место нынешнего хранения этих тетрадей мне неизвестно. Второй вариант, включающий в себя только 127 записей и доведенный до 1922 года, был в качестве беловика сдан самим Ю. А. Олсуфьевым на хранение в Отдел рукописей Румянцевской библиотеки и теперь находится в том же отделе Российской Государственной библиотеки (ф. 218, 175.2, лл. 1–32). С незначительными разночтениями он соответствует текстам первой черновой тетради из собрания Е. П. Васильчиковой (где, однако, на одну запись больше, то есть не 127, а 128). Мною публикуются черновые тексты этих записных книжек, которые наиболее полно раскрывают личность Ю. А. Олсуфьева и его живую работу с текстом.
Что же собою представляют три тетради чернового варианта? Это самодельные записные книжки из плотной желтоватой бумаги форматом в малую 4°. Обложка первой тетрадки оформлена рисунком картуша с изображением урны, подписанным «Гр. С. В. О.», то есть «Графиня София Владимировна Олсуфьева». Здесь же общее обозначение книжек, то есть «Общения», и номер тетради: «I». Две другие тетради не имеют рисунка, а только общий заголовок «Общения» и номера тетрадей (II и III).
Записные книжки охватывают без малого четверть века: с 1913 по 1936 год. Это, по существу, те же годы, когда обдумывались и создавались воспоминания о Буецком доме, что уже оправдывает публикацию дневников в качестве приложения к основной рукописи. Время после 1917 года было, однако, «неуютное», а с 1928 года оно стало опасным: с часу на час все «бывшие» жили в постоянном ожидании ареста, высылки, тюремного заключения, лагерного этапа и расстрела. Держать дома компрометирующие рукописи и бумаги значило бы подвергать себя и родных репрессиям со стороны советской власти. Тем удивительнее, что аресты в 1938 году Ю. А. Олсуфьева, а в 1941 году С. В. Олсуфьевой прошли без изъятия фамильных вещей и архивных документов, что сохранило немало свидетельств о жизни и творческой деятельности Юрия Александровича. Осторожность и настороженность повлияли, однако, на цельность записных книжек: вырезано посвящение «Для друзей» (оно сохранилось в беловике из Российской Государственной библиотеки), вырезано еще 15 записей и вымарано 94. Не исключено, конечно, что это говорит об авторской работе с рукописью: что-то показалось Юрию Александровичу неточным или неверно сформулированным, но поскольку основной блок изъятий и вымарок приходится на 1920-е и 1930-е годы, у нас есть основания считать, что Ю. А. Олсуфьев руководствовался именно осторожностью. Несомненно та же причина заставляла его обозначать конкретные личности в записях только инициалами – частично так и нерасшифрованными публикатором. Наконец та же причина вынудила его приписать записные книжки (на отдельной странице i-й книжки) графу Михаилу Адамовичу Олсуфьеву – Дмитровскому уездному предводителю дворянства, умершему в 1918 году.
Юрий Александрович Олсуфьев в Красных Буйцах. Около 1910. Частное собрание, Москва
По замыслу Ю. А. Олсуфьева все записи в «Общениях» пронумерованы: в первой записной книжке их 128, во второй – 100 и в третьей тоже 100. Но уже с середины третьей книжки начинается новая нумерация, охватывающая только 1924 и 1925 годы: в этом блоке 81 запись. Начиная с 1926 года исчезает всякая нумерация записей. Более того – записи 19261937 годов не только не нумерованы: они вписаны на оборотные чистые листы во 2-ю книжку (с 1926 по 1931 год), потом на оборотные чистые листы i-й книжки (с 1932 по 1935 год) и на оборотные, а частично и на лицевые стороны листов 3-й записной книжки (с 1935 по сентябрь 1937 года). Наконец, все записи с октября по декабрь 1936 года вписаны в 1-ю книжку и частично в 3-ю, а записи 1937 года – в i-ю. Начавшийся хаос не позволяет точно датировать десять записей, условно отнесенных нами к 1930-м годам. Они помещены в качестве приложения после записей 1936 и 1937 годов. Здесь уместно также сказать, что в нумерации записей в 1-й тетради Ю. А. Олсуфьевым допущена ошибка: вместо № 89 поставлен № 59 и общее число записей в авторском экземпляре не 128, a 100. Правильная нумерация восстановлена нами по чистовику из Российской Государственной библиотеки.
И в 1920-е и в 1930-е годы Ю. А. Олсуфьев неоднократно обращался к старым записям, что-то уточнял или стилистически правил, явно имея в виду их возможную публикацию. К такого рода уточнениям относится расшифровка в 1932 году фамилии С. Н. Дурылина (I, № 16), уточнение источника мысли в записи о «свободе совести» и «купле православия» (I, № 34) замазанное окончание в ссылке на о. Порфирия из Черниговского скита (I, № 71), прибавление слова «pax» при словах о «мире душевном» (III, № 63), уточнение о «некоем проныре шляхтиче» и его детях – Стаховичи (III, № 7) и, разумеется, все зачеркивания или даже изъятия текстов.
Обложка первой тетради «Общений». 1913. Рисунок и оформление С. В. Олсуфьевой
Остается сказать о «географии» записных книжек: они начинаются с записей в Буйцах, затем следуют Тифлис, Мцхета, Сергиев Посад, Черниговский и Гефсиманский скиты, Троице-Сергиева лавра, Москва, Вифания, Котельники, Люберцы, Дмитров, Борисо-Глебский монастырь в Дмитрове, Угреша, Оптина пустынь, Ржев, Новгород, Старая Ладога, Вешняки, Косино.
«Общения» Ю. А. Олсуфьева – записи о себе и своей семье, размышления о времени, краткие характеристики некоторых замечательных людей, с которыми сталкивала его жизнь, стихи, высказывания других, выписки из прочитанного (преимущественно из отцов Церкви) и тому подобное. По своему жанру они более всего напоминают «Опавшие листья» В. В. Розанова, первые издания которых появились в 1913 и 1915 годах и которые, как нам кажется, инициировали «Общения» Ю. А. Олсуфьева. Так или иначе, мы имеем редкий и малоизвестный образец лирико-философской литературы, дополняющий «Воспоминания» Ю. А. Олсуфьева. Время покажет, какое место в истории русской мемуарной литературы отведет тому и другому отечественное литературоведение. Их публикация дает для этого весь необходимый материал и открывает все возможности для характеристики Ю. А. Олсуфьева и Серебряного века русской истории и культуры.
Г. ВздорновОбщения I
1
Я видел во сне, что умершая ключница моей матери, Василиса Никифоровна, смотря с того света на свою фотографию, сказала: «Ишь вот, как я наследила!»
Боюсь, что это может быть отнесено и к настоящей тетради.
2
Звено цепи единой,
Предвечной, неделимой…
Буйцы, давно
3
Государственная Дума в глазах народа – не оправдавшая надежд аграрная комиссия всероссийского масштаба.
Буйцы, 1913
4
Гражданственность.
Люди – с готовой эпитафией: «Мир праху твоему, честный труженик».
Буйцы
5
Они исполнены
глубин кристальных,
красот не знающих теней…
Жития святых митрополита Макария (XVI в.).
Буйцы, 1914
6
Давно минувших весен Созвучные виденья, Мечты любимые, живые…
«Потапов пчельник».
Буйцы. Весна 915
7
Необъятные дали красот
Золотого заката…
«Белый духан».
Тифлис. Весна 915
8
Шум Арагвы,
Звон пасхальный,
Страстный, вещий
Свист дрозда
Мцхет. 1-ый день Св. Пасхи. 1915.
День, в который был убит под
Мезо-Лаборгом Дмитрий Олсуфьев
9
Когда-нибудь не увижу я
всхода семян…
Буйцы.
Осень 915.
Сев 3-го поля
10
Шакалы
О Боже, как зовет к Тебе душа
В прощальном часе ночи,
Когда с последним криком зла
Предвестник дня чуть озаряет очи.
Мцхет. 916
11
Культура Запада делала из Александра Одоевского («Саши» Лермонтова) благородного мечтателя, а культура древней России, быть может привела бы его к святости.
Мысль – те же люди в разные эпохи.
12
Государственность требует творчества.
1918
13
«Большая Лука» (Буйцы)
Прозрачен день,
Но солнце уж не греет;
Все золотом блестит,
Несется паутинка;
Шуршит тростник
В водах студеных
И гуси вереницей
Уж тянут к югу…
1918
14
В юродстве – посрамление «культуры».
Сергиев Посад. 1919
15
Тульский народ – народ красок, народ песни.
Посад
16
Человек, который всю жизнь «кричал» о России.
О С[ергее] Н[иколаевиче] Д[урылине]
17
Я близок был к прозреньям,
К тайновиденьям Весны…
Сергиев Посад. Весна 1919.
Отпевание архимандрита Иринея
18
Жизнь
Снова вот солнце и снова цветы, Снова луга изумрудной травы, Солнца заката златые лучи, А слезы как капли весенней росы, Иль тучи ушедшей косые столпы.27 мая 1919. Прудик в поле. Сергиев Посад
19
Образ красоты, веселья, радости и света.
20
Есть «жизнь» и «творчество» на уровне лишь пола.
21
Не есть ли воскресение довершенное воспоминание?
Посад. Окт. 919
22
[зачеркнуто]
23
[зачеркнуто]
24
[зачеркнуто]
25
Монашество – зерно, которое кладется в землю для возрождения к жизни.
Монашество – отдача души за ближнего.
Он пошел в монастырь от радости.
1919
26
Только для себя
Сон
Отец (покойный) мне выражает радость, что «отняты Буйцы»[147], так как «вы жили там по 106 псалму». На это я отвечаю, несколько раздраженно, что не только не знаю 106 псалма, но и службы даже церковной хорошо не знаю, но что, впрочем, я согласен с ним относительно Буец, потому что так легче будет умирать. Говорю ему это, зная, что он не любит выслушивать высокопарных чувств, а вместе с тем сознаю, что сказанное мною для него вполне понятно и убедительно.
Посад. Октябрь 1919
106 псалма я до сего времени действительно не знал и был удивлен найти в нем места о возделывании земли, рассаживании садов и приращении скота.
27
Христианство – спасение, благая весть, свет, радость и жизнь, а правила морали – лишь средство. Очевидно, что проповедь должна быть начата с первого, с полною ясностью и убедительностью.
Всенощная в Троицком соборе. Окт. 919
28
Искать поэзию в настоящем и прошлом, чтобы приобщиться ей в будущем.
По дороге в Дерюзино
29
Каждое моление Триоди Постной очищает и возрождает природу.
Весна 920. Пост. Посад
30
В древнем управлении боярин был носителем государственного творчества, а дьяк – сторона техническая.
1920
31
Есть несчастные, которые из радости религии ухитряются всегда делать тяжелый долг.
920
32
Арест
Где церковь? Церковь там, где тюрьмы, где горе и плач.
(Место лобное рай «бысть»).
920
33
[зачеркнуто]
34
Не должно быть «свободы совести», допустима почти купля православия.
По поводу возмущения С. И. О. на совет о. Анатолия Оптинского, выраженного им Mlle L. – перейти в православие, с возможностью благодаря этому исцеления
35
«Великие реформы» Александра II – ореховая мебель того времени под стиль Lois XVI, обитая «роскошным» голубым атласом.
Из бесед с сыном. 1920
36
[зачеркнуто]
37
Церковь отстраняет красоту мира во имя полнейшей красоты, неизреченной, божественной, о которой лишь очищенным оком и слухом мы получаем понятие в явлениях мира.
1920
38
Глядя на причудливые изгибы липы, сравнивал с многочисленными стилями, б.м. столь же прекрасными, но и столь же искаженными злом.
7 апр. 920
39
Творчество дается «подобием» Богу и постольку, поскольку восстановлена причастность Богу.
40
Творчество – результат причастности Жизни.
41
Поминание есть соучастие в оживотворении.
Утро. 10 апр. 920. Посад
42
Сотвори вечную память – сделай причастным Жизни. Хотелось бы этого в отношении ко всему, что мы «в Боге» любим, к каждому деревцу, к каждой луговине.
43
Памятование и причащает к памятуемому и воскрешает помятуемое.
44
Нагорная проповедь устанавливает связь сего века с потусторонним. Причастные к красотам – узрят их преображенными.
Апр. 920
45
Только для себя
Сон перед апрельскими трудностями
Опять челн; я на нем плыву против ветра по мелководью и не движусь с места; затем переплываю в глубокое и тихое русло реки, но там челн начинает тонуть кормой.
1920
8 конце апреля снова сон о челне
Плыву я по озеру; в челне много народа, а слева сидит моя жена; волны захлестывают через борт и челн должен погрузиться; жена усиленно вычерпывает воду, но вдруг поворот налево и мы у пристани с правой стороны; неожиданность. Выходим на берег; тут стоят парусные баркасы с итальянскими революционными надписями на кормах, направленными против Финляндии. Я предлагаю воспользоваться баркасами, чтобы переплыть озеро, но слышу возражения; кто-то авторитетно советует обойти озеро пешком – это 150 верст, путь долгий, но зато верный.
1920
46
Многогранное тело добра и многогранное тело зла. Опытный по одной грани судит о целом.
Мысль по поводу обращения к опытным
старцам с вопросами и не их области мышления. Май 920
47
Мир непрерывно прогрессирует во зле; временами зло как бы зарубцовывается – моменты сравнительного благополучия, а главное – привычки; затем новый сдвиг, а Церковь то расширяется, то суживается, то обнимает государственность, то уходит в уединение отшельничества.
1 июня 920
48
Порванная цепь Бытия воссоединяется Евхаристией.
Июнь 1920
49
Думается, бессловесная тварь и природа воскреснут в людях в мере восприятия их человеком.
Июнь 1920
50
Стиль – это соборный символ.
Июнь 1920
51
Искусство
Мир преображенный
В символы небес
Ближе отраженный
Лик бесчисленных чудес
12 июня 1920.
Вечерней зарей, возвращаясь
с «Казенной дачи». Посад
52
Только для себя
Сон
Видел Буецкий дом, пустой; все двери и оставшиеся шкафы открыты настежь; во всех комнатах отец мой (покойный) нежно, даже страстно нежно, что никогда ему не было свойственно, меня целует и, прощаясь, удаляется.
Май 1920. Посад
53
[зачеркнуто]
54
[зачеркнуто]
55
«Там, в параклите, монахи воспитываются с птицами».
О. Диомид
56
Искусство как сотворчество в некотором смысле Богоявляемость; отсюда икона – «Божие милосердие» (древний термин, обозначающий икону).
57
[зачеркнуто]
58
Воплощение Спасителя – эквивалент миросоздания.
1920
59
Византия не нуждалась ни в наследственной монархии, ни в аристократии, ни в «культуре».
Мысли о теократизме Византии. 920
60
Как дорого прошлое; Церковь больше в глубь, чем в ширь.
Июль 920
61
Воскреснуть в достижения своего творчества; приобщиться вечного в пределах земных достижений.
2 авг. 920
62
Думается, мир совоскреснет с человечеством, поскольку он причастен человечеству, поскольку он творчески человечеством воспринят.
Мысль за всенощной у Рождества при пении
«Честнейшая» под 20 августа 1920
63
[зачеркнуто]
64
[зачеркнуто]
65
Русское средневековие почти не знало фамилий. Святое имя человека определяло его отношение к Богу, и этого было достаточно.
66
[зачеркнуто]
67
Царство – политическое «старчество».
68
«Культура» – осадок этики и знания.
69
Противополагать «реальному» более реальное – одно, а не противополагать и только отрицать «реальное» во имя полной неопределенности – другое.
К обычным советам аскетического свойства. 920
70
Природой пренебрегают или видящие горнее – сверхприродное, или онтологически слепые.
71
Буйцы
Ветер, ветер вольный,
В летний ясный день,
То обнимешь ты дубраву,
То ласкаешь ты поля,
То долиной мчишься буйный
Златоверха мимо городка.
Иль с дорогой дальной шутишь, Иль целуешься с волной В водоеме серебристом, Там, в лугах, за сочною травой 11/XI 920. Черниговские ирмосы, гл. 5. Отец Порфирий
72
Художественное восприятие – своего рода чудовидение; как в том, так и в другом есть видящие и невидящие.
21 нояб. 920
73
«Россия – страна, которая не терпит накопления благополучий».
С [148]. 21/XI 920
74
Вопрос о существе Искусства есть вопрос о Церкви.
Ноябрь 1920
75
Неодушевленное одухотворяется духом благодати, человеком и демонами.
Дек. 920.
Мысли в связи с чтением «Просветителя»
76
Для себя
Куликово
Как бы в предвиденье далеком
Я вижу образ милой, одинокий:
Идут кафизмы, в храме душно,
На посох опершись, слегка сутула
Она одна на паперти стоит;
Уж зреет рожь, закат горит багровый,
А там, вдали, двух рек долины,
Там жизни две в былом слились…
По дороге из Черниговской.
Осень 1920
77
[зачеркнуто]
78
Бывают периоды в жизни государств и отдельных личностей, когда все кажется незыблемым, почти вечным.
79
«Сообнятие общего в частном» есть имя, осуществление любви.
Обедня.
Февраль 1921
80
Хотелось бы ощутить в Смерти восторг Жизни.
Февр. 1921
81
Вчера, 28 февраля, провел вечер у о. П[авла] Ф[лоренского].
Говорили об исканиях в искусстве и о теории искусств.
Ощущение невидимого тела вселенной, искание Церкви.
По этому поводу о. П[авел] прочел мне свои первые главы о Бухареве.
1921
82
[зачеркнуто]
83
Проникать в видимый мир глубже видимого и постигать почиющий дух – реальное ощущение одной из сторон Церкви.
Март 1921
84
Церковь не как учение, а как органическое целое, излучающее многообразие реальностей.
1921
85
Говорить о прошлом для меня иногда то же, что говорить о настоящем – все живет.
1921
86
[зачеркнуто]
87
О жизненных путях мы знаем только крохи.
1921
88
Для петербургского «общества» – все как условность; подлинное отвергнуто во всех областях: оно не «comme il faut» вплоть до мелочей: «Le ridicule du pas expressif».
Мысли о причинах крушения.
1921
89
Поминать – поминать природу, вспоминать – одна из сторон жизни в Церкви.
1921
90
По мнению проф. Е.В.В. «ризница» (Тр[оице]-С[ергиевой] лавры) – это «плоть». Плоть и дух – непримиримый дуализм; икона Троицы Рублева – тоже «плоть», ибо материи недоступен «свет невидимый», открываемый лишь учением, проповедью.
Для проф. Е.В.В. нет обожествленной плоти, плоть не включена в озарения Духа.
Март 921
91
Мы через тварь приближаемся к Творцу – таково общее свидетельство Отцов Церкви.
1921
92
[зачеркнуто]
93
Сыну
Достаточно ли ты духовно взалкал, чтобы оценить всю полноту Слова 4 «О мире» Григория Богослова? («Творения», IV, 186).
Прочел это Слово в святой день Благовещения 1921 года.
Посад
94
Как легко проглядеть все, решительно все, и умереть слепым.
1921
95
«Я, скорее, люблю глупых людей».
Соня.
28 марта 1921
96
Современное старчество – благодатная азбука благодатной жизни.
Мысль по поводу мыслей о
необразованности современного старчества.
3 апр. 921
97
Утрата священного суживает возможности общения с Церковью.
14 апр. 921
98
«В запахе цвета вербы сказывается вся Россия, которую ты так ругаешь».
Соня.
13 апр. 921
99
Первый вопрос о. Анатолия Оптинского, обращенный на исповеди к девушке-невесте: не разоряла ли она когда птичьего гнезда.
Е. С. П. о себе.
15 апр. 1921
100
На вопрос вернувшемуся из Оптины: «Что старцы?» – ответ, что старцы «все такие же веселые».
101
Жить в воспоминаниях – жить в реальностях…
Май 1921
102
[зачеркнуто]
103
То слезы, То грезы Май 1921
104
Жасмин
Вернутся ль счастья дни,
Когда, ребенком, я бежал
К цветущему жасмину,
Когда вокруг гудели пчелы,
И даль сливалась в синеве,
Когда меня ласкала няня,
И беззаботной и безбрежной
Казалась жизнь вся впереди
21 мая 921. Сергиев Посад
105
Казнь, чтобы не быть убийством, должна быть освящена любовью (теократичность государства).
106
Одна молится на иконы, другая в окно, глядя на природу. Первая православна, вторая близка к сектанству.
Окт. 921
107
Путь к онтологии – Евхаристия.
Окт. 921
108
Смотрите, как мир прекрасен, но это только отблеск мира вечного.
Окт. 921
109
Я слышал кликушу: исходили звуки то тревожные, то поспешнорадостные, затем снова полные разочарования и безбрежной тоски.
Черниговская. Окт. 1921
110
Символ возникает и завершается в любви.
Обедня у Рождества в день
Всех скорбящих Радости. Окт. 921
111
Слово как образ Творца и слово как образ твари.
Чтение Отцов.
Октябрь 1921
Александр Васильевич и Юрий Александрович Олсуфьевы в Красных Буйцах. Около 1904. Частное собрание, Москва
112
[зачеркнуто]
113
Ересь – это бунт против преемственного согласия, а собор Церкви есть голос этого согласия.
922
114
[зачеркнуто]
115
Отцы Церкви утверждают, что воплощением Христа вселенная очистилась и умолкли бесы в Дельфах.
1922
116
Народовластие – самовластие – своеволие.
Черниговская. Обедня 1922.
117
Отцы Церкви высказывались против античной культуры как равноценной христианству. Совсем иное отношение с точки зрения преобладающего христианства.
118
Икона диапсалмична.
Март 1922
119
Как не любить эти отклики милые в древних.
Сафо. Гомер.
Март 922
120
Мещанская гражданственность, которая лезет в «приход».
Март 922
121
«Верба есть олицетворение смирения и красоты православия».
Соня. Вербное Воскресенье.
1922
122
[изъято]
123
[изъято]
124
Высота как символ преображенности.
Иконопись XV века. «Дочь светлоокая Зевса Афина тогда Одиссея станом возвысила» (Одиссея, перевод Жуковского, изд. 1885, стр. 108).
125
Просвещенным зло ереси – очевидно.
Пасха. 922
126
Только для себя
Сон
Я видел Буйцы, не те, старые Буйцы, а Буйцы новые; я выезжал верхом в гору там, где была дубрава Терны; лишь пни от срубленных вековых дубов говорили о Тернах; я ехал…, встречные были чужие и никто меня не знал. Кругом кипела жизнь, полевая жизнь; на Кичевской стороне выросла группа высоких кленов; их пожелтевшие листья были как золото; налево от кленов тесно стояли скирды, а направо высился огромные омет соломы – это было новое гумно; при мне там никогда не молотили. Я был чужой и ненужный: жизнь шла без меня своим чередом; я чувствовал себя мертвецом среди живых и я желал лишь одного – умереть, чтобы видеть старые Буйцы, мои прежние Буйцы…
13 апр. 922
127
Есть аскетизм от равнодушия к созданию и есть аскетизм от вящей любви к нему.
Апр. 922
128
Быть может, круг сей не сомкнется,
Тогда сомкнется жизни круг.
23 апр. 922. День ангела.
Чтение Георгия, Задонского затворника.
1922–1923 годы
Общения II
1922
1
Церковь – Жизнь.
Май 1922
2
Люди, которые отмычками пытаются отпереть тайны Царствия Божия.
2 мая 1922
3
Россия юна отсутствием «культуры».
4
Вся полнота жизни – во Христе.
Май 1922
5
Собор – одна из форм выражения церковного единства, но из этого еще не следует, что всякий собор выражает это единство.
Чтение Афанасия Великого и Сократа Схоластика
6
Одна из самых дурных наших привычек – привычка жить.
27 июня 922
7
Для себя
Siс transit gloria mundi
У деда был дворецкий, у отца – буфетчик, у меня – «человек», а сыну – самому бы выйти в «люди».
8
Быть в Духе, поэтому радоваться о твари, ибо Дух радуется о твари, иначе она погибла бы.
27 авг. 922. Всенощная у Рождества
9
«Да будет воля Твоя» – основа старчества и царства.
Август 922
10
Грех не в периферии, а в периферийности.
18 сент. 922.
Обедня у Рождества
11
Старчество – обретение.
Соня о благодатности старцев.
Сент. 922
12
Земная жизнь – лествица, путь от периферии к Центру, источнику Жизни, а человечество, следуя наущениям Сатаны, отца лжи, склонно двигаться к периферии, принимая ее за Центр.
17 сент. 922.
По дороге к Черниговской
13
«Миром Господу помолимся», «О свышнем мире»…
Мир – лазурь, лазурь неба, лазурь Богородичных одежд, лазурь иконы Св. Троицы преп[одобного] Рублева, лазурь там, где оставлены внизу туманы и тучи нашей жизни по плоти.
Из Слова о. Павла Флоренского в Введение.
Пятницкая церковь. 922
14–15
[зачеркнуто]
[зачеркнуто]
16
Русская интеллигенция[149] – quantite negligeable, «лакеи цивилизации», по выражению Флоренского.
25 дек. 922
17
[зачеркнуто]
1923
18
Слово как символ – плод единения, любви; но как человек злоупотребил этим божественным даром!
28 янв. 923
19
Сон
Я проснулся в видении Киферы, объятой синевою моря, сияющей, утренней зарей. Затем увидел я Акрополь и фиолетовые дали. В нем узрел я примитивов таинственное знанье; далее перенесся я в высокие Дельфы и там, в серых утесах, мягкий, влажный мрамор являл мне символы веков; потом обратился я мечтою к ликующему Олимпу, я слышал лепет там Алфея и снова зрел и там я в мраморных ваяниях тайны выспренних видений…
О, вечно юная Эллада!
30 янв. 923.
День памяти Василия Великого,
Григория Богослова, Иоанна Златоустого
20
Периферийная сторона символа (творческого), фабула, притча, аллегория, служит условием его понимания. Но символ обладает и стороною сокровенною, которая служит условием его нормативности.
Янв. 923
21
Таинство совершается Любовью, поэтому – преемственностью.
февр. 923
22
Слово – творчество, общение, звено любви.
Безмолвие очищает слово.
Чтение Ефрема Сирина.
Март 923
23
Для просветленного Церковь – самоочевидность.
Март 923
24
Светлости жизни временной преобразятся в светлости вечности.
Обедня в Гефсиманском скиту. 17 марта.
Пятница 6 недели В[еликого] п[оста]. 1923
25
Блажен тот, для кого догмат обогащает его духовную нищету.
Гефсим[анский] скит.
17 марта 1923
26
Начало творчества есть Слово, и о нем исполнены божественные писания.
Гефсиманский скит.
Пятница на Святой [неделе], последняя пасхальная всенощная.
31 марта 923
27
Россия захлебнулась «мужиком» – монастырь, армия, конечно земля.
28
«Стоять за веру» – это еще начаток веры.
Мысль по поводу разговоров
о «народном» благочестии.
Март 923
29
Символизм иконы озарен единым светом Красоты, ему чужда дифференциация лучей, достигнувших земли.
Иконы и картины Гоццоли.
Апрель 923
30
Основы теории искусства – в богословии.
31
Страдание и смерть суть узы любви, ведущие к Жизни, их мерою мерится глубина каждого начинания.
По поводу
«Истории Гефсиманского скита» Апрель 923.
32
Творчество присуще Богосыновству.
24 апр. 923
33
Божественный свет Духа… называется соответственно подлежащему веществу».
Из Симеона Нового Богослова.
24 апр. 923
34
Еллинство – во всем Бог, еврейство вне местничества – вне всего Бог, христианство – во всем и вне всего Бог, ибо в Нем все.
8 связи с чтением Симеона Нового Богослова.
24 апр. 923
35
Творчество – общение – любовь.
Апр. 923
36
Спаситель, зачатый Духом Святым, думается, рожден таинственной стороною брака, его абсолютной чистотою; отсюда необходимость наличия брака Марии с Иосифом и родословия Иосифа.
Мысль по поводу 58 гимна Симеона Нового Богослова.
26 апреля 923.
Поезд в Москву
37
[зачеркнуто]
38
Исторический корень бюрократизма – дьячество, но последнее уравновешивалось боярством – барством.
5 июня 923
39
Брак – периферийный образ Церкви.
По поводу чтения «Пира десяти дев».
9 июня 923
40
Церковь рождает Слово (в нас), рождает творчество.
По поводу чтения «Пира десяти дев».
10 июня 923
41
Век Екатерины – век барства, отнюдь не дьячества; последнее возобладало со времен Сперанского и министерств.
По дороге в Вифанию.
17 июня 923.
Воскресение
42
Он живет интересами внешней церкви.
С[оня]. 18 июня 923
43
«Дух немый» – дух, лишенный Слова, лишенный творчества.
Июнь 923
44
[изъято]
45
Вся полнота идеи твари – в Премудрости; и в Ней – всеобъемлющий источник Слова.
В связи с чтением Дионисия Ареопагита
«О божественных именах» и Мефодия Патарского
«О сотворенном».
23 июня 1923
46
От беспредельной любви к природе: к этому золоту июньских закатов, к этим зеркальным гладям вод, к этим запахам трав и цветов, к этим вечерним звукам гаснущего длинного летнего дня…, от беспредельной любви к ней я жажду ее паки бытия.
Посад. Любимый прудик.
23 июня 923
47
Человеческое творчество ограничено «подобием».
Чтение Феодора Студита.
24 июня 1923
48
Отец Амвросий Оптинский – молодой девушке В. В. Сел-вой: «Вижу твою жизнь…, она как лесная тропа в ясный осенний день, когда стелется паутинка…».
Ей же, уже вдове, отец Анатолий Оптинский: «Моя белая радость».
Июнь 923.
После посещения нас В. В. К-ой
49
Через гущу тумана они не видели Солнца…
Сергиев день, 5 июля 923
50
Цель жизни – осуществление Богосыновства.
Июль 923
51
Барокко XVIII века – стиль милой неожиданности, шутки, легкого своенравного каприза.
Гуляя по лавре.
Июль 923
52
[зачеркнуто]
53
Стиль Louis Philippe – также стиль причудливой шутки, но в то время, когда было «не до шуток».
15 июля 923
54
«Новый стиль» – «да и нет сольются».
15 июля 923
55
[зачеркнуто]
56
Человек как таковой определяется «подобием» (Создателю); отсюда бытие его заключается в творчестве.
21 июля 923
57
Ответственность за каждое слово как за осуществление Богосыновства.
58
[зачеркнуто]
59
Не совсем вымышленный разговор: Татьяна Львов[н]а, неожиданно, через весь ресторан: «Любите ли Вы мужика?». Ответ: «Да, после того как его хорошенько отдубасит Ваш братец, граф Илья Львович».
Из воспоминаний о Чернышевской гостинице в Туле и о Калужской губернии. По поводу юбилея Толстого
60
Графиня Воронцова за частным обедом в Гатчине, обращаясь к императрице Марии Феодоровне о семье нашего посла в Берлине графа Остен-Сакен[а], покровительственно: «Mais ce sont des gens toutafait, toutafait comme-il-fauts».
Из воспоминаний молодости
61
Символы – звено земли и неба.
62
«Да святится Имя Твое» (именно Имя как символ), думается, равносильно – да осуществляется любовь к доступному в Тебе.
15 авг. 923
63
[Изъято, но затем вписано]
«Не любить мира, ни того, что в мире» – конечно, не призыв к акосмичности.
1923
64
Мы звенья, спайка на земле! Нам дан закон любви: «пол» на периферии, в центре – Слово.
Глядя на ущерб луны ярким осенним утром.
19 августа 923
65
Рим – «плоть» античности.
Обедня у Рождества.
27 августа 923
66
[зачеркнуто]
67
Жить – это творить, но кто причастен Жизни?!
68
Если не было бы греха, то было бы всезнание.
69
[зачеркнуто]
70
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – даждь нам то, что необходимо для жизни, и какое обеднение смысла этого прошения, когда разумеется только хлеб материальный, о котором сказано: «не одним хлебом будет жив человек».
Обедня у Рождества.
15 сент. 923
71
Только для себя
Сон
Сумерками меня влечет быстрый катер к недалекому острову; мы покинули шумную гавань, мы миновали бег встречных пароходов и сквозь таинственный туман, рассекая перекаты зыби, мы достигли плоского песчаного острова. Там белый павильон с широко открытыми дверьми, там мой покойный отец, там непрерывные звуки музыки, от которых бегут тати и злые…
19 сент. 923
72
[зачеркнуто]
73
Поглотит ли смерть все песни жизни?..
27 сент. 923
74– 75
[зачеркнуто]
76
Страшно за народ, когда религия с одной стороны – привычка, с другой – орудие власти; когда власть лишилась творчества и утратила сознание своей правоты, когда старшие попраны младшими, когда царит мертвящая зависть, когда слово стало словом разврата (литература), лжи (публицистика) и гнили (народная речь)…
О России перед революцией
77
Церковно-приходские потуги, религиозная «жидель» или дикое самочиние «Богу помолясь».
Размышление о церковно-приходской «деятельности».
Окт. 923
78
Русская «общественность», испошлившая своим внедрением русскую государственность, теперь занялась русской церковностью.
923
79
[зачеркнуто]
80
Узы условной перспективы слабеют в зависимости от степени диапсалмичности слова.
9 окт. 923
81
И мы в Слове запечатлеваем свой образ.
Мысли о «подобии».
Окт. 923
82
Иосиф Волоцкий – первый из отцов русской церкви, а быть может и Вселенской, который говорил об онтологической нормативности, присущей красоте изобразительного искусства, выражаясь следующим образом о действии на зрителя иконы Св. Троицы (Рублева?): «Желанием бесчисленным и любовью безмерною и духом восхищающеся к первообразному оному и непостижимому подобию и от вещного сего зрака возлетает ум и мысль к Божественному желанию и любви; и не вещь чтуще, но вид и зрак красот их…»
Из Просветителя
83–85
[зачеркнуто]
86
Иосиф Волоцкий был представителем космического мировоззрения, которого в значительной степени лишена современная русская церковность. Иосиф взывал: «Всякож дыханиа и създаниа, еже на земли, честнейшиее церковь». Отсюда становится понятным и то значение, которое Иосиф придавал произведениям искусства.
Просветитель. Казань, 1855, стр. 261.
11 окт. 923
87
[зачеркнуто]
88
Человеческое творчество – как бы довоплощение воплощенного: «Адам прежде нежели вкусил от плода, был пророк и нарек имена животным».
Тертуллиан.
О воскресении плоти. –
Творения, ч. III. СПб., 1850, стр. 167
89
«Чувство не надежный оценщик прекрасного».
Св. Григорий Нисский. Творения,
изд. 1861, т. II, стр 275
90
[зачеркнуто]
91
Мне всегда претила церковная общественность – «братство», «кружок», «приход»; суживая своими рамками религиозную жизнь, она обедняет ее до внешности.
Окт. 923
92
Исчисление лет и дни праздников освящены любовью Церкви; это дни прозрений и вящего общения, но их таинственная святость, по-видимому, скрыта от материализма современной церковности.
По поводу введения нового стиля.
Окт. 923
93
Введение или невведение «нового стиля» сводится к вопросу онтологичности, стоящему ребром перед материализмом современной церковности.
Окт. 923
94
[зачеркнуто]
95
Введение «нового стиля» – новое обеднение церковного сознания.
Окт. 923
96
Как много любви и творчества – в вежливости; изысканнейшая вежливость – в келье святости. «Будь ласков в ответах; чтобы весело было говорящему с тобою», – учит св. Иосиф Волоцкий.
21 окт. 923.
Духовн. грам[ота] Иосифа.
Приб[авление] к изд. Твор[ений] св. Отцов,
ч. V, 1847, стр. 88.
97
Воспитание дает вежливость; монастырь – высшая его школа.
Окт. 923
98
[изъято]
99
Святость, а затем слово давались преимущественно дворянством, когда оно было высшим звеном теократического служения.
21 окт. 923
100
Акосмичность – разобщенность.
Общения III
1923
1
Человеческое слово ограничено не только «подобием», но и грехом.
Чтение Николая Кавасилы.
Окт. 1923
2
Нормативность слова, его действенность обусловливается или обожением (дарами Духа святого), или демонизацией.
Чтение Николая Кавасилы.
Окт. 923
3
Неужто вам не слышен сквозь разнообразие кликов жизни и стенаний смерти единый ритм – ритм Жизни и смерти?!
Чтение Николая Кавасилы.
Окт. 923
4
Монашество – высший подвиг любви, для которого любовь к ближнему – в молитвенных общениях души.
Мысль по поводу мнимой косности иночества на поприще любви к ближним.
Ноябрь 923
5
Шпенглер слеп в отношении обратной перспективы византийской культуры и, принимая условную перспективу «Фаустовской» культуры за признак метафизичности (дали, говорящие о вечности), не видит, что условная перспективность – результат эгоцентрического отрицания метафизики.
Ноябрь 923
6
Для мысли старчества, озаренной полнотой Церкви, непостижима возможность «истории Церкви».
Из бесед с о. Пор[фирием].
Ноябрь 923
7
[зачеркнуто]
8
[зачеркнуто]
9
Для воплощения Духа Святого (во время сошествия на Апостолов) был избран огонь.
Чтение Николая Кавасилы.
Осень 923
10
Человек – символ Слова.
Окт. 923
11
По причине ограниченности знания нельзя отрицать знания, а по причине знания нельзя не признавать его ограниченности.
Просматривая сборник о книге Шпенглера
12
В России успех социализма – религиозный.
По поводу книги Шпенглера
«Закат Европы».
2 ноябр. 923
13
С благоговением, а не с пренебрежением относишься ты к жизни.
Космичность русского старчества.
Ноябрь 923
14
Проповедь пророков – к народу избранному; проповедь Евангелия – к последнему сердцу.
Мысль по поводу многоочитой, таинственной колесницы пророка Иезекииля.
7 ноября 923
15
Вся проповедь Господа Иисуса Христа – нисхождение.
Чтение Макария Египетского
16
«Мир» – то, что ведет к смерти души.
Чтение Макария Египетского.
8 ноября 923
17
Действенность Евангелия – в даре Духа Святого.
8 ноября 923
18
[зачеркнуто]
19
Как трудно «собраться» во Имя Его, легко – разве только детям.
20
Акосмичность сковывает творчество.
14 ноябр. 923
21
Жизнь души знаменуется Словом, высшею формою, предопределенною любовью.
20 ноября 923
22
«Заимствуя себе повод в видимом, выходят к новым небесным созерцаниям, словам и таинствам».
Макарий Египетский. К мыслям о творчестве. 25 ноября 923
23
Церковь требует от человека чистоты (правды) помысла, снисходя к неумелости выполнения; то же в отношении иконы: благодатный бгата^ю и посильная T£xvr|.
24
[зачеркнуто]
25
[зачеркнуто]
26
Неискусность T£xvr|, заслоняет чистоту бгсптую а.
Ноябрь 923
27
«In qual parte del Cielo, in quale idea?…»
Петрарка
28
«Люди до тонкости углубляющиеся в «слово», но лишенные благодати, «остаются позади».
Из Макария Египетского
29-31
[зачеркнуто]
32
Творчество приобщает Жизни.
6 дек. 923
33
Периферийная тема требует периферийности «подобия», иначе ее образ исчезнет в его идейной перспективе.
8 дек. 923
34
[зачеркнуто]
35
Сон (молодости?)
Из мира теней она предстала – темная, стройная, кроткая. И моя покойная мать, меня утешая, сказала: «Она полюбит тебя, покажи ей дали заливных лугов и синеву водоемов, извилины Непрядвы…» Я проснулся, тоской по ней уязвленный…
11 дек. 923
36
Требование творчества в иконе сказывается в требовании Церковью (VII Вселенский собор) благодатности δίάταψισ’а
37
[зачеркнуто]
38
Расширенный круг осознанных реальностей.
Дек. 923
39
[зачеркнуто]
40
Есть что-то общее в приискании теперешним приходом дьякона и сходом – «заводского» бычка.
24 дек. 923
41
[изъято]
42
[изъято]
43
[зачеркнуто]
1924
44
Русская церковность в пении давно заменила «икону» – «картиною». На том же пути – церковное изобразительное искусство, и после этого нечему удивляться, когда говорят о разных видах «упрощений» богослужения и обряда.
6 янв. 924
45
Трудно в «бытовом» приходе ужиться «не бытовому» священству.
Гр. В[ладимир] К[омаровский] об С.С.
Янв. 924
46
Русский народ, конечно, не «правовой»; его правосознание поглощается или нравственностью или безнравственностью.
Янв. 924
47–48
[изъято]
49
Три периода русской истории: 1) церковно-государственный, 2) государственно-церковный (петербургский) и 3) социальный.
Янв. 924
50
События из жизни Спасителя лишь одной гранью принадлежат времени и месту, тогда как по существу они вне времени и места.
Янв. 924
51
[изъято]
52
53
«Последний раз» в деталях жизни есть в жизни образ смерти.
Февр. 924
54–57
[зачеркнуто]
58
«Рефлекторное» искусство и внешние знания не лишены действенности, ибо и тень Петра творила чудо.
Февр. 924
59
[зачеркнуто]
60
Чтобы умереть к жизни, следует в жизни быть причастным Жизни.
21 февр. 924
61
[зачеркнуто]
62
Сон в ночь на 23 февраля 1924
Я видел, что не оставалось места на земле, с которого можно было бы славить Творца.
63
Святые не жизнь разрушали, а ее кумиры.
Февр. 924
64
«Самодержавие, православие, народность» – были официальной формулой, прикрывавшей безыдейный позитивизм государственности и церковности.
Февр. 924
65
Приобретайте в мире то, что сможете взять с собою при переходе в мир другой.
Февр. 924
66
XVIII век был веком забвения, к которому применимы слова: «и нет человека, который бы верил, что мир и блага его преходят» (Ефрем Сирин, IV, 473).
Мысли по поводу воспоминаний
гр. Евграфа Федотовича Комаровского.
Февр. 924
67
Действенность Слова в Духе Животворящем.
По дороге из Вифании.
Февр. 924
68
[зачеркнуто]
69
«Естественное состояние души есть ведение Божиих тварей, чувственных или мысленных. Сверхъестественное состояние есть возбуждение к созерцанию пресущественного Божества».
Исаак Сирин.
Слова подвижнические, стр. 26.
Март 924
70
«Оставь малое, чтобы обрести великое».
Исаак Сирин.
Слова подвижнические, стр. 33
71
Русское старчество – старчество сердца.
6 марта 924
72
Человек в некотором смысле участник пополнения книги Жизни, ибо ему дано словом «возобновлять» действительность.
6 марта 924.
Чтение Ефрема Сирина
73
Одно – «внешнее знание», оглашенность, «рефлексионное» искусство, даже молитва; другое – богослиянное созерцание.
По поводу чтения Исаака Сирина.
7 марта 924
74
«Есть умное созерцание, но не движение и не взыскание молитвы, хотя от молитвы заимствовало себе начало».
Исаак Сирин.
Слова подвижнические, 111
75
Конституционно-компромиссный Запад веками теплился «картиной».
7 марта 924
76–79
[изъяты]
80
Начало созерцания есть молитва, а начало созерцательного видения есть видение внешнее.
По поводу чтения Исаака Сирина, слово 21
81
Созерцательная степень ведения дает «огненные понятия».
Чтение Исаака Сирина.
14 марта 1924
82–83
[зачеркнуты]
84
Стремление к «конституционной» церковности.
Март 1924
85
Современная художественная критика превозносит «товарищецкое» отношение к природе.
1924
86
Первообраз утончается до Творца.
87
Видение может утончаться, но может и грубеть в дебелости плоти.
Март 924
88
И святых безродных и первенство родов – то и другое дается Церковью.
Март 924
89
Не освященной ли плотью освящается земля и не обожествленным ли словом приобщается Жизни.
Мысль о путях поминовения твари.
924
90
«Божественную светлость зрети сподобился еси, в ню же вселився зриши Святую Троицу».
Минея праздничная о пр. Сергии
91
«Лучше тебе умириться с душою твоею в единомыслии тройственного в тебе состава, т. е. тела, души и духа, нежели учением своим умиротворять разномысленных».
Исаак Сирин. Слова подвижнические, 280
92
«Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда возводим был к чудесам Божиим».
Исаак Сирин. Слова подвижнические, 279
93
«Когда благодать начнет отверзать очи твои для ощущения зрением предметов в их действительности…»
Из Исаака Сирина. Слова подвижнические, 283
94
«Пока человек служит Господу чем-либо чувственным, дотоле образы сего чувственного отпечатлеваются в помышлениях его и Божественное представляет он в образах телесных. Когда же получит он ощущение внутреннего, тогда по мере ощущения его и ум, от времени до времени будет возвышаться над образами вещей».
Ibid., 312
95
«Божие дело делаешь внешним человеком, а внутренний человек еще бесплоден».
Ibid., 339
96
Бдением «отверзутся тебе очи, увидишь всю славу сего жития и силу пути правды».
Ibid., 354
97
Очи души видят тайны естества и тайны Божии.
Чтение Исаака Сирина
98
«В этом еще мире в ощущаемом здесь обоняет (живущий в любви) оный воздух воскресения».
Исаак Сирин.
Слова подвижнические, 391
99
«… Потом отверзутся очи твои, чтобы, по мере чистоты твоей, видеть крепость твари Божией и красоту созданий».
Исаак Сирин.
Из Слова 42
100
«Совершенство, сопряженное с плотию и кровию, владычественно царствует над помыслами, проистекающими от плоти и крови, но не доводит до совершенного бездействия и их и других свойственных естеству помыслов, пока еще стихийною жизнию бьется животворная мысль человека, и основание ума его во всяком движении и склонении заимствует изменение от четырех влаг».
Ibid., из Слова 43
1924
1
Тонкий сон, растворенный молитвой.
Июнь 1924.
Сергиев
2
Сны навей мне, Ангел, из юных дней моих давнишних!
Июнь 1924.
Сергиев
3
Чрез толщу бытия И образов мерцанье Как близок иногда Лик зримого в гаданье.
12 июня 1924
4
Я не люблю утра, поры обманутых надежд…
Зато как благостен премудрый вечер!
5
Вифания
Прошли года и недалек тот час, когда прервется путь…
Я стою в большом, почти пустом храме. Всенощная близится к концу. Лампадный свет мерцает в белизне заката дня; высокое окно глядит на бледную синеву гаснущего неба; кружат стрижи, мелькая в разрезе высокого окна. Мне мнится, что настоящее замерло и соприкоснулось с высшим; мне мнится, что высокое окно, золото иконостаса, мерцающие лампады… оторвались от настоящего и стали принадлежностью потустороннего. Настоящее как бы рассеклось и как бы мгновенно приподнялась завеса, чтобы явить трансцендентное бытие вещей.
Вифания.
3 июня 1924
(перед болезнью)
6
[зачеркнуто]
7
К истории одного рода
«Выехал на Холстомере из Литовской земли (ныне губернии Орловской) к государю Александру III Александровичу некий проныра шляхтич, именем…, а у него дети: Миша, Саша, Алеша, Паша…»
Из «Бархатной книги» недавнего прошлого
8–9
[зачеркнуто]
10
«Несходные подобия»
Дионисий Ареопагит о символах.
15 июля 924.
По поводу общего непонимания
портрета о. П[авла] Ф[лоренского] – [работы]
г[рафа] В[ладимира] А[лексеевича] К[омаровского]
11
[зачеркнуто]
12
Св. причащение не есть ли также закрепление за нами в вечность всего того, что мы в Боге любим?
Июнь. Память пр. Серафима.
Июнь 1924
13
Толстовский самоанализ – результат «самости».
Просматривая «Войну и мир».
1924
14
Сюжет может говорить о стиле, но он слишком общ, чтобы показать характерность стиля.
Мысли по поводу бездарной книги Айналова «Византийская живопись 14 века».
20 июля 924
15
«И красота сельная со мною есть».
Псал. 49
16
Енох, второй от Каина, строит град своего имени – первый шаг к эгоцентризму; а Енос, второй от Сифа, «упова призывати имя Господа Бога», и он назван был богом.
Чтение четвертой части Творений
св. Кирилла Александр[ийского].
Июль 924
17
[зачеркнуто]
18
Пагубны мнимая созерцательность и отвержение в жизни сени ветхозаветности под предлогом торжества Духа.
Мысли о государственности, генеалогии и о неравенстве брака.
Июль 924
19
От высоковыйности, как бывает, пренебрегаем «Сигор» жизни!
Июль 924
20
[зачеркнуто]
21
[зачеркнуто]
22
Каждый день жизни есть или приобретение, или растрата.
Июль 924
23
[зачеркнуто]
24
[зачеркнуто]
25
Воспоминание есть ощущение временного, перешедшего в вечное.
8 авг. 924
26
«On ramasse le monde huppé et élégant; non les всякие родственники, ради какой-то благотворительности».
Тон раута у Воронцовых
«Как не позвать; бедненькие, подарить платье, вызвать и из уезда в длиннополых сюртучках, пусть увидят».
Тон раута у Шереметевых
27
Капризно-скучный завиток Барокко.
28
Влечение к периферийному понижает духовный уровень, об этом свидетельствуют откровения и самый элементарный опыт; то же, в частности, и в искусстве: влечение к внешнему затемняет внутреннее, но осознавать это в искусстве не всякому дано.
По пути из Вифании.
16 авг. 924
29
[зачеркнуто]
30
Илья Цветной и Антоний Изящный – игумены Николина монастыря в Новгороде, XVI век.
Из летописи
31
«И великую княгиню Еупраксею на свадьбе испортили, как она ляжет с Великим Князем (Семен Гордый) на постелю, и она ему кажется мертвецом».
Из древнего Родословца.
Временник, X, 54
32
Апокалипсическое значение.
С[оня]
33
Два ящика нужны человеку: один – побольше, при жизни, другой – поменьше, после.
Глядя на постройку нового дома на Вифанке.
Авг. 924
34
[зачеркнуто]
35
Полу-сон.
Семья отца
Я вижу их всех вместе, веселых, добрых, шумных, маленьких и коренастых. – Фонтанка. Кабинет моего отца. Мой отец в серой тужурке сидит в своем любимом низком кресле, обитом красным сафьяном; он в обычной позе, поджав левую ногу под себя, а правой наступив на сидение «попугайчиком», как он называл эту позу. Он весь трясется от смеха и слезы льются из глаз; его смешит с серьезным видом тетушка Ольга (Васильчикова). Она в сером платье и белой косынке. Я подбегаю к ней (мне лет 10–11), чтобы поцеловать ея руку, но она быстро ее вырывает и произносит скороговоркой: «Je suit vieille et laide», затем тут же берет мою ладонь: «Сорока-белобока…, а ты кенареек любишь, хочешь подарю тебе кенарейку?» И все это быстро, быстро. Она очень полная, но подвижная; когда идет, то ковыляет сбоку набок. Вдруг, задумавшись: «Чем больше живу, тем больше чту память родителей; ты не знаешь какие они были; мой отец, как милостив он был; летом мы ездили с ним по монастырям…»
Но вот входит дядя Алексей, маленький, весь как точеный; он в генеральской форме гродненских гусар; он волочит ногами по паркету, страшно шумит саблей, идет стремительно и обращаясь ко всем сразу, громко, звучно: «Я прямо сказал императрице – Madame, si les orphlinas de Moscou sont encore…c’est dû…, но этот imbécile de Протасов суется; натурально он дурак и пляшет под дудку Воронцова».
Дядюшка чисто выбрит, конечно – абсолютно лыс, небольшие красивые серые усы. Но вот он уже что-то цитирует из «Горя от ума», своего любимого Фамусова, затем произносит какую-то латинскую поговорку и обратившись к моему отцу, который мало на него обращает внимание, говорит ему: «Вы скоро с вашими гатчинскими обычаями будете и по улицам разгуливать в тужурке, l’Empereur Nicolas (Николай I) n’ aurait jamais…»
Вся в белом на диване сидит тетушка Даша (Моро); она очень косит своими карими олсуфьевскими глазами, рядом с ней, со средоточенным лицом – тетя Алина (гр. Зубова); «The work-houses в Англии устроены прекрасно», – говорит тетя Даша. «Да, но у нас невозможно, – возражает тетушка Алина, – у нас в Ковенской губернии администрация закрыла даже народные читальни, полякам не дают писать на их языке». «Конечно, это несправедливо», – в свою очередь вставляет тетя Маша (Мейендорф), сидящая за столом, прямо, бодро, с видом прибранности, – но не забывайте, что в читальнях распространяли…, а эти work-hous’ы, я думаю, совсем нам не нужны; у нас крестьяне, у них земля…»
Дядя Адам, красивый, с седой бородой; он в штатском; у него добротная золотая цепочка с печаткой на жилете; у него сапоги – с тупыми носками, совсем такие же, как у его братьев, работы знаменитого Штум[п]фа. Он задумчиво ходит по комнате и что-то посвистывает. Он знает Петербург, знает его со стороны разводов, парадов и Александровской (А[лександра] II) покорной военщины, но он уже давно от этого отошел; тетя Аночка его увлекла в деревню в Никольское, в жизнь «для других». Но и это ему чуждо; он любит природу, любит весну; ему ближе всего весенние зори в свежей зелени леса и всходов полей, но это его тайна… Он молчалив и очень ласков. Когда он скончался (он первый умер из семьи в 1901 году), то мой отец сказал: «Мы прожили все вместе свыше 50 лет; мы жили дружно, не ссорились; при дележе после смерти матери каждый взял, что он хотел».
36
[зачеркнуто]
37
Будничная жизнь – одно из лучших мерил духовных достижений.
Соня в разговоре об исповеди
38
Мы боги постолько, посколько мы воссоединены с Богом.
Сент. 924
39
Для своих только
Сон с 15 на 16 сентября 1924.
Мы с С[оней] еще молодые; уезжаем из Буец. С нами прощаются, кажется в старой столовой, мой отец, мать и бабушка гр. Мария Николаевна (все трое покойные). Мать и бабушка как-то в тени, а отец на первом плане; он ходит по комнате и неутешно рыдает. У меня тоже слезы. Я выхожу из северной двери большой гостиной и направляюсь к площадке перед подъездом, где подано два экипажа. Утренняя большая звезда белым светом догорает на небосклоне. На площадке у самого подъезда – тройка сильных гнедых в четырехместной коляске-«корзинке»; правит кучер Николай Котов. Затем на площадке же – тройка вороных со стариком кучером Прокофием, который уже откинул фартук экипажа и держит его за угол (Прокофий, покойный кучер моей матери, очень ею любимый, а Котов – наш кучер с С[оней]). Нам обоим с С[оней] хочется сесть в «корзинку», вместе с тем мы не хотим обидеть Прокофия; мы колеблемся в какой экипаж сесть. Прокофий, как бы поняв наши мысли, убеждает нас сесть в «корзинку», которая будет «покойна». Я вхожу в «корзинку», но мне кажется, что будет холодно зарей, и вот из тени выходит мой старый дядька (покойный) Митрофан Николаевич в серой тужурке и надевает на меня вязаную фуфайку, а затем лисью охотничью шубу. Тут я проснулся с тяжелым чувством разлуки. Мы прощались с умершими и сели с С[оней] в «корзинку», чтобы уехать из Буец на тройке гнедых (на вороных), которою правил единственный из приснившихся теперь в живых (за исключением меня с С[оней]) – Николай Котов.
40
Буйцы
Богдановский мост через полноводную Непрядву. Солнце село, но летняя заря еще отражается в глади тихих вод. Из деревень доносятся звуки возвращающихся стад…
Митрофан и Татьяна стоят на мосту.
М. «Я запоздал немного, солнышко уж село. Мы пахали на поляне и задержались там с плугами…».
Т. «И я недавно сюда вышла, мы пололи нынче господские овсы».
М. «Нониче овсы высокие и какие все густые!».
Т. «Смотри, смотри, должно какая рыба там плеснула, вон пошли круги…».
М. «То, быть может, и не рыба, а еще, возможно, что…».
Т. «Не рыба? Что же? Ах, жутко!».
М. «Надысь мы сеяли костер в Большой луке, там как ухнет в воду, так волной всколышило тростник и долго слышен был прибой…».
Т. «А что же это было? Водяной?».
М. «А кто знает, может он».
Т. «Слышишь свист, вон там, в луке?».
М. «Слышу, это и у нас бывает. Намедни были мы в амшаре на Сурах, ты знаешь, там у заводья лужок…».
Т. «Я, кажись, за этим мостом еще ни разу не была…».
М. «Ну, мы только с батей лошадей впрягли, как он свистнет над водой, вот уж страшно было…».
Т. «А это что, такой большой!».
М. «Да это жук ночной».
Т. «Гляди, гляди, вон зарево пожара…».
М. «То месяц полный, вишь – встает!».
Т. «Поздно, а уходить мне что-то жалко…».
М. «А вон в лугах у нас под барским домом коростель гудит».
Т. «А у нас на деревне улица и слышишь как играют песни?!».
М. «Вон табун прогнали на Кичевку, в ночное, на пары…».
Т. «Ах, а это что? Ты слышал, как у берега захлопало?».
М. «Это цапля, запоздала, ишь взвилась и в лес в Саликов летит».
Т. «Поздно, домой пора идти».
М. «Михалин день еще далеко, а ведь не обвенчают нас с тобою…».
Буйцы в начале 1890-х годов. Памяти Писакиных.
Окт. 1924
41
Мир образов – есть жизни мир.
Чтение св. Кирилла Александр[ийского].
Окт. 1924
42
[зачеркнуто]
43
У Им[ператора].
Эмиль Демидов заговаривал со мною, пока не освоился, а потом, освоившись, в успехе «ping-pon[g]’а» с И., уже больше на меня не обращал никакого внимания.
Из давнишних воспоминаний молодости
44
[зачеркнуто]
45
[зачеркнуто]
46
Византийская культура не знала любви к природе, воспринятой в образах, свойственных Западу, и кто знает, каково значение Петра в деле воссоединения церквей.
Окт. 924
47
Византийской культурою, конечно, не может быть принят Боттичелли.
Мысли при описании ложки
князя Феодора Борисовича Волоцкого
48
Западная культура – брачность жизни.
Окт. 924
49
[зачеркнуто]
50
Кто негодует и возмущается злу, тот не верит в Сатану.
51
Чему уподоблю православие? Разреженному воздуху после грозы?
С[оня]. Под праздник [иконы] «Всех скорбящих радости». 1924
52
[зачеркнуто]
53
Забвение горнего – наибольшее падение, поэтому мерилом горнего мерится как человек, так и его творение.
По поводу мыслей о натурализме в искусстве.
В день св. Дмитрия Солунского. Окт. 924
54
Он своим западным сердцем созерцал дали летнего заката.
55
[зачеркнуто]
56
И в мир молитв
И грез и тонких сновидений
Прокрался серый, тусклый день…
3 ноября 1924
57
Видимое временное есть подступ к теперь невидимому, вечному.
Ноябрь 924
58
Творчество – общение с потусторонним.
Декабрь 924
59
Пред озарением Твоим как бедно все, что дорогим казалось…
По поводу воспоминаний детства 40 лет назад с О.А.С.
Декабрь 924
60
Отсечение воли и свободное волеизъявление – одного богоносного порядка.
В связи с чтением Афанасия Синаита.
Дек. 924
61
«Иерархия, которая утратила способность учить и сама нуждается в учении».
О. П[авел] Ф[лоренский].
Дек. 924
62
«Какие же свидетели, когда сами слепы?!»
О. П[авел] Ф[лоренский]. О рус[ской] иерархии.
Дек. 924
1925
63
Как часто обманчив мир душевный (pax) извне приобретенный.
Мысли о юности. Янв. 925
64
Люди, живущие условностями и боящиеся творчества.
Янв. 925
65
«Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды Христа».
Пр. Серафим Саровский
66
«Прекрасно богословствовать для Бога, но лучше сего, если человек себя очищает для Бога».
Григорий Богослов. (Из жития пр. Серафима, 1863)
67
Пр. Серафим любил петь: «Иже от несущих вся приведый Словом созидаемая, совершаемая Духом» – песнь возносящая душу к великому делу любви Божией – творению мира и человека.
Житие [пр. Серафима], 1863
68
Блаженные старцы, вы как продухи в душной, толстой корке льда!
Янв. 925
69
Время знаменуется впечатлением, впечатление же свойственно ограниченности. Итак – время есть следствие ограниченности.
«Мок» № 92.
Февр. 925
70
В затемненный век и святость подернута завесой.
Апрель 925
71
[зачеркнуто]
72
Человек живет тварным во всех стадиях своего обожения.
По поводу чтения Ефрема Сирина.
4 мая 925
73
Чем выше символ, тем он проще.
Расчистка икон Троицкого собора.
Май 925
74
По теме икона – Боговидение, по выражению – небесный символ.
По поводу муратовской фразы: «Художественная
тема в этих иконах не заслонена темой
молитвенной и столь определенно выступает
на первое место, как это и должно быть в картинах».
Грабарь. История [русского] иск[усст]ва, I, стр. 242
75
Я вымолить хотел беспечность грез моих первичных…
Конец мая 1925.
Закат и облака
76
Икона – божественный первообраз, в Божестве созерцаемый.
Икона – божественного первообраза божественный образ.
77
У славянофильства – нет Бога без человека. Славянофильство проглядело монашество.
На левых стр. продолжение выписок с 1925 года после ч. III
78
[зачеркнуто]
79
Колыбель зеркальная, где дремлют месяц криворогий, звезды, золото листвы…
Гефсиманские пруды. Сумерки.
12 сент. 925
80
Три отрока в печи в изложении церковной песни или кровавое лютеранское распятие.
81
Смерть не есть ли отсечение лишь предела материализации? В таком случае потустороннее человека и «природы» должно быть близко к нам, в ожидании воскресения, этой вторичной и последней предельной материализации.
Память кончины матери.
16 ноября 925
1926
Молодость живет будущим, старость – прошлым; не права ли молодость?
В[еликий] пост. 1926. Глядя на звездное небо
Интеллигент в деревне – что телеграфный столб на фоне леса.
Поезд в Москву
Не открывайте так широко святых дверей храма! И так во все щели ползет в него приходская пошлость.
Вербное Воскресенье.
1926
Вспоминаю: тихий, светлый зимний день; лес в инее; пушистые ветви смотрят белым узором на синеве неба; чирикая вспорхнула синичка – ветка осыпалась снежною пылью, и полянку пересек большими стежками совсем уже побелевший русак…
Или другое: светлый и морозный день; белые равнины и голубое небо; мчится поземок, ровно и шибко, заметая след, а даль вся пурится, застилая голый, черный лес.
«Заказ» и Кичевское поле
[зачеркнуто]
Митрофорный протоиерей поглощает Великим постом сливочное масло. Простолюдин старичок-прихожанин: «Как это так?». О. протоиерей: «Ах, почтеннейший, сердце у меня больное». Старичок: «Кабы не легло оно (масло) тебе на сердце».
Случайно виденное и слышанное
Каждое сословие и каждый человек отлагаются в своем быту по-своему, но в стиле своего времени.
«А какой хозяин он был! Бывало поедет на четырех лошадях за хлебом, а все четыре подводы-то колесо в колесо! Вот чем славился батюшка Петр Сергеевич».
Рассказ Надежды Петровны Гиацинтовой, тещи о. Павла Флоренского, о своем отце, благочинном в Рязанской губернии в старые времена. 1926
Он читал нам из своей «Антроподицеи» о молитве и из «У водораздела мыслей» главу об именах, мы же не ощущали теплоты благодатности.
1926. Лето
Что же это? Богомыслие без благодатности и благодатность без богомыслия?
1 авг. 926
Он никогда никого не хвалит.
Об о. П[авле] Ф[лоренском]
Следует постичь, что старцу бывает несвойственно то, что свойственно тебе, как тебе бывает несвойственно то, что свойственно ему.
13 августа 1926. День исповеди
Вся наша жизнь должна быть «проскомидийна», в частности – «проскомидийность» творчества.
Современная «культура» вся направлена на разобщение «проскомидийно» соединенного.
Лишь тогда убранство дома «на радость», когда оно вяжется с «красным углом».
1926
[зачеркнуто]
Июльский жаркий день; редкие облака иногда заслоняют палящее солнце; я сижу на берегу ленивой, многоводной реки; вода – зелено-табачного цвета, прозрачна лишь сверху, на свету, переходя затем в густую тень. Короткие низкие волны подбегают к берегу и слегка колышат зеленый осок; чуть слышен их ритмичный плеск. Жужжа, пронеслась большая муха; над водою реет, блистая на солнце, стрекоза. Вот «клюнула» рыба и поплавок, до того времени равномерно движимый волной, вдруг запрыгал и канул в коричнево-зеленую глубь…
Непрядва, «Терны», заливчик
Детские впечатления потому так радостны, что они, в значительной степени, впечатления подлинные.
1926
Молитвенное и внешнее врачевание тела
Врачевание Натрийской горы принадлежало к первому; для неимеющих первого Церковь, по-видимому, не запрещает второго.
Чтение Лавсаика.
Осень 1926
XIX и начало XX века повторяли все три основных стиля XVIII и начала XIX века: Барокко – Louis XV и Louis Philippe, Louis XVI и резной орех 70-х годов; Empire – и карельская береза «ампирчиков» дней нашей молодости.
1926
Бог в раю соединил мужа с женою («и привел ее к человеку»), а падение первосозданного понизило это соединение до похоти, снимаемой, сначала, чаянием Искупителя, а затем благодатью таинства брака.
Осень 1926.
Чтение «Слов» Симеона Нового Богослова (45)
Безвкусие – своего рода «признанное» безбожие.
Осень 926
Это она, попадья в распущенной кофточке, породила русскую интеллигенцию: «Как же, Коля учится уже в шестом классе гимназии, а Вася хорошо идет в Горном…»
Под видом отвержения «мира» проповедуется вражда воплощению.
И «закон» есть плоть любви, та плоть, в меру которой оплотинился человек грехопадением.
1926
Творчество – восхождение, воссоединение.
Право, не есть ли одна из сторон материализации любви?
1926
Кто эти? – это сонм ученых, государственников, защитников отечества, изобретателей, художников и литераторов, – «сынов века сего», которым следует подражать в их настойчивости. Их взоры отвлечены и цели их самодовлеющи; они расточают «подобие» в своей обособленности. А эти? – это глупцы, они спасались послушанием, но они лишили себя и этого…
Там узрю я то, что вижу здесь.
Творчество – не самодовлеющая цель, а результат богообщения в осуществлении любви.
5 сент. 1926
Благословенна жизнь от плоти до духа, от брака в Кане – до видения Фаворского света, от низшего до высшего. Высшая степень – созерцание, когда забвенен во Христе образ ради первообраза. Иерархичность жизни души. Умное делание – основа делания на высшей из степеней; иногда полнота ведения и видения снисходит благодатно [далее зачеркнуто].
Осень 1926 года.
Мысли по поводу чтения
«Слов» пр. Симеона Нового Богослова
Благостью Божией и «внешнее» обращается на служение святости. Так стили Людовиков в храмах благочестия или в кельях подвижников.
[выдрано]
Икона есть тайна доступности метафизического бытия, отверзение неба и тайновидения вечного. Это уже – воскресение, мир будущего. Отклик вечной гармонии мироздания, синтез разрозненного, отвеянное зерно для паки бытия.
[зачеркнуто]
1927
Пожелание
В «отдание» отдать и эту Пасху сердцу своему.
«Отдание», май 1927
Капли утренней росы… Для одних они самоцветы, для других – лишь капля воды.
Мысли о старцах.
Июнь 1927
Понятно, что достижения человека по природе количественно больше, нежели достижения по соисканию действия благодати.
2 окт. 1927
Какая же взаимность? Я на каждом шагу щажу его безвкусие, а он на каждом шагу заставляет себя слушать.
Об о. П[авле] Ф[лоренском].
Окт. 1927
1928
Отвлекшееся в самоцельность «благочестие» 17 века – внешняя обрядность; отвлекшееся в самоцельность дворянство в 18 веке – барство.
17 июля 1928.
Котельники
Триединство: сущность, имя, жизнь.
Имя рождается; животворящее начало исходит. Нет исхождения без имени, нет имени без исхождения, нет имени и исхождения без сущности.
День пр. Серафима.
1928. Люберцы
Бюргеры – твердолобые пивные головы; их творчество Барокко, стиль досуга; конечно, это не стенания диапсалмической души средневековья.
Разбор серебра Дмитровского музея.
Октябрь 1928
[зачеркнуто]
Богосыновство – мы Христово подобие, разлитое в мире; мы живем – имясловим и, имясловя, святим имя и тварь.
По дороге в Люберцы.
Сентябрь 1928
«Да святится имя Твое» – освящение имени и призыв к нему.
Обедня 24 окт. в Дмитровском Борисо-Глебском монастыре.
Окт. 1928
Икона есть запечатление в Боге познаваемого.
Слово, порожденное истиной вне факта, реальнее слова-факта.
Соборность есть стильность мысли, как стильность есть соборность чувства.
Окт. 1928
Стилистическая претензия на натуралистичность.
Мысли о стилях XVII и XVIII веков
Возможно ли благочестие без поэзии?
Окт. 1928.
Котельники
1929
Как действительность вне случайного, так случайное – не действительность. Отсюда – безразличность Благовещения у колодезя, Благовещения в горнице, с пряжею или за чтением Писания. А сверххимическая претворенность евхаристии «несходность подобия» уже возводит до единосущности.
18 сент. 1929
[зачеркнуто]
Если стоит говорить о таких вещах, то не чуждо удовлетворения сознание разрушенной буржуазности и переплетенной с нею бытовой церковности.
Окт. 1929
[зачеркнуто]
Жажда продуха в толще самоограниченности.
Окт. 1929
[зачеркнуто]
Как хорошо Жуковский отстаивает свое выражение в переводе Одиссеи – «милое сердце».
(Письма Жуковского [к] Мойер-Протасовой)
Пушкин любил глубокую осень и зиму.
Ни Тургенев, ни Толстой зимы не поют, а Пушкин везде.
1930
Стиль, осязающий догмат…
«Вилли», «Ники», «Ники», «Вилли» – почему же уж не «высокопреосвященнейший Коко»!?
Человек и природа
XVII век – иерархическое еще отношение к природе.
XVIII – для человека, поглощенного самим собою, природа – декорация.
XIX – человек поглощается природою до самозабвения.
Март 930
Наука лишь именует априорное знание: «тот, кто от Истины», способен познать Истину.
По средневековому мировоззрению, наука, философия, диалектика – «служанки» догматической теологии.
930
Наука не исчерпывает знания.
1930
Сила соборного решения – в причастности Духу Святому, а не в большинстве голосов, как учили в семинариях.
Если действительность вне явления, то образу, стоящему между явлением и действительностью, не следует предъявлять требований идентичности с явлением.
1930
Красота – причастность Богу.
1930
«Что идет скорее, – спросил ребенок, – трамвай или время?»
1930
Формула «бытие определяет сознание» противоречит факту «воссияния света разума».
«Mais les Russes ont, comme tout d' autres peuples du continent le toit d' imiter la littérature francaise, qui, par des benulés même, ne couvceint qu’aux Frangais. Il me semble que les Russes devroient faire dériver leurs études litteraires des Grecs plutôt que des Latins. Les caractères de l’ écriture russe, si seur blables ä ceux les grecs, les anciennes communications des Russes avec l’ empire de Byzance [нрзб.], leurs destinées [нрзб.] qui les coud ront peut-être vers les illustres monuments d’ Athèns ce de [нрзб.], tout [нрзб.] porter les Russes ä l’etude du grec…»
M-me de Stael. Oeuvres complèts, XV, ch. XIV
Икона, картина, иллюстрация.
Церковь одно утверждает, другое допускает, третье отвергает.
Мысли по поводу «Млека пресв. Богородицы»
[зачеркнуто]
Как человечно:
«Юношу, горько рыдая, Ревнивая дева бранила, К ней на плечо преклонен, Юноша вдруг задремал, Дева тотчас умолкла, Сон его легкий лелея, И улыбалась ему, Тихие слезы лия».Пушкин, 1835
Вечер 21 ноября 1930. Котельники
Тело изображено, а тела нет.
М. Л. о вологодском «Распятии»
«От земли к небеси» поет канон пасхальный, a «realis ad realiora» постигает русская мысль.
1931
Не идейная обобщенность в себе самом замкнутого разума, а адекватность онтологического слова.
По поводу статьи Roger Fry
«Russian icon-paintings from a western European point of view» в книге «Masterpieces of Russian paintings».
1931
В. В. Розанов был стеснителен и не умел «хорошо говорить».
Т. В. Р[озанова] о своем отце. 1 мая 1931
«Муха-поденка».
В. В. Р[озанов] о Р.
Импрессионизм – натурализм без рассудочности.
1931
[далее зачеркнуты 3 записи]
Для себя
Дмитрий Васильевич Олсуфьев обо мне: «Ты слишком интеллигентен, чтобы быть аристократом, и слишком аристократичен, чтобы быть интеллигентом».
Западный Барокко – сама противоположность иконописи.
Ноябрь 931
Диалектика устанавливает соотношение категорий в их возрастающей причастности сущностному.
Ноябрь 931
[зачеркнуто]
Если нет красоты, то для изобразительного слова остается лишь подражание.
Ноябрь 931
[зачеркнуто]
Les zélés patriotes conçoivent l’avenir le plus heureux de cette nouvelle révolution, les tenants de la Cour regardent tout perdu, et les gens impartiaux et prudents disent il faut attendre.
Из письма кн. Б. В. Голицына матери
20 июля 1789 года. «Вяземы», стр. 111
1932
Естественное и сверхъестественное отличаются лишь степенями обычности, но то и другое в конечном счете одинаково непостижимо.
Апр. 932
Кто как не church [церковь] в лице ее даже самых не эстетических служителей никогда не утрачивала истинного сознания, что икона – holy.
Апр. 932
Посколько в жизни ты уступаешь духу зла, постолько в смерти темный ангел признает тебя своим. Два страха смерти: один – неведомого, другой (о котором не все знают) – страх темных сил. Первый преодолим, второй – ужасен.
Вся вопиющая бедность лютеранства как будто сказалась в четырех произведениях Рембрандта (по бедности человечества – «знаменитых»): Снятии со креста, Успении, Проповеди Христа и Его явлении в Эммаусе.
Апр. 932
Еванг[ельское] сказ[ание] о благоухающем драгоценном мире и о Иудином мнении его продать и деньги раздать нищим – образ православия и «гуманности».
Мы шли по опушке молодого дубового леса, залитого золотом заката. Особый, чуть кисленький запах прошлогоднего дубового листа. Ландыши. Вдали кукушка. Зяблик своим свежим свистом оглашает нежную, золотистую зелень. В лесной долине – душистая прохлада, и вдруг, притом так близко, защелкал соловей…
17/30 мая 932. Возвращаясь с С[оней] с поклонной Угрешской горы Гремячевским лесом
«H γάρ δνυαμίσ με εν αοθενεία τελεουται» (2 Коринф. 12, 9) и «In corpore sano mens sana».
Мы недостаточно учитываем, насколько мы принадлежим отрезку своего времени, из которого мы не только не можем судить верно о вечном, но и о другом таком же отрезке в прошлом.
Июль 932
Церковь – все причастное триединому Богу.
1932
«Как блеск зарницы, Ты сверкнула в жизни сей, Пала как слеза с ресницы, Ты душа души моей».
Надгробие. Оптина пустынь
[далее зачеркнуты 3 записи]
В Германии есть музей безвкусия, у нас он заменяется «торжественной службою» под престольный праздник в любой из больших церквей города Москвы.
Что есть жизнь как не приближение к смерти? Что есть жизнь как не ожидание?
Дек. 932
1933
Факт всегда деформируется словом, и пределы деформации в отношении случайного настолько широки, что как для исторической картины, так и для иконы случайное в факте изменяется в зависимости от требований диатаксической воли. Отсюда правда, скажем, Благовещения нисколько не нарушается тем, что в одном случае это Благовещение у колодезя, в другом – за веретеном.
Май 1933
Следует себя так перевоспитать, чтобы софийный храм как главный был бы потребностью.
Разве вы не знаете эти заброшенные усадьбы в хлухих уездных русских городках, эти свидетели давно забытой жизни. Вековая липа над тенистым прудиком, сочная трава и золотистые одуванчики, а там раскидистая одичавшая яблоня. Липа цветет, гудят и вьются пчелы, плоские водоросли ловят лучи, пробивающиеся сквозь густую зелень. Воздух насыщен ароматами кашек, сурепицы, аниса и цвета липы. Глядеть – жизнь в этих местах замерла, однако вы ощущаете ее: она волнует вас, касаясь легкими перстами [нрзб.] ваших чувств, ваших дум, вашей души…
6/19 июля 1933. Ржев – Старая Ладога
Прощаясь с жизнью
Хотел бы с ней проститься здесь.
10/23 июля 933. Старая Ладога.
Возвращаясь полями и лугами с Балковой горы.
Сущность вещей доступна ли внешним?
1933
Знание – причастность, наука – сопоставление.
1933
[далее изъято]
«Ночь то же, что смерть: она все идеализирует. Как материальный мир раскрывается перед светом, так мир духовный раскрывается перед ночью. Сколько мыслей, сколько чувств, сколько вдохновений, а прежде всего сколько воспоминаний ждут только безмолвия и уединения ночи, чтобы проснуться! О, как понятно становится в эти минуты, что душа во всей своей интенсивности будет жить только тогда, когда для нее исчезнет весь чувственный мир».
А. Ф. Тютчева. Воспоминания, 1853–55 (стр. 122)
Может ли быть искусство вне религии и религия вне искусства?
Фиолетовый цвет – цвет короткой, проникающей плоть волны, вот почему это цвет Ц[ерк]ви.
5 дек. 933
Искусство как вера – знание вне науки.
Дек. 933
«Святой же Трифон … рече: тебе глаголю, душе нечистый… явися очевидносущим зде…»
Из жития муч[еника] Трифона. Минея. 1 февр.
Ю. А. Олсуфьев и С. В. Олсуфьева в Старой Ладоге. 1933. Любительский снимок из экспедиции Олсуфьевых по обследованию фресок XII века в Георгиевской церкви в Старой Ладоге
С. В. Олсуфьева в лодке на пути в Сковородский монастырь. Новгород, 1932. На оборотной стороне фотоснимка рукою Ю. А. Олсуфьева сделана пометка: “Поездка на лодке в Сковородку накануне Троицына дня. 932. Соня на лодке“
«В пещи дети образы чувственными сокровенныя Божия тайны миру проявиша».
Минея месячная.
Декабрь.
Неделя Перед Рождеством.
Канон утрени.
Постижением зла познается истина добра.
«Пресуществление» = pxrouoicoois наравне с древним «преложением» = pxTanoir|ois – с V века, когда впервые было употреблено патриархом константинопольским Геннадием. То, что было непреложно для Дионисия Ареопагита, в V веке требовало смыслового уточнения.
[1934]
Видение красоты природы есть слово, или красота природы есть ее образ, являемый в слове
10/23 апр. 934
«Действительность», распространяясь на «причастное», не есть только сущее.
О, если б запись эта была хотя бы тенью тени…
10/23 апр. 934
Свидетельство добра есть истина.
Сегодня мои именины, В древний я храм захожу Кругом так уютно теснятся могилы, Весело зяблик в березах поет…
И мнится мне чудный подарок, Лишь бы зажмуркой его получить, За дверью могильной он ведь лежит.
Вешняки. 23 апр. 934
Жизнь – оправдание смерти.
2 мая 934
[зачеркнуто] [зачеркнуто]
У Николы Липенского. Сторож церкви Дмитрий и Юрий Александрович Олсуфьев. 1934
Изображению непосредственно предшествует не видение, а представление той или иной степени отвлечения.
По поводу композиции Сошествия во ад. 1934
Стихи Часослова – канва для узора стихир Минеи.
С[оня]. Всенощная под Дмитров день. 25 окт 1934
Прекрасен мир античности, но лишь тогда, когда мы обладаем полнотою истины.
Манящие дали заменились лесом, за которым фабрика…
Несчастна та часть человечества, для которой смерть остается не побежденной.
[1935]
Иконопись воспринимает Христа всегда на ином уровне? нежели арианствующий (в корне) Запад.
1935
Западное творчество обеднело умалением Параклита, тогда как Ц[ерковь] воспевает о душе – «чистотою возвышается» (душа под действием Св. Духа).
1935. Мысли о Тинторетто и …
Просят и не получают, потому что у источника жизни просят смертное.
1935
Ум, «низведенный» в сердце, и «отвлеченный» разум.
1935
В западных примитивах – знаменательная деталь – присутствие не видящих духовное событие (Вейден, Пахер).
1935
Пантеизм открывал эллинскому миру красоту земную.
1935
Различие даров – богословствующая Александрия и юродствующая Русь.
1935
Талантливое отвернулось от Церкви, не выдержав испытания разума, а остальное не способно было даже удержать уставность.
1935
Настанет ли время, когда законы природы будут сводиться учением к закону любви и когда потребность в евхар[истическом] соединении будет столь же велика, как в естественной любви?!
1935
Церковная красота, облепленная человеческим безвкусием.
Убежденность часто влечет за собою жестокость.
1935
Ц[ерковь] распространяет понятие видимого на чувственное, сверхчувственное и созерцаемое.
Искусство – творчество, соотнесение с сущностью, низводящее красоту.
1935
Приобщение крови возвращает слово праведника, заключенное в Тартаре.
Одиссея
Восемнадцатый век – век забвения.
Девятнадцатый – нигилизма.
Красота благочестия существеннее красоты видимого.
Разум веры сообразный.
Древо Жизни и древо познания, – «боги» и «как боги», две культуры.
1935
С С[оней] на горке, синие дали, полная река. Назад через Гремячево опушкою дубового леса. Свежесть дубовой листвы, зяблики, ландыши и белые душистые цветочки – «фофочкины ландыши», как их называет С[оня].
12 июня / 30 мая 1935
Новгород с его поросшими ромашкою тихими улицами под тенью вековых лип, дубов и ясеней, на которых вас останавливает прохожий и спрашивает – тут ли проживает Лука Егорович…
Июль 1935
Время есть не-до-разумение.
1935
[1936]
Тайна мира затемнена привычностию и с точки зрения его мнимой понятности отвергается тайна непривычного.
Апр. 1936
Тогда, как и теперь, существенное терялось в случайном.
Мысли о Распятии. 1936
Монументальность дал Египет, пластичность – Еллада, красочность – Восток.
Византийское искусство создало форму для глаза, способную выражать глубочайшие стороны внутреннего мира, форму, равной которой не знает ни Восток, ни античный мир, ни даже христианский Запад.
Изучение иконы Б[ожией] М[атери] из Мурома. 1936
Образ – запечатленная соотнесенность изображаемого с его сущностью, с преобладанием представления об изображаемом в аспекте случайного или постоянного.
9 сент. 936
Знание, обедненное до знания научного.
Сент. 936
Не в умалении ли Параклита причина устремленности Запада к натурализму, ибо «Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается» (Антифон, 4 гл.).
Мысли о живописи и иконописи. 1936
Закон ветхозаветный – буква, лишенность онтологического начала, даруемого причастием, когда буква в своем отвлечении уже «мертвит».
Ноябрь 1936
Для «внешних» – притча (периферия), для «внутренних» – преображение (сущность).
Марк 4, 11
Опреснок – лишенность сущности.
1936
Ирод верил в возможность воскресения.
1936
Человечество стремится победить смерть, не желая видеть, что она побеждена воскресением.
Ц[ерковь] и светит, и греет, и радует, и так беспредельно.
[зачеркнуто]…в основе которой одна из внешних добродетелей – смирение.
24 дек. 936.
С[оня]
«Тихому бо молчанию содержащу вся и нощи в своем течении преполовляющейся, всемогущее слово Твое, Господи, с небес от престолов царских жесток ратник в средину погибельные земли снидь».
Рождественская служба.
Выписка М. Л.
Древо жизни и древо «познания» (также Богом насажденное) – две степени человеческого бытия.
1936
Люди – «боги» или «как боги», почему же не человеко-Бог?
1936
Причащение – соделание причастным. О, бесценное, ни с чем не сравнимое сокровище!
1936
[1937]
Атом, окруженный электронами, и солнце с его системою – единая притягательная сила.
1937
Возвышая образ до реальности, икона никогда не изображает призрака.
1937
Не наука дает знание, а знание науку.
Май 1937
Наука не разрешает важнейших проблем чел[овечест]ва: счастья, жизни, смерти.
Обрезание – отсечение крайней плоти, отсечение крайнего м-ма ветхозавет ным материалистическим законом.
Порою живешь лишь одним днем, даже часом, порою же мечтательно простираешь свою жизнь на месяцы, годы…
Истина светит, и куда падают ее благотворные лучи, там и только там – жизнь и счастье.
Притча Н[ового] З[авета] – высшая, обобщеннейшая концепция, изложенная в периферийной форме.
Враждебность Ц[еркви] – безвкусие.
Искусство – возвышение, и нет искусства там, где нет «пр. – них».
См. cтр. 105
Молодость, вселяясь в новое жилье, – «здесь мы будем жить», старость – «здесь мы кончим свои дни».
Косино. Новый дом. 1937
Красота – такая же реальность, как вновь появившаяся звезда.
1937
1930-е годы
Из книжки I, л. 8 об.
Не всякая тема одинаково доступна всякому стилю.
[зачеркнуто]
Из книжки I, л. 10
Добром и злом свидетельствуется истина.
Свидетельство доступного о недоступном
Из книжки I, л. 69 об.
Прошлое возбуждает чувство таинственного, ибо прошлое трансцендентно живет в настоящем.
Из книжки II, л. 36
Полнота образа сосредоточена в едином совершенном образе рождаемого Слова.
Мысль при чтении II тома св. Афанасия Великого
Из книжки II, л. 67 об.
W. спросил мудреца – какие судьбы ожидают Америку? Ответ: зависит от того, как будет мнить себя А[мерика], – крайним Западом или крайним В[осто ком].
Из разговора проф. W. с о. П[авлом] Ф[лоренским]
Из книжки III, л. 17
«Мы уже не без упования, но уповаем на жизнь вечную».
Из Слова м[итрополита] Иллариона с похвалою в[еликому] к[нязю] Владимиру, XII век
Из книжки III, л. 46 об.
Русская монархия пала от безвкусия (мысль, брошенная Александром Бенуа); не на том же ли пути и русская общественная церковность?
Из книжки III, л. 47
«Торжественная» служба и приходская пошлость едва ли не синонимы.
Из книжки III, л. 65 об.
Каждый новый закон естествознания открывает все большие глубины космических тайн.
Из книжки III, л. 65 об.
Вселенная после грехопадения – лишь след исшедшей силы, но не самая сила, как полагала античность.
Приложения Несколько слов от издателя
Впервые я услышал о Юрии Александровиче Олсуфьеве от А. Н. Свирина в 1970 году. В те далекие времена Ю. А. Олсуфьев представлялся совершенно мифической фигурой, хотя еще были живы некоторые свидетели его десятилетней работы в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Одним из таких свидетелей была дочь скончавшегося в Сергиевом Посаде В. В. Розанова Татьяна Васильевна, записавшая неоднократно публиковавшиеся краткие воспоминания об Ю. А. Олсуфьеве и о. Павле Флоренском – двух ведущих научных сотрудниках названной Комиссии. Позже я познакомился с племянницей Ю. А. Олсуфьева Екатериной Павловной Васильчиковой (1906–1994), которая в 1920-е годы жила в семье Олсуфьевых и благодаря которой я почерпнул немало ценных фактов для реконструкции биографии Ю. А. Олсуфьева и его научного наследия. У Е. П. Васильчиковой я нашел, в частности, много дублетов ценнейших и редчайших книжек Ю. А. Олсуфьева, которые издавала лаврская Комиссия по описанию церковных древностей Сергиева монастыря (их тиражи колебались от 100 до 250 экземпляров).
По крупицам собирая сведения об Ю. А. Олсуфьеве, я натолкнулся на еще одного свидетеля его «трудов и дней» – Валентина Сергеевича Попова, работавшего совместно с Ю. А. Олсуфьевым недолгое время в Центральных Государственных реставрационных мастерских в 1932–1934 годах. После ликвидации этих мастерских весною 1934 года их пути разошлись: Ю. А. Олсуфьев перешел на должность эксперта в Отдел темперной живописи Государственной Третьяковской галереи, а В. С. Попов – в организованную в связи с сооружением Дома Советов Всесоюзную Академию архитектуры. Рассказы В. С. Попова об Ю. А. Олсуфьеве были настолько красочны и отличались настолько точным изложением фактического материала, что я тогда же попросил автора изложить свои рассказы на бумаге. Пунктуальнейший В. С. Попов сдержал свое обещание написать об Ю. А. Олсуфьеве, и спустя не более месяца я получил от него рукопись, которая и печатается в настоящем сборнике. Думаю, что это последний штрих для восстановления подлинного облика выдающегося ученого.
В настоящее время мы знаем об Ю. А. Олсуфьеве достаточно много и в полной мере можем оценить его вклад в историю открытия и изучения русской средневековой живописи – той отрасли науки, которой он отдал почти двадцать лет жизни: с 1918 по 1937 год. Последняя дата знаменательна для России, и читатель не обманывается, когда предполагает о репрессиях в отношении Ю. А. Олсуфьева. Он был арестован в январе 1938 и расстрелян 14 марта 1938 года.
Г. И. ВздорновВ. А. Комаровский. Портрет Юрия Александровича Олсуфьева. Между 1918 и 1925. Частное собрание, Москва
Т. В. Розанова Мои рассказы о друзьях моего отца – Юрии Александровиче Олсуфьеве, Сергее Павловиче Мансурове и Павле Александровиче Флоренском
В 1918 году, когда я наконец устроилась на работу в Комиссию по охране Троице-Сергиевой лавры в качестве машинистки, наша канцелярия недолго находилась в митрополичьих покоях, а затем нас перевели в здание, находившееся вблизи от левых Святых ворот – там была у нас канцелярия, а рядом была канцелярия комиссара Волкова. Я к тому времени уже хорошо научилась писать на машинке. Писала я всякие бумаги, удостоверения, отношения в Исполком, в Москву, командировочные удостоверения сотрудникам, так как только по ним можно было проехать в Москву, а также переписывала инвентарные описи и отдельные статьи Юрия Александровича Олсуфьева, которые впоследствии вошли в его книгу. Павлу Александровичу Флоренскому я не могла писать под его диктовку, а сам он писал так, что ни один человек не мог его прочесть, потому что он знал такое количество языков, что в процессе своей творческой работы он перепутывал буквы всех языков. Поэтому для него взяли другую машинистку – Веру Александровну Введенскую, очень грамотную и толковую, которая и писала ему под диктовку. Комиссар и хозяйственники косились на то, что во время работы пишутся непонятные научные труды, и меня часто в этом упрекали.
Не помню в какой период времени наша канцелярия и научная часть нашей Комиссии была переведена в бывшие покои наместника лавры.
Как я уже говорила, председателем Комиссии был назначен Бондаренко, затем он был вскоре снят с работы, а его должность занял Юрий Александрович Олсуфьев. Ученым секретарем Комиссии был назначен Павел Александрович Флоренский. Оба они очень много вложили труда и работы в это дело. Юрий Александрович и Павел Александрович произвели инвентаризацию всех ценностей ризницы, фондов, с полным научным описанием музейных предметов, так что в настоящее время многие научные работники удивляются тому, как двое ученых смогли сделать такую огромную работу. Раньше в ризнице монастыря предметы были записаны только под номером, без научных описаний и без их точного определения.
Обыкновенно Юрий Александрович и Павел Александрович брали из ризницы или из фондов музея церковные предметы или книги, делали описи и определяли время их создания. Всю эту работу они производили в комнате рядом с нашей канцелярией. Я часто заходила в ту комнату и видела их работу. В комнате у них было очень холодно, Я удивлялась их терпению и выносливости, но они, погруженные в работу, ничего не замечали. Сделав на нескольких страницах опись, Юрий Александрович сдавал их мне перепечатать. Сколько через мои руки прошло его работ! Но я была еще молода и не понимала всей ценности его трудов.
Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. 1425–1427. В своей “Описи икон Троице-Сергиевой Лавры” Ю. А. Олсуфьев поместил пространные исследование всех икон иконостаса – уникального памятника русской художественной культуры
В настоящее время там, где находилась канцелярия и комната научных сотрудников, теперь помещается библиотека Загорского историко-художе ствен ного музея, а рядом кабинет директора музея и маленькая канцелярия.
Мне хочется обрисовать облик Юрия Александровича Олсуфьева. Он был невысокого роста, широкоплечий, с довольно большой головой, с небольшой лысиной. Волосы были каштановые, прямые, лоб большой, умный, глаза карие, несколько выпуклые, миндалевидной формы, густые брови, небольшие бакенбарды и борода. Руки у него были полные, выразительные, с крепкими выпуклыми ногтями. На правой руке он носил красивый, очень богатый перстень с крупным изумрудом. Вся же одежда была очень простая – толстовка из сурового материала, поверх нее синяя тужурка и шаровары из того же материала со штрипками. На ногах у него были мягкие, черные, высокие сапоги. Походка у него была твердая, он шагал широко и уверенно.
Коллектив Музея в Троице-Сергиевой Лавре. Лето 1925
Юрий Александрович был на работе всегда подтянут, аккуратен, исполнителен, молчалив, погружен всецело в свои занятия. На собраниях он редко бывал. Таким же молчаливым, серьезным был он и дома. Так же много работал по вечерам над своими научными трудами. Я часто по вечерам у них бывала, заходила, главным образом, к Софье Владимировне. Бывало, сижу у нее в комнате, а Юрий Александрович уже зовет ее: «Соня, Соня, поди сюда!» Без Софьи Владимировны он не мог быть ни минуты, всегда ему надо было чувствовать ее присутствие. Иногда я у них оставалась пить чай на веранде, застекленной. С нами садилась пить чай его племянница, Екатерина Павловна Васильчикова, и их домашняя работница Саша (сиротка, бывшая воспитанница их приюта), которая им была очень предана и очень любила их. Юрий Александрович любил со мной разговаривать и подшучивать, но вообще он был строгий и молчаливый и особенно не любил гостей, да, правда, к ним редко кто и приходил. Однажды, смотрю, вдруг Юрий Александрович выскочил из-за стола и куда-то убежал. Я очень смутилась и ничего не поняла, а Софья Владимировна мне объяснила: «Он пошел и спрятался на чердак», – это потому, что пришла в гости мадам Хвостова, которую он недолюбливал, да и вообще он не выходил к гостям.
Совсем другим человеком был его родственник, Сергей Павлович Мансуров. В Первую мировую войну они вместе работали в Земском союзе. Лето перед Февральской революцией они вместе жили на юге, кажется, в Мцхете. Осенью 1917 года они купили дом в Сергиевом Посаде, на Валовой улице, и поселились там. Юрий Александрович с Софьей Владимировной, с племянницей и с воспитанницей Сашей поселились в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил Сергей Павлович Мансуров со своей женой Марией Федоровной.
Дом в Сергиевом Посаде, в который переехали Олсуфьевы в 1917 году. Современный вид
Сергей Павлович Мансуров был секретарем Комиссии и моим начальником. Это был молодой, красивый, высокого роста человек, с удивительно лучистыми, добрыми, карими глазами и мягкой улыбкой. Особенно хороши были его руки с красивыми, изящно-удлиненными пальцами – таких рук я потом в жизни никогда ни у кого не видала. Он был совершенно иного характера, чем Юрий Александрович. Это был общительный, приветливый и очень мягкий человек. Он всегда старался всем помочь и как-то всех обласкать. Я очень сердцем к нему привязалась на всю жизнь. Видела в нем все совершенства, кроме одного – я никак не могла понять, как это он так опаздывает на работу и всегда очень беспокоилась за него. Но он приходил невозмутимо на работу, предварительно зайдя в Троицкий собор, приложившись ко всем иконам, и только затем появлялся в канцелярии, почему-то всегда, неизменно, с большим мешком за плечами, так как с работы он шел за продуктами.
Сергей Павлович Мансуров (1890–1929). Историк церкви и священник Дубровского монастыря около Вереи
Начинался рабочий день. Я печатала на машинке, он разбирал бумаги, иногда он уходил куда-то работать, разбирать на чердаке редкие рукописи Троице-Сергиевой лавры. По ним он делал большую работу– описание этих рукописей, – и потом он написал большую статью об этих рукописях, которая должна была быть помещена в сборнике, посвященном Троице-Сергиевой лавре. В этот сборник должны были войти также и статьи Флоренского, Олсуфьева и М. В. Шика. Этот сборник был сброшюрован, но не вышел – он был запрещен. В настоящее время этот сборник имеется в небольшом количестве в главных библиотеках Москвы и является уникальной ценностью. В этой своей статье Сергей Павлович проводил мысль о том, что в древние времена русский читатель был вдумчивее; в то время, как в XV веке чаще читали Исаака Сирина, Ефрема Сирина, «Шестоднев» Василия Великого, то уже в XVII веке чтение становилось более легким. Стали читать Прологи, Жития святых. В настоящее время эти древние рукописи и книги XIII–XVII веков перевезены в Публичную библиотеку имени Ленина.
В то время, когда я работала в Комиссии по охране памятников лавры, по утрам часто мы ходили с Софьей Владимировной в скит, который был тогда ещё не закрыт, там шла прекрасная монастырская служба, храм был красивый, с чудесным иконостасом деревянной резьбы и старинными иконами. Этот храм прилегал к бывшим покоям митрополита Филарета, который здесь имел обыкновение отдыхать летом. Теперь этот храм разрушен, а предметы церковного обихода вывезены, кажется, в музей Троице-Сергиевой лавры.
С нами часто по воскресеньям ходил и Сергей Павлович Мансуров с женою. Это были чудесные дни – прекрасная дорога, красивые виды по сторонам, и интересные беседы Сергея Павловича. Ходила я и в Параклит – это десять верст от нашего города. Леса стояли изумительные, хвойные вперемежку с березовыми. Это та самая дорога, по которой хаживал некогда художник Михаил Васильевич Нестеров, пейзажи на его картинах – повторение этих видов. Однажды, возвращаясь из Параклита, я встретила его, уже стариком, с мольбертом в руках и с эскизами. Он шел, углубленно задумавшись, и я его не остановила, а он, скорее всего, меня даже не заметил.
Так в течение многих лет мы ходили в скит, до тех пор, пока он не был закрыт.
В 1920 году Сергея Павловича Мансурова уже не было в музее – он принял сан священника и служил в Оносинском монастыре. При монастыре с ним находилась и его жена.
Павел Александрович Флоренский (1882–1937). Выдающийся ученый и мыслитель. С 1918 по 1923 – член Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры
Когда я еще в 1916 году жила одна в Троице-Сергиевой лавре, я почти каждым день бывала в семье Флоренских. Мне нравился их спокойный дом, тихие, послушные дети, заботливая теща Флоренского Надежда Петровна Гиацинтова, приветливая жена Павла Александровича – Анна Михайловна, и интересные беседы с Павлом Александровичем. Он видел отлично мое убитое душевное состояние, так рано пошатнувшееся здоровье, неудовлетворенность и недовольство собой, печаль о неустройстве нашей семьи, болезнь бедной матери, полная растерянность от всех обстоятельств жизни. Он чувствовал, что я слишком отвлеченная, что меня необходимо поставить на землю, старался привить мне какие-то практические навыки, обращал мое внимание на бытовую сторону жизни, которую я в то время совершенно презирала и не выражала совершенно никакого к ней интереса. Тут он высказал вообще свой взгляд на жизнь, говорил, что нельзя сосредотачиваться на одной духовной стороне жизни, считал это даже грехом. Говорил, что дух и плоть – это одно, все связано, и что внимание должно быть обращено и на физическую сторону жизни – это угодно Богу. Он всячески отговаривал меня от чрезмерной аскетической настроенности жизни и чтения очень высоких духовных книг.
Павел Александрович предвидел здесь, как очень умный человек, возможность духовного срыва и боялся за меня. За это я ему осталась очень благодарна. Я все больше и больше привязывалась к их семье, особенно к нему. Я даже не могла подумать, как же я буду жить в Петрограде в своей семье без него. Судьба помогла мне. Из родного дома приходили печальные вести. Вера все болела туберкулезом я лечилась в санатории. Варя и Надя учились еще в гимназии, Вася служил в интендантстве армии, не кончив Тенишевского училища. Отец с матерью оставались с двумя сестрами, Варей и Надей, в Петрограде, от мамы в Посад приходили печальные письма, и П. А. Флоренский посоветовал мне ехать домой. Я уехала с грустным чувством. Тогда мне казалось, что более интересного, глубоко-духовного, умного и замечательного человека я в жизни не встречала и не встречу. Все мне в нем нравилось: и тонкая интересная беседа, и даже его наружность. Другие находили его некрасивым, а мне он казался прекрасным. Особенно мне нравилось его изящество какое-то, и внутреннее, и внешнее. Оно очаровало меня и ввело меня в некоторое заблуждение. Я считала, что это тот человек, который может мною духовно руководить. Теперь мне кажется, что я глубоко ошибалась, но тогда я этого не понимала. В сущности, он был глубокий пессимист, в нем было мало благодати и много рационализма. Мне кажется, он и сам это сознавал, потому что раз он при мне сказал: «Теперь бы я не написал книгу “Столп и утверждение истины” – она меня не вполне удовлетворяет». А между тем эта книга сыграла колоссальную роль в тогдашнем обществе. Вся сознательная интеллигенция зачитывалась ею и полагала, что нашла все ответы на свои духовные запросы.
Мне хочется обрисовать и его внешний облик. Павел Александрович был довольно высокого роста, худощавый. Особенно привлекательна в нем была форма его головы – несколько уменьшенная по отношению ко всей фигуре. Он держал ее склоненной к правому плечу и глаза его всегда были опущены вниз. Он был сильно близорук и носил очки. В плечах он был насколько сутуловат, дома он всегда ходил в холщевых белых подрясниках, с широким темным поясом, на котором были вышиты слова молитвы. На груди он носил большой иерейский серебряный крест. Его облик запечатлен в двух портретах – в работе М. В. Нестерова, где он изображен с С. Н. Булгаковым («Мыслители»), и в другом портрете художницы Н. Ефимовой.
Когда мы переехали всей семьей в 1917 году в Сергиев Посад, то тут началась тяжелая материальная жизнь для всех, так что мы только изредка бывали у Флоренских, а иногда Павел Александрович сам приходил к нам. Мы угощали его чем могли. Однажды и Анна Михайловна была с ним у нас. Помню, мы откуда-то достали мед и эту большую банку поставили на стол. Когда папа умирал в 1919 году, Флоренский приходил к нам и принимал горячее участие в похоронах, а затем стал все реже и реже бывать у нас. А когда сестра Аля приехала к нам к весне 1919 года, то она стала часто бывать у Павла Александровича Флоренского, помогая ему в его работе (она писала под его диктовку его статью об обратной перспективе в живописи). Сестра пришла в восторг, рассказывая нам об этой замечательной статье. Флоренский где-то упоминает об этом случае и благодарит сестру Алю (Александру Михайловну Бутягину) за помощь. В настоящее время, в 1969 году, эта статья, напечатанная в городе Тарту, в журнале «Ученые записки Тартуского университета», вып. 198, обратила на себя внимание ученого мира.
Мне было очень горько и обидно, что я не умею печатать под диктовку Павла Александровича, и я втайне завидовала сестре, горько размышляя о том, что на мою долю остается только домашняя тяжелая, грязная работа и страшная нужда. От Флоренского я все дальше и дальше отходила. В 1920 году умерла моя сестра Аля. Павел Александрович Флоренский ее отпевал.
Вскоре церковь, где служил Павел Александрович и где отпевал он мою сестру, была закрыта, и Павел Александрович, не сняв рясу, стал работать в Москве в ВСНХ по научной части. Но ем у все же пришлось расстаться с рясой, и он ходил в каком-то нелепом тулупе и шапке-ушанке. В таком костюме я видела его однажды у него дома и ужаснулась, – так не шла ему эта одежда. Он тоже казался смущенным.
19 января 1971 годаЮрий Александрович Олсуфьев. После 1928. Частное собрание, Москва
В. С. Попов Ю. А. Олсуфьев, каким я знал его полвека тому назад
С Юрием Александровичем я работал два года в Центральных Государственных Реставрационных Мастерских, а затем часто встречался с ним по работе до его исчезновения. Супруга его, София Владимировна, была близким сердечным другом и моим, и матери моей, но об этом чудеснейшем человеке, едва ли не лучшим из людей, с которыми скрестились жизненные пути, я расскажу, если успею, особо.
Отличительной чертой Юрия Александровича было стремление ничем не выделяться из окружающих, но личность, облик и скромность его поведения с первой же встречи оставляли впечатление незаурядного ума, выдержки и врожденной порядочности, культивированными воспитанностью многих поколений его семьи. В нем не было ни подавляющей претенциозности проф. А. И. Некрасова, ни медоточивой навязчивости проф. Н. А. Кожина, не проявлялось и благостной смиренности проф. Ал. Ник. Свирина и уж тем более – болтливости Н. Н. Померанцева, вечно бродившего по комнатам мастерских и пускавшегося в воспоминания о собственной деятельности, зацепившись за любой, даже вовсе не идущий к делу повод. Даже не припоминаю случая, чтобы Олсуфьев приходил в другие комнаты без какого-то служебного дела.
Будучи невысок ростом, Юрий Александрович обладал крепкой кряжистой фигурой, свидетельствовавшей о физической силе и хорошей подготовке в молодости, военной или спортивной. В 1930-х годах он уже немного сутулился, голову слегка склонял к плечу, особенно когда работал, имел лысину, но волосы, почти совсем седые, стриг коротко и носил усы и небольшую бородку. Одевался он просто, но очень опрятно. Обычно ходил в куртке серого сукна, переделанной, видимо, из какой-то офицерской одежды, а летом – в темно-серой толстовке. Вместо шубы зимою у него была какая-то бекеша, а на голове теплая шапка типа папахи.
Палата, в которой размещались мастерские древней и новой живописи, была самым холодным из наших помещений, так как при большой высоте сводов приходилась над неотапливаемой лестницей. К тому же имела по три окна в трех ее стенах. При тогдашней необеспеченности топливом температура в мастерских была очень низкой, и как реставраторам, так и Юрию Александровичу часто приходилось работать в перчатках с обрезанными пальцами, но у него мерзла и голова, и он часто надевал каракулевую кубанку (или, как их звали в просторечии, «бадейку»), введенную для военной формы во времена Александра III.
Екатерина Павловна Васильчикова (в замужестве Егорова) и Юрий Александрович Олсуфьев. Деревня Мешаловка под Москвой. 1932. Частное собрание, Москва
Работал Олсуфьев за небольшим столом подле задней, глухой стены палаты. В ряд с ним, ближе к входу, работала младший сотрудник подчиненной мне фототеки Кс. Ал. Фомичева, к которой я часто заходил. В фототеке скопилось за долгие годы много не записанных в инвентарь негативов, нуждавшихся в определении, что требовало напряженного труда, так как текущая работа мастерских сильно разрослась и от фиксации большого числа архитектурных памятников и от приобретения коллекций снимков, сделанных сторонними фотографами в прошедшие годы. Меж Юрием Александровичем и Ксюшей, как многие звали дружески Фомичеву, отношения были теплыми, так как ему приходилось определять для внесения в инвентарь большое количество негативов по древнерусской иконописи и фрескам, требовавшим спецификации научных знаний, которыми другие сотрудники ЦГРМ не располагали. К тому же в фототеку поступали и негативы, заснятые Софией Владимировной во время летних продолжительных командировок в северные города и их округи (Новгород, Псков, Тверь, Ярославль). Выезжая туда с нею, Юрий Александрович брал часто Николая Яковлевича Епанечникова для работы по укреплению фресок. По рассказам последнего, жизнь супругов Олсуфьевых там поражала своей скромностью и нетребовательностью в пище, ограничивавшейся часто вареной мелкой рыбешкой и картофелем, порою даже без растительного масла.
Дом Ю. А. и С. В. Олсуфьевых в Мешаловке. Начало зимы 1931. Частное собрание, Москва
Единственным научным сотрудником Секции древней живописи была Екатерина Александровна Домбровская, приходившаяся родственницей знаменитому, но в 1919 году сошедшему в могилу Н. Е. Жуковскому. Она и жила у Мясницких ворот в Мыльниковом переулке, тогда уже носившем его имя. Это была высокая малоразговорчивая дама с небольшими глазками и скрипучим голосом. Работала она над темой отслоения без утрат позднейших, но имеющих ценность записей, и увлекалась проблемой все более широко осваивавшегося анализа памятников путем их рентгенирования. Ходила Домбровская в черном халате, но со скальпелем в руках подле расчищавшейся иконы я видел ее крайне редко. Стол ее стоял наискось от стола Олсуфьева против стола Фомичевой, то есть к ним обоим лицом.
За своим столом Юрий Александрович всегда был занят работой: то заполнял карточки по учету памятников монументальной и станковой живописи для ведшегося им обширного каталога, то определял негативы, надписывая прокладываемые между ними бумажки (негативы в те времена, как правило, были на стеклах), то вел журнал текущей работы. Много времени отнимало составление планов и отчетов, а также выписка различных материалов и химикатов через хозчасть. Обычно весьма грубый с другими зав. секциями, завхоз наш, рыжий Чижиков, с Юрием Александровичем голоса никогда не повышал и в исполнении заявок его был весьма предупредителен.
Все трое реставраторов и расчищавшиеся ими памятники были перед глазами Олсуфьева, и он часто подходил к тому или другому из них по проблемам, возникавшим по ходу расчистки или закрепления. Слева от стола Олсуфьева работал Суслов, человек довольно благодушный и приветливый; на лбу его возвышалась весьма приметно круглая, как ягода, родинка. Далее у среднего окна боковой (западной) стены помещался косой и вечно чем-то недовольный И. А. Баранов, а в дальнем углу, освещаемом окнами как западной, так и северной стен, трудился над крупногабаритной и важной по художественно-исторической ценности иконой Василий Осипович Кириков, в то далекое время совсем еще молодой и своей красивой внешностью напоминавший персонажей картин Нестерова. На моей памяти за 1932 – весну 1934 года в этом «углу» проходила расчистка таких памятников, как «Архангел» XIII века из Михайловской церкви в Ярославле, громадный «Георгий» в рост из новгородского Юрьева монастыря, Рублевская «Богоматерь» из Васильевского чина Успенского собора во Владимире, наконец фигура Николы из Можайска, покрытая многослойной пестрой раскраской, но сохранившая великолепный чеканный золоченый венец с камнями XVI века.
Софья Владимировна Олсуфьева на фоне своего портрета работы В. А. Серова. 1931. Деревня Мешаловка под Москвой. Частное собрание, Москва
Софья Владимировна Олсуфьева в своем доме в Мешаловке под Москвой. 1932 или 1933. Частное собрание, Москва
С реставраторами, выросшими на чисто ремесленных традициях, Юрий Александрович держался в своих отношениях на определенной дистанции, не допуская никакого панибратства и не опускаясь до мелкого пререкательства. Споры иногда между ним и мастерами возникали большей частью по каким-то производственно-бытовым, а не академическим проблемам, причем «заводилой» всегда выступал Баранов, грубый и не воздержанный на язык; Суслов так же быстро смирялся, как вскипал, а благообразный Кириков держался на заднем плане, но, сколько я мог заметить, именно он-то и бывал инициатором; подбив «стариков», он некоторое время им поддакивал, а убедившись, что спор их с Олсуфьевым разгорелся, отходил в тень. Помнится, что когда нужно было «жать план» (тогда в Третьяковской галерее впервые развернули и продолжали более расширять экспозицию памятников древнерусского искусства), то над одним образом работали двое мастеров, а порою к ним подключалась и Е. А. Домбровская. Обычая задерживаться по окончании рабочего дня у секций, занятых непосредственно реставрацией, не было, в отличие от секции Архитектурной, где часто самая интенсивная деятельность развивалась под вечер, то в связи с приездом кого-то с важными новостями с периферии, то при консультации обмерщиков, дороживших на объекте светлым временем и тратившим много времени на тогдашнем транспорте, чтобы добраться до нашей Берсеневки.
Сам Олсуфьев жил за городом, приобретя после переселения из Загорска половину скромного домика в поселке «Ухтомская», минутах в двадцати езды по Казанской железной дороге. Метро тогда только еще строили, многие магистрали были перекрыты для производства строительных ра бот, и на поездки по городу приходилось затрачивать очень много времени.
Я никогда не слыхал от Юрия Александровича никаких рассуждений о магазинах или продуктах, достававшихся в ту пору с большим трудом. В столовую соседней кондитерской фабрики, к которой мы с трудом прикрепились, он с нами не ходил и, сколько помню, ограничивался скромным завтраком, взятым из дома, да кружкой чая, кипятившегося нашей вахтершей.
Иногда Олсуфьева как знатока приглашали на обсуждения реставрационных проблем в Секцию декоративного шитья. Так, оказал он большую помощь в нахождении правильных соотношений вышитых частей знаменитого так называемого «Знамени Сапеги» из ростовского Борисоглебского монастыря. Некогда они были вырезаны из первоначальной фоновой ткани и нашиты на новую, имевшую совсем иную конфигурацию, без всякого соблюдения изначальной композиции.
Но он никогда не ходил на закрытия действующих церквей, случавшиеся в те годы (1932–1935) по два-три на месяц. Обычно туда собирались представители ряда музеев в надежде обнаружить для своих коллекций какую-нибудь редкость. От Третьяковской галереи ходили Е. С. Медведева и З. Т. Зонова, от Антирелигиозного музея, размещавшегося в б. Донском монастыре, Н. Е. Мнева, от Гос. Исторического музея – Е. С. Овчинникова (правда, нерегулярно), от ЦГРМ же обязательно присутствовал В. С. Попов с фотографом Н. Я. Епанечниковым, детально фиксировавшим памятник в части как интерьера, так и архитектуры, вплоть до привязки ее к местности. Наиболее детально фиксировались здания, заведомо обреченные на слом и потому, согласно введенному узаконению, подлежавшие детальному обмеру. Даже ког да создавались комиссии для решения таких важных вопросов, как судьба построек кремлевской соборной группы города Костромы и снос там церкви Спаса за Волгой, сохранявшей в нетронутом виде фресковую роспись конца XVII века, туда от Секции древней живописи езди ла Е. А. Домбровская для участия в межведомственной Комиссии (осень 1933 года). Теперь, спустя полвека, я думаю, что Олсуфьев избегал многолюдства и упоминания в официальных документах его слишком запоминающейся фамилии.
Софья Владимировна Олсуфьева. 1931. Деревня Мешаловка под Москвой. Частное собрание, Москва
Каким скромным был Юрий Александрович в личном быту, таким же оставался и в мастерских, когда выпадала общая физическая работа. Под хранилища ЦГРМ использовались помещения закрытых церквей: Троицы в Никитниках, или, как в ту пору ее именовали, «Грузинской Божьей Матери», и Николы на Берсеневке на соседнем дворе, слившимся с двором мастерских после сноса осенью 1933 года по настоянию директора Лидака ее позднейшей колокольни. Часто, за отсутствием транспортных средств, картины и иконы, там хранившиеся, носили в мастерские на реставрацию на руках. Бывали тут и крупногабаритные, тяжелые иконы, вроде ростовского «Георгия» или работ Рублева, привезенных из села Васильевского. Олсуфьев, руководя работой, никогда не оставался администратором-белоручкой, а и сам включался в трудную и ответственную работу с переносом и подъемом икон по крутой лестнице, разворотами в узких дверных проемах и проходах, загроможденных громоздкой мебелью, оставшейся в мастерских от императорского Археологического общества. Выехать на место с Олсуфьевым мне пришлось лишь единственный раз, да и то лишь на окраину Москвы. Это было зимою 1933–1934 года, когда потребовалось решать судьбу фрески конного образа св. Трифона XVI века, написанной на внешней стене алтарной апсиды одноименной белокаменной церкви невдалеке от Виндавского вокзала. В 1880-х годах с запада было пристроено безвкусное здание, которому древний, перекрытый крещатыми сводами, четверичок стал служить алтарем. Над фреской, помещавшейся на южной стене апсиды, был сооружен металлический зонт, а внизу, для удобства молящихся, – чугунная лестница. В 1920-х годах храм этот, весьма богатый благодаря обширному приходу, пользовался большим почитанием, тем более, что в нем имел постоянное служение архиепископ Трифон (в миру Туркестанов), известный по портрету П. Д. Корина. Но в 1931 году церковь закрыли и всю новую пристройку вместе с высокой колокольней, славившейся тысячепудовым колоколом, разобрали на кирпич, а арку и входы в древнюю миниатюрную церковь заложили кирпичом. Про нее при обилии сносов других памятников забыли, пока от какого-то порядочного человека в ЦГРМ не поступило письма с приложением любительского фотоснимка, показывавших, что окрестные дети, пользуясь тем, что памятник стоял на пустыре, упражняются в отковыривании с «позема» древней штукатурки и писании на фреске кирпичом и мелом нецензурных надписей. Пока мы добирались, рассматривали по пути классические или милые мещанские постройки. Мои воспоминания о разных богатых родственниках, понастроивших или «обновивших» ряд выделявшихся сооружений бывшей Мещанской слободы, Юрия Александровича не занимали. Отмечу, что я никогда ни у него, ни у Софии Владимировны не замечал интереса к беседам на генеалогические темы, о том, «кто кому сват, а кому брат», на что так падки во многих даже родовитых дворянских семьях. Мне представляется, что беседы на эти темы без какой-нибудь особенной случайности, в доме Олсуфьевых считались дурным тоном.
Убедившись в необходимости срочно спасать фреску св. Трифона снятием ее со стены, так как зашивка досками в условиях полного отсутствия охраны на громадном захламленном пустыре была бы лишь губительна, мы принялись замерять ее. Работа по снятию усугублялась необходимостью изготовления дугообразного щита под фреску, соответствующего изгибу стены, на которой она была написана. Когда мы спустились и стали греть замерзшие руки, то взор наш невольно привлекли груды человеческих костей, валявшихся вокруг на большом пространстве. Были ли это следы взрытого древнего кладбища церкви или сбросы анатомички соседней Старо-Екатерининской больницы, в течение ряда десятилетий отстраивавшейся моими родными – Кавериными, – бог знает. Но вот реплика, совершенно неожиданная, Юрия Александровича при взгляде на все это мне врезалась в память: «И никто не знает ни дня своего, ни часа!»
Вскоре под руководством Олсуфьева фреску сняли, укрепили на скругленном щите и передали Третьяковской галерее.
На работе я не помню каких-либо посетителей у Юрия Александровича со стороны. Несколько раз заходила супруга его, то одна, то с племянницей и воспитанницей его Е. П. Васильчиковой, да и в рабочее помещение его, кажется, они и не заходили, вызывая в вестибюль, а в холодное время – к телефонному аппарату у входа в бухгалтерию.
Врезался в память случай, когда в глазах Юрия Александровича я поймал необычайное выражение словно нахлынувшего яркого и значительного воспоминания. Мы встретились с ним в пустынном вестибюле; я шел в сторону канцелярии, а Олсуфьев выходил из нее. Вдруг он приостановил меня и тихо, но настойчиво сказал: «Если хотите увидеть редкость, пройдите в чертежную. Небольшой с усами – это председатель Государственной Думы Федор Александрович Головин. Виду не показывайте. Он прибыл по делам к нам из Харькова». Повторяю, такого оживленно сосредоточенного взгляда я никогда у Юрия Александровича не встречал. Видимо, прошлое дало какой-то импульс, а поделиться было не с кем.
Головин был невысокого роста, сухощавый, подтянутый, с усами стрелками, элегантно одет, и возраст его определить было трудно. Приезжал он то ли от Университета, то ли от Украинской Академии наук, помнится, в связи с проблемами, возникшими с переводом столицы в Киев.
В апреле 1934 года, после ссоры директора Лидака с наркомом А. С. Бубновым, ЦГРМ были ликвидированы, и функции и штаты их поделены между несколькими учреждениями. Секции реставрации древней и новой живописи отошли в Третьяковскую галерею. Здесь Юрия Александровича я встречал уже редко, когда бывала в том деловая необходимость, но отношение его к судьбе памятников и умение проявить нужную настойчивость оставались прежними. В пример могу привести случай с городом Коломной, куда в начале лета того же 1934 года я с проф. Н. Н. Соболевым поехал от недавно организованного Музея Академии архитектуры для сбора подходящих экспонатов. Краеведческий музей мы нашли перемещенным из просторных старинных палат в разные этажи «Маринкиной» кремлевской башни. Прибывшая из дома, откуда ее вызвала нам сторожиха, директор Кафенгауз сказала, чтобы мы шли туда одни, без нее, так как она недавно слетела оттуда по крутой лестнице и расшиблась. Идти рекомендовала, держась правой рукой за стены, где будут попадаться оконные амбразуры, заставленные ею досками. Так, почти в потемках, по внутренней лестнице мы поднялись в верхние помещения, в беспорядке заставленные ампирной мебелью, чучелами птиц и животных, какими-то постаментами и витринами, в которых прекрасные образцы старинного фарфора стояли вперемешку с раскрашенными муляжами человеческих органов, пораженных, как правило, заразными болезнями, в большей своей части венерическими.
Софья Владимировна Олсуфьева. Около 1940. Фотография из следственного отдела НКВД
Составив список на ряд интересных предметов мебели и нескольких фарфоровых ваз и тарелок с видами, мы стали осторожно спускаться, помня просьбу директорши прикрыть доскою окно, чтоб не захлестывал на лестницу дождь. Велико же было наше удивление, когда «доской» оказалась древняя, не моложе XV века, икона Бориса и Глеба, ставившаяся живописью наружу в незастекленную бойницу. Пришлось подниматься и искать среди музейного скарба что-то более подходящее для роли «ставни». К сообщению нашему о ценности использовавшейся ею ранее для этого иконы ахающая и охающая после ушибов директорша осталась совершенно безучастной. Но когда через пару дней я, забежав в Галерею, проинформировал об виденном Олсуфьева, он тут же проявил максимум энергии, в Коломну была командирована В. И. Антонова, привезшая многострадальную икону. После реставрации ее признали работой рубежа XIV–XV веков и как исключительно редкий для Московского княжества памятник включили в постоянную экспозицию.
Юрий Александрович Олсуфьев. Январь 1938. Тюремная фотография из следственного дела НКВД
Остается рассказать о домике, где последние годы жил Юрий Александрович и откуда ушел в небытие. Поселочек при платформе «Ухтомская», названной так не по князьям, а по фамилии машиниста, прославившегося во время декабрьского восстания 1905 года, был застроен в 1920-х годах стандартного типа домиками с небольшими приусадебными участками, распланированными по прямоугольной сетке. Половину такого домика то ли приобрели, то ли сняли, не припомню уже, Олсуфьевы в 1929 году, когда пришлось покидать Загорск. Тогда там был застрелен какой-то местный партийный деятель, а убивший его был домовладельцем. Этому делу в газетах была придана большая огласка; писалось, что Загорск переполнен «бывшей знатью», пригревшейся под стенами бывшей Лавры, назывался целый ряд аристократических фамилий. Большинству «пригревшихся» пришлось срочно оттуда уезжать. А вскоре и по всей стране была развернута кампания по выселению бывших домовладельцев из тех их домов, где они сумели еще сохранить проживание. Конечно, и тут, как во многих «массовых кампаниях» и ранее и позднее, кто-то, словно выигрывая по лотерейному билету, оказывался «вне поля зрения», и ряд лиц, фамилии которых никакими заслугами перед Революцией похвастаться не могут, остаются жить в домах, принадлежавших их отцам и дедам.
Теперь поселок «Ухтомская», кажется, вошел уже в черту Москвы. Домик Олсуфьевых располагался справа от полотна Казанской железной дороги, немного далее от Москвы по ходу поезда, минутах в 10 от платформы. Перед домом, глядевшим на железную дорогу, был небольшой садик с грядками овощей и посадками красивых темно-фиолетовых ирисов, за которыми София Владимировна бережно ухаживала и летом часто привозила срезанные цветы своим близким. За крылечком следовали передняя с кухонькой, отепленный туалет, какая-то еще комнатушка, все скромных размеров и весьма опрятное. Жилая часть делилась надвое: первая комната, освещавшаяся окном в правой стене (левая стена, делившая дом пополам, была глухою), служила столовой и рабочей комнатой, а дальняя, с окном в сад и на железную дорогу, – спальней. На окнах висели плотные занавески, с наступлением темноты тут же задергивавшиеся. В столовой, помнится, стоял накрытый ковром сундук, служивший и для сидения, комод старинный, над ним зеркало, а по сторонам его массивные, но не тонкие по работе серебряные подсвечники, принадлежавшие далекому прадеду Юрия Александровича, Шубинскому вице-канцлеру А. М. Голицыну, выдавшему незаконную дочь свою Делицыну за Д. А. Олсуфьева. В спальной правая продольная стена была завешана старинными портретами, скомпонованными симметрично, как принято было в пору классицизма. Были тут и Екатерининских времен вельможи в золоченых рамах и рисованные карандашами и акварелью миловидные люди начала прошлого века. С первого взгляда привлекал к себе мастерством, строгостью и оригинальностью композиции большой портрет самой Софии Владимировны, исполненный незадолго перед смертью великим Серовым. Юрию Александровичу очень хотелось, чтоб тот написал Софию Владимировну. При знакомстве они быстро сошлись, несмотря на «нелюдимость» Серова, и постоянно вели беседы о культуре Греции, где Серов недавно побывал и работал тогда над картиной «Похищение Европы», а Олсуфьев бывал там неоднократно и с глубоким интересом относился как к Греции античной, так и византийской. В углу над постелью висели, как во всяком порядочном доме, образа, среди которых был и древний «Георгий» (помнится, на черном коне?), найденный где-то в районе Куликова поля, простиравшегося невдалеке от тульской усадьбы Олсуфьевых.
Последняя страница личного экземпляра книги Ю. А. Олсуфьева «Матерьялы к истории рода Олсуфьевых» (Москва, 1911) с рукописными вставками автора 1920–1930-х годов. Частное собрание, Москва
Были раскомпонованы красиво по стенам и разные занимательные предметы: кабильские мелодично звеневшие подвески, привезенные из Северной Африки, трубка с бисерным чубуком, громоздкий пистолет XVIII века и две чудесные выходные трости вице-канцлера А. М. Голицына, облицованные слоновой костью, изысканно отделанной золотом, эмалью и мелкими камнями.
Злополучный пистолет сыграл роковую роль: когда приехали забирать Юрия Александровича, то его засчитали «оружием», хоть им и объясняли, что это всего лишь совершенно непригодная для стрельбы мемория какого-то предка из знаменитых русских адмиралов, то ли Спиридова, то ли Сенявина, но в протоколе обыска кремневый пистолет был зафиксирован как «незаконно хранившееся оружие».
Года через два в квартиру, воспользовавшись отсутствием Софии Владимировны и поселившейся с нею скромной и милой женщины Таси, залезли воры, оказавшиеся, к счастью, совершенными примитивами. Не зная, чем сбить с сундука висячий замок (нутряной сломали ранее, при обыске), они били по нему и кольцам вооружившись для этого массивными серебряными подсвечниками XVIII века, которые тут же на полу и бросили. Украли старую, подбитую лисой, зимнюю куртку Юрия Александровича да еще несколько тоже ношенных вещей. Заинтриговала воров тонкой резьбы восточная шкатулочка с секретом, в которой на слух что-то скользило и перекатывалось. Не затрудняя себя в поисках запора, они раздавили шкатулку каблуком, но вместо золота и бриллиантов оттуда посыпались замечательные геммы, которые Юрий Александрович давно с любовью и знанием дела собирал, часто даже показывая их специалистам из Эрмитажа. Все это, правда, было до Революции, после которой уж ни о каком собирании нечего было и думать. Вернувшись домой, София Владимировна долго находила разлетевшиеся по всем углам и щелям чудесные вещички двух– и трехтысячелетней давности. А еще через три года, хмурой неприветливой осенью, и сама София Владимировна покинула эти стены и дорогие ее сердцу вещи навсегда, унося на плечах лишь темный теплый шарф, с которым написал ее когда-то великий Серов.
Списки печатных и неизданных работ Ю. А. Олсуфьева
Поскольку в личном архиве Ю. A. Олсуфьева нет даже черновых списков собственных изданных работ, настоящий перечень составлялся с учетом изданий, имеющихся в Российской Государственной библиотеке, в научном архиве и библиотеке Сергиево-Посадского историко художественного музея-заповедника и в той части библиотеки Ю. А. Олсуфьева, которая хранилась в собрании Е. П. Васильчиковой (Москва). При некоторых изданиях, прежде всего при книжечках и статьях Ю. А. Олсуфьева, опубликованных с 1919 по 1928 год Комиссией по охране памятников искусства и старины Троице Сергиевой лавры и Сергиевским историко-художественным музеем, мы сочли необходимым дать пояснения о тиражах издании, поскольку последние являются ныне библиографической редкостью. Для ряда работ такие сведения, отсутствующие в выходных данных, извлечены из архива Сергиево-Посадского музея (оп. 1, № 71, л. 16). Они указаны в квадратных скобках.
1 Несколько слов по поводу современного движения. М., 1906, 16 с.
2 Из прошлого села Красного, Буйцы тож (Архангельского прихода), и его усадьбы. 1663–1907. М., 1907, 30 с.
3 Матерьялы к истории рода Олсуфьевых. Линия Василия Дмитриевича (1796–1856), первого графа Олсуфьева М., 1911, 47 с.
4 Памятники искусства Тульской губернии. Матерьялы. [Изд. Тульского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины]. Год I, вып. I. М., 1912, 4 c., 17 табл.; год I, вып. II. М., 1913, 3 с., 48 табл.; год II, вып. I. М., 1913, 1 + 27 с., 27 табл.; год II, вып. II. М., 1913, 11 с., 57 табл.; год III, вып. I. М., 1914, 31 с., 59 табл.; год III, вып. II. М., 1914, 3 с., 21 табл.
5 Несколько слов о происхождении рода Олсуфьевых в связи с новыми данными о Дмитрии Васильеве Олсуфьеве. – Летопись историко-родословного общества в Москве, 1914, вып. 1–2 (37–38). М., 1914, с. 16–19.
6 Заметка о церковном пении и иконописи как видах церковного искусства в связи с учением церкви. Изд. Тульского отдела Общества сохранения памятников искусства. Сергиев Посад, 1918, 16 с.
7 Иконопись. – В кн.: Троице-Сергиевалавра. Изд. Комисси и поохране памятников искусства и старины Троице– Сергиевой лавры. Сергиев Посад, 1919, с. 64–82.
8 Лицевые книги и их орнамент. – Там же, с. 83–88. Первоначальный тираж сборника «Троице-Сергиева лавра», являвшегося первым изданием названной Комиссии, был определен в 3200 экз., из которых предполагалось напечатать 2000 экз. на бумаге низшего сорта и 1200 – на бумаге лучшего сорта (архив СПИХМЗ, оп. 1, № 5, л. 29 об. – 30). По другим сведениям (ГАМО, ф. 2609, оп. 2, № 5, л. 79–80), отпечатано только 2000 экз. Фактически сборник вышел в апреле 1920 года, тогда же доставлен из типографии в лавру, опечатан на складе, а затем (в 1922 году?) при невыясненных обстоятельствах сожжен. Сохранились считанные несброшюрованные экземпляры (имеются в основных библиотеках Москвы и Петербурга и в частных собраниях, идущих, как правило, из личных библиотек сотрудников Комиссии). Предполагался перевод сборника на иностранные языки. В архиве П. А. Флоренского сохранились машинописные экземпляры английского и французского переводов (собрание Флоренских, Москва).
9 Опись икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. Изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1920, 4 + 268 с. [Тираж 1500 экз.]
10 Опись крестов Троице-Сергиевой лавры до XIX века и наиболее типичных XIX века. Изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1921, VIII + 144 с. [Тираж 600 экз.]
11 Опись лицевых изображений и орнамента книг ризницы Троице-Сергиевой лавры. Изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1921, VIII + 96 с. [Тираж 600 экз.]
12 Дополнение [I] к Описи икон Троице– Сергиевой лавры. Сергиев, 1922, 4 с. Тираж 300 экз.
13 К вопросу о шитом деисусном чине (№ 1543) в музее б. Троице-Сергиевой лавры. Доклад, читанный в Комиссии по охране памятников искусства Троице– Сергиевой лавры 27 декабря 1923 года. Сергиев, 1924, 8 с. Тираж 300 экз.
14 Кто вкладчики воздуха № 1479 и покрова № 1541 в музее б. Троице-Сергиевой лавры? Доклад, читанный в Комиссии по охране памятников искусства Троице-Сергиевой лавры 10 апреля 1924 г. Сергиев, 1924, 8 с. Тираж 200 экз.
15 Искусство ХIV и ХV веков. Выставка при музее б. Троице-Сергиевой лавры. 1924 год. Изд. Комиссии по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1924, 16 с. Тираж 300 экз.
16 Искусство XIV и XV веков. Каталог наиболее выдающихся произведений этой эпохи в музее б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. 2, доп. и исправл. Изд. Комиссии по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1924, 16 с. Тираж 300 экз.
17 Черты иконописного натурализма в памятниках XIII и XVII веков. Прокопий и Симон Ушаков. (Доклад, читанный в Комиссии по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры 11 ноября 1924 г.). Сергиев, 1925, 8 с. Тираж 100 экз.
18 Об изменениях в русском орнаменте в эпоху Возрождения. (Примеры приведены из собраний б. Троице– Сергиевой лавры). Доклад, читанный на съезде по вопросам древнего шитья и тканей при Комиссии по охране памятников искусства б. Троице– Сергиевой лавры 20 января 1925 года. Изд. Комиссии по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1925, 32 с., 1 ил. Тираж 200 экз.
19 Опись серебряных чарок с плоскими полками и опись серебряных братин б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1925, 118 с., 2 табл. Тираж 100 экз.
20 Опись серебряных ковшей (формы ладьи) б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины б. Троице– Сергиевой лавры. Сергиев, 1925, 24 с., на с. 24: Исправления, относящиеся к моим описям икон, крестов и лицевых изображений книг б. Троице– Сергиевой лавры. Тираж 100 экз.
21 Опись ложек б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины б. Троице – Сергиевой лавры. Сергиев, 1925, 24 с., 1 ил., на с. 23–24: Дополнение к описи ковшей б. Троице-Сергиевой лавры (1925 год). Тираж 100 экз.
22 О «встречных» пробелах. Доклад, читанный в Комиссии по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры 22 июля 1925 года. Сергиев, 1925, 11 с., 1 табл. Тираж 100 экз.
23 Дополнение II к Описи икон б. Троице – Сергиевой лавры. Изд. Комиссии по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1925, 7 с. Тираж 100 экз.
24 Опись древнего церковного серебра б. Троице-Сергиевой лавры (до ХVIII века). Изд. Гос. Сергиевского историко-художественного музея. Сер ги ев, 1926, XXX + 293 с., XIII табл. Тираж 100 экз.
25 Иконописные формы как формулы синтеза. (Доклад в связи с изучением памятников иконописи б. Троице– Сергиевой лавры). Изд. автора. Сергиев, 1926, 22 с., ил. Тираж 100 экз.
26 Дополнение III к Описи икон Троице– Сергиевой лавры (1920). Изд. Гос. Сергиевского историко-художественного. музея. Сергиев, 1927, 34 с., I табл. Тираж 150 экз.
27 Параллельность и концентричность в древней иконе как признаки диатаксической организованности. Изд. Гос. Сергиевского историко-художественного музея. Сергиев, 1927, 14 с., 3 ил. Тираж 150 экз.
28–30 Три доклада по изучению памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. Гос. Сергиевского историко – художественного музея. Сергиев, 1927, 44 с. [1. О линейных деформациях в иконе Троицы Андрея Рублева. (Иконологический опыт), с. 5–32; 2. Второй более или менее достоверный памятник скульптуры руки Василия Дмитриевича Ермолина, русского скульптора и зодчего ХV века, с. 33–40; 3. Дата Троицкого собора б. Троице– Сергиевой лавры, с. 41–44], ил. Тираж 200 экз.
31 Амвросий, троицкий резчик ХV века. [Совместно с П. Л. Флоренским]. Изд. Гос. Сергиевского историко-художественного музея. Сергиев, 1927, 58 с., 1 + 49 ил. Тираж 300 экз.
32 Структура пробелов. Историко-иконологический этюд по памятникам собрания б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. Гос. Сергиевского историко – художественного музея. Сергиев, 1928, 32 с., ил. Тираж 300 экз.
33 Russian Ikons at South Kensington. – The Burlington Magazine, LV, No CCCXXI, 1929, p. 284–289, pl.
34 Description of Plates. [Совместно с М. С. Лаговским]. – In: Masterpieces of Russian Painting. Ed. by M. Farbman. London, 1930, p. 109–124.
35 The Development of Russian Icon Painting from the Twelfth to the Nineteenth Century. – The Art Bulletin, v. XII, 1930, № 4, p. 347–373.
36 Problème de restauration des icones et fresques russes. – Mouseion, 27–28, 1934, p. 228–236, pl. XXV, XXVI.
37 Сводка заболеваний монументальной живописи. – Советский музей, 1935, № 2, с. 99–101.
38 Реставрация египетских саркофагов в Музее изобразительных искусств. – Советский музей, 1935, № 3, с. 59–62, ил.
39 Обзор методов лечения древней монументальной живописи. (По данным Центральных государственных реставрационных мастерских и Государственной Третьяковской галереи). – Советский музей, 1935, № 5, с. 70–77, ил.
40 Вопросы форм древнерусской живописи. – Советский музей, 1935, № 6, с. 21–36; 1936, № 1, с. 61–78 и № 2, с. 39–59, ил.
41 Реставрация оболочки мумии в Музее изобразительных искусств. – Советский музей, 1936, № 6, с. 26–28.
42 Новый метод введения гипсовых шпонок при укреплении фресковой штукатурки. – Советский музей, 1936, № 6, с. 111–112.
43 Памятник старой русской живописи. Вновь раскрытые фрески в Новгороде. – Архитектурная газета, от 12 октября 1937, с. 4.
44 Recent Restorations of Ancient Russian Frescoes. – The Art Bulletin, v. XX, 1938, №, p. 107–111.
45 Икона Троицы. – Музей, 8. М., 1987, с. 256–257 (приложение к публикации Ю. Г. Малкова «К изучению Троицы Андрея Рублева»).
46 Из недавнего прошлого одной усадьбы. Буецкий дом, каким мы оставили его 5-го марта 1917 года. – Наше наследие, № 29–30, 1994, с. 95–121 и № 31, 1994, с. 97–123 (публикация Г. И. Вздорнова по рукописи Ю. А. Олсуфьева В ОР РГБ, ф. 218, № 175.1, л. 1–107 и по авторизованной копии в частном собрании в Москве).
47 Икона в музейном фонде. Исследования и реставрация. Сост. А. Н. Стрижев. М., 2006 (перепечатаны работы под № 22, 17, 29, 30, 26, 25, 40, 28, 7, 27, 32, 11 и 6: именно в таком порядке! корректурные экземпляры статей остались составителю неизвестными и не учтены при их перепечатках, неизданные работы в сборник не включены).
49 Из недавнего прошлого одной усадьбы. Буецкий дом, каким мы оставили его 5-го марта 1917 года. – Печатается в настоящем издании.
48 Общения. (Выписки из записной книжки), I. 1913–1922. – Печатается в настоящем издании.
В этом списке названы лишь наиболее значительные неопубликованные сочинения Ю. А. Олсуфьева. В него не включены служебные отчеты об экспедициях (преимущественно в Новгород). Почти все перечисленные работы сохранились в подписанных машинописных экземплярах с правкой автора, а не в рукописях, и потому способ их фиксации не указывается. Если машинописные экземпляры одной и той же работы находятся в нескольких хранилищах, сообщается о местонахождении всех копий. Указаны автографы.
1 Статистический отчет по Красному и Даниловке 907–912 с данными о доходе по 1 апр. 917. 1917. – ОР РГБ, ф. 218, № 175.5, л. 1–45 (на типографских бланках, заполненных рукой автора).
2 Очерк одного хозяйства. Имение Крас ное Буйцы Епифанского уезда [Тульской губернии] гр. Юрия Александровича Олсуфьева. Очерк за десятилетний период до революции (1 апр. 907 – 1 апр. 917). Февраль 1918. – ОР РГБ, ф. 218, № 175. 4, л. 1–13 об.
3 К вопросу о реставрации Троицкого собора Свято-Троице-Сергиевской лав ры. 25 октября 1918. – Архив СПИХМЗ, оп. 1, № 2, л. 2–4 об.; архив П. А. Флоренского (собрание семьи Флоренских, Москва), л. 1–6.
4 Две иконы Троице-Сергиевской лавры конца 16 века письма келаря Евстафия Головкина. 14 декабря 1918. – Архив СПИХМЗ, оп. 1, № 2, л. 27–28 об.
5 Первый ярус иконостаса Троицкого собора (материал для описи икон и комментария к изданию Описи 1642 года). 23 февраля 1919. Архив СПИХМЗ, оп. 1, № 6, л. 8–9.
6 Символы Горнего. Анализ икон Троице-Сергиевой лавры как опыт иконологии, вып. I. Иконы до XV века. [Совместно с П. А. Флоренским]. 1922. – Архив П. А. Флоренского (собрание семьи Флоренских, Москва), л. 1–50.
7 Опись Троице-Сергиева монастыря 1641 года. Рукопись из архива Троице-Сергиевой лавры, подготовлен ная к печати С. Н. Дурылиным и Ю. А. и М. Ю. Олсуфьевыми. 1919–1922. – ОР РГБ, ф. 173, II, № 225, л. I–IV (предисловие Ю. А. Олсуфьева, ноябрь 1922), IV об. (оглавление) + 1–310 (текст описи, переписанный в 1919 году С. Н. Дурылиным и отцом и сыном Олсуфьевыми; рукою Ю. А. Олсуфьева переписаны л. 93–164, 203–227 об., 247–270 и 286–291 об.).
8 Синодик Троице-Сергиевой лавры 1575 года. Рукопись из архива Троице – Сергиевой лавры, подготовленная к печати Ю. А. Олсуфьевым. 1923. – ОР РГБ, ф. 173, II, № 226, л. 1–318 (л. 1–4: предисловие «От издателя», л. 5–22 об.: «Фамильный и прозвищный указатель», л. 25–318: текст Синодика). На л. 1 вверху: «Посвящаю памяти моего покойного двоюродного брата Алексея Александровича Васильчикова», на л. 4: «Ю. Олсуфьев. Сергиев Посад. 26 февраля 1923 года». В Отделе рукописей и старопечатных книг Сергиево-Посадского музея хранится писарская копия «Фамильного и прозвищного указателя к Синодику Троице-Сергиевой лавры 1575 года» (СПИХМЗ, 126 рук.), л. 1–29 (на л. 1–1 об.: «Предуведомление», на л. 1 вверху рукою Ю. Л. Олсуфьева: «Копия с экземпляра, хранящегося в библиотеке Моск. Дух. академии», на л. 1 об.: «Ю. Олсуфьев. Сергиев Посад. Апрель 1923»). В существующей библиотеке Московской Духовной академии (в Троице-Сергиевой лавре) имеется полная копия с рукописного оригинала, находящегося в ОР РГБ.
9 Заметки о родах и лицах служилого сословия, записанных в Вкладной книге Троице-Сергиевой лавры 1673 года. (Историко-генеалогический комментарий), вып. I. 1924. – ОР РГБ, ф. 173, II, № 229, л. 1–206 (текст) + 207–210 (чистые) + 211 (оглавление). На л. 1 об. после краткого предуведомления: «Ю. Олсуфьев. Сергиев Посад. 28 февраля 1924».
10 Схема византийских основ теории творчества (в частности – теории иконы). 1926. – ОР РГБ, ф. 173, II, и 231, в трех тетрадях (л. 1–12 + 1–12 + 1–12). Аналогичные экземпляры с незначительными отличиями: OP ГТГ, ф. 157, л. 1–20; Архив П. А. Флоренского (собрание семьи Флоренских, Москва), л. 1–19. В работе М. С. Трубачевой (Из истории охраны памятников в первые годы Советской власти. Комиссия по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры 1918–1925 годов. – Музей, 5. М., 1984, с. 164, под № 25) ошибочно указано, что эта работа издана.
11 [Полная опись раскрытых икон Троице – Сергиевой лавры]. 1928. – ОР ГТГ, ф. 157, № 160, л. 1–83.
12 Два кубка XV века в собрании бывшей Троице-Сергиевой лавры. 1928. – ОР ГТГ, ф. 157, № 7, л. 1–6 + перевод на немецкий язык: Zwei Becher des XV. Jahrhunderts in der Kunstsammlung des ehem. Klosters Troize-Sergiewskaja Lawra. – Там же, л. 1–7.
13 Внешние формы памятников древнерусской станковой живописи. [Совместно с С. В. Олсуфьевой]. Декабрь 1928 – январь 1930. – ОР ГТГ, ф. 157, № 103, л. 1–8.
14 К вопросу об орнаменте Иоанновскях палат в Новгороде. (В порядке разработки материалов, собранных в летние командировки 1931 года). Февраль 1932. – ОР ГТГ, ф. 67, л. 1–6 и ф. 157, № 104, л. 1–7.
15 К вопросу датировки иконы Богоматери на престоле, окруженной житийными клеймами (maniera byzantina) из Музея изобразительных искусств. 1933. – ОР ГТГ, ф. 157, № 309, л. 1–2.
16 Схема предварительных предположении, касающихся авторства иконы Николы из города Коломны. [1932–1933]. – ОР ГТГ, ф. 157, № 312, л. 1–4.
17 К вопросу авторства сени царских дверей из села Благовещения Загорского района. 1934. – ОР ГТГ, ф. 157, № 105, л. 1–7 и ф. 67, № 392, л. 1–7.
Воспоминания Ю. А. Олсуфьева. Начало рукописи. Автограф 1921–1922. Российская государственная библиотека, Москва
18 По поводу фрески Трифона. [1934]. – ОР ГТГ, ф. 157, № 311, л. 1–2.
19 Икона «Сошествие во ад» из Чухчерьмы (на Северной Двине). [1934–1935]. – ОР ГТГ, ф. 157, № 109, л. 1–16.
20 Вопросы форм древнерусской иконописи (материалы для иконологии). К вопросу что есть иконопись (вместо Введения). [1935?]. – ОР ГТГ, ф. 157, № 106, л. 1–105.
21 Три иконы Божией Матери эпохи Палеологов в Третьяковской галерее (их стилистические формы и школы). Апрель 1936. – ОР ГТГ, ф. 157, № 108 л. 1–23.
22 Краски древнерусской станковой живописи и их качественный анализ (по памятникам ГТГ). 1937. – ОР ГТГ, ф. 18, № 78, л. 1–76.
23 Вновь раскрытые памятники древнерусской живописи круга Андрея Рублева. [1934–1937]. – ОР ГТГ, ф. 157, № 8, л. 1–3.
24 Новгородские фрески и работы Третьяковской галереи. [1934–1937]. – Отдел рукописей ГТГ, ф. 157, № 107, л. 1–5.
Сноски
1
Далее в копии рукой О. вычеркнут следующий текст: «Этот переход от небытия в известном смысле к бытию дается действованием душевным, которое мы должны отнести к творчеству».
(обратно)2
Далее в копии рукой О. вычеркнуто: «как первообраз творческого воздействия».
(обратно)3
Цитата из «Романа в письмах» А. С. Пушкина. В оригинале “Воспоминаний” эпиграфа нет, он вписан рукой О. в копию.
(обратно)4
С. – моя жена, графиня Софья Владимировна Олсуфьева, рожденная Глебова (рода Облагини), род<илась> в 1884 г<оду> 3 июня в Узком, подмосковной Трубецких; фрейлина; замужем с 4, сент<ября> 902 года; дочь Владимира Петровича Глебова и Софьи Николаевны, рожденной кн<яжны> Трубецкой. В. П. Глебов был предводителем дворянства в Епифанском уезде, в Каширском уезде, затем членом Государственного Совета по выбору.
(обратно)5
Последние две цифры в копии зачеркнуты.
(обратно)6
Дом на Фонтанке был куплен в 40-х годах XIX столетия моим дедом В. Д. Олсуфьевым у Юшкова, при назначении своем гофмаршалом к наследнику. Этот дом, второй от Пантелеймоновской улицы, был тогда особняком с садом. После кончины деда (в 1858 г<оду>) на месте сада был построен второй дом (ближе к Пантелеймоновской улице). Оба дома после смерти бабушки гр. Марии Алексеевны достались моему дядюшке гр. Адаму Васильевичу, затем моим двоюродным братьям гр. Михаилу и гр. Дмитрию Адамовичам. При них они приняли теперешний вид, переделанные А. В. Щусевым в начале 900-х годов. При покупке дома у Юшкова он был перестроен архитектором Штакеншнейдером. //
(обратно)7
В копии слово написано полностью.
(обратно)8
Мы жили с С<оней> почти круглый год в Буйцах, уезжая зимой, обыкновенно на праздники, в Москву к Глебовым на Молчановку, а затем на несколько недель за границу; летом, обыкновенно в июне, мы ездили к Глебовым в Тарасково, их имение Каширского уезда на Оке, где В. П. Глебовым был построен большой дом. В 1915 году я поехал на Кавказ в качестве уполномоченного Всероссийского Зем<ского> Союза, где после графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина и тов<арища> пред с<едателя> Государствен ной Думы Варун-Секрета был назначен главным уполномоченным этого союза по Кавказу, Персии и областям Турции, входившим в район военных действий. С<оня> с сыном М<ишей> была тоже на Кавказе; мы жили в Мцхете, где С<оня> восстановила древнюю церковь во имя Успения Пресв<ятой> Богородицы; каменный иконостас был сделан по ее рисунку, а равно и царские врата из буецкого яблонного дерева; две иконы – Спасителя и Божией Матери – были написаны гр. Владимиром Комаровским; церковь эта в русском Ольгинском монастыре. Я пробыл на Кавказе до 1917 года, бывая в Буйцах с С<оней> лишь наездами, два-три раза в год; последний раз мы были в Буйцах в конце зимы 917 года.
(обратно)9
Церковь во имя Архистратига Михаила была построена в 1795 году моим прапрадедом князем Александром Михайловичем Голицыным. //
(обратно)10
Мария Александровна Васильчикова, стар шая дочь Александра Алексеевича Васильчикова, в свое время директора имп<ераторского> Эрмитажа, и тетушки Ольги Васильевны, сестры моего отца; фрейлина, была близка в начале царствования с и<мператри>цей Александрой Феодоровной; ей поручено было устройство импер<аторских> апартаментов в Зимнем дворце, автор неизданных мемуаров: «Madame Daria Alexandrovna Olsoufieff etc.», 1917.
(обратно)11
Графы Василий и Владимир Алексеевичи Комаровские были сыновьями гр. Алексея Егоровича и жены его, рожденной Безобразовой.
(обратно)12
Гр. Мария Алексеевна Олсуфьева, моя бабушка, была рожденная Спиридова, р. 1801, † 1878. Ее отец, адмирал Алексей Григорьевич Спиридов, женатый на фон Швепс, был долгое время командиром порта в Ревеле. Связи с Ревелем у бабушки были настолько крепки, что дед мой Василий Дмитриевич был принят в Эстл<яндское> двор<янст>во, и Олсуфьевский герб нашел себе место в Ревельском риттер-зале.
(обратно)13
Сын Михаил родился 26 июня (в праздник Тихвинской Божьей Матери) 1903 года в Тараскове, имении Глебовых, в 3 часа утра.
(обратно)14
Mr. Cobb кончил Cambridge’ский университет по богословскому факультету; был вице-консулом в Архангельске, затем, по дружбе с нашей семьей, в конце 80-х годов поступил ко мне воспитателем; умер в нашем доме в 1895 году; похоронен в Кенте в своем родном селе Teston, где его отец был пастором и куда мы ездили на его могилу летом 1896 года. Он умер совсем молодым, около 34 лет.
(обратно)15
Красный Ржавец – имение Ивана Павловича Игнатьева в 18 верстах от Буец. Дом был издан нами в нашем издании «Памятники искусства Тульской губернии».
(обратно)16
В оригинале и копии первоначально было: «мировые». Затем в копии рукой О. исправлено на «заграничные».
(обратно)17
В оригинале и копии первоначально было: «источник». В копии рукой О. исправлено на «корень».
(обратно)18
В оригинале нет числа, оно вписано карандашом рукой О. в копию.
(обратно)19
Гр. Михаил Адамович, мой любимый двоюродный брат. Был председателем уезд<ной> зем<ской> управы в Дмитрове, затем долгое время, до 17 года, дмитровским уезд<ным> предв<одителем> двор<янст>ва; камергер в<ысочайшего> двора. Умер весной 1918 года, похоронен в Никольском.
(обратно)20
Гр. Дмитрий Адамович, мой двоюродный брат, камышинский уезд<ный> предв<одитель> дворянства; председатель Саратов<ской> губ<ернской> зем<ской> управы; член Государственного Совета от Саратовск<ого> зем<ст>ва; камергер в<ысочайшего> двора; член Всерос<сийского> поместн<ого> церк<овного> собора.
(обратно)21
Наталья Ивановна Толстая, двоюродная сестра моего отца; см. о ней в упомянутых выше мемуарах М. А. Васильчиковой.
(обратно)22
Издан в «Пам<ятниках> иск<усства> Тульск<ой> г<убернии>» [год III, вып. II. М., 1914, табл. 21–3].
(обратно)23
Издан в «Пам<ятниках> иск<усства> Тульск<ой> г<убернии>» [год III, вып. II, табл. 8–3].
(обратно)24
Этот складень был похищен из дома в Сергиевом Посаде в 1921 году.
(обратно)25
Этот крест был похищен из дома в Сергиевом Посаде в 1921 году.
(обратно)26
Петр Иванович Нерадовский, кончил Академию художеств; ученик Репина; хранитель собрания икон и картин в Музее Александра III в С.-П<етербур>ге.
(обратно)27
В оригинале было только «и», то есть «императрицей», все остальное в копии рукой Б.
(обратно)28
Липканы – имение моей тетушки фон Дитмар, рожденной бар<онессы> Розен; ее мать была урожденная Россети-Розновано и была сестрой моей бабушки гр. Соллогуб. Липканы и мое имение Кишло составляли когда-то од но имение, принадлежавшее моей прабабушке Розновано, рожденной Гика.
(обратно)29
Елена Васильевна Энгельгардт, двоюродная сестра моей матери; ее мать – рожденная гр. Соллогуб.
(обратно)30
Стулья были изданы в «Золотом руне» при статье А. И. Успенского [А. Успенский. Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева. – «Золотое руно», 1907, март, с. 20 слева и 31].
(обратно)31
Комод был издан в «Золотом руне» при статье А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 18 вверху и 30].
(обратно)32
Резьба издана в «Памятник<ах> иск<ус ства> Туль<ской> губ<ернии>».
(обратно)33
Отец в коронацию 96 года в чине генерал-майора был назначен <в> генерал-адъютанты. Он через героль да, в коронацию, объявлял вы с<очайший> манифест народу на Лубянской площади.
(обратно)34
Ларь издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 27 вверху и 32].
(обратно)35
Издан в «Пам<ятниках> иск<усства> Тульск<ой> губ<ернии>» [год III, вып. II, табл. 8–3, прим. 4].
(обратно)36
Санки, заказанные в Туле моим свояком гр. Михаилом Львовичем Толстым, большим любителем лошадей и езды. Благодаря своей длинной конструкции не были чувствительны к ухабам.
(обратно)37
Мои гончие были от Глебовских гончих; известная в охотничьем мире Глебовская стая произошла от скрещивания костромичей с английскими гончими; она возникла, кажется, при прапрадеде С<они>, при Михаиле Петровиче Глебове; она содержалась в былые времена в Глебовском Панине Крапивенского уезда, затем в Кайданове Веневского уезда и в соседней с Буйцами Барыковке. Я застал еще знаменитого доезжачего старика Константина, доживавшего свой век в Барыковке; мой тесть любил рассказывать о прошлом своей стаи, о взятии ею матерых волков, об отъезжих полях его дяди Сергия Михайловича Глебова с Алексеем Степановичем Хомяковым…
(обратно)38
Ларь был издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского.
(обратно)39
Ракша – старинное имение деда Комаровских Василия Григорьевича Безобразова в Моршанском у<езде>.
(обратно)40
Отрывок текста «я получил от нее открытку на английском языке ‹…› расспрашивал о в<еликом> к<нязе> М<ихаиле> А<лександровиче>» имеется только в оригинале рукописи, в копии – пропуск.
(обратно)41
Моя прабабка Дарья Александровна Олсуфьева была дочерью князя Александра Михайловича Голицына.
(обратно)42
Женившись, мой отец занял верхний этаж Фонтанкского дома, где я и родился.
(обратно)43
Последняя фраза в автографе отсутствует, она вписана О. в копию.
(обратно)44
Светлейший князь Александр Константинович Горчаков, старший внук канцлера; убит в войну 914 года.
(обратно)45
Н. Д. Чечулин, проф<ессор> С.-Петерб<ургского> университета.
(обратно)46
Дядюшка Розновано завещал свое родовое Рознов в отроге Карпатов недалеко от Ясс разным церковно-благотворительным учреждениям с тем, чтобы попечителем был кто-нибудь из крови Розновано; первым таким попечителем был назначен им я, но румынское пр<авительст>во воспротивилось бытности русского попечителя, аннулировало завещание дядюшки и имение Рознов перешло его дальним родственникам Гика.
(обратно)47
Граф Василий Петрович Орлов-Денисов, женатый на бар<онессе> Ольге Богдановне Мейендорф.
(обратно)48
Павел Петрович и Елизавета Петровна Скоропадские, их мать – Миклашевская, их бабушка – Олсуфьева. Тогда Павел Скоропадский был молодым кавалергардским офицером; женился на А. П. Дурново; в 18 году – гетман Малороссии.
(обратно)49
Алексей Александрович Васильчиков, мой двоюродный брат; камер-юнкер; умер во второй половине 90-х годов.
(обратно)50
Стул издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 24 внизу слева и 32].
(обратно)51
Пистолеты были изданы в «Памятниках искус<ства> Тульск<ой> г<убернии>» [год III, вып. II, табл. 7–2].
(обратно)52
Пистолеты были изданы в «Памятни ках искус<ства> Тульск<ой> г<убернии>» [год III, вып. II, табл. 7–1].
(обратно)53
Ангелы были изданы там же [год I, вып. I. М., 1912, табл. 2–1].
(обратно)54
Василий Александрович Олсуфьев, р. в 1831, † 1883; женат в 1 бр<аке> на Ребиндер, во 2 бр<аке> – на светл<ейшей> кн. Ливен, в 3 бр<аке> – на Есиповой. По обету ездил с первой женой во Святую Землю.
(обратно)55
Голубеи, как и Буйцы, были родовой вотчиной, доставшейся от Голицыных через тетушку княгиню Ек. Ал. Долгорукову.
(обратно)56
Ларь был издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с.19 вверху и 31].
(обратно)57
В автографе «но любил и его и бывать у него». Исправлено О. в копии.
(обратно)58
Дмитрий Александрович Олсуфьев был женат на княжне Ольге Ростиславовне Долгоруковой, но с нею не жил. Они умерли приблизительно в одно время, и их гробы встретились во время похорон в Москве. Ольга Рост<иславовна> умерла в России, а Дмитрий Александрович – во Франции, где он прожил всю жизнь до старости. Он похоронен в Ростове.
(обратно)59
При Куликовском храме-памятнике С<оня> учредила в 1917 году женский монастырь: «Сергиевскую женскую общину на Куликовом поле», которая была разогнана революцией.
(обратно)60
Грамота на графское достоинство содержит апокрифическую грамоту Иоанна Грозного Михаилу Ивановичу Олсуфьеву. Росписями Олсуфьевых между первым Олсуфьевым – Михаилом Ивановичем, жившим, судя по вышеозначенной грамоте ему, во 2-ой половине XVI века, и документально известным Афанасием Даниловичем Олсуфьевым, жившим во второй половине XVI и в начале XVII века, дается три имени: Якова, Тимофея и Даниила, что не может совпадать с действительностью, принимая во внимание столь короткий промежуток времени. Тут одно из двух: или росписями выдуманы лишние имена, или следует признать, что Михаил Иванович жил не позднее половины XV столетия. Недавно открытые данные документально устанавливают личность Тимофея Олсуфьева, причем на основании тех же данных рождение его должно быть отнесено или к концу XV, или к самому началу XVI века (из факта совершеннолетия его внука Михаила Сысоева, сына его дочери Домны, в 1577 году, см.: С. Шумаков. Обзор грамот Кол<лежской> экономии, в <томе> I. М., 1899, стр. 16 и стр. 34). Эти данные, подтверждая правильность Олсуфьевских росписей, позволяют относиться к ним вообще с доверием. В таком случае остается признать, что Михаил Иванович жил не в XVI, а в половине XV века, и что сомнительная и в других отношениях грамота Грозного (см. мои «Матерьялы для истории рода Олсуфьевых». М., 1911 и мою заметку в «Летописи Историко-родословного общества», 1914, вып. 1, 2: «Несколько слов о происхождении рода Олсуфьевых») является вымышленной, причем составитель ее невольно приблизил первого Олсуфьева на сто или полтораста лет(Аквавтографе, а в копии – «старцу».).
(обратно)61
Подсвечник издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 24 справа и 33].
(обратно)62
Отрывок текста, начиная с фразы «Среди записных книжек…» и до конца, в автографе отсутствует, вписан О. на отдельный листок и вложен в копию.
(обратно)63
В автографе: «Павла Писакина», исправлено О. в копии.
(обратно)64
Второе «когда» – только в копии.
(обратно)65
Феодор Власович Балабух, доверенный ключник, прослуживший в Буйцах у моих родителей много лет, уроженец Полтавской губ<ернии>, † в начале 900-х годов, оставив сына Ивана (кончил математический факуль<тет> Моск<овского> унив<ерситета>) и дочь Ольгу, мою крестницу.
(обратно)66
Феодор Осипович Ситин, любимый камердинер моего отца; из мещан гор<ода> Сухинича, фейерверкер 4 батареи гвард<ейской> кон<ной> артиллерии, посту пил в наш дом выездным моей матери, затем долгое время, до кончины моего отца в Аббации, при которой был, состоял камердинером моего отца. После смерти отца получал от нас пенсию.
(обратно)67
Андрей Феодорович Виноградов, из крестьян Рязанской г<убернии>, был камердинером гр. Толстого (обер-прокурора); в начале 80-х годов поступил к нам буфетчиком. После кончины моей матери (в 1902) получал пенсию; вскоре умер, кажется, в купленном им хуторе Рязанской губернии.
(обратно)68
Стулья изданы в «Памят<никах> искусства Тульс<кой> г<убернии>» [год III, вып. II, табл. 8–3, 4].
(обратно)69
Столы изданы в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 17 и 30].
(обратно)70
Ларь издан там же [с. 30].
(обратно)71
Ларец издан там же [с. 18 внизу и 30].
(обратно)72
Ларчик издан там же [с. 28 вверху и внизу и 32].
(обратно)73
Слова «взорванного на Дунае Дубасовым» в копии пропущены.
(обратно)74
Кузьма Осипович Черепков, из крестьян соседнего с Буйцами села Мышенки (Башмаковых); начал службу на кухне у кн. Дондукова-Корсакова в его генерал-губернаторство в Киеве(Почти весь текст этого примечания, а именно «Росписями Олсуфьевых между первым Олсуфьевым ‹…› на сто или полтораста лет», написан на большой наклейке, прикрывающей более краткую информацию того же содержания. Наклейка имеет дополнительную пагинацию: л. 109 а.); много лет служил у моих родителей сначала помощником повара, затем поваром; одно время уходил, чтобы снова поступить уже к нам после смерти моих родителей. Он жил у нас и в первый год нашего поселения в Посаде, откуда был почти насильно увезен своими детьми, боявшимися революционной расправы с «господами» и с их домочадцами. Кузьма был умный, честный, искренно любящий нас старик, в тяжелые годины революции всегда готовый нам помочь даже материально. Он скончался у себя дома в 1921 году, имея более 80 лет от роду.
(обратно)75
В автографе это слово зачеркнуто.
(обратно)76
В автографе неправильно – индийский.
(обратно)77
Портрет издан в «Памятн<иках> иск<усст>ва Тульск<ой> г<убернии>» [год I, вып. II. М., 1913, табл. 7].
(обратно)78
Вид восточной стены издан там же [год III, вып. II, табл. 20–2].
(обратно)79
Трость издана там же [год I, вып. II, табл. 26–1, 2].
(обратно)80
Текст в конце л. 72 исправлялся и в начале л. 72 об. от первоначальной фразы осталось не вычеркнуто «круглую шапочку», далее – «и всегда».
(обратно)81
Дом издан там же [год I, вып. II, табл. 1–1, 2 и табл. 2]
(обратно)82
Бюро издано там же [год III, вып. II, табл. 21–2].
(обратно)83
В автографе и копии первоначально было «прабабушки Дарьи Александровны, Соллогубов». Исправлено О. в обеих рукописях.
(обратно)84
Фраза, начиная со слова «фотография», вписана О. в оригинал и воспроизведена в копии.
(обратно)85
Портреты Молинари изданы там же [год I, вып. II, табл. 35–1,2]. Теперь они погибли.
(обратно)86
Акварели изданы там же [год III, вып. II, табл. 19–2, 3].
(обратно)87
В автографе нет слова «почет<ным>», оно вписано только в копию и не рукой автора.
(обратно)88
Собрание писем Екатерины II (более сотни) моему прапрадеду статс-секретарю Адаму Васильевичу Олсуфьеву хранится у нас. Оно переплетено, вероятно, моим дедом, Василием Дмитриевичем в красный сафьяновый переплет и названо «Сокровище безценное» – повторение названия, данного этому собранию самим моим прапрадедом; записка с этим наименованием наклеена на обороте верхней доски переплета. Мы имеем намерение с сыном М<ишей> передать эти письма Государственной Румянцевской библиотеке. Они изданы были в «Русском архиве».
(обратно)89
Рассказ о кн. Александре Михайловиче Голицыне слышал от троюродной сестры моей Марии Васильевны Богдановой, рожденной Олсуфьевой, дочери Василия Александровича.
(обратно)90
Миниатюры изданы в «Пам<ятниках> ис к<усст>ва Тульск<ой> г<убернии>» [год I, вып. II, табл. 36–1, 2].
(обратно)91
Марья Васильевна Богданова, рожденная Олсуфьева, замужем за Александром Матвеевичем Богдановым, долгое время бывшим зарайским уездным предводителем дворянства; его мать рожденная Нестерова; родился в родовом Богдановском имении Горках Юрьевского у<езда>.
(обратно)92
Текст, начиная со слов «открыты книжные шкафы», написан на наклейке, прикрывающей первоначальный рассказ, который звучит так: «Все бывало открыто взору этого друга, этого художественного деспота: и книги, и вещи в доме, и все Буйцы, и все мы наконец, он бранит, он поощряет, он творит каждым своим взглядом, каждым движением и интонацией». В копии воспроизведен окончательный вариант.
(обратно)93
В оригинале ошибочно «Марья», исправлено О. синим карандашом в копии. О. цитирует текст А. С. Пушкина по памяти. Подлинный текст звучит иначе:
(обратно)94
Кресло издано в «Памят<никах> иск<усст>ва Тульск<ой> г<убернии>» [год I, вып. II, табл. 31–1, прим. 6].
(обратно)95
О Сергии Васильевиче Салтыкове см.: Бильбасов. История имп<ератрицы> Ек<атерины> II.
(обратно)96
Часы изданы в «Пам<ятниках> иск<усст>ва Тульск<ой> г<убернии>» [год I, вып. II, табл. 8–1].
(обратно)97
Гр<афиня> Софья Влад<имировна>, моя жена – Ю. О. В оригинале этого примечания нет, оно вписано синим карандашом рукой автора в копию.
(обратно)98
Часы изданы там же [год I, вып. II, табл. 9].
(обратно)99
Миниатюра издана там же [год I, вып. II, табл. 41–1].
(обратно)100
Миниатюра издана там же [год I, вып. II, табл. 41–2].
(обратно)101
Миниатюра издана там же [год I, вып. II, табл. 38–1, прим. 10].
(обратно)102
Табакерка издана там же [год I, вып. II, табл. 37–1, прим. 9].
(обратно)103
Табакерка издана там же [год I, вып. II, табл. 28–2].
(обратно)104
Табакерка издана там же [год I, вып. II, табл. 28–1].
(обратно)105
Миниатюра издана там же [год I, вып. II, табл. 36–3].
(обратно)106
Ваза издана там же [год I, вып. II, табл. 22–1, внизу слева].
(обратно)107
Первоначально было «Софоновой», исправлено О. в копии.
(обратно)108
Стакан издан там же [год III, вып. II, табл. 6–2].
(обратно)109
Стол<ы> издан<ы> там же [год III, вып. II, табл. 9–1, 2].
(обратно)110
Статуэтка издана там же [год III, вып. II, табл. 6–1].
(обратно)111
Веера изданы там же [год I, вып. II, табл. 25].
(обратно)112
Феодор Егорович Жестков был много лет буфетным, поступив к нам в Петербурге еще при моих родителях; был из крестьян Ново-Торжского у<езда> Тверской губ<ернии>. Последние годы, по слабости здоровья, был определен нами заведывать буецким хутором Кукуем (яблочный сад и лесные насаждения)(Фраза «начал службу…» в оригинале отсутствует, вписана О. в копию.).
(обратно)113
Текст «моросит унылый дождь ‹…› живыми вещами» написан по наклейке, закрывающей первоначальный вариант, перечеркнутый синим карандашом. Копия соответствует второму (окончательному) варианту.
(обратно)114
Священник Петр Иванович Гедеонов, поступил в наши Буйцы из «нижних» Буец весной 903 года, совсем молодым. Прекрасно служил и много заботился о благочинии в церкви. Был близок к нам. Женат на Зинаиде Сергеевне Дружининой, дочери бывшего нашего благочинного, священника села Гагарина. В 915 году перешел в город Ефремов; † в 1922 бездетным.
(обратно)115
Александр Иванович Плужников, заведующий Буйцами; служил прежде у гр. А. А. Боб ринского, у гр. М. Л. Толстого, у моего тестя и у кн. М. Р. Долгорукова. Добрый, почтенный, хозяйственный человек.
(обратно)116
Шкаф издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 22 внизу и 31].
(обратно)117
Шкаф издан там же [с. 20 вверху и 31].
(обратно)118
Ковш издан в «Памят<никах> иск<усст>ва Тульск<ой> г<убернии>»; в 1921 году оба ковша были похищены из Сергиевского дома.
(обратно)119
Пелены и кресты изданы там же [год III, вып. I. М., 1914, табл. 48–2].
(обратно)120
Пелены и кресты изданы там же [год I, вып. I, табл. 13–3].
(обратно)121
Люстра-паникадило издана в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 23 вверху и 32].
(обратно)122
В оригинале – «имевшие», но в копии О. исправлено на текущее (настоящее) время.
(обратно)123
В автографе нет слов «и левкоями», эта приписка сделана только в копии рукою Софьи Владимировны Олсуфьевой.
(обратно)124
Ваза издана в «Пам<ятниках> иск<усства> Тульск<ой> г<убернии>» [год I, вып. II, табл. 28–2).
(обратно)125
Кафель издан там же [год III, вып. II, табл. 21–1].
(обратно)126
Оба шкафа изданы в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского и, как большая часть наших вещей, описанных в Москве Успенским и изданных в «Золотом руне», были отданы нами в ризницу и библиотеку Куликовского монастыря в 1917 году [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 21, 25 вверху и 31].
(обратно)127
Диван и цветные гравюры, висевшие над ним, изданы в «Пам<ятниках> иск<усства> Тульск<ой> г<убернии>» [год III, вып. II, табл. 20–1].
(обратно)128
Зеркало издано в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с.19 внизу и 30].
(обратно)129
Сервиз издан в «Пам<ятниках> иск<усства> Туль<ской> губ<ернии>» [год I, вып. II, табл. 21–5, в середине].
(обратно)130
Сервиз издан там же; он принадлежал Елене Васильевне Тучковой, рожденной гр. Орло вой-Денисовой, другу моей матери.
(обратно)131
Чашки изданы там же [год I, вып. II, табл. 22–2].
(обратно)132
Чернильница издана там же [год I, вып. II, табл. 21–5, справа].
(обратно)133
Бульотки и Сафоновское серебро изданы там же [год I, вып. II, табл. 27–2].
(обратно)134
Солонка издана там же [год I, вып. II, табл.8–2].
(обратно)135
Ларь издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 27 внизу слева и 32].
(обратно)136
Венцы изданы в «Пам<ятниках> иск<усства> Тульск<ой> г<у бернии>».
(обратно)137
Серебро издано там же [год I, вып. II, табл. 27–1].
(обратно)138
Сергей Дмитриевич Жариков – человек в доме; из крестьян села (кн. Гагариных) Крапивенского у<езда>. Же нат на Матреше, сироте, бывшей по мощницей няни при сыне М<ише>, а затем горничной С<они>; она родом была Новгородской губ<ернии>.
(обратно)139
В оригинале «протяжно-тихий», в копии О. исправлено на «унылый».
(обратно)140
В оригинале было «детскую», исправлено О. в копии.
(обратно)141
В оригинале было «пионами», исправлено О. в копии.
(обратно)142
Аквавтографе, а в копии – «старцу».
(обратно)143
Александр Андронов – старший конюх рабочей конюшни, крестьянин села Малевки Богородицкого у<езда>.
(обратно)144
Николай Кузьмич Котов, наш старший кучер; из крестьян буецкой слободы Бутырок; молодой, красивый, кроткий мужик. Женат на дочери Ильи Шишаева Марфе(Текст примечания написан на наклейке, имеющей дополнительную пагинацию (л. 110 а). В оригинале – «Торжецкого уезда», в копии исправлено синим карандашом рукой О.: «Ново-Торжского».), села Буец. В тяжелое время революции нас жалел и однажды прислал мне в подарок сапоги (жалели нас и другие крестьяне, присылая нам в Посад при случаях разные съестные припасы).
(обратно)145
Трофим Валяев из деревни Гороховки на Дону (тоже Олсуфьевской, одного прихода с Буйцами). Раньше был старшим конюхом в нашей Даниловке, затем был у нас вторым кучером.
(обратно)146
Степан Бусагин, деревни Клина (Олсуфьевской, рядом с Даниловкой); в мое детство перешел к нам на конюшню конюхом после кончины нашей соседки Д. И. Сафоновой, у которой тоже служил конюхом; дожил у нас до 17 года; сопровождал верхом нашего сына М<ишу>, как когда-то и меня в детстве, но, конечно, уже не в татарском наряде (см. выше, встречи моего отца).
(обратно)147
Буйцы – наша любимая тульская вотчина, отнятая революцией.
(обратно)148
Гр. София Владимировна, моя жена.
(обратно)149
Интеллигенция – в смысле идеологическом, а не классовом.
(обратно)
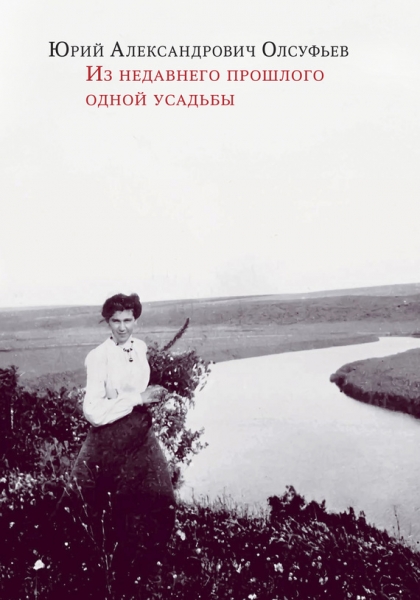



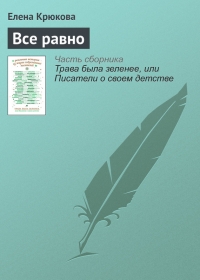
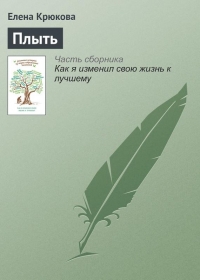

Комментарии к книге «Из недавнего прошлого одной усадьбы», Юрий Александрович Олсуфьев
Всего 0 комментариев