Наум Коржавин В соблазнах кровавой эпохи Воспоминания в 2 книгах Книга 1
Посвящается моей жене Любе
Вступление
Прежде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы назвать как-то более скромно — «жестокой». Но жестокость в истории при всей ее отвратительности не всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И то, что к ней привело — в значительной степени — тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени.
Часть этой работы (детство до 1937 года — календарного, а не символического) и первый вариант этого «Вступления» я написал в 1980 году, когда ни о каком Горбачеве и ни о какой перестройке и речи как будто быть не могло. «Кающийся антисталинист» (это не ругательная кличка, а самоопределение) Александр Зиновьев предрекал брежневщине чуть ли не тысячелетнее царство. Я понимал, что этого не может быть, что брежневщина — эта «сталинщина с человеческим лицом» — сама себя съест, но в том, что это окончится благополучным исходом, сомневался и я (это и теперь еще не ясно). Но не исключал я и того, что просто так же как живем — организованными, якобы стройными рядами, по-прежнему лениво изображая из себя энтузиастов (точнее, не противясь тому, что нас лениво выдают за энтузиастов), мы и забредем в пропасть. В душе, конечно, теплилась надежда, но держалась она не на логике, а на вере в витализм народа и его истории. Не мог я представить себе, что все это вдруг может взять и кончиться — все, во что вложили себя Петр Первый и Александр Второй, Сперанский и Столыпин, Пушкин и Блок, Толстой и Достоевский, — все, что за каждым и в каждом из нас. Да и наши собственные биографии — весь наш путь из прострации к реальности, от ностальгической романтики интернационализма и мировой революции (плод чьего-то беспардонного и неграмотного идеализма, привлекавший простотой и отвлеченностью тех, кому после 1917 года все равно уже некуда было податься) к ощущению вечности и родины, все наши бессильные, но просвещающие прозрения и открытия, «все (выражение А. И. Солженицына) взрывы нашего несогласия», все старания так или иначе восстановить исторические связи — не мог я поверить, чтоб это все не имело ни смысла, ни развития. Огромный — не смотря ни на что — духовный и интеллектуальный потенциал не мог же быть дан этой стране просто так, на выброс.
Но, конечно, это было чувство, желание надежда и вера, но не знание. Вера эта теплилась во мне и в тревожные предзимние дни 1990 года, теплится и теперь, в мае 1991-го. Но ни в уверенность, ни в знание она не превратилась. Ибо и теперь, как в 1980-м, я знаю, что время упущено и выхода не видно. Принято обвинять в этом Горбачева, и он действительно часто тормозит попытки наверстать время, но в целом это последний раз произошло задолго до него — еще при Хрущеве. Горбачев только мог попытаться более или менее робко выйти из этой теоретически безвыходной ситуации, в которую не заводил, а попал вместе со всеми. Возможность такой ситуации предопределил Ленин, на бешеной скорости устремил к ней страну Сталин, упустил время сравнительно безболезненно ее предотвратить Хрущев (который к тому же усугубил безвыходность, втянув страну в абсолютно ненужную ей и непосильную глобальную политику), а утвердила ее в качестве незыблемого закона жизни, исходя из принципа: «После нас — хоть потоп!» — жовиальная брежневщина.
В сущности, брежневщина была самореализацией сталинщины, «сталинщиной на свободе». Сталинские соколы и те, кого они подобрали, без оглядки на сталинскую плетку реализовали те качества, за которые их когда-то выдвинул Сталин. Прежде всего естественный и (чаще) воспитанный аморализм. Начинался он хотя бы с того, что выдвиженцы обязаны были играть активную политическую и идеологическую роль, хотя подбирались они из людей к этим материям безразличных. Безразличие это само по себе не аморально, но при согласии играть такую роль — а речь идет о государстве, являющемся по форме идеологической диктатурой, — положение меняется. Они становятся не только аморальны, но и опасны, ибо начинают контролировать то, в чем другие понимают больше, чем они. На том основании, что они больше преданы товарищу Сталину и лучше понимают его волю, а это и есть критерий всего. На их глазах и при их участии мучают и убивают, но мысль, что и при великом Сталине человек все равно должен иметь принципы и отвечать за свои слова и поступки, показалась бы такому человеку кощунственной, он об этом просто не догадывается. Ему удобно не догадываться, он привык к такой системе ценностей и при ней значим. Так и получается — сначала не догадывается, а потом привыкает. А потом любой ценой защищает добытые при этой недогадливости привилегии. И саму недогадливость как их основу и высшую человеческую ценность.
Этих людей иногда воспринимают как фанатиков. Но они фанатики не какой-либо идеи, пусть античеловеческой, а только тех условий, при которых играли не совсем им до сих пор ясную роль. Они и не изверги, как Сталин, хотя участвовали в его преступлениях, одобряли и покрывали их. Даже жуликами были далеко не все из них. Но жулики профилировали. Слишком много раз, при Сталине и после него, они вопреки очевидности «побеждали», «оказывались правы» и в общем «на коне», чтобы это не оказывало «воспитательного» воздействия на окружающих — тем более на изначально деморализованный аппарат, всецело зависящий от непредвидимых поворотов. В этих условиях беспринципность и цинизм как бы обретают статус высшей государственной и даже человеческой мудрости, и если не формально, то фактически вся страна попадает во власть их морали. Тем более аппарат. Сталинскому аппаратчику надо было каждодневно проявлять эти качества, если не для того, чтоб еще больше возвыситься, то хотя бы чтоб уцелеть. Идеологией при этом, сознавая это или нет, они только манипулировали, привыкая не отдавать себе отчета в действительных мотивах собственного поведения. Так что было чему развернуться при Брежневе — во времена, справедливо теперь называемые застойными. Только на этот раз приобретенные таким образом качества и навыки эти деятели проявляли, угождая не Сталину, а самим себе, чтоб всласть пожить.
Застойность этих лет, конечно, относительна. Ничто не стояло на месте, а двигалось — правда, в пропасть. Исчезали продукты. То, что было при мне в 1973 году всем в Москве доступно, к 1980-му уже смутно помнилось, а в Поволжье часто и помнить было нечего. Народ выкручивался как мог. А на поверхности лениво изображалось кипение — поднималось Центральное Нечерноземье, возводились «ударные стройки пятилеток», входил в силу «развитой социализм». Правда, почему-то вместе с Продовольственной программой, которая бралась покрыть потребности этого «развитого социализма» в продовольствии только через несколько лет, и то частично. Все это было достаточно нелепо, но власть предержащим это обеспечивало — официально во имя будущего, а фактически за его счет — такое положение, чтоб «на их век хватило». Впрочем, афганская война показала, что они начали дуреть от бесконтрольности и стали опасны даже для самих себя. Это в значительной степени и определило слабость их сопротивления перестройке на первых порах.
Но все-таки в 1980 году, когда я начинал эту работу, противоестественное положение в стране выглядело вполне стабильно. Ясно было, что так быть не может, — особенно после того, как Рейган принял советский вызов в гонке вооружений, — но было непредставимо, как это может прерваться. На фоне этой странной и ирреальной стабильности, на которую никак не влиял тот факт, что мне, да и не только мне, ее генезис и порочность ясны давно, я и начал писать эту книгу. Отчасти я просто уступал желанию своих друзей, считавших, что это будет интересно, отчасти же мне просто захотелось вспомнить о том, как мыслящие люди моего поколения ладили с ирреальной действительностью и вырывались из этой ирреальности. Я считал это интересным и важным. И сейчас так считаю.
Сегодня, когда люди моего поколения становятся объектом одномерной резвой критики новых поколений, важность этой задачи даже возрастает. Дело не в том, что мы не заслуживаем критики — в этой работе ее будет сколько угодно, — дело в том, что в этой резвости есть не только попытка самоутверждения за чужой счет, но и опасное забвение истории. Будет плохо, если наш опыт не будет учтен, если ехидно-наивный вопрос «Как вы (т. е. мы, — Н. К.) могли?» будет многим казаться убийственно простым, Это значит, что многие из них при случае, в безвыходной ситуации тоже не узнают соблазна (а он на то и соблазн, чтоб его не узнавали) и предадутся ему как истине.
Задача моя все та же, но времена и условия — иные. Как бы сегодня ни вел себя Горбачев (или Ельцин, или кто другой — вычитываю после крушения Заговора), то, что он сделал в начале перестройки, — это попытка реанимации нашего убитого общества. В дни, когда я пишу это, реанимация эта захлебывается в цейтноте, преследовавшем ее с самого начала. Все надо сделать, все неотложно, все требует средств. Старая система работать не может, а новую вводить сложно и боязно. И есть чего бояться. Сравнение с НЭПом неправомерно: тогда достаточно было разрешить крестьянствовать, торговать, заняться предпринимательством — люди все это умели делать. Теперь не то — слишком уж велик был этот «Великий перелом», слишком уж долго мы жили этой переломленной жизнью, противоестественными производственными отношениями. Никому с ними не было хорошо — все страдали, все чертыхались, но… привыкли, притерпелись, приспособились, многие приворовались. Как-то живут. И ломка пугает:
Выходит, пятая нога, Пришитая искусно, Бывает тоже дорога. И это очень грустно, —писал поэт Валентин Берестов о собаке, околевшей с тоски, когда у нее отрезали искусно пришитую ей и сильно досаждавшую ей пятую ногу. Мы не собаки, но пятую ногу пришили и нам. И многим страшно с ней расставаться. Но и оставаться с ней в нашем случае опасно — от нее гангрена идет. Систему все равно придется менять — иначе не выжить.
Но как это сделать? Обычно сменяющая система созревает в недрах сменяемой, но в недрах нашей искусственной системы не созревает ничего, кроме всесторонней коррупции. По-видимому, вернуться к естественности эта искусственная система может тоже только искусственным, т. е. детально продуманным путем. С тем только отличием, что мероприятия должны быть продуманы таким образом, чтоб они по дороге подхватывались просыпающейся стихией жизни, т. е. чтоб они шли навстречу этой стихии.
Это и само по себе трудно… Рыночная система может начать давать плоды, то есть облегчить людям жизнь быстро, но отнюдь не сразу. Поначалу она больно заденет ближайшие интересы слишком многих, отнюдь не только номенклатуры. А куда дальше задевать? Полки пусты, люди раздражены, в Москве очереди за любым товаром. И еще всякие «шоки без терапии» — куда дальше? Никто еще никогда не возвращался к реальности из такого погружения в фантастику и прострацию, у человечества просто нет такого опыта. Экономисты находят разумные выходы, но на все нужно время, а его нет.
А ведь есть влиятельные круги, которым реформа — нож вострый, которые самоубийственно стремятся и умеют затормозить любой путь к спасению. Сейчас они потерпели поражение в связи с попыткой переворота, но вряд ли исчезли. Осенью говорили, что они продукты утаивают, чтоб, создав кризис, захватить власть, а тогда выбросить их на прилавки: смотри, народ, кто твои благодетели! Что-то они вроде и впрямь «выбросили» — не помогло. Впрочем, они могли б и победить. А дальше? Военный переворот может стабилизировать политическую обстановку, но восстановить разрушенные экономические отношения он не может. Тем более с армией, допустившей «дедовщину», и при генералах, слившихся с партократией. При этих условиях военный переворот в случае успеха окажется только стимулятором хаоса.
Но, может, разгром заговора спасет нас. Ведь пахло какой-то странной перманентной гибелью великой страны. И порою мне казалось, что писать нелепо — до того ли читателю?
Не идет из головы увиденное по телевизору осенью 1990-го. Интеллигентная женщина в очереди за чем-то, растянувшейся на десятки кварталов. В ответ на вопрос корреспондента она показала ему ладонь с номером своей очереди, а потом отвернулась и заплакала. Конечно, от беспомощности и отчаяния в первую очередь: тяжело и обидно выстоять такой хвост за тем, что съестся очень быстро. Но еще и от стыда за свою страну, за то, что без войны и бедствий мы сами себя довели, дали себя довести до жизни такой. Я старше этой женщины минимум лет на двадцать, живу за границей и хвостов не выстаиваю, но мне тоже хотелось плакать от стыда вместе с ней и перед ней, хотя никакой особой вины перед ней у меня нет. Разве только что я старше. Но и я уже пришел «на готовое», от меня ничего не зависело… А на постижение самых простых истин бытия мне пришлось потратить годы.
Я и теперь мало что могу изменить, но поделиться опытом этих лет считаю необходимым. Это напряженный духовный опыт. И даже если сейчас людям будет не до него, потом им будет до него. Все же надо объясниться. А откладывать это мне уже вроде не на когда.
Есть еще одна, может быть, самая существенная сторона моей жизни, связанная со всем, о чем говорилось выше, но особая. Это мои творческие поиски, то, к чему я пришел в понимании поэзии, моя борьба с культом бессмысленного самовыражения (самовыражения без откровения) и «новаторства». Она тоже будет занимать свое место в этой книге. В книгу, вероятно, войдут те мои стихи, которые имеют отношение к моей внутренней биографии, но не кажутся мне сегодня выходящими за ее пределы. В нашей жизни было и есть слишком много острой современности, и это не очень хорошо для искусства. Но еще хуже для него ложь — искусственно игнорировать эту «современность» тоже нельзя. Надо ее преодолевать. Но об этом в других моих работах и в самой этой книге.
Часть первая. До войны
Начало детства: среда обитания
Я родился 14 октября 1925 года в Киеве. Это значит, что я родился через восемь лет после октябрьского переворота и года за четыре до начала «великого перелома», то есть коллективизации, уничтожения кулачества как класса в деревне и «мелкой буржуазии» в городе, индустриализации и прочих прелестей, определивших жизнь страны на многие годы вперед. Родился в апогее так угнетавшего романтиков революции «угара НЭПа». Но подземная разрушительная работа «культурной революции» уже шла вовсю, хотя казалась многим просто наивным культуррегентством: Только такие зоркие люди, как И. П. Павлов, ощущали ее разрушительную потенцию.
Конечно, эти ретроспективные характеристики времени сами по себе не относятся к жанру воспоминаний, но без них не обойтись. Ими окрашены все воспоминания об этом времени, которое как-то уж очень быстро было отодвинуто в «наше славное прошлое», в разряд несомненных успехов, о которых запрещалось думать, да и сами запрещавшие, похоже, не думали, но у которых, конечно, была своя реальность, во многом определившая жизнь страны и жизнь многих, в том числе и мою. Мысли эти — не воспоминания, но для нас вспоминать — значит думать. Думать о том, какой все-таки жизнью мы жили, что нас окружало, что значили слова, которые нам внушали. Блок сказал, что «рожденные в года глухие пути не помнят своего». Не знаю, как назвать наши «года», но для нас, оглушенных ими, каждое трехлетие, максимум пятилетие — целая эпоха, по разному формировавшая сознание. Каждая небольшая возрастная группа — и это продолжалось чуть ли не до начала шестидесятых — представляла из себя как бы отдельное поколение. Лишь потом все эти поколения слились в одно. В «годы застоя» произошла кардинальная настоящая смена поколений: сменились, пусть еще не до конца, все наши поколения вместе.
На первый взгляд так бывает всегда — во всяком случае в Новое Время. Поколения сначала расходятся, ибо молодое обычно сильно преувеличивает свою особость, а потом сливаются. Это естественно. Но в нашем случае ничего естественного не было. Просто при Сталине вся отечественная и мировая история рассматривалась как подчиненная инстанция: как прикажут, так и будет себя вести. Это касалось и более далеких ее периодов — они получали каждый раз новую трактовку в связи с ближайшими политическими расчетами. Но особенно это касалось времен более близких — те вообще наглухо засекречивались.
В декабре 1947 года со мной на Лубянке сидел очень милый и порядочный человек по фамилии Богданов, брат философа. О нем (его имя и отчество, к сожалению, выветрились из моей памяти) я еще буду говорить, когда рассказ мой дойдет до этого времени. С ним произошло следующее. После того как более серьезные обвинения, выдвинутые против него, рассыпались, для того чтобы закрыть дело, остановились на его единственном неопровержимом «преступлении», а именно — на хранении найденной у него при обыске антисоветской литературы. Так вот этой литературой был чудом уцелевший от тщательных самообысков конца тридцатых (завалялся среди книг и бумаг) номер «Правды», датированный не то двадцать пятым, не то двадцать шестым годом.
В данном случае меня интересует не попрание права при Сталине (тогда прав не было), а утвердившееся при нем патологическое отношение к памяти. Думаю, что, если бы этот номер Центрального Комитета правящей партии относился к началу тридцатых, «преступление» квалифицировалось бы так же. В библиотеках, в открытом доступе (не в спецхране) нельзя было получить советские газеты более чем двухлетней давности. «Антисоветским» для этой партии стал прежде всего ее собственный славный путь.
Так что каждый мог помнить только те события, свидетелем которых был он сам. Да и то освещение этих событий (а также и событий далекого прошлого), которое давалось при нем. Короче, всю атмосферу времени своего становления, для каждого короткого периода особую. Суть не в нормальном и трагическом забвении времен (уж слишком коротки были их «времена»), а именно в искусственном их засекречивании… Атмосфера каждого из этих «времен» всегда выдавалась за следование единственно истинной системе ценностей, но потом заталкивалась подальше и засекречивалась, и атмосферу эту можно было теперь только восстанавливать по памяти (и, как все скрываемое, она легко поддавалась романтической идеализации). Это влияло на формирование всех, в том числе и тех, кто не поддавался пропагандному облучению, кто сомневался и искал истину. Поиски каждого из них начинались с опровержения того варианта лжи, который внушался о времени, когда начинал мыслить именно он. Это и окрашивало по-разному облик разных поколений интеллигенции (я имею в виду не лиц интеллигентных профессий, а людей, для которых приобщение к культуре означает приобщение к мысли).
Как видите, дата моего рождения в этой работе служит для определения не только моего возраста, а и точки обзора.
Но вернемся к моей биографии. Читатель уже знает, что я родился в 1925 году в Киеве. К этому следует еще добавить, что родился я в еврейской семье.
Факт этот — существенный для нашего времени, хоть он — хорошо это или нет — не оказал серьезного влияния на мою взрослую жизнь. Однако первые годы жизни я провел в кондовом еврейском окружении.
Правда, говоря о кондовости, следует сделать поправку на время. Ни отец, ни мать, ни семьи сестры отца и одной из сестер матери не были религиозными людьми и не придерживались связанных с этим традиций, что никак не соответствует представлению о еврейской кондовости. В старинном понимании этого слова они вообще не были евреями. Тем не менее — таковы были времена — принадлежность всех моих родных к еврейству была для них и всех, кто имел с ними дело, фактом несомненным, само собой разумеющимся и не нуждающимся в подтверждении. Они ушли от религии, но не ушли от сформированного ею уклада и психологии. Да и вообще практически они до самой войны и эвакуации в своей жизни и связях за пределы еврейского круга не выходили. Нечто подобное я встречал в СССР и среди секуляризованных мусульман.
Впрочем, вокруг меня было много и несекуляризованных евреев. С бородами. Один из них, муж старшей из материнских сестер — она была старше матери больше, чем на двадцать лет — Хаи-Иты (на мой слух — Хаиты) Аарон-Мойша (на мой слух — Армейша), жил с нами в одной квартире. До середины тридцатых он был владельцем того двухэтажного четырехквартирного дома (в нем была еще и пятая, но с выходом только во двор, видимо, дворницкая), в котором мы жили. Это последнее, что оставалось от его дореволюционного, видимо, значительного состояния. Году в 1936-м он вынужден был «добровольно» сдать этот дом в «жилкоп» — «жилищный кооператив», как говорили в Киеве (в Москве это называлось бы ЖАКТом) — фактически государству.
После войны все эти жакты и жилкопы, укрупнив, открыто превратили в жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК), прямо подчиненные горсовету, и квартиры стали считаться государственными. Граждане не восприняли это как узурпацию — они не заметили разницы. Да ее и не было. Это было изменение в административной структуре, а не в их положении.
Поначалу эту пятикомнатную квартиру с кухней и большой террасой, называемой коридором, но без ванной, занимали только мы и дядя с тетей. Потом квартира стала населяться и другими людьми, большей частью тоже бородатыми.
Первым поселился брат отца, Иосиф, раввин — с женой и двумя сыновьями (он был не только с бородой, а почти и по-русски не говорил). Потом одну из этих двух комнат разделили пополам, и в одной из ее половин поселился старик со взрослыми дочерью и сыном, тоже бородатый и тоже наш родственник, правда, дальний. Был у меня еще один дядя, брат матери, тоже Иосиф, тоже верующий, но он жил не с нами, а на Демиевке (тогда уже Сталинке, а сейчас опять Демиевке). Так что бородатых вокруг меня вполне хватало.
Но были и впечатления совсем другого рода. Некоторое время, правда, недолго, жила в нашей квартире (не знаю, на каких правах, может, тоже были родственниками) еще одна семья, муж и жена. Сравнительно молодые. Видимо, он был нэпманом. Помню, что был он какой-то большой, веселый и добрый. Но однажды за ним пришла девушка-милиционер и весело (именно весело — я это помню) увела его с собой. Вернулся он то ли в тот же день, то ли на следующее утро. Рассказывал взрослым, как объяснял следователю, что у него больше нет ничего. Не знаю, доказал ли, но скоро они с женой куда-то исчезли. Наверно, уехали, чтоб раствориться, как многие тогда, где-то в России.
Интересно мое восприятие этого события. Помню, что он был мне симпатичен — детям нравятся большие, добрые, надежные люди, — но, будучи уже захваченным революционно-романтическим конформизмом, я ему не сочувствовал. Мне больше нравилась девушка-милиционер. Теперь я знаю, что тогда многие так метались по стране, запутывали следы, стремились откуда-то добраться куда-то, где будут менее заметны, старались выглядеть имеющими гораздо меньше, чем имели (даже если имели мало), и т. д. Знаю, что мы все виноваты перед этими людьми. Но тогда я только удивился: был человек и вдруг исчез. Потом я этому уже не удивлялся, а настало время — и сам так исчезал. В такое время мы жили. Но повод говорить о подобных исчезновениях у нас еще возникнет не раз. А сейчас речь о другом.
Все это происходило отнюдь не только в еврейской среде, но я рассказываю о том, что было на моих глазах. И если эти бытовые подробности опровергают распространенное в части эмиграции, а последнее время отчасти и в СССР, представление о неразрывной связи евреев с большевизмом, то только потому, что такой связи не существует. Несмотря на несомненность активного участия многих евреев в революции и в отстраивании советской власти, совершенно очевидно, что во всем этом участвовали не одни евреи, и главное, не все евреи и даже отнюдь не большинство евреев. Но попытке разобраться в этой непростой теме посвящена у меня отдельная статья «Безысходные умыслы», которую я не теряю надежды увидеть напечатанной на родине. Здесь же главным образом я рассказываю о том, что запечатлелось в моей памяти.
Жил я тогда в самой толще еврейской массы, но никакой особой приверженности к революционной власти в ней (потом, когда подрос, к величайшему моему огорчению) не замечал. То, что вокруг не было никаких деятелей революции, меня не удивляло — небожители и должны обитать в иных сферах. Но получалось, что почти все вокруг, кроме меня, относились и к советской власти, и к ее романтике весьма прохладно, были, говоря моим тогдашним языком, «мещанами», обывателями, проявляли обычную законопослушность и только. Слова «коммунист» и «милиционер» произносились в этой среде — конечно, представителями старших поколений — с откровенной неприязнью и опаской. Дошло до того, что мой упоминавшийся уже здесь дядя, хозяин дома, в 1941 году наотрез отказался эвакуироваться и погиб в Бабьем Яру. Не веря советской пропаганде ни в чем, он не поверил и тому, что она говорила о нацистах — тем более что немцев в 1918 году он видел сам и знал, что они в отличие от большевиков — «культурные люди». Он не предполагал, что «прогресс» уже коснулся не только нашей страны. Это не делает чести его осведомленности и пониманию обстановки, но уж никак не свидетельствует об органической связи всего еврейства с большевизмом.
Но это не отменяет и того факта, что действительно почти все еврейство было благодарно советской власти за отмену унизительных ограничений для евреев. Тут была и некоторая аберрация, ибо отменило их окончательно (ибо они были размыты и до этого) Временное правительство, а не большевики. Но так внушалось. Следует помнить, что основная масса евреев была так же мало подготовлена к пониманию происходившего, как и основная масса населения Российской империи вообще.
А, кроме того, — что греха таить? — евреи помнили, что в хаосе Гражданской войны только красные да еще, кажется, Махно активно противодействовали еврейским погромам. К сожалению, белые с таким противодействием не ассоциировались даже в умах людей, отнюдь не захваченных коммунистической идейностью.
В нашем доме, в уже упоминавшейся пятой, дворницкой, квартире, жил с семьей некто Арл Щиглик. Одно время он, помнится, и впрямь был дворником нашего дома, а потом просто квартира осталась за ним. Человеком он был малограмотным (чернорабочий-подсобник), но, видимо, неглупым. К существующему строю относился без всяких сантиментов. «У нас, — объяснил он однажды моему отцу, — социализм. А что это значит? Это значит: все твое, но только руками не трогай». И вот в устах этого человека не было более злого оскорбления, чем «Дыныкын!» Вряд ли Арл имел хоть какое-то представление о личности самого генерала А. И. Деникина. Это сказывались скорей всего просто не совсем приятные воспоминания о пребывании Белой армии в его местечке. Может, отчасти они были подогреты пропагандой, но вряд ли — к ней он был обычно глух, да и грамоты не хватало ее вкушать.
Могу засвидетельствовать, что, к сожалению, такие воспоминания долго оставались не только у евреев на Юго-Западе о деникинцах, а и у чисто русского населения на Урале и в Сибири о колчаковцах. Поскольку мне потом пришлось жить и там, на путях наступления и отступления колчаковских войск, я вполне могу засвидетельствовать, что и в той, и в другой местности слово «колчаки» произносилось неприязненно, было ругательством. Вероятно, какие-то основания у такой репутации были, но я вовсе не думаю, что такая память о Белом движении справедлива — белые отнюдь не были более жестокими, чем красные. Тем более не должны они были так выглядеть после всех бедствий коллективизации, разоривших деревню и жизнь, а это простыми людьми этих мест вполне и тогда сознавалось.
Но, видимо, с партии порядка больший спрос, и репутация эта имела место (и не только среди евреев). Все-таки во главе там были не полуграмотные выдвиженцы, а офицеры в погонах. Но когда эксцессы, ее вызывавшие, касались евреев, иногда вдобавок огульно зачисляемых в большевики, — это неизбежно ассоциировалось в их сознании с их положением до революции, с такими, например, акциями, как «дело Бейлиса». Конечно, это несравнимо с тем, что было потом. Даже с теми же евреями. Планировавшееся «дело врачей» было пострашней и пототальней «дела Бейлиса». Негласная процентная норма при Сталине — Хрущеве — Брежневе была намного ниже, чем гласная при царе. Правда, нет черты оседлости. Но, может быть, только потому, что необходимость иметь «право жительства» в виде прописки сегодня распространена на все население страны. Но тем не менее приуменьшать оскорбительный смысл таких акций и открытых ограничений (дискриминации) не очень достойно. Впрочем, при всем при том о жизни в «мирное время» (значит, до 1914 года) многие простые евреи, его хлебнувшие, вспоминали с нежностью. И жизнь, и люди бывают логичны далеко не всегда.
Все это я говорю объективности ради, а не для того, чтобы затушевать роль евреев-революционеров или поведение тех евреев-интеллигентов, кто в начале двадцатых ринулся в непропорционально большом количестве в государственное строительство. Конечно, в том, что они этим соблазнились, сыграло роль их положение до революции, когда всякая подобная деятельность была для них независимо от их личных качеств наглухо закрыта. Я не оправдываю ни одного по-настоящему образованного человека, кто этим соблазнился, — личность не могут оправдать обстоятельства. Но и обстоятельства эти оправдывать не следует.
Впрочем, вокруг меня никаких таких евреев — так же как и представителей других наций — не было. Они были так же далеки от нас, как и от каждого среднего советского гражданина. И такое элитное детство, какое описывает в своих «Записках адвоката» Д. Каминская, мне даже и не снилось. Я этим отнюдь не открещиваюсь от ее элитной компании, куда входили много вполне мною потом уважаемых и даже любимых людей (то, что они получили от своего элитного детства, пошло на пользу не только им). В истории, да и в жизни, Зло и Добро не живут сепаратно, и, поднимая руку на Зло, надо следить за тем, чтобы она ненароком не опустилась на Добро. Да и отцов этих ребят я не сужу сегодня слишком строго: видимо, не такие уж это плохие были люди, если воспитали таких детей. Кстати, то, что никто из них, этих отцов, так и не вступил в партию, неся с достоинством клеймо беспартийного «спеца» (тогда беспартийность была клеймом, затрудняющим жизнь), тоже говорит о том, что рудименты честности и принципиальности сидели в них достаточно прочно. Тем более непростительно, что они — отнюдь не одни выходцы из евреев — соблазнились подобным «сменовеховством». Впрочем, в детстве вокруг меня никаких «сменовеховцев» не было. Так же, как не было «настоящих партийцев».
Но отдаленное отношение к революционным традициям наша семья все-таки имела. А именно: однажды в юности моя мать с сестрой Шифрой сходила на маевку. В рощу возле родного местечка Ржищев Киевской губернии. Маевка была устроена кем-то из местных молодых и интересных передовых людей. Продолжалась она недолго. Только собрались — нагрянула местная полиция, и незадачливые революционеры пострадали за свободу — провели ночь в местном полицейском участке. «Страдали» весело. Пели песни, много смеялись. На утро явился кто-то из родственников матери и выкупил всех бунтовщиков скопом не то за трешку, не то за пятерку (вероятно, и бывшей главной целью этой крупной полицейской операции). На том и закончилась революционная деятельность обеих сестер. Остались только приятные воспоминания об «интересной молодости» (любимое выражение мамы).
С высоты своего личного и исторического опыта я привык относиться к этой историйке иронически. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я вдруг поймал себя на сомнении в правомерности этой иронии. Ведь это первые неумелые попытки молодых людей, что-то читавших и о чем-то узнавших, вырваться из замкнутого (и от этого нездорового) мира, в котором жили их родители. На этот путь их толкала и великая русская литература и культура, к которой они — тоже не всегда умело и не всегда грамотно — приобщались.
Впрочем, был среди моих родственников один, внесший более существенный вклад в революционное движение и даже в победу большевизма. Это Арон Ефремович Рубинштейн, другой мой дядя, муж второй маминой сестры, той самой Шифры, с которой она когда-то провела ночь в участке. Но вклад этот он внес не потому, что был большевиком или сочувствующим. Он просто был русским интеллигентом и не мог отказать в помощи простому человеку, которому трудно было самому грамотно составить нужную ему бумагу. И не вина дяди, что этим человеком, нуждавшимся в помощи, был не кто иной, как будущий «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, а бумагами, которые надо было выправить, — тексты его зажигательных речей. По каким-то неизвестным мне причинам он в 1917 году часто захаживал на петроградскую квартиру, которую дядя, будучи студентом, занимал вдвоем с неизвестным мне приятелем, и они ему помогали как сыну народа. Кстати, Калинин был далеко не самым худшим или жестоким большевистским деятелем.
А интеллигентом дядя в отличие от всей остальной моей родни был наследственным, происходил из семьи, из которой вышли знаменитые музыканты Рубинштейны, был очень образован, знал все европейские языки. И, кроме того, был в высшей степени добрым и порядочным человеком. Может быть, именно поэтому никакой карьеры при советской власти он не сделал, хотя закончил институт внешней торговли в начале двадцатых, когда «кадры» были очень нужны. Ни разу он не обращался за помощью к Калинину и вообще не напоминал ему о себе. Может, еще и потому, что ни на какую карьеру не претендовал. При мне дядя, несмотря на все свои знания, работал заведующим библиотекой и переводчиком в НИИ деревообрабатывающей промышленности и, судя по моим детским и отроческим воспоминаниям, никаким комплексом неполноценности в связи с этим не мучился. Как я теперь понимаю, выглядел он человеком, потерпевшим крупное жизненное крушение. Какое — не знаю.
В молодости он привлекался к суду, но не за революционную деятельность, а за участие в еврейской группе самообороны. В эмигрантской печати встречается иногда осуждение этих групп: дескать, они с оружием выступали против безоружной толпы. Можно подумать, что эти группы занимались разгоном мирных демонстраций. Между тем они только оказывали сопротивление тем, кто шел громить, грабить и убивать. Отсутствие в руках таких громил огнестрельного оружия ничего не меняло, им при отсутствии сопротивления вполне хватало крюков и оглобель. Иногда эту толпу оправдывают оскорбленностью ее монархических чувств, задетых евреями-революционерами. Безусловно, такие люди в России были (я сейчас не обсуждаю вопрос, правы ли они), но вряд ли именно они отправлялись по этой причине грабить магазины. Дядя мой, между прочим, защищал не заседание «совета депутатов» или эсдековско-эсеровской фракции, а именно магазины (хотя сам он никогда магазинами не владел), именно против них почему-то в первую очередь в таких случаях обычно устремлялся «праведный монархический гнев». Иногда погромщиков называют еще «консервативными элементами», но «консервативный погромщик» — это все-таки нонсенс.
Дядя был судим по знаменитому «гомельскому процессу», защищаем знаменитым адвокатом Зарудным и оправдан. Между тем он не был ни еврейским националистом, ни таким уж рьяным защитником частной собственности (кто тогда в молодой интеллигентской среде им был?) — он просто защищал свое личное достоинство, которое чувствовал задетым, и считал, что противостоит «темной силе». Думаю, что так оно и было. Ревизия революционных традиций русской интеллигенции, чтобы быть благотворной, не должна заходить за грани элементарной порядочности и здравого смысла. Обелять погромы — если еще не настал конец истории и памяти — дело безнадежное и неумное. Не более умное, чем идентифицировать с погромщиками весь русский, украинский или любой другой народ. Все-таки черное есть черное, а белое — белое. И пусть оно так и будет. Впрочем, сейчас появились в России уже не защитники погромщиков, а апологеты погромов и геноцида, но это уже другая тема.
Умер мой дядя смертью, типичной для такого рода интеллигентов. В эвакуации, в Саратове, для него не нашлось другого места в жизни, как быть завхозом ремесленного училища (никак не представлю его в такой роли). И уж, конечно, не нашлось никого другого, чтоб послать во главе «ремесленников» разгружать баржу. А был он, кроме всего прочего, уже в летах, старше моих родителей, а и им было уже по пятьдесят с гаком. Да и недоедание сказалось. Короче, схватил мой дядя на этой патриотической работе воспаление легких. Стрептоцида, который тогда только начал поступать из союзной Америки, на него выделить не спешили (тем более был конец недели), и он умер. В сущности это смерть героя «Сентиментальных повестей» М. М. Зощенко.
Правда, сам Зощенко добросовестно уверял себя и других, что ему этих своих героев не жалко, что все это им поделом. Но его проза точней проявляла его чувства, чем его взгляды. На самом деле не худшие, а лучшие качества этих людей делали их не приспособленными для выживания в противоестественном обществе. Российская интеллигенция уничтожалась не только лагерями и расстрелами, а и просто так — вытеснялась самой жизнью. Дядя еще долго продержался.
Но дядя Арон выделялся из среды моего детства хотя бы нереализованными возможностями. У всех остальных, если они и были, то обладатели их или сами об этом не знали, или не могли объяснить, в чем эти возможности заключались. Тем не менее и эта среда была не совсем рядовой.
Когда я слышу о всемирном еврейском заговоре, о жидомасонах и сионских старцах, то прежде, чем возмутиться злостности и глупости выдумки, я удивляюсь. Удивляет меня полное несоответствие грандиозности приписываемых замыслов знакомому с детства образу. Ни с чем громадным то, что я видел вокруг себя, никак не ассоциируется. Но, видимо, реальность тут вообще ни при чем.
Для многих нынешних московских «интеллектуальных» антисемитов евреи — только интеллигенты. Не такие, как надо, но только интеллигенты. Других они не видели. Даже образ еврея-торговца поблек перед этим образом. Впрочем, это относится не только к антисемитам, но и ко многим другим московским интеллигентам, в том числе и еврейского происхождения. Последние впервые столкнулись с неинтеллигентной еврейской массой только на путях эмиграции — в Вене и в Риме (потом пути опять разошлись). Это было для них потрясением. Ничего подобного они не знали и не предполагали, хотя перед отъездом сильно распинались в своей любви к еврейскому народу и к его необыкновенным (обычно приписываемым всеми националистами своим народам) качествам. Часто эти интеллектуалы были даже не москвичами, а допустим кишиневцами — неважно. Дома они эту «массу» в упор не видели — культурно-психологическое отчуждение социальных слоев друг от друга в СССР было почти абсолютным. Я же вырос в довоенном Киеве, где евреев было много, всяких и разных, а отчуждение не зашло еще так далеко. И поэтому удивлялся гораздо меньше. Хотя, конечно, разложение последующих лет отнюдь не прибавило благостности и им.
Но и эти люди не были на одно лицо. Достаточно сказать, что среди них были просто профессиональные уголовники. Эти попали на Запад по инициативе местных милиций, озабоченных улучшением отчетности. «Сам знаешь, — говорили такому в милиции, куда его вызывали или приводили, — материала на тебя достаточно. Можешь в эмиграцию, можешь — в заключение. Выбор твой». Вот и становился такой политэмигрантом. КГБ этому тоже не противился — лишняя смута в эмиграции была ему только наруку.
Но уголовники — это крайний случай. Больше было людей не уголовных, но просто не очень порядочных, легко пускавшихся во все тяжкие. Многие из тех, кто поражал тогда воображение наших интеллектуалов, были хоть и не интеллигентными, но вполне порядочными людьми. В непорядочные их зачисляли исключительно по складу речи. Почему-то всех их считали одесситами, хотя они были из разных городов, и хотя из Одессы выехало много интеллигентных людей, вообще к этому типу не относившихся. Так что с обобщением получается следующее: не каждый «одессит» из Одессы, не всяк, кто из Одессы, — «одессит», не все «одесситы» — торговцы, не все торговцы — по природе жулики.
Кстати, о порядочности. Недавно один нынешний антисемитский интеллектуал, любитель моральной «широты», изобрел выражение «жидовская порядочность». Не знаю, что он имел в виду. Не думаю, чтобы среди евреев было больше порядочности, чем среди других людей, или чтобы их порядочность была какой-то особой. Я вырос в среде, где, как и во всем среднем классе России, независимо от происхождения честность и порядочность почитались. Существовало семейное предание о каком-то из моих предков, который, гостя в Киеве, однажды случайно проехал в трамвае без билета. Он не мог успокоиться до тех пор, пока, опять попав в Киев, снова не сел в трамвай и не взял у кондуктора на этот раз два билета — один за прошлый раз. Так ли уж это смешно, как нам с вами сегодня кажется? А может быть, на такой «наивности» и «скучности» жизнь держалась?
Теперь о моем происхождении, то есть об истории моей семьи более конкретно. Разумеется, я никак не могу отнести себя к тем, о ком Твардовский говорит: «мы все, почти что поголовно, \ Оттуда люди, от земли», но следующие за этими строки «И дальше деда родословной \ Не помним. Предки не вели» относятся и ко мне. Впрочем, предки, может, и вели, но до меня не дошло. Не в такое время я рос, чтобы особенно интересоваться предками. А потом я вообще ушел из этой среды, и другие были у меня и есть интересы.
Особого раскаяния по этому поводу не чувствую. Я прожил трудную, но наполненную и в общем счастливую жизнь. И тому, что я полюбил, что сделало меня человеком, я, по всей вероятности, буду верен до конца. Отчасти в этом причина моей малой осведомленности, о которой теперь сожалею. Ибо все-таки это имеет непосредственное отношение ко мне, да и само по себе интересно. Но кое-что я все-таки слышал. Больше от отца в разное время, немного от других родственников. Тем более что мои родители были дальними родственниками, и многие предки у них — общие.
О родственниках я уже тут говорил. Некоторые из них, как уже известно читателю, жили в нашей квартире, в доме, принадлежавшем тоже родственнику. В этой квартире, в темном коридоре справа от входной двери, сразу за ней, стоял шкаф со старинными фолиантами на древнееврейском языке, что впоследствии, когда я начал без разбору читать, меня очень разочаровало. Обидно было — и книги стоят, и большие, а ничего, кроме «Дозволено цензурой», не прочтешь. Но, кроме книг, в этом шкафу находился предмет, имеющий более непосредственное отношение к истории нашей семьи — портрет (теперь я думаю, отпечаток гравюры) благообразного старика в ермолке, весь испещренный мельчайшими еврейскими письменами, может быть, даже и составленный из них. Возможно, это был способ обойти еврейский закон, строго запрещающий изображать людей, дабы не сотворить себе кумира, — не знаю. Мне сказали, что это мамин дедушка и что он — писатель. Видимо, эти письмена составляли его сочинения или изречения. Потом я узнал, что этот писатель и вправду знаменитость — религиозный мыслитель, один из основателей хасидизма. В те времена жестокого богоборчества люди особо не упирали на подобные заслуги своих предков.
Этот «писатель» — седая древность, то ли век XVII, то ли начало XVIII. Но мой дед со стороны отца был как бы его наследником — цадиком. Видимо, брат отца, раввин, живший потом в нашей квартире, — тоже. Мне этого никто не говорил, но по логике вещей так получается. Ибо в цадики в детстве готовили и моего отца. Более того, после того, как он осиротел, к нему уже и относились как к цадику. Хотя вроде бы это и странно. Ибо цадик в хасидизме — это мудрец, святой человек, наделенный благодатью, и его миссия не должна передаваться по наследству. Однако, видимо, так повелось. Тут не обходилось и без недоразумений. У разных цадиков (или династий) были свои поклонники, иногда очень страстные. Возникали острые конфликты. Однажды (а, может, не однажды, но отец мне рассказал только об одном случае) дело дошло до настоящих баталий между двумя местечками. В дело вынужден был вмешаться губернатор. Между враждующими сторонами встали войска империи. «Раздухарившиеся» от «внутриизраильской» междоусобицы стороны вынуждены были заметить существование «внешнего» мира и обнаружить себя у берегов Днепра, а не Иордана. Обычно они в те времена (видимо, в середине XIX века) без этого вполне обходились.
Доходило до курьезов. Какой-то из моих благочестивых предков однажды решил совершить паломничество в Святую землю. Вероятно, момент, им выбранный для этого, вполне соответствовал определенному этапу его внутреннего и духовного развития. Но беда в том, что больше он ничему не соответствовал, ибо неожиданно для него на его пути встало такое мелкое по сравнению с вечностью, но все же трудно преодолимое препятствие, как очередная русско-турецкая война. Так что не исключено, что параллельно с путешествием моего предка в Иерусалим совершалось в тех местах еще одно путешествие, правда, оставившее больше следов в истории, а именно — Пушкина в Арзрум. Но что моему предку была эта история и этот его современник? Мало вникая во все эти суетные «гойские» дела, он продолжал продвигаться к намеченной цели и в расположении войск. Сначала русских. Естественно, человек столь экзотического вида, к тому же, вероятно, и не говоривший по-русски, производил «в стане русских воинов» странное впечатление. Его заподозрили в шпионаже, задержали и препроводили к генералу. Генерал — хотя легенды об еврейском шпионаже существовали уже тогда — довольно скоро понял, с кем имеет дело, и приказал не только отпустить его, но и пропустить за русские линии. На турецкой стороне произошло то же самое. Турецкий генерал, к которому он был доставлен как шпион, тоже велел его отпустить. Вероятно, в те времена у людей были не только более простые понятия, но и более ясное ощущение религиозности, и они не путали его со шпионажем. Дошел ли мой предок до Иерусалима и на каком языке объяснялся с обоими генералами — не знаю.
Не скажу, чтобы такая отвлеченность, такая изолированность от всего, чем вокруг жили люди, очень меня умиляла, но как можно поверить, что среда, породившая такого человека (а уж он явно продукт среды, ее кульминация), может стремиться к такому хлопотному делу, как мировое господство — ума не приложу.
Мой отец никакого пристрастия к этой изолированности не имел. Он был убежденным, хотя и наивным атеистом. «Я стал свободным», — говорил он о моменте, когда отказался от религии. Однажды, во время одного из моих последних посещений Киева, уже незадолго до моего отъезда и его смерти, а умер он на восемьдесят шестом году жизни, он вдруг спросил меня: «Эма, ты умеешь мыслить?» Я несколько смешался. С одной стороны, на такой вопрос во всей его глубине и Гегель бы не ответил вполне уверенно, с другой — речь явно шла не о тщете человеческой мысли, а о чем-то более простом. А я уже все-таки к тому времени был известным поэтом, автором статей, вызывавших споры. Я ответил неопределенно. Но он этим не удовлетворился и спросил меня прямо, верю ли я в Бога. Я ответил утвердительно и попытался ему объяснить, что это для меня значит. «Нет, ты не умеешь мыслить», — заключил он, выслушав мои сложные объяснения. И тут же привел мне в доказательство «неопровержимые» естественно-научные доводы, которые сегодня легко найти в любом учебнике атеизма. Можно, конечно, улыбнуться, услышав про это, но для него эти доводы были не строчками из учебника. Они когда-то прозвучали для него откровением и действительно от многого его освободили.
Освободился он не столько от Бога, сколько от той атмосферы изолированности, которая в сочетании с темнотой приобретала иногда чудовищные формы. Они-то и связались у моего отца с представлением о религии и вытолкнули его из нее.
Произошло это так. После смерти деда (отцу тогда было лет восемь) к отцу, как я уже говорил, стали относиться как к цадику. Почему-то поверили именно в его святость и благодать. Являлись разные люди с подношениями и с просьбами: «Пусть ребе попросит у Бога это, пусть — то…» Надо сказать, что малолетний «ребе», как мог, увиливал от исполнения этих обязанностей — его больше интересовали детские игры. Но где бы он ни прятался, служки неизменно его находили, отрывали от игр и заставляли произносить необходимые слова. Не знаю, приводили ли они к результатам, вероятно, иногда приводили (полагаю независимо от того, имели ли они место), ибо просителей не убывало.
Пока просьбы были невинного характера (о выздоровлении, о рождении и т. п.), все шло более-менее гладко. Но потом случилось нечто чудовищное. Очередной посетитель, оказавшийся мельником, попросил, чтоб «ребе» (максимум, десятилетний мальчик, но, кажется, восьмилетний) сделал так, чтоб мужик, конкурент этого мельника, «сдох» (для чего требовалось просто произнести: «пусть мужик сдохнет»). Отец наотрез отказался произносить эти страшные слова и убежал. Мельник забился в истерике. Как же, ребе не хочет пойти ему навстречу, от него отворачивается благодать, (как будто она когда-нибудь на нем была), а, значит, и фортуна (для таких скотов это одно и то же). Возможно, он при этом увеличивал «гонорар» — этого отец, поскольку был в это время в бегах, не знает. Но его разыскали и буквально силой заставили произнести это заклинание.
Я понимаю, что, как говорится, лью воду на антисемитскую мельницу. Дескать, сам признает, какие они ужасные, эти евреи. Как будто темнота, корысть, религиозное отчуждение от иноверцев — качества исключительно еврейские. Люди, по тем же мотивам молившие Бога о подобных «одолжениях» по поводу всякого рода «неверных» или «нехристей», встречались довольно часто. Конечно, мне трудно представить православного священника, который бы по чьей-то просьбе начал накликать на кого-либо смерть, но и раввина такого представить тоже трудно. Но ведь вокруг отца никаких раввинов не было — только не совсем психически здоровая мать да неграмотные, а может, и корыстные (кто их знает), синагогальные служки, на свой салтык пекущиеся о сироте. Но все равно от этого эпизода, этой отчужденности чувств и совести, чем бы она ни объяснялась, мне до сих пор не по себе. Как было не по себе и моему отцу. Тем более что в довершение несчастья мужик этот вскоре действительно погиб страшной смертью — в пьяном виде поджег свою мельницу и сгорел заживо. Получалось, что все это случилось по наущению моего отца, что он накликал смерть на голову человека, о котором не знал ничего дурного. Не думаю, что мужик действительно погиб из-за него, но духовно это было все равно накликанием убийства.
На отца это произвело страшное впечатление. Он отказался навеки от всякого «волхвования» (кстати, строго запрещенного еврейским законом), хотя после такого знака его могущества количество просителей, вероятно, увеличилось. И вообще не мог успокоиться. Потом при первой возможности он уехал из родного местечка и, как живительный дождь восприняв естественно-научные «опровержения» религии, ушел от Бога.
Конечно, случай это крайний. Но отход от религии на том основании, что застывшие формы ее проявления не соответствовали духовным потребностям живых душ, был знамением времени. И имело это отношение не только к таким экстремальным случаям, и уж, конечно, не только к иудаизму. Правда, в православии началось религиозное возрождение, к которому пришли духовные верхи русской интеллигенции, но оно почти еще не коснулось ее средних кругов. В иудаизме и того не было. Уходили в атеизм. И иногда заходили очень далеко.
Мой отец слишком далеко не зашел. Он просто перестал молиться и начал есть трефное. Воинственного характера его атеизм не имел. Иногда, чтобы не обижать окружающих или если им требовался десятый к «миньону», он принимал участие и в молебствиях. Никакой жаждой творить историю он религию не заменил. Но в истории попадал. Во время Гражданской войны он арестовывался попеременно всеми властями — белыми, красными и петлюровцами, но это происходило только по недоразумению и произволу, арестовывать им всем его было не за что. Мечта его была приобрести хорошую специальность — «фах», как он говорил, — чтобы кормиться от рук своих. Он перепробовал множество профессий: был механиком, чулочником. В худую минуту поступил даже продавцом, но здесь не прижился. Мечтал и об образовании (техническом). Мечту осуществил только в 45 лет, когда поступил в техникум (я тогда пошел в первый класс). Кончил он его в пятьдесят, когда я кончил пятый класс. По специальности (контролером ОТК) работал только во время войны. Во время учебы и все последние годы работал переплетчиком — переплетал в учреждениях документы[1].
Я пишу пока только о родственниках, ибо первые впечатления жизни — они. С ними ведь, главным образом, и общались мои родители. Среди них тоже встречались люди не совсем заурядные. И не только залетная птица — дядя Арон.
Взять хотя бы того же дядю Иосифа с Демиевки-Сталинки. Фигурой он был очень колоритной и не лишенной значительности. Прежде всего он славился на всю старую Демиевку честностью. До революции евреи приходили к нему разрешать тяжбы, хотя он вовсе не был духовным лицом. В том числе и тяжбы с его собственным тестем и компаньоном (они вместе владели каким-то складом) — так высоко было доверие к его слову. Во время НЭПа он владел маленькой макаронной фабричкой на Подоле, на которой во время НЭПа и после него, когда она стала собственностью артели, механиком работал мой отец. Во время голода это выручило всю семью — отец дома пайкового хлеба не ел, а, как все рабочие фабрики, питался на работе затирухой.
Бизнесменские способности этот мой дядя унаследовал, по-видимому, от своего отца, моего деда со стороны матери, который тоже умер задолго до моего рождения и о котором я тоже поэтому почти ничего не знаю. Кроме того, что он вел в Кенигсберге оптовую хлебную торговлю (вероятно, торговал русским хлебом) и домой являлся только по большим праздникам. По слухам, он там, говоря нынешним языком, «завел себе бабу», может быть, даже не еврейку, что в тогдашней еврейской среде было явлением не только редким, но и почти немыслимым. То есть выходит, что он был тогда человеком для своей среды «передовым» — видимо, сказывался контакт с европейским просвещением.
Один из его сыновей, Абрам, так и жил в Германии до Гитлера, а один из сыновей Абрама, Моисей (Мозес), по слухам, был даже коммунистом. Однажды он прислал письмо дяде Арону, как знающему немецкий, в котором интересовался, как осуществляется в СССР власть рабочего класса — непосредственно, как основной массой производителей или через представителей. По-видимому, он, судя по этим вопросам, коммунистом все же не был. Но само то, что он году в 1932—1933-м рассчитывал получить из СССР честные ответы на свои вопросы, да и сама отвлеченность их постановки, столь далекая от того, что его адресат за последние годы пережил, свидетельствует о том, что он, как и все остальные левые интеллигенты Запада, плохо понимал, за что борется. Его отец и сестры уехали из Германии, он, кажется, погиб при попытке перейти польскую границу (во всяком случае его имя исчезло из писем).
Когда-то я очень гордился, что у меня есть такой двоюродный брат, очень жалел, что он не может выбраться «на свободу» к нам. Но судьба, которая его ждала здесь, едва ли была бы легче, а в душевном отношении была бы наверняка тяжелей, чем та, которая его постигла. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Особенно, когда выбирать надо между Сталиным и Гитлером.
Но и мои деды и мой дядя Абрам (в семье его называли Аврум) с потомством прямого отношения к моим воспоминаниям не имеют, я их никогда не видел. Я о них только слышал. А вспомнил сейчас о них лишь в связи с демиевским дядей Иосифом.
Был он человеком глубоко религиозным, но без всякого фанатизма, по-своему образованным и, конечно, умным. Во всяком случае мудрым. Это я понял еще в детстве после одного моего «богословского» диспута с ним.
Диспут произошел у него дома, где я почему-то околачивался, вероятно, по случаю карантина в нашем районе, и начал его я, и скорее всего от скуки. Он сначала молился, а потом углубился в какую-то религиозную книгу. Делать мне поэтому стало уже совсем нечего, и это бесконечно усилило мой пионерский атеизм. С этой высоты я и повел свою атаку на «пережитки», дал бой религиозным забубонам. Обычно такие мои наскоки его только забавляли. Но теперь он, видимо, счел меня уже достаточно взрослым и, как говорится, «дал по мозгам», да так, что я это до сих пор помню. Но перед тем, как передать этот разговор, несколько строк об истории моего атеизма.
Атеизм этот дался мне гораздо легче, чем многим, в том числе и великим мыслителям прошлого. И гораздо более дешевой ценой, чем моему отцу. Дело в том, что в детстве я сначала в Бога верил. Моя тетя Хаита, заменявшая мне бабушку, рассказывала мне о Нем, о том, какой Он добрый и мудрый, как все понимает, обо всех заботится и всех любит. В том числе и меня. И я отвечал ему тем же. И так продолжалось до того дня, когда я пошел в детский сад. В этот первый мой детсадовский день из первой же беседы воспитательницы с детьми я доподлинно узнал, что никакого Бога нет, и с ужасом увидел, что все, кроме меня, давно уже это знают, что я остался в одном лагере с капиталистами и помещиками, которые всю эту сказку выдумали, чтоб обманывать людей, или с отсталыми, отжившими свое людьми, которые по темноте и неграмотности не могут уже от этого нелепого предрассудка освободиться. Это меня потрясло. Если первое ко мне все-таки прямо относиться не могло (меня явно не обманывали специально), то второе относилось в полной мере. Я оказался под влиянием темных и отсталых людей.
Это один из наиболее результативных методов воздействия на массовое сознание, выработанный, вероятно стихийно, от необходимости внушать неочевидное большевиками и усовершенствованный Сталиным. То, что нужно внушить, обычно не доказывается, а прямо объявляется давно и всем известным, кроме разного рода ублюдков, действующих в основном по корыстным мотивам (эксплуататоры или продажные агенты), или по недомыслию и темноте. Первое неуютно и опасно попахивает отщепенством, которого инстинктивно хочется избежать, а второе воздействует еще шире — кому охота быть отсталым и недоумком. Все, что Ленину приходило в голову внушить «массам», он немедленно объявлял известным и понятным «каждому сознательному пролетарию». И это работало: никакому активисту не хочется оказаться несознательным и всем охота быть приобщенными к сонму сознательных. Вместе с этим легкодумно внушалось механическое неуважение к старшим, которым ввиду их испорченности капитализмом эта премудрость недоступна — во всяком случае в той мере, что молодым. Так осуществлялась защита уже изрядно к тому времени подгнившего (и поставившего себя на службу гибельным для него сталинским амбициям) революционного фанатизма от традиционного опыта и здравого смысла. Но методы его пропаганды были тогда еще действенны как в отношении пятилетних детей, так и в отношении их наивных воспитательниц.
Короче, мою религиозность как рукой сняло. Более того, как уже понял читатель, я почувствовал себя обманутым, без вины вовлеченным в «отсталость». Мой детский конформизм был оскорблен и требовал немедленного возмездия. И я приступил к нему сразу, как только вернулся домой. А именно, стал сыпать хлебные крошки в хранившуюся в нижнем отделении нашего буфета теткину пасхальную посуду. Это было кощунством, ибо пасхальное не должно соприкасаться с хлебным. В Пасху едят мацу. Мацу, правда, я и после этого случая не разлюбил и ел ее — хотя, конечно, не все восемь дней подряд, как полагалось, — с прежним удовольствием, но стал богоборцем. В сущности, я поступил так же, как в те годы антирелигиозного террора поступали и взрослые воинственные безбожники. Вероятно, и мой атеизм по глубине и серьезности был вполне сравним с их — в истории бывают инфантильные эпохи.
С высоты этого атеизма я и повел атаку на своего отсталого бородатого дядю, спросив у него без обиняков, зачем он молится, раз Бога все равно нет. Неожиданно вместо обычного посмеивания в ответ, как тогда говорили, «враг решил показать свои зубы». Впрочем, никакого оскала не было, и я поначалу никаких «зубов» не заметил.
— А что, — спросил он меня невинно, — ты действительно знаешь, что Бога нет?
Не чуя подвоха (да и как МНЕ(!) можно было ждать подвоха от этого бородатого пережитка некультурных веков?) и не обратив никакого внимания на спрятанное в ровной интонации вопроса коварное слово «знаешь», я ответил утвердительно. Естественно, я это знал. Еще с детского сада. А кто этого не знает? И тогда дядя скромно попросил меня поделиться своим знанием и с ним, поскольку он этого не знает. Я был готов. Что вопрос этот отнюдь не невинный и что многим на нашей планете это давно известно, я узнал много позже. И я бодро бросился в расставленную ловушку, повторяя ту чушь, которую слышал в детском саду и в школе (по уровню это было одно и то же), и внезапно сам с удивлением ощутил, что запутываюсь, что аргументов у меня нет. Дядя только изредка задавал «уточняющие» вопросы, после чего я еще глубже увязал в трясине теряющих смысл словес.
— Нет, — завершил дядя сочувственно, — ты этого не знаешь.
Я был уничтожен, оказавшись бессильным в схватке с мракобесием. Но, как один чеховский герой, «будучи развит не по годам», я тут же нашелся и попытался переложить труд доказательств на оппонента:
— А ты раньше докажи, что Он есть.
Прием не рыцарский, но противник как будто дрогнул:
— Не могу, — смиренно ответил он. Я вздохнул облегченно. Разум все же победил невежество. Оставалось только закрепить эту победу. Я подытожил:
— Ну так чего ж ты?
Но оказалось, что закреплять было нечего.
— А разве я тебе когда-нибудь говорил, что я знаю, что Бог есть? — спросил дядя еще более невинно. — Я только верю, что Он есть.
Чем мне тут было крыть? Конечно, это был старый трюк, и ни один сколько-нибудь образованный атеист на него бы не попался: атеисты тоже знают, что небытие Божье так же недоказуемо, как и Его бытие. Но я еще не был сколько-нибудь образованным, и значительность этих слов, этого хода мысли потрясла меня. И хоть я, конечно же, своих взглядов не изменил, я впервые столкнулся с тем, что все не так просто, и почувствовал уважение к чужой позиции, хоть был мой дядя при бороде и в ермолке — явных атрибутах отсталости и мракобесия.
Есть у каждого из нас в жизни такие разговоры, такие услышанные фразы, сущность которых мы еще не готовы ни понять, ни принять, но которые тем не менее западают в душу, подспудно поражая своей убедительностью. Они все равно — исподволь — участвуют в нашем формировании, помогают рушиться всему внушенному, навязанному, несамостоятельному, чего много всегда, а особенно в наше время. И в нужный момент — когда мы уже готовы к этому — они вдруг всплывают на поверхность сознания и облегчают наше дальнейшее развитие, наши болезненные «прозрения» (ведь прозревать иногда приходится самые банальные истины). Впрочем, с такими прозрениями читатель, у которого хватит терпения дочитать эту книгу (и если у автора хватит терпения и жизни ее дописать), еще не раз встретится на ее страницах. А сейчас я говорю о среде, в которой я рос.
В том виде, в каком я ее застал, ее больше нет. И дело не только в «Катастрофе» — несмотря на ее тяжелейшие последствия для еврейского народа. Среда эта могла бы — пусть и не в прежнем объеме — восстановиться (и даже сталинщина не помешала бы), если бы у многих людей была настоятельная и естественная потребность в этом. Ведь разрушение этой среды, исход из нее наиболее динамичных элементов начался еще в шестидесятые годы девятнадцатого века. Даже мои родители и большинство родственников были в культурном отношении, так сказать, «продуктами полураспада». Но процесс распада на этом не кончился.
Конечно, Гражданская война и коллективизация, подорвавшие экономические основы местечкового существования, явились мощными катализаторами этого процесса, но шел он и до этого. И дело не в антисемитизме. Наоборот, особенно бурно этот процесс шел в двадцатые и тридцатые годы, когда антисемитизм был под запретом.
Просто к тому времени религия, бывшая основой еврейского диаспоризма, потеряла почти всякое влияние. Конечно, это совпало с общим насаждением бездумного безбожия, жертвой которого стала независимо от исповедания отцов и дедов вся молодежь СССР. В том виде, в котором она существовала, еврейская религия удержать живые души и не могла. Сегодняшнее возвращение некоторых интеллектуалов в иудаизм редко бывает результатом духовных откровений — чаще это ответ на антисемитизм и попытка нащупать национальную почву.
Меня это не греет. И то, что я недавно крестился, — естественный итог всей моей жизни. Тем не менее по рождению я еврей. От этого никуда не денешься. Можно уйти от среды, но не от судьбы. Тем более от еврейской судьбы в двадцатом веке. Всегда найдется кто-нибудь, кто о твоей связи с ней напомнит. Она — дополнительная тяжесть на плечах, сбросить которую не только невозможно, но и недостойно. Кроме того, полагаю, что и взаимоотношения с ней при некоторых условиях тоже обогащают. Сквозь эту тяжесть, если на ней не зацикливаться, многое можно увидеть в двадцатом веке.
Но определила и до сих пор определяет мою судьбу не эта тяжесть, а любовь — любовь к тому, что всегда светило мне и сквозь эту тяжесть. А любовь моя давно и бесповоротно отдана России. Почему я прежде всего и главным образом — русский.
Некоторые сочтут эту мою самоидентификацию предательством, некоторые — посягательством. Что делать! В расовые критерии, как в главный признак идентификации человека я не верю и уже не поверю никогда. Я уже до конца буду воспринимать эти критерии как реванш безличного и уж, конечно, безличностного начала у веков культуры.
Так или иначе, но личностью какой-никакой я все-таки стал на самом деле. Я и мемуары стал писать с целью лучше объяснить себе и другим, как это было и что это значит. Поэтому мне и приходится уделить столько внимания среде, из которой я происхожу, хотя читателю, возможно, это и не так интересно.
Но без рассказа о ней рассказ о моем становлении как личности был бы непонятен и недостоверен. Ибо хотя эта среда и не влияла на мое творчество, но в детстве она как-то участвовала в моем формировании. А, как известно, все начинается с детства.
Дом и город
Итак, я родился через восемь лет после «Великого Октября», через пять лет (а если считать и Дальний Восток, то через три года) после окончания Гражданской войны и всего за четыре года до еще более судьбоносного «великого перелома». Причем родился в Киеве, через который кровавые цунами Гражданской войны перекатывались многажды и всяко, а уж во что там обошелся, что там напереломал «великий перелом» — общеизвестно и все же непредставимо. Киев был едва ли не эпицентром этого отнюдь не стихийного бедствия, не менее бессмысленного, но более жестокого и разрушительного, чем любое стихийное. И если Гражданская война происходила до моего рождения и была долго окутана для меня дымкой романтики (о том, как появляются такие дымки и как они окутывают страшные события, надо размышлять особо), то «перелом» проходил отчасти на моих глазах. Конечно, я мало что понимал в свои 6–7 лет, но то, что я видел, не могло каким-то боком не застрять в моей памяти, каким-то образом не отразиться на моем духовном облике, как на духовном облике всех, кто тогда жил и пережил это, всей страны. Каким именно, я понял только недавно. Об этом — чуть ниже.
Но все-таки детство было детством. Обе сестры моей матери — уже упоминавшиеся Хая, Ита и Шифра — были бездетны, дочери их брата Иосифа (одна недоразвитая) были уже взрослыми и в их попечении не нуждались. Поэтому вся их любовь, все неизрасходованное материнство были направлены на меня. Говорили: у Эмы три мамы. Часто это было мне даже в тягость, но ребенком я был вполне обихоженным, как и положено ребенку.
Кстати, об имени — великий московский острослов, композитор Никита Богословский, сказал однажды, что любые два слога, где второй оканчивается на «а», могут в России составить неполное еврейское имя. Вероятно, он недалек от истины. Это относится и к русским дворянским и традиционно-интеллигентским семьям, но все же не в такой степени. В еврейских семьях это переходило все границы сообразности.
Помню, как одна очень добрая родственница сетовала на то, что нашей дочери не дали имени ее погибшего во время сталинских «чисток» деда.
— Но она ведь девочка, — удивились мы, — а его звали Григорий, Гриша. Как же ее надо было назвать в честь него? Ведь нет такого имени…
Но для доброй женщины не было тут никаких трудностей.
— Как нет? — в свою очередь удивилась она. — А Грина?!
То, что такого имени нет в природе, ее просто не занимало.
Думаю, что приблизительно так прилепилось ко мне и имя Эма.
Вообще-то при рождении мне дали имя моего «кенигсбергского» деда — Нехемье. Но поскольку даже в обиходе того круга, где я родился, оно не звучало естественно, то постепенно так «приспособилось к реальности». Скорей всего, оно представляло собой произвольный и незаконный экстракт из имени Нехемье. То, что оно при этом оказалось женским, никого не обеспокоило. Так и живу. Спасаюсь тем, что, подписывая письма друзьям — больше употреблять его негде, — пишу его через одно «м» Только дети иногда все же интересуются, почему я дядя, а не тетя. Но в быту, так уж получилось, мне привычней и естественней откликаться на это имя. Неудобств оно мне не доставляет. Более того, везде, где мое положение естественно, меня называют Эма, везде, где я как бы не в своем облике (эвакуация, ссылка, горный техникум), меня называли Наум. Из чего отнюдь не следует, что отношения с людьми в этих местах у меня обязательно были более далекие и отчужденные. Где бы я ни был, у меня оставались друзья, которых я до сих пор люблю.
Но Наум я на самом деле. В русском переводе имя Нехемье значит Наум. Это не приспособление имени, а его перевод: пророк Нехемье — пророк Наум. Впрочем, и в приспособлении имени я никакой особой подлости не вижу. Слишком ломались уклады в наше время. Как бы ни презирали меня за это всякого рода разоблачители, а с именем Нехемье, даже если б оно не имело перевода, я бы никогда себя отождествить не смог.
В Израиле все эти имена уместны и звучат красиво, но в русской жизни они громоздки и неудобны. Впрочем, мои родители, которых в каком-либо отказе от еврейства обвинить трудно, в эвакуации звались Анна Наумовна (вместо Ханна Нехемьевна, как она звалась в Киеве) и Моисей Григорьевич (вместо Гецелевич). Просто потому, что на Украине тогда еврейские имена были не в диковинку, а на Урале были трудно произносимы.
Наум я и по паспорту — паспорт я получал не по метрике, а по справке об освобождении. Когда после ссылки киевский ЗАГС отказался ответить на запрос тюменской милиции обо мне, ибо никакой Наум у них не значился (а в справке об освобождении не значился никакой Нехемье), милиция и оформила мне паспорт на основании этой справки, выданной учреждением гораздо более авторитетным тогда, чем ЗАГС.
Однажды это отличие паспортного имени от метрической записи доставило мне некоторые затруднения. Я уже жил в Америке, а мать оставалась в Киеве. Мне надо было ей как-то помогать, посылать деньги. Сертификаты к тому времени отменили, а для того чтоб посылать ей достаточно денег по официальному курсу, надо было быть миллионером. Я узнал, что, если советский суд присудит моей матери алименты, я смогу ей посылать деньги по более выгодному курсу (около трех рублей за доллар — тогда еще не было сегодняшних бешеных курсов). Но суд дела на меня принять не мог, ибо требовалась справка из ЗАГСа о том, что я действительно сын своей матери. Но по уже известной причине ЗАГС эту справку выдать отказался. Кстати, при оформлении выездных документов, когда требовалось разрешение родителей, меня вполне признавали сыном своей матери, а тут застопорилось. Так что я вовсе не вижу в этом «деле об алиментах» козней КГБ. Тем более что КГБ не мог не знать, что государство на этом только теряет, ибо я перешлю деньги иным путем и без всякой пользы для государства (что я, конечно, и сделал). Это была обычная канцелярская рутина, которой везде хватает. Да ведь имена действительно не сходились…
Но я забежал далеко вперед, а мемуары, в принципе, следует начинать с начала, с раннего детства, но о нем мне рассказывать почти нечего. Лев Толстой помнил даже, как его пеленали, я этого не помню. Помню только, как меня баюкали, завернув в одеяло. И каким оно большим тогда было, это красное детское ватное одеяльце. Помню, что короткое время в самом начале у меня была няня и что звали ее Пашей.
Присутствие Паши я осознал раньше, чем присутствие матери. Помню, как однажды мы сидели с Пашей на крыльце нашего дома, и вдруг подошла какая-то женщина, вроде бы знакомая и симпатичная, и стала что-то требовательно внушать няне, почему я настроился по отношению к ней даже несколько неодобрительно. Потом оказалось, что я живу с этой женщиной в одной комнате и что она — моя мама. Видимо, наше самосознание пробуждается в нас толчками, а не плавно. О Паше помню еще, что была она русской, а не украинкой. Это было до начала массового бегства украинских крестьян из вымарываемых деревень в города, и Киев был еще городом по преимуществу русским.
Впрочем, ее я встречал и позже, когда она от нас ушла, даже и после войны — она жила где-то по соседству. Она, может, и сейчас еще жива, но только не «по соседству», ибо «соседства» этого уже нет: все домики вокруг — и наш тоже — снесли.
Но на дворе уже год двадцать седьмой, может быть, двадцать восьмой, и мы сидим с Пашей в солнечный день на крыльце нашего дома. Крыльцо, собственно, не совсем крыльцо — просто широкие цементированные ступени, где по вечерам жильцы, как во всяком южном городе, расставляют стулья и «дышат воздухом»: устраивают нечто вроде импровизированного клуба. Но это воспоминания более поздних лет. А пока мы сидим с няней на крыльце, и, что здесь бывает вечером, я не знаю. По вечерам я еще сплю.
Это крыльцо для меня — выход в мир и вход в мой дом. Мимо нас с няней иногда проходят люди, соседи и родные, в дом и из дома. Каждый скажет мне хоть слово, некоторые и по щечке потреплют. Людям я рад, но, куда они уходят, я не знаю и не интересуюсь. Я еще не знаю, куда можно уходить, но знаю, что можно — это данность. Данность и дом, на крыльце которого я сижу. Со стороны улицы он выложен кирпичом какого-то зеленовато-желтого, уютного и вправду «домашнего» цвета. Или это, наоборот, цвет этот воспринимается мной как домашний, потому что он связался с домом? — теперь уж не разобрать.
На первом этаже (точней, в бельэтаже) справа от нас (мы ведь сидим спиной к дому) — пять больших, широких окон. Первых два — теткиной спальни, следующие три — нашей комнаты. Над ними — второй этаж — ряд таких же окон. Только вместо одного из них — выход на балкон. Я уже однажды сидел на каком-то балконе, и мне там очень понравилось. Смотреть сверху на всех, кто ходит или ездит по улице, интересно, да и видно больше. Но у нас, к сожалению, балкона нет. Слева от нас то же, что и справа, только эта часть дома продолжена подворотней (по-киевски — «подъездом»), над которой на уровне полуторного этажа еще одно окно — квартиры, предназначавшейся для дворника. Под каждым из окон бельэтажа есть еще одно небольшое окошко. Если стоять не рядом, можно видеть только его верхнюю часть, нижняя как бы уходит в землю. На самом деле вокруг каждого из них мощеная квадратная выемка. Это окошки подвала. Когда мы кончим «гулять», то есть сидеть на крыльце и войдем в парадное, мы увидим вход в этот подвал — несколько ступенек, ведущих вниз, и широкую желтую — под цвет парадного — дверь, обычно запертую на висячий замок. Но в подвал мы не идем. Да меня туда и не тянет — там темно и оттуда несет сыростью. Там еще никто не живет и никто еще не знает, что там можно жить. Тянет меня домой, там светло, там у меня есть игрушки, кроватка, родное красное одеяло. Мы держимся правей и одолеваем почти то же небольшое количество ступенек, что и в подвал, но только вверх, а не вниз, и оказываемся на своей площадке.
На ней друг против друг две двери — квартиры первая и вторая. Двери желтые, чем-то обитые, еще совсем необшарпанные. Вообще дом не роскошен, но вполне добротен и опрятен. Вероятно, как все кругом, что еще тужится быть «как в мирное время». Но для меня пока еще существует только одно время — каждый данный момент. Сравнивать времена я еще не умею, да и не с чем. На двери нашей квартиры, на левой створке сверху, — отлитый из чугуна вертикальный овал с большой цифрой «1». Это номер нашей квартиры. На левой створке гораздо ниже (впрочем, для меня еще все достаточно высоко) — большой чугунный круг, в центре которого стержень с ручкой, представляющей из себя полукруг. Стремительная стрелка показывает, что его надо повернуть вправо. Повернешь — раздается звонок. Это я знаю. Меня иногда поднимают к нему, и я поворачиваю эту ручку. Это музыкальное творчество мне очень нравится, но, к сожалению, долго звонить мне не дают — быстро опускают.
Мы входим в темный коридор нашей квартиры… Щелкает выключатель, и под потолком, убранная в металлическую сетку, тускло вспыхивает продолговатая, цилиндрическая электрическая лампочка, еще, по-видимому, угольная. Естественно, включать и выключать свет я тоже люблю, но мне и здесь не дают разгуляться. Детство — сплошное ограничение творческих возможностей…
Захлопывается входная дверь. Наша комната в противоположном торце коридора. Минуя слева открытую дверь кухни, а справа обычно закрытую дверь теткиной спальни, мы проходим к себе. Комната наша светла — все-таки три окна — и кажется мне громадной. В ней, как я узнаю потом, целых двадцать четыре метра. В те годы, когда я начну понимать больше, все будут считать ее выпавшим счастьем. Пока же, как я понимаю, это просто одна из комнат дядиной квартиры, которую предоставили небогатым родственникам. В правой стене еще одна дверь — она ведет в теткину столовую, у которой есть еще один выход в мир — через кухню. Там я люблю бывать по пятницам и праздникам, особенно на пасхальных седерах — в общем, когда вкусно едят. У дяди с тетей есть еще одна небольшая комната, правей столовой, но окна обеих комнат выходят на противоположную сторону, но только не прямо во двор, а на застекленную террасу, именуемую коридором, даже «калидором». Но туда можно попасть только через кухню, и туда меня пока одного не пускают. Ибо к нему примыкает деревянное крыльцо с довольно высокой лестницей, с которой недолго и свалиться. Впрочем, в кухню меня тоже не пускают, чтоб не мешал и не лез, куда не надо. Но я все равно лезу, поскольку в кухне есть выложенная снаружи красной кафельной плиткой русская печь, в которой тетка часто что-то печет.
С отцом мы любим сидеть на крыльце. Отцу очень нравится наш зеленый тенистый дворик с громадными акациями и четырьмя высокими дощатыми сараями слева у капитальной кирпичной стены. Эта стена отделяет наш двор от двора соседнего четырехэтажного дома 97а (наш — 97б), с которым нас потом в результате полной победы сталинского социализма объединят. Тогда сломают и сараи, и стену. Но это будет потом, только лет через восемь, уже совсем в другую эпоху, которую пока еще не представляю не только я, кому и топография собственной квартиры открывается постепенно и поэтапно. Этот дом, это крыльцо, эта квартира — микромир моего детства. Раннее младенчество будет переходить в раннее детство, будет пробуждаться сознание, и мой микромир будет постепенно не только углубляться, но и расширяться, все шире осваиваться и топографически — то эластично, то скачками. За этим не уследишь, тут не выделишь бахтинские «хронотопы», но явная связь возраста и освоенного пространства очевидна. Но начало всех моих путей — здесь.
В пятиэтажном доме напротив, который никак не назовешь по-современному — пятиэтажка, окна всегда светятся. Это, как мне говорили, трикотажная фабрика. По-видимому, она была нэпманской — потом ее не стало и дом стал жилым. Из окон второго этажа дома, стоящего чуть левей фабрики, всегда вкусно и остро пахнет мясными щами — этот запах нравится мне больше, чем запах домашнего сладкого борща. Дальше с противоположной стороны не то пустырь, не то склад — неуютные строения за забором (потом вместо этого будет построен НИИ электросварки академика Патона). Дальше нет ничего — только пересекающая под углом уличка, состоявшая из маленьких невзрачных параллельных домиков, проходящей метрах в трехстах от них железной дороги. Это ведь район товарной станции и склад, о котором я только что говорил, наверно, тоже от нее. Продолжение этой невзрачной улицы становится частью нашей Владимирской, когда она метрах в двухстах от нас поворачивает вправо. Но это мне безразлично, в эту сторону я не смотрю — невзрачные домики моего внимания не привлекают. Это теперь наш район (наша часть этой фешенебельной Владимирской) — поскольку город разросся, стал одним из самых центральных, а по тем временам он был достаточно заштатным. И выглядел так до самой моей эмиграции.
Так что я не удивился, когда услышал, что наш дом вместе с другими, стоящими ниже него домами и домиками, набитыми, как ульи, снесли, а на их месте построили большой дом или дома, говорили: для элиты. Меня это не возмущало. Конечно, по каким бы причинам это ни произошло, разрушен мир моего детства, и мне было больно от мысли, что на нашем углу ничего от меня не осталось. Но это чисто личное, лирическое переживание, а не возражение. Я понимал, что так или иначе дома эти все равно пришлось бы снести. В конце концов моя мать получила квартиру со всеми удобствами в новом районе. И претензий у меня — ни социальных, ни политических, ни моральных — ни к кому по этому поводу быть не могло. Для элиты или не для элиты, но в этом — теперь центральном — районе надо было построить другие жилые дома. В том, что они будут жилыми, я почему-то не сомневался. Это ведь было очевидно.
Но 18 марта 1991 года я увидел на месте своего дома капитальную ограду промышленного типа. Четырехэтажный угловой дом рядом был еще не снесен, но уже необитаем. Так выглядели все дома всего квартала — по Владимирской, Совской, Кузнечной и Жилянской. Сомнений не оставалось — все было превращено в промышленную зону, в десяти минутах ходьбы от Крещатика, в пятистах метрах от Центрального стадиона. Психология, рассматривающая жизнь как неудобный придаток к производству, торжествовала очередную победу над жизнью.
Но пока я пишу о других временах. Я ведь еще ребенок, и во всем, что меня пока касается, есть еще ощущение довольства и покоя — во всяком случае так это во мне запечатлелось. И осталось где-то в глубине подсознания как возможность бытия, хотя такое бытие я до весьма солидного возраста презирал и отнюдь не к нему в жизни стремился.
Конечно, то, что я сегодня знаю о том, что творилось тогда в специально отведенных для того местах, и о том, что тогда нависало над всеми нами, этому ощущению покоя противоречит, но рядовой обыватель, не принадлежавший к дореволюционным сословиям и партиям, мог об этом и забывать. Я же пока, как все дети, верю в правильность и прочность окружающего, и то, что я вижу вокруг, этому не противоречит.
Но, как все дети, я люблю благообразие. И поэтому, сидя с мамой или с няней на крылечке, я смотрю не туда, где невзрачные домики, а в другую сторону. В ту, куда, сходя с крыльца, уходят соседи, где светлей, чище и многоэтажней.
Прежде всего выглядит импозантней упомянутый дом 97а — он высокий, четырехэтажный, розоватый, угловой. У него целых два парадных. Одно со стороны нашей Владимирской, другое — с Жилянской. И такой же большой, только зеленоватый, дом на другой стороне Владимирской. Года в четыре я уже буду знать, что Жилянская — улица очень интересная. Если пойти по ней вправо, то очень скоро, через два-три небольших здания, увидишь на другой стороне двор, в котором обычно толпится много веселых ребят, для меня почти взрослых. Это ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества, благо и завод небольшой как раз напротив него, но его существование я осознаю позже. Когда я подрасту, эта школа ФЗУ давно уже будет просто средней школой № 95, и тут начнется мое вхождение в жизнь. Рядом со школой живут наши родственники с девочкой Адей, о которой я еще здесь буду говорить. Дальше вдруг слышится беспорядочный звон струн — музыкальная фабрика. Потом она разрослась в музкомбинат, и уже ничего не слышалось. Незаметно добираемся до Кузнечной и подходим к Большой Васильковской. Во втором доме от угла, на другой стороне, на втором этаже двухэтажного дома я бываю часто — здесь живут мамина сестра, мои тетя Шифра и ее муж, дядя Арон. У них большая комната с книгами на разных языках и маленькая, которую почти всю занимает зубоврачебное кресло — она, как и мама, зубной врач.
Большая Васильковская — улица серьезная, не чета нашей. Впрочем, она действительно одна из главных магистралей города. По ней тогда ходил трамвай. У нас под окнами по булыжной мостовой тоже проложены рельсы. Родители говорят, что по ним ходил трамвай на Демиевку. Но теперь не ходит. В тридцатые годы эту мостовую, равно как и выложенный красным кирпичом тротуар, зальют асфальтом. А после войны опять проложат рельсы и пустят трамвай. На Демиевку. Поступательный ход социализма.
Но это будет другой трамвай — обычный современный трамвай, против которого я ничего не имею, но другой. Трамвай № 1, который тогда ходил по Большой Васильковской от Демиевки, где работала моя мама и жил мой дядя Иосиф, через Крещатик на Подол, где работал мой отец, выглядел совсем иначе. Вагоны его были дореволюционные, еще бельгийской компании — длинные, красные, верней малиновые, какого-то вкусного цвета пульманы, очень волновавшие мое воображение, даже в воспоминаниях кажущиеся мне уютными и красивыми. Ездить мне на них приходилось гораздо реже, чем хотелось. Потом маршрут № 1 начал дробиться и изменяться, а эти вагоны были вытеснены, как уже сказано, другими, может быть, не худшими, даже более современными, но они уж не казались мне ни уютными, ни красивыми, и воображения уже не волновали. А в Пущу-Водицу и на Куреневку ходили трамваи летние, практически без стен…
На Демиевку надо было садиться с нашей стороны Васильковской, а вот чтоб ехать на Крещатик или Подол (на пляж или пристань), с противоположной, у большого белого как бы мраморного здания. Тогда оно было клубом водников, потом театром музыкальной комедии. Жилянская уходит дальше и упирается в Черепановы горы, представляющие собой часть приднепровских холмов. Сразу за клубом водников она оставляет справа стадион, тогда Красный, потом Центральный, вход на который с Васильковской, чуть правее клуба водников. Этот стадион я знаю, меня иногда водят туда гулять. Кстати, в качестве Центрального он должен был быть открыт 22 июня 1941 года. Открытие, естественно, задержалось на долгие годы. Но об этом я пока даже не подозреваю.
Клуб водников для меня выделяется из общего фона только потому, что именно здесь я видел первое в своей жизни кино. Привел меня туда отец. Когда погасили свет, я забеспокоился — я этого не любил. Но потом вспыхнул экран, пошли к нему лучи, и я заинтересовался. И то, что я видел, доходило до меня туго. Фильм, естественно, был немым, в нем большую роль играли титры, которые неграмотным (а я был неграмотным) не помогают. О том, что мне не был понятен сюжет в целом, я и не говорю — это очевидно. Помню только, что там орел уносил девочку куда-то в скалы. О том, что это именно орел, попутно объяснив, что бывают такие большие птицы, сказал мне отец. Зачем он ее уносит, я понять не мог, но все же тревожился за девочку. Однако отец сказал мне, что с ней ничего плохого не произойдет, и я успокоился. Не понимал я не только сюжета, но и просто физический смысл происходящего в кадре мне был не всегда понятен, хотя нравилось: фотографии двигались, как живые. Как ни прискорбно, экспрессивный киноязык тогдашнего немого кино в три и четыре года был мне недоступен.
Но Жилянская идет не только вправо от нашей Владимирской — к Большой Васильковской, но и влево — к вокзалу и к Евбазу. Просто влево она осваивается мной медленней, потому что, в принципе, мы в эту сторону не ходим. В эту сторону улица выглядела вполне заштатно, и нас туда не тянуло. Впрочем, кроме тех случаев, когда мы на подводе переезжали в Святошино, где снимали комнату на лето или — и того лучше — ехали на извозчике на вокзал. Конечно, много было суматохи и с подводой. Она через подворотню въезжала прямо на двор, будоражила друзей моего раннего детства, мечтавших при выезде уцепиться и доехать до мостовой, создавала суматоху с погрузкой вещей, а потом предоставляла мне счастливую возможность сидеть высоко на вещах и поглядывать оттуда на прохожих. Но все же с поездкой на извозчике на вокзал это ни в какое сравнение не шло. Тут обреталась некоторая экстерриториальность, и все представало в каком-то новом освещении, приобретало значительность: и извозчик, и вокзал, и поезд. И как прелюдия — триумфальный проезд мимо Тарасовской, Паньковской, Караваевской к Безаковской, где нам надо было свернуть налево и которая была всегда романтически-торжественной уже потому, что в двух шагах от Жилянской упиралась в вокзальную площадь. Конечно, и по ней ходили трамваи, в том числе № 2, на Крещатик, но трамвайную линию мы пересекали еще на Караваевской. Там по маршруту Владимирская горка — Соломинка (район за линией железной дороги) курсировал восьмой номер трамвая. Как ни странно, на Соломинке я был только раз в жизни, году в сороковом. Другое дело — Владимирская горка. Но об этом позже. Конечно, эти поездки на вокзал мне очень нравились, даже волновали меня, но, как все хорошее, случались тогда очень редко.
Я упомянул здесь Владимирскую горку. Я далеко не сразу понял, что ведет к ней наша же Владимирская улица. И не только потому, что в это время улица наша была уже (и еще) не Владимирской, а Короленко — просто по ней дальше Жилянской меня редко водили. А она сразу брала круто вверх и через короткий отрезок к Марино-Благовещенской. Улица эта была строго параллельной нашей Жилянской, но воспринималось мной как некая даль, как иной мир. Там, приятно звеня, солидно проплывали красные трамваи, стояли красивые дома и, вообще как будто шла какая-то более интересная и значительная жизнь. Собственно тогда она уже была улицей Пятакова, потом, когда Пятакова расстреляли, она стала улицей его брата — Леонида Пятакова. Но вскоре — от греха подальше — ее превратили и вовсе в улицу Саксаганского. Судя по развитию событий, это название за ней и останется, и опять Марино-Благовещенской ей не быть больше никогда.
Микрорайон моего детства
Но это уже разговор о других временах. А тогда на эту улицу мы выходили редко еще и потому, что трамвай на Демиевку с Большой Васильковской обходился дешевле, чем от угла Владимирской (на углу Марино-Благовещенской и Большой Васильковской кончался тарифный участок). Это говорит о том, что жили мы отнюдь не роскошно, а, с другой стороны, подчеркивало привлекательную особость Марино-Благовещенской. В то же время она все-таки была более нашей, чем почти все другие. На ней недалеко от нас (в большом доме на углу Тарасовской) жила еще одна моя тетя — сестра отца Рахиль — с мужем Хайкелем, дочерью Розой и сыном Гецей (Гезей), который был недосягаемо старше меня — на целых шесть лет. Уменьшительным от какого имени было имя Гезя я и теперь не знаю, но я его очень любил… Потом он учился в мединституте. Во время войны, в начале сорок второго, мы начали получать от него письма. Он был тогда врачом полевого госпиталя на «харьковском направлении», жил предчувствием освобождения Киева. Когда началось немецкое наступление под Харьковом, письма прекратились. Как десятки тысяч других людей, он попал в плен в печально-знаменитом харьковском «котле». Говорят, он мог бежать, но не счел возможным бросить раненых и был расстрелян у дверей госпиталя. Точно этого я не знаю, но знаю, что он был хорошим и ответственным человеком. Впрочем, это уже — другие времена и другая тема.
Я понемногу подрастал, и топография моего микромира расширялась. Владимирская продолжается и после Марино-Благовещенской. Она даже взмывает вверх еще круче, и расстояние между Мариинской и следующей улицей раза в три длинней, чем между ней и Жилянской. Парадокс состоит в том, что эта следующая улица — та же Караваевская, которую мы проезжали на извозчике, когда ездили в другую сторону, к вокзалу. Сюда она доходила, сделав где-то по дороге прямой угол, став перпендикулярной самой себе. У Владимирской она не кончается, а следует дальше к Большой Васильковской (параллельно Жилянской и Мариинской)… Сюда доходит уже упоминавшийся восьмой номер трамвая, но к Васильковской он не спускается, а сворачивает налево — на Владимирскую, по которой и следует до Владимирской горки. После Караваевской Владимирская уже не взбирается на особо крутые высоты, а становится спокойной, просторной и красивой… С левой стороны сразу начинаются красные здания университета — в прошлом Святого Владимира, потом имени Т. Г. Шевченко, а против них целый квартал до бульвара Шевченко (бывший Бибиковский) и до Кузнечной (точнее, ее продолжения) занимает каштановый Николаевский парк, в центре которого долго стоял памятник Николаю Первому. Теперь там стоит памятник Т. Г. Шевченко, и парк этот тоже стал имени Шевченко. По-видимому, ни парку, ни бульвару, ни университету старые названия возвращены не будут. А ведь и они связаны с историей города. Вместо того чтобы длить традицию сталинских переименований, в расстраивающемся городе вполне можно было бы открыть названные в честь великого поэта новые учреждения, соорудить новые памятные места.
Мои мысли о названиях вызваны не соображениями национальной политики, а простой человеческой ностальгией по временам моего детства, когда говорилось «Бибиковский»… «Николаевский»… И, кажется, солнце светило как-то по-другому.
Постепенное расширение границ мира
В первые годы моей жизни чаще всего только затем и добирались сюда, чтоб отсюда уже ехать к Днепру или в гости. Следовательно, все, что возникало дальше — Бульвар Шевченко, Фундуклеевскую, Оперный, бывший Городской, театр за ней (в нем был убит Столыпин), Прорезную и окруженные садиком остатки Золотых ворот против нее, — все это я видел уже только из трамвайного окна. Эти поездки я очень любил, но случалось это раз в год, когда меня возили к знакомой девочке на именины — в район Софиевской площади, в центре которой и тогда стоял памятник Богдану Хмельницкому, а слева высился собор Софии Киевской. Здесь на остановке «Рыльский переулок» перед знаменитыми «присутственными местами» (где когда-то состоялся процесс Бейлиса) мы сходили и шли на именины с подарком, который иногда мне самому так нравился, что было жаль его отдавать.
А иногда мы проезжали дальше до конца, к самому фуникулеру и, спустившись на нем на Подол к Днепру, переправлялись на пляж. Справа от фуникулера спускалась к Крещатику Владимирская горка (как спускались к нему все улицы, начиная с бульвара Шевченко). Владимирская горка — один из киевских парков. В середине ее на широкой площадке стоял, держа крест, и теперь стоит князь Владимир Святой, креститель Руси.
Край ойкумены
Именно отсюда, с Владимирской горки, я впервые увидел внизу маленькие игрушечные трамвайчики, с маленькими людьми, висящими на подножках, маленький Днепр, с игрушечными пароходиками — одним словом, целое сказочное игрушечное царство. В то, что все эти предметы вовсе не игрушечные, а маленькими кажутся только из-за расстояния, как утверждал отец, верить я отказывался. Тогда мы начали спускаться вниз по дорожке, к Александровской улице, и уже на полпути сказка кончилась. Но все это переживания более позднего времени.
Но уже и в мое младенчество вторгалась история. Однажды, когда я сидел в нашей комнате на плетеном стульчике за плетеным столиком (они были недавно подарены мне, и я их очень любил), я был вдруг отвлечен от каких-то своих дел счастливым возгласом: «Эмочка! Рахилька пришла!» Из этого следует, что я к тому времени уже знал, что эта Рахилька (моя двоюродная сестра, старшая дочь демиевского дяди Иосифа) существует, видел ее до этого или был только о ней наслышан. Вбежала радостная молодая женщина в демисезонном пальто цвета кофе с молоком, расцеловала и чем-то меня одарила, очень мне понравилась и… исчезла. Потом я еще долго спрашивал, когда она опять к нам придет, но она больше не пришла.
Смысл этой сцены стал мне понятен много позже. Оказывается, это было прощание — то ли перед отправкой в ссылку, то ли после возвращения из ссылки перед отъездом в Палестину. В ссылку она была отправлена за сионизм, причем, как это мне ни неприятно, судя по всему, за сионизм левый, почти коммунистический. С той только разницей, что коммунизм она собиралась строить не в «случайном» месте, где ее застала история, а вопреки известному анекдоту именно «в своей стране».
Сионистов, даже идейно близких, сажали тогда не из-за государственного антисемитизма — его не было, а просто потому, что сажали всех инакомыслящих. Но «идейно близкие» сионисты (может быть, не только они, но о других я не знаю) пользовались тем преимуществом, что им после некоторой отсидки могли по их просьбе ссылку как меру наказания заменить высылкой за границу. Практика была, с точки зрения Сталина, разумной, ибо левые — народ необидчивый (конечная цель поднимает их на такую высоту в общем, что в любой частности им «плюнь в глаза — скажут: Божья роса») и все равно — пусть с оговорками — будут поддерживать все, объявляющее себя левым. Они и поддерживали СССР и Сталина до самого процесса врачей, Шестидневной войны, а некоторые до сих пор поддерживают — правда, Ленина, а не Сталина (идея для них важней того, что из нее получается). Хотя разумная «либеральность» Сталина (наказание высылкой из страны) продолжалась только года до тридцать пятого, т. е. до его окончательного воцарения. Дальше уже такая целесообразность никого не интересовала.
Встреча с Рахилькой стала почему-то одним из самых ярких впечатлений раннего детства. Она исчезла, но вместо нее стали приходить письма с интересными марками, на которых было изображено красивое здание с круглым куполом (мечеть Омара). Но постепенно воспоминание о ней стиралось. Сама ее Палестина интересовала меня мало. Другие вещи волновали мою душу.
Но однажды в моем детстве Палестина еще раз проплыла мимо меня. Моя дальняя родственница вышла замуж за сиониста. Было это уже ближе к середине тридцатых, и поэтому на свободе он погулял недолго. И трехлетний срок отсидел полностью без всяких замен. И, естественно, после возвращения был вскоре вновь арестован как однажды сидевший. В семье его очень осуждали за неосторожность. Не знаю, имела ли она место, но думаю, что это безразлично. Посадили его за то, что он уже раз сидел. Я слышал, что после войны он все же вырвался в Израиль (вероятно, через Польшу) и принимал участие в его строительстве. Где он сейчас и жив ли — не знаю. Я его и видел, наверно, раз в жизни и мало им интересовался.
Однако я слишком далеко забежал вперед. Рассказ мой о преодолении слепоты, а я еще и до слепоты не дошел. Я еще слишком мал для нее — для обретения этой слепоты ведь нужен определенный уровень развития и грамотности. И на дворе еще сытые золотые годы НЭПа. Конечно, если можно назвать золотыми годы застоя, как теперь некоторые, пусть и в шутку, но все же делают, то годы НЭПа — сам Бог велел. Хотя и они в своем стремлении напоминать «мирное время» были скорее не золотыми, а позолоченными. Но все же наш небольшой дом, принадлежащий, как я говорил, моему дяде, еще не шибко перенаселен. И наша квартира — тоже.
Конечно, изначально она, судя по всему, была рассчитана (разумеется, в уже упоминавшееся «мирное время») на спокойную и не тесную жизнь одной не очень зажиточной, но и не очень бедной семьи, а жило две (мы и дядя с тетей), что уже само по себе было неким непорядком (никогда, впрочем, мной не сознаваемым). Но это совсем не то, что было потом. К началу войны (1941 года) она была уже набита, как курятник.
Полупуста по позднейшим меркам еще не только наша квартира, но и наш зеленый двор. Деревянная лестница из «калидора» еще широко сходит вниз перпендикулярно дому. Она никому не мешает. Потом ее прижмут к дому — слишком много народу появится во дворе.
А пока во дворе, кроме меня, растут еще два мальчика, моих сверстника. Но мама не хочет, чтоб я с ними играл. Я должен играть только с «хорошими» интеллигентными детьми, а эти мальчики — уличные. Мне, конечно льстит, что я отношусь к высшей категории «хороших» и «интеллигентных», но ведь играть больше не с кем. А детям — особенно мальчикам, особенно в семьях с одним ребенком — обычно так скучно. Я не очень люблю свое детство именно за это — за скуку и вечные унизительные поиски средств ее преодоления. Начиная с отрочества, лет с двенадцати — тринадцати, мне уже никогда не бывало скучно. Бывало тоскливо, страшно, но не скучно. Даже в эмиграции, которую я воспринимаю (вернее, воспринимал до начала перестройки) как период после жизни. Я вообще не очень уважаю людей, которым скучно. Но в детстве мне было скучно самому. И с мальчиками этими я играл, хотя в глубине души подло считал их уличными. И о том, что сам я мальчик из интеллигентной семьи, при этом не забывал никогда. Хотя нет менее интеллигентного отношения к людям, чем это. Отношение это передавалось мне от матери. Тут наверняка у некоторых может возникнуть соблазн «догадаться», что это обычное проявление «еврейской надменности» по отношению к «гоям». Пусть остановятся в своих догадках. Надменность тут, может, и была, но «гоев» не было. Оба эти мальчика были чистокровными евреями. Один был сыном продавца газированной («зельтерской», как говорили в Киеве) воды, а другой сыном того самого Щиглика, о котором уже шла речь. Кстати, эта «надменность» никак не распространялась на деревенских мальчиков, с которыми я играл, когда мы выезжали «на дачу» (чаще не в дачные местности, а в сельские предместья еврейских местечек, подальше от Киева, где продукты были дешевле). А они явно были неинтеллигентными и уж точно не были евреями. Видимо, предполагалось, что они «не испорчены улицей». Вероятно, это так и было. Но такое отношение к детям — пусть городским пусть и впрямь «уличным» (что это значит, я и теперь не знаю) — все равно отвратительно. И чем дальше, тем больше это мне претило.
В основе такого отношения лежала прежде всего гордыня — особенно неприятная в человеке, который хоть раз да ходил на маевку пылать пафосом всеобщего равенства. Впрочем, может быть, воспоминания об этом «пылании» больше всего и поддерживало эту гордыню. Мне и сегодня неприятно о ней вспоминать, но все же за ее нелепыми проявлениями стояло и что-то существенное.
Гордилась она ведь не просто тем, что получила зубоврачебный диплом. Для нее, как и для многих в тогдашней России, он означал не столько то, что для многих означает сегодня. Не просто достижение «хорошей» (или лучшей из доступных данному индивиду) профессии и устройства в жизни, а — и прежде всего — приобщение к культуре, к образованности вообще, к миру, правда, неопределенных, но несомненно высоких ценностей. И то, что она кончила экстерном гимназию в Нижнеднепровске (при мне Днепродзержинске, теперь, надеюсь, опять Нижнеднепровске), а потом еще и зубоврачебные курсы при университете Св. Владимира в Киеве, для нее было предметом гордости не само по себе, а как доказательство того, что она «всю жизнь стремилась». И вот этот мир, куда она когда-то «так стремилась», она теперь таким нелепым образом и защищала от размыва, стремясь отгородить своего сына от влияния «улицы». Все это отчасти было утрированным проявлением стремления многих оградить свой круг от смешения и растворения, которые несла в себе революция. Это стремление естественно, проявлялось тем острей, чем неотчетливей был сам круг.
У моей матери все это еще проявлялось достаточно невинно. В конце концов она при этом не устраивала революцию во имя равенства, не принадлежала к правящей партии, которая любой ценой бралась это равенство обеспечить. Что, например, сказать тогда об одной знакомой даме, члене партии, «комсомолке двадцатых годов», которая не отдавала свою дочь до пятого класса в общую школу, а нанимала ей частных учителей, чтоб она не соприкасалась с детьми тех, в борьбе за счастье которых она и получила эту привилегированную возможность.
Кстати, мои пути с этими двумя мальчиками сами собой разошлись очень скоро — конечно, по моему сегодняшнему счету времени, а не тогдашнему. Потому что разошлись наши интересы. Один из них сидел в каждом классе по два года, и когда я учился в восьмом классе (стихи, влюбленности, «политические» сомнения и скандалы), он все еще был в четвертом и гонял с одноклассниками по улице, являя собой зрелище довольно жалкое (хотя никаким «уличным» все равно, конечно, не был). Спасло его появление ремесленных училищ. Став «ремесленником», он опять оказался среди сверстников. Дела его пошли на лад. Но пришли немцы, и он вместе со своей матерью был расстрелян в Бабьем Яре, — в качестве, надо полагать, потенциального участника всемирного еврейского заговора и отчасти претендента на мировое господство. История, особенно в XX веке, занимается отнюдь не только теми, кто занимается ею.
Второй мальчик, сын Щиглика, тоже особыми школьными успехами похвастать не мог, тоже не раз оставался на второй год, интересы наши тоже скоро разошлись, но по улицам он не гонял, работал (семья нуждалась, может, поэтому он и не шибко учился), потом, вернувшись с войны, что-то кончил, приобрел мастерство и успешно работал (и сейчас работает, если не ушел на пенсию) на одном из киевских заводов.
Нет, я не поборник равенства. Люди не равны ни по ответственности, ни по уровню постижения и потребности в истине, ни по многим другим параметрам. Эта простая мысль — одно из самых грустных открытий моей жизни, а может быть, и целого отрезка новой истории. Но перед Богом люди все равно равны. Это означает, что их жизни в главном равноценны. И что почти у каждого из них есть свои преимущества перед другими. И что нельзя — даже в душе — третировать детей за недостаточно «аристократическое» происхождение. Правда, плохо и когда взрослые люди лишены чувства реальной иерархии и пафоса дистанции. Но это уже другая тема.
Впрочем, оградить меня от самого разнообразного общения все равно бы не удалось. Слишком уж я рвался к детям, к общению. Да и не таков был век. Вскоре произошло событие, о котором я уже здесь упоминал — под напором «социалистического развития», будучи прижат к стене преследованиями и придирками, мой дядя вынужден был проявить «сознательность» и «добровольно» передать свой дом жилищному кооперативу (жилкопу), практически — государству. Мы оказались объединенными с уже упоминавшимся соседним большим угловым четырехэтажным кирпичным домом — № 97а/37 (97а — по Владимирской, 37 — по Жилянской, называвшейся тогда, как и сейчас, улицей Жадановского). Перегородку между дворами вместе с нашими сараями сломали, и образовался большой двор со множеством самой разной детворы, и тут уж и моей маме было не разобраться, кто «хороший», а кто нет.
При всем моем отрицании такого отношения к людям, что-то от него засело во мне надолго. Хоть я и общался со всеми детьми, но дети из интеллигентных семей (или ошибочно казавшихся мне таковыми) имели в моих глазах некоторое преимущество, вызывали больший интерес. Я чего-то от них ждал. Как и от себя самого. Потом это превратилось в поиски все более и более подлинной интеллигентности, более точного соответствия человека тому, за что он себя принимает и чем хочет казаться (себе самому тоже). И сам я при этом — льщу себя надеждой — становился подлинней и начинал ценить человеческую подлинность как таковую. Конечно, не только в интеллигентах, а во всех хороших людях, каких я на своем пути встречал немало в самых разных слоях.
Что еще рассказать о своем детстве? Ведь до этого объединения дворов я прожил уже целую эпоху. Но внешних впечатлений было не так уж и много. О некоторых я рассказал. О том, как изменялись трамваи, например.
Но дело, конечно, не в трамваях. За эти годы произошло изменение всей жизни, и это, конечно, не могло не сказаться на жизни нашей, вполне серединной по своему положению семьи. Конечно, НЭПа я не осознавал и его конца тоже не заметил. Себя до начала тридцатых я вообще помню только урывками, отдельные впечатления не связываются в цельную картину. Однако помню, как жил я сначала в одном мире, где меня пичкали всякой «полезной для ребенка» пищей, от которой я отбрыкивался, как мог, а потом постепенно оказался в другом, более бедном и трудном. Но это уже оценки в воспоминаниях более позднего, взрослого времени, тогда я такого сравнения, естественно, не делал.
Съезд из одной эпохи в другую дался мне вполне безболезненно, ведь ребенок все воспринимает как данность. А потом эпоха лишений была уже естественной средой обитания, они касались всех вокруг, даже самых привилегированных, и сравнивать можно было уже только степень лишений в разные периоды: в годы коллективизации, в предвоенные, в военные или послевоенные годы. Иногда бывал дефицитным даже хлеб, иногда штаны, иногда ботинки, всегда жилье, иногда со «снабжением» (заменившим нормальную торговлю) было трудно и в больших городах, всегда в провинции. На Западе тоже есть дефицитный «товар», но только один — деньги. Деньги же средний человек может заработать, а потом от него уже зависит, как их тратить, в каком порядке обзаводиться имуществом и т. д. В общем, как планировать расходы. Невозможность этого сама по себе неестественно усложняет и удорожает жизнь.
В сущности, жизни без недостач и дефицита я в СССР не знал. А ведь мне давно за шестьдесят, почти под семьдесят, я сегодня имею печальную честь представлять старшее поколение людей нашей страны. Это значит, что все нынешнее советское население всю свою жизнь жило в атмосфере недостач, когда предметы первой необходимости часто не просто покупаются, а «достаются» сложным, запрещенным и, строго говоря, не особенно нравственным путем. Или являются засекреченным атрибутом привилегии, что еще менее нравственно.
Эта жизнь вошла в плоть, кровь и сознание. Когда мы ходили по Вене, моя жена во все глаза смотрела на витрины мясных лавок. Такого мяса она до этого не видела никогда. Мало того, что оно было вообще без костей, оно еще было таким упитанным, таким первосортным, как у нас никогда не бывает. Да и где она могла видеть такое мясо, если родилась в 1933 году? Спасибо партии и правительству, что выжила, чего уж тут еще требовать! «А кто у нас ест такое мясо?» — спрашивала она в недоумении.
Кто? Однажды я видел такое мясо. Его принесла из «Березки» моим знакомым иностранная гостья, которая у них жила. Очень была довольна, говорила, что в России мясо дешевле, чем на Западе. А теперь и на «Березку» не хватает. Хватает ли на начальство — не знаю. Во всяком случае не на все. Так что в принципе этого мяса никто не ест. Его просто нет. И всю нашу жизнь — не было. Началось это с самого «военного коммунизма», но все-таки был перерыв с начала и до конца НЭПа, а с начала тридцатых никаких перерывов уже не было.
Как мы жили тогда?
Восстанавливаю картину. Мне лет шесть — семь. Напряжение чувствуется, много разговоров о продуктах, ощущается, хотя и не осознается, бедность (видимо, есть все-таки смутные воспоминания о недавних, нэповских годах), но наша семья не голодает. А я тем более. Многое даже выглядит интересней. Откуда-то приносят подсолнечный жмых («макуха»), убеждают себя и других, что это очень полезно и хорошо. А меня и убеждать не надо — мне и так он нравится гораздо больше, чем мамина «полезная еда». И потом никогда в нашем доме не бывало столько сладостей, как иногда теперь, когда отец, выкупив «паек», может принести домой сразу огромный, двухкилограммовый кулек пряников. Говорят, они соевые, но это меня не интересует. Они сладкие, а мне только этого и надо — гурманством я тогда не отличался.
Иногда мы ходим с отцом в торгсин («Березку» первой пятилетки); чтоб купить продукты, сдаем на вес оставшиеся с «раньшего времени» серебряные ложечки и прочую мелочь. А иногда мы получаем из-за границы переводы от родственников и у нас появляется рублей пять в «бонах», а это целое состояние. Я уже умею читать, по этой причине сую нос во все прейскуранты и знаю, что цены в торгсине фантастически низкие. И все есть: ветчина, колбасы. Но мы всегда покупаем вещи не очень для меня привлекательные: немного масла, немного крупы. Нам не до жиру. Я не задаюсь вопросом, почему только в этом магазине все есть и такие цены. Я уже тоже знаю, что нам, нашей стране, нужно золото, чтоб покупать станки для строительства социализма. Построим — тогда всем станет очень хорошо жить. Это я читал во всяких своих «Мурзилках» и детских книжках, где так интересно рассказывается о страданиях и борьбе трудящихся в странах капитала. И я горжусь тем, что живу в самой счастливой стране, где трудящимся хорошо.
А вокруг на земле, на тротуаре лежат люди. Некоторые просят хлеба, некоторые уже ничего не просят. Лежат. Я воспитанный городской мальчик и знаю, что на тротуарах лежать некультурно, могут микробы завестись, ибо по тротуарам ходят ногами, и они грязные. А раз эти люди там лежат, значит, они некультурные и невоспитанные — в общем, не такие, как я. Я очень любил читать детские книжки — особенно о дружных ребятах — пионерах, которые вместе весело собирают утиль для великих строек, борются с недостатками друг друга и вообще живут какой-то насыщенной, сознательной и увлекательной жизнью. А некоторые из них еще храбро борются с коварным, жестоким, глупым и жадным врагом — кулаками. А, судя по всему, эти лежащие на тротуарах люди и есть кулаки или их помощники. Правда, на страшных и жестоких они не похожи, и у них есть дети. Это нарушало картину: в пионерских книжках о кулацких детях ничего не говорилось.
В принципе, я так же, как и взрослые, искал способов отгородиться от этого несчастья (я-то ведь не голодал, и мне надо было жить). Некоторые из взрослых утверждают, что все эти люди потому и валяются, что работать не хотят, но моего отца это объяснение почему-то не устраивает. «Я понимаю, идея красивая, — бормочет он, — но ведь люди на улицах умирают». В его «красивая» нет и тени иронии. Это просто буквальный перевод с идиш, куда перешло из немецкого. «Красивая» в этом контексте означает «прекрасная». Его почему-то это очень волнует, что люди умирают. Все вокруг от этих впечатлений отгораживаются. Особенно успешно идеалисты, которых так много развелось во всем мире. Ох уж эти идеалисты!
Английский публицист Малькольм Магеридж, в прошлом левый социалист и поклонник «советского эксперимента», но потом, после близкого знакомства с ним (был в годы первой пятилетки московским корреспондентом лейбористской газеты), ставший его убежденным противником, вспоминает о таком знаменательном эпизоде начала тридцатых. Поезд, где был вагон с группой английских туристов, включавшей и известную английскую социалистку отнюдь не крайнего толка Беатриссу Вебб и самого Магериджа, на какой-то большой станции оказался рядом с эшелоном раскулаченных. В зарешеченных окошках теплушек появились изможденные лица несчастных баб и худенькие ручки детей. И те, и другие молили о хлебе. Английские туристы были поражены, многие, естественно, возмущены. Но больше всех возмущалась умеренная социалистка Вебб. Но чем была возмущена и даже оскорблена ее горячая умеренность? Головотяпством и тупостью железнодорожных властей, поставивших этот эшелон рядом с вагоном неподготовленных!) английских туристов, которые из-за этого (по-видимому, мелкого в представлении г-жи Вебб) эпизода могли составить себе неправильное представление о «великих переменах», совершавшихся тогда в СССР, да и о социализме вообще.
Судя по всему, сама г-жа Вебб к тому времени была уже достаточно подготовлена для приятия подобных впечатлений, и на нее саму подобный эпизод повлиять не мог. И если она поделилась потом этим своим возмущением с кем-либо из «вождей» (а почему бы ей этого и не сделать, раз она обнаружила такое вопиющее безобразие?), то ее возмущение наверняка встретило сочувствие и понимание, и в результате начальник этой станции (хоть нигде на земле в обязанности начальника станции не входит учет вида, открывающегося из окон вагона с туристами) поплатился за ее энтузиазм головой. Поражает гармоническое усвоение этой «европеянкой» азиатской, казалось бы, логики большевизма и сталинского аппарата. Нет, видимо, таких жертв, каких определенного сорта идеалисты не принесли бы на алтарь сохранения и торжества своего идеализма.
А жертвы эти повсюду меня окружали, повсюду меня окружала смерть, хоть я и не знал, что это такое. Но однажды я с ней столкнулся вплотную. Это произошло при следующих бытовых обстоятельствах…
В нашу дверь постучался дядя, хозяин дома, и попросил отца срочно помочь ему. В «подъезде» (так в довоенном Киеве называли подворотни) нашего дома расположилась какая-то нищая женщина, может быть, даже больная, а это строго запрещено. Милиция за это строго преследует — особенно хозяев собственных домов. Так не может ли отец, как человек более молодой и лучше говорящий по-русски, сойти и сказать этой женщине, что здесь лежать нельзя, чтоб она уходила. Отцу неудобно было отказать своему родственнику, и он согласился. Я увязался за отцом. У ворот нашего дома уже собралась небольшая толпа. А с другой стороны ворот, в подворотне, прямо на булыжнике лежала, скрючившись, опухшая и ко всему безучастная женщина неопределенного возраста в грязных лохмотьях. Отец дрогнувшим голосом сказал, что здесь лежать нельзя и надо уходить. Она не реагировала. Кто-то в толпе сказал, что она, видимо, еврейка и по-русски не понимает (в те времена далеко не все евреи говорили по-русски). Отец перешел на идиш. Она открыла глаза, но тут же в бессилье их закрыла опять. Памятуя о суровой власти рабоче-крестьянской милиции, отец все же попытался растормошить эту женщину, чтоб она ушла. Так власть приобщала к своему палачеству и людей, не имеющих к нему никакой склонности, а к ней никакого отношения.
— Да вы что, не видите, что она умирает? — раздался чей-то возмущенный голос. Отец опешил! Через несколько секунд женщина вдруг дернулась и затихла. Человека не стало. В таком обличье предстала передо мной впервые смерть.
Дальше было еще страшней. Позвонили в милицию, и довольно скоро — я видел это в окно — перед домом остановился грузовик, накрытый брезентом. Выскочили два молодца, ловким привычным движением отвернули брезент, и глазам открылся слой трупов, почти скелетов. Стало ясно, что под ним перекрытый брезентом второй, третий — несколько слоев. Труп из нашего подъезда вынесли, быстро забросили наверх, накрыли брезентом, сели в кабину и уехали. Будничность этой картины поразила меня. Теперь я знал уже, что это за грузовики, аккуратно накрытые брезентом, — я их видел и раньше, но не думал о них — шныряют по городу. Так предстало передо мной впервые то страшное, тлетворное отношение к смерти, а вернее, к жизни человека, которое всегда господствовало в советском бытии, но редко проявляло себя с такой откровенностью.
Приятно было бы иметь сегодня право сказать, что с тех пор я возненавидел этот враждебный человеку строй, понял его звериную природу. Но такого права у меня нет, ибо не возненавидел и не понял. Наоборот, подсознательно лишний раз убедился, что такое случается только с какими-то другими, в чем-то не такими, как надо, людьми, а не с такими, как я. Ведь в моих книжках сознательные пионеры, живущие повсюду в нашей стране (но почему-то не в нашем и не в соседних дворах — так мне не повезло), продолжали трубить в горны, дружно собирать утильсырье и металлолом в помощь партии, бороться с кулаками и вообще жить очень интересной и значительной жизнью.
Была (где-то рядом, хоть я ее не видел) настоящая жизнь, и какая-то неопрятная женщина из подворотни и грузовик, который ее увез, не могли всего этого затмить и перевесить, Проще было поверить, что это необходимые отходы этой «большой» жизни, на что не следовало обращать внимания. Конечно, все это формулы более позднего времени, но в чувстве именно так причудливо смешалось самоощущение «мальчика из приличной семьи» и поклонника пионерской романтики. С тех пор запал в мою душу и жил в ней, во многом руководя мной, — подспудный, неосознанный страх попасть в категорию этих «других», с которыми можно так обращаться, которых не жалко. И продолжалось это до моего полного внутреннего освобождения от большевизма, до 1957 года.
То, что женщина, умершая в нашей подворотне, оказалась еврейкой, — чистая случайность, может быть, даже исключение. Но то, что я, мальчик, воспитывавшийся в тогда еще довольно замкнутой и традиционной еврейской среде, никуда еще за ее пределы не выходивший, с легкостью отнес и ее к категории этих «других, которых не жалко», которых жалеть стыдно, — факт вполне типичный и знаменательный. Это забвение ближнего во имя сохранения цельности мироощущения и было самым тяжким грехом жизни нескольких поколений нашей интеллигенции любого социального и национального происхождения — нашим, выражаясь словами Генриха Белля, «причастием буйволу». Отец мой — в отличие от меня в юности и г-жи Вебб в зрелости — этого «причастия» не принимал никогда, какой бы красивой ни выглядела в его глазах идея.
Эта противоестественная полоса отчуждения вокруг страдания, создаваемая сознательно и не свойственная ни русскому, ни какому бы то ни было другому духу, — одно из страшнейших достижений большевизма. Потом оно обратилось своим острием против самих его изобретателей, но вины это с них не сняло.
Сегодня коллективизацию и раскулачивание поносят многие, почти все. Она до сих пор еще тяжело сказывается на судьбе всей страны. Она — грех. Но грех не только тех, кто в этом прямо участвовал. То, что видел я, в той или иной степени видели все мои сверстники, не говоря уже о людях чуть и не чуть старше. Видели — и жили потом как ни в чем не бывало. Причем, даже не всегда нечестно. Некоторые, даже отстаивая — пусть и с ортодоксальных позиций — правду и справедливость, сами попадали под топор — ортодоксальность не спасала от расправы. Но коллективизация как бы из их памяти выпала и мимо их совести прошла. До времени, конечно. До очень тогда еще неблизкого времени.
Драматург Александр Константинович Гладков, известный на Западе своими воспоминаниями о Пастернаке, недоумевал потом, как он мог спокойно каждый день проходить мимо площади Курского вокзала, спеша на интересные диспуты и спектакли, когда, заполнив всю эту площадь, валялись и умирали на ней украинские крестьяне из Запорожской и Днепропетровской областей (с женами и детьми), тщетно пытавшиеся найти спасение в столице. А. К. был добрейшим и порядочнейшим человеком. Однако — проходил. Не до того было. А может, подсознательно чувствовал, что остановиться и задуматься в тот момент — значит обречь и самого себя на такое же безличное исчезновение. В русской литературе тогда все, кроме далекого от народа Мандельштама, прошли мимо этой трагедии. Разве еще в романе А. Малышкина «Люди из захолустья» проглянула, хотя автор и пытался ее оправдать. Больше никто… А уж западным энтузиастам, приезжавшим к нам, и подавно было не до того — им надо было успеть поскорей восхититься грандиозностью перемен и надышаться озоном творчества!
«Мы с вами, товарищи!» — с таким возгласом подходили они к нашим представителям в западных городах. Правда, они не верили буржуазной прессе, тем более ее «фантастическим» сообщениям о том, что на улицах и в подворотнях советских городов люди мрут, как мухи. Мы ведь в это тоже как бы не верили, хоть сами видели. Ведь это действительно было неправдоподобно — мы-то ведь жили. Помню, как я где-то прочел отрывок из романа К. А. Федина, где безработного нанимают стоять у булочной с плакатом, призывающим бойкотировать этот магазин потому, что он торгует продуктами, «отнятыми у бедных русских крошек». Выглядело очень иронично, но именно этим — отнятым у русских крошек — здесь и торговали, если торговали советскими продуктами.
И, собственно, это совпадало с пропагандой — все отдаем, чтоб купить станки. Но иронией по отношению к этому проникался и я, хоть что-то все же меня царапнуло — запомнил. Но зачем понадобилась Федину эта ирония? Он ведь мог бы вполне — времена еще позволяли это — обойтись тогда и без нее и без этого эпизода. Не обошелся. Не придал значения. Может, просто не знал, что это причастие буйволу. Но в чем-то тут проявилось общее отношение. Получалось, что женщина, которую швырнули на верх грузовика, вообще никакого значения не имела. Как будто она не родилась когда-то на радость родителям, как будто не чувствовала, не думала, не надеялась. Однако будущее прояснило, что значение она все-таки имела. Оказалось швырять так можно кого угодно. Только покажи, что это можно, а желающие найдутся.
«И это ж надо было убедить людей, — сетовал тот же А. К. Гладков, — что торговать — стыдно, а расстреливать — не стыдно». Однако убедили. И в этом убеждении мы жили довольно долго.
А. И. Солженицын, кажется, в «ГУЛАГе», сказал, что во время коллективизации русская интеллигенция перестала быть интеллигенцией. Вероятно, эти слова с полным правом можно отнести и к интеллигенции мировой. А иногда мне кажется, что дело еще хуже — что в какой-то степени все вообще тогда перестало быть самим собой: народ — народом, цивилизация — цивилизацией, а человечество — человечеством. Это была первая в новой истории (если не считать геноцида армян в Турции) хотя и более сумасбродная по выбору объекта, чем гитлеровская, но в том же духе — попытка «окончательного решения» вопроса о том, кому существовать, кому нет. Она открыла путь, и по нему следуют многие.
Но это все осозналось потом, а пока рассказ о моей жизни дошел только до детсадовского возраста. Впрочем, в детском саду я пробыл недолго.
Что там со мной происходило? О том, как я там просветился насчет Бога, я уже рассказал. Кроме того, я там полюбил хоровое пение боевых революционных песен. Мне уже тогда это нравилось. Пел я со всеми, вдохновляясь и ничего не понимая. Особенно мне нравилась песня, которая должна была звучать так:
Мы шли под грохот канонады, Мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды Спартаковцев, смелых бойцов.Голос мой тонул в общем хоре, что для него, как я потом понял, было наилучшим выходом. Но на самом деле пел я следующее:
Мы шли под грохотка нанады, Мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигалися тряды Спарта кавцосмелых бойцов.Смысла этих странных слов: «грохотка», «нанада», «тряды», «спарта» и особенно «кавцосмелых» — я, естественно, не понимал. Не поручусь, что и слова «канонада» или «спартаковцы», если б я их правильно расслышал, были бы мне тогда более понятны. Но мне нравилось. Прежде всего — что смерти смотрели в лицо и что речь тут шла о смелых бойцах. Правда, не просто смелых, а как-то по-особому — «кавцо»-смелых. Но это уже были частности. Особенно, когда я понял, что не «тряды», а «отряды», а я знал, что пионеры организованы в отряды. Следовательно, речь шла о пионерах, в которых я и без того давно мечтал состоять. Получалось, что в песне говорится о том, как отряд юных пионеров один на один сражался с мировой буржуазией. А дальше речь шла о барабанщике, героически павшем в этом бою. Его даже в отряде юных пионеров считали юным. Значит, он был еще ближе мне по возрасту — не иначе как октябренком. Как же это могло мне не нравиться?
А касательно всего непонятного, то с меня вполне хватало того, что это было понятно всем остальным — в этом я не сомневался. Вероятно, эти другие в число «остальных», которым, в отличие от них, все понятно, включали и меня. Я ведь тоже пел вполне вдохновенно.
Думаю, что многие современные «борцы за мир», леваки и террористы преодолевают неизбежные логические неувязки своего мировоззрения точно таким же образом. С той только разницей, что детский конформизм естественный и неизбежный способ постижения детьми мира и адаптации в нем, и не они отвечают за состояние мира, в котором адаптируются. А конформизм великовозрастный, да еще интеллектуальный — вещь гораздо менее естественная и совсем не безобидная. Особенно, если он приобретает недетскую форму проявления, — как в террористических группах.
Но в детском саду (их было два или три, но все вместе недолго и слились в один) я приживался плохо. Этим я ничего не хочу сказать плохого о детских садах или хорошего о себе самом. Дескать, тонкие натуры плохо приживаются в грубых коллективах, да еще по-советски идеологизированных. Нет, дело было не в этом. Как видел читатель, идеологизированность мне как раз нравилась. В этом смысле детский сад сделал свое дело. Барабан этого юного барабанщика еще долго находил отклик в моей душе и отражался на отнюдь не детских размышлениях. Не нравилось мне совсем не это, а режим дня — особенно принудительный сон после обеда. То же самое не нравилось мне и в пионерских лагерях, и санаториях, но там еще вдобавок — что уже совсем было невыносимо! — полагалось вечерами ложиться спать засветло, когда ни одному нормальному человеку «на воле» это и в голову бы не пришло. Может, с медицинской точки зрения это и было правильно, но уж очень унизительно. Я в таких здравницах нигде больше недели высидеть не мог, начинал тосковать «по маме», отчего и считался «маменькиным сынком». Но я им не был и тосковал, как теперь понимаю, не по маме, а по воле. Так и получилось, что главные мои дошкольные впечатления не детсадовские, а домашние.
Прежде всего, конечно, мать, ее разговоры об уже упоминавшейся «интересной молодости», вечных «стремлениях», учебе и т. д. Еще она любила декламировать отдельные строки из когда-то читанных стихов, особенно почему-то начало апухтинского «Сумасшедшего». Я как-то мало в жизни интересовался Апухтиным и только недавно узнал, откуда эти строки. Еще я от нее узнал, что жизнь должна быть не «пустой», а «идейной». Все это, конечно, во многом объяснялось ее общей экзальтированностью. Как и постоянная борьба с микробами. Тогда ведь далеко не все еще знали про то, что есть на свете микробы. Это знание и озабоченность — тоже часть той «культурности», которой она гордилась. В доме полный беспорядок, все выглядит неаккуратно, даже то, что застирано-перестирано. И какой-то абстрактный — идейный — культ чистоты.
Мать всю жизнь была убеждена в своем культурном превосходстве над отцом. Между тем это превосходство было не культурным, а цензовым. Она кончила зубоврачебные курсы, а к началу тридцатых и стоматологический факультет или институт, а отец — до пятидесяти лет ничего. Типичный самоучка. Но он всем на свете интересовался, хотел учиться, читал, думал. И отнюдь не из «культурности» — просто на самом деле хотелось ему все понять и во всем разобраться.
Не помню, сколько мне было лет, когда отец стал подолгу работать дома — вязать носки на специальной машинке. Он все время крутил ее ручку (машинка была с ручным приводом), что-то проделывал с нитками и спицами и вел со мной разного рода беседы, рассказывал. Особенно много о революции. Мне она казалась чем-то очень далеким, а для него только пятнадцать лет прошло (я уже в эмиграции семнадцать). Больше всего ему нравилась Февральская бескровная, принесшая свободу всем и равноправие евреям. Рассказывал он о Гражданской войне и о Троцком. От него я узнал, что Троцкий был хорошим оратором, организатором Красной Армии, но теперь выслан, потому что у него другие взгляды. Это меня очень огорчило. Как же так — ведь настоящий революционер, в главном за «нас», и вдруг такая незадача. Я высказывал мудрую надежду, что он исправится и вернется.
Отец обычно разговаривал со мной как со взрослым, пытаясь серьезно, объективно разобраться во всем, что знал и помнил, но тут он промолчал. Не из осторожности — разговор по тем временам не был опасным: Троцкий уже считался оппортунистом, но еще не врагом, не шпионом и предателем. Просто попробуй объясни такое ребенку. Да и вообще откуда ему было знать кремлевскую кухню? Но чувствовалось, что такой идиллический исход внутрипартийной свары ему не кажется реальным. Теперь я понимаю, что судьба Троцкого его вообще мало интересовала. Свою фразу о «красивой» идее, от которой люди на улицах умирают, он высказал тоже здесь, сидя за этой машинкой. Из большевиков он отдавал предпочтение скорее Бухарину, поскольку тот был ближе к здравому смыслу. Он подписывался на «Известия», которые редактировал Бухарин, и считал эту газету самой культурной. Я же про Бухарина ничего не знал, а культурностью и вовсе не интересовался — в пролетарских детских журналах она не котировалась (другое дело — положительные знания, в которых сила). Но — западало. Западало и запало. И с тех пор плакатное изображение истории меня раздражало и отталкивало. Всегда, даже в краткий период моего сталинизма, предохранило от растворения в идиотизме сталинщины. Должен сказать, что умению быть объективным, стремиться понять другую сторону, просто других людей, без которого не существует ни художника, ни личности вообще, я научился — пусть не сразу и не только — именно у отца.
Вероятно, и материнская экзальтация сказалась на мне не только плохо. Представление о том, что жизнь не должна ограничиваться прожитием, было усвоено мной с детства именно благодаря матери. Правда, к самой экзальтации у меня выработалась при этом стойкая идиосинкразия. Стоит мне только ее почувствовать в разговоре, как мне приходится подавлять в себе раздражение. Я понимаю, что вовсе не всегда это котурны, что иногда это только неудачная форма проявления, манера, за которой может стоять и настоящая боль. Потому я свое раздражение и подавляю, но вовсе не чувствовать его я не могу — уж слишком большая доза экзальтации была мне привита в детстве.
Но экзальтация вообще была в духе времени. Она насаждалась самой государственной пропагандой. Она превратилась в норму приличия, в единственно приемлемую для тоталитарного государства форму общения с ним. И генерал Макашов, открыто сетовавший на Горбачева за то, что «мы без боя отдали всю Восточную Европу», проявлял не что иное, как привычку к экзальтации, расчет на ее воздействие. И сам, вероятно, проникнут безграничной способностью к ней, при ее помощи сакрализуя — и в собственных глазах тоже — любые свои интересы и амбиции.
Правда, теперь я отвергаю и саму «идейность», а не только нелепые формы ее проявления. Мне она кажется более примитивной, своекорыстной и опасной для других формой одухотворения собственной жизни. Духовное наполнение жизни надо находить не в ошалелом стремлении к некой конечной (и уже потому ложной) общественной цели (к земному раю), а в чем-то другом, в одухотворении повседневного. Короче, я вижу в духовных концентратах, которыми больше столетия питается мировая интеллигенция, не особую высоту, не подлинное приобщение к Духу, а, скорее, соблазн. Этому обычно противопоставляют крестьянский идеал (ешь хлеб в поте лица и помни Бога), но боюсь, что при всей мудрости этого образа жизни, при том, что он должен всегда присутствовать в сознании, он не исчерпывает всех потребностей и возможностей человечества. У меня нет исчерпывающего ответа на вопрос, как жить. Ответ на него, видимо, каждым находится в процессе жизни. Я просто говорю о системе ценностей, очень поколебленной стремительностью культурного развития нашего века.
Сказалась эта стремительность, отрывающая иногда детей от отцов (отнюдь не в плане «молодежной прозы» шестидесятых годов), и на жизни нашей семьи, она тяжело прошла и через мою жизнь.
Моя мать была очень трудным человеком, отец — нет. Но оба они были хорошими и порядочными людьми. Я уже не говорю об их отношении ко мне. Они всегда выручали меня в трудные дни, а таких в моей жизни было довольно много. Очень долго они безропотно поддерживали меня и материально — на ноги я встал довольно поздно, после смерти Сталина, лет в тридцать или чуть позже, когда мне стали давать переводы. Но близости не было. Я ушел от них гораздо дальше, чем они от своих родителей, хотя переворот, совершенный ими в своей жизни, был гораздо более кардинальным. Да я вообще не совершал переворотов, просто жил и рос. И если я даже и вправду ушел вперед (а не только мне это кажется в хорошую минуту), то по пути, проложенному ими.
Сегодня я мог бы себя спросить: а стоил ли мой путь таких жертв? Ведь все равно я у разбитого корыта. Под разбитым корытом я подразумеваю не свое положение в эмиграции, а сам факт эмиграции. То, что моя жизнь привела меня к этой форме капитуляции. И вообще то, что мне выпало жить в обстановке культурного кризиса. Это ведь не академический термин, а реальность, имеющая отношение не только к «культурной области». Это такое состояние человеческого сообщества, когда люди не знают, чем жить и чем дорожить, а не только, допустим, как писать. Когда то самое «индивидуальное начало», которое мы привыкли противопоставлять тоталитаризму, ошалев от скуки и потери критериев, став своеволием, само энергично прокладывает путь тоталитаризму — как коммунистическому, так и нацистскому. Правда, нацистский еще полностью не возродился. В этой ситуации все, к чему я пришел в жизни, за что «страдал» — уважение к личности, к ее свободе, к выражающей форме в искусстве, — ставится под сомнение.
Что я могу противопоставить напору пустого самоутверждения? Только здравый смысл, совесть, зоркость, ответственность. И, конечно, любовь, и, конечно, Бога. Но ведь и Его имя люди мастерски научились использовать для освящения своих ближайших интересов и амбиций. В этих условиях подобие внутренней жизни гораздо удобней, чем ее подлинность. А этому модернистские развлечения и культ эмоций (подсознательно — взамен чувств), с которыми я всегда боролся, соответствуют больше, чем подлинное творчество, основанное на глубинном личностном чувстве, на выявленном отношении к бытию. Кроме того, модернистские блестки респектабельно отвлекают от сознания, что движемся к пропасти, или от того, что это страшно.
В сущности, остается только одно — все время напоминать себе и другим, что дважды два — четыре. Вроде негусто. А сколько сил, здоровья, надежд вложено, сколько проступков совершено, чтоб двигаться по этому пути! Так стоило ли?
Но выбирать поздно. Тем более выбрали до меня — все те, кто ушел из патриархальности. Разной, но одинаково не могущей почти никого удержать. Другим я уже все равно не стану. Да и не хочу — неинтересно, хоть, может, это и грех. Кто знает, может, греховно и само желание жить интересно? Но надеюсь, что не всегда. Что если это «интересное» оправдано высоким смыслом, если при этом быть осторожным по отношению к людям, то оно все же не грех.
И чем бы ни кончилась моя жизнь, она была хоть и тяжела, но наполнена. Многим людям я был нужен и интересен — я сам, мои стихи и мои статьи. Я был счастлив. Были у меня и грехи. От некоторых мне тошно и сейчас, некоторых, возможно, еще не осознал, но, кто из нас без греха? Возможно, мне вообще лучше было бы быть другим человеком, но у меня нет такой возможности, да я и не представляю того другого, каким бы хотел быть. Пусть уж остается как есть.
А время повествования между тем движется к школе. Читать я выучился лет в пять — шесть сам дома. Из детского сада меня скоро забрали — как видел читатель, вряд ли против моей воли — и я потом ходил в «группу» с «фребеличкой», с «немкой» — по-разному это тогда называлось.
Немка эта была вовсе не немка, а вполне русская женщина, из бывших, и звали ее Елена Владимировна. Не только советский детский сад, но и школу она ругала на все корки, отрицая их с порога. Отчасти это было справедливо. Тогда еще не кончилась эпоха всяких дальтон-планов и — того пуще — бригадных методов, и прочих идиотских коллективистских экспериментов над детьми. Но отчасти и несправедливо. Тогда уже начался возврат к старой, гимназической системе. Отмена этих экспериментов, на мой взгляд — единственное хорошее для страны, что сделал в жизни Сталин, — во имя чего бы он это ни делал.
Другое дело, что это не совсем гармонично сочеталось с коммунистической утопией. Вроде бы беда невелика, Но поскольку от системы, и созданной для воплощения утопии, при этом не отказывались, то это не только оскорбляло иногда молодые умы (что можно было бы пережить), но и погружало все вокруг в ту духовную и интеллектуальную прострацию, которую несла в себе начинающаяся сталинщина. Это было ее началом — побочным положительным последствиям более, чем отрицательного, разрушительного в целом явления.
Разумеется, обеспечить гимназический уровень образования при таком размахе и массовости — пусть это пока, в основном, касалось только городов — было уже невозможно, но все же тогда было еще много учителей «с раньшего времени», которые могли подхватить это начинание. Во всяком случае во всех классах, где я учился, меня — учили. Были учителя хорошие, были похуже, но малограмотных не было (теперь их много). В эвакуации я людей недостаточно образованных встречал, но они не превалировали. Да и не очень образованные жаждали знаний. Сегодня положение хуже. Пединституты (в том числе, и переделанные в университеты) подготовили (при мне) и, кажется, готовят и сейчас малограмотных учителей индустриальным способом. Разумеется, не только их — в России появляется и много хороших учителей, слишком развиты теперь коммуникации, — но и плохих тоже. Особенно по гуманитарным дисциплинам. По точным — до какого-то уровня выручает природная сообразительность, а в гуманитарии она не может заменить чтения книг и интереса к этому чтению. Впрочем, это процесс мировой, но у нас он был направляем сверху и стимулировался тем, что отсутствие интереса к чтению чаще сочеталось с идеологической благонадежностью.
Конечно, и инженеров плохих много готовится. Но ведь плохой инженер плох только тем, что за него работают другие, а плохой учитель плодит себе подобных.
Тем не менее, вдосталь поблуждав по белу свету, могу с уверенностью утверждать, что все же советская (т. е. российская, европейская) система образования в СССР и теперь была бы неплоха, если б она еще недавно не профанировалась столь часто «борьбой за успеваемость», «соревнованием» и прочей чепухой, заставляющей учителя выставлять завышенные отметки. А тогда — и подавно. Но это уже беды не только системы образования, а советской системы целиком. И все-таки в России сегодня образованных людей не меньше, а больше, чем раньше. Об этом еще будет случай говорить.
Но Елена Владимировна — фамилии ее я по малолетству не знал — не нуждалась в таких анализах. Просто, справедливо оценив советскую власть как хамскую, она из этого и выводила все свои умозаключения. Но в жизни, как известно, не все так логично вытекает одно из другого, и добрая женщина была не во всем права. Во всяком случае, несмотря на большое количество фиктивно образованных людей (что опасно в социальном смысле), мы теперь далеко не последняя по образованности страна (в мире вообще с этим не густо).
Но детвору она любила и немецкому языку обучала играючи, весело и увлекательно. В школе у меня потом был французский. К немецкому я вернулся только в эвакуации, в девятом классе (проходили там, правда, курс седьмого), и мне вполне хватало знаний, полученных от Елены Владимировны. Ведь тогда, до школы, я вполне уже умел слушать и понимать немецкие детские сказки про злых и добрых разбойников. Правда, в Вене, с которой началась моя эмиграция, моего немецкого хватало только на то, чтоб задавать вопросы и быть понятым, на понимание ответов его уже не хватало. Но тут уже виной время, годы, отвычка, но не Елена Владимировна.
Вряд ли она и раньше принадлежала к интеллектуальным верхам, но интеллигентность ее была вполне добротной. И это прикосновение в детстве через нее к тому почти исчезнувшему миру, который она, потеряв его из виду, все же в себе несла, — безусловно, было благотворно. Много всяких разных людей проживало еще тогда в многонациональном Киеве. Быть бы взрослей — запомнить бы. Но всему свое время, всякой памяти тоже.
Как и большинство моих сверстников, 1 сентября 1933 года я тоже пошел в первый класс. Вернее, в первую группу — тогда это еще так называлось. Слово «класс», отмененное как принадлежность старой царской гимназии, было восстановлено в правах год или два спустя.
Это был мой первый выход из семьи в судьбоносную эпоху, судьба которой, тем не менее, уже была решена задолго до этого дня.
Начальные классы — школа и двор
Мои первые школьные годы совпали с началом сталинской эпохи. На моих глазах Сталин, если судить по смене газетных титулов, превратился из верного ученика Ленина в отца народов, гения всех времен, корифея всех наук и вождя всего прогрессивного человечества. А потом столь же централизованным порядком он стал понижаться в чине — превратился только в выдающегося марксиста, причем допускавшего серьезные, даже мешавшие «нашему делу» (но для марксиста, по-видимому, все же простительные) ошибки, как то: безграничное тиранство, низкое коварство, брутальную жестокость и массовое душегубство. Но это «понижение» произошло уже в другую эпоху. Теперь мне даже странно, что вся фантастика сталинщины продолжалась (если не считать рубежной, еще более фантастичной и страшной коллективизации) меньше, чем двадцать лет. Это был очень долгий срок. Я пережил Сталина на тридцать восемь лет, но все равно мне кажется, что эти двадцать лет были длинней. Так же как непомерно длинными казались и кажутся годы гитлеризма, а их и всего-то было двенадцать. Наверное, потому, что каждый день этих лет нес особую тяжесть, тяжесть осознанного или неосознанного стыда, от которого не спасал никакой восторг, никакая «преданность делу».
Впрочем, когда я переступил порог школы, Сталин рекомендовался еще только первым среди равных, а это еще не требовало от нормальных людей большого насилия над здравым смыслом. Мы ведь и о нем, и об остальных «равных», как и об отношениях между ними, имели смутное представление. Еще ведь и «съезд победителей» не определил судьбу своих делегатов, и Киров был жив, хоть я и не подозревал о его существовании. В жизни партии времена эти были еще сравнительно идиллическими (уже с политизоляторами и ссылками для оппозиционеров, но еще без того, чтобы их расстреливали). В жизни страны, т. е. всех остальных людей, они уже давно не были такими. Но люди — жили.
Самые отвратительные тирании держатся еще и на том, что люди не могут прекратить или отложить свою жизнь, в том числе и ее радости, особенно если этих радостей немного. Страшные и точные слова Марины Цветаевой: «Есть времена, где солнце — смертный грех! Не человек, кто в наши дни — живет» — не могут и, наверно, не должны служить руководством к действию для большинства людей, но все же неопровержимы. Ничего не поделаешь, даже честные и отзывчивые люди продолжают жить и тогда, когда на их глазах убивают и морят голодом других людей, когда им лгут в глаза, когда, исходя из того, что составляет их личность, им вроде бы следовало на месте сгореть от стыда. Некоторые и сгорают. Но до конца — немногие. Большинство же таких людей все же остается жить, и стыд этот, продолжая лежать тяжестью на сердце, постепенно теряет свою остроту. Во всяком случае — до времени.
Остальные же обычно ко всему происходящему относятся как к данности, как к неотвратимым, не ими созданным реалиям жизни, в которой им надлежит существовать. И пусть на улицах трупы крестьян, все равно городские девушки из семей, получающих скудные, но все же позволяющие выжить пайки, будут пробегать мимо них на свидания, и то, что связано со свиданием — «придет не придет» и «что скажет», — будет в тот момент волновать их гораздо больше, чем эта ставшая привычной деталь пейзажа.
Да и вообще в основном люди будут заняты бытом. И средний человек, который достал и принес семье килограмм кетовой икры (тогда она была очень дешевой и воспринималась как не лучшая замена настоящей пищи), будет очень доволен собой и жизнью. Это печально, но, наверное, простительно, ибо он непрерывно занят спасением семьи, а решать вопросы более широко у него нет ни возможности, ни времени. И тем не менее, когда дело начинает касаться круга его обычной жизни, он (далеко не каждый, но все же) может подчас вести себя достойней многих из тех, кому это, так сказать, «положено по штату».
Когда раскулаченный отец поэта А. Т. Твардовского убежал из ссылки, где был обречен на не очень медленное умирание, он, не имея документов и права жительства в своей стране, т. е. будучи прокаженным, пришел к своему двоюродному брату, жившему в Смоленске. Тот не вдавался в рассуждения, не выговаривал родственнику за то, что ставит его в затруднительное положение, а просто попросил его чуток подождать в передней, и через минуту вынес оттуда не что-нибудь, не кусок хлеба даже, а паспорт! Свой собственный неподдельный паспорт, и со словами: «На, Тришка, живи!» — отдал его пришедшему (двоюродные братья были ровесниками и походили друг на друга внешне). Не мог он не понимать, что тому терять уже нечего, а он может потерять все — то есть то немногое, но существенное (право жить на свете), что имел и что отличало пока его самого от опасного гостя. Понимал, но думал не об этом, а о том, что человека жизни лишили. И вернул ему жизнь, рискуя своей. «Душу свою за други своя», — но вряд ли эти слова тогда пришли ему в голову. Жалко стало человека, вот и все. «На, Тришка, живи». Эти слова одни перевешивают все «пылания» и мудрствования мировой интеллигенции, приведшие к необходимости их сказать.
«На, Тришка, живи!» — это даже не протест, это естественное и трезвое отрицание той страшной вивисекции, которой подвергали тогда простых людей России. Над всеми комсомольскими энтузиазмами, над всеми барабанами юных пионеров, над всеми историческими необходимостями, обезоруживавшими душу и совесть даже честных людей, — отъединенный от всего этого голос человечности и достоинства: «На, Тришка, живи!»
Кстати, в любой нормальной жизни (а сегодня и в нашей) передача паспорта другому лицу и проживание под чужим именем было бы делом отнюдь не вызывающим сочувствия. Это было бы against Law (против закона), что в англо-саксонских странах звучит и как моральное осуждение (вроде как «против уговора»). А по существу этот «проступок» даже героическим назвать остережешься, чтоб не обесценить — ибо он на большее тянет.
Кстати, в тогдашнем СССР, если б это открылось, этот «проступок» расценили бы отнюдь не как нарушение какого-то там Law (кого оно тогда интересовало!), а как открытое пособничество классовому врагу и контрреволюции. Одного моего знакомого исключили из партии только за то, что он, когда случались деньги, посылал небольшие переводы раскулаченному отцу — это было «романтически» квалифицировано как «экономическая поддержка кулачества». А тут паспорт! Дело вообще пахло заговором. Декламация требует жертв.
Странно сознаваться, но то, что в этом году я наконец-то пошел в школу, было для меня гораздо более крупным фактом одна тысяча девятьсот тридцать третьего года, чем все его страшные и судьбоносные события. Этого я ждал «долгие годы», и вот я держу в руках новый, роскошный, блестящий клеенчатый ранец, у меня уже есть пенал, ручка и карандаши. Нет у меня только тетрадей и учебников — в открытой продаже они появятся чуть позже, когда будет объявлена «большевистская забота о детях» и, что «жить стало лучше, жить стало веселее». А пока их выдают только в школе. Но и без книг и тетрадей я преисполнен сознания своей значительности и взрослости. В общем, чувствую то, что все дети перед первым в их жизни звонком. Это вполне естественно и об этом теперь было бы даже очень мило вспоминать, если бы жизнь за окном была хоть отчасти естественной. Если бы «за кадром» не оставались сотни тысяч других детей, по воле власти лишившихся родителей или загубленных вместе с ними — отчасти у меня на глазах. Если бы многие из них из своего горького опыта (голода, беспризорности, равнодушия к ним окружающих) не выносили сейчас убеждения, что никаких устоев, справедливости и милосердия не существует, и не шли бы потом в уголовники. Я их потом встречал, сильно не одобрял, но очевидную связь между тем, что делали они и что сделали с ними, ощутил много позже.
Конечно, сентябрь тридцать третьего все-таки не сентябрь тридцать второго. Трупы с тротуаров убраны, стоят длинные очереди за «коммерческим» (не по карточкам) хлебом. Но ведь и в сентябре тридцать второго дети этого непосредственно не задетого большинства так же готовились к школе и испытывали то же радостное волнение. Какое, не понимая, что это грех, испытывал и я, когда погожим утром 1 сентября этого страшного года, в толпе своих будущих, говоря по-нынешнему, одноклассников во дворе 95-й средней школы города Киева ждал выхода учителя, который должен был впервые ввести нас в школу. Кажется, школа еще была неполной средней — восьмые, девятые и десятые классы тогда только появлялись.
Пристрастный взгляд заметит, что в результате всяких циркуляций и комбинаций количество русских школ в районе и их удельный вес росли. Это обычно расценивается как лишнее доказательство насильственной русификации Украины. Не отрицая самих попыток сталинской русификации, вернее унификации, особенно проявившихся в варварской подгонке украинской лексики и грамматики под русские, я все-таки отрицаю, что увеличение количества русских школ связано с какой бы то ни было насильственностью. Наоборот, насильственность в этой отрасли проявлялась до этого, когда рост количества русских школ в таких городах, как Киев, искусственно сдерживался, когда детей насильственно впихивали в школы в зависимости от происхождения родителей, но без всякой зависимости от их желания: украинцев — в украинские, русских — в русские, евреев — в еврейские, поляков (в Киеве до тридцать седьмого существовало значительное польское меньшинство) — в польские.
Между тем Киев в целом был тогда русским городом, и большинство киевских родителей, в том числе и украинского происхождения, хотели отдавать детей в русские школы. Этому способствовали три фактора: то, что русские школы открывали широкие возможности в масштабах всей страны, а не только Украины, традиционное представление о более высоком качестве образования на русском языке и …просто обаяние русской культуры, к которой многие люди украинского и всякого иного происхождения тоже тяготели. Возможно, факт этот неправомерен, возможно, интересы национального становления требуют и оправдывают такое насилие (я в этих вопросах не специалист, и эта логика мне недоступна), но насилием над волей людей оно от этого быть не перестает. Я люблю украинский язык и многое, на нем написанное, я отнюдь не желаю исчезновения украинской культуры и не верю в него. Но насилие как средство утверждения какой-либо культуры кажется мне делом не только нечистым, но и нелепым.
То же я могу сказать и об еврейских школах. Ничуть не отрицая существования в доперестроечном СССР государственного антисемитизма, я тем не менее утверждаю, что сетования некоторых еврейских активистов на то, что еврейские школы в СССР были закрыты насильно, лишены всяких оснований. Они исчерпали себя сами — во всяком случае в больших городах — еще тогда, когда любое проявление антисемитизма было сопряжено с неприятностями.
Но это все сегодняшние мысли. А тогда, хоть моим языком всегда был русский, меня мало беспокоило, что школа, в которой я начал учиться, вся, кроме нескольких наших классов, — украинская. По-украински я читал так же хорошо, как по-русски и вполне понимал устную речь — так что на общешкольных мероприятиях никакого комплекса не испытывал.
Мои школьные переживания были совсем другого рода и никак с национальным вопросом связаны не были. Просто в первом классе мне нечего было делать. Читать и считать я научился сам задолго до школы, а начальную премудрость письма, правда так и не научившись красиво и чисто писать (чего по природной несклонности и теперь не умею), я освоил под руководством Елены Владимировны. Вряд ли такая просвещенность хорошо отражалась на моем поведении в классе, и учитель договорился с матерью, что меня будут пускать в школу как можно реже. Была еще возможность перевести меня во второй класс, но какие-то умники уговорили мать «не перегружать ребенка». В результате я целый год бездельничал, скучал и преисполнялся сознания собственной исключительности. Потом было довольно трудно войти в нормальный рабочий ритм.
В такое положение попадают иногда эмигрантские дети в Америке. Программы большинства американских школ настолько облегчены по сравнению с советскими, что даже наши аутсайдеры на первых порах чувствуют себя здесь передовиками. Разумеется, это только стимулирует их природную беспечность, и очень скоро они опять прочно занимают свое законное место — уже применительно к новому уровню. Аутсайдером я не был и не стал, но некоторые неприятные открытия на свой счет (в том смысле, что я вовсе не такой абсолютный молодец, которому любое дело — раз плюнуть) сделал. Не скажу, чтоб мне все это было безразлично (мать накачала меня амбициями), но в целом я примирился с этим спокойно.
Я не очень люблю вспоминать эти годы, ибо не очень нравлюсь себе в этом нежном возрасте: с неловкостью во всех проявлениях и неловкими попытками компенсации и самоутверждения, с абсолютно или относительно безосновательной уверенностью, что отношусь к высокому и благородному интеллигентному обществу. Помню, как классе во втором внутренне претендовал я на выборную должность санинспектора (кажется, так это называлось). Не то, чтоб мне так уж хотелось проверять одноклассников на вшивость или на предмет чистоты их рук, ушей и шей, в чем эта должность состояла, но просто жажда престижа заедала, а я знал, что никакая другая должность мне явно не светит. На эту же я по моим тогдашним понятиям имел все права, поскольку был «из семьи врача» (тогда это было еще престижным и просто культуртрегерским положением). Но — к величайшему моему удивлению и огорчению — «не обломилось»: не выбрали.
К этому же времени относится и начало моей литературной деятельности. Выразилось оно в плагиате. Но рассказ о том, как случилось это грехопадение, требует некоторой предыстории.
Еще в дошкольным возрасте в летнее время посещал я дневной пионерский лагерь (или санаторий) в полусельском районе уже упоминавшейся Демиевки (тогда Сталинки), куда моя мать как детский стоматолог демиевской поликлиники откомандировывалась на лето. В этом лагере шла интенсивная культурная жизнь, расцветала «художественная» самодеятельность. Там я впервые увидел пусть самодеятельный, но все же драматический спектакль. Я был потрясен. До этого я уже был один раз в оперном театре (на балете «Ференджи», кажется, Глиера), но впечатление было несравнимо. Даже то, что спектакль был революционным и на сцене иногда постреливали, не могло искупить для меня того, что на сцене только двигались, а не разговаривали, в результате чего даже главное для меня тогда — кто здесь красные, а кто белые — понималось смутно.
А тут все было по-настоящему, все понятно и ясно. И, главное, в ролях, преображенные, выступали ребята, хоть и более взрослые, чем я, но знакомые — те же самые, которых я знал в жизни другими, обычными. Правда, обаяние театральности (пусть весьма приблизительной) заставляло заглатывать как само собой разумеющееся, и его «идейное содержание», точнее внушение — это была обычная антикулацкая агитка тех лет. Но здесь она была — театром.
В этой атмосфере самодеятельности (я завидовал всем, кто имел отношение к этому «театру») и встретил я сына маминой коллеги Яшу, который был на три года старше меня. Отличие его от всех прочих, кого я знал до сих пор, состояло в том, что он сочинял стихи. То, что стихи сочиняет не небожитель, а обыкновенный мальчик, буквально потрясло мое воображение. А когда на каком-то вечере он публично исполнил один из своих опусов под оригинальным названием «Привет новому учебному году», он своей складностью привел в восторг и меня, и всех вокруг.
Никакого пристрастия к стихам у меня тогда не было. Конечно, я еще помнил стихи из детских книжек, и вообще первой прочитанной (действительно прочитанной, а не запомненной наизусть по картинкам) книжкой была маршаковская «Почта». Но после того как я прочел «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда (фамилию автора узнал только недавно, тогда я такими привходящими обстоятельствами не интересовался), т. е. первую в моей жизни «настоящую» и, как мне тогда казалось, толстую книгу, я стихи читать перестал, сочтя, по-видимому, что это для маленьких. Проза была не в пример увлекательней. Правда, очень меня заинтриговал Пушкин, но не «Сказкой о золотом петушке», которую прочел сначала (сказками я тоже перестал интересоваться), а подписью под его портретом в отрывном календаре: «родился А. С. Пушкин — величайший русский поэт». Если б еще просто «великий», а то — «величайший»! Вероятно, это слово возбудило во мне некую тщеславную мечту — прославиться в деле, о котором и представления не имел. В наш век культурных революций со многими это и во взрослом состоянии случается.
Яшины стихи меня поразили тем, чем любые стихи поражают тех, кому они абсолютно не нужны: в них было все как надо, как у больших, можно сказать, как у того же Пушкина (в таком же «прочтении»). Это меня настолько потрясло, что я эти стихи запомнил — благо память была свежая. Это меня и погубило. Но не сразу, а чуть позже, когда я, по-видимому, был в первом классе и, как уже знает читатель, навещал школу только изредка.
Тогда я часто посещал странное детское учреждение под названием «дневной санаторий» — нечто вроде современной группы продленного дня. Но относилась эта продленка не только к той школе, при которой находилась (хотя поначалу была создана ею для себя), а к обширному району. Летом учреждение переезжало на уже упоминавшуюся Черепанову гору, находившуюся в квартале от его основной базы, и функционировало весь день в качестве городского пионерского лагеря.
А база эта, школа № 33, помещалась на Кузнечной, чуть ниже Жилянской и, к слову сказать (хоть это не имеет отношения к тому, о чем я сейчас рассказываю, а только к колориту тогдашнего Киева), еще была целиком еврейской. Наверное, должен был быть еврейским и находящийся при ней дневной санаторий (но не лагерь на Черепановой горе). Какое-то время он и был еврейским, и рудименты этого я еще застал. Руководительниц именовали «хавэртэ» (женский род от обращения «товарищ»): «хавэртэ Рая» и «хавэртэ Шифра». Но при мне принимал этот санаторий детей не только из еврейских школ и, естественно, не только из еврейских семей. И поэтому звать их можно было и по-русски: «товарищ Рая» и «товарищ Шифра» Но традиция засасывала, и словом «хавэртэ» часто пользовались даже те, кто больше ни слова по-еврейски не знал. Тем более что и «товарищ» в данном контексте звучало как-то не по-русски. В русских школах учителей звали традиционно по имени-отчеству, а по имени только пионервожатых, но и тех без «товарищ» — «Нина», а не «товарищ Нина». Эти обращения так и не перешли одно в другое, а оба сошли на нет, став анахронизмом.
Время быстро и круто менялось. Но и без всяких перемен жизнь в этом санатории («шенаторке», как произносил завхоз школы Берман, ведавший и этим заведением) шла по-русски. Даже аборигены, ученики еврейской школы, между собой в быту общались по-русски. Их никто не заставлял, но ведь они жили той же жизнью, что и все другие — только уроки готовили на другом языке. Это было рудиментом, и постепенно сама еврейскость этой школы становилась рудиментом. Я это знаю доподлинно, но об этом позже. Не стоит забегать вперед на 5–6 судьбоносных лет. Сейчас я упомянул об этой школе только в связи с «шенаторкой», ибо именно там произошло мое грехопадение. Произошло оно так.
Однажды — дело было в сентябре — всем объявили о предстоящем выпуске стенгазеты и призвали сдавать заметки и другие материалы. Безусловно, чего-то ждали и от меня, как от местного книгочея, и я обещал написать стихи. Собственно, с чего я взял, что я это умею делать? Не знаю, но, вероятно, оттуда же, откуда лет в пять я был уверен, что умею починять электричество. Но тогда взрослые только посмеивались над этой моей уверенностью, а теперь отнеслись к ней вполне серьезно. И я взялся. Вероятно в смутной надежде, что, поскольку, как все признавали, я мальчик способный и развитой, находящийся в интимных отношениях с культурной сферой, на меня в процессе работы что-то снизойдет. Но — не снизошло. Вечером дома я быстро убедился, что никаких стихов мне не написать. Я был в отчаянье. Ведь я так уверенно обещал принести их завтра в полдень: дескать, что нам такие пустяки. И вот на тебе — так опозориться! Настало утро, светило солнце, а стихов не было. И тут сами собой написались Яшины.
Нет, в отличие от Василия Журавлева, напечатавшего под своим именем ахматовские стихи, мне ни на секунду не показалось, что эти стихи — мои. Я знал, что делаю, но, ужасаясь самому себе, делал — не мог остановиться. И отдал их в стенгазету. Триумф был полный — у редакторов и читателей вкус был не лучше моего. Мной восхищались, меня хвалили, а я не знал, куда деться. И я начал остервенело писать стихи — с благородной целью написать не хуже и хоть как-то оправдаться. Хоть перед самим собой.
Нет, ни этот факт, ни эти старания не имеют никакого отношения к истокам моего творчества. Оно началось совсем с других стихов, тоже плохих, писавшихся по другой причине. Но к биографии моей этот факт и все с ним связанное — отношение имеет.
Честолюбивые мечты моей матери оказались несбыточны. Учился я неплохо, но отнюдь не блестяще, весьма неровно. По чтению у меня неизменно были «очень хорошо» (потом «отлично», теперь «дореволюционная» пятерка), но по письму мог случиться и «неуд» («неудовлетворительно», потом «плохо» или «очень плохо», теперь — двойка или единица). Писал я грамотно, но грязно и не без клякс (я и сейчас, к сожалению, пишу немногим лучше). Я не только не стал первым учеником, но ни разу в жизни не был даже отличником — за исключением весенней сессии 1947 года, когда я кончал второй курс Литературного института. Но тут я, видимо, схватил что-то «не по чину». И вскоре был арестован. Но в те годы, о которых идет речь, я был весьма далек от нарушения этих предопределений.
Сталкивался ли я тогда со страшными проявлениями начинавшейся сталинской эпохи? Безусловно, сталкивался, даже становился от этого в тупик, но вряд ли сознавал это: и сами проявления, и то, что становлюсь из-за них в тупик. Как мало сознавал те перемены в атмосфере времени, которые тоже, как ни странно, несмотря на возраст, чувствовал. Хорошо помню, например, убийство Кирова. Разумеется не само убийство, а то, как оно прозвучало.
Учился я тогда, как сказано выше, во втором классе. От кого я услышал, что в Ленинграде враги убили какого-то вождя (все руководители еще назывались вождями), — не помню, тогда еще даже радиотарелки не совсем вошли в быт. На следующий день все газеты вышли в траурной кайме. В центре — портрет незнакомого мужчины. Это было странно. Мальчик я был начитанный, и имена и портреты главных вождей были мне хорошо знакомы. А об этом я слышал впервые. Подозреваю, что большинство людей вокруг знали о нем тоже довольно мало, хотя в областях, где он работал, как я понял потом, он был популярен. Он вообще умел быть популярным. Видимо, Сталин, начисто лишенный этого дара, отнюдь не лишнего для политического деятеля, не очень заботился о том, чтоб за пределами этих областей было известно имя этого «верного сталинца», впоследствии убитого им.
Были ли у Сталина личные основания для этого? Внешне — нет. Широко известно, что именно Киров на каком-то из съездов специально знакомил партию с необыкновенными личными (а всего личного ему как раз всегда и недоставало) качествами и заслугами перед ней ее вождя. Но в то же время мне известно от очевидца, что, приезжая по делам в Москву, Киров в кругу друзей определял эти заслуги и качества совсем иначе. По всей вероятности, его выступление на съезде было очередным ходом во всегда нечистой верховной внутрипартийной игре. И глупым. Ибо что другое, а «игры» Сталин понимал.
Впрочем, и сам Киров, хоть он и стал жертвой Сталина, на особое сочувствие претендовать не может. Как и вся «старая гвардия», он заигрался уже давно. Как я читал в эмигрантской печати, именно он в начале тридцатых во имя выполнения планов сева заставлял новозагнанных колхозников сеять чуть ли не по снегу. А ведь идиотом он не был. Просто партия (ее верхушка), уже тогда почти полностью зависевшая от Сталина, позволила ему втянуть себя в коллективизацию, в прямую войну с народом и больше нуждалась в политическом, а не экономическом эффекте «посевной кампании», в том, чтоб ее воля была непререкаема. Даже если сам Кирова в душе матерился, он это делал. Он был связан необходимостью освящать общий грех, общее преступление партии перед страной и народом, на этом и поймал его, его единомышленников и противников — всю «старую гвардию» — Сталин. Сам Троцкий до конца своих дней (до 1941 года) видел себя не вне партии, а только лидером ее оппозиции.
Освятив подлость и грех как метод, как они могли наметить этому границы? Конечно, сам Сталин нуждался в этом освящении для реноме, а не для личных душевных потребностей — он обладал всей полнотой этих подлых качеств изначально, а не от идеологии. Поэтому именно он, а не они, стал реальным воплощением большевистской победы. Только он пошел дальше — мифилогизированной волей партии, подмяв ее, он освятил свою собственную, точнее, собственные амбиции, которым заставил служить уже не только партию, а и раздавленную ею перед этим страну. Но предоставила ему эту возможность сама «старая гвардия». В том числе и в первую очередь сам Киров.
Однако кто об этом тогда думал? Повсюду происходили многочисленные митинги, на которых все выступавшие говорили о тяжести понесенной утраты, а также клеймили гнусных убийц и требовали выжигать их каленым железом. Об утрате говорилось так, словно все знают, о ком речь. Всенародная скорбь была явно организованной.
Конечно, ни масштаба, ни смысла происходившего я тогда не понимал. В том, что враги убили пролетарского вождя, ничего для меня противоестественного не было. На то и враги. А наше дело — их поймать и расстрелять. Все ясно. Удивляло, что этой естественной вещи все вокруг требуют так горячо. Разве кто-нибудь против? И хоть я тогда не мог понять ни фальши, ни организованности скорби, но некоторую неувязку все же чувствовал. Это не было четким отношением к вещам — да и откуда оно в таком юном, естественно-конформистском возрасте? — но это было неосознанным смущением, которое я бодро подавлял, проникаясь общим настроением, но все же испытывал. Нет, я не ставил что-либо под сомнение — совсем наоборот, — но в глубине души все же не откликался ни на авантюрный сюжет, ни на всеобщее возмущение. Запечатлелся один из лозунгов: «КАК ЗНАМЯ БЕРЕЧЬ ВОЖДЕЙ!» Почему запомнился? Ведь не мог же я понимать, что это под шумок протаскивается уравнение (а потом замещение) знамени (идеи, смысла) вождями, а потом и почти единственным, оставшимся незапятнанным ВОЖДЕМ. Однако же врезалось.
Врезался в память и такой случай, произошедший со мной второго или третьего декабря. Было это, кажется, на последнем этаже школы, где помещался наш класс, после уроков (мы учились во вторую смену). Уроки уже кончились, все ребята спустились вниз — то ли домой, то ли на митинг по поводу злодейского убийства. Я замешкался. С криком «Киров! Киров!» гоняю по пустому коридору найденный только что обрывок газеты с портретом убитого вождя. Это не было ни протестом, ни кощунством — только странным экстазом, которому часто подвержены дети после того, как им некоторое время пришлось сидеть неподвижно. А тут еще это слово «Киров» у всех на устах, и сейчас будет митинг на эту тему. Так что у возбуждения моего несколько причин, и я минуты две самозабвенно предаюсь этому странному занятию. Пока в пустом коридоре меня вдруг не увидела учительница параллельного украинского класса. «Ты что делаешь? Немедленно перестань!» — закричала она испуганно. И стала мне что-то внушать. Смысла этого внушения я не помню, но помню отчетливое ощущение, прямо-таки дуновение опасности, от которой она хочет меня уберечь этим внушением.
Тогда учителя в целом еще были порядочными людьми. И я почувствовал, что этот мой поступок (да и не поступок, а просто экстатическое действо), не имевший никакого отношения ни к политике, ни к Кирову (не радовался же я его смерти), может быть кем-то как-то так истолкован, что я внезапно окажусь не самим собой, а кем-то прямо противоположным себе, врагом революции. И никому уже не смогу доказать, что это не так. Естественно, я так не формулировал, но чувствовал именно это. Я впервые столкнулся с неприкрытой бессмыслицей, исходящей от взрослых, которой сами взрослые боятся. И пусть не умом (а, может, уже и умом тоже) понял, как опасно давать повод для ложного истолкования своих поступков — эту первую заповедь подданных тоталитарного государства. Она была достаточно убедительна тогда еще и потому, что вполне гармонировала с организованной скорбью по человеку, самое имя которого вчера еще мало кто знал. С этой точки зрения мой легкомысленный поступок и впрямь был преступен. Он не принимал и разрушал создаваемую властью атмосферу всеобщей скорби и единения в ней.
Примерно в это же время я оказался рядом уже с настоящей трагедией, связанной с упомянутыми выше чертами времени. Началась она вовсе не как трагедия. Однажды, когда мы уже учились во втором классе, у нас появился новенький. Невысокого роста, коренастенький, аккуратный, весь какой-то собранный, но мягкий и скромный, он произвел на всех очень приятное впечатление. Я помню далеко не всех одноклассников той поры, но его, с которым проучился всего несколько месяцев, запомнил на всю жизнь. Он был первым в моей жизни другом. Звали его Владик Федченко.
Сошлись мы с ним на том, что оба не были драчунами и оба любили читать книжки. Жил он с отцом, матерью и тетей недалеко от нас, на улице Боженко (бывшая, а, может, уже и нынешняя, Бульонная) в одноэтажном деревянном домике, вход со двора. Дорога к нему была моим первым экскурсом по Владимирской в сторону обратную Жилянской, туда, где стояли невзрачные домики, в районе этих домиков она под большим углом сворачивала направо, как бы параллельно Жилянской. Но не сразу параллельно, ибо параллельно Жилянской пересекала ее Совская (теперь Физкультурная, которая вела от товарной станции, (по Совской были проложены пути и стояли пакгаузы) к той же Большой Васильковской, и дальше мимо построенного на южной границе Центрального стадиона, после войны Дворца спорта (оттого и Физкультурная) к тем же Черепановым горам. Владимирская же каким-то образом, для меня непонятным, становилась параллельной Жилянской чуть позже, где она становилась Деловой, тоже выходившей к Большой Васильковской. Улица Боженко отходила от Владимирской незадолго до Деловой и по ней ходил трамвай № 10 — на Демиевку. Этот трамвай кружил вокруг нас. С Марино-Благовещенской сворачивал на Большую Васильковскую, оттуда на Деловую, оттуда на Боженко. Когда я подрос, тарифные участки отменили, и мы садились на него на углу Маринской и нашей. Хотя подозреваю, что до Бульонной нам было даже ближе. После войны трамвай № 10 проходил уже мимо наших окон.
Домик, где жили Федченко, стоял на Боженко, недалеко от угла Владимирской, впрочем, скорей Деловой, ибо на левой стороне. Мы часто бывали друг у друга. Из визитов к нему я сделал открытие, что и в одноэтажных домиках могут быть вполне городские квартиры, чего я не представлял. Однако рассказ мой не об этом. Родители Владика и его тетя были молодыми, красивыми, интеллигентными и деликатными людьми. В доме всегда что-то писалось, читалось, обстановка была спокойная, рабочая, встречали меня приветливо, играть нам не мешали. В общем мне бывать у них нравилось.
Но очень скоро — дневников я тогда не вел, но думаю, что осенью 1935 года — стряслась беда. Владик не пришел в школу. Это меня очень огорчило, ибо мы накануне с ним наметили какие-то планы на сегодняшний день. И удивило — я знал, что вчера вечером он был совершенно здоров. Но мало ли что бывает, и после школы я, несколько встревоженный, отправился навестить его. Но, к моему удивлению, я против обыкновения не был к нему допущен. Обычно столь любезная его тетя на этот раз была суха и непреклонна. «Нет, к нему нельзя! Нет его», — односложно отвечала она, загораживая вход. Домой я вернулся обескураженный и обеспокоенный. Что меня беспокоило? Что я понимал? Что-то все-таки, видимо, понимал.
Увидел я Владика только на следующий день на большой перемене. Он стоял в коридоре, окруженный ребятами, и заливался слезами. Добиться от него, в чем дело, я так и не смог. Ни на какие вопросы он не отвечал. И тем не менее не знаю, откуда, как и почему, но я сразу все понял: и то, что произошло, и то, какая сила вмешалась в судьбу этой приятной мне семьи. И почему Владик никогда не распространялся о ее прошлом — я тоже понял.
Как ни странно, я всегда смутно чувствовал, что эту семью окружает какая-то тревожная тайна, и она была настолько безусловна, что я, отнюдь не отличаясь природной тактичностью, ни разу не задал Владику ни одного вопроса о том, где и как они жили раньше. И я им сочувствовал, хотя «барабаны эпохи», над которыми смеялся даже Корнейчук (в пьесе «Платон Кречет»), звучали еще в моей душе достаточно громко, и я вроде бы не должен был сочувствовать людям, преследовавшимся революционной властью.
Для меня совершенно было ясно, как ясно и теперь, что приехали они из ссылки, а теперь отца опять арестовали, и Владику с матерью надо опять куда-то уезжать. Я и теперь не знаю, за что они преследовались. На людей «с раньшего времени», преследовавшихся за происхождение, каких я потом много встречал в ссылке, на пересылках и в эмиграции, они не походили по общему очерку. Возможно, они были участниками партийных оппозиций, но скорее — относились к остаткам молодежных социалистических (меньшевистских и эсэровских) групп начала двадцатых, о которых и самая память к тому времени была фактически вытравлена. А ведь они существовали. Судя по времени их очередного ареста, они имели отношение к одной из этих категорий. Может, их привлекли по делу СВУ (Спiлка визволення — Союз освобождения — Украины) — никогда не существовавшей организации, за участие в которой пострадало множество украинских интеллигентов (часть провели через открытый процесс). Но вряд ли. Те были все украинской культурной ориентации, а эти мальчика послали в русскую школу. Потом тех привлекли тогда впервые, а за Владиком ощущался долгий опыт.
Не знаю, какими были тогда их взгляды и как бы я отнесся к ним сегодня, но в те времена, которые наступали и в которые мне пришлось жить, вообще почти не встречались люди, осмеливавшиеся иметь свои собственные политические взгляды. А ведь к «политике» относили все — непосредственное возмущение тем, что проделывали над крестьянами, например. Даже при полном отсутствии интереса к политической деятельности и программам.
Я до сих пор не знаю, кем были родители Владика. Но в том, что они относились к гонимым (и гонимым к этому времени уже давно), у меня нет никаких сомнений. И не было их тогда. Я об этом не думал, я это знал. И сочувствовал. И ни разу ни при каких извивах моего внутреннего развития (а бывали всякие) я не подумал о них иначе, как о хороших людях. А это чего-нибудь да стоит. Возможно, такое мое отношение к ним — отзвук разговоров, услышанных дома, где о пострадавших и высланных по старинке уважительно говорилось как о «пострадавших за идею». Не знаю. Но думал я о них именно так. Как ни странно, при этом мое общее отношение к власти и к ее врагам оставалось прежним…
Почему? Как увязывалось одно с другим? Обычно людьми моего поколения все дурное, исходящее от власти, истолковывалось как творимое не ею, без ее ведома или даже против нее. Но в данном случае не было даже этого. Просто сохраняя полнейшую преданность советской власти, даже проникаясь романтикой ее беспощадности, я в то же время сохранял теплую память о Владике и его родителях, пострадавших от всего этого. При этом я о них мало знал, а нам всю жизнь внушалось: «Ты ему веришь? А разве ты знаешь всю его подноготную?» Я о них не знал не только «подноготной», но вот — верил. Верил общей атмосфере чистоты и порядочности, исходившей от этого дома, верил чистым и безутешным слезам Владика. До сих пор стоит он у меня перед глазами в углу школьного коридора, окруженный растерянными одноклассниками, и беспомощно плачет под грузом обрушившейся на него — который раз! — «чугунной беды» (А. Галич). Я так тогда и почувствовал: «который раз». Было в его горе особое, отделяющее от всех нас знание, которым невозможно было ни с кем поделиться — запрещено, да никто б и не понял.
Поколебать в нас тогда, в начале тридцатых, нашу верность революции и ее романтике не могли еще никакие факты, никакие дружбы. У этой власти был еще колоссальный кредит почти во всех слоях общества. Даже дети раскулаченных иногда воспринимали постигшую их участь как оскорбление их преданности революции. Этот странный идеализм помогал выстраивать полосы отчуждения вокруг тех, на кого обрушивался удар. Этот «идеализм», слава Богу, давно уже выцвел, задолго до перестройки. При Брежневе человека можно было замучить в лагере, напугать, даже натравить на него, если он пытался поднять голову, других (но не идеологически, а — «сидишь, как все, в дерьме, так без толку не чирикай»), но отделить человека от других можно было уже только физически. Насилие все равно было подлым и жестоким, но оно было и голым: мистики за ним не было никакой. Только грубая клевета на Сахарова, будто бы он хочет войны, имела некоторый успех — войны боялись. Но и она носила индивидуальный характер и поддерживалась усложненной, дорогостоящей, но все равно физической изоляцией. Той незримой, но вполне ощутимой чертой, которая когда-то отделяла плачущего Владика от других ребят, отделить кого-либо уже было невозможно.
Потом зазвенел звонок. Владик, как мы его по неведению ни уговаривали, не пошел с нами в класс и… исчез из моей жизни. Как потом не раз на моих глазах исчезали из виду друг друга люди, успевшие сдружиться, а то даже и пожениться в лагерях, тюрьмах и ссылках, когда их забирали с вещами на этап, равнодушно и безжалостно разрывая живые связи, и навек уводили неизвестно куда мучиться порознь. То, что это окажется не навек, не было известно ни уводившим, ни уводимым. Но тогда, с Владиком, это происходило на моих глазах в первый раз.
Я не знаю, как сложилась дальнейшая судьба Владика. В тот раз он наверняка приходил в школу за документами, потому что после ареста отца (а в том, что произошло именно это, у меня не было и нет никаких сомнений) они с матерью должны были срочно уехать из Киева. Может быть, и самостоятельно — к родственникам, живущим в глуши, чтоб там затеряться, но скорее их, как часто тогда бывало, срочно отправляло в ссылку — с отцом или без него — само ГПУ.
А что с ним было дальше? Кто знает! Веер возможностей, который предлагала всем нам и особенно таким, как он, «наша великая эпоха», был чрезвычайно широк. Из ссылки он мог попасть в лагерь, сгинуть там или выжить. Мог попасть на фронт, там прославиться или попасть в плен и в обоих случаях избежать или не избежать гибели. Мог, попав в плен, остаться после войны за границей, а мог и вернуться домой, а дома опять попасть (за плен или по совокупности) в ссылку или лагерь, где тоже мог погибнуть или выжить. Мог и не попасть — я знаю и таких. Впрочем, при его «наследстве» это было почти исключено. Мог выжить, пройдя через все эти испытания, а мог и умереть.
Но могла его жизнь сложиться и иначе. Свет не без добрых людей, и могли ему разрешить поехать учиться (сам же он на первых порах ссыльным не был), и в конце концов, особенно после смерти Сталина, судьба его могла сложиться и благополучно. Но, доверяя памяти детства, я думаю, что при всех обстоятельствах он оставался порядочным и достойным человеком. Непохоже, чтобы звериная эпоха могла заразить его своей звериностью.
Впрочем, и большинство тех, кто тогда окружал его растерянной толпой в углу школьного коридора и кто наверняка казался ему счастливчиком, ожидала судьба немногим лучшая, чем его собственная. Кто сравняется с ним «в правах» очень скоро, когда его — тоже через родителей — настигнет волна сталинских чисток (тридцать седьмого года), кто чуть позже погибнет на войне или в Бабьем Яре, кто будет вывезен немцами в Германию и долго будет дома считаться человеком второго сорта, чей путь пройдет через Архипелаг ГУЛАГ.
Да и без этих крайностей — вот эту толстушку потом с детьми бросит муж, а эта с косичками так никогда и не выйдет замуж (ибо слишком много мужчин будет перебито на войне и погибнет в лагерях). В общем, время нас всех ожидало, как «в минуты откровенности» мужественно писалось в доперестроечной печати, неласковое. Но откровенность эта лукавая. Получается, что таким это время было как бы само от себя, а тоталитаризм, если и имел к этому отношение, то чисто страдательное. Между тем подлая жестокость этого времени — вся от него.
Владик Федченко вовсе не первый человек, который на моих глазах попадал в мясорубку сталинщины. Трупы на киевских улицах я ведь тоже видел. Сестра Рахилька и временный родственник-сионист тоже как-то входили в мое сознание. Но он был первым из таких людей, кто существовал для меня персонально — как личность, и уж никак не мог быть отнесен к каким-то «другим», не таким, как я. Поэтому он так и врезался в мою память.
Но Владик Федченко был в каком-то смысле сбоем сценария, хотя бы потому, что его исчезновение не было незаметным. И хоть он не сказал ни слова, только плакал, но все же не исчез совершенно безмолвно, дал если не понять, то хотя бы ощутить ту черту, которой его отделили от нас. Другие исчезали, не сказав ни единого услышанного нами слова. Так исчезли, например, китайцы.
Дело в том, что неподалеку от нас на углу Жилянской и Тарасовской (улица следующая после Владимирской по дороге к вокзалу) стоял четырехэтажный красный дом, населенный китайцами и называемый «китайским». Поэтому в школе было некоторое количество китайцев. В нашем классе их было двое, Коля и Женя, — кажется, брат и сестра. Учились они с нами с первого дня. Женя была обыкновенной девочкой, мягкой и ироничной, Коля — обыкновенным драчуном, быстро занявшим почетное место на «хулиганском» фланге нашего класса. В первый момент они вызвали некоторое любопытство, так как внешне отличались от всех остальных ребят, но поскольку говорили они по-русски так же, как мы, и вообще были обыкновенными детьми, это удивление быстро прошло. Они, как и мы все, стали органичной частью сообщества, которое называлось «наш класс».
Но однажды мы явились в школу после летних каникул и обнаружили, что их среди нас уже нет. Исчезли китайцы и из других классов. Но поскольку впечатлений было много, как всегда бывает в начале года, и к тому же мы начали учиться в новой школе (дело было, следовательно, в четвертом классе), то особого внимания мы на это не обратили. Всегда в начале года кто-нибудь не является — куда-нибудь переезжает, переводится и т. п. Видимо, и они переехали. То, что с ними вместе, по-видимому, переехало и все население «китайского» дома — а наша новая школа, была расположена почти прямо против него — было тоже замечено и, главное, осознано нами совсем не сразу. Правда, мы должны были заметить, что исчезла радость нашего детства — торговцы «китайскими» фонариками и другими бумажными поделками, а также сластями, гулявшие до этого со своими лотками по всем улицам микрорайона. Но, с одной стороны, мы были в том возрасте, когда такими игрушками уже подчеркнуто не интересуются, а с другой — тогда с улиц исчезали вообще всякие торговцы, что знаменовало собой переход к социализму. Так что и это было в порядке вещей и не обратило на себя нашего внимания. А если б обратило? Мы бы (впрочем, как и взрослые) вполне удовлетворились «государственным» объяснением — дескать, Киев слишком близок к границе. Хотя какую опасность — даже по сталинской логике — могут представлять китайцы на западной (!) границе, понять трудно.
Впрочем, взрослым тогда, в 1937–1938 году, и без китайцев было о чем думать.
Так же незаметно выселили, а в значительной мере просто пересажали по обвинению в шпионаже киевских поляков. Просто вдруг исчезли с тумб и стендов афиши польского театра. Правда, я не думаю, что от них «очистились» столь абсолютно, как от китайцев, ибо их не так легко отличить. Вместе с поляками выслали и униатов. Но об этом я не знал, не знал даже, что такие существуют. Увидел я их (думаю, что это были они) впервые на Урале, где они состояли в трудармии — нечто среднее между концлагерем и стройбатом, куда их, как немцев и представителей других наций брали вместо армии из местностей, куда их году в тридцать седьмом выслали из приграничных (имеется в виду старая граница) районов Украины. Я был очень удивлен, что их все вокруг, да и они сами себя, называли поляками, в то время как они — уж это я знал точно! — разговаривали друг с другом на чистейшем украинском языке. Да и по всему были они обыкновенными украинскими мужиками. Униатами я их называю только потому, что так я понял задним числом объяснения моего приятеля из их среды. Возможно, они были просто католиками. К полякам их можно было отнести только формально. Но тут уж и удивляться было нечего. Если с польской границы можно было в предвидении войны убрать китайцев, то поляков и униатов по этой логике — сам Бог велел. Правда, воевали мы вообще не с Польшей и отнюдь не на границе, но такова была сила «гениального» сталинского предвидения, от которой мы все физически зависели.
Интеллигенты всех невысланных и позднее высланных народов или интеллигенты из евреев, которых выслать так и не успели, если даже до них тогда доходили смутные слухи о происходящем, полагали, что это вызвано соображениями безопасности и их не касается. Между тем, в этом проявилось то отношение к человеку, которое касалось всех. Случайное тактическое соображение «великого вождя», вызванное просто перебоями в работе желудка, могло в любой момент распространить эту «меру безопасности» и на их народы, и на них самих.
В такой атмосфере, пробавляясь внушенным энтузиазмом, мы росли, жили и учились. Разумеется, все это проникало и в школу. Но, тем не менее, школа как-то сглаживала это авторитетом, а отчасти еще и атмосферой культуры, знаний и товарищества, да и вообще всяких высоких материй — еще много было хороших и порядочных учителей. Впрочем, они и сейчас есть.
Однако жизнь моя протекала не только в школе, но и во дворе, в нашем большом объединенном дворе, где изнанка жизни и истории проявлялась чаще и откровенней, чем в школе, и чему школа служила как бы противовесом, как порядок — хаосу. Восприятие это довольно типичное для интеллигентных детей той поры. У него есть свои основания, своя оправданность (от хаоса естественно отталкиваться), но вряд ли своя праведность (этот хаос возник не сам по себе). Поразительное дело, ведь речь идет не о старой — «классовой», как тогда говорили, — гимназии, а о советской бесклассовой школе. Там действительно учились все дети, независимо от социального происхождения их родителей и все были на равных. И тем не менее эта школа, где учились все, в моем сознании противопоставлялась двору как хаосу. Отчасти, наверное, потому, что там уважалась устраивающая меня иерархия ценностей — по культуре, по знаниям, по увлечениям, а необязательно по физической ловкости.
Но это уже, как говорят в Америке, моя проблема. По-настоящему же главным было другое. Школа как бы утверждала модель правильного мира, а тот, который был во дворе, сама того не желая, переводила в разряд неправильного, нетипичного — чего-то, чем следует пренебречь. И действовала она так отнюдь не только на интеллигентных или считающих себя таковыми детей, а и на многих других. Своим существованием на общем фоне, тем, что она открывала горизонты иной жизни, она звала не изменить жизнь двора (у каждого ведь есть позади такой двор или нечто подобное), а уйти из него и забыть его, а если и не уйти, то подняться над ним к высотам культуры и «сознательности» и не принимать его всерьез. Это один из вариантов (смягченный) того, что я называю «получение грамоты вместе с людоедством».
Наш двор был южный — практически весь нараспашку. И его жизнь гораздо более откровенно отражала состояние страны — происходящие в ней процессы и реакцию на них, — чем что-либо иное, более упорядоченное; она была изнанкой истории. Что говорить, изнанка эта представляла собой в эти годы малопривлекательную картину. Я имею в виду не ребят, с которыми играл, а многих взрослых, тоже наполнявших наш южный двор, слишком уж деморализующе прошлась своими бессмысленными лемехами по многим из них сталинская «историческая необходимость». Ведь только что закончился искусственный голод — запланированное вымарывание украинской деревни. И неудивительно, что во многих из тех, кто, убежав, уцелел — а такие были во всех окрестных дворах, — оно утвердило чувства отнюдь не добрые. То, что они видели и испытали, от чего, прямо скажем, увернулись как бы не совсем законно (по «закону» им положено было издохнуть), не укрепило в них веры в человеческие установления. А это мало кого, кроме святых, располагает к доброте и доверию к людям.
А жизнь южного двора наиболее обнаженно проявляет все, что творится с людьми. В те годы в жизни нашего двора ощущалось и нечто темное, «отсталое» отчужденно не гармонирующее, как мы полагали, светлому несмотря ни на что облику нашего времени. Помню слова одного из друзей моего детства: «Самая худшая часть населения — это крестьяне, вышедшие в города». Думаю, что какой-нибудь московский или питерский интеллигент (отнюдь не антисемит) в начале двадцатых мог так же выразиться и об евреях. И действительно в обоих случаях в устоявшийся быт хлынула орда, не знающая ни местных норм общежития, ни обычаев. Почему она хлынула — как-то и не думается, а раздражать — раздражает. Пока еще обтешется!
Что говорить! Темного в этих людях хватало. И отсталого тоже. Но ведь и наше «передовое» особенно светлым не было и света в души этих, иногда деморализованных, людей внести не могло. Я помню враждебные предвидения, как поведут себя эти люди во время войны — как их обиды взметнутся темной стихией. И удивляюсь тому, как легко выпадал из сферы эмоций и даже логики тот вроде признаваемый факт, что их ведь действительно — мягко, очень мягко говоря, — обидели. Воспитание и мировоззрение с этим не считались.
Короче — узел взаимного непонимания был затянут туго. И развязать его в рамках официального, полуофициального или даже оппозиционного большевизма было невозможно, а другого способа осмысления мы не знали. Осмысления и не было, были только реакции на неприятные или просто безвыходные явления. А что касается «проблем двора», хотелось просто от них уйти. И уходили. В школу, которая уводила от этих людей и проблем уверенно и далеко. Уводила не только таких, как я, уводила и выходцев из этой среды — забыть и пренебречь означало для них, конечно, и возможность социального восхождения, но и не в последнюю очередь обретение пусть иногда понимаемых на свой лад, но все же культуры и осмысленности. Грамоту все тогда получали вместе с людоедством.
Но все это сегодняшнее осмысление тогдашнего, но, так сказать, суммарного, а не эмпирического восприятия. Тогда я этим осмыслением особенно не занимался — просто жил, как живется. И тому, что мой дядя «сдал» свой дом в жилкоп, я радовался совершенно искренне — и не только потому, что это избавляло меня от косвенной, но все-таки как-то позорящей связи с частной собственностью. Только через много лет я понял чувства моего отца, который жалел, что наш маленький тенистый дворик перестал существовать, растворился в большом объединенном. Сам я об этом тогда не жалел нисколько — был в упоении, когда ломали кирпичную стену между дворами вместе с примыкавшими к ней с нашей стороны деревянными сараями, радовался суматохе, бывшей в то же время могучей поступью социализма. И, конечно, тому, что теперь в нашем дворе так много детворы. Детям для здоровья, может быть, и нужны тихие тенистые дворы, но где вы видели детей, особенно мальчиков, пекущихся о здоровье? Гораздо больше значения для них имеют общение и дружба и возможность себя чем-нибудь занять.
До определенного возраста я принимал деятельное участие в жизни дворовой детворы. Принимал участие во всех играх и затеях. И даже играл в футбол. Правда, я плохо бегал и полевым игроком был плохим, но зато меня ценили как вратаря. Тут я брал храбростью, бросался на ноги нападающих.
Были у меня и более интеллектуальные товарищи — с ними я играл в шахматы (отец показал мне ходы). Я довольно быстро достиг определенного, очень невысокого уровня, но дальше не пошел. Дочитать до середины хотя бы самое элементарное пособие по шахматной игре у меня никогда не хватало терпения. Поэтому все мои шахматные коллизии неизменно развивались так. Поначалу, пока мой новый партнер только привыкал к шахматам, я у него неизменно выигрывал. А потом с тем же постоянством проигрывал. Поначалу это меня обескураживало. Даже не верилось, что это так. Но потом я начисто излечился от спортивного азарта. И теперь выигрывать у меня — никакого удовольствия, ибо меня это нисколько не огорчает. То же происходило у меня и с точными науками. Задачи средней трудности я научился решать очень скоро, а очень трудные — никогда. Предпочитал, явившись в класс, объявить, что не понял. Но это уже позже, когда мои интересы определились. А в младших классах интереса, который бы всерьез потребовал от меня упорства, у меня еще не было. Он только смутно предчувствовался. Я любил рассказывать ребятам всякого рода истории и сказки, в основном героико-революционного характера, где прочитанное переплетается с вымыслом и, как сказано в одном из моих лет через десять после этого написанных стихотворений: «Где за развязкой следует завязка. И никогда не следует конец». Т. е., выражаясь по-лагерному, «тискал рóманы» (ударение на первом слоге), удовлетворяя ту же детскую потребность слушателей.
Кстати, потом я эту способность начисто утратил. Я могу почувствовать сюжет, но выдумать его не в состоянии. И, лежа на нарах свердловской пересылки, я «тискал романы» гораздо хуже и бесцветней своих более простодушных конкурентов. Говорю это отнюдь не с гордостью: способность придумывать сюжеты — конечно, при прочих равных — ценная способность. Другое дело, что в поэзии все это выглядит совсем иначе — в ней ничто не движется сюжетом, а, наоборот, сюжет, если он есть, движется чем-то другим. Но эта тема уже не имеет отношения к двору моего детства.
Конечно, двор этот был улицей, а к улице в литературе установилось отношение, безусловно, отрицательное («Завтраки 43-го года» Василия Аксенова и многое другое). Отношение это в общем справедливое. Особенно если речь о 1943 годе, когда была война и плохо было всем. Но по отношению к 1932 году все это не так безусловно. Не то чтобы тот, кто отбирал завтраки у более слабых тогда (конечно, не в случае крайнего голода, что тоже нередко бывало), выглядел достойней того, кто этим занимался потом. Но все-таки возмущаться теми, кто это делал в 1932-м, надо не столь уверенно… Ведь, как уже сказано, многие из тех, кто стали тогда уголовниками, были детьми раскулаченных, т. е. детьми, нагло обездоленными, на глазах у которых были затоптаны в грязь не только их дом, но и все внушенные дома устои бытия («не зарься на чужое», «что добыл горбом, всегда твое» и т. д.), причем затоптаны не кем-нибудь, а самой властью, казалось бы, для того только и существующей, чтоб эти устои поддерживать. Власть интересовалась или имитировала интерес к чему-то более важному, чем их существование на земле, а от них требовали — даже ценой смерти от голода — соблюдения того, что было так открыто нарушено в отношении их самих.
Я согласен с теми, кто отрицает распространенное на Западе утверждение, что за поведение человека всегда несет ответственность общество, а не он сам. Но тут под словом «общество» обычно понимается пассивное действие слепых «общественных условий», в которых живут все, но к которым не все могут приспособиться. Но те, о ком я сейчас говорю, стали жертвами сознательно против них направленных активных действий общества, точней, подмявшего под себя это общество государства. Конечно, человек отвечает за свое поведение. Отнюдь не все дети и сироты раскулаченных стали, а главное, остались уголовниками. У разных людей разная степень устойчивости. Одни умрут, но не возьмут чужого, другие возьмут, чтоб не умереть с голоду, но не прикоснуться к нему, как только эта угроза отойдет, а в третьих что-то сломается — раз начав, они не смогут кончить, привыкнут к такому образу жизни. И каждый, кто идет этой третьей дорогой, безусловно, виноват. Но государство, таким образом «испытывающее людей на устойчивость», и общество, терпящее это государство, тоже — и притом непосредственно — виноваты перед этими людьми. И общество, даже если оно ничего не может сделать, должно это помнить. Это не значит, что можно не судить за уголовные преступления. Но это значит, что, как здесь уже сказано, у общественного возмущения поведением этих «оступившихся» (от сильного государственного толчка в спину!) уверенности тогда могло было быть и поменьше.
Разумеется, уголовники — это крайний случай. В нашем дворе уголовников я не припомню. Но напряжение, вызванное недавними событиями, масштаба которых никто по-настоящему не сознавал, порой ощущалось очень остро. Киев — и наш двор в частности был буквально затоплен волной переселенцев из провинции. Все подвалы (свободной жилплощади в городе не было) были заняты ими. Не следует думать, что эта волна состояла сплошь из крестьян. Первая семья, поселившаяся в нашем доме, еще когда он принадлежал моему дяде, была местечковая семья. Кстати, и не говоривший по-русски мой дядя-раввин, брат отца, переселился из Богуслава в Киев тоже отнюдь не в жажде культурных развлечений и высшего общества. В местечках тоже ведь стало нечего есть.
Уезжали по самым разным причинам. Кто — чтоб скрыть свое ставшее вдруг преступным «прошлое» (имел магазин или мельницу), кто — сообразив, что в городе, особенно в Киеве (столица!), получше снабжение, а, следовательно, и реальная заработная плата выше, кто — просто спасаясь от голодной смерти. Среди этих спасавшихся большинство, естественно, составляли бывшие крестьяне, бежавшие от преследований, голода и вообще от колхозной неволи и бесперспективности.
Конечно, устроиться в Киеве им было сложно, значительно сложней, чем, допустим, в Магнитогорске или Игарке, где нередко закрывали глаза на некоторую недостоверность их документов (иногда кажется, что весь сыр-бор был затеян для того, чтоб обеспечить таким путем рабочей силой «первенцы пятилеток»), но приток рабочей силы требовался и расширяющимся киевским заводам. Можно было осесть на первых порах где-нибудь дворником, кочегаром и т. д. Можно было, если повезет, оборудовать кое-как под жилье сырой подвал, для этой цели никогда не предназначавшийся. При общей нехватке жилья привередничать не приходилось. Главное — зацепиться и выжить — в тесноте, да не в обиде.
Но «не в обиде» не выходило. «Не в обиде» бывает, когда это касается людей, которых что-то объединяет. Да и когда тесноту эту не надо терпеть слишком долго. И то в эвакуации (когда дело было у всех общее и понятное — война) нередко случались пусть не глубокие, но часто мучительные конфликты между хозяевами и вселенными к ним квартирантами из эвакуированных. А в начале и в середине тридцатых тесноту эту никто не воспринимал как временную, да и была она для новых киевлян не причиной, а следствием и катализатором «обиды», никем, кстати, не признаваемой и не сознаваемой, всеми игнорируемой, но присутствовавшей в упомянутой выше напряженности изначально.
В этой связи «подвал» приобретал символическое значение. Дело было уже не только в качестве жилья, а в том, что оно стало как бы символом социального положения и культурного статуса, символом унижения крестьянина в городе. Человек чувствовал неуважительное отношение к себе, как к неотесанной деревенщине, для которой и подвал — квартира. А ведь это были люди, знавшие себе цену, самостоятельные хозяева, привыкшие к заслуженному уважению. И в их глазах именно город был местом, из которого вышло все это несчастье, откуда наезжали все эти коллективизаторы и раскулачиватели, начальники политотделов и агитаторы с браунингами.
И теперь этот город, разрушив их мир, обессмыслив их труд, выжив их из домов и вообще из деревни — вдобавок еще высокомерно возвышался над ними!
Конечно, так было в начале. Люди работящие, умелые, цепкие, они потом вполне приспособились к городской жизни. Ведь это не первые деревенские люди, вышедшие в город. Всегда выходили — в мастеровые, в торговцы, а потом помаленьку и в студенты. Те приспособились и эти потом приспособились. Отличие было в том, что те выходили по своей воле поодиночке и когда хотели, а этих — вытолкнули громадной массой общие экстремальные обстоятельства. И я говорю сейчас об их восприятии первых лет, когда они неожиданно для себя и не по своей вине оказались в роли городских аутсайдеров.
Все тогда жили тяжело, но все, кто приехал до них, жили в городских квартирах (пусть в коммунальных, пусть в тесноте, но ведь не в подвалах же) с удобствами, работали на ученых, барских работах или просто были уже — по их мнению — хорошо устроены. И вдобавок среди них было много евреев, на которых гнев изливался привычней и проще, чем на что-либо другое. Тем более что бытовало мнение (об этом я уже говорил), что евреи — это и есть советская власть и что все это надругательство над жизнью, от которого так жестоко пострадала теперь деревня, идет от них. Но евреи для этих недавних крестьян были только крайним воплощением города, который их обидел. Разумеется, не у всех это было, не у всех — в равной мере. У молодежи этого было меньше. Перед ней, как это ни парадоксально (конечно, если говорить о тех кто уцелел, вывернулся), открывались новые горизонты, даже приобщение к культуре (подлинной или имитированной — как всегда, в зависимости от личных качеств), представлению о которой такой брутальный антисемитизм тогда еще не очень соответствовал. Легализован он был во время войны, обеими воюющими сторонами. И тогда тоже люди этой судьбы, как все, вели себя по-разному — в зависимости от личности каждого.
Все мы жили в мире ложных ценностей, и это затрудняло понимание самых простых вещей. А жизнь тогда была еще менее простой, чем всегда. Атмосфера, создаваемая не лучшими из этих невинно пострадавших, ощущалась и действительно была неприятной, тяжелой. Этим отчасти объяснялись и слова моего приятеля о «худшей части населения». Как ясно из сказанного выше, мне они неприятны: и потому, что они несправедливы по отношению ко многим хорошим людям, тоже относившимся к этой категории, и потому, что они скользят над и мимо трагедии этих людей и не замечают всеобщего греха перед ними. Мне стыдно, что и до меня это тогда не доходило. И до определенной черты я считаю себя более виноватым перед ними, чем их перед собой. Но только до этой черты.
Если она перейдена, положение меняется. Правда, черта эта довольно «далекая», и не всякий может да нее дойти и, тем более, ее переступить. Не всякий ее и переступил — даже во время гитлеровской оккупации, когда появилась и даже стала поощряться такая возможность. Эта черта — слепая, ненаправленная месть и добровольное согласие на палачество, садистская удовлетворенность им. Месть направленная, т. е. использование удобных обстоятельств (той же гитлеровской оккупации, например) для сведения счетов с конкретным, а не символическим обидчиком, — дело пусть отнюдь не рыцарское и не привлекательное, но еще человеческое, в какой-то мере простительное — человек, к сожалению, не всегда звучит гордо. А вот то, что дальше…
У одного из героев повести Юрия Трифонова «Старик», еврея-комиссара из анархистов, когда-то, в 1905 году, казаки в Екатеринославе зверски вырезали всю семью, и с тех пор он ненавидит все казачество поголовно. И теперь — дело происходит во время Гражданской войны на Дону — он мстит всему казачеству — занимается тем, что расстреливает казаков направо и налево, правых и виноватых.
Разберем эту нравственную коллизию. Прежде всего установим, что казаки, вырезавшие его семью, действительно в свое время совершили чудовищное преступление. Даже если он был бомбистом (о чем они вряд ли бы знали), дело надо было иметь с ним, а не с семьей. Вряд ли кто-нибудь с этим будет спорить. Допустим, эти казаки каким-то образом избежали суда и наказания, по закону полагавшихся им и «при старом режиме» (такое случалось, хоть далеко не всегда), и после революции этот несчастный глава семьи разыскал именно этих казаков и, пользуясь своим новым положением, жестоко им отомстил. Думаю, что мы отнеслись бы к этому самоуправству неодобрительно и даже брезгливо, но и с некоторым учетом «смягчающих обстоятельств» — все-таки эти люди у человека всю семью вырезали.
Но когда он стал мстить расстрелами всем казакам вообще, он стал преступником не менее гнусным, но еще более страшным, чем убийцы его семьи, поскольку был еще облечен властью. Все согласятся, что никакая его собственная трагедия тут оправданием служить не может…
Наверное, свои оправдания есть и у сталинских выдвиженцев, сбитых в номенклатуру. Тем более есть они у вытолкнутых из деревни крестьян. Но даже и их она оправдывает только до тех пор, пока они сами не перешагивают через определенную черту, не становятся палачами. А если становятся, тогда — несмотря на все ими пережитое — оправдания им нет, и их не только можно, но и нужно осуждать. Но все-таки, принимая во внимание извивы нашей истории и наши многочисленные вины перед самими собой и друг перед другом, взрослым людям нельзя это делать с легким сердцем, как мой приятель в детстве. И совсем не с легким сердцем приступаю я к рассказу о подлости и жестокости одного такого садиста из пострадавших.
Люди плохо себя знают. Пострадавшие от тотальных преследований часто мечтают жестоко отомстить обидчику, а иногда всему миру, равнодушно взиравшему на то, как над ними надругались. И в мечтах готовы переступить через любую черту: ведь в отношении их все черты были перейдены. Но когда доходит до исполнения, далеко не все, кто так мечтал и говорил, могут и хотят реально ее переступить.
В нашем дворе было, как минимум, несколько человек, вероятно, считавших себя вправе ее перешагнуть. Это чувствовалось и по отдельным их высказываниям, и по атмосфере, возникавшей вокруг них и вносимой ими в жизнь двора. Не уверен, что, когда начались страшные для евреев дни (а речь сейчас об этих днях), все они вели себя благородно. Но что касается «черты», то перешагнул ее, как мне известно, только один из них. И это предчувствовалось — перешагнет.
Человек этот был дворником нашего дома. Всего только дворником. Как говорится, «простым человеком». Фамилия его была Кудрицкий. В мою жизнь этот человек со своей фамилией врезался весьма прочно — не отдерешь. Но имя его — Митрофан — я чуть не забыл, только сейчас вспомнил: я ведь не звал его по имени. Он не изменил ни судеб мира, ни судеб страны — только намеренно и изощренно отравлял последние дни нескольким людям, ничего плохого ему не сделавшим. Не более, чем двадцати. Лично превращал их жизнь в сплошной кошмар и лично получал от этого удовольствие. То, что он над ними совершал, простить может только Бог. Я только человек и кругозор мой человеческий. По моим представлениям простить такого Кудрицкого имеют право только те, над кем он измывался. Но они лежат в Бабьем Яре. Так что прощать некому. Впрочем, ему и не надо их земного прощения — он и сам скоро последовал за ними.
Я говорю не о юридическом прощении. Их убили немцы, а не он, а он лично, насколько мне известно, никого не убил, не служил в лагере, не стоял в оцеплении во время немецких акций по «окончательному решению», не был оператором в газовой камере или шофером душегубки. Он был только дворником. И работал только сам от себя и для себя, для собственного удовольствия. Но до конца он никого не убил (боялся? растягивал удовольствие? — на него и то, и другое похоже), и, возможно, суд присяжных при хорошем адвокате его бы оправдал. Да и советский суд стал бы в тупик. Тут даже сотрудничества с врагом не припишешь. Немцы только создали обстановку, в которой ему можно было развернуться. А действовал он сам. Потом он переоценил свою «социальную близость» оккупантам и спер у них какую-то мелочь, когда рядом с нашим домом остановился какой-то их воинский обоз. Видимо, по привычке думал, что она плохо лежит. А у немцев ничего плохо не лежало, хватились сразу. И поскольку они к таким вещам не привыкли относиться с юмором (да и, наверное, не первый он был такой на их пути «социально близкий»), то не прощали их никому. Так что он без лишних проволочек был тут же за это расстрелян и стал жертвой гитлеровских оккупантов. И следует удивляться, что он в герои партизанского подполья еще не попал. А может, попал, но я не знаю. Попал же Киев в города-герои.
Впрочем, для меня это неважно. Даже если б он так глупо не погиб, а жил бы теперь в Америке и если б по закону его деяния наверняка подлежали бы преследованию (думаю, что все-таки подлежали бы), я бы его не разыскивал, не стал бы добиваться его наказания или «репатриации», а, встретив, прошел бы мимо. Не для демонстрации презрения (что ему мое презрение!), а просто не до него как-то. Сейчас в Америке он продолжать свои художества ни в какой форме не мог бы, содеянного им все равно не исправишь, а мстить ему — хлопотно и неинтересно. Да и много чести. Но умолчать о нем я не могу — слишком он врезался в мою память. Да и вообще есть, наверное, о чем подумать в связи с ним.
Появился дворник Кудрицкий с семьей в соседнем дворе году в тридцать четвертом, когда дворы еще не были объединены. Узнал я об этом так. Однажды после дождя, когда я возле нашего дома то ли пускал кораблики, то ли строил из песка запруды в канавке у мостовой, ко мне подошел мальчик примерно моего возраста (потом оказалось, что чуть постарше) и выразил желание принять участие в этом развлечении. Я обрадовался, и мы стали играть вместе. Мальчик был вежливый, скромный, дружелюбный и поначалу был несколько скован в проявлениях, как обычно дети на новом месте. Потом это прошло. Мальчик мне понравился. Он сказал, что его отец теперь — дворник соседнего дома и что они живут в дворницкой. Я знал ее — это был отдельный домик во дворе прямо против подворотни. Скоро мальчика позвал отец — тогда я впервые увидел самого Кудрицкого. Мальчик, с которым я познакомился, был третий его сын — Иван.
Надо сказать, что и он, и его братья (два старших и два младших) быстро акклиматизировались в новой среде. Мы вместе играли, дружили, и, в общем, ничего плохого я о них сказать не могу. Ничего плохого я и не слышал об их поведении в те страшные девять — десять дней (между уходом советских войск и Бабьим Яром), когда свирепствовал их отец. После войны я видел только старшего из них — Васыля. Говорили мне, что и младший тоже дома, но я его хуже знал. Один — Кырыло — умер еще до войны от заражения крови. Он мне внушал наибольшую симпатию. Куда девались два остальных брата — Иван, которого я упоминал, и Мыкола, с которым проводил больше всего времени, — не знаю. Но речь не о них, а об их отце.
Я его хорошо помню. Помню, как со своими метлами, совками и прочими атрибутами дворницкой профессии он буквально царил во дворе. Он обладал удивительной способностью все на свете превращать в атрибуты власти. Не припомню, чтоб он особенно досаждал нам, ребятне, — наверное, не больше, чем положено дворнику. Но сдержанная злость его ощущалась как-то иррационально — даже сквозь угодничество, которое тоже было ему вполне свойственно. И очень часто звучал на весь двор его обличающий голос: такого-то посадили, а такой-то «жинку бросыв». И думаю, что он ненавидел тех, перед кем заискивал. Думаю, что он вообще ненавидел тех, кто, как ему казалось, преуспел в жизни больше, чем он. А поскольку его выбили из колеи, то таких на новом месте было много — горючего хватало.
Но думаю, что дело здесь не только в «колее» (из нее многих выбили), а и в нем самом. Если б его не выбили, если б не коллективизация и оккупация, все это зло все равно сидело бы в нем (преуспевшие больше тебя всегда найдутся), но дремало бы, не развившись. При всей его неприязни к советской власти, разбившей ему жизнь, которая проявлялась косвенно, но ощущалась явно, ему нравилась власть как таковая. И быть понятым при обысках и арестах (это и доныне входит в обязанность дворника) ему тоже нравилось. Нравилось ему падение людей, устроившихся лучше его, с этажей, которые, вероятно, и воплощали в его глазах эту устроенность. Нравилось больше, чем не нравилась сама советская власть. Но когда запахло другой властью…
Помню его ликование во время первых налетов немецкой авиации на Киев. Помню, как утром, на третий или четвертый день войны, над нашим домом с ужасающим рокотом на малой высоте прошло два, кажется, звена немецких самолетов — безнаказанно, не нарушая строя, не обращая внимания на эскорт безопасных для них пока зенитных разрывов. Помню собственное чувство беззащитности, неожиданное в человеке, уверенном в «нашей непобедимости», и помню, что творилось в этот момент с Кудрицким. Он был вне себя — от счастья и страха одновременно. Он был в восторге от собственного страха перед силой приближающейся непобедимой власти. Он орал нечто нечленораздельное, что, с одной стороны, могло означать заботу о соблюдении порядка (загонял всех в подворотню, чтоб не убило), а с другой — ликование (он и загоняя в подворотню, чтоб не убило, — этим еще с удовольствием демонстрировал мощь наступающей силы). Не знал он, что это ликование и по поводу собственной гибели. Предвкушал он только, как будут погибать другие. Рад ли я, что он расстрелян и порок наказан, что случилось по пословице: «Не копай могилу другому — сам в нее попадешь»? Да нет, пожалуй. Мне страшно, что люди могут быть такими.
А может, таким он не был, а только его довели до потери человеческого образа? Ведь то, что он радовался концу советской власти, это более, чем естественно для человека, согнанного ею с земли. И даже то, что больше всего его радовала открывающаяся возможность безграничного сведения счетов, тоже еще как будто естественно. Но выражение «сводить счеты» неизбежно предполагает вопрос: «С кем их сводить?»
Действительно, с кем он собирался сводить счеты? С советской властью? Но это существо для мести слишком абстрактное. Счеты можно сводить только с конкретными людьми — с непосредственными обидчиками и теми, кто направлял их деятельность. Но ни тех, ни других рядом быть не могло. Первые — рядовые — либо остались в деревне, либо могли попасться ему только случайно, ибо (уполномоченные, политотдельцы) были рассеяны в неопределенности. Ну а тех, кто направлял их деятельность, представителей центральной власти, в его дворе и быть не могло, а если бы были, уехали бы в эвакуацию. Даже люди, верившие, что «во всем виноваты евреи», не могли не понимать, что это явно «не те евреи», которые не смогли или не захотели эвакуироваться. А он не был идиотом и был дворником, т. е. прекрасно знал, кто есть кто на контролируемой им территории. Следовательно, «мстить» он собирался не обидчикам, а тем, кто попадется. После этого теряют всякий смысл все рассуждения о счетах и мести. Речь идет просто о злобе, которая искала любого выхода. И это — в наиболее «идеальном» случае. Короче, он собирался вовсе не мстить, а только мучительством невинных сладострастно, садистически «отводить душу» или «срывать зло». И от немцев он ждал безнаказанности в реализации этой своей потребности. Ничего больше.
И не надо выдвигать соображение о простом человеке, которому трудно было разобраться в сложных хитросплетениях советской жизни. Все, в чем ему надо было разобраться, было вполне в пределах его опыта и доступно его пониманию.
А срывал он свое зло страшно. В нашем большом дворе оставалось не больше двадцати евреев. В нашем маленьком домике, кроме дяди с тетей, остались еще две семьи — Этингеры, поступившие так из тех же побуждений, что и мой дядя, и жившие в одной с ними квартире мой ровесник-ремесленник, о котором я уже рассказывал, и его мать. Но эти, как и большинство оставшихся евреев, просто по каким-то причинам не смогли сдвинуться с места.
Не мог, например, сдвинуться с места из-за дебильной дочери Веры мой демиевский дядя Иосиф (тот, с которым я спорил о Боге). К несчастью, когда пришли немцы, он тоже оказался в нашем доме. Получилось это так. В Голосеевском лесу над Демиевкой высадился немецкий десант, и жителям приказали ее покинуть. Вот дядя с семьей и переехал к сестре, в нашу опустевшую квартиру.
Всем оставшимся евреям нашего дома пришлось от Кудрицкого солоно. Но точно мне известно только то, что он вытворял в нашей квартире. Об этом я и буду говорить.
Итак, в квартире жило пять человек: два дяди, их жены и дебильная Вера. Дяди — оба пожилые, оба бородатые, оба верующие. Пожилыми и верующими были, естественно, и их жены. Это должно было говорить само за себя. Тогда еще не было прирученных церквей и синагог, и верующие не могли восприниматься как опора власти. И еще насчет большевизма — Кудрицкий, конечно, не мог знать, что один из этих дядей, как и он, ждал немцев — он ведь и сам об этом вслух не говорил. Но он не мог не знать, что этот дядя раньше владел домом, а потом вынужден был его сдать, т. е. что не он раскулачивал, а его раскулачили. Да и вообще он ни на минуту не мог предположить, что эти люди как-либо связаны с деяниями советской власти, что ему есть за что им мстить.
Кстати, насчет раскулачивания. Ему очень нравилось, когда дядя вынужден был сдать свой дом. Он с удовольствием и важностью тогда выступал от имени советской власти, этот дом принимавшей. Еще один человек, тем более еврей, утрачивал преимущество перед ним. Нет, не социальные мотивы руководили им. Конечно, он был патологическим антисемитом. Но главным в нем была патологическая злобность, а антисемитизм был наиболее удобной ее канализацией.
И он тешил душу. Ежедневно, ежеутренне являлся он в нашу квартиру, как злой рок, как знак возобновления мук, с единственной целью — надругаться. Он издевался над этими стариками многообразно и изобретательно, избивал их, заставлял руками чистить дворовую уборную и делать многое другое, всегда унизительное, часто непосильное. И за недостаточно хорошее исполнение наказывал. Он был господином их каждой минуты и ему нравилось быть таким господином.
Легализация погромного антисемитизма пришлась многим на руку. Подонков на земле всегда много, и в такие моменты им вольготно живется, «грабят награбленное». Вероятно, врывалась к ним и уличная шпана, отбирала, что могла. Почему б не обидеть беззащитных стариков, если власть разрешает. Думаю, что и Кудрицкий охулки на руку не клал, бессребреничеством он не отличался. Но главное его наслаждение, главная его корысть была не материальной, а духовной. То, что он делал, было не спорадическим хулиганством или грабежом, а перманентным садизмом.
Все было так страшно, что тетя Хаита в отчаянии умоляла соседку, Анну Семеновну Колесникову, к которой всегда относилась с симпатией, но с которой близких отношений у нее все же никогда не было, спрятать ее мужа. Нет, не от немцев, Боже сохрани, — от издевательств Кудрицкого. Анна Семеновна была вполне порядочной, интеллигентной и доброй женщиной и сочувствовала несчастным старикам. Но она, смущаясь и стыдясь, отказала им в помощи. Боялась. И опять не немцев — Кудрицкого. Да и попросить об этом можно было, только потеряв голову от отчаянья, — ну кто мог от него кого-нибудь спрятать? От гестапо было бы много легче. А у нее самой с точки зрения «нового порядка» было рыльце в пушку — сын в Красной Армии. Кудрицкий наводил на весь дом страх и трепет. В том и состоял его звездный час. Конечно, его боялись и потому, что за его спиной стояла вся мощь вермахта, СС и гестапо, но в данном случае он их использовал, а не они его.
Немцы вошли в Киев 19 сентября, расстрелы в Бабьем Яре начались 29-го. Все эти десять дней родные мои жили под властью не столько Гитлера, сколько Кудрицкого. У Гитлера были еще другие заботы, у Кудрицкого, видимо, только эта. Он устроил им персональный Освенцим на дому и ему было не лень следить за его «распорядком» — чтоб не забывались. И хотя погибли мои родные не от его руки, но измывательства его были таковы, что, вполне возможно, эту гибель они восприняли как освобождение. От него. То, что он им устраивал перед смертью, было, по-моему, страшней, чем сама смерть.
Я не знаю, какова степень его страданий во время коллективизации. Вероятно, не самая крайняя, раз он смог поселиться в Киеве и никем не преследоваться. И, вероятно, все же не малая, раз он вынужден был покинуть деревню. Да и не было этой малой степени в таком страшном деле, да еще на Украине. Но, по-видимому, жажда мстить вообще определяется не мерой страдания, а склонностью к таким занятиям.
Мне рассказывали об одной здоровенной бабе, которая остановила на дороге из Кишинева в Одессу уходящих пешком от немцев бабушку с четырехлетней внучкой и велела девочке снять и отдать туфельки. Девочка сначала не поняла, чего от нее хочет эта громадная взрослая тетя. Но бабушка ей ласково объяснила, что надо сделать. Дальше девочка шла босиком по горячей каменистой дороге.
Не знаю я, что за плечами у этой бабы. Но что бы ни было, она — образец жестокой низменности. Но по сравнению с Кудрицким бабища эта — ангел непорочный. Ей ведь только туфелек и было надо. И занималась она обыкновенным грабежом, даже мелким. Кудрицкий этим не ограничивался. Ему для удовлетворения и крови было мало. Надо было еще и мучить.
Когда немцы взяли Киев, мы, находясь в эвакуации, естественно, очень испугались за своих близких. Мы ничего еще не знали ни о Бабьем Яре, ни об «окончательном решении еврейского вопроса». Знали только, что немцы развязывают антисемитизм. И больше всего беспокоило нас в связи с этим то, что это полностью отдает их в руки именно Кудрицкого. Мы почему-то, в целом, знали, чего от него можно ждать. Чувствовалась в человеке изощренная эта злобность.
История наша трагична. И я понимаю тех, кто во время войны оказался с оружием в руках на другой стороне. Я не думаю, что это было мудро или правильно — хотя бы потому, что «другая сторона» своей сущности и своих намерений в отношении нашей страны не скрывала. Но я никого за это не осуждаю. Как я могу осуждать, например, раскулаченных крестьян и их детей? Или тех, кто был в Белой армии, не смог с ней эвакуироваться и жил потом двадцать лет с засекреченной биографией, как бы не существуя — даже если был зарегистрирован, говорить об этом не рекомендовалось. Приход немцев для таких людей был реальным освобождением.
Но в данном случае речь идет не о них, а о подонках, которых в изобилии разными сочетаниями пряника с кнутом производила советская эпоха и которых было достаточно по обе стороны фронта.
На Лубянке в 1947-м я даже формулу такую слышал от некоторых «нахально-репатриированных»: «При советской власти неплохо жил и при всякой — не пропаду». Конечно, есть в этой формуле и бесшабашность отчаяния, но в устах у некоторых это вполне звучало как нравственный принцип. Мне приходилось читать в эмигрантских изданиях, что в РОА было много немецких агентов, сообщавших в гестапо все, что они видели и слышали вокруг себя, т. е. стучавших на своих чужим. А эти за какую коллективизацию мстили?
Далеко меня, однако, завела тема Кудрицкого. А ведь коснулся я ее в связи с жизнью нашего двора, чтоб передать ее атмосферу на фоне времени. Нескоро, очень нескоро стал задумываться я над этим. Лет до двенадцати таких осмыслений вообще не бывает, а потом его затмили широкие горизонты. Мы — говорю (словами Маяковского) о себе и своих романтических сверстниках — мы стремились во всем «рваться в завтра, вперед. Чтоб платье трещало в шагу». И презирали всякую косность как мещанское противостояние сталинскому «новаторству», которое обнимало все стороны жизни, распространяя на него аксессуары искусства и без спросу — впрочем, как и многие западные интеллектуалы — меряя все и всех этой приблизительной мерой. Хотя и мучили несоответствия.
Впрочем, и здесь я забегаю вперед. Все эти мои мысли и заблуждения еще впереди. И даже из Маяковского я читал пока только «Возьмем винтовки новые…» в «Пионерской правде» и недоумевал, почему в стихах этого великого, как он назван в той же газете, поэта слова так трудно складываются в строки. Года через три я это пойму, а лет через тридцать опять перестану понимать. Но все это не будет связано с жизнью двора, а сейчас речь именно о нем.
Я скоро уйду из него. Уйду без всякого сожаления, не оглядываясь, гордясь, что расту, что выхожу на свою колею. Хотя сегодня я отнюдь не убежден, что так уж это хорошо — уходить, не оглядываясь. Некоторые мои сверстники так и остались людьми двора и улицы (конечно, не в мамином понимании слова «уличные»). Навещая после войны своих вернувшихся в Киев родителей, я мог не раз в этом убедиться. Работали они в разных местах, а жили во дворе и по соседству: все связи, вся «светская жизнь» у них была здесь. Это их жизнь. Чище она или не чище какой-либо другой, знает только Бог. Презирать ее за мещанство? Но я давно уже не болею этой опасной детской болезнью русской и мировой интеллигенции.
Нет, это не покаяние. В моем уходе из нашего двора не было ничего надменного. Меня увели новые интересы и увлечения, все, что сделало меня потом самим собой и в конечном счете научило понимать и то, что я сейчас говорю — о том же мещанстве, например. И что повернуло мой интерес назад, к двору.
Впрочем, как уже знает читатель, — это поворот в конкретном смысле несколько запоздалый. Ни нашего двора, ни его жизни больше нет. Все ее участники разъехались по новым квартирам и живут иной жизнью. Как им живется в этой новой жизни — пусть более уютной, но и более унифицированной, отдельной — мне неизвестно. Да и не до того было. Но вот теперь вспомнил — и захотелось знать. Это ведь тоже часть моей жизни, часть меня, тоже мои истоки. Не говоря уже о том, что пережитое здесь людьми — это тоже часть нашей истории, нашей общей трагедии. Часть всего, что меня всегда интересовало. Но почему-то не здесь, где прошло мое детство. Может быть, этому и были причины, но не думаю, чтоб это меня обогатило.
Связано у меня с детством еще одно впечатление. Появился вдруг в нашем дворе Гаррик Городецкий. Мальчик моего возраста или чуть моложе. Явно интеллигентный. Появился не один, а с Ваней, приемным сыном своих родителей, парнем по моим тогдашним понятиям (мне было лет одиннадцать) совсем взрослым, лет восемнадцати, наверно. Был он, видимо, как говорили раньше, «из простых», но не украинец, а великоросс — таких вокруг больше не было. Подозреваю, что Ваня был подобран отцом Гаррика во время коллективизации в деревне, куда его посылали по партмобилизации. Такое случалось. Впрочем, это мой домысел. Мне этого никто не говорил. Говорили Ваня и Гаррик как-то не по-нашему, не по-киевски. А. А. Реформатский называл Киев «фабрикой порчи русского языка», но мы этого не знали. Мы свое произношение и лексику воспринимали как норму, а остальные — как экзотику. Ваня опекал Гаррика. Он был вполне покладистым парнем, но умел за себя постоять. Он поступил на расположенный рядом завод «Червоный двигун» («Красный двигатель») и стал кадровым рабочим. Когда вскоре после событий, о которых я сейчас расскажу, Гаррик с матерью уехали из Киева, Ваня остался в одной из комнат их квартиры и стал органической частью нашего двора. Что с ним было во время войны (по-моему, его мобилизовали в один из первых ее дней) и после нее — не знаю. Знаю, что он был симпатичным и, как я сказал бы сегодня, оценив его поведение во время тех же событий, надежным и устойчиво-порядочным человеком. В наше время качество не столь уж частое.
Жизненный уклад этой семьи ощутимо отличался от уклада всех известных мне семей какой-то естественной интеллигентностью и тем, что я бы сегодня назвал неуловимой столичностью. Все остальные семьи, считавшие себя интеллигентными, были только мещански добродетельны, что, как я теперь понимаю, тоже не так уж мало. Правда, и материальное положение этой семьи было выше, чем у всех вокруг.
За отцом Гаррика (он был крупным работником трикотажного треста, как я потом узнал) ежедневно приезжала персональная легковая машина — явление по тем временам неординарное и волновавшее воображение дворовой детворы. Пока не начались события и за ним однажды не приехала машина отнюдь не персональная и не увезла его в тюрьму, что в те годы было явлением неординарным только для нас, детворы. Оповестил громогласно об этом радостном для него событии весь двор, как обычно, дворовый герольд дворник Кудрицкий. А скоро мы узнали из местных газет, что начинается суд над шайкой жуликов, орудовавших в трикотажном тресте. Среди прочих фамилий значилась и фамилия гаррикиного отца — Городецкий. Я был ошарашен. Семья никак не была похожа на жульническую. Но как я мог не верить газете?
Только здесь, в эмиграции, я прочел (в «Большом терроре» Р. Конквиста), что процесс трикотажников в Киеве был обычной сталинской провокацией, звеном в цепи фиктивных процессов, связанных с «чистками», то ли их предтечей, то ли составной частью. Мне даже кажется, звеном он был самым остроумным. Трест этот был своеобразной ссылкой для неугодных партийцев средней высокопоставленности.
Писали о жуликах, но дело было не в них, хотя жулики, наверно, тоже были к нему подключены. Но нужны они были организаторам этого процесса не сами по себе, а чтоб связью с ними скомпрометировать неугодных Сталину и по этой причине в этот трест сосланных (небось радовались, что столько приятных людей в одном месте) работников. Пикантно, что трест этот был не областной, не всеукраинский, а всесоюзный, и его перемещение из Москвы в Киев (из-за чего Гаррик и появился в нашем дворе), вероятно, и было предпринято для того, чтоб отдалить этих людей от центра, а, может быть, даже и для удобств задуманной судебной расправы над ними. Все-таки подальше от знакомых, от тех, кто знал этих людей. Остроумие процесса заключалось в том, что, убирая неприятных ему людей (может, бывших оппозиционеров или кого-то в этом роде), Сталин в то же время вроде оказывался совсем ни при чем. Дело ведь вообще не было политическим — ну спутались где-то в Киеве отдельные «партийцы» с жуликами, моральное разложение, тогда это часто бывало, особенно в провинции. Кроме того, населению убедительно объяснялось, почему и из-за кого в магазинах страны не хватает трикотажа. Как всегда Сталин одним преступлением убивал нескольких зайцев.
Я видел этих людей в день начала суда над ними возле здания на Красноармейской, где он должен был проходить. Я бегал туда с толпой дворовой ребятни глазеть, как из тюремных карет выводят подсудимых. Выводили их по одному. Дорога между каретой и входом в здание была ограждена двумя цепями милиционеров, так что каждый из подсудимых шел как бы по пустому пространству и был хорошо виден. Выглядели они вполне прилично, приветствовали близких и были по-деловому озабочены. Видимо, действительно верили в свою невиновность и надеялись что-то доказать суду. Только по ходу процесса они, верней, самые проницательные из них, могли понять, что доказывать что-либо на этом суде — зряшное занятие. Вряд ли они были наивными людьми. Те из них, из-за кого это было затеяно, уже прошли политические огни и воды и знали, чего можно ждать от Сталина. Но ведь суд был не политический. Это не могло не сбивать с толку. Поразительно, как, когда надо было дурачить людей, масштабная дьявольщина перемежалась у Сталина с мелкой чертовщиной. Ему все было не лень. Как дворнику Кудрицкому.
В свете сегодняшнего опыта совершенно ясно, что их не могли оправдать хотя бы потому, что уже все вокруг знали, что они жулики и из-за них в магазинах нет трикотажа. Но тогда еще несмотря на «дела», подобные шахтинскому, к такой юридической логике (особенно, если дело касалось партийцев) не совсем привыкли, поэтому подсудимые и ждали чего-то от суда. Впрочем, может, им даже повезло. Может, заклеймившая их «бытовая» статья их неожиданно и защитила во времена ежовщины от более смертельных. Если, конечно, сам Сталин вдруг не вспомнил о ком-либо из них. Так что, может быть, и Гаррикина семья потом смогла где-то притулиться и выжить. Дай-то Бог. Особенно его матери. Почему — станет ясно чуть ниже. А тогда то, что подсудимые на что-то надеялись, чувствовалось по всему их поведению и очень меня удивляло. Среди многих «всех», читавших газету, я тоже (вопреки собственным впечатлениям от этой семьи) знал, что отец Гаррика — жулик. На что ж он мог надеяться?
Но и «зная» это, я продолжал дружить с Гарриком — до суда, во время и после него — до самого его отъезда. Я, конечно, ему сочувствовал: ведь тяжело быть сыном такого человека. Но против моих ожиданий ни он, ни его мать, ни Ваня вовсе не сгорали от стыда — наоборот, в их поведении ощущалось сдержанное достоинство людей, знающих то, что другим недоступно. Не только то, что все, что о них говорят и думают, — чушь, но и вообще еще нечто такое, о чем другие и не догадываются и чего им даже нельзя объяснить. Их от других отделила та же черта, что когда-то (теперь я понимаю, что недавно, а тогда мне казалось — давно) отделяла от нас плачущего Владика Федченко. Конечно, определение это сегодняшнее, но ощущение тогдашнее.
В последующие лет восемнадцать эта черта возникала в моей жизни не раз — вокруг других и меня самого, и я давно понял, что это такое. А тогда я еще ничего не знал ни о ней, ни о личном достоинстве, ни о личной порядочности, только чувствовал что-то. Не эти качества пропагандировались пионерскими газетами и журналами, до которых я был большой охотник и которым верил уж конечно больше, чем Гаррикиной маме и Ване. Но поведение их мне безотчетно нравилось, нравилось как раз достоинство, хоть оно было явно личным, а не общественным. Они и виду не подавали, что у них несчастье.
Впрочем, то, что они никогда не говорили о нем при мне, было еще и естественно. Понять я их все равно тогда не мог, а разболтать — хотя бы в удивлении от необычного отношения к жизни — мог. Но однажды Гаррикина мама сорвалась — и сорвалась довольно опасно. И благодаря этому я получил первый в жизни жесткий урок естественной порядочности, реальной иерархии ценностей.
Произошло это так. Я рассказывал Гаррику очередную вычитанную из пионерской газеты глупую байку о героическом пионере, который раскрыл и предотвратил козни каких-то врагов, кулаков или еще кого-то, в том числе чуть ли не родителей — подглядел, подслушал и — «раскрыл». Бестактности своего поведения я начисто не понимал и пел соловьем. К ужасу своему, не поручусь, что это не было скрытым подбодрением товарищу: «дескать, не все еще потеряно, у тебя еще есть возможность остаться в наших светлых рядах». Но может быть, я сейчас и клевещу на себя — все тогда могло быть с незащищенным ребячьим, 9—11-летним сознанием, облучаемым пионерскими газетами. Потом, в Москве, я видел кое-кого из этих «облучателей» — властителей моих тогдашних дум. Уровень их был невысок, но иногда это были даже неплохие люди, которые сами были облучены диалектической «идейностью». Потом во время чисток они сами были репрессированы «в общем порядке». Они, по-моему, и до сих пор, если живы, не знают, что они с нами делали. Впрочем, то же самое раньше сделали с ними, и уж безусловно во времена досталинского коммунистического энтузиазма. Сталину вполне сгодились плоды досталинского революционного воспитания.
Они и звучали во мне, когда я пел соловьем у Городецких. И тут мать Гаррика, которая обычно в наши разговоры не вмешивалась, оторвалась от того, чем была в этот момент занята, посмотрела на меня и каким-то подчеркнуто-обыденным голосом, как бы между прочим, спросила:
— А разве это хорошо — подслушивать, подглядывать и доносить?
Вопрос этот прозвучал для меня как гром среди ясного неба. Сравнение затаскано, но именно так он и прозвучал. Так же неожиданно и так же сильно. Как видите, я запомнил его на всю жизнь. Если бы я был тогда человеком чести, он прозвучал бы как пощечина. Но я был не человеком чести, а мальчиком, читавшим пионерские газеты. И тогда он меня больше смутил, сбил с толку, чем потряс абсолютностью. Нечто подобное я мог слышать и дома, но ведь на моих родителях были «родимые пятна» капитализма, а тут это говорила молодая, блестящая, явно современная женщина, говорила убежденно и как само собой разумеющееся. А как же тогда все, чему меня учили? «Мы и враги», «свои» и «чужие», «общее» над «личным», «верность классу» и все прочее? Эта женщина явно «вела мещанские разговоры», явно не могла подняться над личным (а мне казалось, что это не только хорошо, а и просто), но, тем не менее, несимпатична мне не была. И я никогда и никому не рассказал об этом разговоре. Постарался забыть. Видимо, подвиг Павлика Морозова привлекал меня только теоретически.
А ведь тому, что это хорошо, учило все. В том числе и вся литература, не только пионерская. Помню чей-то рассказ о Гражданской войне. Один молодой коммунист интеллигентного происхождения выдает ЧК приятеля своих родителей, которого те прятали в своем доме. И помню, как иронично воспринимает герой трагическое (по мнению рассказчика — трагикомическое) недоумение своих родителей: «Как? Ты мог донести? Ты доносчик?» Как же! Ведь герой как раз сейчас получает «пролетарскую» закалку, избавляется от мелкобуржуазной интеллигентской мягкотелости. Наоборот, он чувствовал бы себя предателем, если бы сокрыл это от своих новых товарищей. Мысль о том, что тайна эта была ему известна только потому, что ему ее доверили как своему, просто для него не существовала. А ведь открыто, сознательно, по убеждению порвавший с революционерами и перешедший на сторону правительства народоволец Лев Тихомиров в письме, в котором он каялся и просил о прощении, тем не менее, предупреждал адресата, что никаких доверенных ему бывшими товарищами тайн, при всем отвращении к ним, он не выдаст, и именно потому что ему их доверили. Это могло поставить под сомнение его искренность и затруднить его положение, но иначе он не мог. У героя же этого рассказа вместо личной совести была классовая, точней партийная. Как же тут Сталину было не развернуться?
Это уже в «Литературной газете» 70—80-х годов, когда ею руководил один из самых непорядочных, людей нашей эпохи Александр Борисович Чаковский, на каждом шагу можно было встретить слово «порядочность». Иногда его употребляли порядочные люди в честных целях, иногда слово «порядочность», придавая ему противоположный смысл, использовали — призывали к ней — брежневские гэбэшники. Но авторитет этого понятия уже признавался всеми. В 1930-х же это слово воспринималось как наследие «проклятого прошлого» Другое дело — «беззаветная преданность делу революции и непримиримость к ее врагам» — это я понимал. Я потом — конечно, через много лет — не раз с благодарностью вспоминал этот разговор. Думаю, что и без этой ее фразы я бы все равно не стал ни подлецом, ни доносчиком.
Могут сказать — но ведь эта женщина еще недавно была женой видного члена партии, то есть сама принадлежала к той среде, которая собственно и научила меня говорить глупости, вызвавшие ее отповедь. Помнила ли она об этом, когда ее произносила? Сказала бы она мне эти свои слова годом раньше? Я не хочу об этом думать. Может быть, и думала, может, и сказала бы: в конце концов видным членом партии была не она, а ее муж, а она могла и не придерживаться партийной морали. Да и есть такая вещь, как покаяние — когда человек, которого оболгали и обидели, не только огорчается за себя, а начинает понимать, что и сам он лгал и обижал других. Может, это и произошло с ней? И даже с ее мужем? Что я вообще знаю о них?
Но что б у нее ни было раньше, как бы сама ни заблуждалась, в чем бы ни была виновата — все равно я ей благодарен. Все-таки именно она в этот сложный для себя момент впервые продемонстрировала передо мной нормальное отношение к вещам, величие человеческого достоинства. Даже если восстановление этой истины далось ей самой только в результате превратностей ее собственной судьбы, все равно это тогда было подвигом. В дни, когда со всех трибун и полос прославлялся «бесстрашный» сибирский пионер Павлик Морозов, донесший на родного отца, ее слова шли вразрез со всем, что внушалось, и произнести их было непросто. Могут сказать: подумаешь, подвиг! — каждый, кого «сбрасывают с раската», становится защитником порядочности и справедливости. На основании невеселого нашего опыта я могу твердо на это ответить: нет, не каждый. Ох, не каждый…
Кстати, интересно и то, в каком именно преступлении был, согласно внушаемой легенде (истинность ее под сомнением, но внушали именно ее), с помощью Павлика Морозова изобличен его отец. В самом страшном. Будучи председателем сельсовета, он помогал контрреволюционерам «заметать следы». Каким именно? Газеты об этом писали вполне откровенно. Речь шла не о политических деятелях, не о террористах, не о диверсантах или шпионах, а о крестьянах, сосланных в эти места в качестве кулаков и подкулачников. Отец «юного героя», председатель сельсовета, выдавал им фальшивые справки, позволявшие им, как якобы местным жителям, покинуть место ссылки и, к слову сказать, влиться в социалистическое строительство. Вероятно, отец большей частью оказывал эти услуги людям за соответствующую мзду, но в такие времена взяточник фигура гораздо более моральная, чем моралист, свято соблюдающий бесчеловечные правила. Тем более, что взятка здесь — плата за риск. И немалый…
К сожалению, у «юного героя» нашлись последователи, о чем всегда сообщала «Пионерская правда», стоявшая во главе этого «движения». Одну из его последовательниц газета отыскала и в нашей школе. Звали ее Таня Бойко. Приятель познакомил меня с ней. Оказалась она симпатичной живой девочкой из параллельного украинского класса. Дело было еще в 95-й украинской школе, и мы оба были третьеклассниками (т. е. десятилетними). Связан был ее подвиг с широко тогда известной, воспеваемой в стихах и прозе (в том числе и в поэме позднее расстрелянного Бориса Корнилова) «трипольской трагедией» или гибелью «героев Триполья». У этого события есть две истории. История самого события и история его освещения.
Начну с события, как оно видится из сегодняшнего дня, т. е. без революционно-романтического флера, которым оно было окутано во времена моего детства и отрочества. Летом 1920 года под Киевом вспыхнуло большое крестьянское («кулацкое», как его актуально обзывали газеты в начале тридцатых) восстание, руководимое атаманом Зеленым (или Зэлэным) с центром в селе Триполье, расположенном на правом берегу Днепра, километрах в 30–40 южней Киева. Настоящих воинских частей для немедленного подавления восстания в городе не было, и из местных комсомольцев был сформирован особый полк. Полк отбросил восставших от Киева, куда они уже подобрались, и на второй или третий день вошел в Триполье. Крестьяне, среди которых было много фронтовиков, применили военную хитрость. Они спрятались вместе с семьями в погреба и другие укромные места, так что село выглядело пустым. А ночью, когда полк, расположившийся в центре села на площади у церкви, заснул, вылезли из укрытий и уничтожили незадачливых карателей-идеалистов. Спаслось только шесть или семь человек.
Убивали комсомольцев картинно. Связав руки, сбрасывали в Днепр с высокого обрыва и расстреливали из пулемета. Хорошего в этом мало, как во всякой жестокости. Но ведь и идеалисты приходили к мужикам не с Евангелием, а с оружием, чтоб заставить их покориться и сдавать продразверстку во имя нужной идеалистам, но никак не мужикам мировой революции. Так что ожесточение мужиков понятно.
Конечно, дело этим кончиться не могло. Против повстанцев послан был из Киева пароход с другими карателями, но мужики его потопили первым же выстрелом из орудия (вероятно, отнятого у идеалистов). Но плетью обуха не перешибешь. Подошедшими войсками повстанцы были частью рассеяны, частью уничтожены, а в дальнейшем опозорены. Само же событие в большевистском освещении, но с сохранением канвы было, так сказать, «вписано в книгу героических деяний комсомола».
Правда, потом с канонической легендой происходили удивительные метаморфозы. Я два раза ездил на экскурсию в Триполье (там был до войны открыт музей, как теперь сказали бы, мемориал — в честь этого события) и каждый раз слышал разные версии о составе участников. Во второй раз, после 1937 года, «в духе времени» все семь уцелевших оказались самозванцами, командир полка — предателем, все остальное — в том же духе, но само событие оставалось нетленным. А после войны эту трагедию просто отменили и мемориал не открыли вовсе… Классик советской литературы и государственный деятель А. Е. Корнейчук объяснял это моим знакомым приблизительно так:
«Большинство погибших в Триполье — евреи (что естественно, раз отряд формировался на еврейском Подоле. — Н. К.), в то время как большинство погибших на Украине за советскую власть — украинцы. Только погибли они не здесь, а в других местах. Поэтому мемориал в честь этой трагедии нарушал бы справедливость».
Объяснение смешное, но выводы меня устраивают. Мемориал в честь трипольской трагедии открывать не надо, грешно. А если открывать, то действительно в честь украинцев, но не украинских комсомольцев, погибших в других местах, а украинских крестьян, защищавших себя от любых комсомольцев и разбитых армейскими частями. Их трагедией это и было.
Но в дни, когда Таня Бойко совершала свой «подвиг», обстановка была такова, что никакому Корнейчуку в голову бы не пришло ни вообще вылезать с такими обоснованиями, ни просто ставить под сомнение «героев Триполья». Все вокруг пело им осанну: радио, газеты, киножурналы и школа.
А дядья Тани Бойко, выпивая с друзьями, хвастали тем, что это именно они учинили расправу над этими героями. Они были родом из Триполья. И о советской власти дядья тоже выражались вполне неласково (дело ведь было после коллективизации и голода). Доставалось от них за рюмкой и евреям, с которыми у них ассоциировалась эта власть (а у Тани в школе были друзья-евреи). Мудрости в их филиппиках, возможно, и впрямь было меньше, чем озлобления, но кое-что из личного опыта они бы могли привести в подтверждение своих слов. А они ведь были не философами, а только крестьянами, согнанными с земли. Все это стало известно только потому, что об этом ТАМ, ГДЕ НАДО (как названо это учреждение в романе В. Войновича), рассказала сама Таня.
Почему она это сделала? Я читал, что дядья ее плохо с ней обращались, напившись, били, заставляли много делать по дому. Но, с другой стороны, они как-никак, пригрели сироту, содержали как могли. И, судя по всему, обращались не плохо, а как вообще с девочкой в крестьянских семьях. Кстати, как и с кем она жила, «разоблачив», то есть погубив дядьев, я не знаю. Повторяю, она вовсе не выглядела несчастной, когда я с ней познакомился, подколодной змеей она тоже не выглядела.
Думаю, что дело или не в этом, или не только в этом, а еще и в том, что я раньше назвал противостоянием школы и двора. Дядья в этом смысле, естественно, выступают в роли двора. А Таня ходила в школу. Вероятно, обстановка в доме была действительно не особенно радостной и светлой. Как могла она быть иной, если хозяевам надо было скрывать свою биографию и сущность, скрывать как позор то, чем гордились? А в школе было сравнительно празднично и нарядно, никто не пил и не ругал ее. К тому же в школе перед ней открывались широкие горизонты и перспективы. И «герои Триполья», которых дядья ненавидели такой безысходной и бессильной ненавистью, составляли органическую часть этого манящего, праздничного мира. В школе их чтили. Так что и они оказались на светлом школьном берегу — не там, где дядья. Они погибли, но были для нее там, где свет и сила, а дядья — там, где мрак и бессилие. Расправа над героями, водка и грубость сплелись для нее в один отталкивающий образ. Мысль о том, что выглядевшие в ее глазах так дядья могут быть в чем-то и правы, просто показалась бы ей тогда несуразной. Они не выглядели правыми. Надо было — нас всех учили, что это обязательно — сделать выбор, с кем она. Для нее это был выбор между светом и мраком. И Таня его сделала, как ее учили.
В сущности, такой выбор стоял тогда перед всеми нами и такое предательство совершали тогда все мы — выбирали свет ценой забвения тех, кому была навязана роль представителей тьмы. И никто не понимал, что потом можно так же предать забвению нас самих, когда роль представителей тьмы на тех же основаниях начнут навязывать нам. Под словом «мы» я разумею кого угодно.
Это легенда, что молодежь — та, которая тянется к осмысленной и интересной жизни, а в Тане школа эту тягу, безусловно, пробудила, — всегда настроена бунтовщически и непримиримо. Это бывает только тогда, когда, в худшем случае, ведет к временным неприятностям, иногда даже к мгновенной героической гибели, но не к прочному отстранению от жизни. Молодежь вообще интересует не столько правота, сколько само обаяние жизни, которое проигравшая, задавленная правота часто теряет. Именно поэтому она часто переходит на сторону победившего тоталитаризма и в жажде принять его слепую и тупую силу за творческую занимает в нем порой крайние позиции. Это не то же, что сервилизм. При Сталине за защиту этой крайности платились головой, но отрекались не всегда. Сталинский тоталитаризм любил менять личины, но не любил, чтоб его ловили на этом, а они — ловили. Но когда они выбирали этот путь, они выбрали то, что утвердилось в жизни, а не то, что заведомо задыхалось; участие в игре, которая еще может вестись — пусть даже и с невыигрышной позиции, — а не в той, которая как бы исчерпала себя. И это естественно. Молодежь хочет жить и отталкивается от всего, за чем не чувствует жизни. Ей трудно поверить, что истина и правота не там, где жизнь. Таню тоже этим заразили. В ее представлении тоже, как и у многих других, грамота и свет стали неотрывны от людоедства.
Конечно, таких страшных стрессов, как у Тани, у большинства, в том числе и у меня, не было, ибо не было и такой ситуации. Я был таким же учеником младших классов, как и все вокруг. Может быть, только был менее ловок физически и поэтому выглядел нелепей большинства. И внутренние претензии мои были большими. Впрочем, откуда мне знать, какие были у других, если, в чем именно состояли мои, я знал весьма приблизительно. Действительно, в чем? После конфуза с плагиатом (о нем никто не узнал, но я-то помнил!) на «литературу» я больше не претендовал. Донимала романтика — хотелось быть профессиональным революционером, этаким Че Геварой. Везде ездить и везде кого-то от чего-то освобождать. Получалось благородно и интересно. Это хорошо компенсировало меня за все мои нелепости и неловкости. Дескать, погодите, узнаете!
Я понимаю, что лью воду на мельницу того московского «просвещенного антисемита», интервью с которым (при отповеди А. Синявского) было опубликовано когда-то «Синтаксисом». Я как бы иллюстрирую собой то его положение, что евреи стали рваться в литературу после того, как их вытеснили из политики. Но на самом деле тот романтический бред, который меня занимал, может быть назван политикой только с очень большой натяжкой. Скорее в политике для меня сублимировалось то, что должно было вести к поэзии. Впрочем в тридцатые годы это можно было отнести не только ко мне или даже ко всей советской культуре, а и к мировой. Но об этом потом. Речь пока идет о временах, когда я еще вряд ли знаю, что есть проблемы культуры. Больше всего меня все-таки занимает революционная романтика, и я жду не дождусь, когда меня примут в пионеры.
Помню, как я был оскорблен, когда поначалу меня не включили в первую группу учеников нашего класса, принимаемую в эту организацию. В нее включили только отличников. Мое же положение в классе было всегда странно-межеумочным — я помещался где-то между отличниками и кое-как учившимися. Да и поведение в классе у меня сильно «хромало», хотя опять-таки к хулиганскому крылу я не примыкал. И помню, как я был счастлив, когда меня все же включили в эту патрицианскую группу. Ибо идейность моя была уважена, справедливость восстановлена и тщеславие мое, в котором я себе не признавался, тоже компенсировано. Впрочем, вскоре в пионеры приняли и всех остальных. Наш класс, как и все другие в стране, автоматически стал пионерским отрядом.
Принимали нас на партийном собрании одного из цехов завода «Червоный двигун» («Красный двигатель») — тогда еще почти все окрашивали именно в красное. Завод этот — кстати, тот самый, на который устроился Ваня, — был шефом 95-й школы, где мы тогда еще учились, и расположен был на Жилянской как раз напротив. Другим концом заводской двор выходил на Совскую. Все в двух шагах от моего дома.
Выстроившись на сцене, мы звонкими голосами продекламировали текст «торжественного обещания» — еще досталинского, выдержанного в революционно-интернационалистических тонах. Мы обещали отдавать все силы борьбе за освобождение рабочего класса всего мира — не меньше. После чего наша вожатая, студент-филолог Галя Калиниченко, повязала нам заранее купленные каждым для себя пионерские галстуки, и нас проводили бурными, хотя и снисходительными аплодисментами. Домой мы вернулись пионерами. Мечта нескольких предыдущих лет исполнилась.
Но на самом деле вступил я уже не в ту организацию, о которой читал и мечтал. Я оставляю в стороне то, что не нашел в этой организации тех идеальных пионеров, о которых читал в пионерских газетах, журналах и даже книгах — вряд ли они и раньше существовали. Я говорю о самом характере этой идеальности, о ее, так сказать, направленности. Из этой направленности был тихо, на ходу, удален революционный дух, к которому я тогда тяготел, и заменен межеумочной абракадаброй. От прежней оставался пока еще только текст «торжественного обещания», но и тот через год или два был приведен в соответствие с наступившими временами. Клялись, в основном, хорошо учиться (хорошо учиться требовалось и в гимназии — при чем тут красный галстук?) и быть верным некоему делу Ленина-Сталина (которое тем и хорошо, что оно дело Ленина-Сталина). Практически клялись в верности начальству. Верность ложной античеловеческой идее классовой борьбы была на ходу подменена верностью не менее античеловеческой бессмысленной безыдейной борьбе неизвестно за что.
Так входил и захватывал жизнь бессмысленный дух сталинщины. Ее элементы проникали в жизнь как бы незаметно, как бы случайно, исподволь. Просто одни понятия или даже цели на ходу с шулерской наглостью, словно ничего не происходит, подменялись другими (как одни люди другими, а потом иногда третьими), так что могло поначалу показаться, что ты ослышался или допущена опечатка. Но не успевал ты опамятоваться, как видел, что эта «опечатка», приведя за собой массу соответствующих, уже получила все права гражданства и уже почти всеми вокруг воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Только вот от этого «разуметь» что-нибудь люди постепенно перестают, но это от них как будто как раз и требуется. Неполноценными себя чувствовали те, кто не мог перестать помнить и думать.
Конечно, дело не в моих тогдашних скорбях об утрате пионерской организацией революционного духа. Мне давно ни к чему и этот дух, и сама идея создания из детей политической организации. Это нелепость, но она — составная часть другой нелепости, более общей — большевизма, его бури и натиска, его штурма небес и его святая святых — мировой революции. Конечно, нелепы групповые и массовые политические клятвы в десять лет, но идея допускать к этим клятвам в зависимости от академических успехов — вообще бессмыслица. Такая же, как выбирать в Верховный Совет за производственные показатели.
Нет, дело не в моих романтических скорбях. Конечно, в школе надо учиться, а не бороться за мировую революцию (даже если б она была делом стоящим). Я ничуть не скорблю о том, что обязанностью школьников снова стало учиться, а не заседать в общественных организациях, как в двадцатые годы (хотя в детстве думал иначе). Но все это было связано с системой противоестественных ценностей, которая одна только — хотя бы субъективно — оправдывала эту противоестественную власть. Отказавшись от этой системы ценностей, но не отказавшись от порожденной ею системы власти (наоборот, усугубив и ожесточив ее), государство погружалось и погружало весь народ в прострацию.
Конечно, я в детстве так не формулировал. Но что-то чувствовал, какое-то несоответствие, дискомфорт. Долгое время мне казалось, что это происходит со мной одним. Но потом по некоторым реакциям понял, что неуютно в этой прострации чувствуют себя почти все. Во всяком случае люди близкого мне возраста. Именно поэтому ностальгия по идеологии и романтике мировой революции стала символом веры и основой духовности нескольких поколений. Это была ностальгия по смыслу и оправданию происходящего. Проявлялось это по-разному: и в убеждении, что Сталин эти идеалы предал, и в вере в то, что он более сложными и менее приятными путями («приятность» согласно большевистской традиции полагалось презирать) ведет к той же цели. У меня бывало и то, и другое. Но — позже. И каждый раз упоминание об этих материях волновало. Ранние стихи Симонова волновали именно этим. Он умел использовать государственный антифашизм для протаскивания прежней «идейности» и публике нравился.
Из всего сказанного, из того, что запомнилось, вовсе не стоит делать вывод, что в 9—11 лет я был настроен как-то особенно оппозиционно.
Нет, я был обыкновенным советским школьником, верящим, что живу в самой счастливой и справедливой стране, что партия заботится о всеобщим благе и служит высоким целям. А то, что меня иногда царапало, я старался заглушить как голос собственной недостаточности. Но иногда действительность ставила меня в тупик.
Например, однажды, году в 1933—1934-м, в конце коллективизации, в киевской украинской газете «Пролетарська правда» я вдруг наткнулся на материал под приблизительно таким странным заголовком (даю в переводе): «Уничтожить кулацкие колхозы!» Я оторопел — не мог понять, что это значит. Если колхоз «социалистическим путем» разбогател, почему ж надо его называть кулацким и уничтожать? Разве не к тому «мы» стремимся, чтоб они все разбогатели? Вопрос так и остался без ответа. Не забылся, а отошел на дно сознания. Вспомнил я этот заголовок в 1961 году в Сибири, когда один настроенный вполне ортодоксально бывший коллективизатор рассказал мне свою историю.
Увидел я его впервые (он был тогда председателем сельсовета) на заседании дирекции совхоза «Северный» Северо-Казахстанской области. Вопросы там обсуждались исключительно практические и неотложные. Но вдруг поднялся пожилой человек в ватнике и с бельмом на глазу (это был он) и произнес громовую речь, предупреждавшую присутствующих о кознях классового врага. Все это было ни к селу, ни к городу, звучало странным анахронизмом, но присутствующие, люди очень занятые и деловые, не раздражались, а просто спокойно ждали, когда он кончит, привычно относясь к этому как к неизбежной ритуальной задержке, вызванной давно известной им слабостью уважаемого человека. А, дождавшись, продолжали обсуждать свои дела так, как будто его речи вообще не было. Его явно уважали, хотя я и не понимал почему. Косноязычный и многословный, он мне симпатии не внушал. Я представлял, что мог такой вытворять в те дни, когда эта его терминология не была анахронизмом. И, наверно, вытворял.
Отношение мое изменилось на следующий день. Я, кроме всего прочего, интересовался и прошлым тамошних мест. Неожиданно выяснилось, что в деревне нет почти ни одного старожила, а те, кого я вижу, народ пришлый — почти все приехали недавно по случаю «поднятия целины» (которую там подняли, наверно, еще при Екатерине, да вот приходилось вторично).
И тогда мне посоветовали зайти к нему в сельсовет. Я удивился, но советовавшие говорили вполне серьезно. Но тут возникало еще одно препятствие — в понедельник утром я уезжал, а разговор происходил в воскресенье.
— Воскресенье? — переспросили меня. — Да он этого не признает! Идите смело. Там он.
Чувствовалось, что здесь гордились таким диковинным председателем. Должен сказать, что это «не признает» сразило и меня. Стало ясно, что я чуть не упустил шанс познакомиться с реликтом минувшей эпохи. И я пошел смело. И он действительно был там. Правда, собирался уже уходить на обед, но из-за меня снова отпер сельсовет и вернулся. И я до сих пор благодарен ему за это.
Он действительно был реликтом. Прежде всего он действительно был идеалистом, которых много ведь было и в народе. Он действительно считал своим долгом отдавать все свои силы обществу и отдавал. Другое дело, всегда ли это шло обществу на пользу, но он ведь верил тем, кто пробудил его к сознательной жизни. У его большевистской ориентации была и личная подоплека — у него на глазах, когда ему было лет девять, колчаковцы расстреляли его отца. Я не знаю, за что, но на его глазах. Согласитесь, факт запоминающийся. После этого все его пути были только с советской властью. Он был одним из первых комсомольцев, горячим сторонником коллективизации — как пути к новой счастливой и чистой жизни. В каком-то смысле он таким оставался и поныне.
Но то, что мне рассказал этот горячий сторонник советского строя, отнюдь не желавший его очернять, не мог бы выдумать и злейший его враг. Фантазии бы не хватило. Ибо рассказанная им история, действительно, совершенно уникальна. А может, их было и не так мало, но просто хорошо позаботились, чтоб сама память о них развеялась в прах. Ведь вот и об этой я узнал совершенно случайно. А опоздай я минуты на три, не узнал бы и я. А значит, и вы. А значит — никто. Журналисты в те места тогда только за производственными показателями ездили. А местных жителей, повторяю, почти не осталось.
Начиналось как у всех. В период коллективизации к ним прислали в председатели по партмобилизации ростовского (ближе не нашли) рабочего, тридцатитысячника, по фамилии то ли Перх, то ли Берх, а скорее всего (мое предположение) Берг. Человек он, по словам рассказчика, был хороший, честный коммунист, одна беда — в сельском хозяйстве ничего не понимал. Из-за этого над ним местные подкулачники очень издевались. Доходило до того, что лошадь ему запрягали железами к телу. И она сразу кожу до крови натирала. Так или иначе — с этим хорошим коммунистом они быстро дошли до ручки, загубили почти весь скот и поголовье лошадей. Через год этого Перха, Берха или Берга, к великой его радости, от работы освободили и разрешили вернуться в свой Ростов. А к ним прислали другого партмобилизованного, ленинградского рабочего, который по счастливой случайности оказался родом из деревни. И, видимо, обладал организаторским даром. И тут, собственно, и началось уникальное. С этим председателем они ожили. Разбогатели. Построили к 1935 году неимоверное количество мельниц, крупорушек, мастерских и т. д. Стали настоящей рекламой социализма.
Но оказалось, что социализм в такой рекламе не нуждается. Колхозу было предложено «раскулачиться» — немедленно сдать все, что нажили и построили. Собралось партбюро и, обсудив, приняло единственно естественное, а в наших условиях совершенно невероятное, решение: ответить отказом. Так и поступили. В ответ им поставили ультиматум, по истечении которого обещали отобрать все силой. Тогда партбюро превратилось в военный штаб и стало готовить круговую оборону. По кузницам и прочим мастерским распределили военные заказы — в срочном порядке готовить пики и другое оружие, что удастся. Кроме того, организованно укреплялись подступы к деревне. Короче, под руководством правления колхоза, комячейки и питерского пролетария, председателя-тридцатитысячника, колхоз подготовил и занял правильную круговую оборону. Подошедшие войска приступили к штурму мужицкой крепости. Крестьяне, руководимые коммунистами, отчаянно сопротивлялись. Но, как говорится, силы были слишком неравны. Противник бросил в бой не то танки, не то бронемашины, не то кавалерию, и героическое сопротивление крестьян было сломлено. Процветающий колхоз, краса и гордость социалистической сознательности, был стерт с лица земли. Крестьяне были рассеяны, а колхозное имущество, которое вроде хотели забрать, погибло. Важно было не овладеть им, а отобрать его. В когда-то густонаселенной деревне остались всего две семьи. Не сохранилось даже памяти.
Мой собеседник был одним из активнейших участников как коллективизации в их деревне (думаю, что тем, кого он честит «кулаками» и «подкулачниками», крепко от него досталось), так и этой беспрецедентной обороны социалистического хозяйства от социалистического государства.
Не знаю, что сталось с питерцем, не думаю, чтоб ему простили «измену» (хотя изменил не он, а ему изменили), но у меня вообще создалось впечатление, что никого не ловили. Просто разорили и разогнали. Если мой собеседник и не миновал лагерей, то посадили его не за это и не тогда. Но, кажется, совсем не посадили. Не знаю, отнимали ли у него партбилет или вернули после реабилитации.
Некоторый свет на смысл этой кампании по ликвидации «кулацких колхозов» пролил Лев Копелев в своей книге «Не сотвори себе кумира». Это были, оказывается, колхозы, созданные действительными энтузиастами колхозного строя, часто до коллективизации и на основе добровольности. Сибирский колхоз с хозяйственным ленинградцем во главе относился к этой же категории. Копелев дал и объяснение этой «политике». Созданные энтузиастами и обязанные своим процветанием самим себе, независимые колхозы устраивали Сталина так же мало, как и независимые крестьяне. Ему нужны были крестьяне только сломленные, всецело зависимые, все и себя самих потерявшие, благодарные, что хотя бы позволили жить. Это очень удобно для ничего и никого не представляющей нелегальной власти. Это и есть «сталинщина».
Кстати, неожиданное применение термина «кулацкий» я встретил потом и в учебниках географии. Сельское хозяйство досоветских Литвы, Латвии и Эстонии базировалось, по их словам, на кулацких хуторах, а Дании и Голландии — на кулацких кооперативах. Потом я понял, что это значит: кулацким называется любая форма крестьянского хозяйства, существующая, а тем более, процветающая без «нас», т. е. без партократии. Это не очень устраивало и зарубежных коммунистов, а уж Сталина — и говорить нечего. Многие этой нелогичности не замечали — не до того было! — но меня это царапало. Все-таки нет более унизительного насилия, чем насилие над логикой и здравым смыслом, ибо людей принуждают проделывать эту операцию над самими собой. И надо быть абсолютно бесчувственным, чтоб не ощущать этого унижения. Я его ощущал, хоть и не сознавал это.
Впрочем, были у меня в детстве потрясения и другого рода, где выявлялись другие чувства. Когда я переходил в четвертый класс и в новую школу, я узнал, что наши родственники (близкие, правда, больше территориально) получили разрешение выехать в Палестину. Было это в 1936 году. Группа верующих евреев обратилась к «всесоюзному старосте» М. И. Калинину с просьбой отпустить их по религиозным соображениям. Кстати, глава этой родственной семьи был раввином, но, как мне кажется, зарабатывал он тогда как-то иначе. Калинин прочел им нотацию в том смысле, что они пожалеют об этом решении, но — отпустил. Не знаю, что послужило причиной такой либеральности. То ли внешнеполитические соображения, то ли тогда еще выезд за границу не приобрел такого сакрального характера, как потом, и Калинин имел право самостоятельно принимать такие решения, — не знаю. Однако разрешил.
Представляете, какое это впечатление должно было произвести на мальчика, читавшего и мечтавшего о морских путешествиях. Ведь сначала они должны были ехать в Одессу, где я никогда еще не бывал и которая всегда волновало мое воображение тем, что там — море. А для них — это только начало. Там они сядут на настоящий морской пароход и несколько дней будут плыть на нем в какую-то экзотическую страну. Было от чего кружиться голове. Тем более что все это должно было произойти и с моей ровесницей (младше меня на год и на класс, но учившейся со мной в одной школе) дочерью раввина Адей. Но на этом кончается все, чему я завидовал. Вернее, я ей вообще не завидовал, я ее жалел. Ведь она уезжала от «нас» в капиталистическую страну! Путешествия меня волновали, но уезжать я никуда ни за что не хотел. Таким я тогда был. Поразительно, как я не ощущал закрытости общества.
Потом пришло письмо. Семья эта в Палестине не задержалась (была она явно не пионерского типа, да и вряд ли там было тогда много людей, нуждавшихся в услугах раввина) и переехала в Америку. Потом я вообще потерял ее из виду. И приехав в 1974 году в Америку, я ее не разыскивал. Телефон Ади я получил случайно лет через восемь после приезда.
Ответил мне добрый женский голос. Нет, она меня совсем не помнит. Русский язык тоже почти забыла (а была отличницей, доучилась до третьего класса). Меня это несколько удивило. Мы жили рядом (они — на Жилянской, сразу за 95-й школой), бывали у нас (у папиного брата, раввина) довольно часто. Конечно, я с ней не дружил (девчонка, да еще маленькая), но все же мы знали друг друга хорошо. И вот — совсем не помнит.
Нет, это не было с ее стороны стремлением отгородиться от участия в судьбе новоприбывшего родственника, которому полагается помогать. Во-первых, к тому времени я уже давно не был новоприбывшим, во-вторых, она пригласила меня в гости — сразу после наступавших тогда больших еврейских праздников, во время которых они все будут очень заняты. И приглашение это было вполне искренним и дружественным. И вообще чувствовалось, что человек она хороший и добрый. Рассказала мне о детях и внуках — все нормально, все по-человечески. И уж, конечно, все благополучно.
Нет, у меня уже давно нет романтического презрения к благополучию. А в ее устах оно не выглядело ни пошлым, ни самодовольным. Желаю его всем, в том числе и самому себе, и рад за всех, кто его достиг, в том числе и за нее.
Но все-таки, говоря с ней, я вспомнил свое детское восприятие ее отъезда. И вот после того, как потерпело крушение все, исходя из чего я ее жалел, а сам я как бы последовал за ней в преклонном возрасте, и ждет меня неопределенная и отнюдь не безоблачная старость — после всего этого и зная все это, я все-таки почувствовал, что мое восприятие ее отъезда — пусть по другим причинам — остается все тем же. Я вспоминаю ее измученных сверстниц, выехавших и невыехавших, для которых каждое платье было (а для оставшегося большинства и остается) событием, которым многое открылось в жизни (хотя бы всерьез — что почем), а некоторым — сквозь все это — и подлинный смысл культуры и подлинная радость искусства. Я вспоминаю их и начинаю чувствовать ее несколько обделенной. Поэтому мне и становится ее немного жаль. Показалось мне, что она (не она, а за нее) сменяла Россию даже не на Америку, а на Бруклин. И дело было даже не в том, что она уехала из России, а в том, что жила так, что могла ее начисто забыть.
Все это достаточно глупо с моей стороны. Да и вообще я впадаю тут в романтическую гордыню, в демонизм, в снобизм. Разве так уж мало стать просто хорошим и добрым человеком, матерью большого семейства? Ведь сам я знаю, что горячка массового самоутверждения, охватившая мир, ни к чему хорошему привести не может. Разве было бы лучше, если б этой горячкой заболела и она?
Нет, я так не думаю. И, конечно, никак ее не осуждаю и не стремлюсь возвыситься над ней. Просто я люблю то, что я люблю. Мне просто захотелось выразить свое восхищение и любовь поседевшим девочкам и ослепительным женщинам моего возраста, интеллектуалкам с авоськами, рыщущим сегодня по опустевшим магазинам Москвы, Ленинграда, Киева и других городов в поисках продуктов, новых книг и билетов на Рихтера и Окуджаву. Дай вам Бог все достать и все вынести. Вам это мало теперь поможет, но я вас помню, люблю и никогда не предам.
Да, я никак не ощущал закрытости общества, но все же Адин отъезд был неординарным событием моего детства. Неудивительно, что я ее запомнил лучше, чем она меня. Она уезжала в мир, в который я не стремился, но все же и мне недоступный. И это тоже придавало, вероятно, что-то этому событию. Больше вокруг меня никто за границу не уезжал. Тем не менее, с отъезжающими за границу я столкнулся еще раз, чуть позже и в другой обстановке. Но на их отъезде уже явственно лежала печать времени, верней, сталинской руки, наложенной на время. Как говорится, атмосфера тогда непрерывно сгущалась. Но это неверно — ее непрерывно и намеренно сгущал Сталин.
Мой дядя Арон с тетей Шифрой снимали на лето комнату в Святошине (тогда оно еще было дачной местностью) и взяли меня с собой. Люди, которые сдали нам квартиру, только что ее купили, и сами еще в ней не жили. В сарае же рядом с домом, когда мы въехали в квартиру, обитали еще прежние хозяева. К моему удивлению они оказались итальянцами и собирались в Италию. В сарае они жили в ожидании отъезда. Помню, как стоя у этого сарая, окрестности которого были усыпаны мраморной крошкой, курил свою трубку глава этой семьи, чуть уже седоватый, высокий, стройный мужчина, дружелюбный и вежливый, похожий на стандартное изображение итальянца в учебнике географии (когда я был в Италии, я таких там уже почти не видел — видно, тип изменился). Итальянец был мастером по мрамору, и сарай этот раньше служил ему мастерской. Помню, что у них был еще мальчик Фино, любимец всей округи, года на три старше меня. Остальных членов семьи не помню. Жили эти люди здесь несчетное количество лет, сильно обрусели, были своими. Все это время они были итальянскими гражданами, и никого это никогда не беспокоило. Но товарищ Сталин, превращая общество из просто закрытого в герметически закупоренное, такого безобразия перенести не мог, и им предложили на выбор — либо принять советское гражданство, либо выметаться. Они предпочли второе.
Во все глаза смотрел я на людей, добровольно уезжавших в фашистскую страну из страны социализма, и очень был смущен тем, что они мне не были неприятны. Сегодня, конечно, объяснять никому не надо, что бы с ними было, если б они поддались «пролетарскому интернационализму» и остались в СССР. Да самый этот факт был бы квалифицирован так: «добровольно остался в СССР с целью шпионажа в пользу Италии». Но тогда мне это еще видно не было.
Уезжали они через несколько дней после нашего переезда. Набежала вся округа, многие плакали, их любили: Приехала, естественно, и их старшая дочь со своим русским или украинским мужем, из-за которого она и оставалась. Что с ними было дальше — не знаю. Хотелось бы думать, что с ними ничего не случилось. Но на это мало шансов. Единственная надежда, что они были простыми людьми и о них могли и забыть. А так — ей прямая дорога в лагерь за шпионаж, а ему — за сообщничество и связь с собственной женой. А могли по отношению к ним обоим ничтоже сумняшеся обойтись и абстрактными и не требующими доказательств «буквенными» статьями «Контрреволюционная деятельность» (КРД) или — того интересней — ПШ — «подозрение в шпионаже» (все равно те же 10–15 лет лагеря). Это не юмор, не преувеличение, а печальная бытовая повседневность сталинщины.
Мы уже в ней жили. В этой связи мне вспоминается и та семья, которая купила квартиру у этих итальянцев и сдала ее на лето нам. Они явно не подходили под тип людей, сдававших в те времена дачные комнаты. Вида они были совсем не крестьянского, отца и матери у них не было, а главой семьи был у них старший брат Виктор. У него были младшие брат и сестра. У обоих были экзотические имена — Адольф (Дольчик) и Ванда. Они приехали то ли из Фастова, то ли из-под Фастова, и явно в спешном порядке. Жили пока у родственников. Виктор уже при нас устроился на близлежащий завод чертежником, а Дольчик и Ванда собирались в школу. Ванда была красавицей, будившей романтические чувства, с Дольчиком я хотел играть и разговаривать о книгах. Но приходили они довольно редко, и, хоть были они вполне дружелюбны, по-моему, старший брат не очень хотел, чтоб они приходили и, особенно, чтоб подолгу разговаривали с посторонними. Только он зря беспокоился — они и так никогда ничего о себе не рассказывали. Какая-то тайна окружала их всех. И она соблюдалась настолько отчетливо, что я ни разу даже не задал им вопроса об их родителях или прошлом, хотя вовсе не отличался тактичностью. Подозреваю, что их родители были какими-то крупными деятелями и что приехали они вовсе не из Фастова.
В принципе я и сам кое о чем догадывался. У них явно был кто-то арестован. Думаю, что родители их были то ли интеллигентными партийцами, то ли просто интеллигентами, но до этих пор явно не преследовавшимися режимом. Возможно, они были поляками, и это тогда очень «актуальное» происхождение (за него сидело много людей) тоже сыграло свою роль — не знаю. Знаю только, что они были, как потом говорилось, «незаконно репрессированы», а тогда — «арестованными, как враги народа». И все это, в общем, я знал уже и тогда. Знал и, хотя все еще — пусть подавляя внутреннее сопротивление — верил газетам, всем этим людям сочувствовал. И не только от личной симпатии, а еще и потому, что то, что овладевало жизнью и их губило, было тупым, механистическим, подавляющим и мне враждебным. Я это чувствовал, хоть и не хотел в этом себе сознаваться. Я им сочувствовал, хотя совсем не уверен в их сочувствии моему сочувствию. Принять его — значило принять противостояние, хоть мыслями я тогда и сам до него не дорос. Это противостояние было страшно тем, что отделяло от всего и всех даже больше, чем сам арест близкого человека. Мы уже жили в сталинской эпохе.
Детские игры
Меня всегда поражала спрессованность русской истории, XIX и XX веков. Ну, например, то, что Л. Н. Толстой жил при Пушкине, пережил народовольцев и Пятый год, дожил до кризиса символизма и умер за четыре года до Первой мировой войны и за семь лет до 1917-го. А прожил всего восемьдесят три года. Срок жизни солидный, но не уникальный: некоторые и подольше живут. Да и он мог бы, если бы не драматические события в семье, вызвавшие его «уход». Но так видится из нашего времени. Конечно, жившим тогда, между двумя войнами, Отечественной и Крымской, время это особенно компактным не казалось. Все-таки целых 38 лет!
Когда я начал сознательно воспринимать жизнь — как я уже говорил, это произошло году в 1932—1933-м — мир тоже был совсем иным, чем сейчас. Многого из того, что потом вошло в жизнь (а теперь в России рискует из нее выпасть из-за развала), еще не было. Но кое-что уже было. И многое из того, что появилось позже, было как бы задано тем, что уже было тогда. Авиация уже была, и давно, даже коммерческая, но в жизни она еще не ощущалась. Громадных лайнеров еще никто и не представлял. Летчики от нас были так же далеки, как наркомы. Постепенно переставали казаться небожителями шоферы, которых еще недавно называли почтительно механиками.
Помню, как, будучи по делам в Киеве, заезжал к нам наш черниговский свойственник, ИНЖЕНЕР (это тогда тоже звучало гордо) на легковом автомобиле с шофером. Не помню даже, катался ли я на нем хоть разок (если и катался, то недолго — свойственник всегда спешил), но я все равно был горд и счастлив. Подумать только — к НАМ, именно к НАМ, а не к кому-нибудь, приехал легковой автомобиль! Мальчишки вокруг мне завидовали. О том, чтоб иметь собственную машину, нелепо было даже мечтать. Правда, как я потом узнал, некоторые имели. Например, летчики-испытатели в Москве. Но, во-первых, мы об этом не знали, а, во-вторых, они тоже были высоко и далеко, выше, чем их поднимали их аэропланы. Читал я однажды (в детской книжке типа «Сделай сам») и о «геликоптерах» — русского названия «вертолеты» тогда еще не было. Были ли где-нибудь уже сами вертолеты — не знаю. Вероятно, где-то «работы уже велись» — и в Америке, и у нас. Но во Второй Мировой войне они не участвовали. Радио уже дошло и до Киева, отец собрал маленький детекторный приемник, а у знакомого парикмахера я видел даже ламповый. По нему можно было слушать даже заграницу. Я вовсе не нуждался тогда в иностранном вещании на русском языке (да и не было его еще в природе), но просто это поражало воображение. Как потом воображение деда, у которого я в ссылке в сибирской деревне снимал квартиру еще в 1950 году, поражало, когда из установленного нами репродуктора раздавалось: «Внимание! Говорит Москва». «Ишь ты, ети твою мать! — простодушно восхищался дед, — в Москве говорят, а здесь слышно!» Дед не был ни наивным, ни глупым человеком, просто у него до сих пор не было радио. А ведь это на самом деле удивительно — что в Москве говорят, а в Сибири слышно. Просто мы привыкли и перестали удивляться. Но и репродуктор появился у нас не сразу — только году в тридцать шестом. Впрочем, к началу войны не только репродукторов, но и радиоприемников было уже довольно много. В городах особенно…
О высвобождении и использовании атомной энергии уже говорили, но казалось, что это еще далеко, а, может, и несбыточно…. Но некоторые физики, как теперь всем известно, не только говорили, а и работали над ней. Не было еще и телевидения, даже в Америке. Но о такой возможности уже писали, она предполагалась. Так же, как и телемеханика — дистанционное (по радио) управление машинами и приборами. Использование полупроводников, которые транзисторами у нас еще не назывались, уже тоже стояло на повестке дня. Но как бы вытекающая из всей этой электроники (радио, телевидения, телемеханики и транзисторов), базирующаяся на ней кибернетика показалась бы еще глупой сказкой почти любому.
Это уже было делом другой эпохи — эпохи НТР, плодами которой мы уже пользуемся (например, компьютером, на котором я это пишу), но ощутить очертания и возможности созданного ею мира до сих пор еще не можем. Это теперь, а тогда при всей нашей вере в технику, науку и человеческий разум — и говорить нечего. Неудивительно, что Сталин при ее появлении не поверил даже в ее военное значение, которое всегда было для него решающим аргументом, и объявил ее лженаукой. Предыдущую эпоху Сталин — то с пользой для себя, то во вред — обманывал и подминал, как хотел — он знал ее язык. Но кибернетика была языком иной эпохи, за ней он просто не мог угнаться и попытался прикончить ее привычным образом — расстрелять сзади веером от пуза, как ему удалось расстрелять революционную эпоху, языком которой владел в совершенстве.
Но язык менялся не только в этом смысле. Понятия и представления тех дней сегодня иногда труднее представить, чем мир без радио и телевидения. Психологически с той поры, с которой связано пробуждение моего сознания и начало моей биографии, мы пережили несколько эпох.
Эта разница эпох создает для меня определенные трудности. Упоминавшийся расстрел революционной эпохи, произошедший на моих глазах более полувека назад, совпал по времени с моим отрочеством и надолго определил содержание моей жизни, мои симпатии и антипатии. Сегодня я вижу тогдашние события совсем не так, как тогда. Возникает опасность как инерции тогдашних представлений, так и неофитского отталкивания от них. Поэтому я и говорю, что когда судно этого повествования войдет в пролив, ведущий через 1937 год, дальше надо плыть очень осторожно. Рифы на этом пути подстерегают с двух сторон, и нельзя приставать ни к одному из берегов — ни к Сталину, ни к тем, кого он уничтожил. Они — вовсе не одно и то же, как сегодня хотелось бы некоторым, но разнятся между собой не как Добро и Зло и не как правые и виноватые, как хотелось бы другим. И как казалось мне в детстве. Но всю жизнь я прожил под властью тех, кто уничтожил или точнее заместил уничтоженных, а не тех, кого уничтожили или заместили. Временами это приводило к аберрациям в смысле чрезмерного сочувствия к уничтоженным и замещенным.
Но отталкивание от заместивших, точнее, от замещения, чрезмерным быть не могло. Дело не в людях, они были разные, но 1937 год, который их «выдвинул», — явление отвратительное. И сам по себе, и тем, что утвердил сталинщину. А она, что бы мы ни знали о тех замещенных, сама от себя наложила дополнительный страшный отпечаток на весь облик и дальнейшую историю страны, дополнительную тяжесть на жизнь людей.
Эпоха эта подбиралась к нам исподволь. Я уже говорил, как огорчала меня в детстве тихая подмена мировой революции странным «советским патриотизмом», в лучшем случае казенным антифашизмом, а романтика интернационализма дружбой народов СССР. Мыслители «Памяти» и им подобные могут увидеть в этом признании подтверждение своих взглядов — еврейское отчуждение от всего русского. Но это неправда. Когда во время войны легализовался русский патриотизм, я его принял, сумел ощутить сквозь казенщину, без которой у нас ничего не бывало. С каким бы расчетом его ни легализовали, он был реальностью, волновал, а что касается меня, то и обогащал. Правда, и я при этом как-то увязывал его с идеологией, которой он, строго говоря, противоречил. Но что поделаешь! В таких отношениях с логикой мы все тогда жили. Но этот «советский патриотизм» был не только ложью. Он был подделкой без образца, чем-то без вкуса, без цвета, без запаха, без идеи и без любви. Он исподволь отменял ложную систему ценностей и заменял ее идолом из папье-маше.
Многих может удивить то место, которое занял в наших душах и судьбе пронизанный романтикой революции и Гражданской войны роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Теперь мне иногда кажется, что он и создал эту романтику или воссоздал ее на новом этапе для нас, родившихся в двадцатых. Хоть это, может быть, и аберрация. Я прочел его рано, лет в одиннадцать.
Я давно далек от революционной романтики и давно не заглядывал в эту книгу. Слышал от многих, кому верю, что написана она наивно — особенно по языку — и художественной ценности не представляет. Наверное, в этом много правды. Конечно, книга эта не относится к выдающимся произведениям российской словесности. Высота, на которую она была поднята — призрачна и искусственна. Но и теперь я убежден, что и в литературном отношении этот роман стоит выше, чем многие мастеровитые книги позднейшего периода.
Прежде всего, чем «Молодая гвардия» куда более талантливого, культурного и литературного Александра Фадеева. Я сейчас не о том, что Фадеев там по легкомыслию и цинизму преступно оболгал невинных людей, потом тяжело и долго расплачивавшихся за это. Роман этот был бы плох и без этого. В сущности это не роман, а развернутый газетный очерк тех лет. Просто потому, что в нем есть событие, но нет личного авторского замысла, который это событие раскрывает. Поэтому все его герои — не образы, а функциональные схемы, мастерски раскрашенные живыми внешними и бытовыми чертами. Все как будто индивидуальны — один красивый, другой вспыльчивый, третий добрый, четвертый еще какой-нибудь — но существуют только функционально. Никого из них ни в какой другой ситуации представить нельзя, в отличие, допустим, от героев его же «Разгрома», остающихся характерами при всей навязчивой тенденциозности, даже перевернутости авторского их освещения.
Павел Корчагин, — безусловно, характер. Он не только совершает поступки, он — живет, его тоже можно представить в любой ситуации. К миру его ценностей, к его реакциям и поступкам, даже к его личной жизни можно по-разному относиться, но они реальны. Для многих из нас он раньше был воплощением идеала, теперь он воспринимался бы как воплощение трагичности — кем-то запутанная и во что-то запутавшаяся душа, отдавшая все силы и здоровье, вложившая свои лучшие качества и надежды, все свое стремление к Добру в то, что Добром не было.
Об этой трагедии с тех пор уже писали неоднократно на ином уровне самосознания и представления о литературе (например, Павел Нилин). И еще будут писать — лучше, законченнее, мудрее и трезвее. Но в сгущающейся духоте середины тридцатых, среди тотальной имитации, она, искренне утверждая исчезавшие уже миражи и прелесть отменяемой эпохи, настаивала на их присутствии в настоящем (то есть на присутствии в нем, а значит, необходимости какого-то смысла) и воспринималась поэтому как глоток свежего воздуха. Это тоже было миражом, но другого рода. Но этого, несмотря на все свои «прозрения», я тогда еще не знал и не понимал. Я заглатывал с удовольствием обе наживки — и обаяние революции, и то, что оно распространяется и на наше время. Но вторую — все равно не очень глубоко и уверенно.
Конечно, и этот роман, и его автор тоже были не вполне безупречны даже в той системе ценностей, которая их пронизывала. Некоторыми частностями они вполне соответствовали тому, что требовалось тогда от всех. Об одном из товарищей Павла узнается, что он примкнул к оппозиции, и именно его нам тут же показывают «морально разложившимся», то есть пьяницей, развратником и т. п. Да и вообще книга прославляла тех, кого в это время облыгивали и расстреливали, прославляла так, словно они по-прежнему у руля, создавала ложное представление преемственности и коммунистической легитимности сталинского режима, обманывала. Но это — в частностях. И все-таки за ней была некоторая историческая и человеческая реальность, реальность заблуждения. Но все же не всеобщее отвратительное, пустое и бездарное лицедейство.
А кем я тогда был сам? По причине возраста получилось так, что процессы тридцатых годов были первым преступлением Сталина, которое я воспринял сознательно. О процессах шахтинском, Промпартии, СВУ и других фальшивках против интеллигенции я ничего не знал — даже их официальные версии знал только понаслышке. Да и судили на них классово чуждых контрреволюционеров, с которыми, как меня учили, и полагалось бороться — их судьба меня не волновала. Коллективизацию я видел близко. Но впечатления от нее у меня были еще полумладенческими, отрывочными — вероятно, их безысходность располагала к тому, чтоб детское сознание на них не задерживалось. Потом и тут не было идеологического конфликта — «мы» всегда были против уродующей душу частной собственности, а борьба требует жертв. Не знаю, как бы я воспринял все это, будь я тогда чуть старше и имей друзей в деревне, но их не было. Все эти впечатления лежали без движения на дне сознания довольно долго. Я разделяю позор многих.
А тут судили революционеров за измену революции, а сама революция при этом оттеснялась ликующей песней о достигнутом счастье. Было от чего голове идти кругом. Поразительно то, что в это достигнутое счастье, в расцвет колхозов, я верил, только оно меня почему-то не удовлетворяло. Было каким-то самодовольным и скучным, куцым. Под стать ему была и тогдашняя «массовая» (то есть внушаемая массам) песня. Мне приходилось уже писать о той страшной роли, которую сыграли эти песни. Были среди них псевдореволюционные, псевдопатриотические, псевдолюбовные, были причудливо совместившие, перемешавшие в себе все эти элементы. Все они придавали реальность всему, что нам внушалось в замещение реальности, как бы создавали искусственную среду обитания, искусственную логику, историю, революцию и Россию. И тогда центром этого искусственного мира естественно оказывался Сталин. Песни эти вроде и не создавали этот мир — просто делали вид, что в глубине его рождались и из глубины его пелись, задыхаясь от счастья. Нельзя сказать, что я всегда тогда был столь зорок, как в этих строках, я тоже загорался и пел со всеми. Я даже хотел приобщиться к этому счастью. И временами приобщался. Но все равно, не мог преодолеть ощущение в нем чего-то механического и скучного.
Особенно меня раздражала Катюша. Может, именно тем, что она была о любви. В ней некая Катюша и некий боец на дальнем пограничье состоят в некой переписке, а умиленный автор лирически предлагает им следующий баланс отношений — пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, так за так. Ничего себе любовь, которую следует беречь, да еще на определенных условиях! Теперь я понимаю, что замыслил эту песню не Исаковский, а некто вроде ГлавПУРа — надо было внушить девушкам патриотический долг хранить верность солдатам. После войны понадобилось будить в солдатах ностальгию, дабы не перебегали к союзникам. Отсюда в тех же учреждениях и родились замыслы песен «Летят перелетные птицы» и «Хороша страна Болгария»: М. В. Исаковский выступает здесь больше как исполнитель, чем как автор. Я охотно верю, что ему лично никуда не хотелось улетать, но не верю, что ему вдруг захотелось об этом петь или даже говорить. Его ведь никто и не выталкивал в дальние страны. Да не подумают про меня, что я согласно нынешней моде взялся «разоблачать» Исаковского. Скорее всего, такие задания он воспринимал, как почетные (я бы тоже тогда так их воспринял). То, что он писал, не противоречило его мироощущению и не содержало подлости. Кроме того, у него есть и очень хорошие песни, некоторые из которых останутся навсегда. И вспомнил я об этом только в связи с «Катюшей», с тем образом любви, который она внушала.
Я тогда еще не мог понимать, что именно такая любовь только и могла быть у выдуманного положительного героя великой сталинской эпохи! Она была под стать всем остальным обстоятельствам его искусственного схематического бытия, под стать всей остальной его безоблачно-счастливой, но без цвета, вкуса и запаха — жизни. В безоблачность этого счастья я на первых порах (лет в 11–13) верил, но не воспринимал такое «счастье» как достойное воспевания.
Впрочем, у меня бывали сомнения и в самом этом «счастье». Детское смешивалось в моем сознании с недетским. Помню, в книжке Голубевой «Мальчик из Уржума» (о детских годах Кирова) пожилой рабочий, рассуждая о тогдашнем (т. е. дореволюционном) социальном неравенстве, возмущался тем, что «у них» и бани свои, дворянские, и ложи в театре, и т. п. И когда на следующий день я читал в газете, что «в правительственной ложе появились товарищи…», это меня обескураживало. Официальное сообщение явно противоречило официально же внушенной мне идее равенства. Той идее, стремление к которой было одним из объяснений необходимости Октября и советской власти. Я не поставил под сомнение эту идею, но заподозрил измену. Я уже знал из своих книжек, что во всякой революции находились люди, присваивавшие себе ее завоевания, свергавшие ее с высоты. «Выходит, и у нас так, — думал я сокрушенно, — а ведь наша революция изначально была нацелена против такого оппортунистического исхода».
В религиозные Средние века любая оппозиция неизбежно мыслилась как религиозная, и иногда от безвыходности она становилась крайней. Нечто подобное происходит — особенно с молодежью — и в закрытом идеологическом обществе. Не зря дьявола когда-то называли — имитатором Бога. То, что со своим культом конечной цели (земного рая) и партии (образования более, чем земного и по земному изменчивого), идеология смахивает скорее, на языческое идолопоклонство, ничего не меняет. Но если идеология — имитация религиозности, то дух сталинщины, в свою очередь, — уже имитация самой идеологии. Если идеология — соблазн, то дух сталинщины — имитация соблазна. Соблазну я предавался, но имитацию остро чувствовал всегда. Как ни грустно сознаться, духовная жизнь нескольких поколений — и моя в частности — в течение многих лет состояла в отстаивании соблазна от его имитации.
Сегодня к этому можно относиться как угодно иронически. Но так это было. И не только у тех, кого лично задело. Ни в моей семье, ни среди моих близких, ни среди соседей по дому и всему двору никто этими репрессиями прямо задет не был. Во всяком случае так, чтоб я об этом знал. Отец Гаррика был не в счет — о том, что у его уголовного дела была политическая подоплека, я узнал только в эмиграции. Дальний свойственник-сионист тоже не в счет — он ведь и и впрямь был сионистом, значит, контрреволюционером — тут не было фантастики. Да и связан я с ним не был никак. Короче, никаких личных причин особо остро воспринимать «тридцать седьмой год» у меня не было. А в целом как явление я его воспринимал острей, чем даже дети пострадавших, а иногда, как я убедился много позже, и сами пострадавшие. Те часто воспринимали случившееся с ними как личную беду, как случайную несправедливость, допущенную по отношению лично к ним. Я же реагировал прежде всего на создававшийся из-за этого в стране моральный и идейный (напоминаю — тогда все для меня оформлялось только идейно) климат, реагировал на обязательную для усвоения наглядную ложь и абракадабру. Это не значит, что я с тех пор раз и навсегда стал противником Сталина, это не так. Временами (а это, может быть, хуже, чем не видеть) я даже оправдывал эту ложь и эту абракадабру — всегда были под рукой диалектика и сложность момента и прочие ухищрения телеологического сознания (а где было взять другое?) — но все-таки всегда знал, что это ложь и абракадабра.
Впрочем, и это пришло не сразу. Вначале я вообще воспринимал происходящее как все дети — занимали детективные сюжеты. Дешевые и поэтому доступные. Сильно хотелось самому поймать врага или шпиона. Очень скорбел, что живу не на границе, где, судя по пионерским газетам, юные пионеры чуть ли не ежедневно ловили шпионов-нарушителей. Вопрос о том, откуда сразу взялось столько шпионов, мне по малолетству в голову не приходил. Но многим взрослым тоже — спокойнее и респектабельнее было проявлять инфантильность. Как известно, потом, отвечая на этот вопрос, герой того времени, знаменитый пограничник Карацупа, говорил, что все им задержанные нарушители пробирались не к нам, а от нас. Спасались люди.
Кстати, против реальных врагов режима, нарушавших границу, наши славные пограничники и чекисты оказывались бессильны. Член НТС Георгий Сергеевич Околович, ныне покойный, с товарищем аккурат в это время, когда, «граница была на замке», перешли границу в самом напряженном месте — у станции Негорелое в 20 км от Минска. Проникновение в страну оказалось сравнительно нетрудным, потому что все завалы (и остальные препятствия преграждающие путь нарушителю) были устроены вершинами к востоку — против тех, кто хотел убежать, а не «проникнуть». После этого они заехали в Питер, где Г. С. позвонил сестре по телефону, и, хотя, как потом выяснилось, сестра тут же с перепугу на него донесла (к счастью, она не знала, под какой фамилией он здесь появился), оба нарушителя благополучно прибыли на Кубань, нанялись на монтажно-строительный поезд, проработали несколько месяцев, а когда товарищ заболел, уволились и тем же путем вернулись обратно. И направленные на этот раз прямо против них препятствия опять не помешали — они были подготовлены к их преодолению. Конечно, Георгий Сергеевич был натурой героической, оба спутника были хорошо подготовлены к этой операции. Но ведь и славные органы вроде считались подготовленными к противостоянию таким людям, а не случайным перепуганным овечкам. Но только «вроде». На самом деле именно для противостояния овечкам и существовали тогда сталинские славные органы и только с этой задачей могли справляться. Во всяком случае, внутри страны. А может, это и было самым важным.
Но тогда, в детстве, я этого не знал и во врагов верил. Короче, несмотря на все, что меня царапало, участвовал в общем психозе. Верил, что враг народа Николаев от ненависти к нашим успехам (как же не успехи — вот уж год, как исчезли трупы с киевских улиц!) целил в ЦК и попал в Кирова. И в том, что Зиновьев и Каменев ему помогали, я тоже не сомневался. Их имена, как и имя Кирова, я услыхал тогда впервые. Когда я начал читать, они уже не поминались как вожди, но еще не проклинались как злодеи. Они так и предстали передо мной как убийцы Кирова. Впрочем, не обошлось без затруднений. В газетах почему-то стали печатать призывы всяких заграничных социалистов к советскому правительству пощадить Зиновьева и Каменева.
Помню призыв Амстердамского Интернационала начинавшийся словами «Дорогие товарищи!» У них получалось, что они оба невиновны. В то время как «все знали», что это не так. Получалась неувязка, особенно усилившаяся, когда этим призывам вняли, и Зиновьева с Каменевым не расстреляли (расстреляли большинство их «подельцев», но не их). Скоро, правда, справедливость восторжествовала — Зиновьева с Каменевым вернули, судили снова и после того как они во всем «сознались», благополучно расстреляли, но это — вскоре, а не тогда. А тогда я не мог понять, зачем надо слушаться оппортунистов, когда всем известно, что они — лакеи капитализма. С другой стороны, эти лакеи называли нас «дорогие товарищи» и говорили вполне человеческим языком, вполне достойно. Я это чувствовал, и это меня озадачивало. Хотя очень скоро это надолго ушло на дно сознания. Как многое у многих. Все уступало дорогу психозу.
Дошло до того, что чуть мы не раскрыли врага и в своей среде. Кругом все орало, что врагом может оказаться каждый, и надо быть бдительными — верить нельзя никому, Вот мы и постарались. Один наш одноклассник, имевший репутацию хулигана, хотя был просто драчуном и шалуном, однажды мелом разрисовал все парты свастиками, в просторечии тогда именовавшимися «фашистские знаки». Это не было даже шалостью, просто выходом энергии на перемене. Кстати, свастики мы все иногда рисовали — из любопытства, в порядке игры, но его поступок совпал с какой-то особенно шумной антифашистской кампанией, а также с очередным взрывом «бдительности». И что тут поднялось! Каким благородным возмущением мы все вскипели! Жажда разоблачать била через край. Отец преступника был вызван в школу. Вел он себя сдержанно, но серьезность момента вполне сознавал — наше детское вдохновение тогда могло стоить ему головы. Слава Богу, все затихло, в раздувании этого эпизода не был заинтересован никто из взрослых. К тому же тогда еще много было «по-простому» порядочных людей — и среди учителей, и среди родителей.
Помню, как я поделился возмущением со своим отцом. Мы с ним гуляли, был какой-то праздник, город был украшен, и наша жизнь казалась мне особенно счастливой, а поступок человека, подрывавшего это счастье путем рисования фашистских знаков, особенно гнусным. В этом духе и я выразился — довольно высокопарно. Отец мягко погасил мое вдохновение — сказал, что это мальчик, он баловался, ничего в этом страшного. Думаю, что и другие взрослые — и родители, и учителя — вели себя так же. В общем, дело рассосалось. Все это происходило во мне, чередуясь с другими процессами, с отвращением от фальши, путалось.
Отдельный штришок времени. Летом, кажется, 1937 года, мы с матерью отдыхали в Сновске Черниговской области — на полпути между Бахмачем и Гомелем. Городок этот только что был переименован в Щорс в честь новооткрытого героя Гражданской войны, «украинского Чапаева», комдива Николая Щорса, о котором много тогда шумели газеты и радио. Это произошло настолько недавно, что станция при этом городке продолжала еще называться Сновская. Место это не было и не стало курортным. Но все же были там лес, речка. А, главное, продукты на рынке были дешевле, чем в больших городах. Тогда еще в России на рынках продукты стоили дешевле, чем в магазинах — как во всем мире.
С нами в доме снимала комнату московская семья — отец, мать и дочь, девочка моих лет по имени Таня. Семья эта ни до, ни после этого никак с нами связана не была. Просто дачные знакомые. Вместе ходили в лес, пили чай с медом. Было еще и такое блюдо — масло, переваренное с медом, — считалось, что оно полезно детям, — его тоже вместе заготавливали впрок. Тогда еще очень заботились, чтоб дети за каникулы отъелись. Может, от голодных лет осталось?
Кем была по профессии Танина мать, я не знаю, не очень этим интересовался. Помню только, что это была приятная и красивая, уверенная в себе женщина. Но отец ее был фигурой вполне примечательной. Во-первых, он был профессором, вузовским работником, как тогда говорили. Что преподавал, не помню. Вроде политэкономию. Во-вторых, и это главное, он был политэмигрантом! Следовательно, иностранным коммунистом, бежавшим от преследований буржуазной полиции. Поражала меня некоторая, как я бы сегодня сказал, буржуазность этого пролетарского бойца. Буржуазность не в смысле мещанства (мещанство понималось мной тогда только примитивно, и он с ним не ассоциировался), а в смысле спокойной привычки к определенному уровню жизни, не очень все же доступному наличному пролетариату. Впрочем, может, это и не так — я о нем мало знаю. Да он и уехал вскоре.
Вообще политэмигранты в нашей стране были кастой привилегированной. Наверное, считалось, что уж они-то точно верны Делу, и на них проще положиться. Да и вообще утвердилось убеждение, что пострадавший от наших врагов должен быть вознагражден (привилегиями, чем же еще?) у нас. Боюсь, что отчасти именно эта логика привела потом к стремлению затушевать страдания евреев в оккупации. Наделять их привилегиями было бы нелепо, а отдавать дань страданию, не вознаграждая привилегиями, не умели.
Я ничего плохого не могу сказать об этом человеке, которого, судя по всему, ожидала тогда нелегкая судьба — политэмигрантов брали под метелку. Конечно, он был коммунистом, и это плохо. Но это болезнь времени, и не всегда этим полностью определяется человек. А чем на самом деле жил, что понимал, что чувствовал Танин папа — я никогда не узнаю. Со мной он, естественно, этим не делился.
Что было с этой семьей дальше, тоже не знаю. Тогда она была гораздо более респектабельной, чем наша: с воспоминаниями о елке в московском Доме ученых и о прочих подобных элитных развлечениях Тани и ее родителей. Это само по себе было бесконечно далеко от нас, казалось фантастикой. Но это было еще не все. Была еще эта семья, может благодаря политэмигрантству, в некоторой степени и близкой к «сферам». Потом, когда глава семьи уехал, в разговорах его жены с моей матерью замелькали совсем другие реалии. Правда, повод для этого был серьезный — газеты опубликовали обвинительное заключение по делу Пятакова, Радека и прочих. В том числе и вышеупомянутых Зиновьева и Каменева. О некоторых из них, в частности о Радеке, ей, как, вероятно, и многим в Москве, было и до этого известно, что они арестованы; Радеком она восхищалась как яркой личностью (как я теперь думаю, больше по-женски, чем политически — он, вероятно, отдавал дань и ее прелестям), говорила, что его любит Сталин, и, видимо, надеялась, что все разъяснится. Все тогда были кроликами — и чем ближе к трону, тем больше, — особенно в этой среде, считавшей нормальным применение подобных методов — конечно, к другим. Поверить в то, что все это обратилось против них самих, большинство из них, особенно «колебавшихся вместе», было не в состоянии. Теперь она буквально впилась в газету.
— Кто бы мог подумать? — сокрушенно повторяла она. — Радек был такой интересный, блестящий человек.
Каким человеком был Радек, сегодня может знать каждый — материалов есть достаточно. Если говорить о его моральных качествах, то пробы на этом «интересном», даже «блестящем» человеке, негде было ставить. И это не идеологическая оценка, а обычная, человеческая. Не предавал он других (конечно, единомышленников, в том числе и друзей — враги ему не доверялись) только в тех редких случаях, когда не требовалось. Поразительна философская толерантность большевистских интеллектуалов (были и такие), в кругу которых он вращался, к этим его художествам — их рассматривали как причуду гения. Диалектика, «классовое сознание» и «принцип партийности» делали их бессильными перед любой ординарной подлостью, если ее объясняли политически или если подлец, по их мнению, был «полезен делу». На этом их и поймал и прищучил Сталин.
Но тогда я, конечно, ничего этого не понимал и не знал. Я только наматывал на ус, что в примитивной измене обвиняют столь блестящего человека. Назывались и фамилии других обвиняемых. По-видимому, женщина эта принадлежала пусть не к тому же уровню, но к периферии того же круга. Поэтому ее очень все это волновало, и она не могла сдержаться, все время шепталась с моей матерью. Кстати, это тоже кое-что говорит о нравах, о том, что распространенное мнение о всеобщем недоверии людей друг к другу и всеобщем стукачестве — неверно. Она ведь никогда до этого не видела нас, ничего о нас не знала, а о стукачах знала — в ее среде их хватало.
Сознавала ли она опасность, нависшую над ее мужем, а может, и над всей ее маленькой семьей? Не знаю. Не думаю, чтоб отчетливо. Но что-то ее очень тревожило, потому она и шепталась. Я не вслушивался в ее шепот. То, что наматывалось на ус, доходило до моих ушей само собой, случайно, урывками и наматывалось автоматически. Все-таки игры и чтение интересовали меня куда больше. Разматываться услышанное начало позже, и потом я очень жалел, что был невнимателен. Но ничего не поделаешь — сетовать на то, что был слишком юн, так же нелепо, как на то, что стал слишком стар. Мать мне потом об этой семье ничего не рассказывала. Только однажды в разгар репрессий высказала опасение за нее — в том смысле, что у них были опасные по такому времени связи, и неизвестно, что с ними теперь. Моя мать была весьма далека от политики, но что такие связи опасны, было ясно всем.
Не думаю, что и эта женщина — красивая, в цветущем возрасте — была особенно политизированной или идеологизированной. Не более, чем в пределах нормы тогдашнего светского приличия, — тогдашнее светское общество было идеологизированным. Другого светского общества она не знала, ибо к «бывшим людям» (термин тех лет) она явно не относилась (и она, и ее муж были евреями), а по типу она была именно светской женщиной. Вероятно, была в ней и некоторая, сегодня издалека неопределимая доля интеллигентности. Без этого в таких кругах тоже тогда нельзя было. Вероятно, яркость тех людей, которые ей нравились, была тоже весьма относительной, но других вокруг не было, другой она не знала.
Такие женщины всегда стремятся к наличному высшему обществу и к наличной светской жизни, не задумываясь об их абсолютной ценности. Кстати, при Сталине и после него «в сферах» такого общества (отчасти политической богемы) уже не было: какова ни была его ценность, оно его раздражало, и он его уничтожил — всякое. Было начальство, но светской ценности оно не представляло. Светская жизнь все равно оставалась, но влачила жалкое существование и концентрировалась в других слоях.
В каких кругах вращалась эта женщина потом, я не знаю. Дай Бог, чтоб не в лагерных. Но тогда она еще жила по критериям своего круга. Такие яркие его звезды, как Радек, не могли ей не нравиться. Может, и она ему где-то понравилась — с ним бывало, — и в ее жизни это было событием. Тем труднее ей было примириться с обвинительным заключением. Но у меня нет твердой уверенности, что она тогда понимала всю его вздорность. Все-таки и Радек давал показания, и Пятаков, и Рудзутак, и все другие. Тогда еще не было известно, как эти показания добываются. Но что-то она чувствовала, что-то ее мучило. Рушился ее мир, и на душе ее было неспокойно.
Я очень не люблю этот мир, но женщин, летевших на счастье, как бабочка на огонь, мне все равно жалко. Плохо они ориентировались в этом вздыбленном мире, не те качества казались проявлением силы и связи с духом жизни. И те из них, кто выходил замуж по расчету (с женщинами это случается), тоже часто выходили не за тех, просчитывались, ошибаясь. Не в человеке, а в ходе истории. А их ли это было дело — угадывать этот ход?
Я сейчас не говорю о деятельницах, а просто о женщинах, о тех, кто в лагерях числился, как ЧСИР — «член семьи изменника родины» — о людях, в массе вполне от меня далеких. Но разве такой уж грех — любовь красивой женщины к яркости, к поклонению, к светской жизни (или более примитивной — просто к достатку), — чтоб ее за него всю жизнь мучить или расстреливать? Да и главное — а судьи были кто?
Конечно, это мои теперешние мысли, а не тогдашние. Тогда я был — во всяком случае теоретически, «внутри себя» — гораздо более ригористичен. Я относился к ним так, как Павел Коган к «дамочкам», весь маршрут которых был, по его мнению, от ГОРТа до ТЭЖЭ (от одного из тогдашних привилегированных московских закрытых распределителей до парфюмерного магазина треста ТЭЖЭ) и которых от имени тех же «мальчиков моей поруки», «в лице молочниц и мамаши» бивших «контру на дому», он проклинал как «чертову породу».
Я был моложе Павла Когана, позже начал мыслить и многое оценивал более трезво. А вот «дамочек» мы с ним оценивали одинаково ригористично. Это был вопль оскорбленного аскетизма (хоть мы оба не были аскетами), уходившего из жизни вместе с революционной эпохой. А на «дамочках» просто зло срывалось.
И что с них было взять, с этих «безыдейных дамочек», которые, как умели, защитили свою женственность от изначально покрытого ржавчиной «железного» века, уготованного им идейными мужчинами нескольких поколений? За голод на Украине ответственны их мужья, а не они сами. И мне жаль их. За все — и за то, что кто-то, кто никак не был лучше, ставил к стенке их мужей, тоже. Особенно тех жалко, кто этих мужей любил или полюбил. Может, не все они светочи мудрости и духа, но они женщины и вели себя как женщины. И этого вполне достаточно. В наше время надо было прожить длинную и сложную жизнь, чтоб уразуметь эту простую истину.
Но тогда я был бесконечно далек от такого уразумения, хоть очень редко — даже в пору наибольшей ригористичности — относился к людям плохо, исходя из принципов. Этой «беспринципности» я очень стыдился, но иначе не мог.
Разумеется, возникли эти мои мысли не тогда и не в связи с нашей временной соседкой. Тем более что отношения с ней были у моей матери, а не у меня. Хотя, как видел читатель, кое-какую информацию от нее усвоил и я. К тому времени меня уже бессознательно влекло ко всему, что противоречило официальным версиям происходящего. Не то чтоб я уже тогда «все понимал» — совсем нет. Грубые детективные спектакли Вышинского и Шейнина еще поражали и мое воображение, но, по-видимому, незаметно для меня самого оскорбляли сознание. И все, что противоречило этому, вызывало мое жгучее любопытство. Сказывалось, наверное, и отцовское уважение к Бухарину — это уже в тридцать восьмом, во время последнего процесса. Знал я о Бухарине мало, но представить участником покушения на Ленина не мог, не вязалось. И многое другое тоже.
Но все же реагировал я больше на атмосферу, чем на факты. Однако и факты накапливались.
Арестовали отца моего друга (собственно, и подружились мы после этого ареста — до того иногда только стихи друг другу читали), нынешнего московского поэта Лазаря (Люсика) Шерешевского. Отец его был бухгалтером в обществе политкаторжан. До сих пор я полагал, что поэтому он и сгорел — что, когда все это общество возвращали в исходное состояние, под сурдинку прихватили и его. Теперь выяснилось, что все было еще проще — его имя, «сознаваясь» под пытками, назвал как имя сообщника в каком-то липовом деле (вымогали не только «дело», но и сообщников) арестованный раньше знакомый. Обошлось это ему дорого — полутонов тогда не признавали: «десять лет без права переписки».
Мы тогда еще не знали, что это означает смерть, — меня лично больше поразили десять лет. Люсику я сочувствовал уже сознательно. Однажды даже сопровождал его в приемную НКВД на Владимирской. Пока он писал заявление (без него, по-видимому, не принимали передач и не сообщали сведений), я смотрел по сторонам, видел лица родственников тех, кто уже попал под топор. Лица были как лица, только по-особому замкнутые. Рядом с нами что-то писала женщина с интеллигентным лицом. Взглянула понимающе на нас, улыбнулась, когда я что-то сказал Люсику. Здесь друг с другом не разговаривали. Потом Люсик понес то, что он написал, к окошку и получил информацию. Кажется, окончательного решения по делу еще не было. Мы вышли. Кажется, была весна. Во всяком случае, день был светлым и нежным. Серый гранит фасада главного здания НКВД на другой стороне улицы выглядел внушительно и неприступно. Что тогда в тот момент творилось в кабинетах за этими стенами, я еще не знал. Но от всего вместе осталось несколько притупленное ощущение безысходной беды, свирепствующей где-то рядом и меня, к счастью, обошедшей.
Проникновение в суть происходившего шло у меня не через эти впечатления. Они только приплюсовывались ко всему остальному — к тому, что мне тогда, как здесь неоднократно отмечалось, вместо «идей» предлагали для поклонения бессмыслицу и муляжи, полную прострацию. Вроде того же новоорганизованного межеумочного «советского» патриотизма с отцом народов в виде его вершины, цели и смысла. Постепенно начинало меня угнетать и то, что на глазах менялась история революции и Гражданской войны. Думаю, что действовало это на многих, но я говорю о себе. Сердце жаждало выхода.
Тогда-то, лет с двенадцати — тринадцати, я опять начал писать стихи. Не то чтобы всерьез (что такое поэзия, я не представлял по-прежнему), но и не просто из тщеславия, а для романтического самовыражения.
Перечитывая написанное выше, я испытываю некоторое смущение — уж слишком мудрым и самостоятельным я выгляжу, несмотря на все оговорки. Неужели это уступка обычному соблазну мемуариста — стремлению прихорошиться перед объективом, тем более своя рука владыка? Вряд ли. Я не так уж сильно люблю себя в детстве. И потом цель этих мемуаров рассказать не о том, какой я был мудрый, а как путался в трех соснах.
В годы перестройки появилось много людей, утверждающих, что они «всегда все понимали». И, хотя о большинстве из них до этого и слышно не было, я, как ни странно, отчасти верю их хвастовству — конечно, если исключить слово «все». «Все» в какой-то мере было понятно только «простым» людям (к которым отношу крестьян, торговцев, ремесленников и т. д.), в наступившей жизни нечто существенное — ее крайнюю практическую несостоятельность, а часто и аморальность. Но к «комсомольцам двадцатых годов» (и тридцатых тоже), в том числе и к интеллигенции, сформировавшейся в это время, никакое «все», связанное с абсолютной системой ценностей, отношения не имеет. В лучшем случае в хорошие минуты мы понимали подмену официально принятой, тоже ложной системы ценностей бессистемной абракадаброй, подмену, как сказано выше, соблазна его имитацией. О каком же «все» может идти речь, если этого, главного непонимания, мы в себе даже не подозревали.
Но и решиться на неглавное было очень непросто, тем более что оно — мне во всяком случае — казалось самым главным. Вероятно, многие могут вспомнить моменты, когда они кое о чем догадывались — ну, например, насчет процессов или что Сталин погубил и узурпировал революцию. Это теперь кажется неважным, а тогда это был невероятный — дух захватывало — порыв и прорыв к правде. И в то же время все это лежало на поверхности. И поэтому для того чтоб понять и не принять сталинщину, нужно было затратить гораздо меньше интеллектуальных усилий, чем на то, чтоб ее не понять и принять. Однако ситуация была такова, что многие не жалели усилий. Догадывались, но помнили недолго, заговаривали сами себя и забывали (теперь забывают, что забывали), потому что Сталин, как большевики в начале двадцатых, сумел овладеть ходом жизни — вернее, подменить его. И помимо страха перед репрессиями был еще страх идти одному против всей жизни, вовсе тогда не казавшейся изнутри бедной, — особенно нам, молодым, другой жизни не знавшим. Кругом цвела молодость, находя чем жить и для чего цвести, и одному идти даже не против всех, а просто не в ногу со всеми, в том числе хорошими людьми, казалось стыдной обделенностью. Это и приводило меня к непоследовательности и падениям. Впрочем, об этом тоже чуть позже.
А пока я, как сказано выше, занимался романтическим самовыражением — писал стихи на уроках. В основном, как потом это называлось, на историко-революционные темы. О том, как боролись и умирали революционеры при «проклятом царизме» и героические комсомольцы во время Гражданской войны. А также о том, как я сам буду бороться за мировую революцию и умру в боях за нее или от рук палачей-контрреволюционеров. Стихи были не только плохие, (что естественно при такой направленной тематике), но и очень неумелые — даже в смысле стихосложения. Да и откуда им было быть другими — стихов я тогда, кроме попадавшихся случайно в учебниках и детских книжках, по-прежнему еще не читал, а с поэмами, если попадались (пушкинскими, например — тогда как раз с помпой отмечалось столетие со дня его гибели), мирился как с затрудненным пересказом прозы, интересовавшей меня гораздо более непосредственно. Впрочем, и в прозе я тогда мало что понимал.
Но ведь я и не собирался становиться поэтом и вообще литератором: свои стихи (я пытался писать и рассказы, но еще менее удачно) я рассматривал только как подспорье в своем будущем служении мировой революции. В чем будет состоять это служение и каким образом может ему способствовать мое нынешнее творчество, я представлял весьма туманно. Ясно только было, что оно не будет слишком скромным. Так я прожил третий, четвертый, пятый классы. В шестом началось нечто другое. Но пока это еще не началось, оторвемся ненадолго от художественной литературы.
Я как-то очень мало рассказываю о младших классах. Ну хотя бы об учителях. В первом классе у нас был учителем Израиль Самойлович, как говорили, студент-химик. Был он человеком, кажется, добрым, но нервным. Помню только его узкое лицо и коричневый трикотажный свитер — тогда никто особо не модничал. Это именно он попросил моих родителей посылать меня в школу как можно реже. Со второго класса нас вела Антонина Дмитриевна, маленькая и добрая интеллигентная женщина с трудной, как мне теперь кажется, женской судьбой. Неинтеллигентные учительницы в больших городах тогда еще были редкостью — даже среди учителей младших классов. Мы ее любили и верили ей. Характерная деталь тех лет — я не знал, что Израиль Самойлович — еврей, а Антонина Дмитриевна — русская, хотя их имена и отчества говорят сами за себя.
Четвертый класс, как я уже рассказывал, начался для меня с переселения наших классов в школу-новостройку № 44 и с того, что незаметно исчезли наши китайчата Коля и Женя. Но Антонина Дмитриевна, перешедшая в новую школу вместе с нами, сказала нам, что они с родителями куда-то переехали, и мы перестали о них думать. Конечно, то, что с ними произошло, переездом можно было назвать только при известной натяжке, но что тогда можно было и даже нужно было сказать детям? Опасаться ведь надо было и за себя, и за них.
Но детство кончалось — мы стояли уже на пороге отрочества. И вступили в него 1 сентября 1937 года, придя впервые в пятый класс. Началось оно для нас с бунта, главным устроителем коего был автор этих мемуаров. Надо сказать, что ко мне иногда прилипает репутация скандалиста — поскольку я резко высказываю свое мнение. Но скандалов и вообще неприятностей людям я устраивать не люблю и не устраиваю. Хотел я быть скандалистом только в отрочестве — в подражание Маяковскому, которого я тогда чтил как возмутителя мещанского болота. Но это было чуть позже описываемых сейчас событий. Да и речь тут идет не о скандале, а, скорее, как уже сказано, о бунте. Дата этого бунта говорит в данном случае только о том, что и на фоне гибельных свершений, связанных в общем представлении с осенью тридцать седьмого года, тогдашние дети все равно были детьми, учились, переживали и принимали всерьез трепавшие их и досаждавшие и без того обескураженным взрослым бури переходного возраста, и это не имело почти никакого отношения к специфике этой даты. Хотя, по моим тогдашним представлениям, я только вступался за правду и дружбу — то есть как юный пионер вел себя вполне добродетельно. Как меня и учили.
А дело было вот в чем. Явившись в пятый класс, мы узнали, что из наших двух классов намереваются сделать три, из каждого наличного выделив по трети учеников для вновь образуемого. Исходили из принципа, что чем меньше в классе учеников, тем больше внимания каждому, в чем нет ничего плохого. Другое дело, что в общегосударственном смысле это, как и то, что в новой школе все десять классов могли учиться в одну смену, не соответствовало никакой экономической реальности. Это было очередной сценой из камуфлирующего спектакля — «Жить стало лучше, жить стало веселее», — пылью в глаза, показухой, ради которой фирма тогда на расходы не скупилась — надо было заглушить рев «черных воронов» и показать, какую счастливую жизнь хотят разрушить враги. Но возмущало нас отнюдь не это. Этого никто вокруг не понимал. Тем более что наша счастливая жизнь, а следовательно, наше право на новую школу были для нас несомненны — даже в Киеве, после трупов на улицах. Возмущало только «самоуправство» дирекции.
Надо сказать, что в нашем классе оно никого не обрадовало. Мы проучились вместе четыре года (из двенадцати — треть всей и большую часть своей «сознательной» жизни), сдружились и нам вовсе не хотелось расставаться. И пепел Клааса застучал в мое сердце, жаждущее борьбы за справедливость. Особенно когда я себя увидел в списке переведенных в 5В (а наш был 5А). Сначала меня поддержал почти весь класс. Я призывал чуть ли не к забастовке. Кажется, один раз мы таки пробастовали несколько уроков — пошли в кино. Оно и раньше такое случалось — вдруг мы снимались всем классом и убегали в кино (в Киеве это называлось «пассовать уроки»), но теперь это проделывалось с высокой целью. Постепенно все утихомиривалось, но я не сдавался — приходил в школу, но на уроки не шел или шел в свой класс. В конце концов администрация сдалась, и меня оставили в покое — в своем старом классе. Так что защитил я только свои личные интересы, а не общественные, как хотелось бы. Произошло это потому, что последних не оказалось — как-то сами собой испарились. После этого мне не раз приходилось выступать как не принято, но больше никогда в жизни не претендовал я на роль народного вожака или трибуна. Выступал в индивидуальном порядке. Иногда мне кажется, что многие народные вожаки конца XIX — начала XX века начинали свою деятельность с не более серьезных поводов, чем я в первый раз, но в отличие от меня не могли вовремя остановиться. Осознавали всю несправедливость классового строя, связывали с этим все свое честолюбие и опоминались — и то не все — только «в шкафу» без пола (где ни к чему нельзя прислониться — упадешь вместе со шкафом) на конвейерном допросе 1937 года.
Надо сказать, что это мое глупое противостояние дорого мне обошлось. Видимо, произошла слишком большая нервная растрата, и в конце полугодия я огреб единственную в моей жизни двойку за четверть. Была она по украинскому языку, который я тогда, до и после этого знал довольно неплохо. Не скажу, что двойка эта точно определяла мои знания, но в то же время она не была результатом придирок. Учительница украинского языка, женщина строгая, но умная и с педагогическим тактом, была нашим классным руководителем. Отношения с ней у меня были хорошие. Но как-то так выходило, что получалась двойка — что-то, видно, тогда застопорилось в моем мозгу. У меня и арифметика тогда шла туго — знаменитые запутанные задачи пятого класса. Они легко решаются уравнениями, и многие считают, что нечего зря детей мучить, лучше подождать до алгебры. Я в этом не убежден. Я не считаю лишней гимнастику ума. К тому же после них острей понимается суть и значение алгебры. Я никогда не был особым математиком, но все же никогда не боялся этого предмета, а тут и он шел у меня очень туго. Впрочем, после зимних каникул, когда я отдохнул и слегка подтянулся, все мои учебные дела опять вернулись в свою колею. Эпизод закончился. Пятый класс, трудный для меня во многих отношениях, остался позади, завершился вполне благополучно, не хуже, чем все предыдущие.
В процессе преодоления этих трудностей, часто чисто возрастных, заканчивалось и мое детство. Помню, как мне впервые в жизни сказали «Вы». Это сделала именно в это время тетя Варя, торговавшая на углу Жилянской и Владимировской семечками, леденцами и «маковниками» — так в Киеве назывались маленькие квадратики из мака — то ли с сахаром, то ли с медом. Очень тогда это подняло меня в моих глазах. Я почувствовал себя взрослым. Наступило отрочество.
Неожиданно я набрел сейчас на эту тему — на частную уличную торговлю на нашем углу. Этот «пережиток капитализма» то замирал там, то расцветал, но никогда не исчезал. Торговали чем угодно — леденцовыми петушками или рыбками на палочке, всякого рода и вида конфетами из переплавленного сахара, часто зеленью, в сезон — вареными «пшенками» (так на юге называют початки кукурузы). По-видимому, даже еще в начале тридцатых это не возбранялось, их никто не гнал. Потом начались на них гонения, и я видел, как, услышав крик: «Милиционер!», торговки, подхватив юбки и корзины (обычно они сидели на корточках, скамеечках или кирпичах у своих корзин), спешно разбегались перед железной поступью пролетарской диктатуры. Видел я, и как милиционер появлялся неожиданно и сапогом расшвыривал корзины, и тогда несоциалистический элемент разбегался в панике, но все равно на ходу подхватывал корзины и спасал на ходу что можно из разбросанного. Я не видел, чтоб их арестовывали — просто разгоняли. Печально, что все — и дети, и взрослые — относились к этим картинам как к естественным.
Торговками этими поначалу были исконно городские женщины (к ним относилась и тетя Варя), потом их ряды стали пополняться беглянками из деревни. От одной из них я впервые услышал по своему адресу «жида», причем оскорбление словом сопровождало оскорбление действием. Я вертелся вокруг импровизированного торгового ряда на углу (там всегда толпился народ и шли интересные разговоры). Деваха эта, по-видимому, была мне знакома, может быть, из нашего дома. Я что-то у нее спросил, а она вдруг рассмеялась, сказала, как бы отвечая мне: «жид». И, видя мое недоумение, схватила кусок бумаги и, смехом, окунула в него мое лицо. Ей было от этого очень смешно и весело, а я растерялся и так тогда и не понял, что произошло.
Не могу сказать, что этот факт запал мне глубоко в душу — не такие тогда были времена. Да я теперь вовсе не считаю эту деваху исчадием ада, а этот ее грех (издеваться над детьми — грех), безусловно, ей простится. Вспомнил я этот случай вовсе не для того, чтоб лишний раз опровергнуть утверждения, что в тридцатые годы не было антисемитизма. Все и так знают, что он тогда был, хоть и подавлялся. Только к слову: просто это еще одна деталь того, теперь уже забывающегося времени. Как и торговки на углу.
Стыдно вспомнить, но тогда мы не задумывались о том, кому они мешали, эти торговки, почему их надо было и по какому праву можно было преследовать и мучить, обрекать на ту полуподпольную, то ли собачью, то ли близкую к героической, но явно нелегкую жизнь, которую они вели. Их услугами пользовались все, всем они были удобны, в том числе и самым идейным, но к их судьбе все были брезгливо безразличны — как из идейности, так и просто так. Через эти каналы входила в нас бесчеловечность. Потом она обратилась против всех. И то, что их гоняли — тоже. Гоняли-гоняли торговок, — во имя доктрины, которая не была нужна даже тем, по чьим приказам гоняли, — а теперь и торговать нечем стало.
Впрочем, ряды торговок постепенно редели. К началу войны оставалась почти только одна тетя Варя, торговавшая то одним, то другим. Некоторое оживление в этом смысле я застал после войны, приехав в начале 1946 года в Киев на зимние каникулы. По-видимому, это были неизжитые последствия немецкой оккупации или результат послеоккупационной разрухи, когда начальству было не до этого. Почетное место в этом воскресшем торговом ряду занимала все та же тетя Варя, постаревшая, но такая же острая и активная. К 1951 году, когда я посетил родной город после ссылки, социализм был полностью восстановлен в правах — торговки исчезли.
Но на всех их появлениях и исчезновениях, в сущности, на всем их существовании, мое внимание долго не задерживалось. Я ведь вообще не был приучен уважать старания людей, направленные на их личное (и их семей) благополучие, — с детской прямолинейностью я считал, что это, во-первых, отвлекает от общего дела, во-вторых, что это тем самым обедняет жизнь. К моему огорчению, все вокруг — и далекие, и близкие, в том числе и мои родители, занимались в основном только этим. Как-то сами собой закрывались глаза на то, что давалось им это нелегко. Впрочем, последнее даже усиливало традиционное презрение к мещанству. Казалось, что это все дается им так тяжело чуть ли не от социальной отсталости, а сам я рожден для жизни совсем иной. Такой, как в кино, где люди отдают все свое время исполнению долга, а бытовые вопросы у них то ли вообще отсутствуют, то ли их решает кто-то другой.
В этом я бессознательно следовал большевистской традиции, с первых дней своей власти странно связавшей воедино — в своем и общем представлении — особую идейность и бескорыстное служение с особым снабжением. Так что оно даже начинало выглядеть как-то романтически. Правда, при Сталине, когда ореол романтичности утратила сама «идейность» (то, что теперь стали называть этим словом, романтизации не поддавалось), развеялся он и над особостью снабжения. Правда, в нем уже и не нуждались, поскольку этой особости не стеснялись, а поедали недоступное другим с достоинством людей, чего-то в жизни добившихся. Но корни шли оттуда, из романтически-идейных времен.
Далеко, однако, завело меня это воспоминание об уличных торговках. Но тогда я о них не думал — не до них было. Но, неблагополучие — прежде всего уже упоминавшиеся ложь и внутреннюю пустоту происходящего — я ощущал. А раз так — следовало искать истину. И я погрузился в основу основ — в чтение основоположников марксизма. Это многих славный путь. О том, что мысль человечества этим не исчерпывается, я, пожалуй, знал, но основоположники, как мне тоже было известно, переработали это до меня, и мне не было смысла в этом копаться. Да и не готов я был к этому и не было у мировой мысли ответа на мучившие меня вопросы. Они требовали не столько силы ума, сколько мужественной незамутненности сознания. Начал я, естественно, с самого, как я полагал, начала — с «Коммунистического манифеста» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Сначала в одиночку, а потом (как меня учили книжки о революционной борьбе, на которых я воспитывался) попытался организовать марксистский кружок. Не один, а со своими друзьями Люсиком и Гришей Шурманом (теперь он издал повесть под псевдонимом Шурмак). Мы тогда учились с Гришей в разных школах. С ним связаны мои первые шаги в, если можно так выразиться, детской литературной жизни. Следовательно, это было уже не в пятом классе — в пятом я еще в «свет» не выходил, — а в шестом или седьмом.
Пригласили мы из обоих наших школ ребят, а, главное, девушек (может, они и были одним из стимуляторов нашего революционного энтузиазма?). Провели время хорошо, не помню, прочли ли вместе хоть одну страничку «Манифеста», но говорили про многое. Потом решили немного вместе погулять по Саксаганского, и там на нас напали хулиганы. Потом выяснилось, что они были подосланы нашим одноклассником Витей Ф., приревновавшим нас к одной из девушек, которую мы как раз презирали как дуру (дурой она не была — за глупость мы тогда принимали, как это часто бывает и у взрослых, отсутствие интеллектуальных интересов) и которую пригласили в наше высокоинтеллектуальное общество только из-за ее подруг. Недоразумение рассеялось, и больше столкновений не было. С миром, где девушек «завоевывают» таким образом, я столкнулся впервые. А он был кругом. Сам же этот Витька был вовсе не плохим парнем и хорошим товарищем. Так я думал и в школе, в этом утвердился, встретив его в Киеве после войны.
Это почти все, что я могу вспомнить о нашем кружке. «Антисоветском», как написал бы в дознании следователь тогдашнего ГУГБ НКВД, если бы узнал об этом. Тем более что в нем одним из его «организаторов» (не один же я этим загорелся) был сын «ныне разоблаченного врага народа» — тот же Люсик Шерешевский. Но, слава Богу, он об этом не узнал, а то б у него был лишний грех на душе, а у некоторых из нас — сломанные жизни. Изучать марксизм можно и даже нужно было, но только в установленном порядке и в специально отведенных местах. С остальными же поступали как с теми, кто в Отечественную, если рядом не было регулярных партизанских армий, незапланированно партизанил сам по себе. Дело, может быть, и патриотическое, но, поскольку никто им этого не поручал, подозрительное — лучше посадить. Так же и нас могли посадить. Даже с большим основанием. И девочек наших, которые ни сном ни духом. Как теперь подумаю, какая каша могла завариться из-за меня, — оторопь берет. А тогда — ничего…
Тогда мы обо всем этом часто и подолгу разговаривали вполне откровенно с Люсиком, Гришей и со многими другими, Конечно, доверяли друг другу. Да и вообще товарищам. Забегая вперед, могу сказать, что это доверие никогда меня не обмануло. Распространенное представление, что в те или какие-либо последующие годы из трех собеседников один обязательно был предатель, моим опытом не подтверждается. Посадили меня в 1947 году отнюдь не из-за предательства. Но это к слову.
И вовсе не все время мы себя чувствовали в конфронтации с режимом. Чаще мы, как и многие другие, хотели не столько изобличить товарища Сталина, сколько понять его правоту. Нам не могло прийти в голову, что это недостижимо и наказуемо. Тяжесть ситуации, в которой оказалась страна, мы (во всяком случае я) все равно до конца представить себе не могли. Действительность была страшней и нелепей всего, что о ней можно было подумать. Но что мы вообще тогда понимали в жизни? Мы только чувствовали ложь и пустоту всепроникающей официальной пропаганды, которая постепенно становилась отравленной и душной средой нашего обитания. Колоссальной тратой национальных умственных и нравственных сил было даже противостояние этой атмосфере, а получалось так, что и до него надо было дорасти. А ведь возникали и колебания.
О том, как плясало наше мировоззрение, свидетельствует следующий почти забытый, но теперь внезапно всплывший в памяти эпизод. Однажды мы с Гришей познакомились где-то с женщиной среднего возраста. Ни имени ее, ни профессии я не помню. Она была родом с Демиевки, знала и почитала моего дядю Иосифа и, наверно, поэтому отнеслась к нам с доверием — вылила на нас все, что ее переполняло. Это характерно — она была большевичкой, а дядя ортодоксальным евреем, авторитет его на еврейской Демиевке был вполне «старорежимный», но вот — действовал! Подобное я наблюдал и у других малых народов. То, что ее переполняло — что Сталин уничтожает лучших сынов революции и партии, — по нормальным меркам не отличалось ни особым умом, ни, тем более, мудростью. Ни даже бескорыстием: у нее среди этих «лучших» были близкие, кажется, даже муж. Это был обыкновенный всхлип оскорбленного революционного сознания, отнюдь не осознавшего своих собственных грехов и преступлений.
Вообще личностью эта женщина, помнится, была не то чтобы блестящей — из тех, кого поднимает идея и причастность к «общему делу» (оценка, конечно, сегодняшняя, а не тогдашняя). Но тогда для того чтоб не то что говорить, а даже подумать такое, необходимо было внутреннее мужество. Взрослые люди, с которыми мы делились своими сомнениями, обычно — чаще всего это были неплохие люди — снисходительно и ласково объясняли нам наши «наивные заблуждения». Были ли они искренни? Как понимать это слово? Они искренне говорили и защищали то, что думали. Весь вопрос, думали ли они искренне и думали ли что-нибудь по этому поводу вообще (на некоторых вся эта проблематика сваливалась неожиданно), но все равно они точно знали, что мы ошибаемся. Многие ведь и не догадывались, что должны об этом думать — думать для них означало уяснять то, чему их учат.
Теперь я понимаю, что вообще не ко всем надо предъявлять такие требования, что люди могут быть хороши и без мнения по многим поводам, но, как ни странно для такого времени, нам непрерывно внушалось, что сознательным должен быть каждый. Конечно, термин «сознательность» понимался внушавшими прямо противоположно его значению, но мы понимали его буквально. И требовали сознательности от всех. И, касаясь этих тем, обычно налетали на конфуз. Люди не думали или не хотели думать, но — убеждали. И мы начинали сомневаться в собственных чувствах и элементарной логике…
И вдруг взрослый человек разделяет наши самые смелые мысли и предположения! Радость нашего общения была безграничной. Это был пир духа. Договорились до того, что следует гораздо шире распространять наши взгляды, чуть ли не организацию создать, чуть ли не листовки печатать. Расстались вполне восхищенные друг другом.
Но потом у нас начался очередной перелом во взглядах. И поскольку — слава Богу, только теоретически — полутонов в духе времени мы не понимали, то долг нам как будто бы велел сообщить об этой женщине, куда надо. Но делать этого нам совершенно не хотелось. Почему? Конечно, это можно объяснить воспитанием — тем, что наши родители были порядочными людьми. Но, с другой стороны, родителей мы считали то ли представителями мелкобуржуазной интеллигенции, то ли мещанства и вроде бы следовать их «отсталой» морали не стремились. Я помню прочитанный мной чей-то рассказ, относящийся к временам Гражданской войны, в котором сын потешается над «наивным» возмущением своих интеллигентных родителей, пораженных тем, что он выдал ЧК скрывавшегося в их доме человека. Автор сочувствовал сыну. Как же! Ведь не мог же он изменить своим новым товарищам, искавшим повсюду этого человека.
В таких понятиях о верности нас воспитывали — и не клевреты Сталина, а те, кого он прикончил. Он это только использовал и огрубил, лишил обаяния. При нем предателей было не меньше, а больше, но ими были только подлые или темные, а также изнасилованные, запуганные люди, действовавшие отнюдь не потому, что их осенило откровение. В каком-то смысле наши переживания по этому поводу более характерны для более старших поколений. Откровениям своим нам изменять очень не хотелось, но доносить почему-то не хотелось тоже. Мы и не собирались. Только долго и мучительно подыскивали аргументы, почему в этом нет никакой необходимости.
На помощь нам пришла сама эта женщина. Словно почуяв неладное, она нашла возможность снова встретиться с нами и мимоходом сказала, что все это, конечно, досужие разговоры и делать нам ничего не надо. Мы с облегчением согласились и расстались навсегда, опять довольные друг другом. Раз делать ничего не надо, то и доносить не на что. Теперь уж мы могли не доносить как бы и не против совести. Такое тогда могло происходить с человеческой психикой, такие противоестественными могли быть «муки совести»!
Самое печальное то, что со Сталиным действительно надо было бороться, но этого никто не делал: но, видимо, в изнасилованной стране к этому не был готов никто.
К тому времени — ибо описанный выше эпизод имел место несколько позже, чем шестой класс, на переходе в который прервалась последовательность моего жизнеописания — уже вошел в мою жизнь Маяковский, и весь наш бунт при его помощи постепенно сублимировался в ненависть к мещанству, в чем, как нам казалось, мы выступали с властью заодно. И это тоже было не так. Но биографически это уже больше относится к другим коллизиям — к моему на этот раз серьезному и окончательному увлечению поэзией, которое началось тоже именно в шестом классе.
Начало
В дополнение к «Пионерской правде» и к республиканской пионерской газете на украинском языке (к сожалению, забыл название) в Киеве появилась всеукраинская пионерская газета на русском языке «Юный пионер» (в Киеве произносилось: «пионэр»). Газета эта была мне приятна тем, что как бы стояла ближе к жизни киевских школьников. Там чаще появлялись номера знакомых школ, названия улиц и т. д. Но, хотя в ней, как и в «Пионерской правде» печатались, заметки и даже стихи самых настоящих школьников, это никак не ассоциировалось с тем, что там могу напечататься и я. И даже когда там были напечатаны какие-то стихи Люсика, ничего для меня не изменилось. Все равно — так складно я писать не умел. Мистика печатного слова оставалась. Но стихи, из которых ни одного не помню (да их и нельзя было запомнить), я писать продолжал, хотя читать стихи все еще так и не начиная.
К тому времени мое знакомство с поэзией ограничивалось несколькими общеизвестными стихами Пушкина и Лермонтова. Попадались мне на глаза и отдельные, в обилии издававшиеся тогда к юбилеям сборнички стихов, но внимания на себе не задерживали. Поэзии я еще по-прежнему не понимал. Даже Маяковского, которого я принял и полюбил раньше, чем Пушкина. Последнее может многих удивить. Но это неудивительно — он, как это ни странно, намного проще.
Должен сказать, что классическая русская поэзия вообще открылась мне только после современной — в основном 20-х годов — при всей относительности последней. Подозреваю, что это нормально — вход в поэзию, особенно для варваров, каким был в этом смысле я, лежит чаще всего через современную поэзию. Конечно, есть и исключения. Например, М. А. Булгаков, всю жизнь любивший и понимавший Пушкина, а поэзию XX века и на дух не принимавший. Но у него это было результатом любви и сознательного выбора, а я был просто неграмотен.
Но однажды я написал стихи, менее плохие, чем обычно, и кто-то из моих друзей — не помню точно, Гриша или Люсик — предложил мне пойти с ним вместе на занятие литкружка при газете «Юный пионер». Редакция газеты помещалась на улице Воровского, раньше носившей поэтическое имя Бульварно-Кудрявская, теперь восстановленное. Улица эта шла круто вверх от Еврейского базара и была, как почти все киевские улицы, вполне зеленой, что может объяснять, почему она «кудрявская», но не почему «бульварная». Не тем же, что у Евбаза она как-то соприкасалась с бульваром Шевченко. Наверное, этимология ее названия объясняется историей города, которую я плохо знаю.
Прежде чем приступать к дальнейшему рассказу, хочу объяснить одну особенность глав, описывающих мою киевскую юность. Особенность эта — превалирование еврейских имен — объясняется вовсе не принципиальным отбором знакомых и друзей, а тем, что я говорил и писал по-русски, а по-русски в Киеве в это время говорили в основном евреи. Учился я в русской школе, посещал русские литкружки и т. д.
Редакция «Юного пионера» находилась в одном из помещений комплекса зданий, где размещались все главные республиканские и областные газеты и журналы, только не в центральном старинном здании, выходящем фасадом на улицу, а расположенной чуть выше по улице пристройке, на четвертом, кажется, этаже. Входить надо было не с улицы, а с торца…
Надо ли говорить, что на кружке меня в пух и прах разгромили: и стихи, и пьесу, и что-то еще — писал я тогда все. Но я не огорчился — литераторских амбиций у меня еще не было. Все, что там говорилось, вероятно, было наивно, громившие меня имели весьма приблизительное представление о литературном мастерстве, но в отличие от меня они что-то об этом слышали, знали, что существует такая материя. И я впервые начал понимать, что все тут не так просто, как кажется. Руководила кружком Ариадна Григорьевна Давиденко (будущий писатель-фантаст А. Громова), с которой мы вскоре подружились на всю жизнь. Тогда она была молода, немногим старше нас, но уже закончила университет. Была умна, образованна, красива (все эти качества оставались при ней до конца). И была она уже тогда человеком явно литературным. После войны она жила в Москве. Громова — не псевдоним, а фамилия по мужу. С этого времени я постепенно стал нащупывать другой мир — свой.
В те же дни я с Люсиком — кажется, по каким-то его делам — опять побывал в редакции, где познакомился с заведующей отделом литературы или культуры Ниной Харитоновной Разумовской. Оба эти посещения редакции произвели на меня глубочайшее впечатление. Впервые в жизни я оказался там, где что-то печатают, на моих глазах ДЕЛАЛАСЬ ГАЗЕТА. Я озирался по сторонам, но ничего чудесного не видел. Входили и выходили какие-то люди, вида, в общем, вполне ординарного, небожительством и не пахло. Сегодня, с высоты своего долгого опыта, я понимаю, что такое впечатление таит в себе опасный соблазн. Попадая в круги журналистской или литературной молодежи, в мир редакций, где достаточно много людей вполне заурядных, но среди которых на равных бродят и люди отнюдь не заурядные, а иногда и уже приобретшие известность, случайный человек быстро проникается убеждением, что не боги горшки обжигают. И сам смело принимается «обжигать». Но по отношению к литературе, искусству и подлинной журналистике утверждение это ложное. Если он не понимает это вовремя — его жизнь разбита. Он или будет просто несчастен и жалок, или вдобавок озлобится, а то и просто начнет — конечно, в таком обществе, как наше — проникать в литературу бандитскими способами. Впрочем, и от этого он не станет счастливым.
Но тогда мне такие мысли в голову не приходили. Еще и потому, что на моем пути встретились такие люди, как Ариадна Григорьевна и Нина Харитоновна.
Нина Харитоновна мне понравилась. Несколько грузноватая женщина (как я потом узнал, она была тогда уже очень нездорова), лет сорока, с большими серыми умными и добрыми глазами, она создавала вокруг себя то, что я сегодня назвал бы атмосферой культуры. Как ни странно, она с первого раза почему-то отнеслась ко мне, к тому, что я ей показал, очень внимательно и серьезно — не думаю, что мои тогдашние стихи давали для этого хоть какие-то основания. Да она, собственно, и не говорила о них ничего хорошего, но сказала, что я, наверно, когда-нибудь — будет время — напишу что-нибудь очень стоящее. Не сейчас, а когда-нибудь. Это был первый человек, так меня воспринявший. Что она тогда почувствовала во мне и моих стихах? Может быть, то, что я почти ничего не писал попусту — стремился духовно самоопределиться (тогда в романтике) и выразиться. Придало ли это мне тогда уверенности? Не знаю. Наверное, да. Но важней всего для меня было то, что меня вообще не отвергли. Это было для меня важно само по себе. Я переходил в другую культурную среду — практически это уже начиналась юность. В отрочестве я больше года не продержался. Разумеется, полностью оно не исчезло.
Надо ли говорить, что и до отрочества, и в отрочестве я много читал. Ходил в детскую библиотеку имени Коцюбинского, на Большой Васильковской (Красноармейской), против стадиона, теперь Центрального. Там работали интеллигентные женщины, давали мне читать с выбором. Но вообще мое чтение было беспорядочным. В основном любил книги про Гражданскую войну, революцию и путешествия, но в поисках этого читал все подряд. Обожал я ходить в самый близкий к нашему дому книжно-канцелярский магазин на углу той же Большой Васильковской и Саксаганского, в просторечии Маринской. Я подолгу простаивал у прилавка и мучительно рассматривал книги. Муки мои состояли, конечно, в том, что у меня почти не было денег, буквально копейки. Но, как ни странно, и на копейки можно было тогда купить что-нибудь хорошее, издававшееся сериями типа «Школьная библиотека». И я покупал. Сборнички Пушкина, Гейне, «Гобсек» Бальзака, даже «Простая душа» Флобера (видимо, потому что там речь о представительнице народа) и многое другое, не менее ценное, было мной куплено именно там. Потом я стал покупать там и сборники современных поэтов, которые тоже, как правило, стоили очень дешево.
Там, например, за копейки я купил небольшой сборник избранных стихотворений Николая Асеева «Наша сила», о котором здесь еще придется говорить особо. Этот магазин неоднократно доставлял мне неожиданную радость. Я благодарен людям, которые в то страшное время находили для себя отдушину, занимаясь выпуском этих книг, «пробивая» под любыми предлогами и печатая что можно, таким образом сея свет. Вряд ли эти издания были особенно прибыльными. И хотя я убежден, что и книжное дело должно подчиняться законам рынка, иначе за книги платит общество, то есть и те, кто их не читает, но все же, если экономическое положение в нашей стране стабилизуется, я считаю необходимыми такие издания, включающие несомненно ценные произведения мировой и отечественной классики. Они должны распространяться по дешевой цене за счет частной, общественной или государственной благотворительности. Чтоб их имели возможность покупать дети. Общество должно за это платить. Это необходимое культуртрегерство.
Но это отступление. А здесь я хочу только сказать, что книгочеем я был давно. А теперь я начал запоем читать новых поэтов. И, конечно, писать — очень скоро писать совсем по-другому. Но об этом позже, сейчас — о чтении. Прежде всего, как знает читатель, я стал запоем читать Маяковского, кумира тогдашней молодежи. Он, а не Пушкин или Лермонтов, был моей первой любовью в поэзии. Только вот — в поэзии ли? Забегая вперед, отвечу: дело, по-видимому, было не только в поэзии, но все же и в ней.
Впрочем, Маяковский занял слишком большое место в моей жизни, чтобы упомянуть о нем здесь только мимоходом. Тем более что дело никак не ограничивается мной. Громадное место он занимает во внутренней биографии нескольких поколений нашей молодежи (не только поэтической, а вообще интеллигентной). Так что говорить о нем, о его роли и о месте, которое он занимал в жизни и поэзии, придется более подробно. Хотя то, что я скажу, никак не претендует на анализ и оценку его творчества. Это больше обо мне, о нас, чем о нем. Но в связи с ним.
Маяковский и наша жизнь (Вставное эссе)
Я давно уже не поклонник этого поэта, и претензии мои к нему отнюдь не «гражданские» (такие людям моего поколения лучше предъявлять к самим себе), а глубинно-эстетические, общекультурные. В чем-то они смыкаются с «мещанской» оппозицией к нему, которая существовала всегда и которая в юности только усиливала мое тяготение к нему. В чем-то совсем не смыкаются. Конечно, я уже давно не презираю «мещанский» здравый смысл, не считаю даже, что он вовсе чужд или противопоставлен всему поэтическому, но и не считаю, конечно, что поэтическое сводится к нему. Я ненавижу все попытки подавить авторитетом некоего высокого вкуса (часто только считающегося таковым) непосредственность читательского восприятия, естественность читательской потребности. И я не считаю читательским восприятие человека, который случайно заглянул в стихи, ничего в них с первого раза не понял и обвиняет в этом не себя, а автора.
С Маяковским, конечно, все было не просто, скорее запутанно. Трудности, которые при чтении его стихов испытывал рядовой читатель, не были трудностями обогащающими, обязательными. Они часто представляли собой неоправданное насилие над читателем. И опять — Маяковский к этому насилию, безусловно, не сводится. А в то же время оно органическая часть его поэтического мировоззрения, которое позволяло ему идти на поводу у самоутверждения.
В этом смысле большое впечатление произвела прочитанная мной в середине восьмидесятых книга Юрия Карабчиевского «Воскрешение Маяковского», особенно ее первая часть о дореволюционном творчестве поэта. Там показывается, как это самоутверждение мешает читательской самоидентификации с автором, другими славами, сопереживанию, сочувствию. Это значит, что читателю для того, чтоб воспринять эти стихи, надо через что-то в себе переступить. Безусловно, эта демонстративная легализация самоутверждения (а вовсе не служение «атакующему классу») наложила свой глубинный (и неприятный) отпечаток на дальнейшее развитие русской поэзии. Говорят, сам Карабчиевский, по его мнению, эту свою работу перерос. Но я так думал и до его работы — он просто талантливо и точно сформулировал это понимание. И я не вижу смысла ее перерастать.
Но я пишу сейчас не о том, каким я вижу Маяковского сегодня, а об его роли в нашей тогдашней жизни. Странно — это было время, когда «лучшего и талантливейшего» «насаждали, как картошку при Екатерине» (Пастернак), но при этом он был для нас единственно доступным глотком воздуха. Может быть, даже не очень свежего, но воздуха, а не суррогата, от которого нас потихоньку поташнивало — независимо от того, сознавали мы это или нет.
Прежде всего он был для нас отголоском предыдущей, послереволюционной эпохи и залогом того, что она продолжается и сегодня. Тем более, что ведь сам Сталин его отметил. Тем самым, кстати (без всякой, впрочем, своей вины), поэт облегчал нам конформистские выходы. Но главное, чем он был привлекателен для нас, — это его тотальный антимещанский пафос. Под этим знаком воспринималось и его дореволюционное творчество, и его приятие революции, и все последующее. От мещанского царства таким образом защищалась и любовь. «Я с небес поэзии бросаюсь в коммунизм. Потому что нет мне без него любви». Эти строчки сыграли, как ни странно, большую роль в развитии моих представлений о природе поэзии и о личности поэта. Да и личности вообще. При всей общественной направленности моих интересов, становилось ясно, что в поэзии любые общественные чувства должны иметь личную (точнее, личностную) подоплеку. Надо сказать, что потом, когда я стал понимать Пастернака, это было блестяще подкреплено и его опытом. «Нет мне без него любви» — означало, что поэту нет любви в этом негармоническом мире, где человек зависим от «быта», от имущественных отношений, от всякой прозы. Эта романтическая ненависть к прозе было тогда свойственна не только Маяковскому и заводила порой очень далеко.
«Я ненавижу мир, где женщины рожают. Где скверных пьяниц рвет, где дважды два не пять…» — писал в начале двадцатых молодой Павел Антокольский. Роды женщин и рвота пьяниц — в одном антипоэтическом ряду. Очень в тогдашней молодой литературе разного качества презирались кухни, пеленки и все подобное, отрывавшее, по мнению одних, от общественной жизни, по мнению других — от поэтичности. Впрочем, в представлении многих это совпадало. Даже Пастернаку, которому по складу личности и дарования никак вроде бы не пристало отвращаться от прозы жизни, — и тому показалось тогда адом место, «где женщин в детстве мучат тети. А в браке дети теребят». Кстати, откуда взялись «тети»? Присматривали за девушками? Другими словами, делали то же, что потом иным способом дети — мешали женщине выполнять назначение более возвышенное — беспрепятственно окрылять?
В самом этом желании вечной гармонии, радости и высокости нет для поэта ничего зазорного. Оно, можно сказать, подпочва поэзии, причина боли, романтики трагической несовместимости с бытием. Но никогда это стремление к гармонии не выливалось в столь конкретные требования к бытию, выговоров ему. Это было в духе времени, когда люди стали «штурмовать небо», когда требование гармонии претворилось в утопические планы, когда невозможного не стало, ибо все жили для невозможного, а сомневающихся в этом считали низменными и, возмутившись, порой даже убивали сгоряча. Гармония стала утопией, утопия — критерием оценки жизни и требований к ней…
Так что фраза Маяковского о том, что без коммунизма ему нет любви, сегодня мудрой не кажется и сочувствия не вызывает. На свете жило и живет много поэтов, которым «была любовь» и без коммунизма, которые переживали ее драму в этом негармоническом мире. Более того, именно в противостоянии дисгармонической действительности особенно остро ощущалось обаяние поэзии.
Все это так. Но тогда только таким образом я мог получить представление о необходимости гармонии. Да, здесь она подменялась и огрублялось утопией, т. е. реальным стремлением ее воплощения в жизни, но ведь очень много было на свете стихов, где и в подтексте не было ни гармонии, ни ее заменителя, а просто рассказывалось о перипетиях личной или общественной жизни. Для меня не удивительно, что на коммунизм клевали иногда подлинные поэтические личности во всем мире (Назым Хикмет, Поль Элюар) — заложенная в них тяга к гармонии соблазнялась утопией. Кстати, в творчестве эта тяга к гармонии могла оставаться самой собой. Как ни странно, соблазн коммунизма (конечно, если коммунисты не у власти) не всегда противоречит творчеству. Но все равно ведет к трагедии, к разладу, потому что гармония — естественная потребность, а утопия — ложное обещание, обман. И все-таки место гармонии (хоть я не знал еще этого термина) в поэзии я начал понимать на творчестве Маяковского. Через него мне потом открылись и другие поэты, включая Пушкина. Не говоря уже о том, что именно в связи с ним я вышел на Блока, Ахматову и других, больших и малых, в том числе и «революционно попутнических» поэтов XX века. Но это уже не его заслуга — другие выходы для меня, провинциального мальчика из средней семьи, были если не просто закрыты, то плохо освещены, не видны. В связи с Маяковским всплывали их имена и строки, вспыхивал интерес.
У его популярности была еще одна причина, отчасти связанная со многим, о чем сказано выше, со специфическим для того времени восприятием антимещанского пафоса, о котором уже шла речь. Но речь идет не о глубинном бунте против нормального бытия, а о самом наглядном неприятии «советского мещанина», к которому глубинный бунт при желании только подверстывался, как исток. Этого мещанина мы ненавидели, хотя принимали за него нечто другое.
Надо сказать, что и тут мы хватали лишку. Насмешка над советским обывателем, захваченным врасплох идейной властью, определение ценности его личности и даже ее права на жизнь, исходящая из требований, которые представители этой власти вправе (и обязаны) были бы предъявлять только к самим себе, кажется мне сегодня противоестественным хамством. Кстати, как и вечные жалобы «идейных» на «примазавшихся» (слова-то какие инфантильные, Господи!), — дескать, все дурное от них. Если кто-то захватил и подчинил своей идее всю жизнь страны, не оставив никому никаких дорог, кроме как с ним, если практически вынудил каждого жителя как бы оправдывать свое право на существование не только обязательной лояльностью, но и тем, что его жизнь полезна этой не своей «идее», то этот «кто-то» не вправе жаловаться, что к нему «примазываются». Какими бы ни были эти «примазавшиеся» и как бы мы к ним ни относились, в том, что они вынуждены были к нему «примазываться», виноват он сам. А поскольку в большинстве случаев обыватель жил и чувствовал не совсем так, как выходило по «идее», достигался еще один, может быть поначалу побочный, но оказавшийся полезным для власти эффект — этот обыватель всегда чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. Таков самоубийца Н. Эрдмана, таковы герои М. Зощенко. Все эти соображения я привожу здесь только для того, чтобы задним числом не участвовать в этой позорной травле обывателя.
Но Маяковскому мы были благодарны именно за нее. Обыватель, мелкий буржуа, бездуховное и безыдейное мурло мещанина, — это было именно то, что погубило революцию и в то же время то, в отрицании чего, как мы были уверены, мы все были заодно с властью. Другими словами, злом, против которого можно было выступать (и к которому, что самое главное, можно было легально сводить все, что нам не нравилось). Это было нам очень нужно — особенно когда мы диалектически переходили на сторону власти…
Правда, мы и тут ошибались. Антимещанский пафос интересовал предыдущую формацию власти — Бухарина, Луначарского, Троцкого — вообще «революционеров». Они требовали идейности, а безыдейность ассоциировалась с мещанством. Инфантильный термин «примазавшиеся» — слово из их лексикона. Сталин же, при котором мы жили, не только этому антимещанскому пафосу не симпатизировал (конечно, отнюдь не их тех соображений, из которых исхожу сегодня я), но относился к нему враждебно. И, надо сказать, имел для этого все основания. Он расставлял повсюду других людей, никакими идеями не обремененных, часто имевших весьма смутное представление о том, что такое идейность, но дисциплинированно готовых усвоить любое толкование и «выполнить любое задание». Из таких и формировался его аппарат — в центре и на местах — его номенклатура. А ведь они-то с точки зрения ортодоксального большевизма в массе и должны были считаться «безыдейными», «мещанами» и даже «примазавшимися».
В принципе такая «верноподданность» — вещь нормальная для чиновника, а чиновники нужны любому нормальному государству. Но беда в том, что сталинское государство не было нормальным, что «чиновники» эти обязаны были быть стражами «идейности», что очень часто они были случайными, а то и малограмотными людьми и что проводить они должны были странные, чреватые страшными последствиями мероприятия. И приспособленный к уровню их понимания «идеал». Конечно, в нашем антимещанском пафосе было отрицание и этого «идеала», и его носителя, в сущности — номенклатуры. Даже когда мы оправдывали Сталина, эти люди мыслились как безыдейные мещане, пробравшиеся на важные посты. Но Сталин лучше знал, как и благодаря кому они «пробрались». Именно на таких он и ставил. Так что неудивительно, что он подверг разгрому фильм «Закон жизни» по сценарию известного тогда, обласканного самим Горьким писателя Александра Авдеенко о комсомольском работнике-мещанине. С той поры номенклатурные и партийные работники должны были в фильмах и книгах выглядеть только положительно. И вообще борьба с мещанством не одобрялась. У нас не было больше мещан. Т. е. были, но в отдельных случаях.
Но Маяковский оставался лучшим и талантливейшим, а у него все это было в полной мере. Даже зачатки номенклатуры он заметил (стихотворение «Помпадур», пьеса «Баня») и говорил об этом прямо, хоть и с революционных позиций. Но они тогда были для меня естественны.
И каковы бы ни были мои сегодняшние претензии к нему, в поэзии он был очень цельной фигурой и моей первой любовью. Конечно, он очень талантлив. И неудивительно, что через него мне открылись и многие другие поэты, часто на него совсем непохожие… Он был живым воплощением противостояния поэзии «быту», в том числе и тогдашнему, которому надо было противостоять. И мы за него хватались как за соломинку. И то, что он был порой трудно читаем, нас не отталкивало — это мещане любят гладкопись, а нам в ее отсутствии открывается высокое причастие. Так чувствовал я, и не только я. И я ему подражал — и в стихах, и в жизни — даже старался вести себя скандально, хоть это и противоречит моей природе. Но зато — против мещанства.
Соблазны далекой запутавшейся (да и специально запутываемой) юности. Такую роль сыграл в нашей жизни Маяковский. Он нас возвращал к бунтовщицким истокам и к культуре, располагал к непримиримости и к конформизму, к правде и к обману. И все-таки к какому-то духовному самосознанию. Потом оно у многих изменилось, но для того чтоб измениться, оно должно было быть порождено, сохраниться и утвердиться в то время как вся мощь сталинского оболванивания была направлена на его исчезновение. И в том, что оно не исчезло, есть и его заслуга. Волей судеб? Конечно. Но для того чтоб соответствовать этой воле судеб, надо было что-то и иметь. И сквозь все мое сегодняшнее неприятие его творческого направления я смиренно и с благодарностью признаю: что-то в нем было и есть. И это «что-то» — немалое.
* * *
Но все эти коллизии с Маяковским были потом — вскоре, но потом, а тогда я только начал его читать. Правда, все, что было со мной до войны, было «вскоре» — срок был больно короткий. Ведь она началась уже через два с половиной года после того, как я впервые в тринадцать лет шестиклассником пришел на занятие литкружка, началась, когда мне было неполных шестнадцать, и я перешел в девятый. Но очень многое вместилось в эти два с половиной года, многое произошло во мне, со мной и страной.
За эти годы я навсегда ушел из жизни двора. Участие мое в жизни семьи тоже теперь сводилось к минимуму. Все мое время и внимание, кроме школы, занимали стихи, книги и разговоры с товарищами. Товарищами по школе и по литкружку. В сущности, это было одно целое, оно расширялось и перемешивалось. Я жил в городе, где у меня появлялось все больше и больше знакомых и друзей, с которыми разговаривали о том, что волновало. Становился шире и глубже круг моих мыслей. Во-первых, потому, что я становился взрослей, во-вторых, — к моим прежним размышлениям прибавились размышления о поэзии. Разумеется, мои тогдашние «мнения» как общественные, так и эстетические, были еще очень далеки от моего сегодняшнего понимания, но они у меня уже были. Даже о поэзии.
Впрочем, хотя кружок произвел на меня колоссальное впечатление, поначалу я по-прежнему не надеялся, что стану поэтом. Но стихи начал писать с каким-то невероятным упорством — как говорится, в школе и дома. Пробовал себя и в других жанрах, писал еще рассказы и пьесы — из революционной жизни, конечно (другой я еще не знал). Впрочем, и о шпионах тоже бывало — как в тринадцать лет обойти эту увлекательную и насущную тему! Написанное тащил на кружок, где оно неизменно обругивалось. Но это меня не останавливало — к следующему занятию кружка я снова что-нибудь приносил. И все повторялось. Но кое-что и менялось. Ведь обругивали меня с самых «высокопрофессиональных» позиций, какие только и могут быть у неофитов. Каждый, кто впервые хотя бы на отдалении сталкивается с литературными кругами или кружками, немедленно становится неофитом профессионализма, начинает горделиво понимать, «как это сделано». Это может быть и на пользу, если человеку есть что сказать и он долго на этом не задерживается. Или безвредно — если человек в юности побалуется, а потом бросит. Это ведь литературная грамота. Процесс овладения ею в чем-то сходен с процессом овладения просто грамотой. Сначала человек не умеет писать вообще, потом, научившись, пишет везде, где удается, и только в конце концов пишет, где надо. С той только разницей, что до этого последнего этапа литературной грамотности добираются немногие. Жалко тех, для кого это «как сделано» останется высшей и последней мудростью или лучшим воспоминанием, кто за этим так и не вспоминает о более элементарных вопросах — «что?» и «зачем?».
Но если на этом особенно не задерживаться, это необходимый этап. Мне тогда, во всяком случае, все это пошло на пользу. Рассуждения литкружковцев не могли быть особенно квалифицированны, то, что говорила Адочка (так мы называли между собой нашу руководительницу Ариадну Григорьевну), было вполне квалифицированно, но поначалу ее мыслей до конца по малограмотности еще не понимал я сам. Но все вместе это открыло мне одно: что все тут не так просто, как кажется случайному читателю, и что тут есть о чем думать. И этого оказалось достаточно. Развиваться в этом направлении я стал с этого времени очень быстро. Если в начале этого периода я не понимал, что поэма одного из моих друзей представляет собой подражание «Думе про Опанаса» Эдуарда Багрицкого (до этого я слышал однажды по радио «Смерть пионерки», но не задумался над тем, кто ее автор), то теперь я любил Багрицкого и оперировал этим именем вполне свободно. Очень высоко котировался в моих глазах Асеев. Как друг Маяковского и как поэт антимещанского пафоса. Импонировала сама его формула приятия революции: «Да здравствует революция, прогнавшая власть стариков!» Впрочем, в те времена эти стихи Асеева, хотя сам он тогда был не только в славе, но и в чести, уже не печатались.
Была такая категория произведений 1920-х годов — они не преследовались, но, по возможности, и не печатались, а когда печатались (совсем их не печатать было нельзя — некоторые из них считались советской классикой), то искаженными, приглаженными, нафиксатуренными. В них не было никакой политической взрывчатости, но они просто не соответствовали эмоциональной атмосфере наступившей эпохи, напоминали отмененные времена, которые поэтому тем, кто их не знал, начинали казаться романтическими и чистыми. Отсюда и тяга к революционной, «попутнической» литературе 1920-х годов, к ее «настоящим» текстам.
В магазине, который уже здесь упоминался, я набрел не только на Асеева, но и на неизвестного мне тогда Александра Прокофьева. В шестидесятых среди ленинградской (не литературной, правда) интеллигенции о Прокофьеве как о поэте судили по его поведению в должности главы ленинградской писательской организации, поведению — что говорить! — очень непривлекательному, и поэтому считали чуть ли не бездарью, а он если уж чем точно не был, так это бездарью. Даже тогда, в момент наибольшего своего падения, когда он («секретарским» образом) печатал целые подборки невыразительных стихов, в них — пусть одно на десять — попадались стихи подлинные, первозданные. А когда я впервые прочел его предвоенный сборник, я просто был ошеломлен и поражен яркостью его стихов. Признаюсь сразу — Прокофьев никогда не относился к числу моих любимых поэтов. Его внутренний мир не требовал самоуглубленного лиризма, необходимого мне для полной самоидентификации с автором. Но он мне всегда нравился, всегда поражал и радовал меня каким-то лихим самоупоением самим процессом жизни, яркостью восприятия. Особенно в первый раз. К такому я не привык и такого не ждал. Это противоречило всем моим представлениям о поэзии. Но это было поэзией, в этом была сила поэзии. Я ее чувствовал, хоть не знал, почему это так.
Читал я и многих других поэтов. Старых тоже. Лермонтова, естественно, (болезнь возраста, хоть у некоторых этот возраст навсегда) предпочитал Пушкину. Пушкина, следуя Маяковскому, «сбрасывал с парохода современности». Это мне давалось тем легче, что я искренне верил, что в отличие от Лермонтова, у которого глубокие чувства, у Пушкина одна только гладкопись. Но потом это прошло — Пушкин все равно как-то исподволь проникал в меня и проник. Читал я и Ярослава Смелякова. Его «Любка» потрясала меня, как и многих своим хотя и комсомольским по сюжету, но все же неприкрытым лиризмом. Из-за чего она и считалась упадочнической. Особенно в годы первой пятилетки, энтузиастом которой Смеляков оставался до последних дней. Тем не менее на ее исходе он был арестован — еще не НКВД, а славными органами ОГПУ (другими словами, до вакханалий «тридцать седьмого» — может, поэтому он и не был объявлен «врагом народа») за какую-то реальную или приписанную выходку (точно, в чем было дело, не знаю) и в описываемое время заканчивал свой первый лагерный срок. Пока он сидел, сменились эпохи, посадили тех, кто его сажал (конечно, не за то, что они это сделали), а он все сидел. Но по окончании срока он вернулся в Москву. Это было уже перед войной, перед новым кругом его мытарств, через год или два после моего знакомства с его стихами.
После того как в мою жизнь вошел литкружок, время для меня сорвалось с места и полетело. Скоро я уже не только читал стихи, но и писать их стал иначе, чем писал до этого, начал серьезней относиться к своему творчеству — стихи стали четче и определенней. И понемногу я начинал чувствовать силу. Да и другие стали говорить обо мне серьезней.
Тогда я написал первое запомнившееся мне стихотворение, представляющее собой хоть и юношескую, наивную, но все же собственную реакцию на жизнь:
Так спокон веку повелось — Что умным в жизни счастья мало. А дураку — где взгляд ни брось, Судьба повсюду помогала. Я разгадал секрет. И вот Я говорю: к нам счастье строго, Не потому, что не везет, А потому, что надо много.Стихотворение это, написанное мной в шестом классе, конечно, юношеское, неумелое. В нем «где» вместо «куда», «помогала» вместо «помогает», словесные неточности — вроде выражения «к нам счастье строго». Может удивить и нескромность отнесения «нас» (то есть и самого себя) к разряду заведомо умных. В принципе, как «ученик Маяковского», я тогда на такое был способен, но не поручусь, что и эта нескромность — не результат неумелости. По-видимому, имеются в виду не «умные», а «мыслящие», «взыскующие града». Впрочем, мне тогда понятия «умный» и «мыслящий» казались тождеством. Помню и такое четверостишие, где та же путаница:
О том, что нас мало, что будет беда, Жужжит мне дурак везде уже. Но сколько нас бродит по всем городам И влюбляется в умных девушек.В этом четверостишии больше самосознания, ощущения поколения и даже четкости, но есть громоздкость, и всего стихотворения я не помню, так что приведенное раньше восьмистишие я так или иначе считаю первым своим стихотворением.
Но все больше занимаясь поэзией, все же главным образом я продолжал учиться в школе. И отнюдь не в старших классах — в шестом, в седьмом. Большого противоречия между школой и своим увлечением я долго не замечал. У нас была хорошая учительница по языку и литературе Мария Ивановна Семенович. Потом, в конце моего пребывания в этой школе у меня с ней вышел конфликт, но главного он не меняет. Она вполне соответствовала детскому представлению о том, что учитель литературы должен быть не только грамотным, но и культурным человеком, любящим и понимающим литературу. Она и сама писала стихи. Однажды, уступая нашей с Люсиком просьбе, даже прочла нам их в пустом классе, и они нам понравились. Вроде, если мне не изменяет память, в них тоже была романтическая печаль по «весне военного коммунизма». Во всяком случае они были вполне современны по интонации и поэтике. Так что особого противоречия между школьной и не школьной литературой я чувствовать не мог. Правда, рядом была учительница, которая, когда проявлялась, этих качеств не выказывала (а детский суд строг), но она преподавала не у нас, и мы ограничивались тем, что презирали ее, как мещанку. Впрочем, в рамках школьного обучения она была, по-видимому, человеком сведущим — тогда еще в городах иное и не мыслилось.
Начались влюбленности. Мы с Гришей и еще несколько ребят были влюблены в его одноклассницу Тамару. А она «любила» не нас. Все это не мешало нам всем дружить самой нежной дружбой. Но все перипетии наших чувств отражались в стихах. Помню строки из забытого стихотворения:
Завтра — контрольная. Завтра — гроза. Выучил я до нормы… Но если из книги глядят глаза Вместо химических формул!Напоминаю: все это происходило во второй половине тридцатых годов. Несмотря на все мои подозрения насчет преданной Сталиным революции и уничтожения настоящих революционеров, а также насчет безыдейности комсомольских работников — я до конца не знал и не представлял, какие это годы. У Давида Самойлова сказано о его ровесниках до войны: «В них были вера и доверье». У меня вера была не всегда (часто сомневался), но доверие — было. И не только к людям — оно у меня осталось и редко меня обманывало. Но и иное доверие, допустим доверие к званию. Не только к званию учителя (что раз учит, значит, знает), но, несмотря на филиппики против безыдейных карьеристов, даже к званию партработника. Я полагал (иногда!), что некоторые из них чего-то не понимают, а иногда — поскольку держались они очень уверенно, — что они, вероятно, имеют в виду нечто, чего не понимаю я. Что они ведут себя уверенно, ничего, кроме последней установки, в виду не имея, а порой и не зная, что надо (или даже сознавая, что не надо) что-то иметь в виду, я мог себе тогда представить только отвлеченно, даже не теоретически, а риторически. При встрече с живым человеком это знание улетучивалось. И это способствовало моим переходам на официозные рельсы, тогда и позже.
Как я теперь понимаю, эти мои переходы на официозные рельсы были для меня, как это ни странно на первый взгляд, наиболее опасны. Когда я бывал «против», я все-таки бывал в какой-то степени осторожен, а когда «за», осторожность терял всякую. А этого делать нельзя было ни в коем случае. Для Сталина и сталинщины своих не было, сторонники не требовались. Требовались холопы, не задающие вопросов и знающие свое место. Неудивительно, что и арестован в 1947 году я был, находясь на восторженно-официальных позициях. Нужны они были кому-то, мои позиции!
В детстве они были тоже никому не нужны, но я этого еще не знал (впрочем, как в юности и молодости). И поэтому полагал, что «антимещанские» пафос тогдашних моих стихов соответствует не только моим чувствам и мыслям, но и «линии», и должен быть близок и желателен тем, кто ее проводит. Кроме того, тут я следовал Маяковскому, превозносимому за это же до небес. Да и партию ведь, если она партия, не могло же не пугать, что ее «великое дело» может потонуть в море безыдейности. Представить же, что к тому времени это образование уже не было партией и его ничто не могло волновать, я тогда до конца еще не мог.
Мои представления о ней — это тот определяемый вовсе не возрастом инфантильный антропоморфизм, в который впадали, ища объяснения примитивным решениям, не только зеленые юнцы, не только ошалевшие граждане изнасилованной страны, но и государственные деятели независимых и даже враждебных государств. Не говоря уже об «интеллектуалах», для которых все примитивное — неправдоподобно. Всем человечеством мы придумывали объяснения и мотивы поступков Сталина и его порождений — ему и трудиться не надо было. Потому что то, что мы видели и что проявлялось достаточно открыто, было слишком нелепо, слишком низменно и слишком унизительно — хоть для меня, хоть для Черчилля (для него чуть менее — он не беспокоился о чистоте «идеи»).
Но тогда я все принимал за чистую монету, и неприятности у меня начались очень скоро. Все они происходили вокруг директора нашей школы Ивана Федоровича Головача, личности вопреки мнению многих, кто его знал, примечательной, представлявшей собой любопытный штрих того времени ну хотя бы потому, что в школу он попал, будучи по какой-то причине снят с поста редактора какого-то республиканского партийного журнала. Одно время он преподавал у нас украинский язык и преподавал хорошо, чувствовалось, что он к этому вполне подготовлен. Пластов культуры за ним не чувствовалось, но квалификация была. Видимо, кончил нечто вроде Института красной профессуры. Повторяю: неграмотных учителей тогда в городах почти не было.
Но вернемся к директору. Оговорка насчет иного мнения многих не лишняя. Такой высокоинтеллигентный, порядочнейший и тонкий человек, как Ирина Владимировна Бошко, преподававшая тогда русскую литературу в старших классах нашей школы, никакой примечательности за ним не признает. Она вспоминает об его примитивизме (приставал к уборщицам) и хамстве. Ей приходилось выдерживать неприятные схватки с ним на педсоветах (в том числе и в мою защиту). Ее он тоже травил как мог, чувствуя в ней «животное иной породы» (она происходила из старинной интеллигентной семьи), и испортил ей много крови. И, конечно, все это характеризует его. Я и не утверждаю, что он был хорошим человеком. Но тривиальным — особенно для своего времени — он тоже не был.
Схватки мои с Головачом начались со стихов, которые я прочел то ли на школьном вечере, то ли даже на школьном литкружке, куда как раз в это время нелегкая занесла директора. Ей-Богу, они не были антисоветскими — что-то опять насчет мещанства. Или еще более глупые — против танцев. Танцы тогда перестали преследоваться и начали поощряться, даже пропагандироваться. Они символизировали достигнутое счастье, заглушали память о недавних трупах на улицах и «громыхание черных марусь» (они же — «черные вороны»). Людей уводили в никуда среди всеобщего счастья, символизируемого танцами. Кое-что из этого я, наверное, чувствовал и тогда, но главное, что я справедливо чуял в общем танцевальном ликовании — это противопоставление дорогому мне революционному пуританизму. Поэтому я всячески поносил тогдашних танцующих, за что сегодня запоздало прошу у них прощения, и разоблачал танцы как «скрытое лапанье», за что прошу у них прощения вдвойне. Во-первых, потому, что в танцах нет ничего плохого, во всяком случае гораздо меньше, чем в моем революционном пуританизме и идейности, во-вторых, потому, что слишком многое вскоре после этого легло на плечи этих тогдашних «безыдейных» парней и девушек — хорошо, что хоть потанцевали немного.
Тем не менее, директор уловил в этих стихах крамолу. Возможно, даже почувствовал то, чего я и сам не понимал, а именно — то, против чего я на самом деле протестовал. Он ничего не понимал в литературе, в общекультурных вопросах (и в этом смысле был тускл — тут Ирина Владимировна была абсолютно права), но политическую обстановку он, судя по всему, понимал тонко — не только нюхом чувствовал, но и понимал. Так или иначе, разразился скандал. На первый раз не очень крупный. Но с тех пор он буквально начал меня преследовать. Мог, встретив меня в коридоре с какой-нибудь бумагой в руках, остановить и вырвать ее для проверки. Со стороны (и из другого времени), вероятно, это выглядело бы смешно — крупный импозантный мужчина в сером костюме, борющийся с малолеткой-недомерком за какую-то бумажку. Но тогда это не выглядело смешно. Правда, и особой опасности я тоже в этом не ощущал. Может быть, по глупости. Вообще, оглядываясь назад, могу сказать, что судьба меня всю жизнь хранила, как лунатика. Лучше было бы сказать «Бог», но не хватает самомнения.
Однако ситуация эта должна была чем-то разрядиться, ибо писать я не бросал, а его это не переставало беспокоить. Он ясно чувствовал, а может, и сознавал существо нарождающегося строя и хотел к нему приспособиться. Может быть, это было связано с обстоятельствами, при которых он был снят с поста редактора, — не знаю. В сущности очень многие из пострадавших тогда партийцев больше всего хотели доказать свою продолжающуюся верность партии. К тому времени уже давно силой вещей вся вера коммунистов сводилась только к вере в партию, в объединение партийцев, в самих себя, как в фетиш, в тавтологию. Это был абсурд, но к нему привыкли, и он устраивал — и материально, и нравственно. Потерять это — значило потерять не только положение, но и оправдание жизни и кое-чего из содеянного. Почти все они хотели доказать свою преданность, но не всем была предоставлена такая возможность. У расстрелянных и посаженных ее не было (хоть и у них была такая потребность). Головачу — повезло. И он старался — по-моему, вполне сознательно. События не заставили себя ждать.
Однажды (это было уже в седьмом классе) на каком-то праздничном вечере я прочел свое новое, довольно длинное стихотворение, точнее, романтическую балладу. Написано оно было от имени некоего партизана Гражданской войны и обращено к его боевой подруге, которую он когда-то любил и с которой он вместе боролся с врагами революции. Потом он был ранен, потерял ее из виду и обнаружил только теперь. И — о, ужас — какие метаморфозы:
Я смотрю и вижу, И глазам не верю. Барыня какая-то Приняла меня. Не она — работница Мне открыла двери… На диван сменила ты Буйного коня.Целиком я этого стихотворения не помню и не хочу помнить — все оно было написано в таком духе. Ритмически оно подражало смеляковской «Любке», но поэтически оно все было написано столь же наивно и неопределенно, как приведенные строки. Однако впечатление почти на всех, в том числе и на меня самого, производило оглушительное, как всеобщий крик души. Теперь я понимаю, что по тогдашним нормам оно, действительно, было на грани, хотя буквальное содержание не дает для этого никаких оснований. При желании его бы вполне можно было истолковать как дополнительный пинок в спину оттесняемым от сцены. Дескать, раньше-то вы, может, и «мчались в боях», а теперь омещанились, ожирели и все предали. Но так никто не истолковывал. В том числе — вопреки собственному сюжету — и я сам. И дело не в каких-то поэтических иносказаниях, — их тут и следа не было, — дело в контексте времени.
Конечно, советская начальственная барыня конца 1930-х ни на каких конях никогда никуда не скакала, она с самого начала выбивалась в барство или быстро привыкла к нему, когда «выдвинули» ее мужа или ее самое. Но всем важна была констатация того, что бывшее раньше высокой романтикой (знали бы мы тогда, чем оно на самом деле было!) теперь превратилось в бессмысленное барство, в обступающую со всех сторон бездуховность. Собственно, эта коллизия часто встречалась в попутнической литературе 1920-х годов, и тогда это вовсе не считалось крамолой. Подсознательно я только подражал этой традиции — конечно, не с целью переадресовки обвинений. Но вне традиции я еще не умел ни мыслить, ни выражаться. Да и не было у меня еще жизненного опыта для того, чтоб почувствовать реальные черты антигероя наступившего времени. Через год разразился уже упоминавшийся скандал с кинофильмом «Закон жизни» по сценарию дотоле вполне ласкаемого Александра Авдеенко, впервые нащупавшего образ этого героя. Состоялась первая тотальная проработка писателя, с участием коллег «выяснилось» (у Сталина всегда все к случаю «выяснялось»), что свою, тогда знаменитую, книгу «Я люблю», написал не он сам, а Горький за него, словом, Авдеенко стерли в порошок. Таким путем всем дали понять, что этот герой неприкасаем, находится под особой охраной государства и партии.
А наш директор знал заранее, куда идет. Может быть, потому, что знал, откуда шло. Поразительно, что при всей травле он никакой личной враждебности ко мне не испытывал, скорее симпатию. И иногда потом разговаривал со мной вполне откровенно. Но это потом.
Я не помню, что именно он предпринял сразу, но какая-то атака была. Причем имела она целью, как вскоре стало ясно, выпереть меня из школы. Какую-то роль в этом сыграла (кроме баллады) и каким-то образом (не помню, каким) попавшее ему на глаза другое мое стихотворение — «Лирическое отступление» (подражание асеевскому). Его он счел упадочническим — было тогда такое слово. Дело вышло громкое. Дело усугублялось еще одним моим «преступлением» — я «проявил неуважение» к Герою Советского Союза, участнику боев на озере Хасан. Это была первая еще до боев в Монголии, схватка наших войск с японцами и тогда много о ней писали в газетах и говорили по радио. Пионеры клялись этими героями. А я… На самом деле никакого неуважения к этому герою я не мог проявить, ибо его не испытывал. Было другое.
Однако расскажу по порядку. Была устроена встреча нашего отряда с этим героем, тогда курсантом артиллерийского училища. Для этого мы с нашей пионервожатой приехали в училище на Соломинку. Нас принял довольно приятный рыжий парень, видимо, член комитета комсомола, отвел в какой-то класс, усадил, сел за стол, предупредил, что герой сейчас придет, и стал говорить что-то подобающее случаю. Мы, как положено в таких случаях, молча внимали. Когда появился сам герой (я помню его фамилию, но не хочу ее называть, ибо он тут вообще ни при чем). Рыжий сделал соответствующий знак рукой и вполголоса предложил: «Встаньте, ребята, встаньте…» Все встали, я не встал.
Вот и вся история. Почему я это сделал? Я вполне уважал героя и его героизм, но меня оскорбила преднамеренность, инсценировка такого дружного проявления этого уважения, словно его на самом деле не было, и надо было его имитировать. Конечно, в своих истолкованиях я был не совсем прав. Рыжий ничего не собирался инсценировать — его просто подвела военная ритуалистика, вполне уместная в армии, но не уместная на «гражданке». Но слишком много было вокруг фальсификаций, слишком они меня раздражали и слишком похож этот эпизод был на любую из них. Так что в каком-то смысле я был и прав. Но когда я вспоминаю, что было с этими хорошими ребятами года через полтора после моего «подвига», мне становится не по себе — лучше бы встал. Но независимо от моих чувств — тогдашних и позднейших — поступок этот тогда работал против меня, приплюсовывался к числу моих прегрешений.
Не помню, стали меня тогда гнать из школы или нет, но что-то произошло такое, что, возмущенный, я отправился искать правды и защиты в райком комсомола. С чего я взял, что секретарь райкома должен разбираться в поэзии и вообще в тех проблемах, которые меня волновали, сказать трудно. Часто потом мы в своем кругу издевались над невежеством всяких руководителей в наших делах. Но тут ничего нельзя было поделать — им вменено было в обязанность нами руководить и нас учить, а они не отказались. Но я ведь шел сам, за поддержкой, уверенный, что если что-то понятно мне, то уж им, старшим товарищам, и подавно. По родству идей.
Наша школа находилась в Железнодорожном районе. Железнодорожный райком ЛКСМУ (комсомола Украины) тогда помещался возле самого вокзала. К его секретарю товарищу Миндлину меня пропустили беспрепятственно, хотя у него сидели какие-то люди. Обстановка мне понравилась. Люди в спецовках, гудки паровозов за окнами, гуща жизни. Тогда еще по инерции стиль поведения в райкомах комсомола оставался внешне менее официальным и более простым, чем после войны. Я сильно приободрился — я ведь в отличие от булгаковского профессора Преображенского «любил пролетариат», даже был воспитан в духе романтизации этого класса.
— В чем дело? — повернулся ко мне довольно дружелюбно товарищ Миндлин. Я вкратце изложил свои обстоятельства. Несколько ироническое добродушие еще не покинуло его.
— Ну давай прочти, посмотрим. Добродушие покинуло его, когда он услышал эпиграф. Эпиграф был из асеевского «Лирического отступления»:
Я доволен буду малым, Если грохнет он обвалом. Я и то почту за счастье, Если брызнет он на части, Если, мне сломавши шею, Станет чуть он хорошее.Лицо товарища Миндлина посуровело.
— Это ты написал? — грозно спросил он, ткнув в мою сторону указательным пальцем, хотя перед чтением я торжественно произнес: «Эпиграф»… Может, он не знал смысла этого слова, а может, впечатление от этих «ужасных» строк вышибло это слово из памяти.
— Нет, — удивленно ответил я. Дескать, как можно не знать таких простых вещей. Тем более Асеева, певца молодости и новизны.
— А кто? — не снижал тона товарищ Миндлин.
— Асеев.
— Что? — взревел товарищ Миндлин. — А ты знаешь, кто это такой?
Бедный секретарь спутал Асеева с Есениным, который тогда официально не одобрялся, и просить защиты у райкома, принеся стихи с эпиграфом из него, было бы наглостью.
— Знаю, — сказал я. — Поэт, друг Маяковского, его сейчас на Сталинскую премию выдвинули.
Тревога товарища Миндлина несколько улеглась. Но подозрительность осталась. И тут он задал свой самый знаменательный вопрос:
— Какого года издания книжка?
В этом вопросе — подсознательное признание произошедшего переворота. И даже его характера. Все книги, изданные до определенной даты в советских же государственных и партийных издательствах, — подозрительны. Мало ли что могли там эти «враги народа» напропускать. Хотя вроде мог и знать, что ни Есенина, чье авторство он заподозрил, ни упадничества, в котором заподозрил меня, эти «враги народа» и сами очень даже не жаловали.
Но он зря беспокоился. Книжка была самого недавнего года издания, куплена за недорогую плату в уже упоминавшемся магазине. Тем не менее камертон разговора был взят. Меня начали воспитывать, что-то мне объяснять, хотя мне до сих пор мне непонятно по какому поводу. От меня требовали скромности.
В принципе обвинения в отсутствии скромности я тогда вполне заслуживал. Думаю, что это объяснялось не свойствами характера, а возрастом и идеологией — ведь еще недавно всю молодежь воспитывали на том, что она все понимает лучше старших. Правда, уже несколько лет нас ориентировали на «авторитет учителя» (жертвой одной из кампаний по его внедрению я скоро стану), но это шло как-то параллельно. Кроме того, самомнения прибавляла мне и приобщенность к авангардизму и к творчеству. Да и мой любимый Маяковский располагал не к скромности. Но в данном случае требование скромности означало требование отказаться от самостоятельного мышления. В сущности, я ведь доказывал очевидное — что Асеев не Есенин, что он друг Маяковского.
Очень рассмешили меня тогда сказанные мне вполне серьезно и доверительно слова сидевшего рядом рабочего:
— Максима Горького читал? Там у него тоже… этот… сокол?.. Тоже высоко летал… Как бы и тебе так не кончить…
Тогда меня это насмешило. Как же! Истолковать «Песню о Соколе» прямо противоположно ее смыслу — как призыв не летать — это надо было уметь! За это ведь и в школе поставили бы двойку! Но сегодня меня это не смешит. Ну так этот рабочий не знал и не понимал литературы и даже Горького — что из этого? Зато он чувствовал, в какое время живет, и давал мне добрый совет. Конечно, можно спросить — зачем ему было быть при этом комсомольским активистом? Но на то и двоемыслие, мозги были запутаны не только у меня. По-разному, но у всех.
Так или иначе дело рассосалось.
Вероятно, на независимости моего поведения как-то сказывались мои относительные успехи в, если можно так выразиться, юношеских литературных кругах. Писали мы — я и мои друзья — все серьезней, наш вес в литкружке вырос, мы стали там доминировать. Однажды даже выпустили свой журнал и отправили на конкурс, объявленный «Пионерской правдой». Оттуда пришел восторженный отзыв Елены Ширман (отметившей, к слову сказать, всех, кроме меня). Но несмотря на этот отзыв, премии нам, по ее словам, не полагалось — мы не выполнили каких-то условий конкурса. Но это высшая точка нашего успеха. С увлечением поэзией, все более серьезным отношением к ней связан и рост интеллектуального развития. Вело это и к расширению круга знакомств, иногда очень ценных и интересных. Сблизились мы и с Ариадной Григорьевной, стали бывать у нее дома. Муж ее оказался очень интересным и необычайно образованным человеком, по любому возникающему вопросу у него можно было получить самые исчерпывающие и при этом нетривиальные сведения. Настолько образованных людей я до той поры не видел и не представлял.
Помню, например, рассказанную им биографию князя Васильчикова, секунданта Мартынова на дуэли с Лермонтовым. Оказалось, что этот князь был вовсе не светским хлыщом, а серьезным и мужественным, «человеком чести», осмеливавшимся противоречить и самому императору. По профессии Адочкин муж был журналист, но я почему-то считал, что он «только» фотограф, и это сбивало меня с толку. По дикости я тогда еще не знал, что бывают фотографы экстра-класса, художники. Впрочем, и сама Адочка, несмотря на молодость, была вполне ему под стать. Мне повезло, что с самого начала сознательной жизни я встретил таких людей.
Мужа Ариадны Григорьевны расстреляли немцы. Причем даже не за то, что он был евреем — хотя он и был им, — а как заложника, за несколько дней до окончательного решения еврейского вопроса в Киеве. Когда стали взрываться здания на Крещатике, немецкие солдаты ворвались в дом, где они жили, и увели оттуда всех мужчин. Так случилось. А всего за год-полтора до этого, сидя у Адочки, даже такие «оппозиционеры» как мы и в страшном сне не могли бы себе представить, что немцы будут ходить по нашему Киеву и врываться в его квартиры. С этой стороны, хоть нам прожужжали уши тем, что будет война, и мы в этом не сомневались, мы почему-то чувствовали себя в полной безопасности.
Все, что нам предстояло хлебнуть, было еще впереди, а пока наши литературные связи расширялись и постепенно вышли за границы нашего кружка. И однажды мы — а именно Гриша и я — пришли на литкружок Дворца пионеров. В Киеве и в русскоязычной среде чаще произносили на украинский лад — Палац пионеров, или просто Палац. Помещался этот «палац» в бывшем Купеческом собрании (потом там была филармония), в него упирался Крещатик. Мимо него по Александровской улице (потом Кирова) шел трамвай № 16 с Печерской на Подол…
О кружке при «палаце» мы уже были много наслышаны. Руководил ими Евгений Георгиевич Адельгейм, известный критик. Кружок вел хорошо и интересно. Происходил он из обрусевших шведов, но из-за своей фамилии он вынес потом на себе всю тяжесть антисемитизма, особенно во время «борьбы с космополитизмом». Впрочем, и до антисемитизма ему доставалось — он вполне справедливо разнес очередной шедевр Корнейчука — пьесу «В степях Украины». А она была сочтена нужной. Доставалось ему часто, хотя в герои он не метил. Просто был талантливым и культурным человеком — отчего и попадал часто «пальцем в небо» (если попаданием в точку считать угадывание «верховной воли»). Я помню его в тот день, когда вскоре после его статьи в украинской «Литературке» в «Правде» появилась статья, превозносящая разруганную им пьесу. Тогда я еще не знал, что означает статья в «Правде», — тем более что Адельгейма она и не поминала. А означала она, что критик ошибся, потому что вошел в противоречие с выяснившейся истиной. Такая мода, как мне кажется, только входила в жизнь, и до конца этого не понимал не только я, но и сам критик. Но, конечно, понимал он и чувствовал больше меня. Я, между нами говоря, ничего плохого в этой пьесе не видел — она высмеивала тех председателей колхозов, которые останавливались на достигнутом и не стремились из социализма дальше в коммунизм. Конечно, она оставляла в стороне вопрос о мировой революции, но все же — хоть что-то! Такая меня тогда волновала и такой, значит, тогда представлялась мне проблематика сельской жизни — расцветать дальше или остановить свой расцвет. Конечно, в одинаковые понятия мы вкладывали разное содержание, но тут мой инфантилизм сливался с государственным. Тошно мне иногда вспоминать о самом себе тогдашнем, о своей тогдашней бесчеловечной «идейной» логике, да что поделаешь — это было.
Тем не менее глаза и лицо нашего руководителя в этот день я запомнил. Мы вместе выходили из палаца после кружка и кто-то завел разговор о правдинской статье. Мои старшие друзья (о них чуть ниже) были в отличие от меня согласны с ним, а не с «Правдой» — просто больше меня понимали в литературе. Он отвечал с горечью и недоумением и вовсе не делал перед нами вид, что пересмотрел свои взгляды — тогда этого еще то ли не требовалось, то ли люди еще не осознали, что требуется. Все уже были «опытные» и знали, что нельзя спорить с «политикой». Но ведь это была не политика. Потом все поймут — «не умом, так поротой задницей» (выражение А. Н. Толстого), — что все, во что вложены амбиции товарища Сталина, — политика. Но тогда в полной мере этого не сознавал не только я, но и сам наш руководитель. Он пока только недоумевал — ощущал некоторую растерянность от невозможности усомниться в тех элементарных вещах, которые были сейчас попраны. И я ему сочувствовал, несмотря на мое идиотское отношение к проблеме. Мне было отвратительно насилие над мыслью, хоть я этого не сознавал. Да и слов таких мелкобуржуазных тогда отнюдь не чтил.
Но в тот день, когда мы пришли на кружок — это было то ли в конце 1939-го, то ли в начале 1940-го незадолго до экзаменов, — Адельгейм по телефону отменил занятие, и его не было. Не было и наиболее видных членов кружка. Правда, мы до тех пор о них не слышали, но здесь их уважали и, как потом поняли, уважали не зря. Хотя занятие было отменено, собравшиеся члены кружка предложили нам, как новеньким, почитать им что-нибудь для знакомства. Мы согласились. В те годы (и много позже) я был готов читать кому угодно и сколько угодно. Мы понравились. Но это было одобрение без хозяев. Когда мы пришли в следующий раз и стали читать при полном кворуме, хозяева обнаружились. Все они оказались старше нас, семиклассников. Это были десятиклассники Яков Гальперин и Марк Бердичевский, а также приехавший из Москвы на каникулы Муня (полной формы этого имени не знаю) Люмкис, тогда уже студент ИФЛИ. Был в их компании тогда и Толя Юдин, тоже уже ифлиец, и, кажется, я даже потом один раз его видел, но сейчас его тут не было.
До этой группы, развитие которой было прервано войной, была раньше в Киеве, как я узнал, другая, где видную роль играл Сергей Спирт, которого я тоже, кажется, однажды мельком видел, но стихов почти не знаю. Не знаю ничего и о других членах этой группы. Кроме Петра Винтмана, с которым я познакомился, когда он вернулся с Финской войны. Некоторые его стихи мне нравились, одно я даже запомнил, но ничего об этой предыдущей группе он не рассказывал — во всяком случае мне. Как и Сергей Спирт, с Большой войны он не вернулся. Многие из людей близких мне поколений откуда-нибудь не возвращались, — товарищ Сталин за все расплачивался щедро. Со Спиртом как-то был связан и будущий Иван Елагин — тогда Залик (Залкинд) Матвеев, с которым мы подружились в эмиграции и который как-то упомянул об этом. Но вскользь — ничего не приоткрылось. Поразительно, что мы с Елагиным оба жили в довоенном Киеве, писали и читали стихи и ни разу не соприкоснулись — даже кругами. А я ведь не жил замкнуто.
Но пора вернуться в Дворец пионеров. «Хозяева» поначалу оказались не очень любезны — окатили нас ушатом холодной воды, то есть изругали вдрызг и Гришу, и меня. Ругань была квалифицированной и несправедливой одновременно. Мы не были обескуражены (привыкли к ругани, хотя не к столь массированной), но были удивлены. Однако не сдавались — защищались, как могли. Собрание кончилось тем, что Люмкис прочел переводы из Рембо — он был очень хорошим переводчиком. Переводил с иностранных языков на русский, а иногда и с русского на украинский. Тогда он прочел перевод на украинский тютчевского «Лебедя». Мне все это понравилось. Тем не менее, я готовился к новым боям. Но их не понадобилось.
Однажды, вскоре после этого разноса, меня кто-то на улице окликнул. Я сначала не понял, что меня, ибо окликали не по имени. Но на улице народу было мало и больше окликать было некого. И кто-то явно за мной бежал. При ближайшем рассмотрении бежавший оказался Яшей Гальпериным. Он заметно хромал, однако передвигался очень быстро.
— Слушай, — сказал он, — где ты пропадаешь? Ты нам понравился, мы решили, что в тебе что-то есть.
Вот так! То обложили с ног до головы, то «что-то есть». Но я не обижался. Начался разговор, бесконечный разговор молодых поэтов об искусстве, вообще, бесконечный русский разговор о том о сем… Погуляли, а поскольку встретились на его улице (Маловасильковской, тогда Шота Руставели, идет от Бессарабки параллельно Большой Васильковской, но только до Жилянской), то зашли к нему. Кажется, у него уже кто-то сидел и в ожидании что-то читал. У Яши было много книг и много друзей, все старше меня, был даже один актер, любивший стихи, была прелестная невеста, одноклассница Надя Головатенко. Всех их я скоро узнал. Вообще он жил полной жизнью — как в таких случаях говорят: словно знал, что жить ему недолго.
У Яши я также встретился и с Марком Бердичевским. Выяснилось, что мы с ним давно знакомы. Когда мне было года три, а ему пять, наши матери целое лето вместе проработали в Феофании — монастыре, расположенном в Голосеевском лесу (за Демиевкой). Там в это время еще был монастырь, жили монахи, но, видимо, его потеснили какой-то детской колонией, где и работали наши матери. Ну и мы там жили при матерях. Я помнил, что там был «большой мальчик», а он помнил про маленького, но, конечно, мы друг для друга не ассоциировались с этим воспоминанием. Догадались родители. Короче, я стал часто бывать у своих новых друзей, вошел в эту компанию — не то как равный, не то как «сын полка», и был счастлив. Молодым поэтам нужны старшие товарищи.
Между тем учебный год, с которым связано появление в моей жизни новых друзей, постепенно шел к концу. Он был отмечен отнюдь не только радостными событиями и не только такими мелкими пока неприятностями, как мои схватки с Головачом или беседы с Миндлиным (хотя и за ними стояло многое). Были события гораздо более крупные, которые касались уже многих и не должны были ни у кого вызывать радость. Но тогда эти события меня, как ни странно, беспокоили не очень, а если вызывали беспокойство, то какое-то причудливое и странное. А события эти были мирового значения.
За несколько дней до начала этого учебного года был подписан договор Молотова с Риббентропом. С вторжения Гитлера в Польшу началась Вторая мировая война. На семнадцатый день после ее начала мы вторглись в Польшу с Востока для «освобождения» Западной Украины и Западной Белоруссии (чтоб еще через много лет освобожденные вспоминали, как хорошо им жилось «за Польшей»). Уже во время нашего знакомства началась война с Финляндией. После ее окончания мы захватили Прибалтику, а также возвратили себе Бессарабию, принадлежности коей к Румынии никогда не признавали, прихватив в уплату за временное пользование ею и Северную Буковину.
Должен, к стыду своему, сознаться, что в отличие от мирового общественного мнения я к этим событиям отнесся одобрительно. В свете моего коммунистического мировоззрения в договоре с Гитлером не было ничего предосудительного. Обыкновенное лавирование пролетарского государства в капиталистическом мире. С моей точки зрения официозный антифашизм только отвлекал от классового сознания и чистого коммунизма — не все ли нам равно, каковы оттенки того или иного капитализма? Так что в каком-то смысле этот договор был чем-то вроде возвращения к революционным истокам. А вторжение в Польшу только подтверждало, что Сталин не на словах, а на деле проводил мировую революцию. Так же расценил я все остальные захваты и прихваты. И даже если бы я тогда узнал, что «финский обстрел наших позиций», послуживший поводом для начала открыто подготавливавшейся войны, происходил через головы финнов из нашего Ораниенбаума, я бы все равно не очень возмутился. Я и так не верил в официальное объяснение, но знал, что революция может потребовать и не этого. Мне самому от этого тошно, я таким не был, но так думал. Это и был «честный коммунизм» — тот самый, который и обеспечил победу нечестному. То есть догматическое сектантство — со своей частной моралью и логикой, — другого не бывает. Не нравится догматизм — откажитесь от коммунизма. Приспособить его к здравому смыслу невозможно. Трансформировать в прострацию — нетрудно. Сектантская логика может принять и самоубийство.
Во всяком случае атмосфера от такого «возвращения коммунизма» не очищалась, становилось все душнее. В этой атмосфере преследовал меня Головач и интересовался годом издания книги Асеева Миндлин. Правда, к этому я еще мог относиться, как к частностям («власть на местах»). Но тут вдруг газеты стали всем объяснять, что в течение всей своей истории русский народ противостоял вовсе не немцам, как ошибочно считали раньше, а французам и англичанам, благо в истории хватало примеров, подтверждающих любое из этих положений. Согласно этой установке пересматривались программы по истории, то есть стремились вдолбить это нужное только локально представление навсегда. Этот с виду пустяшный факт показывал, что людей превращали — тотально, вместе с их психологией — в чурки одноразового использования, что я ощущал и с чем не мог примириться. Идеология — даже та чушь, которую я исповедовал, — претендует все же на более фундаментальное отношение к миру, не так уж зависящее от обстоятельств. Грех социальной инженерии трансформировался в локальное подсобничество. Такое воспитание больше всего изобличает в Сталине временщика, несмотря на всю его любовь к монументальности.
Страшнее всего для меня эта прострация выразилась в тотальной антипольской пропаганде после ввода войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Раздувалась ненависть уже не против польских панов, не против капиталистов и кулаков (все это идеология разрешала), а против поляков, вообще. Разговор велся так, словно польских трудящихся не существовало (идеология этого не разрешала). Странно и тягостно выглядело это движение к мировой революции. Из всего обильного печатного материала этому централизованному умопомрачению противостояло только одно стихотворение Николая Николаевича Асеева, которое я прочел в многотиражке киевского Дворца пионеров, а потом в сборнике — в периодике я его не видел. Там были такие строки (привожу без «лесенки»):
Не верь, трудовой польский народ, Кто сказкой начнет забавить, Что только затем мы шагнули вперед, Чтоб горя тебе прибавить. Мы переходим черту границ Не с тем, чтобы нас боялись, Не с тем, чтоб пред нами падали ниц — А чтоб во весь рост выпрямлялись!О соответствии этих строк реальности говорить не будем: к ней не имела отношения вся наша идеология — и моя, и Асеева. Трудовому польскому народу, безусловно, от «нас» досталось. Но досталось от «нас» и украинскому, и белорусскому, и всем прочим народам, в том числе и нам самим, кто б мы ни были, И с чем мы могли переходить границу, если интересовались, какого года издания книжка. Но тем не менее я до сих пор благодарен Асееву за эти не очень хорошие стихи, за то, что они настаивали на том, во что верили, хотя бы на идеологии, за то, что не поддались общему угару. Хотя угорели все остальные по негласной команде, о которой Асеев, как и я, наивно не догадывался. И, как я, удивлялся. Тоже до времени.
Была еще сторона, которая должна была бы заставить меня задуматься — поток вещей оттуда. Мальчишки выменивали у пленных на хлеб авторучки, которые у нас считались предметом роскоши. Мы почти целый год потом писали на реквизированных польских тетрадях. Все это показывало, что освобожденные жили гораздо зажиточней, чем освободители. Но это на меня не действовало. Зато за нами было будущее. И потом зато мы были сильны. И двигались к мировой революции…
Вот так они и жили. Но постепенно дело шло к экзаменам: для Яши и Марика выпускным, для меня — к подобию выпускных, за семилетку. Хотя я продолжал с ними видеться и дружить, в основном наша дружба развернулась в следующем году, в последний год перед войной. Когда они были уже студентами, а я — восьмиклассником…
Но до этого мне предстояло выдержать экзамены за 7-й класс. В целом я их сдал, как всегда, благополучно и без приключений, только чуть не засыпался на зоологии. Странные отношения у меня были с этим предметом. Преподававшая его учительница, Наталья Михайловна, была хорошим человеком и хорошим педагогом. Относился я к ней, как и весь класс, очень хорошо. Но запомнить по ее предмету не мог ничего. Со стороны это было незаметно, ибо учил я его добросовестно и памяти на один урок у меня хватало. Но получалось так — выучил, ответил и опять забыл. А потом перелистываешь выученную книгу как нечитаную. Уж больно подробен и систематичен был этот учебник Цузмера, все эти строения раков и моллюсков, потом обобщаемые в семейства и классы. Я знал и не скрывал, что ничего не помню, а мне не верили. Но вот наступил экзамен. Он был последним. Но на подготовку, поскольку предмет считался легким, был дан один день.
День этот был прекрасным майским днем, мало располагавшим к занятию моллюсками. Открыв книгу, я отнюдь не неожиданно обнаружил, что все в ней для меня — китайская грамота. Я никак не мог найти себе место, сосредоточиться: угнетала невыполнимость задачи. Решил, что легче будет учить на свежем воздухе, отправился в парк. Но встретил там приятеля по одному из литкружков и до самой консультации проговорил о Маяковском. Консультация началась в четыре часа — все, что на ней говорилось, было для меня выше понимания. Ничего не понимал. Дома опять пытался учить и опять шло плохо. Пошел гулять. Придя вечером, счел за лучшее лечь спать. Встал в четыре утра, сел за книгу, смог сосредоточиться и освоил до девяти утра чуть больше половины учебника. Собирался, дочитав до конца, сдавать во второй группе после обеда, но пошел посмотреть, как там ребята и — была не была — пошел сдавать с ними.
Взял первый билет — не знаю ничего. К удивлению учительницы (отвечал-то я всегда хорошо), положил его на стол и взял второй. На что я надеялся — не знаю, но был спокоен. Прочел вопросы — знаю все (вопросы были из первой половины книги и начала второй. Ответил хорошо. Получил не то «хорошо», не то «посредственно» — за второй билет снижался балл. И — гора с плеч, полное ощущение счастья и весны. Мог я, конечно, сдавать и после обеда и обойтись без конфуза, но сказалось нервное напряжение. И потом — зачем? Все равно бы к вечеру забыл — не держалось это в моей голове. Хотя, как ни странно, общее представление об этом предмете у меня осталось. Это был мой последний экзамен в этом году и в этой школе. В следующем году я уже учился в другой школе. Как это произошло — особая тема.
Последний предвоенный
Последний предвоенный учебный год начался для меня отнюдь не мирно, хотя первые его часы как будто не предвещали ничего дурного. Дело в том, что первый день вообще был тогда для нас не учебным, а праздничным. Он совпадал с МЮДом — Международным юношеским днем, который до войны широко отмечался. В этот день, как правило светлый, солнечный, теплый и нежаркий, «как бы хрустальный», занятий в старших классах не бывало, и все с удовольствием отправлялись на демонстрацию. У нас — у меня и моих сверстников — подошел возраст впервые участвовать в такой демонстрации — от этого наше настроение было особенно приподнятым. За что и против чего были эти демонстрации, сказать трудно. Скорее всего, это была инерция двадцатых годов, когда все это происходило под знаком КИМа — Коммунистического Интернационала Молодежи — и было как бы символической поддержкой коммунистической молодежи мира в ее борьбе с капитализмом. Теперь эта направленность слиняла, и если демонстранты несли лозунги, то просто дежурные лозунги, обращенные к молодежи. Но все эти лозунги существовали, так сказать, для порядка, для обязательного напоминания о нашем причастии дьяволу, ими никто не интересовался.
Волновала встреча после каникул, юность, радовал светлый хороший день. В рядах раздавались шутки, смех, подначки, настроение было самое беспечное. От этого, как говорится в древних повестях, «настало мне и кончение». За всем этим я забыл о том, о чем кричали все заборы, газеты и репродукторы, о чем всегда говорили в школе, а именно — что «враг не дремлет». Впрочем, если б я об этом и помнил, ничего бы не изменилось. Ибо мне предстояло впервые по-настоящему столкнуться с тогдашней действительностью. Читатель может не ужасаться — кончилась тогда для меня эта встреча не так уж страшно, да и полный смысл происшедшего я уразумел гораздо позже — мое тогдашнее мировоззрение не давало мне возможности понимать увиденное адекватно. Но несправедливость я чувствовал все-таки по-юношески глубоко, и стоило мне это происшествие довольно дорого.
А началось все с глупой шутки, которых было немало в тот день ввиду общей легкомысленной настроенности. Кто-то из задней шеренги, балуясь, неожиданно толкнул меня в спину, и я упал на идущего впереди, чем вызвал очередной взрыв смеха. Возможно, я тут же дал бы сдачи, но до этого не дошло. Нарушение увидел следивший за порядком завуч. В нашей школе он был недавно, я не помню, что он преподавал, забыл его имя. Производил он впечатление сухаря, был высок, худощав, смотрел на все строго и подозрительно, прозвище имел «глиста». За него вышла замуж наша Марья Ивановна, из-за чего совершила потом ряд некорректных поступков, что тогда меня возмущало — именно потому, что хорошо к ней относился. Возмущение давно прошло — от любящих женщин я уже давно не требую объективности. Но речь об ее муже. У нас он не преподавал, но ко мне он всегда относился настороженно, как к возмутителю спокойствия. Я теперь нисколько не горжусь тем, что в какой-то степени им и был — не так много было тогда у людей спокойствия, чтоб его еще возмущать, ставить людей в затруднительное положение. Но мне теперь шестьдесят пять лет, а тогда было пятнадцать. Но я никому специально досадить не стремился, а с ним вообще дела не имел.
Не успел я прийти в себя после толчка, как раздался его голос:
— Это кто тут хулиганит?.. Ах, Мандель!.. А ну-ка, выходи из рядов.
Я вышел.
— А теперь иди домой! Я запрещаю тебе дальше участвовать в демонстрации.
Вот тебе на! Меня толкнули, и я же виноват! Ведь все это видели. Но никаких и ничьих объяснений завуч не слушал.
— Сказано: иди домой, значит, иди.
Я опешил. Даже если б я был виноват, бросалась в глаза несоразмерность вины и наказания. Это выглядело капризом. За что мне портили праздник? Такой вопиющей несправедливости вынести я не мог. Я отказался и вернулся на свое место.
— Ну смотри! — пригрозил мне завуч, и угроза эта, как выяснилось, не была пустой.
День прошел так же весело, как начался. На демонстрации мы много шутили, кричали: «Да здравствует товарищ Кацнельсон!» — это была фамилия нашего классного вожатого-десятиклассника Левы. Вожатого мы любили, и почему было не побаловаться. Впрочем, при Брежневе за этот «лозунг» сионизм бы пришили, тогда этого не было, но и тогда кое-где, как я потом случайно узнал, отнеслись к нему серьезно. Стали копать. Вызывали украинского поэта Абрама Кацнельсона, с которым мы не были знакомы (приняли во внимание наше увлечение литературой). Что их взволновало? Неужто заподозрили попытку выставить собственные лозунги — впервые после известной троцкистской демонстрации 7 ноября 1927 года? Вряд ли. Но — бдили. Серьезными делами занимались люди в нашем Царстве Принудительной Инфантильности. Впрочем, ругать их особенно не надо — они ведь могли бы и группу из нас сварганить — во главе с тем или другим Кацнельсоном, а то и с обоими. Однако не сделали. Дело обошлось без наших славных органов, об интересе которых я узнал только случайно. Но и без них оно было достаточно отвратно и показательно…
День закончился вполне безоблачно. А наутро я был снят с уроков и исключен из школы за хулиганство.
Я был потрясен. Меня обвиняли уже во всяких грехах, но чтоб в хулиганстве! Потом мне объясняли, что дисциплина есть дисциплина, и я все равно должен был подчиниться завучу. Но, жалея сегодня о многом, что я делал, я никогда не жалел о том, что не знал этого толкования дисциплины и не подчинился. Подводить логическую базу под произвол — и недостойно, и наивно. Сегодня, когда я впервые за много лет опять думаю об этом эпизоде, я с высоты своего опыта понимаю, что никакое подчинение мне бы тогда не помогло. Уж слишком не слушал ничьих объяснений завуч, слишком кричаще был он несправедлив. Если бы я ушел домой, зафиксированное таким образом «хулиганство» все равно было бы таким же образом наказано. Ибо дело было не в «хулиганстве», не в неподчинении, а во мне самом — в том, что Головач твердо решил от меня избавиться и только искал удобного случая. А шестерка-завуч услужливо помог его создать, тем более это соответствовало его собственным чувствам.
Должен сказать, что Головача я, в общем, простил. И не только потому, что потом он был расстрелян немцами в оккупированном Киеве, — и по другим причинам. Он был человек, может, и грубый, но и сильно перепуганный своим снижением. Он хотел от меня избавиться, но я никогда не чувствовал его ненависти к себе или желания погубить. Цель его была проста. В самый разгар конфликта он выразил ее так: «Ты учиться будешь, но не в этой школе». Кстати говоря, когда я еще учился в его школе, в перерывах между схватками мы иногда с ним беседовали вполне конфиденциально о сложных вопросах современности — это вроде была воспитательная работа со мной, — и он никогда не использовал эти беседы для интриг против меня. И даже потом, когда я уже учился в другой школе и мы с ним случайно встретились в парикмахерской, у нас с ним произошел вполне доверительный разговор. Я заговорил о Сталине, сказал нечто вполне положительное — я тогда так и думал, а он оторвался от газеты, посмотрел на меня и вдруг сказал, что, конечно, все так, но судить еще рано, ибо многие всходы посеянного Сталиным еще не взошли. Это о божестве, не имеющем измерений! И кому — пятнадцатилетнему мечущемуся мальчику!
Но на поведении его в школе это не отражалось — он планомерно продолжал меня выживать. Привыкли они разделять личное и общественное. Культивировалась же в их среде, как доблесть, готовность топтать и предавать объективно вредных делу людей, не считаясь с личными своими симпатиями и личными их качествами. Правда, в данном случае «вред» от меня мог произойти только для него, а не для «дела», но навыки уже были выработаны. А ситуация и впрямь была сумасшедшая. Он имел все основания бояться моего «гражданского пафоса», ибо в случае чего, поскольку это произошло в «его» школе, мои грехи приплюсуются к его биографии, и ему не выплыть. Конечно, он действовал очень брутально, но ведь пребывание в партии, да еще неподалеку от ее относительных верхов (к тому же на Украине во время коллективизации), не приучали его к «белым перчаткам», в которых, по известным словам Ленина, не делаются революции. Я отнюдь не оправдываю его, тем более, его гнусностей и вовсе не думаю, что он был хорошим человеком. Но сам режим, которому он служил, был изначально гнусен и становился все гнусней. Он был человеком, нравственно искалеченным партией и временем.
Вероятно, это же можно отнести и к завучу. В конце концов я о нем мало знаю, у него тоже могли быть обстоятельства, вынуждавшие его поступать так, а не иначе — в те времена у многих бывали обстоятельства. Но из того, что и как я о нем помню, этого не выходит, выходит мелкий человек, желающий угодить начальнику или способный почувствовать себя оскорбленным тем, что кто-то (пятнадцатилетний мальчишка) «много об себе понимает», готовый из мести или угодничества на низость, подобную той, о которой я рассказал. В жизни всегда было достаточно подлости, но все же не задача учителя — обогащать опыт учеников ранним общением с ней. Между тем он нам всем преподал урок торжествующей подлости.
Искушенный современный читатель, даже уже не очень молодой, но лет на двадцать моложе меня, может подивиться моей наивности. У него почти с малолетства нет иллюзий. А у меня, росшего во времена массированной подлости — раскулачивания, ягодщины, ежовщины, — ее и вовсе не должно было быть. Чему ж было так удивляться? Тем более наивно пытаться сегодня удивить кого-то былой житейской (во всяком случае, с виду) подлостью во времена покупных отметок, «зарезанных» по поручению начальства абитуриентов, мафий и рэкета. Верно. Но я никого не хочу удивить, я просто хочу рассказать, как к этому шло, как это было. А было именно так.
Удивляться было чему, хоть это были времена массированной подлости, и полыхала она, как пожар, на громадных пространствах. Но общая подлость времени очень долго людям непричастным (и незадетым!) не была ясна. В сферу политики, идей и т. д. никто не вмешивался, и многим происходящее там казалось драмой идей, пусть неблизких, пусть странных, но идей. А это не ассоциировалось с подлостью. Мгновенной проекции этой подлости на быт, в том числе и на школьный быт, не было. Это сказывалось, но постепенно. Скачкообразный рост компрометации моральных норм и утверждения бесчестья шел с политических верхов, из сталинского окружения и распространялся медленно (путем подбора кадров прежде всего). До школы он дошел не сразу. Так что неудивительно, что, столкнувшись с открытой элементарной подлостью со стороны людей, считавшихся педагогами, я был ошеломлен.
Недостойные люди всегда бывали, но описанное выше поведение завуча и Головача раньше было невозможно. В гимназии за это просто можно было получить пощечину и тут же отставку, но и в советской школе оно было немыслимо — учителя все же ощущали себя культуртрегерами и не могли позволить себе такого. Впрочем, несмотря на тридцать седьмой год, тогда еще и в армии не допустили бы «дедовщины». При всем при том. Разложение вызревает медленно.
И, похоже, не только я считал такое поведение недопустимым. На педсовете Головачу некоторые учителя оказали сопротивление, но он его не столько преодолел, сколько проигнорировал. Я был еще больше ошарашен. Но по-прежнему был уверен, что это скоро разъяснится и справедливость восторжествует. Да и чему тут было разъясняться, чему торжествовать? Тем не менее ничего не разъяснилось, а восторжествовала прострация — глубокомысленный разговор о проступке, которого не было.
Ребята мне сочувствовали, поддерживали меня. Защищала меня и комсомольская организация школы в лице ее секретаря Левы Рабиновича, с которым я потом на этой почве сдружился. Что нас сдружило? Политическая оппозиция? Но ни он, ни я тогда в оппозиции не были — наоборот, мы вступались за советский порядок. Он просто знал, как было дело, а для того, чтоб не знать, надо было себя не уважать. Теперь я понимаю, что именно это, и только это, от всех и требовалось. Но тогда этого, тем более в такой окончательной форме, не понимал никто. В это втягивались, но не понимали. И я тоже не мог поверить в непререкаемость абсурда.
Я появлялся в классе, на уроках, хотя было строго-настрого приказано меня не пускать. Одни учителя меня выгоняли, а я сопротивлялся, другие нет. Как говорится, шла борьба. Я и сам воспринимал это как борьбу за справедливость и намеревался, как меня учили, отстаивать ее до конца. Поразительно, что о справедливости я тогда думал больше, чем о нависшей надо мной угрозе оказаться на улице. А это вполне могло случиться. Дело происходило в начале восьмого класса, а обязательно тогда в СССР было только семилетнее обучение. Но такого уровня произвола я представить себе не мог.
Но все хорошо в меру — партизанская борьба в школе и неестественное мое положение начали меня утомлять, и я отправился искать справедливости выше — в областной комитет комсомола. Помещался он в самом центре города, на Крещатике, около Институтской, напротив обкома партии, то есть здания бывшей Городской думы, взорванного во время оккупации. Располагался обком комсомола в небольшом, но уютном двухэтажном особнячке. Комсомольские комитеты я все еще представлял себе по Николаю Островскому и подобной литературе. Так же представлял я себе и райком, когда ходил к товарищу Миндлину. Кстати, внешне его контора больше соответствовала моему представлению о «комсомолии», чем обком, — легче мне от этого, как видел читатель, не было. Не уверен, что и от внутреннего сходства кому-нибудь стало бы лучше. Однако у обкома не было и внешнего сходства с былыми временами — никакой «братвы», никакого «Даешь!» — учреждение. Впрочем, не до такой степени учреждение, как, допустим, в шестидесятых — нравы изменялись в эту сторону, но пока были еще проще, чем после войны. Хотя все уже было ничуть не менее лживо.
Из этого не следует, что лживы были все, кто там тогда работал. Если б я даже так думал, то скоро бы в этом усомнился. Секретарша направила меня к заведующей школьным отделом — Зое Федотовой. Я звал эту женщину по имени-отчеству, но сейчас ее отчество, к сожалению, забыл. Поэтому в дальнейшем мне придется называть ее по фамилии, хотя наши отношения не были столь далекими (как не были они столь коротки, чтоб звать ее по имени). Несмотря на все хитросплетения политики, несмотря на то, что она была функционером страшного и бессмысленного режима, несмотря на все официозное, что она иногда по своей и не по своей воле говорила, я сохранил о ней самые теплые и благодарные воспоминания. Она — во всяком случае, когда я ее знал, — была хорошим человеком.
В кабинете мне навстречу поднялась молодая светловолосая красивая женщина с очень милым и дружелюбным лицом. По типу пионервожатая, вообще, активистка — тогда еще много было активисток из активности, а не из корысти. Корыстность (карьерная) появлялась у многих из них, уже когда их «выдвигали». Не знаю, что сталось с этой женщиной потом, почему-то мне не верится, что она стала сволочью, что могла активничать во зле, даже если бы верила «авторитетным товарищам», что так надо — а она была тогда склонна им верить. Скорее всего она просто отошла в сторону, стала учительницей или кем-либо в этом роде. Впрочем она уже, кажется при мне, ушла в газету Дворца пионеров — это она напечатала стихотворение Асеева о поляках. Правда, это могла быть и временная командировка.
С ней связан очень короткий, но важный период моей жизни, и роль она в ней сыграла вполне положительную. Более того, я кое-чему у нее научился. Нет, не как у функционера или социального мыслителя — а как у живого и чувствующего человека, женщины. Да, она относилась с излишним доверием к системе, в этом смысле она понимала еще меньше, чем я. Но при всем этом и несмотря на все это, она гораздо меньше, чем я, отошла от нормальной шкалы человеческих ценностей. Например, однажды, выслушав мои романтически-фанатические бредни о мещанстве, она вдруг сказала: «А ты не умеешь уважать людей!» Конечно, можно иронизировать: представитель античеловеческой системы кого-то обвиняет в неуважении к людям. Могут найтись охотники использовать эти мои слова, начав доказывать, что тогда-то и приходили в систему нефанатичные человечные люди. Неправда, система погружалась еще глубже в бесчеловечность, а не освобождалась от нее. Приходили всякие, а оставались человечными немногие…
Похоже, это был первый день ее работы на этом поприще и я был первым, кто к ней обратился. Когда я рассказал ей, в чем дело, она мне сразу поверила, отнеслась ко мне сочувственно, ласково и обещала помочь. Я был благодарен, но не удивлен — ведь такое простое и ясное дело, да и факты были не только вопиющи, но и вполне проверяемы. Как ни странно, она тоже так думала. По политической неопытности не понимала, что простых и ясных дел в нашей стране больше нет. Каждое зависит от политической подоплеки.
Я приходил к ней несколько раз. Она меня даже водила к первому секретарю обкома Сизоненко, который только что вернулся из Москвы. «От Сталина», как говорила Федотова — впрочем, может, он и впрямь присутствовал где-нибудь, где тот выступал. Но звучало это как «с особыми полномочиями» или «с особым знанием». Думаю, что она и сама верила в это причастие.
Сизоненко оказался невысоким, худощавым, спортивного вида человеком, очень собранным — в общем, руководителем нового типа (определение сегодняшнее). Никакой «комсы», никакого запанибратства. Но и ничего отталкивающего в его облике не было. В принципе тип администратора, против которого я ничего не имею. Неестественно это только было в комсомоле (я тогда еще не знал, что неестественно само существование комсомола).
От него тогда в какой-то степени зависела моя судьба. Но никто не знал, что его самого ждала судьба, отнюдь не безоблачная. Он оставался в Киеве до последнего и застрял — не смог эвакуироваться. Не знаю, донесли ли на него или сам зарегистрировался, но немецкие оккупационные власти о нем узнали. Однако допросив, оставили в покое, и он продолжал жить в Киеве как частное лицо. Не сотрудничал с оккупантами и не боролся с ними. Надо сказать, что не ко всем членам партии немцы относились так либерально. Головача, который тоже оставался в Киеве до конца (работал по эвакуации) и тоже застрял, они расстреляли. Его, говорят, выдала одна из наших учительниц — не столько по политическим причинам, сколько из личной — и, вероятно, вполне заслуженной — ненависти. Не спорю, ненависть он умел заслужить, но такой способ сведения счетов ничего, кроме омерзения, вызвать не может. Так или иначе, Головача расстреляли, а Сизоненко, занимавшего куда более видный пост, — нет. По счастливому стечению обстоятельств его могли не посадить и наши (кажется, и не посадили), но карьера его после войны не возобновилась. Будем надеяться, что ему на пользу.
Сизоненко выслушал меня молча, но, как мне казалось, благожелательно. Дело, казалось бы, начало решаться в мою пользу.
Но мы все не учли одного мощного и уже упомянутого фактора: политической подоплеки, определяемой политическим моментом, то есть политикой партии в данном вопросе. А эта политика в данный момент сводилась к всемерной поддержке авторитета учителя. «Политика» в нашей стране вообще очень долго была делом инфантильно-серьезным. И опасным для окружающих, как бомба в руках ребенка.
Например, однажды, в начале семидесятых, был такой случай. Возле городка писателей «Красная Пахра» двое рабочих, хорошо известных в городке, были пойманы на том, что украли в расположенном поблизости колхозе или совхозе копну сена, а потом ее продали и пропили. Им грозила тюрьма. Писателям стало их жалко, они сложились и обратились за помощью к адвокату. Адвокат выслушал их и сказал, что сделать ничего нельзя. «Вот если б они трактор украли или грузовик — тогда б с дорогой душой, а они украли сено — тут я помочь ничем не могу». «Почему?» — удивились писатели. «А очень просто, — ответил знаток законов, — Леонид Ильич третьего дня в своем выступлении, сказал, что надо беречь фураж. А про тракторы и грузовики он на этот раз ничего не говорил». В том и состояла «политика».
Так же и этот злополучный «авторитет учителя». К моему делу он не имел никакого отношения. Но он касался политики партии в школе, а дело тоже касалось школы, да и конфликт мой был с педагогами. Следовательно, в свете политики я никак не мог быть прав в этом конфликте. И партия с комсомолом не должны были меня «поддерживать».
Собственно, таковы были сталинские методы создания авторитетов. Один старый журналист с гордостью утверждал, что партия умеет создавать авторитет кому и когда ей надо. Например, он сам по поручению партии участвовал в создании авторитета С. М. Буденному (искусственного — сверх того, который у него был). Авторитет по-сталински означал внушение всеми средствами массовой информации искусственной популярности и высокого представления о данной личности или группе, а также о непререкаемости ее власти и неприкасаемости ее имени или должности. Так же вождь создал и раздул до патологии «авторитет» самого Сталина. Собственного умения быть популярным у него не было и в зачатке.
С теми же навыками взялись и за восстановление ими же попранного «авторитета учителя», не понимая, что это вещи разные. Авторитет Буденного или даже Сталина надо было внушить людям, абсолютные большинство которых ни того, ни другого и в глаза никогда не видели. А учитель или офицер имеют дело с теми, кто их видит ежедневно. Поэтому, хотя они действительно должны быть наделены естественными правами (например, ставить отметки по совести), свой авторитет они могут завоевать только сами. Но при проведении кампании кого интересует суть дела, она сама — главный смысл. И Головач был бы не Головач, если б этого не понимал и не подвел меня под кампанию — под «политику».
Но ни я, ни один нормальный человек этого не знал и не предполагал. Казалось, все идет хорошо. Но в один прекрасный день я узнал, что в республиканской комсомольской газете на русском языке «Сталинское племя» появился подвал, так и называвшийся — большой замысловатости в таких делах не требовалось — «Авторитет учителя». Помню я даже фамилию автора — Тартаковский. В нем рассказывалось и о нашей школе. Приводилась беседа с Головачом. И, конечно, речь шла обо мне. Говорилось примерно следующее…
Господи, сколько раз после этого читал я такие и похлеще инсинуации — о себе и о других. Сколько раз после этого на моем веку хулиганы публично обвиняли в хулиганстве мирнейших людей, грязные люди в грязи — чистых людей, а безыдейные устанавливали критерии идейности (подмена идейности намного отвратительней, чем она сама). Сколько раз после этого, но тогда это было со мной в первый раз.
Головач и здесь остается Головачом. Хотя бы в том, что, подло пришив мое дело к «моменту», выдавая меня за дурака и фанфарона, он воздерживается от каких бы то ни было политических намеков. То ли не любит, то ли понимает, что они — себе дороже. Говорилось примерно следующее: «В восьмом классе этой школы учился Мандель. Он писал плохие стихи и всех, кто ему об этом говорил, обзывал мещанами. Однажды он на демонстрации затеял драку, и, когда ему сделали замечание, в ответ нагрубил». Дальше шло о беспринципной позиции комитета комсомола и его секретаря, взявшего меня под защиту.
Все это было неприкрытой и глупой ложью. Впрочем, глупой ли? В тот день, когда появился этот подвал, я думал тоже, что глупой. Ведь это так легко опровергнуть! Федотова была возмущена не меньше меня. Но на второе утро она встретила меня поджатыми губами. Оказалось, что истина выяснилась, и мы с ней оба неправы. Оказалось, что так или иначе я должен был подчиниться, ибо, не подчинившись (чему виной самомнение), я грубо нарушил дисциплину. Все это, как стало мне ясно, разъяснил ей и другим один, по ее словам, оч-ч-чень авторитетный товарищ (слово «вождь», применявшееся раньше к руководителям такого ранга, теперь постепенно становилось атрибутом исключительно Сталина). При ближайшем рассмотрении этим авторитетным товарищем оказался тогдашний секретарь обкома партии Сердюк. Тот самый Сердюк, который в должности то ли председателя, то ли зампреда Центральной контрольной комиссии КПСС исключал П. Г. Григоренко, тогда верующего коммуниста, из партии. Пикантность была не в самом факте исключения — это дело естественное, — а в том, как этот «авторитетный товарищ» при этом открыто самовыражался и что его больше всего возмутило в тогдашней строго марксистско-ленинской концепции Григоренко. А возмутило его требование соблюдать «ленинские принципы». Во-первых, принцип оплаты высших функционеров и чиновников — чтоб получали не больше квалифицированного рабочего, и, во-вторых, принцип постоянной их сменяемости.
Принципы эти вполне наивны и утопичны — ни одно государство с ними долго не просуществует. От них потом, как и от самого ленинизма, отказался и сам Григоренко. Но «авторитетного товарища» возмущала не утопичность, а… несправедливость (его слова привожу по памяти, но за смысл ручаюсь):
— Нет, это он не своей сменяемости требует и не свою зарплату сокращает! Он ведь специалист — его нельзя сменять и ему надо платить. Это он о моей зарплате заботится и меня хочет сменять.
Вот в чем была истинная природа его праведности и возмущения «ошибками» Григоренко. Такова было подлинная «идеология» этого специалиста по идеологии, его культурный и человеческий уровень. Вслушайтесь в его слова — это крик и боль души руководящего люмпена. В подобном положении оказались многие. Но те, кто поумнее, свои чувства камуфлируют, этот «авторитетный» простодушно, не ведая стыда, не понимая, как он при этом выглядит, выражает свои чувства вслух. Правда, простота эта хуже воровства и даже намного хуже. Привык человек к концу жизни, что на занимаемых им постах стыд не нужен — утрутся и стерпят. Но все же такое бесстыдное простодушие не говорит об избытке ума и воображения. И именно об этом человеке с таким придыханием и поклонением говорила Федотова. Видимо, стиль такой установился в этих кругах — горячо верить в авторитет выдвигаемых товарищей. Механизм тут простой — деваться все равно было некуда, а «товарищи» эти в массе были таковы, что верить в их достоинства и слова можно было только горячо, даже горячечно, чтоб заглушить реальное впечатление. Так понемногу втягивались в эту атмосферу. Откровенного цинизма тогда еще было мало, к нему только шло, но это — было. Ведь если подумать, то ведь и все мы о гениальности Сталина знали не больше, чем Федотова о мудрости Сердюка. Однако доказательства находили. Даже я временами и особенно перед арестом…
После сакрализации Сердюком поведения завуча и Головача вопрос о восстановлении справедливости, то есть меня в школе, отпадал сам собой. Тем не менее Федотова, отчасти предав себя, свой здравый смысл, все же и не помышляла о том, чтоб по-человечески предать меня, оставить на произвол судьбы. Конечно, за последние десятилетия у нас было много предательств и предателей, но большинство людей принципы, в том числе и справедливости, предавали легче, чем людей. Это симпатичней, чем наоборот, но вряд ли это хороший выход. Ибо тем самым предается общество, большое множество людей. Но бывает, что нет выбора. У нас с Федотовой его не было. И я должен был удовлетвориться тем, что был направлен в ГорОНО, с которым договорились о направлении меня в другую школу. Этим дело и завершилось. Но прежде, чем перейти к этой новой школе и чтоб покончить с этой историей, хочу рассказать здесь о том, как она еще раз мне аукнулась, на этот раз забавно.
Редакции «Юного пионера», при которой был наш литкружок, и напечатавшего инсинуацию про меня «Сталинского племени», помещались в одном коридоре, и сотрудники обеих газет хорошо знали друг друга. Ариадна Григорьевна потом очень сокрушалась, что не узнала об этой статье вовремя, ей бы ничего не стоило убедить автора выбросить абзац про меня. А потом нечто вроде литкружка образовалось и в комсомольской газете. И на каком-то занятии присутствовал ее редактор. В непринужденной обстановке слово за слово всплыла и эта история. Редактор (ему понравились мои стихи) несколько смутился и тоже выразил сожаление, что его не предупредили. Тогда ведь ничего не стоило все это вычеркнуть! А если б вычеркнули, не было б «политики», мнения Сердюка и меня бы восстановили в школе. Такая победа потом могла бы мне дорого обойтись, и хорошо, что ее не было, но это другая тема. Поражает же меня мистика сталинщины — вычеркнуть по знакомству мое имя из «принципиальной» статьи могли многие, но добиться справедливости после ее публикации — не мог уже никто. Так они и жили.
Но никто ничего не вычеркнул, и с направлением Федотовой я пошел в ГорОНО. О своих взаимоотношениях с этим ведомством я ничего не помню. Помню только приемную зав ГорОНО, где вместе со мной приема ожидали два учителя, судя по их внешнему виду, выгнанные за пьянство. От нечего делать заинтересовались мной. Услышав, что дело мое как-то связано со стихами, попросили что-нибудь прочесть. Я что-то прочел. Прослушав, стали беспомощно переглядываться друг с другом — отнюдь не заговорщицки, а в поисках подходящих слов:
— Это… это… как бы это сказать… это… анти… анти… — антисоветскими красноносому ценителю их все же назвать не хотелось, да и не были они такими, но явный непорядок он чувствовал. — Это анти…
— Антиполитично, — пришел ему на помощь случайный товарищ по несчастью.
— Да, да… Антиполитично, — обрадовались оба удачно найденному слову. Но тут меня вызвали к начальству, и они освободились от необходимости объяснять, что это слово значит. Кстати, при том значении слова «политика», о котором я уже говорил, может, они и были правы.
Поскольку все было заранее договорено, я быстро получил направление в другую школу и ушел. Этой другой, наиболее близкой к нашему дому русской школой-десятилеткой оказалась тридцать третья. Та самая, бывшая еврейская, при которой когда-то был дневной санаторий. Только теперь она уже была русской (еврейским в ней оставался только один десятый класс) и помещалась в такой же новостройке как и моя сорок четвертая. Собственно, эта ссылка не была для меня особенно тяжелой. В эту школу только что перевели из неполной средней школы класс, где учился Гриша, где у меня было много знакомых.
Итак, я пришел в школу. Прежде всего, к директору. Им был товарищ Шнеперман, явно остававшийся еще с «еврейских» времен. Представлял он собой тип местечкового выдвиженца. По-русски говорил плохо, неправильно (все остальные учителя, перешедшие из еврейской школы, этого недостатка не имели, а некоторые вообще были очень интеллигентны). На уроке (он преподавал историю) вполне мог сказать, что древляне устроили в Искоростене много «пожарей». К величайшему, конечно, нашему удовольствию. Меня он встретил приветливо, сказал, что, может, я и очень умный (ознакомился с личным делом), но он надеется, что я буду дисциплинирован. Каким он был человеком, не знаю. Подлостей он не делал, но, и вообще в школе почти не ощущался.
Дальше все пошло еще легче. Гриша попросил классную руководительницу Софью Наумовну принять его товарища в их класс.
— Твоего товарища? — переспросила она. — Мне кажется, я хорошо знаю этого твоего товарища.
Это была одна из воспитательниц дневного санатория «хавертэ Шифра», товарищ Шифра (еврейское имя Шифра обычно в русской транскрипции звучит как Софья — правильно или нет, я не знаю). Оказывается, она была учительницей географии. И, должен сказать, очень хорошей требовательной учительницей. В восьмом классе проходят географию СССР, и эту географию мы знали. Она, кроме всего прочего, заставляла нас для лучшего запоминания перерисовывать из учебника подробные карты областей, и я до сих пор представляю карту нашей страны достаточно отчетливо. Практически я смог применить эти знания очень скоро — в процессе эвакуации — лучше представлял, где и куда меня везут.
Но это было уже в июле 1941-го, через несколько месяцев. А сейчас на дворе был только сентябрь сорокового.
Класс встретил меня хорошо. Правда, отдельные шустрые индивиды, как обычно бывает, и не только в школе, не прочь были и поразвлечься по поводу новенького. Но их поползновения были мгновенно пресечены моими приятелями. Поскольку шустрым и самим не больно было надо, а ближайшее развлечение сорвалось, они спокойно покорились диктату, и воцарился мир.
Я уселся за последнюю парту у стены и очень скоро обнаружил за партой рядом — в центральном ряду — миниатюрную и очень активную девочку с косичками. Девочка одновременно стреляла из самодельной бумажной трубочки жеванными бумажками, следила за объяснениями учителя, отвечала на мои вопросы, подсказывала отвечающим у доски и веселыми остротами откликалась на все, что происходило в классе. Мы с ней подружились сразу и навсегда. Звали ее Женя Бирфирер. В Киеве всех Жень называли Жучками. Я скоро стал называть ее более ласково — Жуча. За мной последовали и другие. Потом я написал о ней стихотворение, которое почему-то очень понравилось Асееву. Поскольку ни в какие мои сборники оно не входит, приведу его полностью:
ЖУЧА Вот прыгает резвая умница, Смеется задорно и громко. Но вдруг замолчит, задумается, Веселье в комочек скомкав. Ты смелая, честная, жгучая, Всегда ты горишь в движении. Останься навеки Жучею, Не будь никогда Евгенией!Стихотворение это я помню, хотя думаю, что все оно осталось в том времени, когда написано, когда все еще существовала внутренняя претензия на изменение экзистенциальной природы человека (зачем? по чьему проекту?). Сегодня этой тенденции не просто нет, а она и не кажется мне поэтичной. Мудрая грустная женственность, все время обретающая и теряющая, для меня во сто крат поэтичней. А ведь доходил я и не до таких лирических откровений. Вот наиболее яркое:
8 МАРТА Сегодня город упал в туман. А у тебя — чисто женская боль. Женщинам трудно — ты знаешь сама, Мне говорить ли об этом с тобой. Мне с этим никак примириться нельзя. Вижу: ты смотришь большими глазами. А все же обидно, что — не я, Что больно тебе и что выйдешь замуж.В точности пятой строки я не уверен, а вторая половина восьмой в одном из вариантов читалась «…и что все по-другому». Но все это — наивное доведение до абсурда не только большевистского равноправия, но и некоторых тенденций поэзии «Серебряного века», с большевизмом прямо не связанных. Речь идет о стремления отделить высокую поэзию любви от последующей расплаты прозой. В поэзии это всегда присутствует как неисполнимое и даже невысказываемое желание, но не как программа жизни, не как требование. Поэзия и утопия — вещи разные. Но здесь все эта нелепость доведена до степени интимности и лиризма, цельности внутреннего мира.
Все это было, теоретически говоря, давным-давно. Сегодня мне не больно от того, что Женя не исполнила моего глупого призыва и стала взрослой, стала «Евгенией». Слава Богу, что это так — тем более что она стала хорошим человеком и хорошей женщиной.
Из рассказанного ясно, что, подружившись с Женей, я скоро в нее и влюбился. Правда, неудачно. Потом с ней подружился и Гриша, и она влюбилась в него. О своих тогдашних чувствах сейчас говорить не буду — они понятны. Но произошла драма, не драма наших отношений с Гришей — мы все продолжали дружить как ни в чем не бывало, и я мужественно преодолевал горечь поражения, — а иная. Гриша однажды рассказал мне как лучшему другу, что они с Женей целуются, а я, потрясенный, записал это в спорадическое подобие дневника. Этот дневник обнаружила моя мать, прочла и, полная педагогической активности, отнесла его классной руководительнице Софье Наумовне, с которой была в хороших отношениях. Та не нашла ничего более умного, чем вызвать Жениного отца. Но на этом цепь местечковой «культурности» прервалась. Отец, человек разумный и серьезный, посоветовал учительнице не заниматься сплетнями, и дело заглохло. Но куда было деваться мне? Неудивительно, что мои отношения с матерью после этого никогда не были легкими.
Это тоже деталь времени — правда, связанная не только со сталинщиной, а с эпохой вообще. Набегание одна на другую разных культурных традиций и влияний создавало причудливое их сочетание в одном человеке.
С Женей я дружил и после войны, приходил к ней, когда бывал в Киеве, у нее была хорошая семья. Грустно, что ее больше нет. А так ли уж давно это было — девочка с косичками, стреляющая из самодельной трубки жеваными бумажками и одновременно спасающая кого-нибудь, гибнущего в это время у доски… злополучный дневник… И то, что все еще было впереди — и у нее, и у меня. А теперь ее нет — у нас теперь часто уходят слишком рано, — я задержался, но я далеко. К сожалению, это не только «путь всея земли», что тоже грустно, но на что роптать грешно, но и воздействие нашей изнасилованной жизни. Стране, с которой были тогда связаны наши надежды, грозит хаос. От этого и уходят рано — не в лучший мир, так в другую страну. Момент, как говорится, социальный.
Но тогда мы еще не знали будущего — ни своего, ни страны. Думали, спорили, но не знали. И даже Сталина еще не знали — даже мои старые друзья, даже я. Подумаешь — изменник революции…
В этом классе и кроме Жени были люди, которые так или иначе запомнились на всю жизнь. Между тем жизнь некоторых из них по условиям времени оборвалась очень рано. Необходимо помянуть Варшаву. Фамилия его была, естественно, Варшавский. Но так его звали только учителя. Имя его было как я недавно узнал, Миля, но так его не звал никто. Был он для нас просто Варшава, на это имя и откликался. Жил он с матерью-медсестрой в подвале на Саксаганского, ближе к «Евбазу» и Безаковской, ведущей к вокзалу (до моей эмиграции — Коминтерна), вход был по ступенькам вниз прямо с улицы, на которой с утра до ночи гремели и трезвонили трамваи. На нем был всегда один и тот же неизменный, чисто выстиранный парусиновый костюм и такие же туфли. Впрочем, тогда, до войны, насчет нарядов вообще было негусто. Даже самые богатые из нас по теперешним нормам выглядели бы убого. А Варшава с матерью и по тогдашним меркам жили бедно. Но Варшава нисколько не унывал, вся его квартира была завалена всякой периодикой, ею же полон был его портфель — Варшава был ее усердным собирателем. Мы тогда все очень интересовались политикой, дело ведь шло к войне. Но не только поэтому — чтили заграничных коммунистов, следили за симптомами охлаждения нашей «дружбы» с немцами (цинизм по отношению к мировой буржуазии я принимал, но ведь не дружбу, о которой вопили все газеты) и т. п. Варшава был ходячим справочником по этим вопросам. У него были свои любимые словечки: «дескать», например. Он вставлял это слово, куда только можно. И всегда он светился добротой. Помню уже весной 1941-го военные занятия, маршировку вокруг военрука на площадке перед школой, зычную команду: «Вар-шавский! пряжку н-на-а пуп!» И помню, как высокий нескладный Варшава без тени смущения поправляет на ходу ремень на парусиновых брюках.
Однако когда пришлось, Варшава стал не только солдатом, но и сержантом. Гриша его встретил где-то на переформировании, когда Варшава уже стал бывалым фронтовиком. Он обучал необстрелянных обращению с пулеметом. То же добродушие, те же «дескать», но и забота о том, чтобы люди чему-то научились перед боем. Варшава погиб вскоре после этой встречи. Он не увидел и не пережил почти ничего из того, о чем я здесь буду вспоминать.
А вот другая трагическая судьба — Жора Сизоненко — фамилия, как у секретаря обкома, но человек совсем другого склада. Особой близости между нами не было, но были мы расположены друг к другу. Подозреваю, что особенно близок он не был ни с кем. Учился он очень хорошо, наверное, лучше всех, но был при этом скромен и мягок, неизменно и искренне доброжелателен ко всем. Было в нем то, что я бы теперь назвал врожденной интеллигентностью, может быть, даже аристократичностью, но это тогда мной не осознавалось. Жил он на Владимирской, между Жилянской и Мариинской. По дороге к нам из школы и из центра города Большеголовый, невысокий, плотный, но какой-то при этом соразмерный и неуловимо-изящный, он приветливо окликал меня, стоя у двери своего дома, и мы с ним разговаривали — дружески, откровенно на всякие темы — его интересовала и литература, и наши в ней дела, — но почти всегда не очень долго. Его окружала какая-то тайна. Мы знали, что жил он с матерью и теткой, что они были медсестрами (может, кто-то из них и врачом), но думаю, что по-настоящему о нем никто ничего не знал, но как-то не замечали, что не знали. Стены вокруг себя он не выстраивал. Или она была прозрачной? Что он скрывал, где и кем был его отец — я не знаю. Тогда многие многое скрывали, многие в чем-то были «виноваты» перед мучающей их властью.
Почему не эвакуировались его родные — тоже не знаю. Не успели? не смогли? Надеялись, что пройдет необходимость скрываться яко тати? Знаю только, что и он оставался в Киеве и даже (о, ужас!) учился в мединституте. Но с немцами он не ушел — значит, не хотел (жаль, остался бы жив!), — такая возможность предоставлялась, даже навязывалась.
Дальнейшее я знаю из слов Жени. Она вернулась в Киев первая и сразу встретила его на улице. Он очень ей обрадовался, и они подружились. Она говорила, что он стал высоким и красивым парнем, возмужал. Говорила о его естественном благородстве. Дружба их, а это была именно дружба, прервалась неожиданно. Жору стали «куда-то» («куда надо» — по Войновичу) вызывать, в результате чего он стал мрачнеть и в конце концов кончил самоубийством.
У меня нет сомнений, что его запугивали с целью сделать осведомителем. Как же! «Вы жили в Киеве при немцах, даже учились в институте — теперь вы должны искупить свой грех перед матерью-родиной, доказать ей свою верность. А если нет — сами понимаете». А чего тут было не понимать — каждый день сажали и высылали «за оккупацию». А уж из института выгнать за это, поломав этим жизнь, могли запросто. Тем более и тайна какая-то была — то ли сидел или расстрелян был кто-нибудь в семье, то ли с белыми ушел — не от них же она была, эта тайна (я уже писал, сколько было в стране изначально «виноватых» людей с подобными «тайнами не от них»). Почему ж не поиграть? А небось не слушал «мещанских» разговоров, ждал — свои придут. Вот и не выдержал. А ведь был бы хорошим человеком, крупным врачом, ученым. Ничего не стало. У ублюдков был свой план профилактики. И почему мы все время кому-то что-то должны были доказывать, чтоб иметь право жить!
Мне жаль, что я не застал Жору, не говорил с ним — я впервые приехал в Киев года через полтора после его гибели. Вряд ли это чему-нибудь бы помогло, но все-таки жаль. При всем моем тогдашнем идиотизме в своем отношении к людям я больше руководствовался «сердцем» (восприятием), а не догмами. Но что бы я мог сделать? Подбодрить? Да и то, если б он со мной поделился…
Были в классе и другие интересные люди. Шура Браверман, ставший выдающимся инженером, конструктором вертолетов, Володя Левицкий. Отец Володи был ученым-биологом, рудиментом кондовой украинской интеллигенции, разгромленной в начале тридцатых на процессе СВУ и в связи с ним. Володя — талантливый инженер, хороший человек, с которым я поддерживал самые теплые отношения до самой эмиграции, он жил и живет в Ленинграде. Теперь он, к сожалению, инвалид.
Но тогда, в сентябре 1940-го, я только встретился с этими ребятами и все эти мои дружбы только завязывались. А время продолжало меняться. Неожиданно грянул указ — обучение в ВУЗах и старших классах стало платным. То всей пропагандой жутко гордились великим завоеванием — тем, что оно бесплатно, то вжик — и нет. В принципе, и это не страшно. В мире много стран, где обучение не бесплатно, и ничего — живут. На свете ведь бесплатного ничего нет. Например, госквартиры у нас почти бесплатны, но их ремонтировать не на что. Правда, и к небесплатности образования в нормальных странах приспосабливаются — способный человек, желающий учиться и учится. Но наше общество не было нормальным, и плата стала взиматься не ради самой платы, а опять-таки из социального планирования — чтоб «перекачать» часть молодежи из студентов в рабочие. Вполне возможно, не всем у нас тогда это полное среднее было необходимо, и многие «тянули лямку» только потому, что такой установился стандарт — не в последнюю очередь благодаря пропаганде. Но сделано это было отвратительно. Когда я предложил собрать деньги для тех наших товарищей, которые сами за себя заплатить не могли, мне намекнули, что это надо делать тихо. Вне зависимости от того, как дети учились, они подлежали «перекачке» из-за материального положения их родителей, после того, как были пролиты моря крови за социальное равенство. И если не в сознании, то уж точно в подсознании от всего этого оседало ощущение бессмыслицы.
Так что и в этой школе меня не оставляла в покое торжествующая сталинщина. А тут и у Гриши началась история. Началась она, собственно, раньше — с его речи на совещании юнкоров, куда нас умолила придти Адочка. Дело в том, что редактор «Юного пионера» Шмушкевич, личность примитивная и брутальная, после того как наш журнал, получив частное одобрение работника «Пионерской правды», тем не менее, не получил премии, заподозрил недоброе и стал в чем-то подозревать нас и ее. Появление наше на этом совещании в присутствии самого министра просвещения товарища Бухало должно было засвидетельствовать нашу лояльность. Засвидетельствовало оно прямо противоположное. Что-то там говорил и я, но в основном Гриша. Опять против формалистики проявлений. В том числе и комсомола.
И это аукнулось — дошло до школы. В основном ему сочувствовали. Особенно члены комитета комсомола Сеня Богомолец и Марк Розенблат — оба из десятого (еврейского) класса. Сеня погиб на фронте, Марк прошел войну, стал журналистом и до сих пор живет в Киеве. Но делу был придан надлежащий размах — давили райком и обком. Члены комитета конфиденциально сообщили Грише, что сочувствуют ему, но будут голосовать за его исключение — видимо, в порядке комсомольской дисциплины. Так мы и жили.
Каким-то образом к этому делу имела отношение и Федотова: смягчала, что могла. Хоть по доброте, а не из согласия. Но Гришу из комсомола исключили. Не знаю, затруднило ли бы это ему поступление в ВУЗ (как ни странно, тогда еще это учитывалось не так строго, как потом), но в те университеты, куда в очень скором времени предстояло попасть всем нам, принимали без выписок из «личного дела комсомольца». Меня чаша сия миновала, поскольку на закрытые собрания несоюзная молодежь не допускалась. Да и ребята не хотели моего участия — ведь я уже был «меченый» и мог только ослабить их позиции. Возможно, это меня уберегло от новых неприятностей. Так что — все к лучшему.
В это же время Головач выгнал из школы и Люсика. Между тем мы все продолжали жить в самой счастливой и свободной стране, озаренной солнцем сталинской конституции.
История не останавливается, не делает перерыва для того, чтобы какое-либо поколение смогло «оклематься» — собрать по крупицам свой трагический опыт и спокойно осмыслить его. Все это относится и к моим воспоминаниям. Сейчас началась последняя декада января 1991-го года, и события не оставляют меня в покое. И если война против иракской тирании волнует меня только сама по себе (переживаю за судьбы летчиков и вообще за успехи Америки), не колебля моих представлений о мире и жизни, то события в Прибалтике и в Москве все же испытывают их добротность. Процесс, внутри которого мы жили и мыслили всю свою жизнь, приведя к чудовищным последствиям, еще не кончился, продолжает страшными конвульсиями трясти и без того давно уже усталую, измученную, истощенную болезнью страну, возможен летальный исход. Какое значение на этом фоне имеет, что понимали и чего не понимали интеллигентные юноши, читавшие друг другу стихи на улицах довоенного Киева?
Они что-то чувствовали, эти мальчики, но почти ничего не понимали. Прежде всего в человеческой жизни, в жизни уже упоминавшихся «молочниц и мамаш», в том, как она тяжело дается, и в том, что скрывается за ее приземленностью. Грех Сталина перед революцией некоторыми сознавался, некоторыми отрицался или оправдывался, но проблема ощущалась всеми. Грех Сталина и самой революции перед страной не замечался вовсе. И только поэзия иногда выводила из этого тупика.
И все-таки все эти блуждания впотьмах имеют значение — хотя бы потому, что в конце концов — конечно, не скоро — привели к пониманию сути поэзии, а следовательно, и жизни. Конечно, не к разгадке ее «секрета», но к пониманию, что этот секрет есть. К более острому пониманию важности признания этого секрета и нелепости его игнорирования. А это вещи, нужные и сегодня, если наша страна и жизнь вообще будут продолжаться.
А тогда, в 1940 году, была юность, мне шел шестнадцатый год, и никто не знал, что полных шестнадцать мне стукнет уже не в Киеве, совсем в другом месте, при других жизненных обстоятельствах и другом жизненном опыте — в эвакуации.
В Европе война уже шла, но мы еще не воевали, хоть, конечно, знали, что чаша сия не минует и нас. Но это была пора нашей юности. Она несмотря ни на что была одновременно и тревожной, и безоблачной, мы пили эту безоблачность большими глотками, может быть, инстинктивно чувствуя ограниченность ее сроков. Но что война будет такой, как она потом была, мы и представить себе тогда не могли. Эвакуироваться, по нашим представлениям, предстояло немцам — если, конечно, успеют.
К этому времени меня уже больше всего на свете занимала поэзия. Все остальное — в связи с ней. И что-то существенное я стал в ней понимать. Каким образом — сказать трудно. Прежде всего, как уже говорилось, через Маяковского, стоящего в ней особняком. Потом — через близкую мне тогда по духу революционно-романтическую поэзию двадцатых годов (поначалу всегда понятнее ближайшие предшественники) — тоже явление хотя иногда и яркое, но межеумочное. Правда, начал я понимать и любить Блока, его лучшие стихи. Мое сегодняшнее отрицание некоторых тенденций его творчества, неоднократно мной выраженное, не изменило моего отношения к этим стихам. В большинстве из них он и теперь остается для меня великим русским поэтом. Открылся мне и Пастернак. Об Ахматовой и Мандельштаме я только слышал. Имя Цветаевой я впервые услышал только весной 1941 года, перед самой войной, от Эренбурга (об этом чуть позже). И все же сквозь всю эту и иную (о которой достаточно здесь говорилось) путаницу в голове я уже что-то нащупывал. Рождалось ощущение формы как выраженной цельности внутреннего замысла (у многих до сих пор заслоненное «работой над формой» или «овладеванием формой»), а также представление об обобщенности, о том, что этот замысел не должен исчерпываться поводом, вызвавшим его к жизни — все равно интимным или общественным переживанием он является. Формулы эти, конечно, не тогдашние, но ощущение в какой-то мере и тогдашнее.
А рядом с этим я ощущал себя и старался быть ярым «футуристом», новатором даже. А также назло «мещанам», собственной сущности и в подражание Маяковскому — скандалистом. Все это, особенно последнее, шло мне как корове седло. Правда, часто за «скандализм» и я, и другие принимали нежелание скрывать свое отношение к принятым нелепостям, попытки добиться справедливости и логичности в словах, с которыми к нам обращались. Или с такими эпизодами, как в военном училище. Так что скандал выходил делом чистым. Однако это не было скандалом. Но случалось мне и выскакивать на всяких лекциях «О коммунистическом воспитании» с антимещанскими вопросами-тирадами — неадекватно резкими. А однажды выматерился в доме одной «барышни» (наименование в нашем кругу презрительное), сокурсницы моих старших друзей-студентов. Причем в ее присутствии, в чем и была вся соль этой выходки — этого тогда еще очень даже не полагалось. Именно для этого я и был приведен в этот гостеприимный (по их мнению, богатый) дом своими старшими друзьями — они считали эту сокурсницу глупенькой мещанкой. Вряд ли кто-нибудь из нас мог бы внятно объяснить, почему из-за этого следовало ее обижать, но в своем праве на это не сомневался никто. Возможно, она просто кому-то нравилась. Да и у меня самого она никаких отрицательных эмоций не вызвала. Но я считал своим долгом то ли комсомольца, то ли футуриста проявлять неуважение к нормам приличия и отчасти из-за этого купился, как говорится, на «слабо». «Сможешь?» — спросил меня кто-то, скорее всего Толя Баран, самый старший и единственно скандальный среди нас. «Смогу», — не колеблясь, ответил я. Вот и был приведен.
Когда дошло до дела, мне уже совсем расхотелось хулиганить. Тем более приятели заставили меня читать стихи, которые очень умилили хозяйку. Но не таков был Толя Баран, чтоб отказаться от своих планов. Он приступил к делу сразу же после чтения стихов и произведенного впечатления — прямо объявив, что вот он (то есть я) сейчас матюкнется. И повернулся ко мне: «Ведь матюкнешься, правда?» В ответ я и «послал» его куда подальше — совершенно даже искренне. Девушка рассмеялась и не обиделась. Может, сочла это новым веянием — ребята-то были поэты, элита курса — вот и ошиблась, забежала вперед лет на двадцать, может, женским чутьем уловив чью-то игру. Не знаю. Что же касается меня, то удовольствия от этого своего антимещанского подвига я никакого не получил. Но остальные были этой проделкой (в пушкинские времена это называлось бы шалостью) весьма довольны и со смехом рассказывали о ней приятелям — молоды мы еще были все, даже самые старшие из нас.
Я говорю «из нас», потому что к этому времени моя жизнь протекала уже не только в школе и в литкружке «Юного пионера», не только среди старых друзей, но я стал своим и в этом студенческом обществе, «младшим из компании ребят», если говорить словами одного моего более позднего, уже послевоенного стихотворения. Вообще моя жизнь складывалась так, что я большей частью бывал членом не одного, а двух или нескольких дружеских кругов. Круги эти никогда не бывали антагонистичными, чаще всего потом перемешивались, люди сближались между собой и дружили без меня, но начиналось так. Тогда это было со мной первый раз.
Мне было очень приятно среди моих новых друзей. Бурсацкими проделками, вроде вышеописанной, они больше, насколько мне известно, не занимались. Я просто часто заходил к ним — особенно к Яше Гальперину, который жил неподалеку, на Маловасильковской (по мере того, как я подрастал городские расстояния для меня сокращались), и чуть пореже к Марку Бердичевскому, жившему дальше, на Банковой, в начале Печерска, над центром Крещатика. Кроме того, Марк занимался не только литературой — он учился на геологическом факультете и бывал больше занят.
Особенно мне запомнились встречи у Яши. Его семья состояла из четырех человек: его самого, его отца (которого я не помню, но Марк говорит, что и он наличествовал), матери и сестры. Они вчетвером занимали две смежные комнаты в коммунальной квартире, в бельэтаже. Обычно мы сидели с ним в задней, уставленной книгами. Иногда там набивалось много народу. Бывала там и Яшина девушка, его одноклассница Надя Головатенко, по-моему, она уже даже считалась его невестой, плотная и легкая, русоволосая, очень живая и милая, меня она звала Манделек. Были актеры из окружного военного театра, еще кто-то, приезжал из Москвы и ифлиец Люмкис. Потом, когда ребята поступили в университет, появился и уже упоминавшийся Толя Баран и вернувшийся с Финской войны Петр (Пин) Винтман. Говорили больше всего о поэзии. Почти все эти ребята знали о ней гораздо больше, чем я, их поэтическая культура была гораздо выше моей.
Страшно подумать, что из всех этих ребят до конца войны почти никто не дожил, только Марк и я. Все, кроме Яши, погибли на фронте, Яша, которого не взяли в армию из-за хромоты, погиб в оккупированном Киеве. Мне много приходилось думать о том, как гибли в наше время люди — от насилий, от несправедливости, от террора. И, конечно, я знал, во что обошлась нам война. Но чтоб вот так сразу — комната, полная людей — молодых, талантливых, которые столько обещали, и — никого, только Марк и я, «младший из компании ребят», да еще, где-то далеко от нас, в уголке, Яшина невеста Надя Головатенко, о которой когда-то говорили, что она предала Яшу. Я в это не верю. Я не встречал ее после войны, но знаю, что она ее пережила и уехала из Киева. Знаю, что она отнюдь не избегала объяснений, а хотела их, даже сама на них шла. Но с ней не торопились объясняться — психоз первых послевоенных лет. Тем более, что по достоверным сведениям, они с Яшей перед его смертью разошлись, перестали встречаться. Другими словами, она оставила его в трудный момент. Я понимаю, что благородного человека, от которого мы узнали это, который до конца оставался Яшиным другом и не предал его до конца, это оскорбило, но это ведь не доказательство такого страшного обвинения.
Правда, к сожалению, дело было не столь просто. Примерно за месяц до смерти, весной 1943 года, Яша встретил «парня со своей улицы», по фамилии Левитин, полуеврея-полуукраинца, работавшего переводчиком в гестапо. Они никогда не были близки, но были знакомы. Поговорили и разошлись. Друзья, когда он им рассказал об этой встрече, посоветовали ему «лечь на дно» и просто не появляться на улице. И он залег — на квартире своего одноклассника. Здесь он получил записку от Нади, несмотря на ссору зовущую его поговорить, пошел к ней и… не вернулся. Но друзья знали, что он пошел именно к ней, и потому к ней вскоре явился один из них, Борис Костелянчук (о нем позже), и спросил без обиняков: «Где Яша?» Вся в слезах, Надя сказала, что он здесь был, что они поговорили, и потом он ушел. А когда она взглянула в окно, то увидела, как к нему подошел Левитин с двумя немцами и увел с собой. Связана ли Надина записка с Левитиным, заходил ли он вообще к ней (возможно, говорил ей, что она должна поговорить с Яшей и передать ему, как отвести нависшую над ним опасность) или вообще все это только совпадение, а Левитин просто выследил Яшу. Вероятно, сам всего боялся и выслуживался.
Сюжет показывает, что скорее всего этот Левитин запугал и обманул Надю, но никак не то, что она сама по каким-либо причинам его предала. Она была потрясена случившемся. Кстати, никто ей не мешал выдать и тех, кто его скрывал, — ведь она знала адрес. Да и Костелянчука как пособника тоже — вместо того, чтоб плакать перед ним. И никто не заставлял ее писать потом истерическое письмо Марку, где она клялась, что слухи о ее предательстве ложны, что она любила и любит Яшу. Тем более, что она этим открывала свой адрес (она тогда жила не в Киеве), а «сотрудничество с врагом» в то время толковалось широко и каралось жестоко.
Нет, она не предательница. А что касается претензий к ее личной жизни, к тому, что она рассталась с Яшей, то тут вообще надо быть осторожными. Во-первых, мы просто не знаем, по какой причине это произошло, не знаем даже, она ли бросила. Но я допускаю худшее: бросила она, и по самой стыдной причине — потому, что не выдержала тяжести, что у нее не хватило больше сил быть невестой человека, не имеющего легального права на существование. Но можно ли за это осуждать женщину? Ведь даже самая любящая женщина — такова ее природа — в перспективе вьет гнездо, и ориентирована на будущее. Возможно, был момент малодушия, когда Наде стало страшно и захотелось приспособиться к тому, что ей показалось будущим. Конечно, находились люди, — и женщины, и мужчины, — чья любовь выносила и такую, временами казавшуюся безысходной, тяжесть. Но это поведение, достойное восхищения и поклонения, а вовсе не норма. Людей, способных на такое, всегда мало. Никого нельзя третировать за то, что он до такого уровня не дотягивает. Судить — и любым судом — надо тех, кто заставляет людей испытывать себя таким образом, а не тех, кто не выдерживает такого испытания.
И я вспоминаю Надю с нежностью и жалостью — помню только ее юность, ее смех, ее «Манделек», ее уверенность в будущем своем счастье и надеюсь, что жизнь не совсем обманула ее ожидания. Она тоже — часть нашей судьбы.
Но все эти проблемы возникли потом. А тогда цвела юность, цвел Киев, наш Киев с его парками, садами, по которым мы бродили, читая стихи, балуясь, аукаясь, ведя серьезные и несерьезные разговоры, заходя по дороге в его букинистические магазины, где мы искали Пастернака, а иногда и в кафе, в одном из которых, на Фундуклеевской, я впервые опрокинул в себя рюмку водки. Наш Киев, в котором мы все очень любили друг друга и были счастливы. Это счастье было настолько скоропалительным (для меня), что почти забылось и вспомнилось только сейчас, к случаю. Ибо вскоре после начала войны оно было заслонено потоком трагических событий, потом послевоенным антисемитизмом, особенно тупым и брутальным в моем родном городе, а потом внезапно и неприятно воскресшими более ранними воспоминаниями о Киеве, о которых здесь уже шла речь и которые никак не вязались с представлением о счастье.
Но тогда мы все-таки были счастливы. Несмотря на все страхи и сомнения недалеко ушедшего тридцать седьмого года. И, как это ни грешно, не было почему-то в нас никакого комплекса по поводу того, что наш Киев — это город, на тротуарах которого, как мы сами в детстве видели, еще недавно валялись умиравшие от голода крестьяне. Но тут мы не отличались от всех наших сверстников той поры, хоть это очень скоро аукнулось некоторым из нас более непосредственно, чем другим, очень страшно и совсем не справедливо. Вся жизнь после коллективизации была замешана на чудовищном грехе, и грех рождала в ответ. Но об этом я здесь уже писал и буду писать еще не раз, а сейчас я пишу о своей юности, которая у каждого человека одна, а у меня, как и у всех моих одногодков, она была еще очень коротка.
Жили мы все, точнее, наши родители, очень скудно и тесно. Квартирные условия Яшиной, например, семьи выглядели роскошно, а занимали они вчетвером (у него еще была сестра сравнимого с нами возраста) две небольшие смежные комнаты в коммунальной квартире. Семьи большинства друзей тоже жили в коммунальных квартирах (отдельная из всех моих знакомых была только у Жени), но занимали в них по одной комнате. Правда, «снабжение» в Киеве, как в столице Украины, было хорошее. Это значит, что в магазинах были кое-какие самые элементарные товары, которые, правда, то исчезали, то появлялись, но они — были. Мне самому однажды пришлось занять с ночи очередь в пассаже (примерно в том доме, где после войны жил Виктор Некрасов), чтоб купить ботинки (обычные — я и тогда не был модником). Я полагал, что так живут везде. И только, когда во время войны я столкнулся с довоенными жителями других городов (даже таких «крупных пролетарских центров», как Днепропетровск и Свердловск), я понял, что довоенное снабжение Киева было исключительно хорошим. Но и узнав, отнесся к этому спокойно. И не только потому, что уже шла война, по сравнению с которой все было хорошо. Просто мы так относились к жизни. Я не говорю о старших — о тех, кто помнил другое. Помнить-то они помнили, но были подавлены — победная поступь иррациональности, захватившая их детей, давила их память и здравый смысл. Кроме того, все, что они могли сказать, было заранее дезавуировано пропагандой, объявлено результатом непреодоленных «родимых пятен» и вообще отсталости. Конечно, отсутствие представления об иной жизни помогало нашему «парению».
Но дело было не только в неведении. До войны мы получили возможность воочию убедиться в том, что даже в таких по общему признанию не очень богатых странах, как Польша, Прибалтика, Румыния, люди живут гораздо богаче, чем мы. Но это на нас не действовало. Говорю «на нас», потому что это не моя личная особенность. Как бы всем нам, людям близких мне поколений, не приходилось эмпирически барахтаться, а некоторым и ловчить (речь отнюдь не только о фанатиках, интеллектуалах или «идеологах», а обо всех), в целом мы, люди, начавшие жить и понимать в новую эпоху, относились к общим условиям жизни спокойно, как к данности. Не только не сознавали своей обделенности, но чувствовали себя во времени хорошо и свободно, гордились своей современностью и сознательностью.
Все это достаточно алогично. Иногда мне даже кажется, что имело место нечто иррациональное — например, космическое облучение, воздействующее на чувства и мысли (по профессору Чижевскому). Но, если это даже так, все равно действовало и представление о жизни как о некоей служебности и подсобности, а о всех ее благах — как об удобствах на биваках во время перманентного, вечно длящегося и вечно стремительного похода неизвестно куда и зачем. А что важно на биваке — переночевать, подкрепиться, и снова в поход. Сталину такая психология очень даже пригодилась, он умело использовал ее, старался внедрить как можно глубже, но выдумал ее не он.
Из этого можно сделать ложный вывод, что весь народ тогда вдруг ни с того ни с сего ударился в безоглядный фанатизм, чего и в «романтические» двадцатые годы не было. Тогда партия на это даже не претендовала (прямо признавалось, что в целом народ хотя и идет за большевиками, все же до высоты их идеологии пока «не дорос»). А уж при нас этого и подавно не было. Нет, большинство людей в своей частной жизни оставались самими собой, как могли, выкручивались и увертывались, даже помогали друг другу выкручиваться и увертываться от этой напасти, но — в индивидуальном порядке, не делая опасных, то есть жестоко наказуемых, обобщений. Так что нельзя отрицать и роли террора в формировании и поддержании такого сознания, такого представления о жизни.
Так или иначе, представление это все равно присутствовало в атмосфере времени, в подсознании. Не очень глубоко — потом в плену и в оккупации оно у многих на время или навсегда испарялось, — но присутствовало. Я ведь жалел девочку Адю за то, что ей предстоит жить при капитализме. Это года через два после трупов на киевских улицах.
Как это получилось? Как ни странно, думаю, что это получилось в значительной степени само собой. Просто власть, контролируя коммуникации — а это она считала не только правом, но и обязанностью, — овладела языком общения, получила контроль над мышлением. Вряд ли это было результатом ее сознательно сформулированного плана — таких высот постижения законов психологии большевики никогда не достигали. Но они вышли к этому эмпирически, и многие из них сами потом оказались жертвами возникшей в результате их деятельности реальности, точнее, антиреальности, возможности которой столь чутко уловил Сталин.
Антиреальность эта следующими поколениями не сознавалась, но гнет ее они чувствовали. И единственной иллюзией освобождения от ее гнета, единственной возможностью противостояния — пусть только эмоционального — бессмыслице сталинщины была романтика. Любая. Отъезд по приказу и призыву (обязательно далеко, лучше всего на Дальний Восток), война в Испании, даже в Финляндии и т. п.
И вместе с этим протест против… покоя и сытости:
И мы уходим в синие дороги, От сытых снов и сытого житья,— писал Яша Гальперин. О том, какие были вокруг и позади нас тогда покой и сытость, здесь уже говорилось. Но что-то ведь имел в виду и автор этих стихов, а также все, кому они нравились. Конечно, кое-что шло от традиции, от дурной школы популярного тогда среди нас Багрицкого, но кое-что и от нашей, пусть причудливой, но все же реакции на жизнь. Ведь такие по духу стихи вполне мог бы тогда написать и я. Неприятие духоты мы принимали (и — что греха таить — хотели принимать) за неприятие сытости и мещанства.
Конечно, вскоре нам пришлось убедиться, что это не совсем так. Волей судьбы вскоре в «синие дороги» уйти пришлось нам всем (а многим на них и остаться). Они действительно были без всякого намека на сытость, почему часто и отливали синевой, но романтики в них не было, и от «мещанства» они не уводили. Конечно, встречались на этих путях, прежде всего военных, — и отнюдь не редко — и героизм, и благородство. Но были они неотрывны от житейской обыкновенности и земной грешности — короче, имело это все другой характер и иную природу, чем наша романтика. Это соприкосновение с народом для тех, кто выжил, было живительным и обогащающим. Но когда мы до войны говорили и писали об этом, мы, в сущности, не знали об этом ничего. Так же, как и тогдашние московские «студенческие» поэты, в том числе и погибшие на войне Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий. И только с этим настроением было у многих связано ощущение полноты и осмысленности жизни. Больше не за что было ухватиться. В Киеве больше всех отдал этому дань Яша.
Полуистлевшие расскажут фото О наших лицах, смуглых и суровых, Пластинки, уцелевшие от бомб, Заговорят глухими голосами, Отличными от наших голосов, И рыжие газетные столбцы Откроют наспех деланные сводки. В глубокодумьи мемуаров сыщут Крупицы наших мыслей и страданий. Из строк возьмут тяжелые слова, Рожденные в затишии боев, И, верно, будут удивляться, как Могли мы думать о траве и небе. Но никогда сердцами не поймут Ни нашей скорби по убитым, ни Молчания умерших городов, Еще дымящихся… Ни неуемной, Как голод, ненависти… И ни той Бесовской гордости, что нам одним Дано и выстрадать и победить.Настроение это было свойственно тогда многим молодым идеалистам. Вспомните строки Павла Когана о мальчиках будущего, которые, «проснувшись, будут плакать ночью (имеется в виду — от зависти. — Н. К.) о времени большевиков», или большое стихотворение Николая Майорова «МЫ» и многое другое.
Помню, как, приехав после войны в отпуск из армии, Борис Слуцкий, их ровесник и товарищ, все допытывался у меня, ощущаю ли я свое поколение (тогда еще возрастная разница между нами, сегодня незначительная, не только казалась, но и была существенной) просто очередным, «дежурным» поколением или, как ощущали себя он и его товарищи, поколением совершенно особым, которому выпала особая историческая роль. Но я ничем не мог ему помочь — такой «окрыленности» у меня и моих сверстников уже не было. Да и у его сверстников она значительно слиняла. Кульчицкий успел еще в начале войны написать вполне антиромантическое стихотворение «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник». Д. Самойлов потом, вспоминая об этом времени, говорил о ребятах, «что в сорок первом шли в солдаты / И в гуманисты — в сорок пятом». Это существенная «смена вех» — в сорок первом эти «ребята» не были «гуманистами» даже по отношению к самим себе. Слуцкий «продержался» дольше всех. Но «продержался» чисто теоретически. Высшие достижения его творчества, коих, как известно, у него немало — а, следовательно, и его подлинная человеческая сущность, — совсем в другом, в прямо противоположном отношении к жизни и людям. Он был поэтом.
Сегодня все это уже в прошлом. Нет ни Самойлова, ни Слуцкого, ни Наровчатова, ни многих других людей, с которыми я потом так или иначе тоже дружил всю жизнь, временами нелегкую и опасную. Но во времена, о которых идет речь, я еще не обо всех из них даже слышал.
Но они доходили до нас всякого рода московскими «веяниями» через наших ифлийцев — Муню Люмкиса, Толю Юдина и Сарика Гудзенко. Сарика я потом хорошо знал в Москве, но в Киеве видел только однажды, мельком, Муню Люмкиса видел в Киеве и встретил в 1942 году в Свердловске (об этом в свое время), а видел ли когда-либо Толю Юдина, вскоре погибшего на фронте, я, вообще, не убежден. Но слышал о нем много, и только хорошее, хоть он единственный в этой компании не был поэтом. И слышал именно как о Толе, как об одном из нашей компании. Поэтому так запросто его и называю — «мертвые остаются молодыми».
Вероятно, «бесовская гордость» тоже была привезена в Киев кем-либо из этих ребят. Не помню, чтоб она тогда произвела особенно большое впечатление именно на меня, хоть по малолетству и под сурдинку я ее принимал, но Яшины стихи нравились. У него были еще хорошие стихи на эту тему, более залихватские (привожу, что помню):
Я говорю: быть может, скоро Мы все подохнем, тамада. И пепелищем станет город, Где мы родились, тамада. Опустится старинный ворон На Золотые Ворота. Мы слушаем тебя, страда! Плоты стучат, и воздух горек. Но что из этого — который Мы тост подымем, тамада! Я говорю: когда беда Близка — с любимыми не спорят. К любимым рвутся, тамада, С которыми обычно в ссоре. Как рвется из консерваторий Рев струн и меди, тамада!Дальше я помню только самый конец. Оказывалось, что «мы пьем»
… … … … … … … … … … … … … … … …За солнцем взятые просторы Взахлеб грохочущей весны, За зеленя, за ветер спорый, Летящий наискось в весну. За то, что мы еще поспорим, Еще поспорим — за весну!В этом стихотворении звучит та же жертвенность, что и в предыдущем, что и у Когана и Майорова. Но она не утверждается, из нее исходят как из очевидности. Мы выбрали эту судьбу, мы согласны погибнуть, но пока можно — мы живем, и давайте веселиться. И трогает это стихотворение упоением жизнью, каким-то трагически-мажорным тоном. И все-таки «мы» тут — не только жертвенность, не только «добровольный навоз истории», все-таки «мы еще поспорим, еще поспорим — за весну».
Впрочем, у Яши проскальзывали и другие тональности:
Вселенные рождаются и канут В небытие… Но ты вечна, Привычка умниц, — поднимать стаканы И не скулить в глухие времена.Это из другого пиршественного стихотворения. Строки поэтически, может быть, и наивные (автору было восемнадцать, и он только начинал), но с попыткой иного самосознания. Тут уже не героические ужасы предстоящей последней войны за мировую гармонию, не бесовская гордость за грядущее участие в ней, а «только» пир «умниц», противопоставленный глухим временам. Но так далеко он заходил редко, заносили волна стиха и подспудное чувство реальности, естественная и непосредственная реакция на нее. В принципе Яшу, как Кульчицкого, Майорова, Когана и других, эта «бесовская гордость» тоже волновала и утешала, увлекало то же стремление уверить самих себя, что век наш хоть и суров, но не бессмыслен, что мы в трудных условиях и без пресловутых «белых перчаток» боремся за коммунизм, творим нечто небывалое. И более того, способны и имеем право нести свет своего опыта другим странам и народам. Впрочем, об этом умонастроении я уже здесь не раз говорил.
Эта неосновательная, воистину бесовская (но не нами, не нашей бесовщиной порожденная), безвыходная, как все бесовское, гордость, да еще в ее сталинском варианте, для каждого из нас в свое время рухнула и рассыпалась, обернулась стыдом и неловкостью. Яше в ее иллюзорности пришлось убедиться очень скоро, намного раньше, чем нам, его друзьям, и большинству людей его склада вообще. И в самых страшных для него обстоятельствах — в оккупированном Киеве. Судьба была на редкость несправедлива и жестока к нему.
Впрочем, его жизнь в оккупированном Киеве требует особого рассмотрения. Это несколько выбивается из хода моего повествования — это не моя биография и даже не моя память — во время оккупации меня в Киеве не было. Но я видел многих людей, которые тогда в нем жили, видел их по обе стороны советской границы, знал Яшу и знаю, что происходило со страной. Этого мне кажется достаточно для той отнюдь не беллетристической и не повествовательно-бытовой реконструкции, которую я хочу предпринять. А судьба его хоть по сюжету и не типична, но очень существенна для понимания нашего времени и нашей, в том числе и моей, судьбы. Что-то наше общее в ней проявилось острей, чем в судьбе большинства из нас.
Почему Яша застрял в Киеве, читателю уже известно. Его хромота исключала его зачисление в армию, и он вступил то ли в ополчение, то ли в истребительный батальон — добровольческое формирование, несшее караульную службу и занимавшееся вылавливанием парашютистов-диверсантов. Я его встретил перед своим отъездом в «Гастрономе» на углу Красноармейской и Саксаганского, там он мне сообщил об этом. Настроение его было приподнятое, как у человека, чей звездный час приближается. Я же уезжал из Киева вместе с родителями, уезжал неохотно, утаскиваемый материнской истерикой, и испытывал по этому поводу комплекс неполноценности. Это была наша последняя встреча.
Уехали мы вскоре после этого, приблизительно девятого июля, и я не знаю, как он жил в последующие два месяца, до 19 сентября 1941 года, дня, когда немцы вошли в город. Не знаю, чем занималась часть, в которую он вступил, и занималась ли вообще чем-либо. В царившем тогда беспорядке ее и просто могли не использовать, да и вообще не собрать. Знаю только, что у Яши был такой порыв и что он из-за него остался. Возможно, потом, ощутив военную бесполезность своего пребывания в городе, он не прочь был бы и уехать — предположить это вполне можно, но знать точно нельзя. Впрочем, практического значения это «потом» уже не имело бы все равно — Киев оказался в окружении. 19 сентября немцы медленно и церемонно вошли в Киев. Многие их приветствовали вполне искренне. Яша это видел.
Рассказывая о его трагедии в оккупированном нацистами городе (я вовсе не хочу сказать, что все немецкие солдаты и офицеры были нацистами, но город оккупировали нацисты, во власти которых находились и они), я меньше всего хочу рассусоливать очевидное. Читатель уже знает, что в конце концов нацисты Яшу «разоблачили» и расстреляли. Его уличили в том, что он в действительности еврей и что фамилия его Гальперин. Так что никакой фальсификации допущено не было и нормы гитлеровско-розенберговской законности нарушены не были. Во всяком случае гораздо меньше, чем нарушило советские нормы сталинское МГБ, написав в обвинительном акте против моей приятельницы, что она полностью изобличена в том, что является дочерью ранее разоблаченного врага народа такого-то. Во-первых, ее не надо было изобличать, ибо она своего родства не скрывала, во-вторых, состоять с кем бы то ни было в родстве и жить при этом среди людей в СССР юридически не запрещалось. А быть человеком еврейского происхождения в гитлеровском «рейхе» и на территориях, им оккупированных, — и жить при этом в обществе (на самом деле не только в обществе — просто жить на земле, но это законодательно не объявлялось) — юридически было запрещено. Правда, сами эти «юридические нормы» человечество признало преступными, но это уже потом.
Впрочем, о том, что его происхождение карается смертью, Яша ни до оккупации, ни в начале оккупации знать не мог. Первый в мире открытый акт массового и поголовного истребления евреев был совершен в его родном городе, в Бабьем Яре, но только 29 сентября 1941 года, через десять дней после начала оккупации. А до этой даты никто, в том числе и Яша, ничего подобного представить себе не мог. Даже немецкий приказ о явке евреев на место казни был понят буквально, как был написан, как приказ о выселении евреев в другие местности. Да он и без того был достаточно жестоким, грубым и оскорбительным, так что в свете «нового порядка» выглядел реально. Что происхождение при этом порядке обрекает на унижения, издевательства, погромы — это Яша, наверное, представлял хорошо. И, надо думать, сразу начал мимикрировать. Естественно, он не перестал это делать и после «Бабьего яра».
Безусловно, история юноши, которому запрещено существование на земле, и прежде всего в городе, где только что так ярко цвела его юность, история юноши, чье существование на земле зависит от случайной нежелательной встречи на улице, которому любой косой взгляд — как автоматная очередь, который вечно скрывается, и которому ежесекундно грозит, и которого потом вследствие случайности, оплошности или предательства настигает «разоблачение», достаточно тяжела и драматична сама по себе, чтоб волновать и ужасать. Но таких историй, в которых нормальный, ничего никому дурного не сделавший человек выступает как дичь, за которой охотятся, которой повсюду расставляют силки и капканы, было тогда множество. Было их много и в первые годы советской власти, когда преследовали за социальное происхождение, да этого и потом хватало. Но я сейчас пишу о Яше, а его преследовали, «разоблачили» и убили не домашние рыцари классовой ненависти, о которых я не раз писал и буду писать, а германские нацисты, которых здесь разоблачать ни к чему — о них уже достаточно написано. Да и нацистские преследования таковы, что за ними исчезает индивидуальная судьба — они видели в Яше одно его происхождение. Это не только преступно, но и ублюдочно. В моем рассказе нацисты будут только страшным фоном, драконом над городом, которому надо не попасться, Тартаром. Все это могло в любой момент отнять у него жизнь, но к этому он был пусть не морально, то, хотя бы логически, готов, во всяком случае это не могло его поразить. Да и имело это отношение только к опасности близкой смерти, к механическому прекращению его судьбы, а не к ней самой.
Но в жизни оккупированного города в те страшные дни была еще одна сторона, вполне способная его поразить и имевшая отношение к его подлинной судьбе, что бы с ним ни случилось потом. Оккупация не только угрожала его жизни, но этой своей стороной она еще неожиданно подрывала и веру в абсолютность его правоты, до этого для него очевидной. А к этому он никак не был готов. Как любой бы из нас тогда на его месте. Но к этому уже ни немцы, ни даже только нацисты отношения не имели. Разве что только косвенное, тем, что из-за них перестала действовать власть сталинских репрессивных органов и развязались языки, заработала оглушенная память. Вылезла из всех щелей и заголосила своим неопровержимым, хоть и не всегда приятным голосом доселе подавляемая и подменяемая Правда нашей внутренней жизни — той жизни, в которой и он, и мы в последние месяцы перед войной, несмотря на все наши тревоги и сомнения, были счастливы. И которая теперь ему, вероятно, должна была вспоминаться, как светлый сон. И правда эта оказалась прежде всего Правдой отчаяния, а часто и ненависти.
Впрочем, так ли уж это было для него неожиданно?
Ведь о такой возможности говорилось, она предполагалась. Мол, если что случится, то при таком контингенте не жди добра. Из этой оперы и все рассказанное мной выше о нашем дворе, и приведенные мной слова моего приятеля о крестьянах, вышедших в города. Но ведь трезвые мои оценки положения и отношение к проблеме — сегодняшние, а не тогдашние. Тогда же, хоть я таких слов о бывших крестьянах не произносил, я тоже рвался «в завтра, вперед» и презирал всякую косность, к которой относил и любую личную обиду на советскую власть, тем более в ее столкновении с «идиотизмом деревенской жизни». Несмотря ни на что, несмотря на ежедневные столкновения с собственным, реальным, а не доктринальным идиотизмом этой прогрессивной власти. Все равно — за ней был прогресс, а за теми — косность. И я, конечно, предполагал, что в случае чего эта «косность», к тому же оскорбленная, еще «нам» аукнется. (Истинных масштабов этого «оскорбления» я, несмотря на трупы на улицах в детстве, тогда не представлял, да они и были непредставимы.) «Нам» — это всем советским, прогрессивным гражданам, самой власти, а не евреям, как сегодня хотелось бы истолковать мои слова некоторым. Впрочем, и евреям тоже, хотя большинство евреев вокруг вовсе не были прогрессивны и «не рвались в завтра», а по нашей же раскладке были мещанами. Просто мы знали, реакции и косности всегда сопутствует антисемитизм, и у каждого был за спиной такой двор, как наш.
Читатели, которые захотят увидеть причину такого мироощущения в нашем еврейском происхождении, безусловно, найдутся. Но это не так, распространенность этой общественной болезни гораздо шире и сидит она глубже. Я помню один горячий разговор, состоявшийся году в 1952-м в общежитии карагандинского горного техникума, где я учился после ссылки. Мои товарищи рассуждали о том, как будет плохо в Караганде в случае войны или вражеского десанта — при таком контингенте. Ведь кругом — обозленная сволочь, от которой добра не жди. Пикантность этих филиппик заключалась в том, что это была Караганда, и сами обличающие были из ущемленных и властью рассматривались как обозленные. Это были дети раскулаченных, загнанных сюда бедой, немцы, обязанные каждые десять дней отмечаться в спецкомендатуре и получать разрешения на поездку к родителям, даже в рядом расположенный Темиртау. И все-таки они ощущали себя причастными к некой высокой правде, с высоты которой они никогда ни на что не обозлятся в отличие от окружающей их мутной темноты. Это были хорошие и порядочные парни. Когда после сообщения о «врачах-убийцах», я открыто при всех сказал, что это все неправда, мне не поверили, однако промолчали, щадя мои чувства. Но, главное, ни один не донес, а слышало это человек десять. И вот эти же ребята при их опыте — и такая озабоченность, какая-то несвойственная им гордыня — как здорово умели нам ее внушать! Это было с пострадавшими, и уже в начале пятидесятых. Чего же можно было требовать от нас, довоенных, не пуганных…
Короче, сама встреча с этим «духом подвалов», с этой косностью, с этим «идиотизмом эксдеревенской жизни», как она ни была неприятна, не могла быть для Яши открытием и потрясением. Открытием и потрясением для него было то, что идиотизмом этот «идиотизм» был и казался только издали — пока помалкивал в тряпочку, изредка нечленораздельными воплями проявляя подавленную ярость. А когда он открыто заговорил, он оказался отнюдь не идиотизмом и вполне мог сказать кое-что в защиту своей правоты и оправдание своей ярости. Я сейчас говорю не об оправдании чьего-то поведения — оно было у каждого свое и у каждого свой ответ перед Богом. Но правота ярости тех, кто страдал и помалкивал, сегодня не вызывает сомнения ни у кого из выживших Яшиных друзей. Путь к осознанию этой правоты проделали все мы, но не сразу — в более зрелом возрасте, да и в менее трагических личных обстоятельствах; и когда последствия «великого перелома», если не улеглись (они не скоро и не просто улягутся), то все же потеряли остроту. На него же все это свалилось в одночасье, в 18–19 лет, и в обстоятельствах запутанных и жестоких — и по отношению к нему, и вообще. И всего через восемь лет после этого «перелома». Для моих сверстников, кому в сорок первом было около шестнадцати (даже если «перелом» коснулся их семьи), это было давно, полжизни, точнее, всю сознательную жизнь назад. Но для тех, кому тогда было двадцать шесть, это вовсе еще не было плюсквамперфектом. И если их «ломали» 8—12 лет назад, то рана от этого перелома еще и сейчас была достаточно свежей — жгла. И требовала возмездия. Справедливого? Это уже зависело от индивидуальных качеств взыскующего. Не говоря уже о том, что справедливость возмездия, гарантом которой выступает Гитлер, вообще сомнительна.
Но боль сомнительной быть не может, и редко она сомневается в своей правоте. В довоенных дружеских компаниях, в которых вращался Яша, можно было этой боли не замечать, тем более что мы с ней прямо не соприкасались, а она о себе помалкивала. Ее легко было списывать в издержки прогресса или философски оправдывать пресловутой исторической необходимостью.
Но попробуйте прямо сказать в лицо живому человеку, который ничего дурного ни вам, ни вообще не сделал, или даже просто подумать о нем, что все оскорбления и несправедливости, часто наглые и хамские, которые на него обрушились, исторически необходимы, что его и следовало ограбить и вместе с женой, родителями и малыми детьми выгнать из родного дома, да и вообще полностью отдать их в руки самых ленивых и бессовестных пьяниц их села, потому что когда-нибудь это приведет к всеобщему счастью! Тут при любом вашем юном доктринерстве язык застрянет в гортани. А ведь этот живой человек уже не молчит, он требовательно спрашивает: «Как же так? С нами это было, а вы жили — не замечали. А вот теперь, когда так же поступают с вами, вы небось замечаете…»
Я здесь взял случай умеренный — все-таки при всех претензиях тут нет истерического: «Это вы все сделали!» Хотя и с этим вопрошанием тоже не все в порядке. Это «вы» здесь не совсем правомочно. «Так же» пока, в начале оккупации, поступали только с евреями, с теми, кто не успел или не захотел уехать. Среди них почти уже не было партработников и совсем немного таких идеалистов, как Яша. В основном это был люд или бедный, или «бывший» (как мой дядя), другими словами, больше терпевший, чем «незамечавший». И страдающий сейчас не по своим грехам, а потому, что Гитлер был рыцарем своей жлобской и античеловеческой идеи, замешанной на ненависти, только не классовой, как у Ленина, а расовой — кстати говоря, ничего хорошего не сулившей в будущем ни русским, ни украинцам. В сущности, он и не скрывал этого, ибо в отличие от Сталина не идею подчинял прагматике (иногда кажущейся, но здесь это неважно), а прагматику идее. Но так или иначе, по отношению к большинству остававшихся тогда в Киеве евреям это «вы» было и несправедливо, и, выражаясь по-научному, некорректно.
Да, по отношению к большинству… А как по отношению к самому Яше? И ко всем его друзьям разного происхождения? По отношению к общему нашему ощущению счастья над подобной бедой? Да, в этом не было уголовного преступления, мстить за это — особенно смертью — могли только ублюдки. Не грех — был. Да, он отнюдь не был специфически еврейским, он относился к большинству советской учащейся (и не только учащейся) молодежи, но он — был. И дело было не в тех, кто «мстил» (кому ни попадя, поскольку дозволили, как Кудрицкий), а в тех, кто вопрошал.
Конечно, можно было по старинке обзывать в душе всех этих людей мещанами и как-то внутренне держаться, дожидаясь, когда придут наши. Но в винницком парке открывалась кровавая яма с месивом тел — в ней «наше» НКВД тайно хоронило своих расстрелянных. Люди узнавали своих родных, близких. Почему-то руки убитых были связаны, а губы сшиты колючей проволокой. Я слышал об этой проволоке когда-то в Бессарабии: один случайный собеседник рассказывал, как он с матерью, когда вернулись румыны, искал в таких ямах своего арестованного перед войной отца (к счастью, не нашел — того успели увезти в лагерь), — но не то, что не поверил, а как-то не усвоил. Невмещаема была эта проволока. Но возникала она везде — приходится верить, несмотря на абсурдность этого, явно декретированного «метода». От этого и сегодня тошно, а тогда? Тем более если принять во внимание «фон», на котором все это открывалось, — на каждую такую яму у гитлеровской пропаганды немедленно находился свой виновный в ней «комиссар Хаим Рабинович». Имя «комиссара» варьировалось, но особой выдумкой себя эта пропаганда не утруждала. Имя «комиссара» могло быть и Файвель Раппопорт — лишь бы не выходило за пределы примитивной экзотики еврейского анекдота. Серьезной критики эти сообщения, конечно, не выдерживали. Тогда не было комиссаров, отходила в прошлое экзотичность имен у функционеров. Кроме того, количество евреев среди руководящих энкавэдистов (как и вообще среди функционеров) после 1937 года быстро сокращалось, и, конечно, отнюдь не все расстрельщики были евреями. И уж, тем более, не все евреи расстрельщиками. И в любом случае Яша не нес ответственности за эти ямы. Но при виде расстрельных ям логика умолкала. Да и кто его знает, кто нес за них ответственность. Может, и впрямь названные немцами комиссары. Было от чего голове пойти кругом.
«Как же так? — могли его спросить самые доброжелательные люди, понимавшие, что смешно его винить в этих преступлениях. — Вы же считали эту власть своей. За нее воюют ваши друзья».
А в газетах шел поток страшных воспоминаний — тех, кого пытали, добиваясь фантастических самооговоров, кого выгоняли на мороз из собственных домов, у кого на глазах умирали от голода их дети, мужья, родители. Иногда эти воспоминания подавались в новом, гитлеровском духе, чаще они бывали просты и бесхитростны. Но рассказывали и те, и другие правду. А Яша по природе был художником, он умел отличать правду от лжи. Да ведь он и раньше кое-что из этого (не все, конечно) знал, просто, как все мы, прощал, исходя из того, что революции не делаются в белых перчатках. Он просто впервые осознал, что такое эта грязь, на которую он якобы соглашается и которой так противопоказаны белые перчатки. Но он не знал, что и эти перчатки, и презрение к ним, и сама революция, как высшая ценность бытия — все это вещи не открыты им, а ему внушены. Как и большинству других. В том числе и тех, кто сейчас готов был валить это все на него. Это последнее могло и должно было вызывать презрение (если он не был совершенно раздавлен ситуацией). Но вопрос «Как же так?» все равно не мог не приходить ему в голову.
Я полностью отдаю себе отчет, что это «возвращение правды» происходило в обстановке чужеземной, да еще нацистской оккупации, мало подходящей для какого бы то ни было катарсиса, что правда эта допускалась другой кривдой только потому, что была или казалась ей в тот момент выгодной. Я вполне согласен с духом и смыслом строк Николая Глазкова, сказавшего:
Господи, вступися за Советы, Сохрани страну от высших рас. Потому что все Твои заветы Нарушает Гитлер чаще нас.Я бы, пожалуй, только заменил слово «чаще» на что-нибудь вроде «откровенней» или «наглей», а так — у этого, по общему убеждению, едва ли не самого независимого поэта как предвоенного, так и послевоенного поколений — все верно. Кем бы ни был Сталин, все равно Гитлер оставался Гитлером. И связывать его имя со справедливостью не приходится.
Конечно, и правда от внешних обстоятельств не перестает быть правдой, тем более правда боли. Но от того, что возможность ее выражения была связана с победами и духом нацизма, эта возможность не освобождала и не окрыляла, а наделяла новой тяжестью. Людей не очень высокого пошиба она еще глубже погружала в духоту слепой, парализующей дух ненависти. Остальным приходилось хитрить с немецкой властью, как привыкли хитрить с советской. Я встречал и в тюрьме, и на Западе много людей, вполне порядочных, оказавшихся во время войны на стороне противника, связавших с ним свою судьбу. Подлецов среди них было никак не больше, чем в любой другой группе наших людей. Я очень далек от того, чтоб осуждать их за этот выбор. Ведь правду о коллективизации и прочих большевистских и сталинских художествах они начали понимать не в 1988 году, как многие из нас, не к концу пятидесятых, как я, а по крайней мере — и то в том случае, если сами этого не пережили, — уже тогда, в 1941-м. Что они должны были делать? У меня нет ответа на этот вопрос. Они, наверное, сделали неправильный выбор, а какой был правильный, если выбор у всего человечества был между Сталиным и Гитлером? Просто перед ними он стоял более непосредственно, более жестоко и более безысходно, чем перед всеми другими. А как он стоял перед девятнадцатилетним Яшей, которому вдобавок официально запрещалось существовать на земле?
Я здесь почти не пишу о Бабьем Яре. Не пишу потому, что это акция целиком германская, германскими в ней были и идея, и тактический замысел, и вооруженные соединения, этот замысел воплотившие. Даже дивизии «СС-Галичина» эта честь доверена не была. Конечно, находилась мразь, которая постаралась на этом нажиться. Были, например, возчики, наряжавшиеся отвозить разрешенный еврейский скарб на сборные пункты (ведь речь шла о переселении), а потом, смекнув, в чем дело, кнутом и вожжами с ругательствами отгонявшие хозяев от этого скарба. Но мразь такая есть всегда — важно, разрешают ли ей проявиться. Впрочем, это ничего не меняло — ограбленным недолго оставалось тосковать о потерянном имуществе. Конечно, косвенно эта акция повлияла на атмосферу городской жизни, но поначалу даже не все антисемиты ее одобрили — смущала сама по себе поголовность. Еще и потому, что в ней проявилось отношение нацистов к другим народам вообще, а это наводило на мысли.
Мало пишу я про Бабий Яр еще и потому, что я пишу о Яше, а он туда не пошел. Да, не пошел, тем самым нарушив ясный приказ немецких властей. И потом еще много месяцев безнаказанно жил в Киеве. И даже куда-то выезжал для выменивания продуктов.
Следовательно, имел такую возможность. Следовательно, были люди. И это имеет отношение к моей теме. Быть людьми было тогда нелегко. Опасность окружала со всех сторон. И исходила она не только от патентованной мрази. Хотя и мразь нельзя сбрасывать со счета. Того же Кудрицкого. Ведь есть предатели из удовольствия, испытывающие творческий подъем от возможности таким образом вершить судьбы других людей. Такие времена поднимают всю эту нечисть на поверхность. Такие люди представляли опасность для Яши с первого дня. Они рыскали, вынюхивали, из-за них надо было вечно и ежеминутно быть настороже. Но, во-первых, тип этот был знакомый и понятный еще с довоенных времен. Борис Филиппов в одном из очерков вспоминает об одном таком. Произносил, подозрительно следя за реакцией слушателей, не терпящие возражений неграмотные речи о верности товарищу Сталину, и его все побаивались. А потом, при перемене декораций, стал в той же манере блюсти идеологическую верность «товарищу Хитлеру», и его опять побаивались. Все, даже приставленный к власовской газете от германской армии немец, унтер-офицер, бывший петербургский гвардеец «Павлон», как он сам себя называл. Все эти подлецы, представляли только физическую опасность для Яши, в тех условиях, может быть, для него решающую, но вызывали презрение и не подрывали духа.
Но были люди действительно оскорбленные тем, что открывалось в недавнем прошлом, или тем страшным и невыносимым, что они пережили, впервые получившие возможность говорить о своей боли и правоте, но примитивно жаждавшие мести. Тоже — с первого дня. Но те, кто был виновен, были далеко, а многие из них, к слову сказать, даже расстреляны самим Сталиным. Их было не достать. Но гитлеровская пропаганда усиленно, хоть и топорно, разрабатывала версию о тотальной виновности евреев. Это было соблазнительно — евреи тогда для многих, особенно на Украине, ассоциировались с властью и в то же время они, в отличие от власти, были под рукой. Палачество порождало палачество.
Эти люди становились на скользкий путь мщения кому попало, их «как же так?» было требовательным и несправедливым, их тоже надо было опасаться, против них надо было принимать меры предосторожности, но той безусловной правоты перед ними, в которой он нуждался, Яша чувствовать не мог.
Но «как же так?», вероятно, говорили Яше и люди, которые никаких счетов с ним не сводили, которые так или иначе его скрывали и прикрывали. Особенно в начале оккупации, в медовый месяц дружбы германских властей с украинскими националистами, когда последние чувствовали себя что называется на коне, считая себя не клевретами, а союзниками Германии в борьбе с большевиками. Роман этот кончился очень быстро. Гитлер скоро решил, что он и так победит, и никакие союзники ему не нужны. И однажды ночью все активисты и функционеры украинского движения были арестованы, а многие и расстреляны. И скоро он получил в тылу своих войск УПА — Украинскую повстанческую армию (бандеровцев). Впрочем, это вообще его почерк. С русскими он вел себя еще глупее — жадность фюрера сгубила.
У меня очень мало сведений о Яшиной жизни в оккупации. Все получены от Марка Бердичевского и добыты им в послевоенном Киеве. В эмиграции, где еще недавно было довольно много киевлян, живших в городе при немцах, мне ничего о Яше узнать не удалось. Он был поэтом, но ни Николай Моршен, ни ныне покойные Иван Елагин и Ольга Анстей — поэты, жившие тогда в Киеве, — не слыхали ни его имени, ни псевдонима. А ведь он точно жил в Киеве и даже печатался под псевдонимом Яков Галич. Может, так происходило потому, что печатался он, главным образом, на украинском и выдавал себя за украинца, а тогда это выглядело вроде как конъюнктурно. Но вряд ли это так. Ольга Анстей сама писала и по-русски, и по-украински. Может, сказывалась возрастная разница? Они были несколько старше, чем он. Не знаю. Чтоб понять, почему это произошло, надо лучше, чем я, представлять жизнь оккупированного Киева.
Знаю от Марка, что какие-то украинские интеллигенты, в каком-то ограниченном смысле поставивших на «новый порядок», первые приняли в нем участие. Прежде всего речь идет о представителе вильной украинской семьи (из которой вышла Лэся Украинка) Светозаре Драгоманове, с которым он познакомился в начале войны. Он, пользуясь своим влиянием, добыл Яше фальшивые документы, объявив, что Яша сын его расстрелянного большевиками друга Галича, и только был усыновлен евреем Гальпериным. Яша долго жил у Драгомановых, он так и остался в этом кругу — особенно расширять круг знакомств ему не было резона. Они, безусловно, знали, кто он такой, но покрывали его. Общаться с ними ему было нетрудно — он блестяще владел украинским, он ведь кончил украинскую школу. Как и все мы, он любил украинскую поэзию. В этом кругу он близко сошелся с поэтом Борисом Костелянчуком, человеком в высшей степени благородным и талантливым, который сам на этот новый порядок не ставил ни в коей мере — сужу по его стихам, которые мне когда-то читал Марк. Я его тоже немного знал, точнее, несколько раз видел до войны. После войны он уехал из Киева. Насколько я знаю, арестован он не был, просто где-то запропал, отошел в сторону. Видимо, сотрудничать не мог не только с Гитлером, но и со Сталиным. А может, и МГБ пробовало с ним играть, как, по-видимому, с Жорой Сизоненко. Во время оккупации Яша — во всяком случае часто и подолгу — жил у него. К нему он и не вернулся, когда его схватили. Вряд ли мимо такого человека, как Борис, могла пройти страшная и безысходная трагедия украинской деревни. Вероятно, и разговоры были на эти темы.
Известно, что Яша познакомился с редактором украинской газеты Штепой, довоенным ректором Киевского университета, по специальности ученым-марксистом. Известно, что он говорил о Яше: «Гальперин — умный человек. Он хоть и сам еврей, понимает историческую необходимость уничтожения еврейского народа». Какие основания дал Яша для этого глубокомысленного утверждения? Поддакнул ли к месту, понимая, что потерять расположение этого человека — значит потерять жизнь? Или просто, будучи деморализован всем, что открылось, не смог противостоять пропагандистскому напору? Это навсегда останется тайной. По-видимому, эти слова были сказаны после Бабьего Яра и отражают стремление Штепы и близких ему людей приспособиться к психологии и действиям «дорогого союзника» в борьбе за независимость Украины. До Бабьего Яра тотального уничтожения еще никто не представлял. Могли доходить сведения о расправах в отдельных городах и местечках, но их можно было по старой памяти отнести к эксцессам. Они еще могли не ставить вплотную перед идеологами вопроса о принятии и непринятии гитлеровского «окончательного решения». Теперь они встали перед ними. Я не был знаком с г-ном Штепой ни в Киеве, ни за границей. Помню, что после войны киевских интеллигентов удивляла произошедшая с ним метаморфоза. От него, видимо, этого не ждали. Не ждали не только этих страшных слов, а просто сотрудничества с нацистами.
Но в слова эти стоит вдуматься. Можно, конечно, иронизировать над профессиональной фразеологией этого экс-преподавателя марксизма, от которой он не может избавиться и в своей новой ипостаси. Но если отвлечься от этого, да и притушить эмоциональную реакцию на их конкретный смысл, за ними тоже встанет нечто иное, чем видится.
Прежде всего я не согласен, что эти слова — инерция одной только привычной фразеологии. Я вообще не убежден, что Штепа был таким ненавистником еврейского народа: Яшу он во всяком случае покрывал. Почему? Иногда антисемиты делают исключение для своих старых друзей, действуют старые сантименты. Но никаких общих сентиментальных воспоминаний у этих двух людей не было, до войны они вряд ли были знакомы. Тогда почему он это делал? Ценил Яшин ум? Но для расиста это не довод — тем хуже, если умный. Следует помнить, что, несмотря на эти свои слова, Бабий Яр устраивал не Штепа, что по этому поводу с ним не советовались, что он так же был поставлен перед фактом, как и все человечество (да и факт этот, сколько удавалось, отрицался). От него требовалось только одобрение и оправдание этой чудовищной акции. Что он мастерски и проделывал, ибо дело это для него было профессиональное и не новое.
К той «добродетели понимания исторической необходимости», которую он увидел и оценил в Яше, он приобщился задолго до сорок первого года, еще 1933-м. Я не знаю, что он тогда делал, но ясно одно — что историческую необходимость геноцида украинских крестьян он осознал и обосновал тогда (или чуть позже, но сделал это, раз сделал карьеру) не менее глубоко, чем теперь историческую необходимость уничтожения еврейского народа. Так что не торопитесь возмущаться. Первая «необходимость» ничуть не моральнее второй. Или возмущайтесь глубже, но тогда не только им. А вот Яшу он не выдавал. И мало сказать, не выдавал — покрывал. А это было строго-настрого запрещено, на это могли донести, а немцы шуток не понимали. Но он печатал его в своей газете — конечно, под псевдонимом.
Псевдоним Яков Галич (Якив Галыч) он придумал себе по какому-то случаю еще до войны. Под этим псевдонимом у Штепы была однажды напечатана Яшей большая подвальная статья под нехитрым заголовком «Слова та дила Йосипа Сталина» («Слова и дела Иосифа Сталина»), после которой уповать на возвращение «своих» для него уже не имело смысла. «Свои» бы скорей простили службу в полиции и палачество, чем такую статью. Я ее не читал, но содержание ее нетрудно представить. Слова и дела у Сталина расходились так часто и так явно, что любой мог бы написать об этом вполне убедительно. Это и заставляло меня внутренне поеживаться, когда я в 1946 году узнал об этой статье. И дело было не только в том, что как раз тогда я был сталинистом. Я и, перестав им быть, долго потом считал, что не там бы об этом говорить. Я объяснял написание этой статьи только желанием спастись, а это тогда не считалось смягчающим обстоятельством. И несмотря на то, что мне было очень жаль его, одинокого, затравленно мечущегося по родному городу в поисках спасения, — осуждал его.
Мы все тогда были очень ригористичны, и соображение о том, что «не судите, и не судимы будете» или что «ты не знаешь, как сам бы повел себя на его месте», были мне не очень доступны. «Героизм, — как говорил тогда, впрочем без тени осуждения или юмора, Борис Слуцкий, юрист по образованию, — из категории доблести превратился в категорию долга». Практически это означало, что государство брало на себя право судить уголовным судом за отсутствие личного самопожертвенного героизма. Подчеркиваю: не за неподчинение военному приказу или нарушение присяги, а именно свехъестественного самопожертвования. «Почему в безвыходной обстановке попали в плен, если имели возможность застрелиться?» — без тени юмора спрашивали следователи. Так далеко я не заходил, но писать статьи в «их» газеты спасения ради, прислуживать «их» лагерю — это для меня было слишком. Тем более, что он зря старался — все равно расстреляли. Нацисты ведь!
Где мне было тогда разобраться, что статья эта печаталась не нацистами, а украинскими националистами, да еще в начале оккупации, в расцвете медового месяца их «союзнических отношений» с Германией, когда их лидеры еще всерьез надеялись на толику своей независимости, достаточной, чтоб прикрыть Яшу. А расстреляло его гестапо, которого и они боялись.
Но теперь я думаю иначе. Я думаю, что Яша вообще был искренен, что, кроме естественной жажды спастись, им тут руководила еще жажда отделиться от сталинских бесчинств, от тех, кто их творил, от всего, что теперь открылось и впервые предстало перед ним не в виде отдельных нетипичных издержек большого пути, а во всей своей цельности, масштабности и отвратительности. Принципиальность, конечно, хорошая вещь, но из принципиальности защищать, допустим, сталинский геноцид украинского крестьянства, да еще глядя в глаза его жертвам, может быть, и мужественно, но вряд ли достойно. А героическая гибель за это — нелепа. Куда достойнее, если все равно погибать, став, как многие, одной из неотличимых жертв другого геноцида — расистского, — погибнуть, отрекшись от Сталина. Другими словами, лучше было сделать так, как сделал Яша.
Впрочем, к этому все равно шло. Когда медовый месяц сотрудничества германских властей с частью украинских националистов кончился, резко, по-видимому, ухудшилась и Яшина ситуация. По-видимому, исчезли многие из тех, кто ему помогал. Вероятно, стал более осторожен и многоопытный Штепа, который все равно продолжал быть редактором. Еще хуже стал относиться к сотрудничеству с немцами Борис Костелянчук. В одном из стихотворений он даже сравнивал поведение сотрудничающих с поведением сыновей, держащих за руки мать, когда ее насилуют чужие. Вероятно, в нашей проклятой ситуации это чрезмерно, но это мне видно издалека. Гнев его был бескорыстен и благороден. И куда исчезали у нас тогда такие люди!
В сущности это все, что я хотел рассказать о жизни Яши во время оккупации. Больше я сам ничего не знаю. Знаю, что он жил тяжело, нервничал. Писал стихи. Иногда их печатал. С какой интенсивностью и до конца ли жизни он имел такую возможность — тоже не знаю.
Не могу не помянуть еще одно имя — Гали Якубской. Еще один образ, еще одна судьба. И опять, как часто в наше время, без конца и без начала. Высокая, красивая, стройная, она однажды пришла в редакцию «Юного пионера» на занятие литкружка и прочла живые и как-то свободно звучащие, хоть, конечно, несовершенные стихи, и очень нам понравилась. Я проводил ее домой. Она жила где-то неподалеку, на улице, расположение которой я и сейчас помню, но название забыл. Кажется, Степановская. Я ей тоже почитал стихи — в том числе и свое боевое выступление против танцев, как против «скрытого лапанья» (большой я тогда был моралист, как все южные мальчики). Ее природную женственность это возмутило, и на следующем занятии она прочла гневную филиппику против меня. Мы подружились. Она, по-видимому, тогда была не только по-женски трезвее и взрослее, но и культурнее большинства из нас. И это неудивительно — ее отец, профессор Якубский, был личностью в литературных кругах Киева известной (всем, но не нам). Правда, отец с матерью были в разводе, а она жила с матерью. Но она общалась и с отцом — так что на ее развитии развод не сказался. Конечно, все мы повлюблялись в нее, но в таком возрасте влюбленность — это нежная дружба, так что особых конфликтов по этому поводу не было. Не помню, чтоб она бывала у кого-либо из нас, но мы у нее бывали. Хотя ее мать встречала нас не очень любезно. То ли это был комплекс одинокой, оставленной женщины, то ли некоторый налет антисемитизма — не знаю. Но мы дружили с Галей, а не с матерью. Хотя, в сущности, знали о ней очень мало. Да и сейчас я знаю немногим больше. Не знаю, все ли знала о себе она сама. Тогда детям не все говорили.
Не знаю, через отца, через мать или через обоих родителей (отца я никогда не видел), но она была связана родством с самыми высокими слоями традиционной украинской интеллигенции. Хотя училась она в русской школе. Вероятно, это тогда происходило со многими украинскими интеллигентными семьями. Например, Володя Левицкий, представитель очень известной украинской семьи, был моим одноклассником. Правда, у него мать была еврейкой, но дом у них был вполне украинским. И однако же…
Может, это происходило потому, что это было практичней — украинскую культуру и язык можно привить и дома, а русская школа открывала дорогу во всей огромной стране (все-таки родители этих детей сами пооканчивали русские гимназии), может, потому, что русские школы были тогда лучше поставлены. Но все это выбор, допустим, для инженера. А ведь Галя была девочкой гуманитарной. Все загадка. Но особой приверженности именно к украинской культуре я у нее не замечал. А о кровной ее связи с этой культурой я узнал, так сказать, явочным порядком.
Однажды она пригласила нас в гости на дачу в Корчеватое, где-то то ли на Жуковом Острове, где раньше проводились профсоюзные водные гуляния, на которых я бывал с родителями, то ли где-то рядом с ним. Туда надо было добираться на каком-то захудалом пригородном поезде, который медленно и долго тащился туда с вокзала через Киев. Видимо, шел он на какую-то секретную авиабазу, ибо в вагонах было много летчиков, а после Корчеватого уже нельзя было ехать без пропуска.
Впрочем, потом выяснилось, что в Корчеватое можно добраться и пешком с Демиевки. Та улица, по которой надо было идти, сойдя с трамвая, вела все время в гору и в конце концов принимала совершенно деревенский вид. Потом минут пятнадцать дорога вела через поле и выводила к станции Корчеватое. Дорога занимала не больше тридцати-сорока минут. Я там бывал у Гали несколько раз — с Гришей и один. Разумеется, в основном, мое внимание поглощено было самой Галей, но боковым зрением я замечал и среду ее тамошнего обитания.
Это была маленькая украинская культурная, точнее художественная, или театрально-художественная колония. В центре ее был очень почтенного вида старец с очень знаменитой фамилией, чуть ли не сам Саксаганский. Обычно он сидел в плетеном кресле посреди зеленого двора. Он уже явно не играл и ничего не ставил — очень был стар, но вся жизнь в этой колонии вертелась вокруг него. Вокруг него почтительно хлопотали более молодые женщины. Встречали меня все окружающие, если я попадал в поле их зрения (кроме Галиной мамы — та всегда была с поджатыми губами), очень вежливо и доброжелательно. Естественно, это было проявление не их отношения ко мне (они меня не знали, и отношения не было), а воспитанности и интеллигентности. Я, естественно, относился к ним тоже с большим пиететом.
Вспомнил я о них всех сейчас только потому, что ни Галя, ни ее отец, ни мать из Киева не эвакуировались, а, как формулировали это после войны, «ушли с немцами». Говорили еще, что она вышла замуж за венгерского офицера, но для нашего послевоенного ригоризма это было то же самое. Видимо, этот мир, в котором она жила и который я мельком видел, не понимая, — думал я тогда — был миром мне чуждым, узким, националистическим. Жаль, что он каким-то образом засосал и Галю. Жаль, что она оказалась не той, за кого мы ее принимали.
Мне стыдно, что я так думал, стыдно за свою былую «правоту» и «осведомленность». Что я мог знать? Я до сих пор ничего не знаю. Прежде всего я не знаю, каким человеком был ее отец, что ему пришлось пережить при советской власти, почему уехал с ними. Не знаю даже, русским или украинским он был интеллектуалом. Это был особый мир старой киевской интеллигенции, куда я не был вхож и не мог быть вхож — хотя бы по малолетству. Я видел однажды одного из приятелей Гали, человека ее круга, тоже эвакуировавшегося не с нами, а с немцами. Это потом дороги разных слоев интеллигенции перемешались и наступило взаимопонимание, а тогда его не было. Они были другие люди. В этом мире старшие не откровенничали с младшими. Один бывший киевлянин, встреченный мной на Западе, рассказал мне, что жил он как все советские дети и совсем уж было собрался в начале войны идти добровольцем в Красную армию, но его отец и старший брат впервые серьезно с ним поговорили, развернули перед ним мортиролог их семьи при советской власти. После этого ему был задан вопрос: «Так что ж ты, „их“ собираешься защищать?» И он отказался.
Свое отношение к этой проблеме я уже здесь высказал. Сочувствия такому выбору у меня нет. Ненависть их к режиму, безусловно, справедлива, но она и самоослепляюща. Но и осуждения у меня нет (осуждаю, как и во всех лагерях, только доносчиков и согласившихся на палачество). Ситуация и впрямь была безвыходной. Я просто хочу сказать, что сегодня понимаю, что должен был чувствовать украинский интеллигент через восемь лет после намеренного вымарывания его народа, понимаю, что и другие люди, окружавшие Галю, тоже имели свои резоны относиться ко всему не так, как я. А ведь, положа руку на сердце, внушали мы ей тогда эйфорические глупости — и когда отрицали Сталина, и когда его принимали. То, что мы были искренни, ничего не меняет. Вполне возможно, в какой-то момент другие люди, по-другому ей близкие, выложили перед ней свои карты, не детский идеализм, а жизненный опыт, давно наболевшее. И заразили ее своей, иной эйфорией, не более умной, но иной. Ибо чем, кроме эйфории, можно объяснить приятие совсем неглупыми людьми немецкой оккупации как освобождения. Ведь Гитлер не только не был, он почти и не притворялся спасителем. Эйфории вообще играют большую роль в безвыходных ситуациях. А в иных мы и не жили.
Все, что я здесь говорю о Галином выборе — только мои предположения. Откуда мне вообще знать, что было с Галей, как ей пришлось поворачиваться в оккупации и как жили те, кого я видел в Корчеватом. Почему-то в эмиграции я никогда не слышал о Галином отце (а он был все-таки видным человеком в Киеве). И о некоторых других людях ее круга, имена которых помню, я тоже не слышал. Я ничего не знаю. Но во что я уж совсем не верю — это в то, что Галя «оказалась» не той, какой я ее знал. Она была человеком внутренне свободным, с естественным чувством собственного достоинства, никогда не опускавшимся до притворства. Могла бы вообще не иметь с нами дела, но находиться в отношениях неискренних, фальшивых — не могла. Да и смысла ведь не было. И я вспоминаю Галю, какой она была и какой должна была быть, какой не могла бы быть нигде вне России, даже если судьба ее, как я надеюсь, сложилась благополучно, и испытываю, прежде всего, нежность и благодарность судьбе за то, что я ее знал. Благодарность совершенно бескорыстную, ибо, повторяю, влюбленность с моей стороны была детской, а с ее стороны не было никакой. Просто она была прекрасной, и я с ней дружил. И, конечно, мне больно за ее и за нашу судьбу. Ибо «совсем не тем, за что мы ее принимали», «оказалась» не Галя, не мы, а «наша великая эпоха», так или иначе подмявшая каждого их нас.
Но это понимание далось нам не сразу и не дешево. А тогда, перед войной, нам, включая и Яшу и Галю, конечно, не нравились топорно-залихватские, шапкозакидательские песни вроде «Если завтра война» (мне больше было по сердцу симоновское «Да, враг был храбр. Тем больше наша слава», а эта мудрость тоже не велика), но это больше оскорбляло наш вкус, иногда здравый смысл, но не представление о жизни — в невероятности собственной мощи мы не сомневались. Тем более, что у нас победа сменялась победой — озеро Хасан, река Халхин-Гол. Мы только не знали, какими силами над какими силами и с какими потерями достигались эти победы. Не знали, что в армии не только автоматов (о них мы и не слышали), но и винтовок образца 1891-го дробь 1930 года на всех не хватает. Завесу над тайной приоткрыла война с Финляндией, но тут можно было все свалить на климатические условия. Однако начались учения войск в условиях, приближенных к боевым. Появились даже раненые и убитые. Это мы знали, это касалось наших товарищей. Но нужного оружия в достаточном количестве от этого не появилось. Но этого мы ничего не знали, на этот счет мы были спокойны.
Волновали дела литературные. Я уже говорил, что начали мы посещать обсуждения стихов в клубе писателей. Мои товарищи-студенты обругали стихи одного украинского поэта. Не помню, какие были у него стихи, но как-то подражательно изругали — за отсутствие новаторства. Представляете, как это давно было — я еще стоял за новаторство.
В это время мои литературные связи стали крепнуть. Начались знакомства с московскими писателями. До этого мы знали только киевских, в основном русских. Только однажды мы ходили к Павлу Тычине. О нем в далеких от литературы кругах сложилось превратное представление. Чуть ли не как о графомане. Виной были его стихи, написанные с перепугу (украинскому интеллигенту было чего пугаться), но поднятые на щит пропагандой. Они-то и были в школьных учебниках. Между тем это замечательный поэт-лирик и во многом человек не от мира сего. И то, и другое мы о нем знали. Однако пришли к нему с идиотским, но в духе времени, предложением организовать литературную студию для молодежи. Он, естественно, стал отбиваться от этого руками и ногами. Упирал на то, что студия — это занятия и лекции, к которым надо готовиться, а поэта «ниякою качалкою не прымусышь щось готуваты» (никакой скалкой не заставишь к чему-то готовиться). Фраза эта нас вполне примирила с отказом, и мы ушли. Он нам понравился, но это не было настоящим литературным общением. С москвичами у меня такое общение началось.
Преддверием этому был какой-то парадный пленум правления Союза писателей СССР, состоялся в Киеве, «тусовка», как сказали бы сегодня. Кажется, он был посвящен юбилею Тараса Шевченко. Мы тогда относились к этому серьезно — бегали к гостинице «Континенталь» смотреть на приехавших писателей. Помню долговязую фигуру молодого Михалкова, помню Кассиля, Алексея Толстого. Я испытывал некоторый трепет, завидовал. Где мне было знать, что они вовсе не в восторге от необходимости присутствовать на предстоящих заседаниях (другое дело — погулять по Киеву), что там вовсе не придется заниматься серьезным делом или интересными разговорами — хотя бы о том же Шевченко, — а нужно будет только без всякого удовольствия толочь воду в ступе, демонстрировать, как велено, расцвет культурной жизни. А ведь многие из них и впрямь были еще писателями.
Тогда, конечно, никаких личных контактов с московскими писателями у меня не возникло. Контакты начались чуть позже, когда они стали посещать Киев по одному. Может, они и раньше так приезжали, но я был мал, и это проходило мимо моего внимания. А теперь я начал их посещать в номерах гостиницы «Континенталь», где они обычно останавливались.
О том, что приезжал Николай Николаевич Асеев (по Маяковскому — Асеев Колька), я уже рассказывал. Он выступал публично и читал главы из поэмы «Маяковский начинается», за которую получил или должен был получить Сталинскую премию. Поэма, кстати, вполне честная филиппика насчет «литературного гангстера Авербаха», который тогда был «разоблачен как враг народа», была не конъюнктурным подвыванием стае, а искренней ненавистью. Как и филиппика против другого, правда, более талантливого и ловкого, так никем и не разоблаченного, а до конца жизни всех разоблачавшего литературного гангстера, Ермилова. Он был представлен под прозрачным «псевдонимом» Немилов, но с указанием должности и места работы («Вы нынче в „Красной нови“ у кормила. Решив, что корень кормила от корм»). Вещь была слишком «партийная» (несла знамя футуристически-лефовской партии), но вполне тешила мою тогда футуристическую душу. Но, кроме собственных стихов, Асеев на своих вечерах читал две главы из пастернаковского «пятого года», что было поступком. Пастернак был в немилости. Только недавно почти все более ни менее видные писатели стали «орденоносцами», то есть были награждены орденами. Пастернака наградой обошли. Это, конечно, смешно, но смешно сегодня. А тогда, как ни странно, ордена принимали всерьез. Не только известные писатели, но и мы, все жили внутри этого заданного, недобровольно-инфантильного мира. И было обидно, что Пастернака обошли. И, кроме того, это был ЗНАК для других. А Асеев его пропагандировал с трибуны. Кстати говоря, он читал хорошо, выразительно и многим впервые открывал этого большого поэта. Все это к нему располагало.
И я пришел к Асееву. Кажется, я подошел к нему на выступлении и о чем-то заговорил, — вероятно, ругал гладкопись и сокрушался о забвении традиций Маяковского. При внешнем почитании — меня это тогда волновало. Его, видимо, тоже, он согласился на мой визит. Когда я к нему пришел, у него кто-то сидел, но принял он меня приветливо. Был он высок, большеглаз, приятен, свободен в манерах. Поговорили, потом я читал ему стихи. Тогда-то ему и понравилась «Жуча», о чем я уже рассказывал. Он велел ее переписать для него, что я и исполнил, добавив еще одно стихотворение, названное мной «Из цикла „Собственность“». Приверженность к собственности, корежащей души, он ненавидел всю жизнь, я тогда тоже — все это входило в антимещанский комплекс. Но при этом он мне рассказывал о доме своих родителей, об укладе, о блюдах и напитках, исконно-русских, и рассказывал отнюдь не в хулу. По поводу какого-то моего антимещанского стихотворения, давно мной теперь забытого, где город как окружающая среда ощущался враждебно, сказал:
— Вы вот про город… А это вам кажется… Он не враждебен вам… Просто пока ни вы его не знаете, ни он вас…
Не так глупо и не так футуристически сказано.
Еще одно его высказывание, не помню, по какому поводу. На этот раз почему-то об итальянцах.
— Вот он (кто-то) пишет: итальянцы. А итальянский мужик что — фашист? Он такой же фашист, как подмосковный мужик-коммунист. Знаете, как поют?
И он стал скандировать: Надоело пушше смерти В доме е-лек-три-чества. Ишшо пушше надоело Качества-количества.Это ведь против нивелировки, а не против электричества, — закончил он.
В общем, он оказался гораздо более почвенным, чем его литературная позиция. Не думаю, чтоб я все это тогда освоил, но было мне интересно и какие-то мои представления расширяло. Встреча эта имела неожиданное продолжение. Оказывается, Асеев в Москве рассказывал обо мне и показывал мои стихи многим литераторам, аттестуя их наилучшим образом. И когда я приехал в 1944 году в Москву, многие имели некоторое представление обо мне. Но об этом — в свое время.
Приходил я и к Иосифу Павловичу Уткину. Он был широко известен тогда как автор «Поэмы о рыжем Мотэле» и автор многих лирических стихов. Кроме того, — может быть, именно по этой причине — он был мальчиком для битья. Лирика до самой смерти Сталина находилась под подозрением, в лучшем случае извинялась, если покрывалась другими заслугами. Так ведь и сборники строились — лирика в самом конце после «серьезного чтения». Кроме Пастернака, Уткин был единственным из известных мне тогдашних «взрослых» поэтов, которого обнесли на пиру — не наградили орденом на общем празднике расцвета советской литературы. Не знаю, кто постарался — по-моему, это было несправедливо. Конечно, он не был звездой первой величины. Меня давно не умиляет «рыжий Мотэле», да он и сам, как мне показалось, был не в восторге от того, что его имя как-то подмигивающе ассоциируется именно с этой поэмой. Он был лириком, а не юмористом. Впрочем, вероятно, и ценность его лирики весьма относительна. Лирика требует внутренней свободы, а он начинал как комсомольский поэт, другими словами, добровольно ограничивая свой внутренний мир и свои реакции искусственной целенаправленностью. Печать двадцатых годов — в тридцатых у Смелякова это выглядело иначе, иногда нелепее, но трагичнее и противоречивее. Впрочем, может, я и не прав — я давно не читал его. Его обвиняли в мещанстве, приводили в доказательство строки из стихотворения «Гитара»:
Мне за былую муку Покой теперь хорош. (Простреленную руку Сильнее бережешь.)Надо сказать, что и я с этим к нему сунулся от большого ума. Дескать, «Как вы такое допустили?» И получил резонную отповедь: «Надо думать самому, а не повторять за другими». И, естественно, он был прав, в этих строках — особенно в контексте стихотворения — отчетливо слышались самоирония и несогласие. Чувствовалось, что он травмирован своим остракизмом. В одном из объявлений об его выступлении по инерции было написано: «Выступление поэта-орденоносца» — тогда все приезжавшие были орденоносцами. Он с достоинством поправил: «Нет, не орденоносец». От Уткина, от первого, когда мы вышли с ним пройтись, я услышал, что говорить «тудой» и «сюдой» неграмотно. Я очень удивился, в Киеве все говорили «тудой-сюдой», и мне казалось, что это более удобно. Вообще он тогда был ориентирован на культуру, на историю русской поэзии. Говорил о Вяземском, о Денисе Давыдове — для меня это все тогда была китайская грамота. Для меня поэзия в принципе начиналась с Блока, а где-то в тылу как предыстория помещались Пушкин, Лермонтов и Некрасов. Мне кажется, что в Уткине тогда шла какая-то напряженная внутренняя работа. Особо острых моментов беседы не помню. Больше я его никогда не видел. В 1944 году, когда я уже жил в Москве, он погиб в авиакатастрофе.
Весьма красочным было мое знакомство с Ильей Григорьевичем Эренбургом. Меня потом с ним связывали пусть не очень близкие, но теплые отношения. Но они не были продолжением этой довоенной встречи — он о ней начисто забыл. А я помню до сих пор. Это естественно. Эренбург был фигурой знаменитой и интригующей. Тогда цвела еще вовсю советско-германская дружба, хотя поговаривали о трещинах и называли немцев «наши заклятые друзья». А он только что вернулся из захваченного ими Парижа и опубликовал в газете «Труд» очерки о падении Парижа. Следовательно, «что-то знал», был посвящен. На самом деле, как он неоднократно писал, ничего он не «знал», но откуда мы тогда могли знать, как «на самом деле».
Пришли мы к нему вдвоем с Ариадной Григорьевной — приглашать к себе на литкружок. Говорить должен был я, и, конечно, в глубине души я не собирался ограничить этот разговор официальными функциями. Но из этого сначала ничего не получилось. Мы постучали в дверь номера, услышали «Войдите!» и вошли. Нам навстречу с видом «Что вам угодно?» поднялся Эренбург. Он был очень вежлив и очень холоден. Задача его, как я теперь понимаю, была как можно скорее выпроводить нас из номера. Я был ошеломлен и смят. Дело было не только в его выжидающей позе, дело было в сукне его костюма — в каком-то не виданном мной никогда мохнатом сукне. Я даже не знал, что такое бывает, уставился в его длинные ворсинки и не мог слова вымолвить. Все слова застревали в горле.
— Я… Мы… — дальше дело не шло. Тогда инициативу на себя взяла Ариадна Григорьевна.
— Я вижу, Эма, у вас ничего не получается, придется мне, — начала она, и Эренбург повернулся к ней. Она коротко изложила суть дела, и Эренбург так же коротко отказался от приглашения, сославшись на занятость. Мы вышли.
— Чего ж я ходил! — огорчился я. — Даже стихов не почитал.
— А знаете что, — сказала Адочка и рассмеялась. — Вернитесь! Извинитесь и скажите, что смутились, но хотите почитать стихи. У вас такой вид, что… ей-богу сойдет.
Не знаю, какой у меня тогда был вид (развязность моя была чисто-литературно-подражательной, и от опытного взгляда это укрыться не могло), но так я и поступил. И действительно сошло. Эренбург не выразил никакого удивления по поводу моего вторичного появления и согласился меня выслушать. Он отнесся ко мне серьезно. Одно стихотворение ему понравилось, и он попросил его переписать. Вот оно.
Боль начинает наплывать Опять, тебе назло. А ты скорее за слова, Но больше нету слов. И ты поймешь: спастись нельзя, И боль зальет глаза… Ведь ты давно уж все сказал, Что надо б тут сказать.Беседы, которую он со мной тогда вел, я не помню. Помню только, что она была о стихах и что он говорил вещи, умерявшие мой новаторский пыл. Но я понимал, что они серьезные. Удивило, что он считал себя главным образом поэтом, хотя некоторые его стихи нравились мне уже тогда. Кстати, он мне доверительно сообщил, что под инициалами М. Ц. в журнале «Молодая гвардия» напечатаны стихи Марины Цветаевой. Я всем своим видим показал, что вполне понимаю важность этого события, хотя впервые услышал это имя. В завершение этой встречи он взял меня на свое выступление, и на глазах всего интеллигентного Киева я вышел из роскошного по тогдашним меркам «ЗИСа», вместе с самим Эренбургом, и он распорядился меня пропустить. Дня через два я был на его вечере в Союзе писателей, и вдруг в антракте он разглядел меня, шагнул ко мне сквозь кольцо окружавших и радостно приветствовал. На меня смотрели все вокруг — кто с завистью, кто с ненавистью. Я был очень смущен. Сегодня трудно представить, кем тогда был Эренбург. Потом, во время войны, он стал гораздо знаменитей, но тогда на фоне общей сталинщины в глазах интеллигенции он выглядел совершенно особо. Да и шутка ли — человек приехал прямо из оккупированного Парижа. Это было уже весной сорок первого. А потом он начисто забыл эту встречу.
И это неудивительно. Такие начались события, стольким самым разным людям он вдруг сделался необходим, что было не до того, чтоб умиленно помнить подающего надежды пятнадцатилетнего киевского мальчика. А события шли к войне — полным ходом.
Начало войны. Расставание с Киевом, детством и отрочеством
В описании предвоенных недель следует избежать модернизации. Нельзя, чтоб сегодняшнее знание вторгалось в тогдашнее восприятие. А нам, жившим тогда, войну предвещало все и как бы ничто ее не предвещало. Она уже шла в Европе, придвинулась к нашим границам (чему мы, то есть Сталин, немало поспособствовали), и мы знали, что она на носу. Да этого особенно никто и не скрывал — разумеется, не писали в газетах, а «доверительно» сообщали по неофициальным каналам. Да и в газетах вдруг появлялись статьи, вроде эренбурговской в «Труде», тоже не очень подтверждали прочность «дружбы» с нацистами. В то же время все мы занимались своими делами и строили планы — в общем, жили так, словно она за горами. Даже историческое «Опровержение ТАСС» за неделю до войны, только подтвердившее в наших глазах то, что опровергало, все равно не изменило нашего отношения к жизни. Не надо забывать, что мы жили в Киеве, относительно недалеком от границы, и это прибавляло нам осведомленности. Но все равно мы ничего не боялись, мы ведь были под защитой такой сильной армии. Правда, она несколько оскандалилась в Финляндии, но ведь это была война специфическая. Мы все равно сильны — тем более, из нашего финского опыта были сделаны надлежащие выводы. Мы не боялись.
Помню, как, сдав последний экзамен этого года, мы втроем — я, Гриша и Галя Якубская — ночью забрели куда-то далеко по Брест-Литовскому шоссе почти до Святошина и стояли на мосту через железную дорогу Киев — Коростень, по которой осуществлялся основной транспорт к западной границе. Была чудесная июньская ночь, не жаркая и не душная, благоуханная киевская летняя ночь, говорили о стихах, о жизни, а под нами через короткие промежутки времени один за другим проносились воинские составы. Ночь была светлой, кроме того, вокруг моста горели огни, и на платформах под брезентом вполне прозрачно вырисовывались танки, часовые на площадках, задранные вверх зачехленные жерла орудий и всякая иная техника. А также красноармейцы в дверях теплушек. Эшелон за эшелоном. И так много недель подряд — об этом давно говорили, мы были не первыми из наших знакомых, видевшими это. В то, что нападение Германии на нас было внезапным, я потом не верил никогда.
Но приближение войны угадывалось в городе не только по перестуку воинских эшелонов под Святошинским мостом. Думаю, что в город сквозь «границу на замке» проникали немецкие агенты с разными заданиями, в том числе, распространять слухи и сеять панику. Мне даже кажется, что с одной такой агентшей я столкнулся — тоже за несколько дней до войны — на Владимирской горке. Похоже, что это было 15 июня, в последнее мирное воскресенье. Она сидела на скамейке над Днепром, что-то вязала, рядом сидели разные люди, в основном простые. Собственно, ничего особенного она не говорила, вроде бы вела религиозную пропаганду, грозила Божьими карами. Но угрозы были очень конкретны — она грозила той несметной силой, которая уже собралась и вот-вот, скоро-скоро, двинется против этой безбожной власти, а против нее уж никому не устоять. Народ слушал и не особенно вникал. Может, на силу несметную и обратили бы внимание, но, как ни странно, мешала аргументация Богом. Средний советский горожанин считал еще тогда веру в Бога пережитком собственной темноты и невежества, и обращение к Нему (кощунственное в таком контексте, но это другая тема), придавало всем этим пророчествам в его восприятии привкус «отсталости» и нереальности. Но расчет мог быть и на то, что это мина замедленного действия, которая сработает, когда «все начнет подтверждаться».
Пока же ее сосед по скамейке, человек средних лет, по виду рабочий, прослушав все это, мрачно промолвил:
— Насчет Бога вы бросьте…
Мальчик лет десяти, по виду еврей, что-то крикнул в ответ кому-то, кто его позвал. Вроде того, что «Иду… Подожди!» Этого хватило, чтоб ораторша вдруг буквально взорвалась:
— А, еврей! Проклятое семя.
И вдруг как-то, издевательски скандируя, перешла на идиш: «Ви из айер Гот? Ви из айер Гот?» Это означает: «Где ваш Бог? Где ваш Бог?» Обращенный к мальчику, этот вопрос может иметь только один смысл — покажите мне его физически. Согласитесь, несколько странно для верующего человека. И как-то это было неуловимо не по-нашему. Наш антисемит не стал бы укорять мальчика на идиш вопросом, где находится его Бог. Мальчик, не понимая, чего от него хотят (он и идиш мог не понимать), удивился, но особенно задумываться над этими словами не стал и побежал, куда его позвали. Мне стало скучно, я счел эту тетку не совсем нормальной и отошел от нее. Впрочем, это сделали почти все, кто ее окружал. Но потом, когда оказалось, что несметная сила действительно нависала тогда над нашей страной, я стал думать, что это говорилось неспроста, что это была подготовка. Чтоб потом, когда все разразится, это казалось пророчеством и ослабляло сопротивление. Вряд ли сама эта женщина явилась из-за границы, скорее, из нафталина (тут я не иронизирую — в нафталин ее засунули насильно), но она не производила впечатление человека, следящего за развитием политических событий. А говорила «в самую точку». Возможно, какой-то «нарушитель границы» к ней явился и так взбодрил ее, возможно, что-то просто висело в воздухе.
Тем не менее война началась неожиданно. В этот день мы с друзьями договорились устроить пикник — где-то за городом. Сбор был назначен часов на одиннадцать у Жени. Утром я встал и позавтракал. Все было как обычно, но почему-то молчала тарелка репродуктора, обычно столь говорливая. Только один раз что-то включилось, и бодрый голос произнес: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Начинаем передачу для детей». После чего опять наступило молчание. Это было непонятно, но я решил, что что-то поломалось, и чинят. Поев, побежал к Жене. Она жила на улице Саксаганского, за Тарасовской, на изгибе улицы, новый ее дом был так и построен — изгибом. Подходя к нему, я увидел у ее подъезда почти всех наших, сбившихся в маленькую стайку. Внимание их привлекало что-то, происходившее впереди них, за изгибом улицы. Я не обратил на это особого внимания и бодро крикнул:
— Ну что? Едем?
— Да ты что, охренел? Не видишь?
И тогда я увидел, чем было занято их внимание. У входа в расположенный дома через два — три от Жениного клинический институт (проще, больницу Мединститута) стоят несколько карет «Скорой помощи» и из них кого-то выносят на носилках.
— Не видишь? Раненых привезли. Из Жулян! Жуляны бомбили! Война!
Жулянами назывался пригородный поселок, уже тогда присоединенный к территории города. Это существенная часть киевского железнодорожного узла. Кроме того, там вокруг были военные аэродромы.
Значит, бомбили Жуляны! Странное молчание репродуктора становилось понятным. Тем не менее никто толком ничего не знал. Раненые могли и впрямь быть из Жулян, но это могло быть результатом не бомбежки, а крушения поезда — может быть, даже крупного. А радио по-прежнему молчало. Не по поводу ситуации, а просто не издавало ни звука. Женя передала рассказ соседа. В пять утра тот, выйдя на балкон, видел, как вдали, за железной дорогой, какие-то самолеты бомбят расположенные там аэродромы. Бомбы он счел цементными, бомбометание учебным, а зрелище — захватывающе красивым. Что самолеты в киевском небе могут быть не нашими, он и представить себе не мог. Кроме того, знакомые звонили в штаб округа, где им ответили, что сегодня в 4 часа утра немцы напали на нашу страну. Но это была как бы подпольная деятельность. Да и вообще слухи. Слухам нас учили не верить. На пикник мы тем не менее не поехали.
Как мы отнеслись к новой перспективе? Помню, что я решил забежать домой поесть, меня сопровождал Варшава. Но по дороге нас застиг ливень, и мы забежали в продмаг на углу Тарасовской. И Варшава мне сказал:
— Знаешь, если это не подтвердится, я даже буду разочарован.
Не стоит особенно жестко осуждать Варшаву за эти глупые слова, он высказал то, что было на уме у многих. Это еще было детством. Кроме того, он не вернулся с этой войны, которая, как известно, не обманула в тот день его ожиданий. Но погиб он уже взрослым человеком, бывалым солдатом, мечтавшим о победе и мирной жизни.
Но в тот день такое «боевое» настроение было, если говорить о городской молодежи, всеобщим. В одном из сценариев Григория Чухрая была такая, потом не использованная заготовка. Герои-влюбленные, впервые решившиеся поцеловаться где-то на лестнице, узнают о начале войны так. Вдруг мимо них с радостным криком «Ура!» проносится, размахивая самодельными саблями, счастливая пацанва, потревожив их счастье.
— Вам чего? — спрашивает недовольный любовник. И слышит ликующий ответ: — Война!
Впрочем, у пацанвы это объяснялось жаждой киноподвигов, а у нас тем, что теперь все пойдет по-настоящему, исчезнет тягомотина ирреальности. И то, и другое не подтвердилось, и то, и другое было эйфорией.
Но открылось все это потом. А пока, переждав дождь, я прибежал домой. Дома тоже никто ничего не знал. Радио продолжало молчать. Я сел есть, видимо, утром торопился, не поел как следует. И вдруг радио заговорило. Внезапно, как двумя часами раньше. Но на этот раз оно уже не обещало передачу для детей. «Внимание! Внимание! Говорит Москва. В двенадцать часов тридцать минут по всем радиостанциям Советского Союза…» Дальше я мог не слушать. Дальше все было ясно. Но я все-таки слушал, зажигаясь патриотизмом. И лишь на секунду кольнуло — почему выступит Молотов, а не Сталин? Но это промелькнуло и исчезло. Мысль о том, какое право имели наши вожди более восьми часов не сообщать всему народу, что он уже воюет, не пришла в голову и на секунду. Я твердо верил, что высшие соображения это вполне позволяют. Поскольку они вообще позволяют все.
Я побежал к Жене. Ее отец был тогда же или на следующий день мобилизован — направлен в штаб Юго-Западного фронта. Первые дни нами всеми владела эйфория — ждали известий о нашем победном контрнаступлении: иначе ведь и быть не могло. Но ни из сводок Генштаба Красной Армии, ни из заменивших их через пару дней сообщений «От Советского информбюро», этого вычитать нельзя было. Из них вообще ничего нельзя было вычитать. Там наши войска вели непрерывные бои на сменяющих друг друга направлениях, причем каждое новое неизменно бывало восточней предыдущего. Но эйфория не сдавалась — с тем, что мы отступаем, душа упорно не соглашалась. Впрочем, не только эйфория и не только пропаганда. Старик Кацеленбойген, один из наших соседей-родственников, несмотря на бородатость и «старорежимность», верил в нашу победу не меньше, чем пропаганда, и более искренне. Правда, обходился он без классового анализа. Он говорил:
— Не беспокойтесь! Немец, он так всегда… Хорошо подготавливается, собирается с силами и таки наносит страшенный удар! И — получает два таких же в ответ.
В отличие от моего дяди Ар-Мейши немцев он не ждал, а от них уехал.
Но скоро эйфория начала рассыпаться сама собой, и вовсе не под прямым воздействием немецких военных успехов. Успехи можно было считать временной случайностью, мы ведь ждали контрнаступления со дня на день. Но косвенное воздействие этих успехов сказывалось. Под этими ударами, говоря языком моих сегодняшних представлений, начала откровеннее проявляться человеческая основа сталинщины.
Однажды вечером я подобрал на Саксаганского листовку. Нет, не немецкую. Немцы тогда листовок в Киеве еще, по-видимому, не разбрасывали, во всяком случае я их не помню. Нашу. Их, несколько штук, сбросил кто-то, неизвестно зачем, может быть, из озорства, с прогрохотавшего мимо меня военного грузовика. Она явно предназначалась не для города, а для армии. Листовка черным по белому предупреждала, что оставление позиций без приказа, сдача в плен, переход на сторону врага и еще что-то являются изменой родине и влекут за собой расстрел для совершившего это деяние и тяжелые последствия для его семьи.
Поразила меня тогда, правда мельком, даже правовая сторона этого дела, хоть я был тогда по уровню правосознания варваром. Действительно, при чем тут семья? Но больше всего поразили меня выразившиеся в этих считанных фразах взаимоотношения руководства со своим народом. Получалось, что народ в этой войне защищает не себя, а правительство и только и норовит увернуться от этой чести. Это больно резануло меня по сердцу и сильно противоречило тому патриотическому подъему, который я испытывал и видел вокруг себя. Мне казалось, то война всех объединила и все вокруг горят единой жаждой победы. Разве что, кроме таких темных и нехороших людей, как Кудрицкий.
Теперь я знаю, что не только, что рядом жили и другие люди, ждавшие немцев — точнее, связанной с ними перемены власти. Но они пока помалкивали, и я о них не знал.
И мне было страшно, сознавал я это или нет, от того, что в такой момент власть испытывает необходимость запугивать своих защитников. И хоть подсознательно, хоть мимолетно (эту листовку я скоро забыл), но я впервые ощутил, что дело все не так просто, как мне казалось.
Нет, я отнюдь не разделяю того эмигрантского убеждения, что поражения 1941 года начались с пораженчества. Потом, к зиме, когда гитлеризм себя показал, русский народ, согласно этой версии, начал сопротивляться. На этом эта историософия кончается. Но ведь летом 1942 года опять началось немецкое наступление, началось с пленения десятков тысяч солдат. Выходит, русский народ опять передумал.
На самом деле все не так просто. Причина наших первоначальных поражений была не в пораженчестве, а в «гениальном сталинском руководстве», в общей неготовности страны к войне. Но пораженчество действительно имело место, у некоторых с первого дня. Но оно не было тотальным. Большинство людей, встреченных мной на Западе, попали в плен, а не сами перебежали к противнику. Но не от пораженчества возникали поражения, а, наоборот, из поражений возникало, укреплялось и расширялось пораженчество. Такое бывает отнюдь не всегда, но тогда — было. И это неудивительно. Убеждение, что мы сильны, было в глазах у многих единственным оправданием нашей трудной жизни, а, когда мы вдобавок ко всему, вдруг оказались еще столь очевидно слабы, то власть стала выглядеть не только жестокой, но и кругом несостоятельной. И многие, попадая в трудное положение, поднимали руки вверх с облегчением. Правда, немцы сделали все возможное, чтоб это облегчение было обманчивым, и многие эмигранты «второй волны», испытавшие это облегчение и отнюдь не просоветски настроенные, вспоминают их с ненавистью. Но об этом лучше читать в их собственных воспоминаниях. В дни, о которых я говорю, я еще не думал ни о поражении, ни о пораженчестве, а упрямо ждал нашего контрнаступления и боялся, что война кончится без меня.
Между тем в городе явочным порядком началась эвакуация. Начали ее энкавэдэшники, первыми приступившие к вывозу своих семей. Наткнулся я на это случайно. Однажды под вечер, дней через пять — шесть после начала войны, возвращаясь домой, около дома на углу Кузнечной и Саксаганского, где жил мой одноклассник, товарищ первых школьных лет, я увидел грузовик, груженный домашним скарбом, как при переезде на дачу. У грузовика хлопотал друг этого моего товарища, с которым я тоже был знаком и о котором я знал, что он сын крупного энкавэдиста. Тем не менее он казался мне, а может, и был, неплохим парнем. Я подошел, поздоровался с ним и удивленно спросил:
— Вы что, на дачу?
— Да… — иронически скривил он губы. — На дачу…
— А куда же? — хотел наивно спросить я, но не спросил, хоть еще не догадался куда. Догадался я только потом, распрощавшись с ним, по дороге домой. И это меня поразило. О какой же обороне могла идти речь, если люди, которые должны были быть ее центром, втихаря вывозят своих? Наше воспитание исключало такое отношение к вещам. И те же «воспитатели» нас же ставили перед фактом, противоречащим этому воспитанию. И мы должны были этот факт принять. Можно было требовать героизма от окружающих, судить за его отсутствие, а самим, как наиболее верным и ценным кадрам, драпать. И порождать панику, с которой сами по долгу службы обязаны были бороться. Это и была сталинщина.
На фронте во многих (но тоже не во всех) обстоятельствах вынуждены были прибегать к другой системе ценностей. Но в принципе именно война утвердила, ввела в быт как норму противоестественные обычаи сталинщины. Военная иерархия и фразеология, законсервированные как норма жизни, вообще очень этому способствовали. Но это все стало ясно потом. И это привилегированное право на комфортабельное, с большим количеством багажа, бегство было первым моим столкновением с этой системой жизни. Не политики, не репрессий даже, а самой повседневной жизни. Она и до этого существовала, но тут впервые проявлялась открыто.
Где-то в эти дни я пошел рыть окопы, пошел добровольно. Перед этим я вступил в комсомол, и на этот раз меня приняли без проволочек — кажется, сразу в райкоме, хоть и не выдали документов (бланков не было). У райкома мы и собирались. Все были из разных учреждений и предприятий. Люди незнакомые, но хорошо понимавшие друг друга. Обращал на себя внимание только молодой человек, чернявый, в какой-то зеленовато-черной рубашке, как-то уж очень расслабленно болтавшийся среди нас (временами потом за его расслабленностью угадывалась тренированность и сила). Как потом выяснилось, ни к какой организации он не принадлежал. В том, что он был заброшенным парашютистом, у меня ни тогда, ни потом сомнения не было. У других тоже. Но уровень бардака, как увидит читатель, был такой, что это ему ничем не грозило. Однако начну по порядку.
Мы знали, что должны рыть окопы, но где мы должны были их рыть, было военной тайной. Потом оказалось, что в Ирпене, где-то на холме и в лесу у железной дороги — как я через много лет понял, против тамошнего Дома творчества. Но для сохранности тайны добирались мы туда (с парашютистом вместе) кружным путем. До Пущи-Водицы трамвай № 20, который шел с площади Калинина, а потом пешком через лес. Шли очень долго и пришли совершенно измочаленные. Придя, увидели на железной дороге поезд с дощечкой «Киев — Ирпень» (или — Тетерев, или — Клавдиево) и поняли, где мы. При себе мы имели согласно инструкции продукты на один раз, и все. Нам велели соорудить шалаши. Потом мы развели костры. Сидели, болтали. Одна девочка рассказала, что вчера брата взяли в армию, и мама очень плакала. И тут парашютист решил выдать заряд советского патриотизма:
— Она не должна плакать, она должна гордиться, — сказал он, уверенный, что говорит то, что надо. И попал пальцем в небо. У костра воцарилось неловкое молчание. Советский патриотизм получился явно на тогдашний немецкий, точнее, на гитлеровский лад. От наших матерей даже при Сталине не требовалось, чтоб они не плакали. Тем более в частных разговорах. В общем, кто-то о нем сообщил представителю райкома — все-таки не анекдотчик, не мнение высказал, а шпион. Представитель потом приходил, беседовал с ним и ушел, так и не выяснив, кто он и откуда. Не до того было. И так голова шла кругом. Он должен был на следующее утро выдать нам еду и шанцевый инструмент, а ни того, ни другого у него не было. И концов было не найти. Тут не до шпионов.
Эту ночь у костра я помню. Был там очень милый и интеллигентный парень по имени Карен, с которым мы быстро нашли общий язык, хоть он был намного образованней меня. Помню ощущение дружеской близости, хотя никогда потом его не встречал. И все эти милые, чистые мальчики и девочки. Мелькнули мы в жизни друг друга и исчезли.
Наутро мы ничего не получили — ни еды, ни лопат — и примерно в полдень пошли домой. Прямо, через Святошино. В стороне, озираясь и все стремясь запомнить, брел шпион. Я весьма чужд детективному ражу и жанру (обвинения кого-либо в стукачестве, часто возникавшие в обществе, меня всегда раздражали), но в этом случае не сомневаюсь, что так и было — шпион. Был он человеком явно не очень образованным или умным, но способным — говорил по-русски почти хорошо (утверждал, что с Западной Украины, а может, и впрямь состоял в националистической организации) и свое дело, видимо, знал. Но не думаю, что его миссия была полезна пославшим его. Он, вероятно, собрал ценные сведения, но он не знал, с кем связался. Если б война велась правильнее (по Жукову), Киев вообще был бы оставлен без боя. Но война велась так, что Киев попал в окружение и позорно пал. Так что в обоих случаях сведения, добытые им с риском для жизни, пропадали зря. И еще он не знал, что, несмотря на весь тот бардак, который так облегчал его работу и который так оттенял великолепный немецкий порядок, мы все-таки победим. А впрочем, черт с ним, с этим гитлеровским «комсомольцем двадцатых годов». Хотя меня долго потом мучила совесть, что я упустил шпиона. Людям более молодым может все это показаться рудиментом обычного психоза сталинской «бдительности» и вообще «охотой за ведьмами». Но немцы действительно забрасывали в наш тыл парашютистов — в основном диверсантов, но и разведчиков тоже, а на первых порах и просто сеятелей паники. Кое-кого из них, из числа эмигрантов, я потом встречал на Западе. Попадались они (кто попадался) на незнании алогичных реалий советской жизни и на таких противоестественностях, как проявленная «нашим» — насчет того, что матерям при уходе детей на фронт надо не плакать, а гордиться. А «наш»-то и попался — но сошло.
Впрочем, скоро я чуть было не пошел добровольцем в комсомольский истребительный батальон, созданный для ловли парашютистов. Но это уже было после выступления Сталина 3 июля, когда стало ясно, что немецкое наступление легко не остановить.
Надо сказать, что к этому времени уже во всю шла эвакуация. Одной из первых уезжала Женя вместе с Укрпромкооперацией, где ее отец занимал до ухода в армию крупный пост и в доме которой они жили. Мы с Гришей то ли помогали ей собраться, то ли просто болтались под ногами. Помню, как мы мудрили над подаренным ей нами к именинам громадным старинным фолиантом гетевского «Фауста». Увести его с собой она никак не могла, и мы сочиняли на нем пропагандистскую надпись для немцев, которые, безусловно поселятся в этом доме. Это было наивно, но этого интернационализма я и теперь не стыжусь. Бредом и преступлением я считаю интернационализм только политический — право жертвовать интересами и жизнью какой-либо страны во имя ожидающегося счастья всего человечества, как было с Россией.
И вдруг среди общего предотъездного бедлама мы обнаружили на столике черновик очень интересного документа. Автором его был кто-то из Жениных соседей и сослуживцев ее отца. Я этого человека никогда не видел, близким человеком их семье он не был. Почему он писал этот документ именно у них (иначе б не остался черновик) — не знаю. Видимо, сближало общее несчастье. Забежал посоветоваться и за сочувствием. Представлял этот документ собой прошение об эвакуации, направленное руководству не то киевского, не то всеукраинского НКВД. Почему он не мог или не хотел эвакуироваться вместе со своими сослуживцами, рассчитывал ли на более привилегированные условия, которые предоставлял своим сотрудникам его адресат, — тоже не знаю. Интересно другое — почему он счел возможным обратиться с такой просьбой в это недосягаемое учреждение.
Оказывается, в первые годы революции он был заграничным агентом ЧК. Он подробно рассказывал об этой своей работе, о своих камуфляжах, о провалах (один, я помню, был при свидании с британским консулом — кажется, в Болгарии), о добытых тайнах — сюжет был явно авантюрный. Но за ним всплывала моя любимая идейность. Я проникся уважением к человеку с такой биографией. И не приходило мне в голову, что документ этот глупый и неблагородный. Я оставляю в стороне то, что он вообще занимался за границей подрывной деятельностью, мешал людям жить во имя своих непрожеванных идей. Но глупо было то, что при такой биографии он вообще напоминал о себе этому учреждению. Таких оно уничтожало в первую очередь. Теперь ввиду обстоятельств оно могло эту экзекуцию отложить, но могло и ускорить. Да и подло — по отношению к товарищам и коллегам, которых оно уже уничтожило. Впрочем, и подлость эта тоже вполне может объясняться глупостью мировоззрения, верой в «маму ВКП(б)», которая все равно всегда права, верой, которая заменяла этой публике любую другую веру, даже в коммунизм. Но тогда я так не думал.
Женя уехала, а я пошел в истребительный батальон. Он помещался на Крещатике в знакомом мне здании обкома комсомола. Командиром его был молодой человек по фамилии Усачев. Была там на какой-то должности еще молодая, но по моим тогдашним ощущениям взрослая девушка. Мне показали мою постель. Видел я еще двух-трех ребят, тоже постарше меня, вернувшихся с дежурства. Похоже, что их добровольность была относительной — они были выделены в батальон комсомольскими организациями предприятий. Кстати, то же было в основном и с рытьем окопов. Это не значит, что против воли, но и не совсем определяется понятием «добровольно». Сталинщина имела склонность к «организованной стихийности», даже когда естественная была за нее. Как в «Чонкине» Войновича, где по воле райкома крестьяне, собравшиеся на стихийный митинг по случаю начала войны, разгоняются, а потом «организованно» сгоняется на «правильный» стихийный митинг. Но тогда удивление по поводу такой «добровольности» заглушалось тем, что все вокруг воспринимали ее как нормальный факт. Правда, в армию многие шли добровольцами на самом деле — и тогда, и позже. Но армия — не комсомольская организация.
Дома известие о моем патриотическом поступке, когда я с ним туда явился, было воспринято панически. Но на первых порах я все же вырвался и вернулся. Собственно, никакого батальона я не видел — максимум человек шесть. В нем наверняка было больше людей, но не на много. Может, он еще не был собран. В основном мы сидели на балконе, а мимо нас, заполнив весь Крещатик, проходили войска. Их было очень много, в основном пехота. Но двигалась эта пехота не в сторону фронта, а от него, в сторону тыла — к концу Крещатика и по Александровской на Печерск, к мостам через Днепр. Вероятно, это было правильное решение, видимо, на всех не хватало оружия. Вероятно, Жуков уже тогда собирался отвести войска за Ворсклу, что бы их спасло и чему помешал Сталин, погубив их в киевском «котле» (кроме тех, кого Жуков успел увести), но зрелище это было несколько обескураживающим. Казалось, что Киев собираются сдавать без боя. А если так, то зачем мы?
На следующий день родители уговорили меня уехать с ними. Говорили, что там, куда я приеду, я свободно пойду в армию, а здесь неспокойно. Тетка, которая оставалась, говорила, что если я буду в батальоне, то потом им достанется — ведь у нас такой дворник. Бедная, она не понимала, что участь ее решена независимо от моего поведения. Уезжать мне очень не хотелось. Но обстановка бегства уже воцарялась в городе. Ребят близкого к призывному (моего) возрастов вызывали повестками в военкоматы и бестолково отправляли колоннами на работу в тыл, чтоб этот резерв не достался немцам. Делалось это вполне безответственно. Они редко куда доходили — всем властям по дороге было не до них, а потом долго искали и не всегда в эвакуационной каше находили своих родителей, а иногда и просто попадали в руки немцев. Безответственность эта была чем-то новым для нас. Мы еще верили в предусмотрительность власти.
Эвакуировались заводы. Уезжал мой двоюродный брат с женой, отцом-раввином и матерью. Его родной брат пришел пешком из Луцка, где был даже завгороно (не будучи в партии), и рассказывал всякие ужасы. Украинские партизаны стреляли в спину красноармейцам. Через два дня он тоже уехал. Мать побежала в батальон и сказала, что я уезжаю с родителями, там ничего не имели против. Все же мал я еще был в их глазах и неловок. Так что мой патриотический порыв никакого приложения не получил. Логически уговорить себя в правильности моего поступка было можно. А может, и вправду он был правильным — ну куда я тогда годился? Но все равно в глубине души было больно и стыдно. Особенно через месяц, когда такие отряды вместе с войсками (кстати говоря, генерала Власова) выбивали немецкий десант из Голосеевского леса — с холмов над Демиевкой. Конечно, я был лопух, неловок и т. п., оправданий сколько угодно, но «все же… все же… все же…» (А. Твардовский).
Нечто подобное я чувствую и теперь, когда пишу эти строки, вернее, чувствовал в понедельник 19 августа 1991 года, когда мои друзья защищали свободу вместе с Ельциным и когда неясно было, чем кончится, а я жил в гостях в штате Коннектикут в старинном, затененном деревьями доме — правда без электричества (то есть, света и горячей пищи, поскольку энергоснабжение было нарушено ураганом «БОБ» — скорость ветра 165 км в час, 51 м в секунду). Но это неприятности, а там стояли на кону их жизни. А защищали они и мою судьбу — ведь мне просто не было бы смысла дальше жить, если бы путч удался. Было противно, что я как бы сижу в стороне. В стороне от своей судьбы. Примерно то же, хотя и с меньшими основаниями (я не так еще был вовлечен в жизнь), я чувствовал и тогда, в июле 1941-го.
Уезжали все вокруг. Но уехать при этом нам было не так легко. К промышленным гигантам даже киевского масштаба мы отношения не имели. О том, что уже существует организованная эвакуация частных граждан через райсоветы, мы не знали (впрочем, «организованность» чаще всего ограничивалась выдачей эвакуационного удостоверения, мало кого интересовавшего). Отец решил присоседиться к племяннику, уезжавшему с заводом «Червоный двигун», а уезжали они на барже с какого-то причала Киевского речного порта. Мы взяли с собой вещей сколько смогли унести на себе — чемодан и несколько небольших узлов — атлетов среди нас не было. В последний момент тетка молча сунула в один из них какой-то «довоенный» отрез, — единственную ценную вещь, сохранившуюся «с мирного времени». И мы на нанятой подводе отправились на пристань. Там то ли потому, что не нашли нужного причала, то ли потому, что нужная баржа уже уплыла, то ли просто по ошибке — это и тогда было непонятно, — мы погрузились в другую баржу. Но поскольку считалось, что все плывем в Днепропетровск, то с этим смирились — там и поищем родственников и их всегда бывший по соседству завод.
До отплытия в Днепропетровск было еще далеко, хоть от пристани отплыли мы довольно скоро. Часа через два после водворения. Но плыли мы недолго — нас причалили к противоположному берегу, ниже пристани, и почти против Киево-Печерской лавры, аккурат между двумя мостами, все время исправно бомбившимися немцами. В мосты немцы ни разу не попали, бомбы ложились неточно, но именно поэтому могли угодить в нас. Впрочем, все-таки не угодили — мы все же были пришвартованы на некотором отдалении от мостов, в километре или двух, а «Юнкерсы» пикировали.
Мы могли наблюдать это дня два — три. Приходили крестьянские девушки из близлежащих деревень. На все предложения продать что-нибудь показывали язык, стоя, впрочем, на безопасном расстоянии. Издевались над нашим бегством. Вероятно, в этом была и изрядная доля антиеврейской настроенности, но главное не это — бежала ненавистная власть и те, кто по их представлениям, был с ней связан. Они не знали и не думали, что «власть» бежит иначе. Впрочем, что-то и понимали — настоящей власти, хоть и бегущей, они бы остереглись языки показывать. Ведь она еще все контролировала. Но уж очень хотелось на ком-то отыграться. К их «отсталости» я относился совершенно спокойно. Она не была неожиданной. И своего передовизма я не терял. И все же — неприятно, когда радуются твоей беде. Сегодня я понимаю, что при их биографиях это было извинительно. И все же… И все же — не более того.
А на баржах — их было несколько, хоть я не помню, чтоб они сообщались между собой или с берегом, не помню прогулок на берегу — шла скученная, скомканная жизнь, плакали дети, стирались и сушились пеленки. Людей особо мне близких там не было. К «высоте» моего приятия действительности и к Маяковскому тоже никто не был причастен — принимали как данность. Я лежал, смотрел на Киев, на Лавру, на парки и соборы, и мечтал о том, как все мы сюда скоро, может быть, осенью, вернемся, как после каникул, обнимем друг друга, расскажем о пережитом и начнем опять жить и дружить, как раньше…
И вдруг — я до сих пор помню этот момент — острой болью пронзила меня трезвая и беспощадная мысль, что ничего этого — того, что было, — никогда уже не будет. Нет, это не было пораженчеством, я знал, что мы победим, что, может, и вернемся, но почувствовал, что если даже и вернемся, то не все и не так, вернемся в другую жизнь и другими людьми. Это не было отчаянием, просто констатацией неприятного факта, с которым ничего не поделаешь. Думаю, что это первая моя взрослая мысль, первое мое прозрение реальной трагичности бытия.
На этом собственно можно завершить свой рассказ о детстве, о пути во взрослость. Но чисто сюжетно я его дотяну до более поздней точки.
Дня через два подошел буксир и потащил все наши баржи без остановок в Днепропетровск. Мимо Триполья, о котором я рассказывал, мимо Ржищева, где родилась моя мать, мимо Канева, где я уже бывал и где над Днепром похоронен Тарас Шевченко, мимо Черкасс, Кременчуга, Нижнеднепровска (тогда Днепродзержинска), где моя мать держала экстерном за гимназию, в Днепропетровск, куда мы вроде эвакуировались. По иронии судьбы этот город был захвачен немцами на месяц раньше, чем Киев. Но в Днепропетровск нас, кроме лиц с местной пропиской, не пустили. Наши баржи несколько часов проторчали где-то посреди Днепра, а потом были пришвартованы к противоположному берегу, к станции Новомосковск (в сущности — левобережный узел Днепропетровска), где в спешном порядке погрузили на открытые угольные платформы. И оставили. Так что поиски родственников и их завода отпадали сами собой. Но уже не до этого было. Помню жуткую темноту, неустройство, нахальную местечковую семью, глава которой защищал то, что считал в той тесноте своим правом, возглашая: «Мы тоже советские гражданины!», и какое-то покорство судьбе — везут, не говоря куда и как, ну и пусть! Но до темноты нас никуда не повезли, а ночью началась бомбежка. Я слыхал про массированные налеты на Сталинград, и знаю, что бомбежки бывают куда более ужасные, чем та, в Новомосковске. Но я более страшной не видел — Бог миловал.
Кругом взрывалось, грохотало, светилось, было страшно ощущать себя маленьким и беззащитным, все, даже, дети замолкли. Потом все стихло, и тут эшелон тронулся. Везли нас по кругу — на Лозовую, Павлоград, Славянск, почти до Харькова, а потом, видимо передумав, на юг, в Ясиноватую. Оттуда в Ростов. Это уже была Россия. По Ростову мы немного походили, думали остаться, но концов никаких не было, и мы вернулись в эшелон. Во второй половине дня он тронулся в Батайск.
По дороге я встретил первого великорусского «антисемита». Какой-то человек вскочил на площадку нашей платформы с чайником, ему надо было чуток доехать. Был он в меру рыж, озорноват, по виду железнодорожный рабочий. Он на все корки поносил евреев за бегство с фронта — имея в виду население нашего эшелона. Было это достаточно нелепо, в основном тут были женщины и дети, и он это видел. Да и вообще евреям оставаться в оккупации было никак нельзя, и он это хорошо понимал. Кроме того, военкоматы, которые могли «загрести» в армию, существовали не только там, откуда, но и там, куда мы ехали. И это тоже было ему известно. Но ругался. Не столько от злости, сколько потому, что его это развлекало. Не скажу, что это выглядело особенно благородно, но он мне почему-то понравился — не показался ни страшным, ни отталкивающим, а, скорее, привлекательным. Как мне кажется, антипатии он ни у кого не вызывал. Даже у местечковых. Кавычки у слова «антисемит» относятся только к этому человеку и таким, как он, а их было и есть много в России. Но это не исключало наличия в Великороссии антисемитов и без кавычек, правда их всегда намного меньше. Могут сказать, что, когда люди становятся толпой, кавычки эти могут исчезнуть и там, где они есть. Но я вообще говорю не об отчаянных ситуациях, когда мало кто сохраняет достоинство. Во всяком случае в очень тяжелых обстоятельствах, предшествовавших ныне разгромленному заговору и вызванной им, происходящей и сегодня (24 августа 1991 года) революции, русский народ ни на какой экстремизм и расовую ненависть подбить не удалось. Хотя все проблемы существования пока по-прежнему остры.
Поезд подошел к Батайску. Там нам объявили, что нас повезут в Александровский район Ростовской области и распределят по колхозам. Начиналась — хоть на самом деле началась она не там, а чуть позже — другая жизнь, не та, к которой я привык. Детство, в которое кусочком вторглось и счастливое отрочество, кончилось. Начиналась суровая юность.
Часть вторая. Юность
Вступление ко второй части
Уже были написаны две с половиной главы второй части, когда я понял, что и на этот раз не обойтись без вступления. Прежде всего страна, для которой мысленно писалась эта книга, как бы перестала существовать. Так что, выходит, я теперь для России уже дважды иностранец — не только живу, но и родился за границей (хотя и в «матери городов русских») и вообще не имею права высовываться. Тем более в интеллигентских массах недавнее бездумное эмигранто- и диссидентопоклонство сменилось столь же бездумным пренебрежением: «Ишь ты! Приезжают и учат!» Или — по Юрию Власову — дают легкомысленные или безответственные советы. Советов я, к сожалению, никаких не давал и дать не мог (и дело тут не в моей эмиграции), а делиться своим опытом и соображениями — имею право. Просто потому, что всегда этим жил и об этом думал. Но это я к слову, этот «фактор» меня не остановит. Огорошивает меня другое. Из-за всего этого получается, что вроде не было у моих читателей общей судьбы, да и вообще все описываемое в первой части происходило не в России, а где-то заграницей. Бессмыслица. Но кое-где из-за этой бессмыслицы под вдохновляющим лозунгом: «Наших бьют!» уже льется кровь. Кровь — плохой путь к взаимопониманию. И представители партократии вылезают и красуются: «При нас все-таки кровь не лилась». Они всегда готовы все возглавить и улучшить. Попробуй тогда скажи, что не улучшили.
А тут еще рождественская (1992-го) звезда Гайдара взошла как бы с одной задачей — скомпрометировать всякую звездность и саму высоту. Умная «чикагская» теория в его переводе на язык родных осин и примененная им в неподходящей ситуации выглядела крайне неуместной, беспомощной и по отношению ко многим обернулась бессмысленной бесчеловечностью. И партократия опять тут как тут. Словно не она вырыла ту яму, из которой столь неловко пытались выкарабкаться и Горбачев, и Ельцин, и Гайдар. То, что теперь она в открытом союзе с нацизмом, никого особенно не поражает — она ведь со сталинских времен «красно-коричневая». Но то, что Гайдар дал и тем, и другим козыри, которые только ленивый не использует, — очевидно. Беда еще в том, что его поддерживали многие вполне честные интеллектуалы — как же! Человек интеллигентный, честный и хочет добра. Поддерживали его и некоторые экономисты — поскольку действовал по грамотной теории. И совершенно верно — по грамотной, в Чили и некоторых других странах очень помогла. Она годится для стран с отсталой экономикой и для стран — с передовой. Годилась бы и для дореволюционной России.
Для СССР равно, как и для стран СНГ, не годится, потому что после коллективизации и индустриализации у нас просто не было экономики — ни отсталой, ни передовой. Разве только периферийная или подпольная — колхозный и черный рынок. Вплеталось ли это в общенациональную экономику, что это значило и как это происходило — спецтайна, которая, десятилетиями находясь под семью замками, давно испарилась, и теперь не известна никому. Индустрия была, но внеэкономическая, была создана и работала не для того, чтоб «заработать». В экономическом смысле она чаще не производила, а потребляла. Жила она сначала за счет ограбления крестьянства, а потом — природных ресурсов, особенно нефти в годы арабского нефтяного шантажа. Существует даже мнение, что такое раздувание «оборонки» вызвано было в определенный момент не столько идеологией или агрессивностью, сколько следованием по линии наименьшего сопротивления. А уж под это подгонялись и идеология, и агрессивность. Отнесясь к ВПК, такая промышленность как бы находила естественное объяснение своей нерентабельности. Впрочем, и это больше для советского сознания.
В нормальном обществе и эта промышленность работает на коммерческой основе. Только в коммерческих отношениях она состоит с государством. Для него (но никак не для себя) ее продукция действительно статья расхода, а не дохода. Но поскольку у нас государство было одновременно и производителем, и заказчиком, денег считать было некому (отчетная показуха для показателей — другое), они брались без счета из названных выше источников. Пока те не стали иссякать. И пока Рейган не принял всерьез развязанную нами гонку вооружений. И тогда оказалось, что технически мы ко всему готовы, а экономически — ни к чему серьезному. Начались судорожные, иногда радостные, попытки исправить положение. Осознали необходимость гласности, появились и все более радикализировались планы коренной перестройки — и даже в направлении восстановления частной собственности.
Если выразить задачу необходимостью попасть из некой точки «А» в некую точку «Б», то можно сказать, что точка «Б» как-то все-таки — хоть в идеализированном виде — вырисовывалась в сознании, а вот о том, как выйти из точки «А», да и вообще — что она такое, представления не было вообще. Знали, что плохо, знали, как плохо, даже из-за кого плохо (это знали по-разному, но всегда очень хорошо), но мне кажется, что в полной мере сущность и масштабы несчастья осознаны не были почти никем. Конечно, в трезвых пессимистах недостатка не было. Но они больше сетовали на людей, которые испортились и не в состоянии ни за что взяться самостоятельно. Но это неверно. Конечно, не все колхозники, прошедшие через «Агро-ГУЛАГ», способны сегодня к самостоятельному хозяйствованию, и многие рабочие от невозможности самим строить свою жизнь спились, потеряли способность к инициативе и т. п. Это тоже тяжелое наследие, отягчающее любой маневр реформаторов. Но все же достаточно еще есть таких, что берутся. Но ходу им нет настоящего.
Сетуют на «директорский корпус». Допускаю, что они инстинктивно противятся предпринимательству. Но я смотрю на их лица, когда те появляются на экранах. Волевые, умные лица отнюдь не бездарных людей, людей практики — из таких во всем мире выходят менеджеры и предприниматели. И «вертеться» им приходилось отнюдь не меньше, чем заграничным коллегам. Только вертеться им приходилось вокруг очень непрактичной системы и практичность свою использовать на приспособление к ней. И переучиваться трудно. Но все же многие бы переучились. Но переучиваясь, надо еще сдвинуть с места целую систему, где все связаны противоестественной, правда, связью, но крепкой.
Ларчик открывается страшно, но просто. На базе внеэкономической индустрии, подмявшей под себя все и вся, создано современное индустриальное, отчасти, может быть, и постиндустриальное общество. Почти настоящее. В нем очень много высококвалифицированных людей — ученых, инженеров, рабочих, оно способно решать сложные технические задачи, но неспособно экономически оправдать индустриальность, лежащую в его основе, неспособно удовлетворить потребности людей той квалификации, в которой нуждается.
Существовать оно могло только за счет изоляции от всего остального, отнюдь не столь разумного и надежного, как кажется извне, но все же нормального мира, обеспеченной ложью и силой государства. Движение шло в пропасть, но как бы организовано в рамках некой действительности. Хотя товары исчезали один за другим, коррупция была кричащей, самые широкие массы ощущали ненадежность бытия и мечтали о порядке. Но мало кто представлял, насколько все повязаны с системой. Обычно говорят о номенклатуре, но ведь офицеры, ученые, инженеры и рабочие, ведь бухгалтера совхозов и их отделений к ней не относятся. А по существу все они — не только офицеры, что нормально, но и рабочие крупных заводов — на бюджете. И если трогать Систему, приходится трогать и их. Тут и директорский корпус можно понять. Ворвется в жизнь частная промышленность, оттянет большими заработками лучших рабочих, а куда он с нелучшими денется? Отсюда робость и полумеры, приятие в планах половины и ухудшение положения. В результате компрометация самой идеи реформы, которой, к слову сказать, альтернатив все равно не видно.
Короче, ни частной собственности на землю, ни в промышленности в существенных масштабах установить не удалось, когда половинными мерами система централизованного производства была подорвана, а предпринимательство не было допущено, система снабжения уничтожена, а система торговли не была установлена, положение начало бессмысленно ухудшаться. И тут Ельцин вывел на сцену Егора Гайдара. И уровень инфантильности того, что он сделал и даже соображений, из которых он исходил, по-моему, превзошел всякие представления о возможном. Он вел себя как отличник, выполняющий лабораторную работу. Прочные знания, почерпнутые из учебников и на лекциях. Учебники были хорошими, а лекторы — блистательными. Но условия были далекими от лабораторных. Странное дело! Он ведь и сам понимал, что его реформа требует предварительного этапа — введения частного землевладения и частного предпринимательства, которых не было, но смело начал со второго этапа. Оправдание — чисто словесное — имел одно — что Горбачев упустил время. Констатация абсолютно верная, но невозможное от этого не становится возможным, а проблема не перестает существовать.
Из сталинской экономической западни легкого выхода нет. И, вероятно, «либерализация цен» все равно необходима и в любом случае была бы шоком, на первых порах обрекала бы людей на потрясения и страдания. Но она могла бы стать целительной, если было бы кому воспользоваться дороговизной для начала производства и конкуренции. Но без первой стадии реформ она была только раскрепощением государственных монопольных цен, их анархией. Бессмысленным грабежом народа, подрывом культуры и всех коммуникаций. Сегодня Гайдар признал, что стабилизовать рубль (в стране с разрушающимся производством!) ему не удалось. Я в конце 1991 — начале 1992 годов жил в Москве и не понимаю, какие основания были думать, что будет иначе (однажды даже в печати мягко выразил недоумение, что это за реформа).
То, что он оскандалился сегодня, для меня не удивительно, но от этого не менее страшно. Силы, которые этим воспользовались — Съезд народных депутатов — слишком страшны и бесперспективны для страны (но не для себя). Правда, пока найдена компромиссная фигура Черномырдина, человека директорского склада мышления, вполне разумного. То, что он хочет замедлить реформы, не кажется мне страшным, другого выхода и нет, но вряд ли он сможет существенно улучшить ужасное положение (это не укор — я не представляю, кто может), и самые крайние всегда могут на этом играть. Дело действительно пахнет гибелью. А мне предоставлен свободный выбор между опытами Гайдара — как за оплот либерализма, и гибельным блоком капээсэсовцев с Фронтом национального спасения (чьего спасения — не Ирака ли?), утопически стремящегося вернуть страну на прежний путь, на организованное без паники вхождение в пропасть. Как говорится — кого хочешь выбирай! А если еще учесть, чем грозит Америке и Западу состояние умов, приведшее к избранию Клинтона, то наша трагедия усугубляется мировой и выглядит совсем безвыходно. И какое значение для этой острой, напряженной ситуации могут иметь мои воспоминания и соображения о днях давно минувших. Да и руки опускаются.
И, может быть, не так уж важно то, что меня беспокоит — что уходит память. В конце концов Господь не зря же дает забвение людям. Если России и впрямь суждено погибнуть, как уверяют некоторые, видя в этом некую неприятность, которую можно пережить, то беспамятство — Благо. Но я не отношусь к этим некоторым. Я считаю, что опасность есть и положение серьезно, но — выкарабкаемся. И нехорошо, что чувство истории настолько угасает, что могут отнестись с доверием к сообщению, что поэт Павел Коган был агентом и даже провокатором ежовского НКВД. Люди знающие реальных людей и понимающие реальные обстоятельства неправдоподобного времени, один за другим уходят «путем всея земли», а остальным, значит, можно рассказывать любые байки. Между тем эпоха, в которой мы жили (но которую не мы начали), еще не кончена, страна из нее еще не вырвалась, и лучше бы знать про то, что с ней было, в том числе и про нас, правду. Чему я и хотел способствовать этой работой.
Но неожиданно и здесь выросло препятствие. Отнюдь не со стороны каких бы то ни было властей, реакционных сил или органов печати, а со стороны «наиболее передовых» представителей современной молодежи. У этих «представителей» есть своя концепция жизни предыдущих поколений. Сводится она к лубочному представлению о том, что состояли эти поколения сплошь из трусов и недоумков, которые не понимали самых простых и очевидных вещей, потому что все сплошь и во всем было несамостоятельным, распропагандированным — как бы находилось «под балдой». Особое презрение у них вызывают те, кто все же в тех условиях пытался себя осознавать, сводить концы с концами: «почему не сразу поняли, что дело не только в Сталине!» Чувствуется, что для данных мыслителей все это было ясно сразу, что они никогда бы не пали так низко, как мы. Когда я писал эти мемуары, рассказывающие о трудном пути людей моего поколения к истине и нормальным ценностям, я, конечно, понимал, что многие теперь это плохо себе представляют. Для того и пишутся мемуары, чтоб прояснять такие вещи. Но о том, что есть мыслители, для которых это непонимание — жизненная концепция и для которых поэтому мои воспоминания, независимо от их качества, несколько усложняющие этот вопрос — нечто враждебное, я не представлял. Не представлял, но наткнулся. В «Московских новостях» петербургский житель Михаил Золотоносов напечатал отклик на мои мемуары. Отклик этот очень колоритен. В частности, г-н Золотоносов оспоривает в нем мое истолкование фактов моей личной биографии, словно я не я, а литературный герой. Или высказывает интересные соображения, по которым не надо придавать слишком серьезного значения трагедии крестьянства во время коллективизации. Но первое относится к его личной творческой манере, а второе является его правом. Хотя у серьезной газеты тоже есть права и ответственность — и перед нормами приличия, и за политическое лицо. Баловаться на своих страницах с трагедией крестьянства она не вправе позволить никому. Но все это мои взгляды, и больше касается газеты, чем моих мемуаров.
Для них же важно, что г-н Золотоносов сообщает читателю ряд якобы почерпнутых из них сведений обо мне. Например, что я всегда был потенциальным Павликом Морозовым, что по этой причине родители, которые как обыватели (г-н Золотоносов очень ценит обывателей) могли бы мне все объяснить, боялись со мной разговаривать, что до самой смерти Сталина я не осмеливался отойти от взглядов, внушаемых пропагандой, и т. п. Другими словами, получается, что я сам рассказываю, что просто был конформистом — ну, с незначительными отклонениями.
Я не оправдываюсь. В том, насколько это верно (каким я был, разговаривал ли со мной отец и т. п.), читатель моих мемуаров может разобраться сам. Но то, что мемуары, начисто опровергающие такой взгляд, используются для подтверждения такого взгляда, меня поразило. Я, кстати говоря, совсем не уверен, что г-н Золотоносов вообще прочел мои мемуары. Уровень добросовестности его работы вовсе этого не требовал. Концепция у него была и до того, как он взял в руки журнал, и он просто пролистал ее в поисках подтверждающих фактов и цитат.
И вот как раз это ставит передо мной серьезную проблему. Смысл моей работы в том, чтоб рассказать как можно больше о своем пути через несвободу, об обманах и самообманах, но о пути человека, отнюдь не глухого к истине. И если все это только материал для жлобского — хи! хи! хи! — обвинения, то стоит ли трудиться? Или писать с оглядкой на жлобство — тогда опять-таки зачем писать? Или писать внутренне парируя такие художества? Но это унизительно, да и утяжелительно для чтения, как все лишнее. Ведь это же непонимание, недобросовестность, агитаторство.
Могут сделать вид, что у меня это авторская обида на критику. Но в труде г-на Золотоносова я не уловил никакого литературного порицания. И защищаю я себя не как автора, а как человека.
Угнетает, что никто за меня не вступился. Конечно, для того, чтоб вступиться, прочесть надо. А состояние было предсъездовское. Тревожное. Да и быт стал неимоверно тяжел… Как говорится, кончаю тем, с чего начал, — всем было не до этой работы, не все и прочли ее.
Но почему-то я все равно чувствую необходимость ее продолжать.
Сталкиваюсь я и с новыми трудностями. Детство мое совпало со становлением сталинщины. Все было в одном клубке. И в каком-то смысле — в первой части воплощен весь замысел книги. Но жизнь продолжалась, и ничто не было разрешено. О юности, наверное, должна получиться другая книга. Юность — кроме всего прочего — это пора и личного самоутверждения, и не всегда волновавшее меня совпадало с тем, что интересно вообще. И не всегда можно отделить одно от другого. Тут важно соблюсти меру сдержанности — не впасть ни в болтливость, ни в сухость. А это трудно — тем более, я ведь не мастер психологической прозы. Но ничего не поделаешь — буду продолжать.
Краткое вступление во вторую часть
В сущности это не вступление, а отступление. Лирическое или историческое, сразу не определишь. Между тем днем, когда я кончил первую часть своих мемуаров, и сегодняшним, когда я приступаю ко второй, прошло всего несколько месяцев, но опять резко изменился облик жизни, и до той поры последние годы часто и по-всякому менявшийся. Произошли судьбоносные события, и я приступаю ко второй части своих мемуаров не в той обстановке, строго говоря, даже не в той стране, в какой кончил первую. Разумеется, я имею в виду не Соединенные Штаты, где я это пишу и в которых пока по сравнению с нами все на месте, а ту, где все не на месте, но где я родился, прожил большую часть жизни, — ту, которой эти мемуары в первую очередь предназначаются. Ее в том виде, как она была, когда я приступал к этой работе, теперь уже нет. И формально не было уже в январе этого, 1992 года, когда, будучи в Москве, я вносил в свою первую часть последние уточнения.
Тогда уже Украина проголосовала за свою независимость (и одновременно за Кравчука, надеясь не зайти в этой независимости слишком далеко) и уже произошел беловежский сговор. Другими словами, Ельцин достиг, наконец, своей давней цели — лишил Горбачева власти.
Правда, ценой исчезновения объекта этой власти — империи, разрушения целостности страны. Той, которую я имел в виду всегда, когда что-нибудь писал.
Теперь получается, что я не только живу, но и родился за границей. В столице чуждого, а по словесам и враждебного России государства. А я ведь в этой книге все пытаюсь понять, как мы — все! — угодили в ту яму, где находимся, как воспринимали и объясняли себе самим и другим это свое положение и как нам — всем! — из него вместе выбираться. Это и вместе трудно, а поодиночке вообще почти невозможно. Тем более, что существенная часть энергии уходит на выяснение взаимных счетов.
Правда, инфантильная гайдаровская «экономическая» политика (на самом деле ряд мероприятий, игнорирующих экономику, да и политику во имя укрепления искусственно выделенной из них финансовой системы), при которой, кроме всего прочего, людям по много месяцев не платят зарплату в целях борьбы с инфляцией, очень стимулируют центробежные силы. Даже в самой России, даже среди русских. Сибирские активисты подбираются к независимости, а раздухарившиеся казаки начинают требовать восстановления сословных привилегий. Если отнестись к этому серьезно — восстановления сословного государства. По-видимому, чтоб начать все по новой.
Все это вместе вроде обессмысливает мою работу. Временами становится неясным, кому и зачем я пишу. Может быть, это только инерция и заинтересует она только будущих историков нравов? Может быть, но не хотелось бы работать на одних историков. Начнут сличать мои показания с чьими-то другими, глупыми или лживыми, и выводить среднее. А вполне возможно, и это оптимистическая гипотеза — не будет ни историков, ни истории, погрузимся в беспамятство — оруэлловское или иное — уже не только всем бывшим СССР, а всем миром. Не приведи Господь, но не исключено…
Но способствовать беспамятству не хочется. И дело не в том, что опыт наших ослеплений и прозрений, опыт освобождения подневольной мысли интересен не только для нас, я твердо уверен, что он пригодится России — даже после новых катаклизмов и унижений, если их не удастся избежать. И тем более, если — на что мы все надеемся и о чем молимся — избежать их она сумеет.
Каникулы сорок первого года
А ведь это и вправду было время каникул, и при всех прозрениях я не сразу избавился от подспудного ощущения, что к осени каким-то образом вернусь в свою школу. Правда, каникулы эти постепенно превращались в практику по географии СССР по только что пройденной программе восьмого класса — географические карты областей, которые нас заставляли перерисовывать из учебника, как бы оживали, избавляясь от условностей масштаба.
Я прервал рассказ на прибытии нашего эшелона с эвакуированными на станцию Азов, расположенную в устье Дона, в 40 километрах южнее Ростова по железной дороге. Все это было интересно, но подавляло. Ростов, Батайск и Азов по моему тогдашнему восприятию были намного восточнее Киева, они уже не были «юго-западом», с которым я себя тогда отождествлял (тут и железная дорога называлась Юго-Восточной) и который почему-то считал более культурным, сердечным, красочным. Я впервые оказался в собственно России, на языке которой всегда говорил и писал и к чьей культуре себя относил. И она понемногу начинала открываться мне. Но этого я еще не сознавал.
Впрочем, я читал книги, в том числе и «Петра I» А. Н. Толстого. Поэтому Ростов и Азов меня интриговали. Первый — памятью Гражданской войны, второй — тем, что когда-то его брали петровские полки во главе с Лефортом. И еще тем, что там — море. Но все это так и осталось литературой — дело было под вечер, быстро смеркалось, и ни следов петровских баталий, ни моря мне там видеть не пришлось — уж больно не экскурсионным было наше путешествие.
На перроне нас встретил председатель Александровского райисполкома Ростовской области, который приехал во главе большого обоза колхозных телег. Фамилии его я не помню, помню, что она была украинской, украинским же на мой слух был и язык, на котором говорили местные жители, которые, впрочем, как вообще на Кубани (административно эта местность относится к Ростовской области, но по складу тяготеет к Кубани, хотя и не казачья), все считали себя русскими. Были среди возниц и немцы — в районе был один или два немецких колхоза. По-видимому, состояли в них потомки тех самых немцев-колонистов, о которых в «Августе четырнадцатого» упоминал А. И. Солженицын. Так что ехали мы до места, до Александровки этой (официально — Александровки-Азовской), в крестьянских телегах 60 км степью, в сторону от моря — неудивительно, что я его там не видел.
Как я потом узнал, Александровский район Ростовской области относился к Кубани не только по складу — хозяйственно он тоже был связан вовсе не с «ростовским» Азовом, а со станцией Староминская Краснодарского края (то есть, Кубани), расположенной всего в 35 км южнее Александровки. Ближайший морской порт был тоже не Азов, а Ейск (Краснодарского края). В Староминскую и возили хлеб из Александровки в «закрома государства». Области и даже республики могли быть разными, но «государственные закрома», где б они ни находились, принадлежали одному хозяину…
Привезли нас в Александровку уже ночью. Один из возниц отвез нас к себе, где мы были радушно, с традиционным гостеприимством, приняты и накормлены хозяйкой. Слушали нас с любопытством и сочувствием. Мы занимали воображение аборигенов тем, что уже как бы видели войну, хотя бы бомбежки. Для них же тогда (в начале июля 1941-го) война была еще экзотикой. Они были глубоким тылом и не представляли, что перестанут им быть. Мы в первые дни тоже не представляли.
Поначалу отношения с хозяевами были очень сердечными и хорошими. Нам была выделена небольшая горница с какими-то постелями, нас даже подкармливали. Но через несколько дней они внезапно испортились. Ругани не было. Просто однажды вечером в комнату, отведенную нам, постучался хозяин и, не говоря худого слова, вынес буквально из-под нас почти всю стоявшую в ней мебель. Конечно, «нарушения прав» в этом не было. Мебель была его собственной, вполне могло быть, что в нашу комнату она была поставлена в азарте первоначального гостеприимства, а теперь понадобилась. Но по всему чувствовалось, что это действие производится «не корысти ради, а токмо волей пославшей его жены» и знаменует собой охлаждение отношений. Конечно, мы могли, сами не ведая того, допустить какую-либо бестактность. Ведь опыт общения матери с крестьянами был ограничен опытом дачницы, а это специфическое, взаимовыгодное общение. Если что и не нравится, не так уж трудно перетерпеть неделю-другую — дело временное и оплаченное. Но о дачниках в этих местах представления не имели, а, главное, мы не были дачниками. Короче, я допускаю с нашей стороны какую-либо оплошность — тем более, моя мать легким человеком не была (я, правда, не помню, чтобы это успело там проявиться).
Поводов могло быть сколько угодно — ведь мы пользовались всем хозяйским. И чай вскипятить, и приготовить пищу — колхоз выдавал продукты — можно было только на хозяйских кизяках. А ведь они, как и все в деревне, достаются недешево. Не то чтобы с нас требовали за них что-то, но, возможно, в нашем поведении прочитывалось недостаточное понимание этого обстоятельства (отец мой понимал такие вещи хорошо) — не знаю. Мы отнюдь не были наглецами, но причиной скольких конфликтов, скольких неприятий людьми друг друга бывают недоразумения. Но тут, я думаю, причиной были не наши личные недоразумения или бестактности, а обстоятельства более общие.
Появление эвакуированных всегда наталкивается на некоторое отчуждение. Даже когда сталкиваются и не столь далекие группы населения, как тогдашние прикубанские крестьяне и тогдашние, частью еще просто местечковые украинские евреи. Баржи отправлялись из Киева, но киевлянами были отнюдь не все, кто на них взобрался — для многих Киев был только промежуточным пунктом на пути их бегства. Для некоторых оно началось еще в Польше. Они лучше всех знали, от чего бежали, но отнюдь не лучше, куда прибежали. Впрочем, если говорить о деревне, то и остальные в массе представляли ее не лучше. Короче, без недоразумений было не обойтись.
Работали мы в одном из колхозов райцентра, больше негде было. В этих местах уже шли полным ходом уборка и обмолот хлебов, и нас к нему привлекли в качестве… колхозников. Работали все честно, но мало кто был сравним в силе и сноровке с настоящими колхозниками. Но были и такие. На полевом стане кормили замечательно вкусным и сытным мясным борщом с белым пшеничным хлебом.
Меня удивляло, что в райцентре было несколько колхозов. Ведь все же это была одна, хоть и большая деревня. Где мне знать, что «коллективизация» самих колхозов — процесс поэтапный, продвигающийся вперед по мере падения заинтересованности у коллективизируемых. Но это мысли сегодняшние, а тогда я еще полагал коллективизацию благом и глядел вокруг, мало что понимая в жизни окружающих. И даже не знал, что не понимаю.
Дело было не только в моей общей философии, а и в отсутствии взаимопонимания и даже общего языка. У моего отца такой романтической философии не было, но однажды он мне всерьез, правда с некоторым удивлением, передал ответ одного пожилого колхозника на сакраментальный вопрос: стало ли ему легче или тяжелей при колхозах. Тот сказал, что, безусловно, легче. Раньше он, правда, зарабатывал больше, но и работал тяжелей и в голове приходилось многое держать. А теперь — отработал сколько положено в поле, и гуляй. Отец был несколько обескуражен таким ответом, но иронии не почувствовал. Не знаю, почувствовал ли бы тогда ее я. Через год бы почувствовал наверняка. Привык к такому употреблению языка.
Насколько я помню, на работе и по поводу работы никаких конфликтов не возникало, нас не ругали и не подгоняли, отношения складывались вполне человеческие и гуманные. Портились они не в результате личных конфликтов или недоразумений, а, так сказать, в общем порядке. Я вовсе не хочу сказать, что виновны в этом, если тут вообще уместно понятие вины, только местные.
Прежде всего, мы никак не вкоренялись в эту жизнь. Мало кто смотрел вперед, но назад смотрели все. Назад, где были оставлены дома, родные, профессии. Надо было получать и отправлять письма, искать по всей стране родных, посылать запросы насчет использования по специальности и ждать ответа на них. По этой причине приходилось шляться на почту, расположенную в центре и открытую только в рабочее время, из-за чего пропускали работу. Здесь, в центре села, у всех на виду, происходили радостные и громкие встречи «выковырянных» друг с другом. Им было о чем поговорить. Люди это были разные, отнюдь не всегда близкие, но находящиеся в одинаковом положении. Они никому ничего плохого не делали, но всех раздражали чуждостью. Не столько еврейской, сколько вообще городской. Но сознание, что понаехавшие — евреи, увеличивало ощущение чуждости и раздражение. Конечно, были среди встречавшихся в центре и бездельники (отец называл их праздношатающимися), кто только то и делал, что шатался — видимо, выехал с большими деньгами. Но большинство из тех, кого можно было там встретить, пропускало работу (часто даже не весь день) только вынужденно, чтобы сходить на почту и по делам. Но их видели наравне с лодырями и (кроме тех, кто их знал) не отличали.
Усилилось все это с мобилизацией. Когда мы там появились, в этих местах мобилизации еще не было, но недели через две забрали всех мужчин призывного возраста, эвакуированных, естественно, тоже. Но массовая психология иррациональна. «Наших туда забрали, а эти оттуда сюда на готовое прибыли» — для нее довод вполне убедительный. Наших-то и впрямь забрали, а ихних — не так заметно (не так болит). Следовательно, и не так забрали. Так было всегда и везде, так же, как всегда и везде были люди, массовой психологии не подверженные.
Но на этом «всем готовом» жить никто особенно не стремился. Получать и дальше зарплату продуктами, разделить судьбу миллионов колхозников (к тому же начиная с нуля) никого не соблазняло, даже меня, несмотря на всю мою идейность.
Отца расстраивала необходимость жить, не рассчитывая на «живую копейку». Это вовсе не подтверждает антисемитской легенды о «специфически еврейской» любви к деньгам — речь ведь шла не о накоплении, а нежелании попасть в беспомощное и безвыходное положение. Как все теперь понимают, самим крестьянам было худо, а ведь эвакуированные, находясь в их положении, вдобавок и крестьянами не были. Естественно, они только о том и думали, как поскорей вернуться к своей профессии, выбраться отсюда в более понятный и привычный мир. Это отношение к их родному селу как к чему-то, что надо быстрее покинуть, тоже, вероятно, усиливало отчуждение окружающих.
Стремились уехать и мы. Моя мать снеслась с Ростовским облздравотделом и получила направление в станицу Боковскую, куда мы вскоре и выехали. Правда, не доехали.
Но об этом — чуть позже. Перед тем, как навсегда покинуть Александровку, мне хочется вспомнить о ней все-таки несколько больше, чем я вспомнил до сих пор. Конечно, наше пребывание в ней было кратковременным и промежуточным, и поначалу я вообще хотел пропустить этот эпизод, совсем не писать об этом зигзаге моих «каникул». И, действительно, впечатления мои о нем почти детские, смутные, вне настоящих жизненных критериев. Их очень скоро затмили иные впечатления, более острые и отчетливые, а главное, более взрослые. Я почти никогда не вспоминал об этом большом и сравнительно богатом тогда селе, может быть, потому, что таким, как я там был, я себя вспоминать не люблю. Считал, что помню только не виданные мной до той поры (и потом тоже) фрукты — жердели (или жардели). Они похожи на маленькие абрикосы, на какую-то помесь абрикоса со сливой, и очень мне нравились. Тогда как раз был их сезон, ими пропахло все, ими начиняли очень вкусные пироги и вареники. И я считал, что больше ничего не помню. Ведь практически и впрямь в Александровке внутри меня не произошло, точнее, не завершилось — ничего. Особенно по сравнению с тем, что было до и после нее.
Но оказалось, что я помню немного больше. Когда человеку неполных шестнадцать, у него не бывает пустых периодов. Тем более когда жизнь крутит перед ним такие кинофильмы. Там я впервые столкнулся с реальной жизнью, с тем, что она не сахар, что у нее есть лимиты. Оказалось, что для того чтобы работать в редакции (я посетил и местную газету, где познакомился с ответсекретарем, ростовским парнем, писавшим вполне грамотные и современные стихи), мало быть таким, каким я себя считал, а надо еще, чтобы были свободные штатные единицы. Это вносило известные коррективы в мои представления о том, что молодым везде у нас дорога, стоит только захотеть. Этими словами я никого и ничего не хочу «разоблачить» — это нормальная жизненная проблема, порой драма, она всегда и везде есть и будет. Но нам-то гарантировали — «от каждого по способностям»! Вряд ли я тогда думал об этом, но все же явно ощутил некоторую брешь в гарантированном гармоничном мире, созданном идеологией, и сквозь эту брешь отрезвляющий холодок объективной реальности — «объектывного трагызма жизни», как говаривал мой покойный друг Кайсын Кулиев. «Жизни» — значит отнюдь не только советской жизни. Но это — язык более поздних лет. Мышления в таких категориях я тогда еще вообще не представлял.
Опыт мой обрастал подробностями — иногда смешными. Помню, как я был поражен, когда впервые узнал, что водку можно мерить на граммы. Произошло это в здешней столовой, где я обедал, и, кстати, кормили вполне добротно. Стройный и серьезный чуть седоватый человек, кажется, мельничный мастер, заказывая буфетчице обед, присовокупил как нечто само собой разумеющееся:
— Ну и сто грамм..
И хотя он не уточнил, чего именно «сто грамм» ему надо было (я поначалу думал, что хлеба: кто о чем, а вшивый — о бане), но был понят. Буфетчица кивнула, взяла бутылку водки и наполнила ее содержимым граненый стаканчик, служивший меркой, и потом, перелив это в обыкновенный стакан, подала его заказчику. Так я впервые столкнулся с тем, что потом стало органической частью нашего быта и чуть ли не фольклора, а именно — с магическим выражением «сто грамм». В довоенном Киеве водку на граммы не мерили. Во всяком случае я этого не помню.
Был у меня и опыт «хождения в народ», другими словами, к крестьянским мальчикам, моим сверстникам. Мое знакомство с ними было поневоле кратким, но мне они нравились, и — видит Бог — не собирался я их ни учить, ни пропагандировать. Просто потому, что я не считал себя по-человечески выше их. Да и чему я их мог бы учить в тех обстоятельствах! Однако эпизод этот пропустить нельзя. Он интересен. Даже, я бы сказал, с исторической точки зрения — теперь такие вряд ли случаются.
А произошло вот что. Сын хозяйки, приблизительно мой ровесник, с которым я сразу по приезде подружился — отношения потом испортились у наших родителей, а не у нас с ним, — однажды взял меня с собой куда-то в луга, по-видимому, в ночное. Он и его приятели там то ли коров пасли, то ли лошадей — точно не помню. Помню только, что сидели мы вокруг костра и о чем-то говорили. Вероятно, они расспрашивали меня о войне, о Киеве, о моей там жизни — все это было им любопытно, как нечто далекое, почти нереальное. Мало-помалу дошло дело до стихов. Попросили прочесть какие-нибудь стихи — не свои, вообще. Я выбрал пушкинское «Я вас любил…». Видимо, решил, что им, как людям не искушенным в поэзии, оно будет наиболее понятно.
Но я ошибся. Понятными для них оказались только слова и тема, но не суть. Когда я кончил читать, случилось то, чего я никак не ожидал — реакцией на мое прочувствованное чтение был смех. Всеобщий, совершенно искренний — с «понимающим» подталкиванием друг друга локтями — смех. Рассмешило их то, что об «этих делах», да и вообще «о бабе» говорится таким тоном. Им был непонятен не текст, не подтекст, а контекст — само чувство, лежащее в основе этого произведения, весь мир представлений, для которого это чувство реально и естественно.
Я был обескуражен. Я ведь не знал, что столкнулся с важнейшей историко-культурной реальностью России, которой были больны еще славянофилы XIX века, — с реальностью «двух народов». Речь шла не просто разных уровнях прикосновенности к одной и той же культуре — в Англии тоже не все тонко чувствуют Шекспира. Имелось в виду, что в России разные слои народа жили в разных культурных эпохах. Различие это теперь исчезло, но полвека назад оно еще, хоть и в ослабленном виде, ощущалось.
Конечно, и в сегодняшней России отнюдь не все население состоит из высоких ценителей поэзии (таких у нас поболе, чем у многих, но их везде мало), тем не менее ни у каких сегодняшних старшеклассников это пушкинское стихотворение смеха бы не вызвало. В силу многих причин для них совершенно естественно, что бывают (или бывали) такие чувства, о которых говорить можно (или можно было) только так. Другое дело, что теперь они часто не верят в такие чувства, но это проблема иная — актуальная, жгучая, но общая для всех слоев.
Завелся у меня там и взрослый приятель — на этот раз совсем взрослый — красный партизан. Мы оба нуждались друг в друге, как талант и поклонник. Поклонником в этих взаимоотношениях, естественно, выступал я. Еще бы! Я никогда до той поры не видел легендарных красных партизан — тем более так близко. Но и я ему был нужен — у него уже давно, судя по всему, не было поклонников, а он в них нуждался.
Что говорить, нет героев в своем отечестве — окружающие относились к нему безо всякого поклонения, почтения, а то и уважения. Не без иронии относились. Все это я, конечно, объяснял их мещанством, не смущаясь тем, что слово «мещанство» относил к деревенским жителям («мещанин» означает «горожанин»). Революционно-романтическая традиция допускала любую словесную и терминологическую неаккуратность.
Познакомились мы просто. Рыбак рыбака видит издалека — однажды, когда я шел куда-то по улице, с веранды дома, с которым я как раз поравнялся, меня вдруг окликнули и пригласили зайти. Мне навстречу, улыбаясь, поднялся высокий черноволосый человек с крупным и узким лицом в черной сатиновой рубахе поверх брюк и с чувством пожал мне руку. Ощущалась физическая сила. Тут же, в одной из первых фраз, он мне сообщил, что является заслуженным красным партизаном. Жена — женщина в затрапезе и с измученным лицом — угостила меня фруктами. Я огляделся. Несмотря на все льготы, которыми пользовались красные партизаны, обстановка вокруг была бедной. Теоретически это должно было располагать меня к нему, как знак бескорыстия, но в этой расположенности я был не совсем искренен. Обстановка, в которой он жил, отдавала какой-то неприятной и, кажется, неопрятной бедностью, точнее говоря, пропитостью. Почему он остановил именно меня? Не сомневаюсь: увидел своего. Своего не в смысле духовной или биографической близости, а в том смысле, что из тех, кто на него клюнет. Угадал романтика. И, действительно, я стал приходить к нему часто.
О чем мы говорили? Честно говоря, я ничего не помню. Он больше хвастал чем-то неопределенным, многозначительно на что-то намекал или поддакивал мне, чем рассказывал. Говорил он так, будто вечно себе и мне и всем доказывал свою значительность, а может, просто внутреннюю состоятельность. Жила в нем какая-то нерастраченная ярость, какая-то недобрая и беспокойная энергия, искавшая выхода. Может, ностальгия по своей всевластности и беззащитности окружающих перед ним. И проявлялось это все в какой-то демагогической ненависти к соседям — впрочем, в их отсутствие. Но думаю, что в острые времена он мог быть очень опасен. Или от него откупались? От него за версту веяло подавленным самодурством, но я прогонял неприятные ощущения и выдавливал из себя восхищение. Я мало о нем знаю, но когда однажды я прочел рукопись давней, написанной в «шарашке», незаконченной и тогда не опубликованной повести А. И. Солженицына «Люби революцию!», то один из героев этой повести, тоже партизан, тоже из этих мест, живо напомнил мне моего знакомца. Только герой повести встречается с этим партизаном не в его доме, а в команде новобранцев, и так же пытается им восхититься. Правда, из повести ясно, что партизан обихаживает и очаровывает главного героя отнюдь не бескорыстно (в моем случае никакой корысти у него быть не могло). И именно такие, как говорит один из спутников главного героя по команде, выгоняли трудовых крестьян из их домов. Иногда мне кажется, что мы с Солженицыным буквально встретили одного и того же человека.
Когда я уезжал из Александровки, партизана в ней уже не было — он был мобилизован в армию. Может, поначалу в ту же команду, что и будущий автор «Одного дня…» и «ГУЛАГа».
Однако пришло время вернуться к нашему путешествию. Уехали мы из Александровки тем же путем, что и приехали в нее — через Азов. Но только не на подводе, а на попутной машине. Кое-как со своим небогатым скарбом дотряслись до азовского вокзала и погрузились в пригородный поезд на Ростов, куда прибыли вечером. Так что ни моря, ни достопримечательностей я опять не увидел. Не помню, сколько времени мы провели в Ростове — кажется, около суток. Нам нужно было ехать московским поездом до Миллерова, оттуда добираться до Боковской, места предполагаемой маминой работы, на попутках. Помню, что наш поезд уходил только на следующее утро.
Что такое вокзалы военного времени и сорок первого года в частности — описывать не берусь. Тем более, что как раз ростовского вокзала почти не помню. Помню только усталость, неприкаянность — едем не из дома и не домой, и все вокруг так же — скученность, шум, гвалт. Вдруг объявили поезд на Москву, потом еще один, каждый раз мы вскакивали, но зря — оказывается, большинство поездов из Ростова или через Ростов на Москву следовали (и теперь следуют, если Кравчук не помешал) через Харьков, а нам надо было через Воронеж. Встретил свою одноклассницу по 44-й школе. Она с родителями первоначально эвакуировалась в Донбасс, но вот пал Днепропетровск, и они двинулись дальше. Жалуется на антисемитизм, ругает за него, главным образом, донбасских «кацапов». Полагаю, что среди этих «кацапов» (и «некацапов» тоже) было много укрывшихся от раскулачивания и теперь срывавших зло на эвакуированных. Но ни она, ни ее родители виновниками не были. Они никого не арестовывали, не раскулачивали, не учили жить. Наоборот, раскулачивали и преследовали их самих. Ее отец был красильщик, кустарь, частник — я сам его за это презирал. Конечно, и так, как она, думать нехорошо. Но ведь и она была не мыслителем, обязанным рассматривать проблемы всесторонне, а обыкновенной девушкой — ее обидели, она и обиделась. И теперь по иронии судьбы она ехала дальше в эту непонятную ей «Кацапию» и словно бы не понимала, что едет именно туда. Сумела ли она потом, несмотря на обиду, разглядеть великую страну, куда направлялась, почувствовала ли ее? Или эта обида ее духовно поработила и обделила навеки? Не знаю — я больше никогда ее не встречал.
Пришлось нам немного и походить по Ростову — по маминым делам и просто так. Город мне понравился. Хотя до этого я полагал, что, кроме Киева и столиц, красивых городов в стране нет. А тут был настоящий город, красивые дома, сутолока, трамваи и хоть не Днепр, но все же Дон, расположенный по отношению к городу, как в Киеве Днепр, с краю. Было странно, что вот город, а я к нему не имею никакого отношения, должен ехать в какую-то глушь. Больше я в Ростове никогда не был. Только что проездом на вокзале.
На следующее утро в переполненном купе мы выехали из этого города. «Глушь», куда мы ехали, меня все же скорее привлекала, чем пугала, привлекала казачьей экзотикой, «Тихим Доном». Да и ехали мы по шолоховским местам — Новочеркасск, Миллерово. Впрочем, последнее было разрекламировано и в революционном смысле — сюда из Донбасса согласно легенде (боюсь, что только сталинской, как минимум преувеличившей значение этого эпизода) пробивались с боями на помощь осажденному Царицыну красные шахтерские отряды под командой Пархоменко и «донецкого слесаря» Клима Ворошилова. Тогда это еще сильно действовало на мое воображение.
Каким я был в этот момент? Таким же, наверное, как уехал из Киева. Дорожные впечатления, включая александровские, часто оглушали, но были слишком мимолетны, чтобы изменить мое отношение к жизни. Да и вообще я чувствовал себя щепкой, которую поток несет куда хочет. Кроме того, шла война, в которой необходимо было победить, а это не располагало к умствованиям. И я склонен был все поражавшие меня обстоятельства считать случайными. Где уж тут меняться.
А хотел я только на фронт. Но это не было еще обыкновенным патриотизмом. Я тогда до него еще не дорос. Движим я был другой романтикой. Лучше всех это выразил — правда, еще до войны, как предчувствие — Михаил Кульчицкий:
И вот опять к границам сизым Составы дымные идут. И снова близок коммунизм, Как в девятнадцатом году.Тут все неверно: и представление о коммунизме, и о девятнадцатом годе, и о похожести сорок первого на девятнадцатый. Верна только жажда чистоты и подлинности, связанная с этим самообманом. Но так я чувствовал.
Дорогу до Миллерова я плохо помню. Только названия — Новочеркасск, Шахты, Лихая, Глубокая. Почему-то запомнился вошедший на одной из станций человек в дорогих серых брюках при бороде и портфеле, но босой и без рубашки. «Толстовец» — понимающе перешептывались о нем. Помню еще очень холодный, какой-то густой и вязкий лимонад на станции Глубокая — такого я никогда больше не пил. С нами в купе ехал какой-то остряк-командир — офицеров еще не было — и развлекал всех, как мог. Кажется, он был фронтовиком. На средней полке ехал раненый.
Но наиболее яркое впечатление — группа милиционеров, занимавшая соседнее купе. Все эти милиционеры были откуда-то из «освобожденной» Западной Украины и все как один — евреи. Они вступили в славные ряды советской милиции из желания помочь революционной власти. Были они идеалистами и явно не с теми связались (вероятно, их родственники и соседи жестоко поплатились или уже расплачивались в тот момент за их идеализм). Впрочем, некоторые разочарования у них уже были. Одного из них, самого активного, приехавший с Восточной Украины начальник по-свойски обозвал жидовской мордой (до войны это в официальной среде еще было не в моде, но начальник, видать, был передовой человек) и очень потом удивлялся, схлопотав за это по физиономии. Удивлялся и милиционер-неофит: «Как?! Советский милиционер! Представитель пролетарской диктатуры! И такое?» Каким-то образом ребята эти успели хлебнуть и войны, многозначительно поминали с командиром Первомайск. Тогда для меня какой-то Первомайск (потом я узнал, что «в девичестве» это Голта), — в сводке промелькнуло первомайское направление. Тогда же я услышал выражение: «первомайская трагедия» и «катастрофа». Теперь я знаю, что это один из самых крупных «котлов» начала войны, крушение Южного фронта. Но об этом официально не сообщалось ничего. Только вдруг появилось в сводках первомайское направление, а потом исчезло. И даже в приватном вагонном разговоре речь об этом велась так, что я мог только догадываться, что там нам пришлось худо. И старые, и новые граждане одинаково принимали и с большим самоуважением соблюдали глупые правила навязанной им игры, игры в секретность и в посвященность.
Человек вел себя так, словно ему доверили нечто сакральное. А доверили ему подставлять лоб в Первомайске и на свой страх и риск вырываться из него и пробираться на Восток. Но раз радиорупора на перекрестках и вокзалах об этом молчат, значит, так надо, помолчим и мы — нешто мы не сознательные, не понимаем высших соображений?
И как покупались на эту посвященность в соображения, которых не было! В каком восторге в сентябре 1968 года были студенты Уральского политехнического института, когда перед ними в качестве партприкрепленного выступал начальник Свердловского облуправления КГБ и парировал вопрос на засыпку: «Назовите тех, кто нас пригласил в Чехословакию» «честным и сердечным» ответом: «Скажу вам, товарищи, прямо — никто нас не пригласил. Обстановка была такой, что некому было нас пригласить. И пришлось нам взять груз этой тяжкой ответственности на самих себя». Как же! Ведь и их посвятил и причастил! Польщенные непривычной откровенностью и посвященностью в тайны, студенты не заметили, что их доверительно приобщили к преступлению, в котором они до этой минуты были неповинны.
Я не знаю, куда ехала эта милицейская бригада. Но знаю, какие разочарования и трудности ждали бы этих людей в стране их грез. Хотелось бы верить, что они в конце концов ушли из нее с польской армией генерала Андерса. Левизна не препятствие этому — прибился же, правда, после сибирских лагерей, к этой «белой» армии польский поэт-коммунист Владислав Броневский.
Но все это сегодняшние мысли. Тогда, несмотря на произведенное ими впечатление (и все-таки жалость), много мне думать о них не приходилось. Какими бы ни были эти идейные милиционеры и куда бы они ни ехали, у нас была своя судьба, тоже достаточно неопределенная и тревожащая. Что это за Боковская? Как мы туда доберемся? Что нас там ждет? Неуютно ехать всей семьей как бы ниоткуда — когда приют впереди проблематичен, а возвращаться некуда. Придавленные этим — теперь уже почти хроническим — неуютом, мы сошли на перрон станции Миллерово и скоро оказались на ее вокзале.
Миллерово — узловая станция Юго-Восточной железной дороги. Здесь от магистрали Воронеж — Ростов отходит ветка на Луганск — значит, на Донбасс и Украину. Естественно, эвакуационный поток бурлил на ней со страшной силой, она была одним из порогов на его пути. Мать побежала на почту звонить в Боковскую (по-местному — в Бочки), чтобы выслали машину. Там энтузиазма не проявили: добирайтесь как хотите. А может, вообще оказалось, что им стоматолог уже не нужен — не помню. Помню только, что поначалу я искал попутку, а она не находилась.
Но потом какой-то доброхот из эвакуированных внушил матери, что их и искать не надо, а надо ехать подальше. Мотивировал он это военным положением — немцы и впрямь были уже недалеко отсюда. Я это вполне мог знать, но странным образом — не сознавал.
— Нельзя так далеко сейчас забираться, — так или почти так говорил этот человек, — потом в случае чего оттуда не выберетесь. Тем более и население здесь такое — казаки! Сами знаете, как они относились к евреям.
Слова этого доброхота были трезвы и на мою мать подействовали. Разумеется, я не собираюсь сегодня разбираться в давних счетах. Казачество пострадало от советской власти, среди комиссаров, от которых они страдали, было много евреев. Это не резон, чтобы мстить всем евреям, как не было резону мстить всем казакам за жестокости в еврейских погромах. Я против сведения счетов, ибо счеты в массовом порядке сводят чаще всего с невинными. Это круговорот зла в истории. Его в нашем обществе еще и теперь многие хотят продолжать.
О тогдашнем же отношении местных казаков судить не берусь. Правда, в Миллерове в вокзальной сутолоке я однажды слышал, как одна колоритная казачка во всю мочь поносила понаехавших евреев. Обвинения ее были в основном бытового, отчасти даже вокзального характера, те же, что и в Александровке, но темперамент совсем другой.
— И куда это наши казаки смотрят, — возмущалась она, — взять да и скрутить им головы.
Тем, что я сидел рядом, она нисколько не стеснялась, но и не стремилась специально меня задеть. Вряд ли вообще понимала, что я еврей, или отличала евреев, но вторжение некоторой массы этих непонятных людей в жизнь родной станицы (тоже тогда не очень казачью) ее раздражало неимоверно. Могут сказать, что, когда пришли немцы, она наверняка развернулась. Но это совсем не факт — она разворачивалась, не дожидаясь немцев, а при немцах — еще неизвестно… В таких случаях разворачиваются чаще тихони, оказывающиеся змеями подколодными. Но кто-то бы — развернулся. Доброхот был прав, забираться в донскую глубинку было рискованно.
Тогда, летом 1941 года, немцы до этих мест не дошли. Но летом 1942-го мы бы и впрямь вряд ли выбрались. И конец бы нам настал независимо от отношения казаков к евреям. Но тогда еще не было Бабьего Яра и о том, что такое возможно, еще никто не знал. Знали только, что будет плохо, боялись унижений и издевательств. Так или иначе — независимо от всех этих рассуждений — хорошо, что мы тогда проехали мимо Боковской. Хотя меня туда тянуло. Казачья станица… Расположена чуть выше по Дону, чем прославленная из-за Шолохова Вешенская… Романтика… Да и на самом деле интересно.
Это сегодня я спокойно размышляю о «выступлении» этой казачки. Тогда я был оглушен им — особенно тяжело это было переносить при моем мировоззрении. И ведь не она одна говорила такое, у нее просто красочней получалось. Нет, я не отвечал ненавистью на ненависть, я даже отметил и нечто верное в ее претензиях — но я был растерян. У меня и строка такая есть в одной из поэм: «Я теряюсь, когда ненавидят меня, теряюсь…» Вот и растерялся.
Но жизнь продолжалась. В Миллерове, как в Ростове, у меня тоже произошла случайная встреча с недавним прошлым — и тоже с одноклассником по 44-й школе. Встречу эту я не воспринял трагически только потому, что то, что он мне радостно, с захлебывающимся упоением сообщил, было ирреально. А сообщил он мне, что они всей семьей теперь держат путь обратно в Киев.
— Что ты, — говорил он, — зачем тут болтаться, кому мы здесь нужны! А про немцев врут. Никаких евреев они не обижают. Наши родственники и листовку такую читали.
Говорил он как человек, своим умом просекший истину, недоступную другим, а я глядел на его улыбающуюся физиономию и не верил ни глазам, ни ушам. Конечно, нечто подобное говорил мой дядя, но ведь ему под семьдесят. А этот — мой ровесник. Вероятно, его родители, бывшие нэпманы, думают опять «дело» открыть (это мещанство я, естественно, презирал), но ведь то, что у Гитлера антисемитская программа, — очевидно. Мой дядя-полиглот Арон однажды слышал, как Гитлер ораторствовал об этом по радио. А в Александровке были евреи из Лодзи, пожившие при немцах. То, что они рассказывали, от чего убежали, — страшно… Но сбить эйфорию моего одноклассника нельзя было ничем. Он буквально рвался в Киев. Слушать он меня не стал, проговорил свои монологи и исчез. Судя по тому, что ни я, ни кто-либо из общих знакомых после войны о нем ничего не слышал, он все-таки достиг цели. Тем более что попасть в поезд, идущий на Запад, было тогда много проще, чем на Восток. И такое случалось в водовороте эвакуации.
Запомнился еще один эпизод, сегодня выглядящий смешно, но тогда меня отнюдь не рассмешивший. Все мы, сотни, а то и тысячи людей, сидели в основном на перроне, на узлах и чемоданах, ждали продажи билетов, поездов, судьбы. Я тоже лежал на узлах и читал вывезенный из Киева однотомник Пастернака. Сидевший неподалеку от меня парень моих лет спросил, что я читаю. Я ответил, что стихи. Он попросил дать посмотреть. Через некоторое время я услышал его удивленный возглас:
— Мамка, гляди! Книга пятнадцать рублей стоит!..
Что говорить! Цена книги для тех лет удивительная. А для 1933-го или 1935-го года, когда она вышла (выходила она два раза, и какое издание было у меня — не помню), — и говорить нечего. Причины этого я не знаю. Книга была очень хорошо издана, но не была особенно большой. Но чем бы ни объяснялась эта цена, именно она лишила меня Пастернака на долгие годы. Парень, его мамка и Пастернак, стоивший 15 рэ, исчезли навсегда в привокзальной сутолоке. Было очень обидно.
Ведь эта книга была одной из моих связей со всем, что я потерял, с самим собой. Это усиливало мое чувство потерянности. Но на самом деле я тогда вовсе не терял, я приобретал. И совсем не то, что старался удержать — человек предполагает, а Господь располагает. Только этого я еще не знал.
К маме и к нам, к нашей беспомощности очень сочувственно отнесся начальник станции. Может, это именно он и посоветовал ей ехать не в Боковскую, а намного дальше. Сейчас уже точно не помню. Он и выдал нам бесплатные билеты до станции Лиски (дальше он не имел права — там кончалась его Юго-Восточная железная дорога) и посадил в поезд, доставивший нас на эту большую узловую станцию.
Станция Лиски! Там я провел считанное количество часов. Там нам сопутствовала удача — мы довольно быстро, особенно для тех дней, купили билеты до Челябинска и, что еще более удивительно, тут же водворились в отходящий поезд и уехали. Больше ничего у меня с ней не связано. После этого я никогда на этой станции не бывал. Только через много лет проехал через нее раз или два, не выходя из вагона.
И все-таки изменение ее названия меня кольнуло — словно из прошлой моей жизни что-то вынули, словно никогда не бывало той станции, куда нам по своей доброте выдал билет добрый миллеровский железнодорожник, станции, где нам так повезло в те смутные дни, по путям которой мы метались в поисках поезда. Но дело, конечно, не только в нас. Независимо от того, какова цена самому Георгиу-Дэжу, менять на его имя традиционное название станции в центре России все равно нехорошо и неуместно. Мой друг поэт Анатолий Жигулин рассказал мне про такую сцену на Воронежском вокзале, увиденную им спустя недолгое время после этого переименования.
Мужик мнется у кассы и неуверенно просит:
— Билетик мне бы надо…
— Куда билет?
— Да в эту… как ее… Ну, в Лиски… В Лиски мне ехать…
— В какие еще Лиски? — строго спрашивает находящаяся «в просвещении с веком наравне» кассирша. — В Георгиу-Деж, что ли?
— Вот-вот!.. В Дежу! в Дежу! — обрадованно и с облегчением соглашается мужик, таким образом сваливший с себя непосильную лингвистическую ношу. — В Дежу!
Так поэтичные «Лиски» были вытеснены прагматической «Дежой», усложнив выросшему здесь человеку дорогу к себе домой. В чью бедную канцелярскую голову пришла мысль назвать эти воронежские среднерусские Лиски таким труднопроизносимым румынским именем, вынуждающим людей к такого рода «народной этимологии»?
Но тогда я о таких материях не думал. Поезд, в который мы водворились (а водворились мы в теплушку), едва улегся ропот по поводу нашего вторжения (и без нас было тесно), тронулся. Это был странный поезд, точнее эшелон — вполне в духе тех дней. Каким-то непостижимым образом частью эшелона, составленного из таких теплушек, как наша, был нормальный пассажирский поезд «Харьков — Новосибирск», вышедший из Харькова по расписанию или близко к тому. Впрочем и часть теплушек, если судить по населению нашего вагона, была к нему прицеплена в Харькове. Не знаю, пришел ли этот поезд по расписанию в Лиски, но дальше, хотя тронулся почти сразу, он двигался без всякого расписания, медленно полз, — как говорится, «считал столбы», подолгу стоял на каждом полустанке… Никогда не было известно, где мы когда будем и сколько там простоим. Сколько мы ехали? Я примерно помню, когда мы приехали в Челябинск, но плохо — когда мы выехали, и поэтому не могу точно ответить на этот вопрос. Думаю, что недели две. И все это время мы двигались на восток. Только на восток.
Для моего довоенного мироощущения уже и Харьков был востоком. А теперь уже железная дорога, которая называлась Юго-Восточной (наша киевская была Юго-Западной), оставалась на западе. А поезд все больше отдалялся от Киева и шел теперь по ранее непредставимым местам, по российской периферии. Я здесь ничего не знал, а рядом были люди, для которых названия здешних станций — Поворино… Балашов… Ртищево — были так же знакомы, как для меня Бахмач, Нежин, Фастов, Белая Церковь. Ждали Поворина — там ответвление на Сталинград, Балашова — там на Тамбов и Камышин, Ртищева — там на Саратов. Я ничего о существовании этих больших узловых станций не знал. О небольших я не говорю. Впрочем, какие-то названия оказывались знакомыми по книгам. Но это была уже подлинно Россия, здесь уже по-русски без всякой примеси украинизмов говорили все, а не только образованные люди. Бессознательно я мечтал об этом всегда.
А война шла своим чередом. Где-то в дороге, кажется еще до Пензы, настигла нас весть о падении Харькова. Наши спутники, чуть ли не позавчера покинувшие город, были огорошены. Тревожно было и нам. Киев оставался в глубоком тылу. Может, и его уже взяли? Странно как-то у нас получалось. Эвакуировались мы через Днепропетровск, хотели даже там застрять, а его взяли раньше Киева. Поначалу собирались ехать в Харьков. И вот едем с харьковчанами, потерявшими свой город, а Киев еще не взят. Я не знал, что это вовсе не к добру, что это плод сталинского упрямства, что приведет это к самой крупной за эту войну киевской катастрофе, когда в «мешке» окажутся три армии, сотни тысяч человек. Но было понятно, что вот-вот падет Киев, и от этого было не по себе. Но пока поезд полз, стоял и снова полз, сообщения об этом не было.
А в вагоне шла жизнь. Больших станций ждали не только те, кому нужна была пересадка, а все. Набрать кипятку, добыть еды, купить хлеба, просто поесть горячего. И иногда удавалось. Были люди, которые, несмотря ни на что, это организовывали, во всем этом бедламе делали свое человеческое дело. Незаметное, за него ведь им и спасибо некому было сказать — разве что кроме нас, кто как возникал, так и исчезал. Дня два или три мы ползли до Пензы — примерно четыреста километров. А останавливали нас по любому случаю всерьез и надолго. Пропустить встречный воинский эшелон, дать себя перегнать пассажирским и санитарным, а также угольным составам. Все это с грохотом проносилось в обе стороны. Мы стояли.
У меня нет претензий к тогдашним железным дорогам, не было их и тогда. Железные дороги, возможно, должны были быть лучше (часто важнейшие магистрали были в одну колею, что меня очень удивляло), но они были такими, какими они были (тут возмущаться надо было не ими), и все же в этой адской обстановке, хоть со скрипом, но справлялись со своей непосильной задачей — перевезли полстраны и громадные материальные ценности, кого с запада на восток, кого с востока на запад. Железнодорожников не ругать надо ретроспективно, а восхищаться ими. Правда, работали они через силу. Вот мы и стояли на каждом разъезде. Но мы ведь и не были спешным военным грузом. Это было понятно, но долгие стоянки все равно навевали тоску.
— Эх, — вздыхали на очередном полустанке бывалые люди, направлявшиеся в Сибирь. — Только бы вырваться за Челябинск, а там пойдет…
— А там что? — любопытствовал я. — Перегрузки меньше?
— Нет, — отвечали бывалые. — Перегрузки теперь, наверно, везде много. Но там перегоны большие. Как зеленый свет, так километров семьдесят отмахаешь до следующего разъезда. Не то что на каждом шагу — полустанок.
Практика показала, что бывалые правы — довольно быстро эшелон стал двигаться уже за Уфой.
Обращало на себя внимание количество этих бывалых. Было им всем тогда в районе тридцати, а иногда и меньше, но везде они уже побывали и все знали. Я о причинах этого тогда не думал — разница в возрасте между ними и мной, тогда существенная, как бы все объясняла. Только потом я понял, что тогда, в тридцатые годы, большинством из них эта «охота к перемене мест» овладевала отнюдь не по романтическим причинам (хоть бывали и такие). Людей трепало и гоняло по стране разными бурями. Конечно, не исключить из этого и прямые принудительные перемещения, и увертывания от них — этого хватало всегда. Но людей гоняло по стране и стремление вырваться из пут другого принуждения — принуждения к материальной нужде. Их гнала «погоня за длинным рублем», как презрительно именовала это советская печать, то есть за сносной жизнью, за достойной их умения оплатой. Умели же они многое — это чувствовалось.
Кстати говоря, далеко не все они, как и вообще далеко не все население нашей теплушки, были евреями — в отличие от той, которая везла нас из Днепропетровска в Азов.
А Россия разворачивалась передо мной дальше: после Пензы ждали уже Сызрани. Волновало, что там Волга. Правда, вдруг по пути возникала тоже волновавшая названием Чаадаевка или разворачивал индустриальный пейзаж неожиданный здесь для меня Кузнецк, который по моим представлениям мог быть только на Кузбассе. Оказалось, и в Пензенской области был такой. В Сызрани я Волги не обнаружил, она, видимо, не рядом с вокзалом. Мост через Волгу мы переезжали уже после Сызрани, в Батраках, после чего устремились к Куйбышеву — мне давно претит это название, я рад, что, наконец, Самара называется Самарой, но в тогдашнем моем сознании город, которого я ждал, воспринимался именно как Куйбышев. Потому и употребляю это имя.
Так или иначе, началось Заволжье — край мне тогда совсем чуждый. Стало холодней. В наших местах в такое время холодно не бывает. Где-то по дороге мы поравнялись с каким-то эшелоном. По виду — с эвакуированными. У вагона, рядом с дверями, стоял человек в сиреневой трикотажной рубашке и курил трубку. Заговорили. Оказалось — это немцы, выселенные из республики немцев Поволжья. Говорил этот человек по-русски не очень чисто, но свободно. Мое сердце интернационалиста было оскорблено. Преследуют людей по национальному признаку наши враги, а тут мы — разве нам это не заказано? Но война примиряла со всем, все списывала. Дескать, во время войны невозможно разбираться в каждом, и если среди немцев есть люди, сочувствующие Гитлеру (после коллективизации среди людей нешибко грамотных могли быть и такие), то приходится и так. Но, конечно, полагал я, вести себя с ними государство должно предупредительно, как с людьми невиноватыми, обиженными из-за войны. Как будто сталинское государство умело относиться предупредительно к тем, кого обижало, — люди по «буквенной» статье «п.ш.» (подозрение в шпионаже) получали столько же, сколько за сам шпионаж. Этого требовала система натравливания карательных кадров.
На какой-то станции я встретил знакомого Нины Харитоновны Разумовской, которого я видел не раз в ее доме. Он мне сказал, что она в Уфе, и дал ее адрес. Я обрадовался. Откуда-то я знал, что киевские писатели эвакуированы в Уфу, но о том, что и Нина Харитоновна там, понятия не имел. Это был подарок судьбы, впрочем, как увидит читатель, обошедшийся мне недешево.
Впечатление от такой вести ни с чем не сравнимо. Мы ведь были разбросаны по всей стране и ничего не знали друг о друге, казалось, потерялись навсегда. Я только успел получить письмо от Жени — Жучи и знал, что она в Кустанае, о котором я только и знал, что он в Казахстане, и в то же время, что к нему ведет тупиковая ветка от Челябинска. И вдруг — возможность встречи с Ниной Харитоновной Разумовской, одним из первых моих литературных консультантов и наставников.
Странное дело. Она жила в Уфе, а мы почему-то целеустремленно стремились в Челябинск — я и теперь не знаю, почему именно. Никого у нас там не было, никто нас туда не направлял и никто нас там не ждал. Но мы знали, что едем туда, а не в Куйбышев и не в Ташкент. Но приятно было то, что Уфу наш странный поезд по пути в Челябинск миновать никак не мог. Это меня чуть не погубило.
В Уфу эшелон пришел днем, я был очень доволен, что не ночью — могло ведь быть и так. Я был твердо уверен, что стоять он будет долго. Меня и заверили, что раньше завтрашнего утра он не тронется. И потому я отправился искать Нину Харитоновну безбоязненно. Расспросил дорогу, найти ее оказалось просто — трамвай шел от самого вокзала. Взаимную радость от этой негаданной встречи не стану описывать — ведь это как отыскаться в океане. Провел я у нее не так уж много времени — часа два. Но когда вернулся на вокзал, поезда я уже не застал. Но, к счастью, я встретил двух мужиков из нашего вагона — и оба были из «бывалых». Номер эшелона мы знали и поэтому быстро выяснили, что он уже часа два как ушел. Станционный милиционер посоветовал нам ехать его догонять на пригородном поезде, идущем в нужном направлении до станции Шакша. А если и там его нет, попытаться сесть в московский поезд, который придет ночью, и догонять на нем. Так мы и поступили. Нашего эшелона в Шакше уже не оказалось, и мы обосновались в дежурке — ждать. Видимо, мои «бывалые» хотели быть ближе к информации, а дежурному были любопытны люди издалека. Он не протестовал.
Этой ночи я никогда не забуду. Хочу напомнить, что мне и шестнадцати еще не было. Я был впервые один, без родителей и без всяких средств в этой холодной, совсем не знакомой мне местности. Я, конечно, был развит, но только интеллектуально (насколько — другой вопрос), но в жизни еще был полным профаном. И было мне, прямо скажем, нехорошо.
В дежурке был полумрак, но по сравнению с ночью на улице было светло. Беседа текла о том о сем, кто из каких мест, что там и как, о войне, конечно. Иногда мои спутники сворачивали разговор на поезд. Я спрашивал, помогут ли они нам сесть в поезд. Ответом мне было молчание. Было тошно. Но жизнь шла. Дежурный сидел за столом, а у стен по лавкам еще человека два. Входили, выходили. Один из них, старик, машинист маневровой «Овечки», готовился к чему-то. И вдруг повернулся ко мне и сказал — видимо, в ответ на инфантильную мольбу о помощи.
— А у твоего папки, наверно, миллион в чемодане припрятан.
Это означало, что — ничего, отыщет тебя при таких-то деньгах твой папка. И все вы такие — не пропадете. Я плохо понимал, как можно такое говорить. Залепетал что-то: дескать, что вы. Мы ведь… Я еще не знал, что на очевидную чушь отвечать невозможно. Впрочем, кажется, в Миллерове на вокзале я уже слышал эту байку. Дескать, в Ростове (или в Новочеркасске, или в Лихой, но только не в самом Миллерове) у одного еврея каким-то образом (споткнулся, толкнули и т. п.) вывалился из чемоданчика миллион рублей. Потом я ее слышал в разных местах. Этот кочующий еврей появлялся в Уфе, Аше, Ташкенте и где угодно. Этакий SuperJew на советский манер. Но меня самого за обладателя миллионов принимали впервые. Впрочем, еще был один раз. Но то — в пьяной злости. Здесь злость была не пьяная.
Я не знаю, что было у этого человека за спиной, может, эта случайно оброненная фраза его вовсе не характеризует. Но он был взрослым человеком, а я растерянным подростком, потерявшим родителей и очень боявшимся в тот момент всего, что меня обступило. Я совсем не нравлюсь себе таким, как не все нравится мне в моем воспитании. Но огревать меня так по роже в ответ на просьбу о помощи — тупая жестокость, не имеющая оправданий. Даже если у моего «папки» действительно бы был миллион в чемоданчике. Это грех, но кто из нас без греха? И вряд ли этот старик весь им покрывается. Его уже давно нет и надеюсь, Господь его давно простил. У меня тоже нет, да и не было к нему никакой ненависти. Просто я был сражен и поражен.
Остальные отнеслись к этой сцене безучастно. Дежурный смотрел на меня с любопытством — не то чтоб верил в этот миллион и не то чтоб не верил. «Бывалые» не вмешивались. В те минуты я мог бы составить весьма нелестное представление о России и русских. Некоторые после подобных эпизодов и составляют. Однако дальнейшие события этой ночи, тоже очень нелегкие, тем не менее, противоречили такому представлению.
Проблема передо мной стояла не шуточная. Несмотря на весь свой «футуризм», был я мальчик приличный, без билета не ездил, никаких проводников и милиционеров не боялся — был чист перед ними. А тут мне предстояло проникнуть в вагон и ехать в нем нелегально. Я не только этого не умел, я не умел преступать, так сказать, нравственную черту, которую, как я ощущал, мне преступить предстояло. Но если пропустить этот поезд, тогда конец — я просто не догоню родителей. Так что мне было от чего поеживаться.
Наконец, дежурный назвал номер нашего поезда, и «два ярких глаза набегающих» влетели на перрон. Началась суматоха. Я решил действовать легально — стал объяснять проводнице, в чем дело. Ей было явно не до того, сработал профессиональный навык, и я был вытолкнут наружу. Пока это происходило, «бывалые» за спиной проводницы прошмыгнули в вагон. Я был в отчаянии, но увидел парня, сидящего на ступеньках, и в последний момент уселся рядом, вцепившись в поручень. Вагон мягко тронулся и, набирая скорость, застучал по стрелкам. Мелькнул последний станционный фонарь, и мы въехали в промозглый холодный мрак. Больше всего я боялся, что замерзнут пальцы и выпустят поручень. Но этого не происходило. Мороза не было, и от скорости он тоже не возникал. Ночь была лунная, горы иногда отступали, обычно возле речек, которых было множество, иногда отесанным камнем подходили вплотную к моим несущимся на бешеной скорости коленям. Было страшно, но скоро я привык, успокоился, понял, что совсем вплотную они не подойдут. Потом ехавший рядом парень перешел на площадку между вагонами, и я последовал за ним — на ходу!
Восклицательный знак относится не к трудности задачи вообще, а к тому, как она выглядела в моем тогдашнем восприятии. Как это возможно — на ходу? А вот так! И ничего особенного. Но это мне стало ясно потом. Как в ссылке мне стало ясно, что ничего особенного — наполнить ведра в проруби и внести их по откосу вверх. Но там не надо было принимать решение в доли секунды, как мне в эту ночь. Впрочем, это относится не столько к переходу на площадку, сколько к самому решению вскочить на ступеньку. Потом была станция Иглино. Спутник мой, видимо, здесь сошел, а меня кто-то засек, и дежурный по станции стал снимать меня с поезда. Самым страшным было то, что поезду уже дали отправление. Я стал ему объяснять, почему мне никак невозможно здесь остаться. Но он строго приказал мне идти с ним и вроде куда-то повел. Я плелся за ним, продолжая талдычить свое — что мне еще оставалось? Он делал вид, что не слушает. Однако по мере удаления от вагона ускорял шаги и переставал обращать на меня внимание. И прежде, чем я что-нибудь сообразил, я повернулся и рванул назад к уже тронувшемуся поезду. Теперь и ступеньки с поручнями показались мне уютным местом. Только здесь я сообразил, что человек, вынужденный снять меня с поезда, совершенно сознательно дал мне возможность спастись. Он не мог сделать того, что я по глупости просил — не мог разрешить мне ехать дальше, но сделал что мог — дал возможность это сделать самому. В его поведении была обычная русская семиотика, которой народ, как мог, защищался от бесчеловечных порядков. «Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, но делай, как знаешь, если не дурак». В сущности почти так же вел себя в этом отношении и дежурный на станции Шакша (реакция на «миллионы» — другое дело). Он даже прямо говорил, что мешать нам не будет. Но моя беда, как видел читатель, в том именно и была, что я был дурак и должен был эту семиотику постигать на ходу в экстремальных обстоятельствах.
Постепенно начинало развидняться. Я несся среди гор — между каменными стенами и над пропастями. Пусть не кавказскими, но для меня достаточными. Продолжалось это довольно долго. Вдруг щелкнул ключ, и я переметнулся на площадку. Тогда начали открывать и эту дверь, я метнулся обратно. И так несколько раз, и все — на бешеной скорости. Но все же это было не так героически, как выглядит. По отношению ко мне поезд как бы не двигался. Но стучали колеса, проносилась земля, и воля от меня требовалась на то, чтобы это игнорировать. Потом устал и остался на ступеньках. На площадке стоял пожилой железнодорожник. По-видимому, начальник поезда.
— Что вы хотите этим доказать? — вежливо спросил он.
— Ничего — ответил я. — Только то, что все равно не сойду.
И объяснил почему.
— Зайдите в вагон, — сказал он.
Россия явно оказывалась не без добрых людей. Далеко не все в ней вели себя, как машинист «Овечки» со станции Шакша.
Дальше я ехал почти легально. В вагоне шел нормальный вагонный быт. Интеллигентная мама чем-то пичкала своего ребенка, ребенок не хотел есть и смотрел в окно. Мама нервничала. Все как до войны. Только народу в купе чуть больше подвалило. Вот и меня впустили. На миг показалось, что жизнь продолжается, а все, чему я был свидетель, — нарушение порядка. Но нет, это было не так. Да и дама явно ехала из Москвы в эвакуацию к какому-нибудь высокопоставленному мужу, может, директору уже эвакуированного военного завода. Она должна была быть очень высокопоставленной — я жил всю войну среди москвичей, но не помню никого, кто бы эвакуировался в классном вагоне. Тогда мне это не приходило в голову, теперь вдруг пришло. Это штрих времени. Советское неравенство особенно отчетливо проявилось и конституировалось во время войны. Но об этом потом. Впрочем, даме и по блату могли билет достать.
Но война явно продолжалась, и я продолжал догонять родителей. Выбегал на всех более ни менее крупных станциях — Вавилово, Кропачево — справляться об эшелоне. Выяснялось, что везде он уже проходил. В Кропачеве кончалась Куйбышевская железная дорога и начиналась Южно-Уральская. Факт этот можно было бы не отмечать, но в связи с этим менялся и номер состава. Из-за этого на следующей станции не знали, о каком эшелоне я спрашиваю. Еле-еле удалось выяснить новый номер, выручила примета — сочетание классных вагонов с теплушками. Но мы не догнали свой эшелон ни во Вязовой, ни в Бердяуше. Не надеялись и в Златоусте. Но в диспетчерской на вопрос об эшелоне я получил краткий ответ:
— Стоит на десятом пути.
Я бросился искать этот десятый путь, по дороге встретил своих «бывалых», но они уже все знали и бежали за вещами. Насколько я помню, вещей у меня не было — они ведь в Уфе отправились за покупками, а я только в гости. Возле эшелона я оказался первым. Кто-то крикнул матери: «Ваш сын идет». Она выглянула из вагона, но ничего не сказала. Отца не было, ходил зачем-то на вокзал. Но он скоро вернулся. Родители мне рассказали, что, когда поезд тронулся (об отправлении эшелонов никогда не предупреждали по радио), они не знали, что делать — сойти на следующей станции или ехать дальше. Выбрали второе, поскольку я знал, что они направляются в Челябинск. Но Господи, на какой тонкой ниточке все висело!
Вернулся я вовремя. По-моему, вскоре после этого, чуть ли не в том же Златоусте, нам велели пересесть в классные вагоны — видимо, население эшелона начало редеть. И мы с вещами потянулись вперед. Разместились не столь нормально, как дама с ребенком, но дальше ехали уже как поезд «Харьков — Новосибирск» (или Иркутск?) — рейсовым поездом, выехавшим по расписанию оттуда, куда он уже не мог вернуться. Ну и что? Назад, к месту нашего временного жительства, мы ехали в поезде, который обслуживала ленинградская бригада. Выехали, как обычно, в Москву, а дорогу перерезали. У нас даже стали проверять билеты — как у больших. Довольно скоро мы добрались до Полетаева, узловой станции в 26 километрах от Челябинска, выполнявшей роль сортировочной. Там я видел в окно состав «Челябинск — Кустанай» — к Жене. И ветка на Кустанай (она же и на Магнитогорск) непосредственно отходила именно там, а не из центра Челябинска. Тогда это было их единственным подключением к железнодорожной сети страны. Теперь таких подключений много — на все стороны света, только в Магнитогорске больше нет руды. Но мы не ехали туда, где Женя, как не ехали в Иркутск. Мы ехали в Челябинск. И, наконец, приехали. Дальше наш билет не действовал. Теперь мы были просто бездомными — бомжами, говоря по-нынешнему. И переселились из вагона в здание вокзала.
Мы там провели несколько дней. Что там творилось — я уже предупреждал об этом, — описать трудно. Поезда ходили вне всякого расписания. Все, что было вокруг, кишело людьми, самыми разными. Кто ждал своего поезда, кто, как мы, неизвестно чего. Отойти нельзя было — твое место тут же занимали. Время от времени раздавался вопль обворованного человека. Это был вопль отчаянья — попробуйте остаться без всего среди этого океана. Было страшно. В довершение ко всему каждую ночь под утро всех — всех, кому некуда было деваться — выгоняли из вокзала на улицу на предмет уборки. Это было разумно, но не способствовало уверенности в себе. И тут среди всего этого бедлама на первый или второй день нашего пребывания мы услышали страшную весть о падении Киева. Значит, 22 сентября (по официальной версии Киев пал 21 сентября, на самом деле — 19-го, но мы этого знать не могли), мы были еще в Челябинске. Сообщение это больно ударило по нам. Вроде в нем не было ничего неожиданного, было скорее странно, что он держится, но у свершившегося факта иная убедительность. Было страшно думать о родных — особенно в связи с дворником Кудрицким. Но и просто с тем, что по знакомым, дорогим с детства улицам свободно ходят враги, а я не могу, — тоже душа не мирилась.
Но надо было жить. Мы приехали ночью, а утром, сдав свои вещи в камеру хранения, уже вышли в город. Мама пошла разыскивать облздравотдел, а мы ее ждали в скверике. Вокруг бурлила какая-то странная жизнь, отнюдь не только челябинская. И это неудивительно — челябинцы и персонал эвакуированных заводов (например, Кировского — Путиловского — разместившегося на знаменитом Тракторном), где-то уже худо-бедно жили и были теперь на работе. Болтались же выбитые из колеи, в массе своей такие же временные бомжи, как мы. Все куда-то торопились, чего-то искали — прежде всего искали работы и пристанища.
Мать вернулась обнадеженная. Ей обещали место на Симском заводе — на Урале «заводами» всегда назывались не только сами заводы, но и поселки при них. Симский завод поминается уже в пушкинской «Истории пугачевского бунта» — через него проходил Пугачев. Теперь этот «населенный пункт» официально назывался — поселок Сим Челябинской области. Вскоре он стал городом районного подчинения. Ничего этого я тогда не знал. Понял, что мать получила назначение в поликлинику при каком-то заводе. Просто очень хотелось пристанища.
Мы пошли в закусочную поесть. Отстояли очередь. Рядом за столиком сидел какой-то польский еврей с сыном, держались отчужденно. Отец попытался с ними завязать разговор. Потом он удивленно рассказывал, что этот еврей на вопрос, куда он едет, ответил: «В Индию». Отец не знал, как эту нелепость понимать — то ли, как резкий отказ от общения, то ли, как беспочвенное прожектерство шолом-алейхемского «луфтмэнча» (человека воздуха). Я сразу же принял второе объяснение. А ведь он на самом деле пробирался в Индию. По-видимому, как польский гражданин при помощи армии Андерса. А что ему еще было делать? Домой вернуться он не мог, в этой, по его мнению, дикой стране жить не собирался, вот и рассчитывал добраться до Индии — там все же англичане. Он вовсе не был умнее или шире нас, он проехал через великую страну, ничего, кроме неустройства, в ней не увидев, но у него не было и сознания человека, выросшего в закрытом обществе. Он мог и в Индию ехать. Множество всякого народа передвигалось тогда по нашей стране.
Вот, например, такой штрих. Поскольку мамино оформление, видимо, занимало несколько дней, нас, не помню как и почему, поселили в «эвакопункте», в одном из классов такой же школы-новостройки, как мои киевские. Школу, по-видимому, на время потеснили. Сначала мы жили одни в целом классе, потом к нам подселили эстонцев-железнодорожников с женами. Судя по всему, вывезли их всех насильно по инициативе какого-то идиота — чтоб не оставлять ценные кадры врагу. Конечно, это могли быть и эстонские коммунисты, но вряд ли — тех почти сразу арестовали. Русского языка все они не знали. Я пытался объясниться с ними по-немецки, на котором в детстве почти уже разговаривал, но давно забыл. Но и им они не шибко владели. В общем, были они здесь иностранцами. Но в то же время советскими гражданами. А в целом — как рыбы на берегу. Женщины плакали. Наверное, они тогда предпочитали немцев нам больше, чем остальные эстонцы, у которых тоже были для этого основания. Сталинская фантасмагория.
Но мамины дела были оформлены, билеты куплены, и мы отправились к месту маминой службы. Ехали назад в Уфу на московском поезде до станции Симская, когда-то Рязано-Уральской, ныне Куйбышевской дороги. Расположена она сразу за Кропачевом, где эта дорога начинается или кончается — откуда считать. Между ней и Кропачевом только разъезд Ерал. Приехали мы днем. Нам объяснили, что надо перейти через пути и там сесть на «кукушку», которая и доставит нас в поселок. Всего несколько километров. Так мы и сделали. Кукушкой оказался крохотный паровозик узкоколейки с одним вагончиком и платформами, в которых она возит заводскую продукцию на пристанционный заводской склад и материалы со склада на завод. При выезде со склада она и подбирает пассажиров.
Дорога заняла минут двадцать — тридцать. Все было по-домашнему, все всех знали и звали по имени — кондукторша пассажиров и они друг друга. По дороге выяснилось, что сюда теперь понаехали москвичи — переведен московский завод. Ехали среди лугов и огородов, горы синели вдалеке, но после поселка окружили его плотно, все они были покрыты хвойным лесом. Тротуары в поселке были деревянные, особенно у заводоуправления.
Мать отправилась представляться. Наши вещи лежали на дощатом тротуаре, и мы с отцом стояли рядом с ними и ждали. Было ощущение, что, наконец, мы прибились к месту, пришел конец нашим мытарствам. И тут вернулась встревоженная мать. Она еще официально ни с кем не говорила, но узнала, что тут уже есть зубной врач — приехала вместе с заводом. Облздрав об этом просто не знал. Какое впечатление произвело на нас это известие — понять нетрудно. Мы опять повисали в пустоте.
Но вскоре мать пошла на прием к начальству, и оказалось, что «Боливар мог выдержать и двоих» — ее тоже взяли. Это решало все наши проблемы. Отцу с его дипломом устроиться на завод было уже нетрудно.
Встал вопрос о жилье. И тут в нашей жизни появились Хайдуковы. То ли нас к ним направили, то ли мы сами их нашли — не помню. Но они встретили нас радушно, даже ласково, хотя жили не так чтоб уж очень просторно. Однако о них, как и вообще о нашей жизни в «Симу» — так это произносилось, — в следующей главе. Но об одном завершающем сюжет факте скажу сейчас. Через несколько дней после того, как мы поселились у Хайдуковых, вернулись из деревни, куда их посылали на уборку, старшеклассники местной школы. Вместе с ними возвратился домой и сын наших хозяев, восьмиклассник Саня. Мы с ним поговорили немного, и я как бы очнулся от оцепенения, в котором находился. И стал делать то, что надо, что возвращало меня к жизни — отнес в школу документы и поступил в девятый класс. Самые длинные и самые трудные в моей жизни каникулы закончились.
Симские коррективы-1 Поселок и школа
Всю свою жизнь за исключением эмиграции, я, теряя, приобретал, хоть, конечно, не сразу это понимал — терять всегда больно. В эмиграции я тоже кое-что приобрел, но это приобретение количественное, плюсующееся — некоторое знание и понимание Запада. Вероятно, и это несколько расширило мое общее представление о жизни, но не думаю, чтобы кардинально. Ведь на Запад я попал в 48 лет, уже сложившимся человеком, а в поселок, вскоре город Сим, — за две-три недели до своего шестнадцатилетия, когда я еще не знал ни себя, ни жизни. Разница существенная. Тогда потери (круга друзей, ближайших надежд, родных) ощущались остро, а приобретения еще не ощущались совсем.
Конечно, я о многом думал, и думал даже самостоятельно, позволял себе иногда (но не во время войны) не признавать Сталина, но коммунизм, мировая революция, «законы классовой борьбы» — все это, как надеюсь помнит читатель, оставалось для меня святыней. Все это только «политика», но эти «политические взгляды» таковы, что дурно сказываются на общем представлении о жизни — о ее смысле, о достоинстве человека, — задевают то, что теперь называется естественной системой ценностей. Ибо они зиждутся на идеологии — на вере в условную картину мира с искусственной шкалой ценностей. Эта система умозрительна и держится за умозрительность, а потому противоречит живой жизни и человеческой природе, а значит, и художественному восприятию. Противоречит всему тому, чем был я. В принципе, по природе. Но я этого про себя еще не знал. Из своего отрочества я вынес громадные запасы умозрительности. И они отстаивали себя.
Шла очень тяжелая война. Шла не так, как должна была идти по планам, которые мне казались естественными. Я еще не знал, насколько не так, это даже участники войны, даже немалых рангов, узнают и поймут — если захотят — очень нескоро. А пока Киевом уже несколько дней владели немцы, и это меня угнетало. Нет, я не предвидел Бабьего Яра, но знал, что нашим близким там плохо. Да и вообще унизительно, когда твоя родина терпит поражения, а твой родной город в руках противника. И это естественно. Но я был человек идейный, и меня смущало и то, что в лице Гитлера «старый мир» брал реванш, бил нас в хвост и в гриву, утверждая, как мне казалось, отжившую частную собственность, мир мещанства. Насчет немецких пролетариев, изменивших своему классовому долгу, переживать я уже бросил, а с возвращением частной собственности примириться не мог.
По-настоящему с живой жизнью моя умозрительность столкнулась только здесь. Конечно, еще и в Александровке, и по дороге, но увиденное и пережитое во время этих тяжких «каникул 1941 года» улеглось по-настоящему только здесь. «Симские коррективы» оказались гораздо значительнее и существеннее, еще и просто потому, что я здесь прочнее обосновался и дольше жил — от последних чисел сентября 1941-го до середины марта 1944-го. Не говоря уже о том, что эта смесь рабочего поселка с московским заводом тогда была доступней моему пониманию, чем сельская жизнь. Такое стечение обстоятельств — не пустяк в период становления. Важное значение в этот период имеют и книги. Именно здесь — совершенно случайно, ни по чьему выбору, я прочел среди прочих две книги, сделавшие меня умнее и тоньше — «Боги жаждут» Анатоля Франса и тургеневскую «Новь». Последняя, я знаю, не очень высоко котируется в литературоведении, не думаю, чтобы это было справедливо. Во всяком случае из-за этих книг я впервые взглянул на революцию иными глазами. Как и жизненные впечатления, они не изменили меня, но какие-то коррективы внесли.
Трудности этого периода, который по определению не бывает легким, не исчерпываются у меня трудностями взаимоотношений с общими историко-идеологическими обстоятельствами. Многое зависело и от особенностей моего характера и воспитания. Очень долго у меня, например, сохранялось какое-то детское представление об отношениях с женщинами. Правда, и это усугублено было идеологией — доведенным до абсурда общим представлением о равенстве и товариществе. Будучи юношей очень страстным, я считал эту страстность оскорбительной для хороших женщин и ее стыдился. Главное — дружба, а остальное приложится. Что это остальное в любви вовсе не «остальное» и что оно к высокому чувству не прилагается, а ему присуще, и что женственность — самостоятельная жизненная ценность, богатство жизни, Божий подарок — я как бы не признавал. Не то, чтобы я этого не чувствовал, но именно не признавал — не столько по младости, сколько по дурости, вернее задуренности, по некоторому, не побоюсь сказать, талмудизму (хотя мои предки были не талмудисты, а хасиды). Такой чистоты никто от меня не требовал, меньше всего идеология сталинщины. Но она ведь вообще ни от кого не требовала чистоты идеологии — только преданности вышестоящим решениям и лично Вождю.
Я не собираюсь здесь описывать свои влюбленности и попытки романов. Влюбленности были мимолетны, я их и не все помню, а попытки романов не были попытками романов, ибо в соответствии с моими тогдашними «идеалами» и не предполагали завершения. Видимо, в этом я не был тогда одинок, до войны это было в порядке вещей, и дело тут не только в идеологии. Кстати, маоисты (западные) против семьи, за «свободные» отношения.
Даже такой нетривиальный, свободный от всякого идеологизма и не сентиментальный в разговорах о любви человек, как поэт Николай Глазков («Только та, что сразу мне отдастся, / Будет мне нужна и дорога»), о существовании которого я тогда еще не знал, попадал в такие ситуации. Правда, давно — с ним «это было на озере Селигер / В тридцать пятом году»… Значит (учитывая разницу лет), — в том же возрасте. Там, оказавшись на необитаемом острове ночью наедине с чудесной девушкой, он проявил полную несостоятельность. «А вокруг — никого, А я — ничего. / Даже и не поцеловал». Хотя «знал, что очень нравился ей, / потому что умел грести». Но вот — грести умел, «но не ведал, что счастье так просто». В конце стихотворения строка «А вокруг — никого, а я — ничего» повторяется и завершается вполне самокритическим концом: «Вот каким я был идиотом». Впрочем, и заглавие его — «Из проклятого прошлого» — говорит само за себя. Такого «проклятого прошлого» было много и у меня. Многие тогда еще не ведали, «что счастье так просто» — вряд ли себе во вред. Если не доходили, как я, до абсурда.
Но о своем «проклятом прошлом» рассказывать я здесь вряд ли буду — не ставлю себе задачи превратить свою частную жизнь в предмет общественного внимания. Литературе в целом это никак не противопоказано, но мне лично не так уж приятно в подробностях вспоминать себя идиотом. Да и вообще это другая книга. Конечно, обета молчания я не даю. Понадобится — коснусь и любовной темы. Но пока не предвижу этого. Все, что в ней в моем случае достойно внимания, можно прочесть в моих стихах.
Во мне было много тогда намешано чуждого: политическая и культурная левизна, абракадабра внушенных представлений (изоляция от информации сказывается на любом), строгая большевистская умозрительность. И всему этому противостояла только одна реальность — Россия. Это слово, будучи включенным в официальную пропаганду, оскорбляло меня, ибо противоречило всему, я сам себя воспитал. Но все-таки она была вокруг, и чем больше я ее узнавал, тем больше любил, хотя до поры вряд ли сознавал это. Конечно, во время войны иногда и в газетах с этим словом связывались и живые нотки, но больше действовала на меня не пропаганда, а реальность России, которая впервые мне открылась там, в Симу. Из этого не следует, что с тех пор я находился и нахожусь в состоянии перманентного умиления. Нет. Ни страны, ни люди не бывают идеальными. Видел я и вижу отнюдь не только хорошее. Но она наполнила мою жизнь, сделала меня самим собой. И вообще — я ее люблю. В нынешних тяжелых, часто унизительных обстоятельствах — не меньше. И началось это там, в Симу, на прибытии моем куда, как помнит читатель, я прервал мой рассказ о наших злоключениях…
Предыдущая глава оставила нас на дощатом тротуаре в тот момент, когда у нас немного отлегло от сердца — мать вернулась к нам с отцом от начальства с успокоительным известием, что на работу ее берут. Не представляю, что было бы в противном случае — больше путешествовать у нас уже не было ни сил, ни ресурсов. Вскользь упомянул я и о том, что пристанище на первых порах — теперь уже не вспомнить, каким образом: то ли сами пришли без ничего, то ли с официальным направлением, то ли кто-то из них увидал нас на тротуаре, расспросил, как и что, пожалел и привел к себе — мы нашли в семье Хайдуковых… Так или иначе, приютили нас именно они. И приютили легко и радушно.
Как большинство домов в таких поселках и городках, дом их был деревянным, бревенчатым, аккуратно и прочно построенным. Но был он явно не очень большим — в две комнаты, а может, даже и в одну. Второй я, честно говоря, не помню, но должна же была где-то переодеваться их дочь Люба. Кстати, иногда мне кажется, что в этот дом привела нас именно она. За давностью лет я в этом не уверен, но на нее это похоже. Вот в какой дом нас приняли.
Люба работала в столовой и первое время, как могла, подкармливала нас. Потом столовую прикрепили к ФЗО, и делать это ей стало труднее. Как звали ее мать, женщину неотрывной естественной доброты, к стыду своему, точно не помню. Кажется, Василиса Егоровна. Отца звали Александр и тоже Егорыч. Это тождество отчеств вызывает некоторое мое недоверие к собственной памяти, но проверить трудно. Младшего ее брата, как я говорил, звали Саня. Был там еще маленький мальчик, сын то ли старших Хайдуковых, то ли их дочери. Помню только, что сам Хайдуков был сапожник. Они оба были уже людьми в летах. Александр Егорыч, видимо, еще был инвалидом — его не мобилизовывали не только в армию, но и ни на какие работы. Сидел, стучал молотком по подметкам и каблукам, потом, когда количество обуви резко сократилось, стал плести лапти…
Комичный штрих. Александр Егорыч направо и налево употреблял слова «жид».
Себе самому в процессе работы, с какой-то досады:
— Вот жид тебя задери — чего наделал.
Расшалившемуся малышу:
— Ишь, жиденок, разбаловался! Уши надеру!
Или наоборот:
— Не балуй! А то жид придет, в торбе тебя унесет.
Тут даже моя мать, очень чувствительная к этому слову, не усматривала антисемитизма. Поняла, что «жид» здесь некоторое мифологическое существо вроде черта и никакого отношения ни к каким реальным евреям, которых здесь отродясь не видывали, не имеет. Конечно, с войной антисемитизм (еврей с миллионами в чемоданчике) постепенно дошел и до этих мест, но называли его объект евреями, а не жидами. Жиды остались в мифологии. Кстати, евреями иные симачи сочли поначалу и всех эвакуированных из Москвы рабочих — поскольку слышали, что от войны бегут одни евреи, и поскольку говорили эти рабочие тоже не как местные.
Должен сказать, что местный выговор тогда мне, книжнику и южанину, не понравился. Показался очень грубым и некрасивым. Родители мои вообще долго понимали его с трудом — «те» вместо «то», «чаво» с небным «ч» и многое другое. И нравы тоже были жесткие, уральские. Рассказывали мне о таком, например, разговоре. Поводом был некто, вернувшийся из заключения.
— А за что он сидел?
— Да за баловство.
— Как за баловство?
— Ну, играл с парнями в войну и огрел одного прутиком…
— Неужто так-таки за прутик и посадили?
— Дык прутик жа железный был…
Дескать, как же не понимать простых вещей!
Должен сказать, я не совсем верю в подлинность этого диалога — он вполне мог быть результатом напряженных отношений между москвичами и симачами. Но, с другой стороны, в нем нет ничего предосудительного. Симач вовсе не одобряет такого баловства и не воспринимает его как нечто нормальное, он просто рассказывает на своем языке (а он явно не оратор), как было дело. Так, дескать, балуемся, меры не знаем, железным дрыном, как прутиком, орудуем, а потом сидим… Экзотика, которую в нем находили «москвичи», происходила просто от непривычки к его немногословию и сдержанности. Никакой особой жестокости или грубости я в них за два года не обнаружил. Но обнаружил повышенное, хоть и не сексуальное внимание к «половой чистоте», точнее, к чистоте полов. Полы во всех домах были дощатые и крашеные и ступать по ним разрешалось только, сняв обувь — в одних носках. Но и тут они оказались не отсталыми, а передовыми — потом эта мода пришла в Москву, а некоторыми была вывезена даже в эмиграцию. Только гостей не заставляют ходить в носках, а заводят для них специальные тапочки. Но это к слову.
Дошел ли тогда уже до симачей антисемитизм или нет — не знаю. Но Хайдуковы отнеслись к нам просто, как к пострадавшим, вовсе не интересуясь, кто мы — хорошо и тепло. Правду сказать, здесь тогда мы и были из наиболее пострадавших. Остальные были либо симачами, живущими у себя дома, или москвичами, все-таки эвакуированными организованным порядком, со всеми вещами. Потом все сравнялось в общей тяжести военного быта, а тогда разница бросалась в глаза. Но отношения наши оставались теплыми всегда. Привечали они не только нас. К ним, кстати, запросто на огонек заходили два поляка, непонятно как очутившиеся в Симу. Это были отпущенные военнопленные, ожидавшие документов для следования в Бугуруслан, где формировалась польская армия генерала Андерса, подчиненная, как у нас потом говорили, «лондонскому правительству». Тогда еще никто не знал, что они будут воевать не на нашем фронте.
Поляки эти относились к нашей стране презрительно. Сегодня я понимаю, что для дурного отношения к государству СССР у них было гораздо больше оснований, чем они тогда думали. Но их презрение к стране меня огорчало не только тогда, но и сегодня, задним числом, огорчает. Даже после всего, что мне стало известно за эти годы… Нельзя презирать страну за несчастье. В конце концов она тогда (уже и тогда) нищетой и скудностью бытия, властью нелюдей платилась только за то, что всерьез восприняла «всемирно-историческое заблуждение» всей нашей цивилизации. Впрочем, с этих двух много не спросишь — они не были ни интеллектуалами, ни идеологами, — один из них был домовладельцем в Варшаве, другой тоже кем-то в этом роде, а только унтер-офицерами польской армии — офицеров (интеллигенцию) перестреляли в местах, подобных Катыни. То, что они видели — их отталкивало. Просто как здравых людей, даже без Катыни, о которой еще никто не знал. Правда, из своих впечатлений они делали слишком широкие выводы. Например, они начисто не верили в нашу победу. Если культурная Польша не устояла, то где уж этим нищим! Известие о нашей первой победе под Ростовом пришло, когда они уже уехали.
Но в доме Хайдуковых на их взгляды не обращали внимания — привечали и согревали просто как страдальцев. И правда ведь — сколько времени ни жен, ни детей, ни отца-матери не видали!
Я не помню, сколько мы прожили у Хайдуковых, месяц или два. У них ведь всерьез не было места, но они никогда никак нас не стесняли. Конечно, мать и отец весь день были на работе (отец почти сразу устроился в ОТК контролером сборочного цеха), я скоро стал пропадать в школе, но ведь бывали мы и дома, а дом был явно не резиновый. Но ничего — терпели безропотно. Как я потом убедился, качество это — во всяком случае по тем временам — русское. Я вовсе не хочу сказать, что такими были все люди в России. Скоро нам дали направление к одной женщине, жене солдата, — та была совсем не такой, и жить у нее было тяжело. И все же это так. В таком виде — оно русское.
Ценил ли я их тогда? Конечно, понимал, что они хорошие люди, конечно, был благодарен. Но ведь мир их был так узок, они были так далеки от понимания страшной идеологической коллизии наших дней, от Маяковского, Блока, Пастернака и всего, чем я жил. Они просто были людьми в мире, где людьми были далеко не все, а мне еще только предстояло стать или не стать человеком. Я еще не понимал (и не скоро понял), что людей, способных протянуть в минуту беды руку помощи незнакомому человеку, своей ценностью не перевесит никто. Этот выбор встает перед каждым, независимо от уровня его интеллектуальных интересов. Но мне кажется, что Хайдуковы людьми не «стали» — просто были и продолжали быть.
Приходилось мне слышать, что простым людям легче, чем не простым, переносить посторонних. Думаю, как кому. Но плохо когда люди определяют степень неудобства, утратив нормальную точку отсчета, забыв об абсолютном страдании. О голоде — когда все время хочется есть, а есть нечего, о холоде — когда все время хочется и нет возможности согреться, о бездомности — когда нет крыши над головой, о несвободе — когда у тебя нет возможности выйти из помещения, куда тебя поместили, даже если там душно и тесно, или когда тебя могут избить и убить, а ты и пикнуть не можешь.
Был у меня в жизни такой смешной случай. Еще в семидесятые годы приехала в гости под Нью-Йорк одна московская дама, приятельница моих друзей.
— Приезжайте ко мне, — сказала она по телефону. — Я вам все расскажу, не торопясь. Ведь вы у нас переночуете. У тети большой дом, места хватит.
Но места у них хватало только по ее московским представлениям. И это выяснилось сразу же, как только мы увиделись.
Они с тетей встретили меня на станции, и она смущенно сказала:
— Извините меня, пожалуйста… Я не знала… Я думала, места хватит. Но тетя говорит, что у нас вам ночевать негде — единственная комната для гостей занята мной.
Положение мое было аховое. Вернуться в Бостон можно было бы только тут же, выехав через самое короткое время, иначе теоретически можно было бы прибыть туда часа в 2–3 ночи. Кроме того, я наутро собирался в Нью-Йорк. Повернуться и уехать в Нью-Йорк сейчас же? Все-таки неудобно, невежливо.
Самое смешное, что все, сказанное тетей, было чистой правдой. В комнате для гостей жила гостья, хозяева спали в своей спальне, а больше спален в их четырехэтажном домике не было. Правда, в доме были еще гостиная, столовая и другие комнаты разного назначения, и везде стояли всякого рода диваны. И положить человека на любой из них было бы гораздо проще, чем заставлять его на ночь глядя переться в Нью-Йорк после того, как он все-таки только что совершил некое путешествие. Тем более человека уже и тогда немолодого, и не очень зрячего.
Все обошлось благополучно. Я позвонил своему другу, психиатру Саше Войташевскому, который жил тогда с женой и двумя дочками в трехкомнатной (с двумя спальнями) квартире. У них, естественно, место нашлось. Часам к одиннадцати я приехал в Нью-Йорк и к двенадцати добрался до Квинса, где он жил. И спокойно у него переночевал.
Вспоминать эту давнюю историю не стоило бы. Эта тетя не была извергом, да и ко мне отнеслась скорее хорошо, чем плохо — потом даже прислала по почте что-то, забытое мной. Но положить человека в гостиной было для нее немыслимо, а отвезти на вокзал, сердечно распроститься и отправить в ночь — вполне возможно. Может, она и не представляла, что это такое — ведь ее гости обычно, как и она сама, приезжали и уезжали на своих машинах.
Нет, она человек неплохой. Но я рассказываю этот эпизод потому, что вспоминать мне о нем сегодня страшно. Ибо только представление о границах возможного, о рамках приличия есть ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ. Когда слишком много людей забывает об этой абсолютной точке отсчета, о том, от чего защищены цивилизацией, цивилизация постепенно чахнет и гибнет. И я всерьез думаю, что в моих симских Хайдуковых, привыкших обходиться своей примитивной утварью, цивилизованности гораздо больше, чем в этой милой тете, в ее доме, набитом удобствами цивилизации.
На этом фоне не только Хайдуковы, но и наша уже упоминавшаяся следующая, довольно звероватая хозяйка выглядит почти святочно. О нашем квартировании у нее я особо распространяться не собираюсь. Жить нам у нее было тяжело, но ведь и мы ей были навязаны. Теперь, когда она осталась без мужа, дом был единственным достоянием ее и малолетней дочери, никакой специальностью она до этого не обзавелась. А тут и на это посягали. Нельзя осуждать людей за отсутствие самопожертвования в твою пользу. Все равно ей спасибо — все-таки мы прожили у нее до весны, когда маме выделили комнату в восьмиквартирном деревянном доме (теперь такие дома называют бараками, но тогда это был Дом).
Конечно, мы ей мешали. Всяко. Еще и потому, что, проводив мужа на войну, она вовсе не собиралась становиться героиней симоновского «Жди меня», а имела некоторые виды. Упоминаю я об этом отнюдь не для вящего ее посрамления. Вполне возможно, безгрешные, особенно побывавшие в ее шкуре (молодой — кровь с молоком — женщины, вдруг оставшейся без мужа) и имеют право бросить в нее камень, но я к этим безгрешным не отношусь. Да и потребности нет. Не то чтобы я был человеком «передовой» морали — это давно не так. Я даже уверен, что все мы взяли себе больше свободы, чем дал нам Бог, но судить кого-либо лично — это не мое призвание. Врачу, исцелися сам!
А в данном случае, помимо всего этого, а также приведенных смягчающих обстоятельств, любого судию должно было бы остановить то, что неизвестно, есть ли за что ее судить. Человек, на которого она имела виды, поселился у нее одновременно с нами, на ее зазывы не откликнулся. Он съехал с квартиры сразу после нас. А как она жила дальше, я не знаю. Я вообще мало о ней знаю. Разве что слышал, как она материлась. Материлась же она (в основном по адресу соседок) нечасто, но чувственно. Тогда это меня поразило. Но потом оказалось, что явление это не столь уж редкое среди женщин, оставшихся одинокими. Женщины вообще матерятся неприятней, чем мужчины, обычно никакого привкуса чувственности в ругательства не вкладывающие.
Я тогда мало о ней думал — больше по младости и глупости, — хватало своей тяжести. А ведь на нее эта война обрушилась всей своей тяжестью, делала все, чтоб разбить ее жизнь. Удалось ли ей ее собрать? Хорошо, если вернулся с войны ее муж. А если нет?
Человека же, на которого она имела виды, я помню гораздо лучше. «Положить глаз» ей (и не только ей) тут, прямо сказать, было на что. Он был высок, строен, ладен, сноровист, какими очень часто бывают квалифицированные рабочие. Он и был квалифицированным рабочим — токарем-лекальщиком, работал в инструментальном цехе. Звали его Лешей. Родом он был из деревни, откуда-то из-под Смоленска. Действительную служил на флоте. В связи с этим ли он ушел из деревни, или в связи с общими пертурбациями, или по каким другим причинам — не знаю. Деревенского в его облике не было ничего. В языке тоже. Язык его был грамотным и дифференцированным, мысли свои он выражал легко и свободно. Ни дать ни взять сознательный и культурно выросший советский рабочий — на меня тогда еще такие штампы действовали. И это естественно. Все время натыкаешься на туфту, но ведь должно же было где-то быть и настоящее. Так вот оно! Но симпатию он вызывал непосредственно, сам по себе, просто своей личностью. Идеология только ее истолковывала в свою пользу.
Относился он к нам вполне доброжелательно и сочувственно. Как сильный к слабым. А мы и были слабыми. Но, кроме того, несмотря на тесноту, наше присутствие было ему явно на руку. Оно помогало ему сохранять отношения с хозяйкой на должном уровне — чтобы они оставались хорошими и не заходили слишком далеко. И, действительно, они ограничивались выполнением кое-какой мужской работы по дому (пилкой и колкой дров, например), но дальше не шли. К этой работе он иногда привлекал и меня — больше из педагогических соображений, и я это чувствовал. Пилить со мной было удовольствием ниже среднего.
Ко мне он вообще относился педагогически — поучал, но не свысока, а просто как старший младшего. И это было хорошим, дружеским, даже заботливым отношением. Ведь я-то, действительно, еще был сосунком шестнадцати лет, а ему уже было двадцать восемь — за ним был реальный жизненный опыт, мастерство, флот. Да и просто я был (а во многом и остался) неумехой, каких поискать. Его это должно было раздражать, но он пытался вытащить меня из этого состояния. Но к моему желанию поскорей попасть на фронт — а оно меня грызло, о чем чуть ниже — он относился иронически:
— Ты что же думаешь, что будешь на войне пупом? — спрашивал он.
Конечно, так далеко мое детское еще самомнение не простиралось, но доля истины в этих словах была, и я это чувствовал. Его это должно было смешить — ведь он прекрасно видел и понимал, что я еще и для самой неглавной роли не гожусь.
Съехал он с квартиры вскоре после нас. Встречал я его после этого только мельком. Однажды на подсобном хозяйстве завода, куда нас, школьников, вместе с рабочими (завод стоял из-за недоставки топлива) послали убирать турнепс. Обещали расплатиться каждым десятым из собранных мешков. Вопрос об оплате живо обсуждался собравшимися, он волновал всех. Некоторые называли другое соотношение. Леша, шедший впереди, вдруг повернулся и объявил:
— Оплата будет такая — что съешь, то твое!
И как в воду глядел.
Поразительное дело. Конечно, я не знаю «всей его подноготной», как это тогда именовали газеты (как будто ее непременно следует знать, чтобы судить о человеке), в том числе и его «подлинной» биографии. Другими словами, того в ней, о чем тогда не имело смысла откровенничать. Но это было неважно — он был, кем был, кем представал. Да и что он мог скрывать? Правда, если он происходил из деревни, то если и не был из раскулаченных (все-таки работал на оборонном заводе!), то явно происходил не из последней там семьи — слишком был для этого толков, умел и складен. Следовательно, не мог воспринимать коллективизацию и раскулачивание как высшее проявление мудрости. Но мог отнести виденное им тогда к местным перегибам из-за осужденного и партией «головокружения от успехов». Ведь его увлекала его жизнь, она давалась в руки, расширяла кругозор, манила перспективами. И виденное, если оно было (это ведь все мои домыслы), отходило на задний план как бы под натиском этих объяснений.
Этим предположением я отнюдь не хочу бросить тень на Лешины умственные способности. Человеком он был безусловно умным и самостоятельным. Я ведь и сам и тогда, и много позже был ничуть в этом не умней. Да что я? Этим объяснением пробавлялись тогда многие, не чета нам обоим. Говорю же я сейчас об этом только потому, что Леша здесь выразил такое абсолютное неверие в элементарную честность «нашего, советского, партийного» начальства, что непосвященный читатель может счесть его законченным антисоветчиком. Что же это за начальство, которое обещает за работу заплатить и не платит. А он выражает уверенность, что так будет, в его словах чувствуется опыт. Как же не антисоветчик?!
Обычно в таких случаях объясняют все самоуправством «местных властей», за которыми центр, дескать, уследить не может. Но в данном случае эта схема, как говорится, «не работает». Завод этот был мало того что Государственный союзный Министерства авиационной промышленности СССР и имел при себе представителя (парторга) самого ЦК ВКП(б), был еще и московским. Так сказать, прошедшим московскую школу. И тем не менее Леша говорит о характере оплаты (то есть о своем родном московском начальстве): «что съешь, то твое». Куда же дальше!
И, не смотря на это, Леша вовсе не был антисоветчиком. Более того, он был вполне советским парнем.
Читатель, знакомый с моими взглядами и ныне преисполненный справедливого презрения к самому слову «советское», вероятно, с некоторым недоверием обнаружив в этом моем определении одобрительную нотку, может решить, что это ему только показалось. От меня справедливо не ждут (и не дождутся) защиты «нашего светлого прошлого». И тем не менее ему ничего не показалось, «нотка» эта присутствует.
Теперь, когда люди не столько самокритично и по-новому осознавая себя самих, сколько бездумно и механически изгаляясь почем зря, обзывают самих себя и друг друга «совками», видя за этим нечто тупое и глупое, бесконечно отсталое, это одобрение требует даже некоторого усилия воли. Но ничего не поделаешь — я не могу в этом вторить общему хору. Общение с людьми других стран не подтверждает тезиса о нашей особой «совковости» — ее везде хватает. Просто мы люди, пережившие и переживающие невероятное историческое несчастье, и не более того. Конечно, это сказывается на нас. Но еще неизвестно, лучше ли бы себя повели любые другие на нашем месте. Полагаю, что многие — хуже. Впрочем, именно здесь я термин «советский» употребляю как определение историко-психологического типа середины тридцатых годов, а не в каком-либо ином. Это совсем не отрицание наличия того, что обычно понимается под homo soveticus. Но это другое. Речь сейчас об определенном человеческом типе, о тех, говоря словами Давида Самойлова «ребятах»,
Что в сорок первом шли в солдаты И в гуманисты — в сорок пятом. … … … … … … … … … … … … … … … Они шумели буйным лесом, В них были вера и доверье, А их повыбило железом. И леса нет, одни деревья.Конечно, «ребята» Самойлова — рубежная формация этого типа. Тип этот не в последнюю очередь возрастной: среди людей моего возраста, родившихся в 1925 году и позже, он уже почти не встречается. Думаю, разница была в том, кого в каком возрасте застал «тридцать седьмой год» и расцвет «сталинщины». Таких цельных она уже создавать не могла, они — даже сталинисты — должны были зародиться до этого.
Что же касается этого стихотворения, то конкретно в нем речь идет об особой малой группе — московских довоенных студенческих поэтах и интеллектуалах (в их кругу этот тип продержался дольше, чем везде). В знаменитой повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» отличие этого типа личности от более молодых формаций чувствуется очень остро. В повести показаны и те, кто берет верх в этих поколениях, но в целом людям этого поколения еще свойственны черты, отмеченные стихотворением Самойлова. Они не столь специфичны, как эти «ребята», но эти «вера и доверье» вообще были характерны для более широких слоев и возрастных групп.
В бытовом смысле Леша был более опытен, чем эти «ребята», но определение «в них были вера и доверье» относится к нему в полной мере. И, к сожалению, то, что «их повыбило железом» — тоже. Потом он пошел добровольцем на фронт и, по слухам (дай Бог, чтобы ошибочным), вскоре погиб. Он был очень хорошо приспосособленный к жизни человек (не путать с приспособленчеством). И к войне тоже. Кстати, это тоже была черта людей этого типа, даже интеллигентов — все уметь, быть приспособленным к любым трудным обстоятельствам, в любом положении искренне ощущать себя хозяином жизни. Балтеровские «мальчики» тоже не были белоручками. Конечно, война вещь жестокая, и никакая приспособленность к ней, никакая умелость и сноровка не гарантирует выживания. Но что касается нашей войны, то теперь, когда все больше узнаешь о ней, о том, как бессовестно по отношению к своим она велась, понимаешь, что вся Лешина приспособленность иногда мало что значила — кто мог представить, куда и по каким случайным соображениям его могли бросить, какую дыру, вызванную собственным пресмыкательством, им попытаются затыкать или какой ДОТ штурмовать в лоб среди бела дня без должной артподготовки, сопровождения и даже достаточного количества патронов. Как это описано в очень хороших военных повестях В. Кондратьева. Кстати, там идет речь именно о таких ребятах, о людях этого типа. С ними тогда можно было сделать что угодно, используя эти самые «веру и доверье». Веру в справедливость и в то, что жить только для себя позорно, а жертвенность — норма. Доверие к людям, которые могут потребовать этой жертвы. Причем это вовсе не были аскеты или фанатики. Просто так они жили.
Помню, как в сорок восьмом на свердловской пересылке (пересылка все же была свердловская, а не екатеринбургская) встретил я такого парня. Он был в плену, немцы его привезли во Францию, там он убежал к партизанам, сражался, после войны вернулся, учился в одном из ленинградских техникумов. Но, на свою беду, приехал на каникулы на родину, в Курск, и как раз тогда, когда в Курске и области подбирали «мелких коллаборационистов» — на самом деле вовсе не коллаборационистов, а ни в чем не повинных мужиков («курских соловьев», как их тут же обозвали), которых немцы мобилизовывали в обозы и на другие подсобные работы.
«Соловьев» не судили, не обвиняли, а просто гуртом отправляли в Читу, чтоб оттуда, как им объявили, этапировать на Бодайбо, на золотые прииски. «Соловьи» особенно даже не унывали. Люди они были работящие, в колхозе это их достоинство отоваривалось плохо («Усю курскую нищяту / Повезуть ув ету Читу» — как говаривал один из них, развлекавший земляков рифмованными присказками), и у них были основания надеяться, что «на золоте» будет лучше. Моего знакомца-партизана «замели» вместе с ними. Но он от этого страдал — причем не столько из-за постигшей его участи, сколько от оскорбления. «Меня, как шкурника!..» Я вовсе не думаю, что к «соловьям», судьбу которых он делил, применимо определение «шкурник». И не то, чтобы они не чувствовали оскорбления. Но поскольку от власти, как от бешеной собаки, ничего хорошего и не ждали, а оскорбление это было очередным, то особенно его и не переживали. Они были достойными людьми — во всем, что им было доступно и от них зависело. Большего они на себя не брали. Но он-то брал. И в трудных условиях оказался на избранной высоте — остался верен тому, что на себя брал. И вдруг такое…
Эта необходимость брать на себя, представление, согласно которому иначе нельзя, — отличительная черта людей этого типа. На людей их возраста легло все — все репрессии и все войны, их не только «повыбило железом», но и поистребляло лагерями и тюрьмами. По-человечески это были очень хорошие и надежные люди. Уверенные. Правда, уверенность эта держалась и в конце концов отчасти подвела их на уже упомянутых «вере и доверье». Тип видоизменился, но это относится к идеологии — человеческая основа его была и осталась добротной. Сам я полностью никогда к этому типу не относился — ни в дурном, ни в хорошем. Но духовно этим людям был близок — они уверенно путались в трех соснах, я же неуверенно пытался отойти от этих сосен, но, пугаясь одиночества, скоро возвращался. Я от этого типа отличался, но к нему льнул. И часто с ним себя идентифицировал. Я и теперь думаю, что среди тех, кто был старше меня, они были самыми лучшими. То, что они были советскими, было их трагедией. Они были неколебимо уверены, что все советское в целом правильно, несмотря на досадные частности, но и сами пытались вести себя правильно, противостоять этим «частностям», из чего редко что получалось.
После войны (и кардинально после XX съезда) уцелевшие представители этого типа помаленьку отходили от советского и политически, и всяко — шли в гуманисты. Но и до этого в их железобетонности был один пробел — они не подвергали остракизму своих товарищей — детей «врагов народа». Спорили со мной, но принимали у себя — даже когда это было опасно. И не пользовалось в их среде никогда никакой популярностью стукачество. Этой «мелкобуржуазности» они в себе преодолеть не могли, да и не хотели. Из них собственно и возникли вышеупомянутые «гуманисты». Теперь эти люди, если живы, давно уже не советской по своим взглядам, настроенности. Но тип личности остается тот же, и это хорошо.
Среди них много моих близких друзей. А советскими теперь стали красно-коричневые. По форме. По духу — просто коричневые. Вот уж кем бы мои «советские» — и Леша в том числе — не стали бы никогда! Вот как далеко завел меня рассказ о временной квартире, где нам довелось перекантоваться, и о ее случайном жильце, с которым отношения у меня были хоть и доброжелательные, но не близкие, не долгие.
Но главными моими симскими впечатлениями были сначала школа, потом заводская многотиражка, потом завод. Разумеется, все это было не так уж отделено друг от друга, вся жизнь поселка, а потом города, вертелась вокруг завода, но таковы главные вехи моего симского бытия. И все это, начиная со школы, было моим погружением в подлинную жизнь глубинной России. Правда, на эту жизнь все больший отпечаток накладывал московский авиационный завод (даже два — при мне в него влился еще один), тем более, что и Москву до той поры я представлял абстрактно, а здесь она была в достаточной концентрации. Разумеется, я ничего не изучал и никуда не погружался — просто жил. Но все, чем я жил до этого, затрещало по всем швам. Оно и должно было затрещать, как все выдуманное. О другом я только начинал догадываться. Но путь был начат.
Впрочем, этого, что начат новый путь, я тогда не понимал. Наоборот, я изо всех сил стремился продолжить оборванное, цеплялся за него. И идея школы соответствовала этому как нельзя лучше. Все рушилось, а здесь как бы сохранялся островок стабильности — кончил восьмой класс, поступил в девятый. Программы были те же, учебники тоже — только украинского языка не было.
В общем, все продолжалось. Правда, школьное здание — было оно одноэтажным и бревенчатым — не походило ни на одну из тех трех киевских школ, где мне пришлось учиться, но это ведь был не столичный Киев, а небольшой заводской поселок. При всем том красное школьное здание с его большими окнами, расположенное в центре поселка, напротив поссовета, выглядело солидно и внушительно. Классные помещения в нем были просторными и удобными, потолки высокими. Как я теперь понимаю, оно было дореволюционной постройки и с самого начала предназначалось для школы.
Об этой школе, прежде всего об ее учителях, у меня остались самые теплые воспоминания. Я благодарен им за многое и обязан многим. Я хорошо помню их всех, их лица, их повадки, но, к стыду моему, забыл имена, отчества и фамилии. За исключением завуча, преподававшего у нас историю. Его звали Иван Никанорович Кузнецов.
Но о нем разговор вообще особый. Он и пожилая преподавательница немецкого языка были фигурами хоть и совершенно разными, но явно не местного масштаба, прибитыми к этому берегу разными порывами нашей исторической бури. Он был профессором Свердловского университета (я видел брошюры с его именем, с этим титулом), она — первой за всю историю женщиной-студенткой Московского императорского университета. Причем, водворилась она туда вопреки воле ректора, крупного математика, ярого противника женского образования — через министерство. После этого она его видела только раз в семестр. Происходил всегда один и тот же диалог:
— Разрешите? — спрашивала она на пороге ректорского кабинета.
— Что вам угодно? — справлялся ректор.
— Подписать матрикул (по-нашему — зачетку).
— Извольте, — ректор подписывал матрикул.
— Благодарю Вас, — отвечала студентка и удалялась. И так каждый раз в конце семестра.
Это она сама рассказывала мне и другим. Кстати, она вообще вела здесь культурную работу. К ней, как я понял, ходили наиболее чуткие ее ученики, она им читала и давала переписывать Гумилева, Ахматову, других. Большинству она, конечно, была не нужна и смешна. Была, что называется, белой вороной. Я не знаю, как она попала сюда, но понимаю, что не совсем добровольно. Об этом разговора не было.
О том, какие бури прибили к этому берегу Ивана Никаноровича, разговоров было еще меньше. Иногда мне казалось, что виной всему любовь: он был женат на нашей учительнице географии — бросил все и поехал за ней. Но возникает вопрос — почему не наоборот? Ни с того ни с сего университетские профессора не запираются в глуши.
Думаю, что, будь я тогда взрослей, я бы больше мог разглядеть вокруг себя — тогда в провинции много было уцелевших остатков иных эпох — того, чего сегодня днем с огнем не сыщешь и что представляло бы неоценимый интерес для меня самого и других. Но я не был тогда умней и к былым эпохам (за исключением поэзии и вообще литературы) относился в лучшем случае снисходительно. Даже наша «немка», при несомненном уважении, все-таки воспринималась как нечто совсем не современное. И часто казалась мне не менее смешной, чем другим. Я еще тоже тогда при всех моих интеллектуальных занятиях во многом был дикарем и варваром.
Но Иван Никанорович и среди нас, дикарей, белой вороной отнюдь не выглядел и смешным никому не казался. А, наоборот, выглядел человеком здравым, строгим и справедливым. В общем, как тогда говорили, современным. Его побаивались и уважали. Этому человеку я благодарен и обязан особо. За что? Как ни странно, за одну фразу, сказанную им при мне по моему поводу, фразу отнюдь не слишком добрую, скорее жесткую, но справедливую.
А повод был глупый. Во всех школах, где я учился, преподавали французский, а здесь — хоть в девятом классе по программе седьмого — немецкий. Поскольку что-то я помнил от дошкольного обучения у Елены Владимировны, а какие-то слова были сходны с бытовым еврейским (идиш), то, пока дело касалось чтения и перевода, все у меня шло отлично. Но контрольную писать я наотрез отказался. Поскольку класс над ней издевался, она восприняла этот отказ, как проделку, и меня потянули к завучу.
— Почему вы не хотите писать контрольную? — спросил он. Я сказал, что ничего не знаю.
— Нет, он знает! Знает, — закричала «немка». Я объяснил причину недоразумения. Иван Никанорович улыбнулся, но «немка» не унималась. По какому-то поводу она сказала обо мне (она очень хорошо ко мне относилась):
— У него вообще мысли впереди слов.
Иван Никанорович задумался.
— Да? А по-моему, слова впереди мыслей.
Такой оплеухи я еще не получал. Меня могли обвинять в мыслях неправильных, ошибочных, а тут фактически в пустой болтовне. Мне эти слова были очень неприятны, но хорошо помню, что я не обиделся — я почувствовал, что Иван Никанорович во многом прав. И не побоюсь сказать, что это одна из тех фраз, которые воспитали меня, сделали самим собой. Разумеется, недостаток этот связан с юностью, с ее темпераментом, и потом часто проходит. Но сколько я встречал людей, которые, сами того не замечая, глушили собеседника словами, темпераментно оторвавшимися от породившей их мысли, и я счастлив, что несмотря на то, что я часто тоже говорю темпераментно, все же я не один из них. Темперамент меня не ведет. Хорошо, когда молодые люди встречают на своем пути столь умных и доброжелательно жестких учителей. Впрочем, за это я могу, по-видимому, благодарить и сталинщину — ни при каком другом порядке вещей ни он, ни «немка» не встретились бы мне в поселковой средней школе — мы вовсе еще не были настолько богаты высокообразованными людьми.
Но это — сегодняшние размышления. Вернемся к впечатлениям тогдашнего девятиклассника, впервые появившегося в новой для него школе. Это была не столько новая школа, сколько новая среда. Должен сказать, что о моих новых товарищах у меня сохранилось меньше впечатлений, чем об учителях. Только в общих чертах. За исключением некоторых, с которыми сошелся ближе. Причина этому была проста. Я прошел там за один учебный год курс двух последних классов, сдавая экзамены экстерном за девятый в первое полугодие и догоняя товарищей в десятом во втором полугодии — я просто с ними меньше имел дела, чем с учителями.
Но когда я пришел впервые в класс, у меня таких планов еще не было. Девятый класс, как и десятый, как, кажется, и восьмой, в школе был один — никаких «А» или «Б», как я привык. Но и этот один, несмотря на московское пополнение, был не полон — оставалось много свободных мест. В целом аудитория, особенно девушки, выглядели гораздо взрослей и основательней, чем киевские. Начался первый урок — как всегда с вопросов из пройденного в прошлом году. Учительница, кажется географии, задавала элементарные вопросы. Ответом ей было молчание. Молчал и я, полагая, что уральцы — народ немногословный, не любящий без толку высовываться. Вот ведь и учительница не удивляется. То же продолжалось и на уроке литературы. И вдруг в ответ на какой-то надцатый вопрос, а именно, как звали Гоголя, на задней парте поднялась рука.
— А ну, — сказала учительница.
— Николай Васильевич, — ответил поднявший руку.
— Правильно, Новиков, — поощрительно сказала учительница.
После этого я стал поднимать руку очень часто.
Я потом несколько сблизился с Володей Новиковым и, честно говоря, не могу понять, почему он не поднимал руку раньше — может, просто не слушал вопросов? — парень он был знающий. Но общая ситуация меня удивила. Кстати, молчали не только аборигены, молчала — причем, не как я или Новиков, а «честно» — и девочка-москвичка, по происхождению еврейка, хотя существует представление, что что-что, а учатся они всегда хорошо. Выходит, не всегда. Для нее тоже было открытием, что Гоголя звали Николай Васильевич.
Впрочем, москвичка особо меня не удивляла, у нас в Киеве тоже были довольно тупые девчонки любых происхождений, тип мне хорошо знакомый.
Больше удивляли меня местные. На тупиц они похожи не были, а знать, как мне казалось, ничего не знали. Потом выяснилось, что не так-то уж и ничего. Точные науки большинство ребят вполне осваивало — брали соображением. И тут они были не хуже всех тех, с кем я учился раньше. Камнем преткновения была всяческая гуманитария: литература, история, даже география. Нет, пока надо было перечислить и показать (на карте), все шло более ни менее гладко. Трудности начинались для них тогда, когда проходили общие разделы, такие, допустим, как «Послевоенный передел мира», или дело касалось общих рассуждений — всего того, о чем у нас пренебрежительно говорили: «Ну, это — трепаться!» «Трепаться» они как раз и не умели, и отнюдь не только из природной молчаливости — не хватало общего культурного кругозора. Его труднее приобрести, чем положительные знания, без которых он, правда, немыслим, но прямо из которых сам по себе тоже не растет.
Им заражают, некоторых им и заразила наша «немка», в том числе моего приятеля, десятиклассника Сережу Напалкова, вроде такого же симского парня, как другие, его приятельницу, кончившую школу в прошлом году, и нескольких других. А кто-то ведь когда-то заразил этим и другого симского парня, ставшего потом знаменитым физиком, академиком Курчатовым. Но я тогда и не слышал об этом физике. Для меня первым Курчатовым был мой приятель, девятиклассник Саша Курчатов, сын командира, эвакуировавшийся сюда из Смоленска к родственникам отца. С ним, как и с Сережей, у меня было полное взаимопонимание, но он в отличие от Сережи не был местным.
Что же касается большинства остальных, то в их не соответствующем статусу девятиклассника культурно-образовательном уровне были повинны не учителя. Учителя, как я понял, занимались ими и в школьное, и в свободное время вполне достаточно. Но они не могли заменить непрочитанных книг, неуслышанных разговоров. Конечно, многое можно было наверстать потом, и некоторые наверстали бы (не один же Сережа на это был способен), но весной 1943-го, перед самым окончанием школы, их всех взяли в армию и почти никто не вернулся. Не вернулся и Володя Новиков, он был сыном нашей географички и, следовательно, пасынком Ивана Никаноровича, ни Саша Курчатов, ни почти все мои симские одноклассники. Не вернулся и сам Иван Никанорович, которого взяли примерно в то же время.
Я в это время уже кончил школу и работал на заводе. А ведь школу я кончал убыстренным темпом для того, чтобы уйти в армию. И больше всех говорил о своем желании пойти в армию. И по каким бы причинам это не сбылось, все равно факт остается фактом — я об этом говорил, а они пошли и погибли. Пошли и погибли не потому, что я об этом говорил, и я это знаю, но все же я жив, а они нет, и все равно тошно. Правда, в конце концов я таки в армию пошел, и практически добровольно. Но я этим нисколько не горжусь. Пробыл я там недолго, тяжело и бесславно — подлецом я не был, но толку от меня тоже не было… Надо было лучше знать себя и попусту не болтать. В восемнадцать лет это мне не было дано. Но об этом в свое время.
В этой школе я впервые столкнулся с тем, что учеба в старших классах — это, говоря сегодняшними словами, некий социальный статус. Разумеется, для таких мест, как Сим — значит, почти для всей страны, кроме больших городов. В поселке, разводненном москвичами, среди которых было много инженеров и вообще интеллигенции, это было теперь незаметно, но школа еще долго сохраняла местный колорит. Парням этот статус был более или менее безразличен, но девушки — особенно некоторые — несли его с большим достоинством. Впрочем, может, это и не так — я мало с ними общался и представляю их плохо. Но так мне казалось. Женщин всегда больше волнует статус.
Относились одноклассники ко мне и я ним вполне по-товарищески, но особой близости не было, не успело возникнуть. У меня слишком много времени уходило на учебу. Одна из причин моей гонки была та, что мне все равно некуда было деваться, а так мне любезно разрешали заниматься в школе после уроков. Поразительно, что я еще кое с кем общался — с теми же Напалковым, Курчатовым, еще с сыном маминой коллеги десятиклассником Додиком Брейгиным. А потом еще ходил в многотиражку, где писал злободневные стихотворные фельетоны. Учителя шли мне навстречу, принимали у меня досрочные экзамены в девятом, долгое время не вызывали, пока я догонял других, в десятом. Выпускные экзамены я сдал со всеми и на общих основаниях. Не то чтобы блестяще, но неплохо. Этап был снят.
Что я помню еще об этой школе? Помню бублики, которые продавались ученикам. Если было можно, мне давали два. Тогда в России было уже много голодных, но в нашей школе, похоже, пока я один. Жили мы и впрямь тяжело, и главное, жизнь опрокидывала все расчеты. Помню отец, узнав по приезде, что килограмм картошки стоит 2 рубля, четко расчислил наш рацион. Но такая цена и недели не продержалась. И ничто нас не спасло от вечного чувства голода, так что бублики эти были для меня весьма существенны. Кстати, первым из приезжих я стал ходить в лаптях — мне их сплел Александр Егорович. И я таким образом оказался законодателем моды — потом помаленьку стала стираться привезенная обувь и у других. В школу тогда еще никто в лаптях не приходил.
Помню, как на переменах я, когда наступала моя очередь в череде других старшеклассников, становился у дверей дежурным — обязанность моя была не выпускать школьников на улицу. Не думаю, чтобы младшим, пяти- и семиклассникам, так уж страстно хотелось на улицу, но, поскольку их не пускали, они считали делом чести прошмыгнуть мимо дежурного. Старшеклассники половчей в этой игре легко и весело одерживали верх, я для них поначалу был радостной находкой. Но когда я сказал старавшемуся прошмыгнуть крепышу, что мне собственно все равно, прорвется он на улицу или нет (я и теперь не знаю, почему их не выпускали), но меня за это будут ругать, — и он, и другие потеряли к этому спорту интерес. Раз человеку все равно, прорываться неинтересно. А бессмысленно подводить человека под гнев начальства в России не любят.
К сожалению, к «немке» такой человечности проявлено не было. Уж слишком она не монтировалась с общей картиной и не умела применяться к обстоятельствам. Характерный пример. Идет урок, а ученик Деулин, парень вовсе не плохой, но от традиций Императорского университета и даже современного ИФЛИ весьма далекий, думая о чем-то, машинально что-то пририсовывает к картинке в учебнике. Учительница это видит и в ужасе восклицает:
— Деулин! Что вы делаете?!!
Деулин, полагая, что не делает ровно ничего против школьной дисциплины, так и отвечает:
— Ничего.
— Покажите вашу книгу, — говорит она трагическим тоном. Деулин показывает. Ужас нарастает, глаза закатываются:
— Как вы обращаетесь с книгой? — и наконец, когда возмущение достигает крайней точки: Вандал!
Естественно, класс заливается хохотом. Деулин ничуть не оскорблен, его это только забавляет, но, стремясь извлечь из положения максимум удовольствия, начинает возмущаться:
— Это вы что такое! Это фашисты вандалы, а вы это про меня.
Несчастная «немка», приученная всей своей жизнью бояться «политики», теряется, снижает тон, но позиций не сдает. Не сдает позиций и Деулин. Класс веселится… Смешно было и мне. А ведь она мне показывала переписанные стихи хороших поэтов. Что это, юношеский конформизм? Отчуждение и отстранение от остатков «отжившего мира»? Но это — жестокость.
Жила наша «немка» и без того трудно, а тут вдруг столовые, где она питалась, стали закрытыми, прикрепленными, и она просто стала голодать. Я это знаю хорошо от своей приятельницы, вместе с матерью принимавшей в ней сердечное участие. По иронии судьбы отец этой девушки был героем Гражданской войны, другими словами, активным представителем силы, обездолившей ее (в Сим он был прислан в качестве начальника пожарной охраны завода), и вот только в семье этого еврея-кавалериста, никогда ничего и не слыхавшего ни о каком Гумилеве, она получала сердечное сочувствие и хоть какую-то помощь (последнего я оказывать и не мог, но хотя бы сочувствие!). Но все равно ее выставили из школы — те самые люди, которые проявили столько участия ко мне. Куда она пошла, одинокая и больная? Кто где у нее был? Или перевели в еще большую глушь, чем до войны Сим? Хочется верить, что ей там больше повезло — в еще большей глуши иногда сохранялось больше человечности. Но ведь время-то было какое…
Я очень редко вспоминал о нашей «немке». Конечно, и особенной близости не было, и роли никакой особой она в моей жизни не сыграла, и греха на мне особенного нет, я ничем тогда не мог ей помочь — сам нуждался в помощи, — все так. Наверное, и вспоминать было неприятно — уж слишком мы научились проходить мимо человеческих судеб. Но стал писать — пришлось вспомнить.
Но жизнь — длилась. И была в ней, кроме школы, заводская многотиражка, с которой, как упоминалось, я связался, еще будучи школьником. Мне очень хотелось помогать фронту, чем могу. Маяковский освятил работу поэта в газете, не просто публикацию в ней своих произведений, а именно «работу» — выполнение любых «боевых» заданий редакции, и я свято верил, что она очень нужна и важна. Но у Маяковского это было связано со штурмом высот старого мира и созданием нового, входило органической частью во всю противоестественную систему ценностей левого интеллигента (я в этом ему следовал), а сейчас шло не создание нового мира — шла Отечественная война, вроде бы знаменовавшая переход к ценностям традиционным.
Я очень тяжело переживал этот переход, хотя очень скоро сквозь завесу казенного восхваления стал ощущать подлинную прелесть России, Россию, как самостоятельную культурную, а может, и духовную (тогда я таких понятий не знал) ценность. Этому способствовал жизненный опыт, постепенное его освоение.
Как это происходило, как взаимодействовали в моей душе реальность России и химера революции — об этом речь уже была и еще будет: об этом вся книга. Но тогда я еще сильно переживал за судьбу «старых» (то есть нетрадиционных) ценностей. В каком-то смысле мое тогдашнее состояние передают следующие четыре строки, оставшиеся от какого-то забытого тогдашнего стихотворения:
Так пускай сохранятся для будущих дней, — Я сейчас лишь поэт, лишь душа, не вития, — Эти муки последних советских людей, Не умевших понять, где свои, где чужие.Так что я тогда еще совсем не распростился с этим «советским», и в газету я шел без всякого сомнения или сервилизма: «место поэта в рабочем строю» мне казалось делом естественным. Трудно сегодня говорить о разумности этого «места». Дело, на службу которому Маяковский поставил перо, было делом неправым, принесшим его стране неисчислимые несчастья, с точки зрения эстетической больших успехов на этом пути он не имел, хотя жанр газетного фельетона в стихах, может быть, и законный жанр. Но этим могут заниматься и не поэты. Обо всем этом я тогда не думал.
Редактор Зиновий Самойлов Шпильман (имя, фамилия и отчество редактора вымышлены, хотя я помню и подлинные) встретился со мной где-то около завода, поговорил, попросил даже что-то из моего прочесть, спросил, приходилось ли мне писать для газеты, и узнав, что я печатался в газете киевского «Арсенала», дал мне пробное задание. Написать несколько призывов, в том числе — я его единственный и запомнил — беречь электричество (с топливом было плохо).
По этому поводу я написал следующие пламенные строки:
Чтоб лампа час светила нам, Угля уходит триста грамм. Товарищи! Гасите свет, Когда в нем надобности нет.Кажется, это потом даже расклеили в виде плаката. Не знаю, может, кто и в самом деле после этого стал, уходя, чаще гасить свет, но я в этом не уверен. Так или иначе, мне выписали пропуск, и я стал регулярно бывать в редакции. Стал под псевдонимом Наум Злой печатать стихотворные фельетоны и другие стихотворные поделки. Фельетоны — поскольку все они были на местные темы — находили некоторый отклик. Я получил возможность обедать в рабочей столовой, что много для меня тогда значило. Мы голодали.
Редакция состояла в основном из вполне приятных, но случайных в профессиональном смысле людей. Напряженности возникали чаще всего вокруг редактора, который один в этом коллективе был профессиональным журналистом — он был старым по тем временам советским газетчиком, до войны работал в «Московском комсомольце». Думаю, что он был неплохим человеком, но с другими неплохими людьми в своем коллективе ладил плохо. Это бывает. Не помню, в чем бывало дело, но помню, что нарекания на него, хотя подчас принимали входившую тогда в моду антисемитскую окраску, сами по себе бывали справедливы. Окраска эта меня смущала не столько даже потому, что была обидна лично мне, сколько потому, что нарушала мое представление о советском обществе. Но люди, которые это допускали, не всегда бывали мне неприятны и относились ко мне хорошо. Антисемитами они не были. Потом я понял то, что до многих не доходит и по сегодня — что и в этом вопросе не всякое лыко в строку. А тогда все было напряжено, все трещало.
К редактору при всем том я тоже относился хорошо. Впрочем, как и он ко мне. Критические мои мысли о нем не связаны ни с личными отношениями, которые не испортились до его ухода в армию, ни с изменением моих чувств, а только с более поздними историческими размышлениями. Просто сегодня я не такой, каким был тогда. Да ведь и неизвестно, каким бы под давлением событий стал бы потом (если выжил) он сам. А тогда он, помимо всего прочего, был мне просто очень интересен: шутка ли, московский газетчик! И, действительно, он знал многих и многое, помнил много газетных баек…
Особенно много мне рассказывать о газете нечего. Работали там взрослые женщины и относились ко мне как к мальчику, которым я и был, по-матерински. Даже недолго у нас проработавшая беременная жена командира Красной Армии, которой действительно приходилось тяжело и которая поносила всех и вся, особенно евреев. Возмущали ее даже старики-евреи, которых она встречала в поездах и на вокзалах во время эвакуации, возмущали тем, что им умирать пора, а они куда-то едут, места занимают, в то время как и молодым мест не хватает! Она прекрасно знала, что я еврей, вовсе не хотела меня обидеть, но приходилось ей туго, и все (не только евреи) ей действительно мешали.
Меня в ее рассуждениях поражал не антисемитизм, а убеждение, что, если мне тесно, то лучше б мои спутники передохли. Она словно не знала, что такой строй чувств стыден и лучше его перебороть, а если невозможно, то хотя бы скрыть (ведь это не было обвинение в чем-то дурном, а в желании жить), но ей было плохо, а креста на ней не было. Это — надеюсь на время — и открывало дорогу одичанию, в ее случае принимавшему и форму антисемитизма, как наиболее удобную. Но и русских ее ярость не жаловала. Бог ей судия, ей ведь и впрямь было худо. На нее я не сердился, больше жалел. Но встречался я и с другими видами антисемитизма, менее извинительными.
Врезался в память, поразив меня по первости, например, такой случай. В редакцию «на огонек» захаживало много людей, среди прочих один инженер, заведующий лабораторией, человек, как мне тогда казалось, интеллигентный. Отношения у меня с ним были вполне шапочные, но вроде доброжелательные. Любил он слегка закладывать и по своему положению завлаба имел к тому возможности. Однажды, в состоянии весьма среднего подпития натолкнувшись на меня где-то в уголке заводского двора, он вдруг тихо, как-то даже интимно и проникновенно, но очень недоброжелательно спросил, указывая пальцем на мои лапти:
— Зачем прибедняешься? У папки твоего небось миллион припрятан…
Я настолько растерялся, что чуть было не пустился рассказывать историю нашей эвакуации, которую он, кажется, и без того знал. Я был потрясен. Инженер! Интеллигент! И верит в того же еврея с миллионом на базаре! Только этим евреем оказываюсь я. Как же так! Дело было не в антисемитизме, а в примитивной глупости, которую не стеснялся произносить этот неглупый человек. И все-таки интеллигент. Я тогда не знал, что советская интеллигенция — особая поросль. Что она — результат поспешной подготовки «кадров», значит специалистов. Что специалисты таким путем хорошими получались далеко не всегда, а интеллигенты — еще реже. Что, созданная искусственно, на долгие годы она окажется главной скрепой противоестественного порядка вещей, основой сталинщины.
Конечно, сталинщина унаследовала все результаты той войны против Духа, которая вдохновенно или казенно велась с 1917 года. Конечно, ее коллективизация и тотальное оглупление народа в конце тридцатых подняло общее расчеловечивание на новую, более высокую ступень, но все же человеческие отношения поразительно долго не поспевали за этими великими историческими изменениями. Член НТС Г. С. Околович, в прошлом офицер Белой армии, который в конце тридцатых, нелегально перейдя границу под Негорелым, несколько месяцев провел в СССР, говорил мне, что все россказни о повальном огрублении народа не подтвердились. Люди в поездах были вполне вежливы и ничем особым его не удивили. Мне кажется, что на человеческом уровне природа сталинского государства на самом деле проступила во время войны. Впрочем, и не социальном тоже. Но об этом еще будет речь.
С газетой связано еще одно острое впечатление — прикосновение к тайнам. А именно — радиоприемник. У всех граждан приемники были отобраны в начале войны, а в редакции он был. Для того чтоб записывать официальные материалы и в первую очередь сводки Совинформбюро — их ежедневно в определенное время раздельно и медленно читала дикторша из Москвы. Иногда в эти передачи вплетались немцы. Немецких передач полностью я не слышал ни одной. Только однажды услышал сводку, где была удивившая меня фраза: «По всему фронту германские войска вели тяжелые бои с советами» — видимо, в противовес нашему «с фашистами» (официально — «с немецко-фашистскими войсками»). Я удивился, что наших солдат и офицеров называют советами. Теперь я думаю, что это так эмигранты, сотрудничавшие с немцами, переводили немецкие сводки — по всей видимости, по-немецки звучало — «с русскими» или «с русскими войсками». Но так они могли сказать о себе. А про себя Гитлер лучше знал, против кого воевал. А однажды летом 42-го я услышал и более пламенный пассаж: «Поруганная казацкая честь, вырванная казачья сабля, уничтоженная казачья слава — вот что сделали жиды и коммунисты!» Слова были непривычны, а голос и интонация были вполне знакомые, обкомовские. С модуляциями 1953-го.
Впрочем, слушать мне этого не полагалось, я не был штатным сотрудником редакции и не имел, как потом это называлось, допуска. И редактор, несмотря на хорошее отношение ко мне, прямо запрещал это. Однако я слушал. Больше из любопытства. Хотелось представить, что происходит там, откуда я приехал.
Но вернемся к редактору. Я не знаю, насколько он котировался в Москве. В конце войны в «Московском комсомольце» его никто из тех, кого я спрашивал, не помнил. Но, может, я спрашивал не тех, все быстро менялось. Лет ему было тогда «в районе сорока» и был он уже, повторяю, сравнительно старым советским журналистом. Хотя «старым» в 1942 году мог считать себя человек, проработавший лет 15–20 в советской печати. Кой-какой опыт у него действительно был.
Был он, как я теперь понимаю, из тех «еврейских мальчиков», которые идентифицировали себя с советской властью, делали это со всей страстностью и самоотдачей, но при этом не очень понимая мотивы собственного энтузиазма. Дескать, как же эта власть не самая справедливая, если она им дала «все». Не замечая при этом, что это «все» она при помощи (в том числе) их активности и неграмотного энтузиазма отнимала у других, иногда у более достойных, отнимала чаще еще не для перераспределения, а просто так, «чтоб у тех не было» — из классовости. Между тем, это «все», точнее, равные возможности, дала этим мальчикам вовсе не большевистская, а еще «буржуазная» Февральская революция, но она была давно, быстро кончилась, а в пропагандистское представление о ней никакие заслуги не входили.
Такими «мальчиками», получившими «все» и так это воспринимавшими, были и бывали тогда и потом не одни только евреи. И не все евреи были такими «мальчиками» — в наше время приходится оговаривать такие очевидности. Эта благодарность за «все» была чертой слоя, даже легальным критерием верности (ведь материалисты!), и с национальностью это не связано.
Но был и особый еврейский тип. Перепад давления — от официальной приниженности до причастности к абсолютной власти — не только громаден, он вообще непредставим. Эти мальчики чувствовали себя хозяевами всего, причастными ко всему и судьями всего. Кроме линии партии. К ней относились религиозно, но все же по-разному.
Более честные и чуткие из них чувствовали неблагополучие в их вере — ведь это еще была и вера — и приставали к оппозициям, а то и вообще что-то понимали и уходили. Но большинство, как и вообще большинство партии, сохраняло верность любой наличной линии партии. Опять-таки не очень углубляясь в свои мотивы. Некоторые, забредя в оппозицию, потом сознавали ошибки и в испуге возвращались на круги своя. Ведь верой большинства из них была сама партия, которая дала «все» — как же они могли быть вне ее! Но и в этом случае (имел ли к нему отношение Мильман, не знаю, — мне он такого по понятным причинам не рассказывал) они по-прежнему чувствовали себя при власти, чем бы ни занимались. И, по-прежнему, не только долгом, но и честью считали «понимать» ее веления. Государственный антисемитизм должен был ранить их в самое сердце, но в сорок втором он только разворачивался, действовал по-сталински исподволь, так что походил то на чье-то самоуправство, то на очередную тактику. Отчасти он и был тактикой.
Сталин, конечно, и лично был антисемитом, но он с этим мог не считаться. Однако тут он убоялся утверждений гитлеровской пропаганды, что советская власть, и без того после его коллективизации не очень популярная, — к тому же вообще власть еврейская, и поспешил отмежеваться от евреев-коммунистов (если в чем и виновных, то в том, что шли за ним).
И это не могло ограничиваться войной. Когда государство занято распределением, а единственное, что оно может распределить — власть (она-то и связана с благами), инородцы в ее составе — фактор ослабляющий. Так что неудивительно, что в первую очередь удар был направлен именно против этих бывших «еврейских мальчиков». Теоретически и против меня. Но я как-то никогда не тосковал о невозможности быть властью, а упомянутые «мальчики» с ней слились. Государственный антисемитизм, исходящий от родной партии, должен был выбить у них всякую почву из-под ног, духовно их убить.
Но тогда, в сорок втором, они еще этого не видели. И чувствовали себя вполне комфортно. И по-прежнему многие из них, заносясь, не умели видеть себя со стороны. Мильман тоже. В этом и был источник его конфликтов с сотрудницами.
Надо ли доказывать, что считать этих «еврейских мальчиков» наиболее распространенным типом представителя правящего слоя или — хуже того — просто типом молодого еврея тех лет — опрометчиво. Должен сказать, что Мильман был, пожалуй, первым таким на моем пути. В моем окружении таких просто не было. Может, потому, что я жил не в Москве, — не знаю. Да и он особой карьеры не сделал. Я ведь говорил не о реальной, а духовно-эмоциональной причастности к власти.
Кстати, я вовсе не считал и задним числом не считаю его дурным человеком. Он был скорее добрым, зла никому не делал. По существу он к сотрудницам относился хорошо, но по форме не всегда. Национальных предпочтений к евреям (как «еврейский мальчик») не проявлял. Вероятно, был излишне напорист, и это раздражало.
Кстати, знаю я и человека, который его подсиживал. Тот был из мальчиков не еврейских, из русских (по никак не из «русских мальчиков» Достоевского), но был хуже, чем Мильман. Хотя в первый раз, появившись в школе в качестве партприкрепленного, произвел впечатление своим докладом о неизбежном крахе Германии. Во второй раз все его экспромты, шутки и пассажи повторились без изменений в том же, надо сознаться, балаганном виде. Несколько раз он появлялся в редакции — от парткома, кажется, — и весь его вид выражал готовность к придирчивости. Он явно метил на место Мильмана. Но Мильмана не съел, а попал в районную газету. Я к нему заходил (тогда ведь обо всем этом я не думал), все-таки человек пишущий, встретил он меня сухо и враждебно. Видимо, я для него был человеком Мильмана. Не преминул он и отомстить за неудачу с подсиживанием. Поскольку его газета считалась вышестоящей (попробуй объяснить западному человеку, что это значит), он дал там по нас в «Из последней почты». Придрался, не помню к чему — реальной политической ошибки Мильман бы не допустил. Пришлось — таков был ритуал — признавать допущенную ошибку.
В этом человеке ощущалось то, что потом называлось аппаратчик, сталинский аппаратчик, чувствующий себя в этих играх как рыба в воде. Тем более, время шло ему навстречу. Мильман аппаратчиком не был. Может, поэтому он в конце концов угодил на фронт, а его вышестоящий конкурент остался ценным кадром при броне.
Думаю, что ценность работы обоих, мягко говоря, относительна, но Мильман все же был газетчиком. Да не истолкуют меня так, что евреи все не были аппаратчиками, а русские были. Тогда еще и евреи были. Им еще ощутимо не начали отказывать в этой чести. Но с этими двумя все обстояло именно так.
Впрочем, я вовсе не собираюсь тут слагать панегирики Мильману. Скорее наоборот, предваряю тем, что можно сказать в пользу «обвиняемого» мысли о нем, которые вовсе не были бы ему приятны. Конечно, как и о других работниках редакции, я не знаю, все ли верно в моем сегодняшнем перетолковании тогдашнего восприятия, отчасти максималистско-требовательного (угодить в моем представлении в «мещане» было тогда очень просто), отчасти юношески не оформленного. Но это умственное отношение, по-человечески я был к ним ко всем вполне расположен и за многое благодарен, с чем и остаюсь. Эпизод моей работы в редакции был слишком краток, а в реальной жизни взрослых людей я понимал тогда так мало, что, ей-Богу, этого достаточно.
Но на самом Мильмане я задерживаюсь больше, поскольку он больше общался со мной интеллектуально, воспитывал меня, и, кроме того, потому, что он представляет сегодня интерес как исторический тип, давно уже сошедший со сцены. В жизни те, кто раньше относился к этому типу, продолжали существовать, психологически он исчез, перестал ощущаться. Антисемитизм потом направлялся против интеллигентов еврейского происхождения (с тайной целью задеть интеллигентов вообще), а о них просто забыли. Вспоминают только сейчас — в поисках виновных. Но в 1942 году, после всех процессов над былыми своими вождями и кумирами, этот тип еще существовал, во всей своей строго оберегаемой инфантильности и внутренне — в мыслях и чувствах — оставался все тем же функционером советской власти, как был всегда. И того, что с ним уже фактически покончено, старательно не замечал. «Так, конечно, приходится партии в силу обстоятельств кое-что делать в этом направлении, но по существу — что вы!» Так рассуждали и многие партийцы-неевреи — как про все до сих пор, так и про самих себя.
Но это мои нынешние мысли, с Мильманом мы об идущем с верхов антисемитизме не беседовали. Может, и повода еще не было, только неопределенные слухи, в которые и я не верил. Беседовали мы о другом — о партии и ее печати…
Помню, как убежденно доказывал он мне целесообразность того, что газета не имеет права критиковать директора — партии нужен его авторитет. Я с этим не соглашался. Кто был прав?
Я давно уже понимаю, что все это глупость, ностальгия по «настоящему комсомольству» начала тридцатых, которая «легкой кавалерией» атаковала все и вся направо и налево, невзирая на лица и на собственную некомпетентность. Думаю, что и Мильман принимал в этом живейшее участие, но тогда власть нуждалась в козлах отпущения и в опорочивании всего, что было до нее. Теперь она нуждалась в другом, Мильман воспринял и это — тем более и старше стал. Вот и разъяснял мне.
Впрочем, я и сегодня считаю, что критиковать директора, тем более за то, за что его собирался критиковать я — за плохое продовольственное снабжение рабочих, работу ОРСа и т. п., — нашей газете не следовало. Просто потому, что он в этом не был виноват. Но я вообще считаю существование газет, борющихся за производство, нелепостью. Мильман тогда так, естественно, не считал. Просто раз партия нуждается в авторитете, то и все. Поскольку я уже однажды натолкнулся на создаваемый партией авторитет, то я с этим, естественно, спорил. И вдруг на вопрос, как же можно создать авторитет, если его нет, он мне серьезно ответил:
— Можно. Вот мы (имелась в виду печать) создали авторитет Буденному.
Я опешил… Как и для всех советских детей, авторитет Буденного для меня был чем-то существующим со дня творения. А тут оказывалось — создан. Но Мильман этим гордился: да-да, партия при помощи печати может создать авторитет любому, кому сочтет нужным. Я не знаю, понял ли Мильман когда-нибудь страшный смысл своих слов. Я понял их нескоро.
Дело не в Буденном. Я ничего против Буденного как человека не имею. Пристал не к тому делу, так ведь не он один. В тридцать седьмом году он проявил незаурядную трезвость и самостоятельность в оценке ситуации (может, потому что плохо усвоил диалектику и сохранил простонародный здравый смысл), а также сноровку, и виртуозно спас нескольких своих друзей, да и себя самого, от бессмысленных преследований, а то и гибели.
Но что значил, во что обошелся его и Ворошилова искусственный авторитет в военном деле — общеизвестно. До войны они этим авторитетом погубили или помогли погубить военных профессионалов и грамотно составленные планы подготовки армии на случай войны, а во время войны — каждый по фронту.
Возможность искусственно создавать и рушить авторитеты — одно их «гениальных» открытий великого Сталина, за которым люди, имеющие реальный авторитет, не шли. Он и чужие заслуги конфисковывал, рядился в них сам или раздавал клевретам. Все это гармонично, как неотъемлемый элемент, входило в ту ложную реальность, которую он в мозгах всего народа и тем более партии создавал вместо подлинной. И, по-видимому, сам оказывался в плену собственной лжи, собственной социально-психологической инженерии, собственной дьявольщины.
Но Мильман тогда страшных последствий могущества той силы, к которой принадлежал, не видел, о ней не думал, хоть они были налицо.
Допустим, коллективизацию, он, как многие, не заметил и легко объяснил. Но ведь тридцать седьмой год он пережил, и там, где шел отстрел. Что происходило в связи с этим в его душе? Не знаю. Не помню, чтоб мы с ним когда-либо разговаривали о тайнах этого времени. Но самолюбивую гордость своей партийности он сохранил полностью.
— Ну и тип! — возмущался он одним из начальников цехов. — Я его насквозь вижу. Он беспартийный!
— Ну и что? — удивлялся я.
— Ты что думаешь, он как твоя мама беспартийный? Беспартийный и беспартийный, и взятки гладки? Не-е-ет! Он бес-пар-тий-ный! Принципиально беспартийный!
Деля мир на обывателей и идейных, я тоже настраивался против этого злостного беспартийного, но когда его видел, то он мне нравился. Собранный, доброжелательный. Мне кажется, что и в словах Мильмана, кроме ярости, звучало и восхищение, и даже зависть. Но была в них и реакция на несвоего. По-видимому, тот был человеком высокой культуры. Боюсь, что в более молодые годы эта «идейная» ярость Мильмана могла выразиться в формах более опасных для ее объекта, но и сомневаюсь — человек он был добрый.
С Мильманом связано у меня одно многозначительное событие, как бы предвосхитившее мой опыт — первый «контакт» с ГБ. Контакт невинный и как будто для меня безопасный. Не имевший последствий, но давший мне возможность ощутить холод щупальцев этого учреждения. Но я своему ощущению не поверил — уж слишком бессмысленно было то, что я ощутил. С точки зрения любой, даже самой террористической политики. Но сталинщина не была политикой.
А началось так. В мужской уборной появились карикатуры на Сталина с антисоветскими и даже прогерманскими частушками. Это было аккурат в разгар наших поражений на Юге. Редактор поручил кому-то все это списать, запечатал в конверт и попросил меня по дороге домой занести это в милицию и отдать уполномоченному МГБ тов. Баранникову. Тов. Баранников занимал в милиции один из кабинетов и сам был в милицейской форме. Приняв от меня письмо, он, вместо того чтобы, отпустив меня, погрузиться в его изучение, усадил меня на стул и стал расспрашивать о работниках нашей редакции: какие люди, как настроены и т. п.
Я никак не мог понять, чего он от меня хочет. При чем тут работники редакции, ведь не их же подозревает тов. Баранников в написании частушек. Тем более, частушки появились в мужской уборной, а они все, кроме редактора, женщины. Я никак не предполагал, что тов. Баранников ничего даже не узнавал — он просто на всякий случай копал. Естественно, я ничего дурного ни о ком не знал и не сказал, но ушел от тов. Баранникова в большом недоумении. При всех моих прозрениях я все-таки не представлял, что это самое главное зло нашей жизни в быту выглядит столь примитивно. А мой школьный товарищ, Додик Брейгин, размышлявший о политике гораздо меньше меня, сразу понял, чего хотел этот «чекист» — любого материала на любого человека для дальнейшего использования. Ларчик открывался слишком просто. Нормальные люди это все понимали как имеющий место факт действительности — при любом отношении к власти. Я потому и не понимал, что «мыслил» — логики тут не было.
Что же касается этих надписей, то тогда я искренне верил, что это работа вражеской агентуры. Сегодня я давно так не думаю. Людей, у которых были основания ненавидеть Сталина и без вражеской агентуры, было много. Неудивительно, что некоторые из них в раздражении — на тяжелые условия, на унизительные поражения и тому подобное, всего не перечислишь, — возлагали в тот момент (лето сорок второго) надежды на Гитлера. По принципу: враг моего врага — мой друг. И больше полемически, назло, а не на самом деле. В этом я убедился, начав работать в цеху.
Свердловская вылазка
В эвакуации моя мечта поступить в ИФЛИ не прошла, хотя, рассказывая о школе, я как-то упустил ее из виду. Впрочем, это неудивительно — ее затмевают иные воспоминания. Но тогда она занимала большое место в моих мыслях и планах — я собирался пообщаться с близкими по интересам людьми, а потом уйти в армию, в газету. Поэтому, когда школа была закончена, я отправил свои документы в Ашхабад (теперь и это заграница!), куда, как я узнал из газет, эвакуировался этот институт. Вызов пришел уже из Свердловска, и не из ИФЛИ, а из МГУ, т. к. в связи с военными трудностями ИФЛИ теперь временно (оказалось, что навсегда) влился в МГУ. Для меня это ничего не меняло, к тому же Свердловск был от нас намного ближе, чем Ашхабад), и я начал собираться в дорогу.
Впервые в жизни я отправлялся в путь один, совершенно самостоятельно. Правда, я уже приобрел некоторый опыт самостоятельного передвижения, отстав в Уфе от эшелона и потом экстренно нагоняя его, но это был опыт особый, вынужденный. К этому следует добавить, что и до войны и с родителями я не предпринимал слишком далеких поездок — все в пределах первоначальной (начала тридцатых — потом она разделилась) Киевской области, ни одна из поездок не длилась дольше пяти часов. Конечно, плаванье по эвакуационному морю длилось дольше, но кто бы назвал это поездкой? А теперь мне предстояла именно поездка, почти нормальная.
Странное это дело — нормальная поездка в начале осени 1942 года! Наши войска отступают к Сталинграду и Кавказу, каждый день сдаются города, находившиеся, как до этой войны думали, в глубоком тылу, в Киеве уже год как немцы, а я, получив на заводе командировочное удостоверение, отправляюсь в Свердловск. И хотя командировка вроде бы не липа — в ней прямо говорится, что я командируюсь на учебу, но все же на ней стоит штамп Министерства авиационной промышленности, и выдана она из уважения к моим «заслугам» для облегчения моего «путешествия». В общем — никуда не денешься — «по блату». По пропуску, полученному в милиции на основании институтского вызова, ездить было бы труднее.
Впрочем, я этого еще не понимаю — я пока к этим своим «заслугам» отношусь серьезно. И мелкая привилегия за их счет мне не кажется грехом. Тем более, все ведь окупится с лихвой. Впрочем, жизнь настолько уже пронизана блатом и привилегиями, и касаются они столь элементарных вещей и обстоятельств, что иногда кажутся естественными. Думать о них вплотную я начну скоро, но еще не начал. Сейчас я преисполнен одним — я еду. Один, в самостоятельную, взрослую жизнь.
Родители мои были преисполнены тем же, но в иной тональности — именно это их и тревожило. Но пока все складывалось хорошо. И опять с помощью блата. И в более чистом виде, чем командировочное удостоверение.
Наш сосед по квартире, начальник отдела сбыта завода, попросил заведующего заводским складом при станции, с которым имел дела по службе (если помнит читатель, завод и поселок Сим расположены были в нескольких километрах от станции), помочь мне. И дал соответствующую записку к нему. С тем я и выехал — не помню, могли ли родители меня проводить. Ведь отъезд мой вопреки предположениям вовсе не оказался фундаментальным прощанием с домом, и неудивительно, что в памяти он заслонен иными прощаниями.
Заведующий заводским пристанционным складом оказался широкоплечим, крепким, сосредоточенным, не слишком любезным деловым мужиком — никак не героем моего тогдашнего — глупого — романа. Безразлично пробежав глазами записку моего соседа, он велел мне отправляться на вокзал и там ждать. Как объявят о приближении поезда, появится и он.
И я стал ждать. К столь неформальным деловым отношениям я еще не привык и ощущал свое сиротство. Конечно, ждали меня впереди беседы с интересными людьми, газета, интересная жизнь, но до всего этого надо было добраться. А этот завсклада мог и не прийти… Объявили о прибытии через десять минут скорого поезда № 15 «Москва — Челябинск» (кажется, он и теперь ходит под этим номером), но еще до этого объявления завсклада появился, взял у меня деньги и документы, подошел к еще не открывшейся кассе, вернулся с билетом и повел на посадку.
Что было дальше? Подошел поезд — он стоял тут минуту или две. Завсклада быстро подавил ритуальное сопротивление проводницы, кричавшей, что мест нет, и буквально всунул меня в вагон. Проводница проверила билет и смирилась — с этой минуты я уже был для нее своим. Я был счастлив, узнав от завскладом, что еду в плацкартном вагоне. Это было, как и многое тогда для меня, впервые в жизни. До этого мы в лучшем случае ездили в вагонах, где плацкартными были только средние полки (после войны их называли комбинированными, но существовали они и до войны), но наши места и в них были всегда сидячие. «Плацкартные тесные полки» были окружены для меня романтикой дальних странствий и ответственных командировок. А тут — я сам! При этом я попал в вагон не просто плацкартный, а — купированный, а я ведь и о существовании таких вагонов понятия не имел. И поначалу решил, что такие вагоны — с длинным коридором и выходящими в него купе — и называются плацкартными. Простор и роскошь этого вагона меня поразили. Что этот вагон не просто плацкартный, я понял только следующей ночью, когда, получив в Челябинске плацкартное место до Свердловска, оказался в обычном плацкартном вагоне.
Вагон вопреки первоначальным воплям проводницы явно не был перенаселен. Купе, куда меня привела проводница, до меня занимал только один человек. Он явно обрадовался юному попутчику, сразу понял, какого я поля ягода, и встретил меня очень радушно. Разговорились. Выяснилось, что он крупный радиоинженер, лауреат Сталинской премии, которую получил за создание (или участие в создании) нового типа портативной фронтовой радиостанции (рации), и сейчас ехал из Москвы на Урал по служебным делам. Фамилию свою он назвал, но за давностью лет она позабылась. Что-то вроде Недзвецкий. Таким образом, едва перешагнув порог купированного вагона, я сразу очутился в «высшем обществе» — в таком, в каком до этого еще ни разу не бывал. Оказалось оно в данном случае вежливым и интеллигентным. Впрочем, и потом еще долго социальная стратиграфия отражалась на пассажирских поездах именно так — высокая интеллигенция ездила в купированных.
Попутчик проявил ко мне интерес. Слово за слово, дошло и до стихов. Стихи я тогда читал охотно и кому угодно. С любопытством выслушал и стихи. А были они по тем временам особыми. По многим соображениям я их сегодня не включаю в свои сборники, но слушание их тогда представляло серьезную опасность. Например, таких (мыслившихся вдобавок началом поэмы):
Да, не забыт и до сих пор он В проклятьях множества людей, Метался ночью черный ворон, Врагов хватая и друзей. Шли обыски и шли собранья, Шли сотни вражеских клевет. Им обеспечено заране Участье власти и привет. За слово несогласья сразу Кричат: «Шпион!», хватают: «Стой!» — А кто бывает несогласен? — Тот, кто болеет, тот, кто свой. А вот завмагам дела нету, Каков в дальнейшем жизни ход. У них в карманах партбилеты, Как неединственный расход. Я стал писать о молодежи Да, о себе и о друзьях. Молчите, знайте: я — надежен. Что — правды написать нельзя? Не я ведь виноват в явленьях, В которых виноваты вы. Они начало отступленья От Белостока до Москвы. … … … … … … … … … … … … … … … Россия-мать!.. Не в этом дело, Кому ты мать, кому не мать. Ты как никто всегда умела Своих поэтов донимать. Не надо списка преступлений: И Пушкина на дровнях гроб, И вены взрезавший Есенин, И Маяковский с пулей в лоб. Пусть это даже очень глупо, Пусть ничего не изменю, Но я хочу смотреть без лупы — В глаза сегодняшнему дню. Что ж, можешь ставить на колени. Что ж, можешь голову снести. Но честь и славу поколенья Поэмой должен я спасти.По совету Николая Глазкова я потом слово «поэмой» заменил словом «стихами» для точности, поскольку поэму эту я тогда так и не написал. Тут я привел первоначальный вариант, ибо его и читал. Но это — к слову.
Конечно, стихи эти, написанные не позднее весны 1942 года шестнадцатилетним школьником, далеки не только от совершенства или от приобщения к подлинным духовным и жизненным ценностям, но и от по-настоящему трезвой оценки исторических событий, какая сегодня доступна или по общепринятости кажется доступной многим. Стихотворение несет на себе печать этих блужданий. Но о том, как и в каких трех соснах в те годы блуждал и путался Живой Дух, я уже писал и еще буду писать. Здесь для меня важно, как это звучало тогда.
Невозможно сегодня воспроизвести этот разговор, первый на моем самостоятельном пути — я не помню подробностей, даже буквального содержания. Помню, что он был откровенным — настолько, насколько мы понимали самих себя и происходящее. Конечно, шла война, и она не могла не влиять на его характер. С одной стороны, фронт опять двигался в ту же сторону, что и наш поезд — на восток, и это рождало мысли о причинах, с другой — мы не могли не желать нашей победы, и это занимало нас больше, чем любая оппозиционность, как бы умеряло ее.
Впрочем, и критика ведь была с точки зрения победы. Знали б мы, как преступно по отношению к своим велась эта война в те же дни на сравнительно тихих участках фронта в боях «местного значения» — чаще всего «для галочки»! Но, к счастью, мы этого не знали. Не понимали этого до конца и те, кто сгинул в этих боях, — они могли считать то, что успевали увидеть на своем узком участке, частностью большой войны. А это было сущностью отношения сталинщины к людям и к жизни. Этого мы не понимали, не думали, этого не было и в моих стихах. Но кое-что, за что тогда снимали голову, в них все-таки было.
Во-первых, само упоминание проблемы уже было крамолой, оно что-то расколдовывало при любой позиции автора, во-вторых, стихотворение содержало стенания по поводу несправедливости по отношению к честным большевикам. А это тоже было крамольно, и тоже расколдовывающе — поскольку жертвы «ежовщины» должны были восприниматься не как честные большевики, а как вовремя и гениально ликвидированная «пятая колонна».
Мало того, стихотворение прямо говорило об «участьи власти» в подавлении всякой личной ответственности («тех, кто болеет, тех, кто свой») — и даже о последствиях этого — о том, что это было началом нашего «отступленья» 1941 года. В каком-то смысле пафос этого стихотворения улавливал существенные черты и признаки сталинского переворота, хотя до определения «переворот» — ни я, ни мой нечаянный спутник не доходили даже в своем сознании. Конечно, это было далеко не все, что предстояло еще открыть, чтобы осознать нашу (а только ли нашу?) трагедию — и мне лично, и обществу в целом, — но это было преодолением одного из заслонов на этом пути. И наказывалось — свирепо.
И, конечно, мой спутник это последнее понимал прекрасно. Помню, что он убеждал меня быть осторожным — не все меня правильно поймут, и могут произойти неприятности.
Характерная деталь: оба мы себя и друг друга не считали антисоветчиками, нас могли только неправильно, а, точнее, недобросовестно понять. Мои стихи предоставляли для этого богатые возможности. Я это по младости сознавал чисто теоретически и поэтому читать их не боялся. Но ему-то уж было в районе сорока. Тем не менее не припомню, чтобы мои стихи вызвали у него испуг или защитные реакции. Нет, стихи он в общем одобрил. Совет быть осторожнее неодобрением не является. Слухи о том, что в те времена люди друг с другом боялись разговаривать, преувеличены, они опровергаются опытом всей моей жизни. Всю жизнь я разговаривал, а сел не поэтому — во всяком случае не потому, что доверился.
В этой роскоши я доехал до Челябинска. Дальнейший путь помню смутно. Поезд из Челябинска в Свердловск уходил поздно вечером, билет я закомпостировал довольно быстро, потом как-то разыскал в эвакуированном из Киева мединституте, помещавшемся теперь в типовом школьном здании, свою одноклассницу Раю Брянскую и некоторых других знакомых. В коридоре на перемене вокруг меня собралась маленькая группка киевлян. Я почитал им стихи, был воспринят и признан. Конечно, и потому, что в них была общая нам всем горечь поражения и эвакуации, но и опасные «смежные» мотивы тоже вполне воспринимались. И никто не боялся. Думаю потому, что тогда казалось, что война все поставила на свои места, и в чем кого подозревать, если все воюем. Откуда нам было знать, что у «кремлевского горца» даже в эти дни своя особая игра, что он и воспринимает все иначе — по-прежнему всех боится и никого не жалеет.
Как я провел остальное время, помню плохо. Ехал я ночью плацкартным через незнакомые места, но скоро заснул и прибыл в Свердловск утром. Разыскал Уральский индустриальный институт, в нем — МГУ и «свой» факультет. Не помню, сознавался ли я читателю, что все путешествие предпринял с целью поступить на философский факультет (пусть с доучиванием после войны). С чего вдруг? А просто я слышал, что там преподаются основы всех наук, а это я считал полезным для писателя. К самой же философии я никакой склонности не имел, симпатий не питал и, что это такое, представлял плохо.
В жизни я потом встречал немало философски образованных людей, представление о том, что такое философия, получил, но ни разу не пожалел об упущенной возможности стать философом. В том, что это дело не мое, я убедился после первой же беседы с юношей, работавшим там вахтером и буквально бредившим философскими системами, о которых я не имел ни малейшего представления. Причем испугал меня не бред, а сами системы. Мне это было любопытно, но перспектива заниматься этим всю жизнь или даже только долго и подробно это изучать меня не радовала. Посетил я одну или две лекции по истории философии, уже без бреда, вполне квалифицированные и профессиональные — тоже было интересно, но тянуло меня в другую сторону.
Тут я должен оговориться. Дело в том, что, когда я в первый раз приехал в Свердловск, занятий еще не было, и вскоре я съездил на время домой. Каким путем, в каком направлении ехал, не помню — ездил разными путями. На прямой поезд в Челябинск («Свердловск — Оренбург»), на котором приехал, не всегда удавалось достать билеты. Тем более на сегодняшний поезд. К тому же сегодняшний опаздывал на 52 часа и должен был уйти только послезавтра. Сегодня же уходил только позавчерашний. А ехать надо было сегодня — ждать было негде и не на что. И я ухитрялся уехать сегодня. Как человек опытный, в последний момент вскакивая на ступеньки, а через несколько часов все утрясалось. Кого-нибудь может потрясти цифра 52 часа — хаос, и только. Меня же, видевшего дороги сорок первого, поражал порядок — то, что, несмотря на южное отступление, все контролировалось. Через 52 часа поезд действительно отходил. Для Гитлера это был дурной знак.
Но был и более спокойный путь в Челябинск, хоть и с пересадкой — через Каменск-Уральский. А потом я нашел еще один путь, минуя Челябинск — до Дружинино на местном, а оттуда на другом до Бердяуша, расположенного уже на нашей линии. А там оставалось немного подъехать на том же пятнадцатом. Но когда я, как ездил, не помню. А оба пребывания мои в Свердловске и вовсе слились для меня в одно. Что было в какой приезд — точно не помню.
Война чувствовалась здесь еще острее. Не только скудостью питания. Помню милую во всем военном, уже раненную девушку с «моего» факультета, с ней я однажды разговорился. Она была военная, воевавшая, но по реакциям совсем своя, теперь бы сказали, «человек нашего круга» — тогда ни таких выражений, ни таких представлений не было. И таких отвоевавшихся девушек и парней вокруг было уже немало. О войне напоминало и расписание занятий на гуманитарных факультетах, где почетное место занимал предмет «Политработа в РККА» — считалось, что из нас готовят политруков. Это и мне, и другим казалось вполне естественным. При всей критичности мы не отделяли себя от системы. В чем состояли эти лекции, я не знаю, ибо этих лекций не слушал. Просто не успел — уехал скоро вторично, совсем.
Но как ни скоро это произошло, перед тем как уехать, я туда, как уже сообщено читателю, приехал. А приехав, должен был где-то поселиться. Мне дали направление в общежитие, а там — в комнату. Вот тут и начинается главное, что произошло со мной в Свердловске. Разыскал я эту комнату с большим трудом, упарился, волоча корзину с вещами. Но встречен я был там более чем холодно. Широкоплечий, на вид простоватый парень, фамилию которого я забыл, а имя помню — Паша (впоследствии он оказался симпатичным и добрым парнем) спросил меня мрачно:
— А ты с какого факультета?
И узнав, с какого, спросил еще более мрачно:
— А почему к нам?
На этот вопрос я ответить ничего не мог.
Не надо делать поспешных выводов, никакого антагонизма по отношению к философам в этой среде тогда еще не было. Просто парень желал избавиться от постороннего. Постепенно, но довольно быстро стали накапливаться его товарищи. Узнавая от него, кто я такой и зачем пожаловал, они по мере накопления становились все агрессивнее. И настаивали, чтоб я выметался — у них и так полно. Я стоял рядом со своей злополучной корзиной (она за мной потом следовала в Москву, тюрьму и ссылку) и не знал, куда деваться и где приткнуться. Между тем аборигены, то ли забыв о нахальном вселении нежелательного провинциала в их жилье, то ли смирившись с неизбежностью, стали продолжать прерванный, более интересный для них разговор между собой. Неожиданно он оказался интересным и для меня — я услышал знакомые имена. Мир моих интересов опять обретал реальность. И я вмешался в их разговор:
— Ребята, а вы из ИФЛИ?
— Да, а что? — насторожились «ребята», но насторожились уже более дружественно. Раз юноша знает, что такое ИФЛИ, он еще может и представлять интерес.
— А вы не знаете Юдина или Люмкиса?
Оказалось, что прекрасно знают. Что Толя на фронте, а Люмкис тоже должен жить в этой комнате, но сейчас, как и многие другие студенты, — на торфоразработках. Скоро приедет на день.
— А ты что, тоже из Киева? А ты стихи Бердичевского знаешь?
И стали мне читать новые стихи Марка, которых я не знал.
Ларчик открывался просто. Знали они их от Люмкиса. А тот получил их в письмах, непосредственно от автора, с которым переписывался. А Марк учился в военно-воздушном училище сравнительно недалеко от Ашхабада, где недавно еще находился ИФЛИ. Это, наверное, облегчало их переписку. Стихи Марка здесь всем нравились, в них был нерв тогдашнего состояния. Мне эти стихи тоже очень понравились.
— А ты что, стихи пишешь? — спросил кто-то, поняв, что я из той же компании. — Прочти.
Стихи мои тоже произвели впечатление. Приняли. И пошло сближение. Кто-то сказал, что в стихах тех, чьи города оккупированы, есть особая струнка, кто-то еще что-то, разговор о том, чтоб мне выметаться из комнаты, испарился сам собой, — наоборот, мне стали наперебой предлагать помощь в обустройстве, что для такого лопуха, каким был я, было отнюдь не лишним. Конечно, не ахти какое это было обустройство, все спали на матрасах, но и у меня появился свой матрас. Кроме того, что немаловажно, мы вместе добывали пропитание, и я впервые столкнулся со студенческой, а тут и с якобы богемной лихостью на этот счет.
Голодны мы все были очень. Одно из последних моих свердловских впечатлений — столовая, где один знакомый парень, кажется искусствовед (он был не из нашей комнаты, но круг моих знакомых к тому времени расширился), испытывая гамлетовские сомнения, собирался подойти к раздаче и обменять мастерски подделанный им талон из хлебной карточки на реальные двести грамм хлеба — деяние, по тем временам жестоко наказуемое и несколько оскорбляющее мой ригоризм. Я его больше никогда не встречал, отзывы о нем в последующие годы были неизменно хорошими, ни в чем дурном он никогда замечен не был. Но был широкоплечим крепким парнем, которому очень не хватало хлеба, и потому он осуществил тогдашнюю платоническую мечту многих, очень талантливо выраженную Николаем Глазковым:
Что стихи? В стихах — одни слова. …Мне бы кисть великого художника!.. — Карточки тогда бы рисовал — Продовольственные и хлебные, Эр-четыре и У-Дэ-Пэ.Не могу сказать, чтобы ему завидовали, относились к этой проделке скорее смущенно-иронически, чем апологетически. Но на его стороне были, накладываясь друг на друга, общебуршеская, она же бурсацкая, традиция поведения и дружества студентов, традиция футуристических выходок (Маяковского и его желтую кофту тогда все еще уважали) и, конечно, — голод.
Этому эпизоду я отдал дань не по его значительности, а ввиду красочности этого воспоминания: меня до сих пор смешит сосредоточенное лицо этого парня, подавляющего последние колебания и страхи перед тем, как решиться и перешагнуть нечто, вполне способное его погубить, но отнюдь не способное стать его Рубиконом. Но когда я думаю об этом, мне уже не смешно — нельзя испытывать людей голодом. Но не этим эпизодом и не голодом отмечено мое пребывание в Свердловске. Жили мы, конечно, впроголодь, но что-то все же ели — в конце концов все вокруг, да и я сам в Симу, жили немногим легче.
Отличалось мое пребывание в Свердловске не голодом, а возможностью интеллектуального общения. По существу, я там быстро стал членом дружного коллектива молодых интеллектуалов, то есть хоть я так тогда не формулировал, я получил все, за чем ездил, в чем тогда нуждался.
Люди, которые населяли комнату, в которой меня поселили, все потом стали так или иначе известны в своих областях. Хотя иных уж нет, а те, как и я, — далече. Жили там искусствоведы Саша Каменский (имя, не нуждающееся в рекомендации) и Дима Сарабьянов (будущий директор Института истории искусств АН СССР). Знакомство с ними расширило мой кругозор хотя бы потому, что до этого я вообще не знал, что бывают искусствоведы. Остальное население комнаты составляли литературоведы (историков и философов почему-то не было). Это прежде всего Леша Кондратович, вскоре он должен был уходить и, по-моему, при мне еще ушел в армию (в будущем ответственный секретарь «Нового мира» при Твардовском А. И. Кондратович), затем — Володя Гальперин (будущий профессор Щукинского училища) и совершенно удивительное для меня тогдашнего существо, Митя Сеземан, до ИФЛИ учившийся в Сорбонне.
О том, как он попал в СССР, мне потом приходилось читать. Кажется, его отец профессорствовал в одном из университетов «освобожденной» Прибалтики, но об этом тогда речи не было. Остальные наверняка давно это знали, а мне неудобно было спрашивать. Он мне очень нравился, но так вышло, что он единственный из всех пятерых, кого я потом ни разу не встречал. Не по неприязни, а просто «вступая в жизнь, мы быстро разошлись». Впрочем, однажды я его все-таки видел, а Париже, во время эмиграции — для него вторичной. Видел, но почему-то не подошел. Прежде всего, мы не узнали друг друга, мне просто, к слову пришлось, сказали: «Вот профессор Дмитрий Сеземан, недавно эмигрировал», а ему и того не сказали. Знакомство наше было столь кратким, а не виделись мы так давно, что представление требовало объяснений. А мне было не до них. Но это никак не определяет моего отношения к нему. Конечно, я не знаю, сошлись ли бы мы теперь, но воспоминания у меня о нем остались самые светлые. Он был, повторяю, наиболее обращающим на себя внимание представителем нашей комнаты. Жило в ней еще несколько студентов, но из них я помню только Пашу, которого встретил первым, а может, другие не ассоциируются у меня в памяти с этой комнатой.
Помню, как Митя Сеземан с книгой в руках расхаживает по комнате и декламирует:
— О, Ватерлоу!.. (Дальше забыл.)
В комнате в связи с этим произносится с уважением — особенно почему-то Сашей Каменским — имя поэта Леопарди, из его ли стихов эта строка, я до сих пор не знаю. Заходят и другие студенты, в том числе и физик Боря Смагин (потом он станет писателем-фантастом Днепровым). От него я впервые узнаю, что, оказывается, профессия физика важна для обороны. Меня это удивляет. Я понимаю: инженеры, но при чем тут физики? Конечно, и инженеры учитывают всякие законы физики: Бойля — Мариотта, Ома и прочих, но сами физики тут на что? Они свое дело сделали. Впрочем, тут мое восприятие соответствует всеобщему представлению, уничтожающий удар по которому нанесло только изобретение атомной бомбы. А тогда в разложение атома, а тем более ядра, верили не больше, чем в Perpetuum mobile, и не атомную бомбу имел в виду Боря Смагин. Физикам тогда находилось применение и без атома. Как я потом узнал, однокашником Бори Смагина по физфаку МГУ и тогда в Свердловске был Андрей Сахаров. Так же где-то ходил и где-то обедал, но к нам в комнату не забредал — по видимому, тогда он еще никакими Леопарди и прочей неточной гуманитарщиной не интересовался, и с ним я не был знаком.
Какие у нас были тогда разговоры? А такие же, как и с моим случайным попутчиком — откровенные и относительные. Последнее потому, что относителен был мир наших ценностей. Конечно, говорили много о литературе, о поэзии. Прямого содержания их не помню. Ведь сегодня я об этом думаю совсем не так, как тогда. Ни эстетическая левизна, ни романтика меня давно нисколько не прельщают. Давно, а не только теперь, по старости. Тогда же мы этим жили, верность этому хранили среди будничной грубости окружающего бытия. И поэтому я помню это общее дружеское взаимопонимание, а не отдельные мысли, свои в том числе.
Политически? Политически никто из них не был оппозиционером, все на самом деле готовы были вести «политработу в РККА» (я ведь тоже рвался в газету), но ведь не политдонесения писать они собирались. Мои стихи и содержащееся в них неприятие духа сталинщины они воспринимали как нечто совершенно естественное, не противоречащее ничему, чему считали себя верными. Конечно, в них, как и во мне — в ком быстрее, в ком медленнее, — «шли процессы», шло осознание и самосознание. Это была образованная элита своего поколения, и они никак не отказывали себе в привилегии мыслить.
Но мысль наша была пленной. Всем этим людям пришлось потом жить в трудное время, сквозь которое совершенно целым не прошел никто. Ничья линия жизни не была идеально прямой. Говорю это «en general», а не потому что мне что-либо о ком-нибудь, кроме меня, известно. Но все они всегда оставались порядочными людьми. И более того, каждый из этих людей прожил жизнь достойно, не только не запятнал себя ничем, но и был тем огоньком культуры, вокруг которых люди не только выживали, но и формировались.
Те, кто, пользуясь чужим задним умом, пытается забросать сегодня грязью наивность и относительность «духа ИФЛИ», должны знать, что эта грязь рикошетом вернется к ним, как всякая плебейская низость. «Ах, право, может только хам / Над русской жизнью издеваться» — эти слова Блока, сказанные о временах куда более простых и легких, отнюдь не потеряли сегодня своей актуальности.
В один из дней приехал Люмкис. Он появился в комнате в какой-то брезентовой робе (может быть, выданной «на торфе»), в защитной каскетке с козырьком и в неизменных очках. Вид у него был какой-то деловой, сосредоточенный, но неистребимый дух интеллигентности просвечивал сквозь все. Мы крепко обнялись как близкие люди, хотя до этого виделись только раз или два — все равно в этом все время расширяющемся и неуютном мире нас многое связывало.
Куда-то мы пошли. Трудно мне вспомнить куда. Ведь ни кафе, ни баров, ни трактиров, где беседовали братья Карамазовы, тогда не было: коммерческие — по очень дорогим ценам — появились только через два года. В столовую, где кормили по карточкам, мы могли, конечно, зайти, но там были очереди, шум и гам. Помню, что мы долго ходили где-то, по каким-то окрестным пустырям и разговаривали — обо всем, что накопилось, что было пережито, о Киеве, Марке, Яше (подумать только, Яша еще был в Киеве жив!).
Я читал Люмкису стихи. Он слушал внимательно, серьезно, уже не снисходительно, как младшего: пережитое за год войны нас как бы уравняло. На мои стихи о «37-м годе» (читанные соседу по купе) отреагировал неожиданным образом. Сказал, что в Москве есть такой молодой поэт, Павел Коган (сейчас он на фронте), он написал роман в стихах. Так вот, там есть родственные этому стихотворению, хотя внешне противоположные ему мотивы. И он мне прочел отступление из этого романа: «О, мальчики моей поруки!», правда, с четверостишием, которого нет как ни в одном издании, так ни в оставшихся после Павла рукописных экземплярах романа. И вполне вероятно, что эти строки ему приписываются. Но я сейчас не текстологическое исследование провожу, и для меня не имеет значения подлинность «моего» текста. Я сейчас вспоминаю свою последнюю встречу с Люмкисом, а он после строк, которые входят во все сборники:
На Украине голодали, Дымился Дон от мятежей, А мы с цитатами из Даля Следили дамочек в ТЭЖЭ.прочел:
О, эта чертова порода, Маршрут от ГОРТа до ТЭЖЭ! Зимой тридцать восьмого года Мы к стенке ставили мужей.Ни больше ни меньше! Ставили к стенке не «нас», а «мы»! Тем не менее слова Люмкиса не показались мне ни дикими, ни даже поразительными. Я кивнул. Общее было в попытке найти подлинную осмысленность происходящего. И для меня, и для него эта осмысленность виделась только в подлинной революционности. Правда, в этом четверостишии он находил ее не в том, в чем тогда находил ее я. Но расхождение политических оценок, как почти всегда в поэзии, серьезного значения не имело. И хоть и там, и там все виделось сквозь ложный ценностный мир, но и там, и там жила потребность и необходимость для души мира ценностей вообще. И мне тогда понравились эти стихи.
Потом мы говорили о перспективах войны. Немцы ведь еще стремительно наступали. Люмкис в ближайшее время собирался идти в армию. Как известно, он пошел и погиб. Но перспективы ему рисовались с нашей тогдашней точки зрения самые мрачные. Нет, он не сомневался в поражении Гитлера. Но лишь потому, что выручат союзники. А коммунизму и советской власти при этом придет конец. Сегодня любой из нас сказал бы: его бы устами, да мед пить! Но тогда такая перспектива очень нас огорчала, отнимала смысл жизни, Маяковского, весь «штурм унд дранг», на котором мы были воспитаны и существовавший только в нашем воображении. И который нам обоим по складу наших душ был, как корове седло. Несмотря на мою тогдашнюю манеру выражаться темпераментно…
Конечно, эта беседа, эти строки, приписываемые Павлу Когану, и мое согласие идентифицировать их с собой тогдашним открывают дорогу для непонимания и демагогии, с которой я уже отчасти столкнулся. Но для непонимающих — чтобы они поняли, что их путавшиеся в трех соснах отцы и деды не были ни подлецами, ни идиотами — я и пишу эту книгу. Понять, как это было, нормальному человеку пока еще, к счастью, трудно. Но по многим причинам — необходимо. А от демагогических ухищрений и наскоков вообще защиты нет, как не было никогда, и ориентироваться на них при изложении фактов — значит самому подвергать себя самой глупой из цензур. Так что будем жить по принципу: «собака лает, караван идет» — в твердом убеждении, что скоро эта волна демагогии сменится другой, еще более новой, а пройденный путь останется пройденным путем.
Однако разговор, который в тот погожий, но уже холодный осенний день 1942 года в Свердловске вели между собой, обрадовавшись друг другу, двое киевских юношей, ошметки разметанной войной молодежной компании, с сегодняшней, да и вообще с любой нормальной точки зрения, был действительно странен.
Но странностей в этих юношах вообще было много. Они ведь знают, эти мальчики, что город этот не Свердловск, а Екатеринбург, тот самый, где когда-то расстреляли всю императорскую семью — с детьми и обслугой, — но они об этом не думают, хотя гнусность этого преступления — вместе с детьми — наглядна, особенно теперь, после Бабьего Яра. Этот город для них Свердловск, то есть носит имя одного из инициаторов этой гнусности, к нему они оба, правда, мало о нем зная, относятся хорошо, даже с некоторым полукрамольным противопоставлением — как к представителю «старой гвардии».
А ведь они не подлецы, эти мальчики. И не дураки, хотя у них в чем-то мозги набекрень. И не к худшим, а к лучшим представителям молодой интеллигенции они относятся. Своей любовью к «старой гвардии» они защищаются от растворения в подлости. Как верностью мировой революции — от растворения в бессмыслице сталинской пропаганды. Конечно, когда знаешь цену этой «гвардии» и подлость революционного насилия, становится горько на душе. Ведь по-человечески и мне, и Люмкису, и всем ребятам-ифлийцам, и Павлу Когану претит насилие. Мы считаем это чистоплюйством, недостойной мягкотелостью, но оно нам претит. Мы были жертвами не своей, а чужой ублюдочности, и мы запутались в ее оттенках. Наша способность к высокому была утилизована ублюдками — расстреливающими и расстрелянными, и мы запутались в коллизиях и оттенках этой ублюдочности. Потом постепенно — кто раньше, кто позже — мы начнем освобождаться от ее чуждой нам власти.
Но Люмкис до этого так и не доживет… И почему-то именно об этом мне больней всего думать в связи с его и таких, как он, ранней гибелью — что они так и погибли, не узнав, не освободившись хотя бы внутренне…
Вряд ли мы стали счастливыми, узнав это, особенно те, кто узнал это только среди сегодняшнего беспредела, но не знать обыкновенной шкалы нравственных ценностей, будучи при этом по природе нравственными людьми, пусть и не совершая безнравственных поступков, — несчастье. Мне жаль в этом смысле своих погибших друзей, тех, кого знал и кого не успел узнать, — они были достойны лучшей участи.
Больше я Люмкиса не видел никогда.
В Свердловске я случайно наткнулся на своего киевского одноклассника Володю Левицкого. Он жил здесь с отцом и матерью. Отец преподавал в здешнем сельхозинституте, Володя учился в том самом Уральском индустриальном институте, в помещения которого вселился, потеснив его, МГУ. Жили они очень скудно.
Вероятно, Володин отец знал о советской жизни несколько больше меня или моих друзей. Как я уже говорил, он принадлежал к кондовой украинской либеральной интеллигенции, по которой жестокие бороны сталинских репрессий прошлись неоднократно. Да и как Сталин мог относиться к интеллигенции народа, чье крестьянство он сознательно вымаривал голодом?
Кстати, недавно я узнал, что с этим вымариванием Володин отец и его семья были знакомы ближе, чем я мог себе представить. Еще в 1928 году, в начале очередной волны репрессий против представителей украинской интеллигенции, когда и ему грозил арест, отец внял советам друзей и переехал с семьей в деревню, где стал заведовать опытной станцией. Там, как полагали друзья, у него было меньше шансов обратить на себя хищное внимание ГПУ. И друзья не ошиблись — ГПУ там профессором Левицким как будто не интересовалось.
Но зимой 1933-го его с семьей там настигло еще более страшное, на этот раз всенародное бедствие — Голодомор. Так теперь называют устроенный Сталиным — в наказание за упорное нежелание украинских крестьян становиться колхозниками — всеукраинский искусственный голод.
Голод был тотальным и имел сознательной целью вымаривание и последующее ослабление украинской деревни. Устроен он был «просто» — у крестьян был «под метелку» отобран весь их хлеб. При этом специальные кордоны не пропускали голодающих в города, а по возможности затрудняли их передвижение и по своей округе — пусть подыхают на месте, в стороне от посторонних глаз. Кордоны эти — ясное доказательство того, что «мероприятие» имело отнюдь не только хозяйственные цели, исходило не только из того, что, как гласил тогдашний лозунг, «Стране нужен хлеб!»
А выглядело это так. По деревне, как тени, бродили вконец изголодавшиеся (в урожайный-то год!) хлеборобы и молили: «Хлиба!» Правда, свою семью отец все-таки спас. Он сумел где-то достать несколько мешков кукурузы, другого зерна, овощей, и однажды ночью тайком привез это богатство (невероятное в тех условиях!) домой, внес его в дом и наглухо забил окна и двери — семья прервала все связи с внешним миром, даже на двор не выходила — пользовалась ямками, вырываемыми (и тут же засыпаемыми) в погребе.
Но мир продолжал существовать и давал о себе знать. Голод вокруг крепчал, люди стучали в окна с той же мольбой о хлебе. Левицкие как-то существовали, но помочь никому не могли. Пытаться помочь в их положении значило тут же пополнить ряды умирающих. Представить моральное состояние этой порядочной интеллигентной профессорской семьи страшно. Постепенно в деревне началось и людоедство.
Тогда и началось Володино заикание, к которому я привык с отрочества и не придавал значения — мало ли кто заикается. Но недавно я узнал из его письма, что это заикание возникло не просто так. Оно — последствие многонедельного непрерывного страха тех дней — страха быть съеденным озверевшими односельчанами.
Обо всем этом мог бы рассказать его отец. Но он не рассказывал. Он больше молчал, слушая наши разговоры. И что он мог нам сказать тогда?
Он не мог знать, что брат его, живший эмигрантом в Париже, в какой-то момент, по-видимому, решивший, — чего с людьми не делает идеология? — что немецкое наступление дает Украине шанс, который нельзя упустить, приехал в Киев. И что, увидев, что творят немцы на Украине, тут же вернулся в Париж. Идеология идеологией, а порядочность порядочностью. Счастлив был, наверное, что брат с женой-еврейкой и их сыном эвакуировался.
Но Володин отец, судя по всему, счастлив не был. Думал что-то свое и молчал. У него не было Парижа, куда бы он мог вернуться или хотя бы хотеть вернуться.
Трудно представить, чтобы перед отъездом из Киева ему не пришлось выслушать высказанные в различной форме предложения не уезжать, отправить жену и сына, раз уж так получилось, что жена-еврейка, а самому остаться. Такие настроения в украинской интеллигентной среде, безусловно, были. И странно было бы, если бы после всего пережитого их не было. Они, конечно, не свидетельствовали о трезвом понимании ситуации: как экспресс-возвращение в Киев парижского Левицкого, но попробуй после трупов на улицах, после дела СВУ сохранить эту трезвость. Тем более, когда наготове опять идеология, только другая, «своя».
Хватались за шанс. Вряд ли Володин отец их одобрял, но и в подлые изменники столь легко и бездумно, как мы, тоже вряд ли мог их записывать. И все это должно было дополнительно мучить его. Тем более, что сила, к которой он волей-неволей прибился, по причинам для него ясным (он ведь был биолог, специалист по сельскому хозяйству) терпела поражения, обнаруживала отнюдь не неожиданную никчемность.
Разумеется, я не знаю, что он думал — на эти темы он никогда со мной не беседовал. Но ощущение тяжести, которую нес в душе этот образованный и порядочный украинский интеллигент, и то уважение, которое он совершенно безотчетно вызывал, живо во мне до сих пор. Сколько было хороших людей, которые способны были благотворно влиять на жизнь в гораздо большей степени, чем им это дали сделать. Он явно был одним из них.
После встречи с Люмкисом я пробыл в Свердловске недолго. Философия меня не интересовала, изучать филологию в такое время, да еще преодолевая столь изнурительные бытовые трудности, я тоже не видел смысла, ребята понемногу собирались в армию, а мне попасть отсюда в газету никак не светило. И я решил вернуться.
По счастью, случайно встретил на улице знакомого снабженца из Сима и, простившись с ребятами, я выехал с ним домой на пригородном через Дружинино в сторону Казани и Москвы. Пригородный шел быстро, но долго, часа три-четыре, на таком пригородном я ехал впервые. На Урале при его разветвленной железнодорожной сети много таких местных поездов. В Дружинине через несколько часов пересели на другой поезд, периферийный, но дальний. На нем мы доехали до Бердяуша, где потом совершенно законно сели в родной 15-й, следующий теперь из Челябинска в Москву — на короткие расстояния билеты компостировались. Так что в каком-то смысле я, хоть и по дальней траектории, все время кружил вокруг Москвы, но приближение мое к ней каждый раз обрывалось. Но я был уверен, что когда-нибудь до нее доеду. А пока я вернулся в Сим.
Симские коррективы-2 Родной завод
Вернувшись в Сим, я уже не мог вернуться в детство. Школьником я уже не был, и надо было думать, чем заняться. В армию меня еще по-прежнему брать не хотели (год еще не подошел), в редакции я ошивался без должности, а в сущности и без дела — писать стихотворные поделки можно было и «без отрыва от производства». Это странное положение меня тяготило, и возвращаться к нему я не хотел. Хотелось настоящего дела. Самым привлекательным местом для всех был инструментальный цех. Все-таки не конвейер, а самостоятельное мастерство в руках.
А мы с моим одноклассником Додиком Брейгиным еще в школе увлеклись талантливыми очерками Бориса Агапова о мастерах своего дела — инструментальщиках, людях высокого достоинства и творческой силы. Очерки, судя по всему, были написаны еще в годы первой пятилетки в духе времени и «социального заказа», но в них чувствовалась подлинная увлеченность реальной культурной ценностью — мастерством. Понимал ли автор, что он просто отыскал себе нишу реальности в море прострации или действительно верил, что шагает в ногу, — не знаю. Когда я был студентом Литературного института, он вел там творческий семинар по очерку.
Но я очерков не писал и не был и с ним знаком. Да и вообще не задавал еще таких вопросов — даже себе самому. Но благодаря ему профессия инструментальщика была окружена для меня дополнительным ореолом. И вдвойне притягателен был для меня поэтому инструментальный цех. Когда я вернулся, Додик уже давно там работал учеником токаря-лекальщика. При моей «всезаводской известности» попасть в этот цех мне было не очень трудно, и поздней осенью 1942 года я стал учеником фрезеровщика-инструментальщика.
Я впервые оказался в цехе не в качестве газетчика, выполняющего задание редакции, который беспрепятственно проходит прямо к начальнику, а в качестве одного из рабочих, и даже менее того. Здесь все, что я до этого знал и умел, все, что значил в своих собственных глазах и в глазах свердловских ифлийцев, не то, что не имело значения (в частном порядке это многих интересовало), но не относилось к делу. Здесь я в чистом виде и во всех смыслах мог быть только учеником. Разумеется, это отнюдь не воспринималось как крушение. И не только потому, что я был в том возрасте, когда и надлежит быть учеником (с Асеевым я тоже разговаривал как ученик), а просто потому, что меня не очень привлекала потерянная возможность беседовать с начальством о выполнении плана и передовиках производства.
Разговоры с рабочими были мне намного интересней. Я тогда не думал о том, что теперь называется социальным статусом, но если бы и думал, то все равно — труд рабочего, особенно квалифицированного, казался мне более полезным фронту, а его положение — куда более достойным и даже менее зависимым, чем положение газетчика, особенно заводского. Так оно и было. Мне очень хотелось быть таким, как все тут — умелым, уверенным в себе, вполне оправдывающим свою жизнь. Короче, все в цеху мне очень нравилось — кроме собственной неспособности, которая проявилась довольно скоро. Но когда я впервые пришел в цех, я еще то ли о ней не знал, то ли надеялся ее преодолеть — значит, не представлял ее масштабов.
А все, казалось бы, шло навстречу этому моему желанию. Учителем моим был очень квалифицированный рабочий, фрезеровщик восьмого (самого высокого тогда) разряда Анатолий Семин. Работал Толя (так он мне представился, так его и звали в цеху) на чуде тогдашней германской техники, новейшем, очень точном, универсально-фрезерном станке фирмы «Тиль», приобретенном в недолгие месяцы нашего романа с Гитлером. В цеху вообще было много заграничных станков — были еще токарные станки «Кергер» того же класса и происхождения, были американские фрезерные фирмы «Гордон», шлифовальные (фирмы не помню) — целая расточная мастерская, состоящая из станков швейцарской фирмы «СИП», — всего не упомнишь. «Иностранщиной» тут явно не брезговали. Достижение пятилеток — токарный станок «ДИП» («ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ») вызывал только насмешки, использовался для более грубых, обдирных работ.
Но, как я уже говорил, для меня в смысле профессии и Толя Семин, и «Тиль» были не в коня корм. Как говорится, «ему б чего-нибудь попроще», какую-нибудь бы менее творческую специальность — может, и освоил бы. А здесь было дело гиблое. Надо было бы мне тогда лучше чувствовать границы своих возможностей, но на это, к сожалению, я тогда еще способен не был.
Я говорю «к сожалению», но только потому, что мне и задним числом неловко перед людьми, перед тем же Толей Семиным за то, что они зря ухлопали на меня время. Для меня же самого, для моего внутреннего развития пребывание в этом цеху с ними было в высшей степени значительным и плодотворным, хотя и не в плане профессионально-техническом. Правда, и тут я получил представление о том, что это вообще такое — производство и как в принципе делаются вещи, о чем я имел до этого какое-то странное, абстрактное, чуть ли не мистическое представление. Разумеется, это значительно расширило и мой общий кругозор, укрепило под ним фундамент. Но то, что я там приобрел в чисто человеческом плане, столь важно для меня, что я себя не представляю без этого опыта. Хорошо, что моя взрослая или полувзрослая жизнь началась именно там.
Кроме того, мне просто нравились люди, которые меня там окружали. Внешне они не были похожи на героев Агапова, но в целом я не считаю, что он меня обманул. Я и теперь считаю, что по-настоящему квалифицированные рабочие, люди, способные своими руками сделать все, что захотят, — «высшая раса».
В этом есть еще одна сторона. Я очень рад, что по-настоящему Россия стала мне открываться именно здесь, среди этих людей. При всем различии их характеров и представлений, было в них в целом нечто такое, из-за чего потом любая напраслина о России и о русском народе дома и за границей отскакивала от меня, как от стенки горох — для меня Россией всегда были они. По-настоящему Россию я впервые полюбил там и тогда, да так, что ни в каких самых жестоких обстоятельствах в этой любви не поколебался.
Хотя момент, казалось бы, меньше всего подходил для этого. Все мы жили впроголодь, а немцы опять наступали. Это порождало общее ощущение ненадежности бытия, мутное брожение. Выражалось оно в первую очередь, как уже говорилось, в неоправданной злости против ближайшего начальства, но доходило и до пораженчества. В том плане, что «вот придут немцы, мы им!..» Но это, как я потом убедился, было неглубоко, больше раздражение так разряжалось.
Как ни странно, хотя многие рабочие происходили из крестьян, тема коллективизации не очень дебатировалась. При той свободе самовыражения, которую позволяли себе рабочие, я просто не помню разговоров на эту тему. Слово «кулак» иногда употребляли, но только для определения характера, и всегда в советском уничижительном смысле: человек, у которого зимой снега не выпросишь. То ли, став рабочим классом и мастерами индустрии, уважаемыми людьми, похоронили они это свое прошлое как нечто постыдное, опасное и неразрешимое, на дне сознания, да так, что и теперь не вспоминалось (как, в сущности, поступила с этой темой вся страна), то ли по какой другой причине, но таких разговоров не было — даже в пору самых крупных немецких успехов.
Безусловно, ругали евреев — в основном за умение устраиваться «так, чтоб не работать». Считалось, что евреи только начальствуют и торгуют, а торговля по неведению считалась «работой не бей лежачего» и в то же время прибыльной. Состояла она в том, чтобы обсчитывать, обвешивать и заниматься нечистыми махинациями. Такое, всеобщее тогда, представление о торговле (оно и поныне бытует в общественном сознании) разделял и я — только не соглашался, что все евреи в душе торговцы. Но на личных отношениях эти филиппики не сказывались. Я не замечал, чтобы к кому-то относились плохо за то, что он еврей. Но если к какому-нибудь еврею относились плохо, то это приплюсовывалось. Впрочем, многое из этого относилось не только к нашему цеху.
В принципе я должен был соответствовать представлению об еврее, который не хочет работать. У меня, действительно, ничего не получалось. Раза два я даже чуть не запорол дорогую деталь. И все-таки я никогда не чувствовал дурного к себе отношения окружающих — его не было. Было скорей сочувственное — старались помочь, объяснить.
Вряд ли мои мытарства при попытке освоить профессию интересны читателю — как, чего и почему я не понимал. Не понимал же я часто самых простых вещей. И именно потому, что они просты. Через много лет, уже после ссылки, в карагандинском горном техникуме для меня самым страшным предметом был «Горные машины», для большинства ребят и даже девушек самый простой. Надо было просто, видя перед собой машину со снятой крышкой, рассказать ее кинематическую схему, то есть что видишь — с какой шестерни на какую передается движение. Но это было выше моих сил — я не видел. Ибо не мог представить, что все так просто, пытался постичь скрытую здесь сложность. Только кое-как сдав выпускной экзамен, я задним умом понял, как просто открывается этот ларчик. Из-за непонимания простых и наглядных вещей я терялся у станка, что могло привести к серьезному браку…
Вот подходит фреза к нужной плоскости, и на нониусе — круге с делениями, припаянном к колесу управления, это ясно видно. Я внимательно слежу за нониусом, держась за ручку этого колеса. Моя задача — Толя куда-то отошел и поручил это простейшее дело мне — в нужный момент отвести деталь от фрезы. Иногда я это спокойно проделывал. Но иногда получалось иначе. Нужный момент приближается, но я вдруг забываю, в какую сторону вертеть колесо. Дело нешуточное. Ведь при неверном верчении фреза врежется в деталь, и та будет безнадежно испорчена. Я начинаю метаться. Как-то все обходилось, но радости от этого было мало — и мне, и другим. Потом меня перевели на более простую работу — нарезать шлицы на шурупах. Риску там не было никакого, но и там, несмотря на все старания, я особой сноровки не проявил.
Хотелось бы сказать, что я к таким неудачам никогда не относился наплевательски: дескать, зачем мне эти детали и шлицы — во мне зреет более высокое призвание. Я всегда относился и теперь, ретроспективно, тоже отношусь к этому как к невзятой высоте, к тяжелому жизненному поражению. И таких поражений, как увидит читатель, к сожалению, было много в моей юности и потом. Я многого не смог. Но об этом в своем месте. Конечно, не каждому дано быть первоклассным мастером, но человек должен уметь и мочь создавать что-то и руками. Неумение — недостаток, даже если он простителен. В этом я не соответствую своим собственным требованиям. Это серьезная драма моей жизни. Но, как уже говорилось, вряд ли перипетии этой драмы, предопределенной моими личными недостатками, как и связанные с ней переживания и размышления, представляют общественный интерес. И поэтому — хватит о ней.
Важно другое — я впервые оказался в «рабочей среде», теоретически среди класса-гегемона, или, как еще недавно говорили, в «пролетарском котле» — котле потому, что, как предполагалось, в нем из интеллигентов вываривается их мелкобуржуазная сущность. И хотя я уже несколько месяцев жил в поселке и ходил по заводу, нельзя сказать, что эти клише полностью выветрились из моей головы. Впрочем, и тут была закавыка — вокруг меня, согласно Ленину, был не просто рабочий класс, а, несомненно, рабочая аристократия. Ну как же не аристократия, когда к слесарю Сергею Боровикову в горячие дни приходил сам директор и чуть ли не заискивающе с ним разговаривал. И ведь было отчего.
В связи с тем, что немцы выходили к Волге, под ударом оказывался саратовский завод АТЭ (автотракторного электрооборудования), по-видимому, единственный, производивший магнето для всех двигателей, во всяком случае для всех авиамоторов. В связи с этим нашему заводу было дано срочное задание дублировать это производство. Завод залихорадило, я это знал по газете. Секретности ради магнето это в газете называлось инертно: «новое изделие», но на плакатах внутри завода именовалось открыто — БСМ-12. А пресс-форму для корпуса этого магнето делал именно он, Сергей Боровиков. И мало кто на заводе, кроме него — ведь он и среди инструментальщиков считался асом — был способен выполнить эту сложную работу в такой срок. Правда, и вид он имел скорей интеллигентный, чем просто рабочий, тогда это еще очень отличалось. На нем теперь все замыкалось: судьба министра и начальника главка, карьера директора, репутация завода и бесперебойный выпуск самолетов в самое горячее время войны. Так что не зря директор подолгу стоял у его верстака.
Я встречался с ним и до своего появления в цеху — но как газетчик с передовиком производства, но вел он себя тогда как положено в таких случаях — играл свою роль. Собственно, он ничего не играл, только не перечил. Дело в том, что официально в масштабах завода он был одним из зачинателей всенародного движения тысячников. То есть был одним из тех, кто обязался выполнять и выполнял дневную норму на целых 1000 процентов.
Конечно, проценты эти были обычной советской туфтой, о чем я бы мог и догадаться. Тем более, что как раз тогда я прочел статью М. И. Калинина, который до того, как стать марионеткой «всесоюзного старосты», был квалифицированным токарем и на основании этого своего опыта утверждал, что процентомания — чушь, что норму, если она грамотна, и на 1–2 процента перевыполнить трудно, а свыше — только, если ввести техническое новшество.
Поразительно, как эта статья, шедшая вразрез с пропагандой, вообще была напечатана. И грустно — что понесло этого квалифицированного и, по-видимому, здравого человека в патологические сталинские верхи. Статья мне понравилась, но о том, как становятся тысячниками, я как-то вообще не думал. Может, все они новшества вводят — кто их знает? А на то, что существенная часть заводских «тысячников» приходится на инструментальный цех, по неведению не догадывался и внимания не обращал.
Только потом в цеху я понял, в чем тут дело и почему это происходит. Ларчик открывался просто. Каждая работа оплачивалась в зависимости от требуемой квалификации (разряда) и времени, необходимого на ее исполнение. Но степень квалификации, видимо, нормами учитывалась грубо, они разрабатывались для массовых операций и к «штучной» работе инструментальщиков не полностью подходили. Поэтому при выписке наряда выходили за счет увеличения времени. За сложную работу выписывали больше времени. За работу, которая у Боровикова отняла бы час напряженного труда, а другой не выполнил бы вообще, ему в наряде нормировщик выписывал десять часов. В смысле денег она столько и стоила, этим и руководствовались, о процентах же не думали. Но формально получался высокий процент перевыполнения плана.
Как же этим было не воспользоваться пропаганде, всегда нуждавшейся в трудовых рекордах? Впрочем, часто ее деятели искренне не знали, в чем дело. Но это и не считалось важным. Важно было создать пример, достойный подражания. Хотя какой рабочий на каком производстве мог не знать, что тысяча процентов — это туфта? Сам же Сергей Боровиков к этому спектаклю без зрителей не имел никакого отношения — только что с газетчиками разговаривал соответственно, но не объяснять же каждому. А по существу — он просто был замечательным мастером, работал и получал за работу свое. Остальное делала система оплаты и пропаганда. Впрочем, в нашем цехе слово «тысячник» никого не раздражало. Так или иначе этим отмечалось мастерство, которое все признавали.
Но это не отменяет идиотизма системы оплаты, породившей этот термин. Приводила она и к комическим коллизиям. Вроде такой. Один из лекальщиков, человек тоже очень квалифицированный, которому начальство не захотело дать отгул, взял его самовольно. Так сказать, стал прогульщиком. А тогда за это судили. Поскольку ситуация была конфликтной, а тогда в пролетарском государстве действовали жесткие антирабочие законы, начальство отдало его под суд. Ему дали шесть месяцев принудработ на его рабочем месте. Другими словами, с вычетом из его зарплаты 25 процентов. Отомстил он просто и «по-русски» — стал выполнять норму процентов на сто двадцать. Конечно, стал мало получать, но что тогда значили деньги? Плевать! А так — не подкопаешься: почти ничего не делает, а перевыполнение налицо. Саботаж не припишешь. А ведь работа его нужна, ее не каждый выполнит. Дело стоит, а он хоть бы что — вы по закону и я по закону. Кончилось тем, что администрация взяла все расходы, вызванные его наказанием, на себя, и он стал получать чуть ли не больше, чем до своего осуждения. С мастерами шутить было непросто и начальству.
Все это я узнал потом, правда, довольно скоро, когда маленько пообвыкся и когда меня — хоть и на странном положении — приняли в свою среду. А пока я еще только осматривался. Станок «Тиль», на котором работал Толя и пытался работать я, стоял буквально рядом с конторками начальника цеха и мастеров — чего-то вроде избушки под сводами цеха. Нас от этой «избушки» отделяла только сквозная цеховая дорога, по которой шло главное движение в цехе — передвигались люди, развозились заготовки и материал. Такое близкое соседство с начальством — «магистраль», естественно, не была слишком широкой — никак на нас не сказывалось. Толя очень редко проявлял какое-либо любопытство к тому, что происходило в «коридорах власти». Иногда, когда ему не хотелось работать и хотелось развлечься, он звал сменного технолога и просил его объяснить чертеж и как чего делать. Тот тыкался, мыкался, а Толя в это время с интересом наблюдал за ним. Потом говорил: «Ладно. Понятно», — и приступал к работе. Понятно ему все было с самого начала. Зачем нужен был технолог в инструментальном цехе, не знал, я думаю, даже он сам. Милый паренек, окончивший техникум (а хоть бы и институт!), он чувствовал себя в цеху очень неловко. Но так сложилось, так требовало штатное расписание — распределили, поставили — и работал.
Иногда появлялся у станка и начальник нашего отделения («отделения приспособлений») Василий Васильевич Гвасков. Тут разговор бывал совсем другой. Василь Васильич некоторое время смотрел на то, что происходило на столе станка, и через минуту спрашивал:
— Толя, а почему ты делаешь так, а не так?
Василь Васильич был асом высочайшего класса, но Толя обычно знал, почему. Впрочем, иногда оказывался прав и Василь Васильич, тогда Толя озадаченно соглашался. Хотя были они накоротке, и именовал он своего начальника просто Васей. Это был разговор равных. Однажды произошло следующее. Толя готовился к экспедиции в деревню — выменивать продукты. Этим занимались все — городские, особенно московские, вещи деревня выменивала на последнее. Но к тому времени вещи иссякли, и рабочие выменивали продукты на всякого рода изделия, естественно, подпольные.
Каждый делал, что мог. На фрезерном станке удобнее всего было делать расчески. Изготавливать их и собирался Толя. Материал — листики плексигласа — он припас заранее, «достал» где-то на заводе. Момент для производства работ тоже выбран был с умом — в ночную смену, далеко за полночь, когда все начальство спит. Все было предусмотрено. Но, когда, закрепив в тисках штук двадцать листиков плексигласа, он собирался прорезать их все сразу достаточным количеством установленных им дисковых фрез, на что уходит не более минуты — у станка возник Василь Васильич. На то, чтобы понять, что происходит, ему вообще времени не понадобилось. Но он с минуту постоял, сдвинув к переносице свои густые черные брови. Толя невозмутимо заканчивал последние приготовления.
Я ждал, что будет. Выговор? Замечание? Во-первых, заняты мы были работой явно необоронного характера, а, во-вторых, использовали рабочее время, заводские материалы, оборудование и электрооэнергию в сугубо личных целях! И замечание, действительно, последовало — в виде совета, как придать изделию наиболее товарный вид и где взять более подходящий для этого материал.
Скоро я понял, что дело было не только в Толиной незаменимости и в нежелании поэтому портить с ним отношения — тем более старый товарищ. Думаю, что если бы это делал и я, реакция была бы почти такой же. Конечно, наглости, работы, главным образом, на себя, никто бы не потерпел. Но если человек нормально работал и изредка принимал такие меры для поддержания жизни своей и своей семьи, то разумный начальник смотрел на это сквозь пальцы.
Впрочем, дело было не только в разумности, а и в простой человеческой солидарности. Это я, несмотря на свою идейную забубенность, понимал. Но что это была солидарность в защитной войне народа против обездоливающей его власти, не понимал еще тогда не только я, но и абсолютное большинство народа, который вел ее чисто эмпирически.
Это был ответ на гениальное изобретение товарища Сталина — что людям за их работу можно платить зарплату, не покрывающую их элементарных потребностей. Конечно, теперь шла другая война, но эти взаимоотношения начались до нее и никогда не кончались. Хотя сущности самой этой власти многие не понимали еще долго — при всей ругани по ее адресу. Просто в стремлении выжить действовали по обстоятельствам.
Тот же Толя весьма иронически рассказывал о «чудачествах» своего тестя, офицера царской армии. Разумеется, состояли они не в том, что тот был офицером, а в общей «отсталости» его высказываний, в «непонимании» (читай: неприятии) им новой жизни (эмпирические проявления которой сам Толя при этом крыл, как и все вокруг, в хвост и в гриву). В этой иронии не было неуважения — то, что человек, несмотря ни на что, стоял на своем, Толе импонировало. Но то, на чем он стоял, казалось ему нелепым. И я вполне разделял Толино отношение. Между тем от того, что Толин тесть отрицал, страдали и Толя, и я, и все вокруг, и каждый день.
Впрочем, и этот независимый офицер в свою очередь поддавался облучению. На Толин вопрос о том, как он при таких взглядах относится к делу Тухачевского, тот ответил, что нарушителей присяги одобрить все равно не может. И опять это вызвало одобрение — и Толино, и — хоть и менее уверенное — мое. Конечно, офицер этот оставался и тут верен себе, но и он поверил в чушь, услышанную от тех, кому он в принципе не верил. Может быть, потому, что эта чушь теперь относилась к тем, кого он и до этого не уважал. Но факт остается фактом: он поверил в неправдоподобную чушь.
Пресс дезинформации в наглухо закрытом обществе подействовал и на него. Как это ни обидно, следует признать, что такой пресс — взаимодействие лжи, закрытости и террора — действенное орудие обработки самых умных мозгов, гениальное средство, изобретенное в целях самозащиты заведомой неправотой и несостоятельностью, колдовство, которое позволяет любым дуракам дурачить любых умников. Взаимодействие, а не просто страх. Человек, который повторяет чушь неискренне, опасаясь последствий, но понимая, что это чушь — может быть не храбр, но все же здрав. А вот если он верит, если ему страшно не верить очевидной чуши — дело хуже. Впрочем, я отвлекся — Толин тесть поверил не от страха.
А понимала ли вообще эта власть саму себя, свою антинародую сущность? Я имею в виду всех ее выдвиженцев; всех ее представителей разных уровней в центре и на местах. Тогда — вряд ли. Во всяком случае мало кто. Информация, которую они получали, была тоже строго дозированной. Внушающим тоже внушали.
Фантасмагория была всеобщей — концов не сыщешь. В этом плане я навсегда запомнил, как мой приятель — приятели у меня появились почти сразу — москвич-десятиклассник объяснял мне, что среди евреев очень много изменников революции (тогда верность революции была еще добродетелью). Имелись в виду подсудимые московских процессов, в основном последнего — Бухарин и Рыков. Презирал он всех подсудимых за то, что умели гадить, но не умели достойно ответ держать. Исключением был только Смирнов, который, как русский человек, в эту компанию, как был убежден мой приятель, попал случайно. Тот не крутил, а прямо сказал: «Да, изменял, да, шпионил!». А евреи пытались вывернуться.
Парень этот явно не погружался, подобно моему покойному другу Камиллу Икрамову, сыну одного из подсудимых на этом процессе, в детальное изучение стенограмм судебных заседаний, а то бы он и тогда знал (стенограммы эти были опубликованы и, как ни странно, и тогда доступны), что так «прямо» вели себя все подсудимые (кроме Н. Н. Крестинского и отчасти действительно Н. И. Бухарина). И каждый, кто знает, кем был старый большевик и нераскаявшийся троцкист Иван Никитич Смирнов и каким способом добыли у него это «прямое» «да, шпионил», только горько усмехнется столь «высокому» мнению о нем.
Парень этот вовсе не был глупым. Но так усваивалась и перерабатывалась оглупляющая пропаганда, действующая даже вопреки официально опубликованной информации, когда ее невозможно было скрыть… Расчет был прост — люди в большинстве не будут заниматься сложными, да и небезопасными исследованиями, чтобы не быть элементарно обманутыми. Да и кто подозревал, что его обманывают, да еще так грубо? А про Смирнова он и вовсе тогда бы знать ничего не мог! Я ведь тоже не знал, кто это такой. Парень этот вовсе не был антисемитом, просто слышал такие разговоры, и разные фантасмагории перемешались. Да и не об антисемитизме я сейчас. Доказать ему, что Бухарин и Рыков не евреи, было трудно, но все-таки возможно, а вот что не изменники революции — ни в коем случае.
Кстати, об антисемитизме в цеху, раз мы коснулись этой темы. Сталкивался ли я с ним? Как посмотреть. Настроений подобного рода тогда хватало везде, и наш цех не был изолированным местом. Но распространен он был больше в виде абстрактного предубеждения. Например, среди моих новых приятелей был один, действительно и открыто придерживавшийся антисемитских взглядов. Больше в цеху я таких не встретил. Хотя и он как личность никак не может быть подведен под понятие «антисемит», а ведь это прежде всего качество личности. Он вовсе не исходил ненавистью, не самоутверждался таким образом, а очень хорошо и по-доброму относился ко мне, в Большом же театре больше всех любил певца Рейзена.
Натыкаться на настоящий антисемитизм, на желание дискриминировать или обижать кого-либо, да и вообще на дурное отношение к ближнему только потому, что тот еврей, мне не приходилось. Этого не было. Но зато дальним доставалось крепко. И отнюдь не всегда справедливо.
Но продолжим описание. По другую сторону от нашего станка стоял уже упомянутый тоже заграничный и тоже фрезерный станок, но не германский, а американской фирмы «Гордон». Он был «бесхозным», персонально ни за кем не числился. Таких станков всякого рода — фрезерных, шлифовальных, токарных, сверлильных — в нашем отделении было несколько. Но они не были бросовыми. Ими пользовались слесаря, когда им попутно требовалось выполнить какую-либо не очень трудоемкую операцию — например, отфрезеровать или отшлифовать какую-либо поверхность, выточить и нарезать болт или гайку. Чтобы не ждать, когда освободится станочник.
А сами слесаря располагались непосредственно за «Гордоном», отделенные от него не очень широкой асфальтовой дорожкой. Там, перед окнами, тянулась длинная линия верстаков, за которыми они работали. Они были центром нашего отделения — ведь приспособления для производства создавали именно они, а все станочники в основном их как бы обслуживали. Очень недалеко от нас располагался уже упоминавшийся Сергей Боровиков и его ученик (или тогда уже просто его напарник — он им стал почти сразу после моего появления), мой ровесник, человек, дружба с которым прошла через всю мою жизнь и в значительной степени осветила ее, — Толя Быков.
Каким он был? Никак я не могу привыкнуть говорить о нем в прошедшем времени, но приходится — он умер в 1989 году через несколько месяцев после моего первого приезда из эмиграции, после того, как мы все-таки, наконец, повидались — после пятнадцати лет почти безнадежной разлуки. Но тогда Толя уже был пенсионером. Деятельным, хлопотливым, но все же пенсионером.
А когда он впервые подошел к нашему «Тилю» и заговорил со мной, нам обоим было в лучшем случае по семнадцати. Никакая пенсия (да их практически еще и не было, пенсий), а тем более эмиграция не могли бы показаться нам тогда чем-то, что может иметь отношение к кому-либо из нас. А теперь все было, а Толи нет…
При взаимной симпатии сблизиться и узнать друг друга в таком возрасте просто. Рассказ каждого о себе занимал немного времени. Он попал сюда из Москвы, я из Киева, оба кончили дома по восемь классов. Правда, я здесь еще два за один год, но он приобрел высокую квалификацию — независимо от того, считался ли он еще учеником, это было уже общепризнанно.
Я пишу стихи, считаю себя поэтом, ездил в Свердловск, в МГУ, но вернулся. Хочу уйти в армейскую газету. Впрочем, про стихи и так было известно всем. Мой учитель, тезка Быкова, Толя Семин, рассказывая о ком-нибудь, с кем его сводила жизнь, часто, когда позволяли обстоятельства рассказа, присовокуплял к характеристике: «был стихоплет вроде Наума», — что очень веселило моих приятелей и ничуть не огорчало меня. Да он и не собирался меня огорчать.
Приятелями моими быстро стали двоюродный брат Толи Юра Быков, работавший расточником на «СИПе» (он умер раньше Толи, его я уже не застал, вернувшись), и шлифовальщик Витя Тихов — тот самый, который придерживался антисемитских взглядов. Его имя и фамилия, здесь приведенные, вымышлены, хоть я помню и подлинные. Ибо, несмотря на свои высказывания, он был хорошим, добрым и порядочным парнем, никому не сделавшим зла. И умер он, хоть и вернувшись в свое родное Перово, очень рано, году в 1946-м, значит, еще до моего ареста. Его свалил туберкулез, сказалась, наверно, ежедневная абразивная пыль от шлифовального круга в течение двенадцати часов, дурное питание. В общем, война.
Сегодня обстановка острая, его высказывания, которые я буду приводить, могут вызывать раздражение и враждебность, каких они у меня не вызывали, и я не хочу, чтобы они относились к его реальному имени. В личных отношениях все высказывания имеют дополнительную окраску, идущую от живого ощущения личности. Ее не передашь. А рассказывать приходится, ибо это тоже, безусловно, было чертой времени. Так пусть реакция на эти высказывания обрушивается на никогда не существовавшего Витю Тихова, а не на того доброго и хорошего парня, с которым я дружил. И который был влюблен в прекрасную девушку Наташу из города Россошь, захваченного немцами, а потом от них освобожденного. Ему это сегодня вроде бы все равно, а мне нет. Мир его праху.
Мы вовсе не были замкнутым кружком, к нашей компании примыкали и другие ребята. Но друг с другом дружили несколько больше. Потом к нам примкнул ученик слесаря, ленинградец, переживший блокадную зиму, Рэм Штруф. Он был вывезен через Ладогу вместе, кажется, с ремесленным училищем. Матери у него не было, но его беспокоила судьба отца. Но не по тому естественному поводу, что во время войны тот был кадровым военным, а по особым причинам. С какого-то времени письма отца стали приходить не с фронта, а из глубокого тыла. Но поскольку обратный адрес был как в военной части, «почтовый ящик №…», я его уверял и сам думал, что отец его просто в тыловой части. Но Рэм недоверчиво качал головой, считал, что он в лагере, «За что?» — спрашивал я наивно. «За Штруфа», — отвечал Рэм. Отец его был обрусевшим немцем. Теперь я думаю, что он был тогда не в тыловой части, но и не в лагере, а в мало отличавшейся от лагеря так называемой «трудармии», куда мобилизовывали, точнее, запирали лиц призывных возрастов из всех сочтенных неблагонадежными наций, и без того уже высланных.
Но с этим я столкнулся только лет через шесть в других обстоятельствах и более подробно буду говорить в связи с ними. Тогда же я об этом ничего не знал и не думал. Только сочувствовал Рэму, его тревогам и его неустроенности. Конечно, никому тогда не было хорошо, но все же мы жили в семьях, а он был одинок, заботиться о нем было некому. Матери наши его жалели и, когда он к кому-нибудь приходил, старались чем-нибудь накормить — он всегда был голоден. Но много ли они могли — ведь мы и сами были голодны…
Я думаю, эпизод этот должен был бы сегодня некоторым «национально мыслящим» показаться фантастическим. Подумайте сами. Идет война с нацистской Германией, уже известно, что немцы не просто преследуют, а вообще уничтожают евреев. А немец, у которого отца преследуют за возможность сочувствия этой Германии, делится своими переживаниями с товарищем-евреем, с которым только что подружился, и нисколько не сомневается в его сочувствии. И, естественно, получает его.
И передо мной (со мной он подружился с первым, с остальными — через меня) даже вопрос не встает, верить ему или нет. Я ему верю, я не сомневаюсь не только в нем, но и в его отце, которого никогда не видел. Хотя я, как и он, — нас одинаково учили — нисколько не усомнился в том, что надо быть бдительным. Но это относится к каким-то другим людям. А это Рэм, он такой же, как я. А отец у него — командир Красной Армии, и сын воспитан в том же духе — чему ж тут не доверять? Это характерная деталь того времени, уже становящаяся анахронизмом благодаря войне и свирепой антинемецкой пропаганде, но еще остающаяся в людях, в их умах и душах, — живой человеческий интернационализм.
Он и сегодня во мне живет. Живет, хотя я давно знаю, что политический интернационализм — зло, покрывающее, а подчас и стимулирующее жестокое равнодушие к реальной жизни и людям (впрочем, как сегодня хорошо видно по Карабаху, Абхазии, Осетии — сегодня можно добавить и Чечню, — и национализм не всегда спасение). Но человеческий интернационализм, который нам попутно внушили, — вещь благородная. Впрочем, иногда он базировался на простой, не мудрствующей лукаво человечности. Но одно в данном случае не противоречило другому.
Я несколько отвлекся от нити рассказа. Мое знакомство с Толей, Юрой и Витей, стремительно перешедшее в дружбу, очень помогло мне освоиться в цехе. Конечно, нельзя сказать, что они были типичными рабочими, все они были людьми скорее интеллигентными. В цеху вообще работало много выпускников и бывших учеников средней школы. Но ребята уже были здесь своими, и это облегчило мою адаптацию. Но не освоение мастерства, сколько Толя Быков ни пытался мне в этом помогать. Помню его очень большие, добрые, какие-то все вбирающие и понимающие глаза, обращенные на меня, его совет — когда идешь на работу, думай о том, что и как ты будешь делать, — и непонимание, что именно этого я не умею.
У меня есть такая фраза-розыгрыш: «Стоит мне захотеть, и я напишу что угодно — хоть „Войну и мир“, хоть „Евгений Онегин“». Непосвященные шалеют от такой наглости. На самом деле никакой наглости за этой фразой нет и никаким потенциальным Пушкиным или Толстым я себя не воображаю. Наоборот! Речь ведь идет не о тщеславной мечте вдруг оказаться автором таких произведений, а о спонтанном желании их писать. Другими словами, о способности их замыслить. А замысел — вещь объемная, личностная, волевая. На такого масштаба замыслы, даже если ему подарить все сюжеты, редко кто способен. Но! — если б захотел!.. Но как раз на это у меня, как и у многих, кишка тонка.
«Замысливать» обработку сложной детали я тоже, к сожалению, так и не научился. У Толи это получалось естественно.
Пикантная подробность. Толя был сыном такой заметной в поселке фигуры, как начальник ОРСа — заводского отдела рабочего снабжения. Отдел отвечал за снабжение трудового коллектива и поселка продовольствием и промтоварами, работу магазинов, столовых, бытовых мастерских — всего, что имело отношение к жизнеобеспечению трудящихся. А поскольку снабжение по не зависящим от него причинам было из рук вон, то на Толиного отца, Михаила Сергеевича, благодарные трудящиеся вешали всех собак.
Пропаганда (плюс террор) приучила их ни в коем случае «не обобщать» (сиречь, не обвинять систему и Центр), а во всем винить местные органы, допускающие искривления правильной линии. Наиболее свирепо ярость масс изливалась на «завмагов», в ненависть к которым с конца НЭПа канализовалось народное недовольство. А Михаил Сергеевич был «главный завмаг» в околотке, и имя его было — притчей во языцех. Не останавливались перед любой напраслиной: он был и бездушный бюрократ, и вор, и Бог знает кто. Разгоряченное воображение голодных людей рисовало что угодно, вплоть до лукулловых пиров в его доме. Но ни Толя, ни Юра (Юра жил в семье Толи) не походили на выходцев из нечестных семей — Толя бы просто не пережил, узнай он что-нибудь такое о своем отце. Но узнавать ему было нечего. Михаил Сергеевич был честным и порядочным человеком. Максимум привилегий, которыми он пользовался — и вполне легально, — возможность отоваривать продовольственные карточки своей семьи по мере их получения.
Это кажется само собой разумеющимся правом каждого — на то и карточки даются, чтоб их отоваривать. Но тогда в Симу это была привилегия, и притом немалая. Это ведь только теперь считается, что во время войны была налаженная система снабжения по карточкам. В Москве в 1944 году (как было раньше, не знаю) она действительно существовала, но в Симу 41—43-х годов ее и в помине не было. В течение многих месяцев отоваривали только хлеб. Потом вдруг что-нибудь завозили и отоваривали сразу за много месяцев. Так что в перерывах между такими завозами возможность регулярно законно «отовариться» была существенным преимуществом. И на этом все кончалось. Но поскольку при этом Толина мать, тетя Настя, была блистательной хозяйкой, то жили они по тому времени сносно. Не более того. Они никак не относились к тем, о ком говорили потом, что «кому война, кому мать родна» и кто больше пострадал не от войны, а от ее окончания.
Михаил Сергеевич не нажил на своем хлебном посту никаких капиталов. Толя, вернувшись в Москву, продолжал работать на заводе, кончил «без отрыва от производства» вечерний техникум — на его, да и Юрино очное образование у семьи не было средств. Правда, Толя очень скоро стал с успехом работать на инженерных должностях — он был очень талантлив, — но ведь мог пойти гораздо дальше. Ни я, ни другие Толины друзья никогда не обращались к Михаилу Сергеевичу с просьбами, хотя относился он к нам хорошо. Только один раз, когда мне по какому-то серьезному поводу — по болезни отца или уходу моему в армию — полагалось срочное отоваривание (были соответствующие документы), я зашел к нему в кабинет. И то не по своей воле — меня послала к нему продавщица, требовалась его подпись на карточках. Подписал бы мне отоваривание тогда любой его заместитель — в таких случаях всем подписывали. «От себя» он мне мог только выписать лучшее из того, что у него было. На это он имел право. Но лучшее не так уж сильно отличалось от нелучшего, гораздо меньше, чем возможность отоварить свои законные карточки от невозможности это сделать. Но как раз эта возможность от него не зависела, и он этим не занимался. И никто из Толиных друзей на это не претендовал. В наших отношениях должность Толиного отца никакой роли не играла. А был он веселым, симпатичным и добрым человеком.
Да и вообще о «высоком родстве» братьев Быковых я некоторое время даже не догадывался. Мало ли Быковых в России. «Вразумил» меня Толин тезка, мой учитель:
— А ты знаешь, чей сын твой дружок?
Но это было сказано просто так, чтобы поразить. Никакой враждебности или даже отчужденности к Толе или к Юре никто не чувствовал. Они были своими. Настолько своими, что с ними стал своим и я.
Пора поговорить и о Вите Тихове. С ним я дружил так же, как с Толей, часто и подолгу разговаривал с ним, стоя у его станка. Он был высок, худощав, подтянут — конечно, насколько позволяли нелегкие бытовые обстоятельства военного времени, даже несколько итальянист. Это был первый в моей жизни интеллигент, не стыдившийся высказывать антисемитские взгляды. В сущности они не очень отличались от «общепринятых», от того, как и за что ругали евреев другие рабочие.
Но Витя подводил под это теоретическую базу — больше упирал на еврейское засилье, которое образуется из-за выработанной веками преследований склонности евреев поддерживать друг друга. Он говорил, что так настроена вся их семья, что отец его, инженер, долго сопротивлялся этому настроению, но под напором фактов уступил общему настроению семьи.
Кажется, это было связано с личностью Кагановича — отец работал в Наркомате путей сообщения, которым тот руководил. О Кагановиче Витя отзывался очень непочтительно, но подтверждал свои высказывания конкретными фактами. Это меня поражало. О Кагановиче я тогда, как все провинциалы юго-запада, и особенно провинциальные евреи, был чрезвычайно высокого мнения. Еще бы! Такой организатор! Столь же высокого мнения я был и о Ворошилове, Молотове, Калинине и всей уцелевшей части «старой гвардии».
Но Витины факты бывали слишком яркими (то, что я их сегодня не помню, ничего не значит — они давно перекрыты более впечатляющими). Меня донимали сомнения (на каком основании, что я о них знал?). Неужели правда? Что это была правда (хотя и не имевшая отношения к еврейскому вопросу), причем далеко не вся правда, я понял нескоро.
Как я относился к этим и другим антисемитским рассуждениям Вити Тихова? Конечно, я был в смятении. Но все же я его слушал, старался его понять. Ни тогда, ни потом я не согласился бы с тем, что общее осуждение целого народа, большой группы людей независимо от их личных качеств, стрижка их всех под одну гребенку может быть справедливой или оправданной. В самом согласии на это есть молчаливое согласие поступиться благородством. Довольно распространенная фраза: «он будит во мне антисемитизм» — буквально означает: «он своим поведением будит во мне сознание права ненавидеть и презирать и тех, кто так никогда себя не ведет». Конечно, такого никто ни в ком не будит, да и вообще те, кто так говорит, сами редко бывают антисемитами, но буквальный смысл этих слов как бы легализует антисемитизм.
И это грех. Так я думал и так думаю. Но это не значит, что в словах тех, кто стал или считает себя антисемитом, никогда нет никакой правды. Эта правда — не извинение антисемитизма (или русофобии, или чего угодно в этом роде), но правдой от этого она быть не перестает. Так вот — какую-то правду за словами Вити Тихова, да и за словами других рабочих, я при всем неприятии общей концепции иногда чувствовал. Может быть даже, она слишком сильно действовала на меня, подминала. Отделаться от всего этого ярлыком «антисемиты» я не мог. Антисемиты в моем тогдашнем (и в сегодняшнем — после всех открытий жизни) представлении — плохие люди, а вокруг меня плохих было мало, я таких и не запомнил. Действовал и юношеский конформизм — и временами я начинал верить в полную правоту окружающих, а ее, конечно, тоже не было. Некоторых мыслей, которые я тогда разделял, мне и теперь стыдно.
Но в целом процесс был для моего внутреннего развития благотворным. Все это заставляло думать, искать, всматриваться в себя, в других, видеть себя глазами других и смотреть на вещи шире. Во всем этом есть опасность утраты собственного взгляда на самого себя. Но опасность есть во всем. Я говорю о себе — мне это все пошло только на пользу.
Думаю, что значительную роль в таком предубеждении против евреев играло то, что евреев тогда продолжали еще идентифицировать с властью, к которой, естественно, были претензии у всех — справедливые, но подспудные. А у некоторых, может быть, ясные, но до конца не высказываемые. Таких я почти не встречал.
Но вот анекдот, проявляющий эту идентификацию вкупе с распространенным представлением об увертывании евреев от фронта.
Еврей горячо распинается о своей любви к советской власти.
— Так чего ж ты не идешь на фронт ее защищать?
— Не могу. Убьют — кто ж тогда будет любить советскую власть?
Разумеется, это анекдот о евреях. Однако и отношение к власти проступает в нем довольно отчетливое, без него нет никакого комизма. Но это анекдот. За всю свою симскую жизнь я только однажды видел человека, который высказывался прямо в этом смысле. Это был не кадровый рабочий, а мужичок в лаптях. Его, как и многих, «пригнали» сюда по мобилизации. Вроде работать на войну (он был еще крепок, но в возрасте), а оказалось — неизвестно для чего. «Какая работа! — возмущался он. — Тут концов не найдешь, ночью спать толком негде!» Но все это было, как говорится, в пределах нормы. Пока кто-то не спросил, откуда пригнали. Последовал ответ:
— Да за Шадринском живем.
— Давно там?
— Да с 31-го года.
— Так вы что — раскулаченные?
— Да, раскулаченные мы… Раскулачили нас… Оттого-то теперь всего много…
Помню отчетливо — пасмурный, слякотный день, мужика этого у заводоуправления рядом с проходной на дощатом тротуаре — в лаптях, высокого, крепкого, одетого бедно, но как-то очень пригнанно и сноровисто — для любой работы. И эти его слова, неопровержимо разрушающие все мои идеологические устои. «Раскулачили нас… Оттого-то теперь всего много» — это о более высокой форме производственных отношений!
Как я должен был это воспринять при своем Маяковском «Штурм унд Дранге», пафосе новой жизни и тому подобных глупостях? Как вылазку классового врага? Как просто всплеск классовой ограниченности и частнособственнической стихии? Или как выраженный «идиотизм деревенской жизни» по Марксу?
Но мужик ни вылазками, ни пропагандой не занимался, был раздражен конкретными обстоятельствами, а сказал это потому, что к слову пришлось. И идиотом он тоже не был — сказал правду.
Она разрушала мировоззрение, но я, как видел читатель в предыдущих главах, тогда несколько притих со своим мировоззрением, все-таки жизнь влияла на меня. Не то чтобы я отказался от прежних идеалов (Сталина я не любил, но колхозы по ошибке и неведению считал делом разумным, как все коммунистическое), но какие-то процессы во мне шли. А тут все было наглядно: и насколько «всего много», и даже почему это так. И даже что этого мужика оторвали от дела, где он был голова, и заставляют мучиться и мыкаться.
В цеху таких обобщений я не слышал. И разговоры об евреях не были связаны с ними. Было и такое: «Конечно, при царизме евреев притесняли, и они держались друг за друга, но теперь-то все по-другому, так какого ж хрена?» Того, что опять началась государственная дискриминация, что дело дойдет до «убийц в белых халатах», мы тогда не подозревали — ни они, ни я. Речь шла о замкнутости. На нее вообще очень жаловались.
Мне это было не совсем понятно. Я-то сам был человеком открытым, и все, с кем я общался в Киеве, тоже замкнутостью не отличались. Вероятно, это было впечатление от общения с прежними поколениями, болезнь притирания, недопонимания. Но разговоры и недоумения эти были искренними, желание меня обидеть или мотив травли исключается. А между тем само собой понятно, — более удобного объекта для антисемитской травли, чем я, в цеху не было. Там были еще евреи, но те умели работать, один даже был слесарем-лекальщиком восьмого разряда с большим стажем. А я был непонятно кто. Однако никто не травил, в основном все были дружественны, а разговоры были. И заставляли думать.
Но, разумеется, еврейская тема не была главной в наших беседах. Говорили о разном и разное. Даже в приведенном мной обличении еврейской замкнутости проскальзывает другое отношение к власти («при царизме их притесняли, а теперь они чего…») — как к началу справедливости, противоречащее тому, о котором я говорил раньше (как к чему-то, чего никто, кроме еврея, не любит).
Но все это как-то уживалось — часто даже в одних и тех же людях. Уживались даже такие вещи, как пораженчество и жажда победы. Во мне, как знает читатель, тоже многое уживалось.
Ведь это был 1942 год, и все это не было абстракцией. Фраза «Придут немцы — мы всем тут покажем!» — звучала вполне угрожающе. Сестра Вити Тихова, поначалу ко мне хорошо относившаяся, даже говорила, что меня в отличие от других евреев будет защищать (она потом ко мне переменилась, но в любом случае — помогла бы мне тогда ее защита!), и это тоже звучало реально. Впрочем, я в наше поражение не верил.
Но в принципе дело тут было не в евреях. Жизнь была скудной, снабжение никудышным, обеды в столовой (для многих единственная горячая пища) иногда стоили 10 копеек. Представляли они из себя в такие дни миску пустого, жидкого супа со считанными крупинками пшена. Иногда суп этот был из крапивы. Ходили в лаптях — я был только зачинателем этого «движения»…
И при этом вдруг устраивался банкет в честь приехавшего начальника главка. Я не знаю, чем кормили на этом банкете, может быть, ничем особенным, но во-первых, именно потому, что никто не знал, голодному воображению рисовались столы, уставленные роскошными яствами, во-вторых, само устройство в такой момент «банкета», разрушало связь и доверие. Что было отвратно — и по-человечески, и по отношению к идее, и вообще в обществе, стоящем перед лицом наступающего противника.
Я тогда ненавидел всех, кто это устроил, и чуть ли не всех, кто в этом участвовал. Они все для меня олицетворяли образ «начальства», которое близоруко и неграмотно заботится только о самом себе, образ всего, что я ненавижу. Потом я встречал представителей этого «начальства», и в личном плане они у меня ненависти не вызывали. Ведь они не были даже номенклатурой, и не из них она рекрутировалась. Однако — советские люди! — приходилось, и роль такую они играли.
По своей воле? Вряд ли. И наверняка не все. Все-таки воспитание мы все — а они, поскольку были старше, тем более — получили исключавшее допущение такого неравенства, да еще в трудный момент. О дореволюционных интеллигентах я вообще не говорю. У них это противоречило самой природе отношения к вещам, у советских — единственному, что у них было, — мировоззрению.
Я уже говорил о том, как еще в начале тридцатых, развернув кампанию по борьбе с уравниловкой и за стимулирование производства, Сталин под шумок заставлял ответработников посещать роскошные однодневные дома отдыха, которые многим посещать было стыдно. Но приходилось. Это не имело отношения к борьбе с уравниловкой или к стимулированию производства, но было проверкой на лояльность, точнее на готовность поступиться любой идеологической верностью ради угождения пахану. Кроме того, это было согласием на отрыв себя от людей, приятием внедряемой им аморальности — трусости и бесстыдства. Дальнейший подбор кадров шел главным образом по этому признаку. Другими словами, не побоюсь удивить читателя — по безыдейности.
На самом деле удивляться тут нечему. Мое, неоднократно заявленное, отрицание идейности как духовной ценности противопоставляет ей религию, в любом, даже самом наивном выражении, но не безыдейность. Впрочем, не ко всем вообще применимы эти категории. Нелепо, например, называть безыдейным (равно как и идейным) мужика, о котором только что шла речь. Безыдейность это то, что бывает не само по себе, а вместо идейности. Она хуже идейности, ибо является ее имитацией. Особенно в идеократическом государстве, где она выполняет роль идейности и насаждает не самообман, а пустоту.
Сталин это «безыдейное» государство (и задавленное им общество) создал перед войной, по-настоящему оно заявило о себе и показало себя во время войны.
Не знаю, возможен ли был такой банкет в другом обществе. Знаю, что еще и после войны на английских королевских приемах бывало более чем скромное угощение. Определялось это приличием — когда всей стране тяжело, верхам нехорошо и политически бестактно роскошествовать — тем более открыто. Скажут, что это ханжество, и вряд ли это будет правда. Но даже если это так, то ханжество все-таки — по известному определению — дань, которую порок платит добродетели. А если порок вообще забывает о добродетели, действует открыто и отказывается платить эту дань — разве лучше? Безусловно, и у нас это нарушало нормы приличия и было политически бестактным. Но вдобавок это еще противоречило официальной идеологии, гласными приверженцами которой официально были все гости, хозяева и приглашенные.
Как так? Тогда ведь еще люди, несмотря на все пережитое, даже на парализующую сознание оглушенность коллективизацией и ежовщиной, не были такими поднаторелыми, как после войны. Ведь это был еще — подумать страшно — сорок второй год. Всей советской истории было еще только двадцать пять лет. Ведь все было так недавно.
Только что, лет семь назад, культивировался спартанский дух, и такие банкеты — и не в таких условиях — были любимой мишенью фельетонистов. За это можно было и партбилет во время «чистки» потерять. Существовавшие тогда же однодневные дома отдыха для ответработников были секретными, а «чистки» проводились громогласно. Впрочем, билеты, отобранные за такое громогласно, потом обычно инстанциями возвращались келейно — правда, с выговором для порядка. Но все же это была крупная неприятность.
И если теперь, во время войны, устраивался банкет, то устроители прекрасно знали, что это МОЖНО, а раз можно — значит НУЖНО. Значит, устроители знают, что это норма, и ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ. Конечно, это все мое позднейшее понимание.
Тогда же, после того как я убеждался, что это так (поначалу не верил), это воспринималось мной просто как крушение. Не надо забывать, что завод был московский, и гости тоже были московские — из наркомата. Для меня тогда слова эти еще много значили. Все-таки Центр — средоточие «нашего духа». И вдруг — банкет. Значит, ничего святого не осталось нигде.
И, действительно, это проявляло себя создаваемое Сталиным псевдосословное государство с кричащими прямо-таки урочьими привилегиями. И естественное приятие их постепенно становилось критерием благонадежности и условием успеха. При этом все обязано было продолжать считаться революционным коммунизмом. Опять-таки как в урочьем романе: «Жил-был английский граф. У него было два сына, Петя и Коля, и дочь Вера…» Но только роман этот заставляли воспринимать всерьез. И опять вспоминаются мне уже процитированные строки забытого стихотворения про «муки последних советских людей, не умевших понять, где свои, где чужие». Правда, исподволь возникала для меня другая ценность — Россия. Но об этом потом. Впрочем, и это, как уже сказано, шло через цех.
Должен сказать, что в нем среди класса-гегемона особых ревнителей революционных традиций тогда не наблюдалось. Кроме меня, на них духовно опирался только фрезеровщик Пашка Богомолов — так его и называли: Паша, Пашка, хотя был он уже мужчиной в летах. Но выглядел он всегда очень запущенно, как-то нечисто, что неудивительно — жил бобылем, спал тут же, в цеху, судя по всему, пил (хотя в толк не возьму, что), а квартирой — в отличие от всех других рабочих (зарабатывал он вовсе не меньше других) — упорно не обзаводился. И всегда был неопределенно агрессивен. Революционность его заключалась в том, что на всех цеховых посиделках, случавшихся в основном по случаю отключения электроэнергии или в обеденный перерыв, а часто и без посиделок, просто проходя мимо, он по поводу всех, кто его возмущал, неизменно объявлял: «Мне б сейчас законы революции, я б с ним, с гадом, не так поговорил!» По-видимому, какие-то сладкие воспоминания о временах, когда действовали эти «законы», у него были. И, видимо, они были такие, что я, человек, который тоже тосковал по этим временам, слыша, как он о них говорил, внутренне поеживался…
Не знаю, действительно он так погулял в Гражданскую или только видел, как другие гуляли (его угрозы и филиппики были направлены в пространство, а сам он никому зла не делал и даже никого не обижал), но ничего романтического и «чистого» за Пашиными словами не вставало, только неукротимая ярость злобного самоутверждения и компенсации, и я против воли понимал, что это правда, что эта стихия, которую я за ним чувствую, была в революции именно такой.
Конечно, я мог утешаться (и утешался) тем, что эта стихия не единственная и что вообще «революции не делаются в белых перчатках», я вообще на этом не зацикливался, не до того было, но все запомнил. На моем пути это был второй случай необаятельной революционности (первым, если помнит читатель, был красный партизан из Александровки).
К «революционности» Пашки Богомолова рабочие относились иронически — в принципе рабочим, особенно квалифицированным, люмпенская стихия по природе чужда и неприятна. Хоть недовольства у них тогда хватало, выражалось оно, как видел читатель, менее идеологически. Но к нему самому отношение было вполне дружелюбное и сочувственное, как к горемыке.
Был в цеху еще один горемыка, человек примерно такого же образа жизни, как Богомолов, по фамилии или прозвищу Земляк, по специальности, если не ошибаюсь, слесарь-механик. Но тот о «законах революции» не разглагольствовал, больше вообще мрачно молчал. Правда, запомнился он мне потому, что однажды заговорил — выступил на каком-то цеховом собрании во время пересменки, то есть в присутствии всего цеха. К ораторству он склонности не имел, выступил потому, что накипело, выступал он при полном сочувствии аудитории и при ее же дружном хохоте.
Сочувствие было вызвано тем, что он говорил о том, что у всех болело: о невозможной жизни рабочего человека, о неуважительном отношении к нему повсюду, куда он обращается, о дурном снабжении, о пустом супе в столовой и о прочих возмутительных вещах. А хохот был вызван тем, что говорить о волнующих его вопросах он привык с привлечением, так сказать, ненормативной лексики, которую сам полагал в публичных выступлениях неуместной, но от которой не мог избавиться. Отсюда и получался комизм.
Например, и обозначив точно, чем официантка, перед тем как исчезнуть, крутанула перед рабочим человеком в ответ на справедливое требование и соответственно обозвав ее за это блядью, он тут же спохватывался, спотыкался и начинал извиняться, даже сокрушаться по своему же поводу, но спонтанно тоже в тех же выражениях, за чем следовал следующий виток таких же извинений, в которых он окончательно, при сочувственном смехе рабочих, запутывался. После чего начинал сначала. Тогда еще было немало таких рабочих, тогда ведь еще и семилетки кончали не все. Учитель Рэма, квалифицированнейший слесарь, ухитрялся объяснить ему самое сложное задание и работу весьма сложных устройств, не употребив ни одного нормативного, а попросту — нематерного слова. Кроме предлогов и союзов, конечно. Публично он не выступал, но думаю, что, если бы пришлось, смог бы обойтись без мата. А в быту не мог без него. И не то, чтобы он изгалялся или «выпендривался» — ничуть. А именно не мог. Человек был взрослый, солидный. Вид, правда, имел несколько нервный, но если это на чем и сказывалось, то только на лексике. Звали его все уважительно — Виктор Федорович. Так ведь не всех звали.
Моего учителя Толю звали по имени, а одного из слесарей, не менее квалифицированного, чем Виктор Федорович, звали просто Акулиной, хоть имя ему было Василий. Но это, видимо, за внешность, — он был видом широк, приземист и простоват. По-моему, за внешность же его считали и «кулачком» — больше этому не в чем было проявиться.
Вообще разные люди были в цеху. Однажды в ночную смену, возвращаясь из столовой, я еще издали услышал раскаты хохота. Подойдя ближе, я в соседнем отделении увидел большое скопление рабочих, кто на чем сидящих вокруг одного из своих товарищей и весело слушающих, что он им рассказывает. Слушали активно, время от времени давясь от смеха, задавали подначивающие вопросы, но они, как и взрывы смеха, никак не прерывали плавного течения диковинного рассказа. Наоборот, подстегивали его. Рассказчика нельзя было ничем ни смутить, ни сбить. Это был известный всему цеху, кроме меня, враль (к сожалению, забыл его имя и фамилию — назову его Иваном Евтюховым). Я бы сказал — профессиональный враль. Нет, не обманщик: тому, что он рассказывал, не поверил бы и ребенок, а именно — враль.
В данный момент Иван Евтюхов делился с публикой «трагическими» воспоминаниями о том, как, находясь на действительной службе в Красной Армии, он узнал об измене жены и отомстил. Суть, конечно, была не в самой канве рассказа, а в его подробностях — в неправдоподобных обстоятельствах, в которых это происходило. Подробностей этих я почти не помню, но суть сводилась к тому, что Иван Евтюхов, узнав про измену жены, счел себя оскорбленным за всю Красную Армию, с чем вся эта армия была согласна (чуть ли не разведотдел ему и сообщил об этом грозном для армии факте). Противодействуя каким-то злым силам, он временно из армии дезертировал, тайно приехал домой, застукал преступников на месте, именем революции казнил их и вернулся в часть. Про его подвиг узнал сам наркомвоенмор Ворошилов, после чего повсюду по его приказу летали самолеты и разбрасывали листовки такого приблизительно содержания: «Всем надо брать пример с красноармейца Ивана Евтюхова, героически защитившего честь Красной Армии!»
Народ, естественно, валился от хохота, но сам Евтюхов сохранял невозмутимую серьезность. Дескать — хотите верьте, хотите — нет, а так было. То, что я припоминаю, — даже не бледная тень его красочного повествования, а контуры чего-то смутно брезжущего. А ведь это было очень талантливо. До сих пор я о таких вралях только читал, а теперь услышал и увидел сам. Надо бы записать это тогда же, утром, только придя домой, по свежей еще памяти, да ума еще на это не хватало. Но впечатление врезалось на всю жизнь. Мое ощущение России становилось все богаче, а главное — живее.
А в цеху случались и вообще на первый взгляд странные вещи. Помню, например, случай, который вполне легко было подвести по тогдашнему времени под понятие «акт коллективного саботажа». Саботажа, конечно, никакого не было, а было вот что. Завод стоял, из-за аварии на ТЭЦ не было электроэнергии. Но в это время как раз готовилась оснастка для уже упоминавшегося БСМ-12, за которым следили верха, и чья-то умная голова решила продемонстрировать, что инструментальщики все равно работают — выполняют задание правительства. ТЭЦ приказали остатки мощностей сконцентрировать на нас, а нам — одним на всем заводе — работать.
Сознание, что мы торчим в цеху, когда все остальные «гуляют», прямо скажем, и само по себе не окрыляло (как помнит читатель, заработки в деньгах тогда не могли быть серьезным стимулом для трудового энтузиазма). Но это был и «мартышкин труд», поскольку ТЭЦ не выдерживала, энергия отключалась, и все смолкало. Кроме, конечно, возмущенных голосов рабочих. В конце концов с ТЭЦ позвонили и сказали, что попробуют еще раз, но чтобы мы включали станки не все враз, а постепенно.
Тут-то и произошел «саботаж». Разумеется, в то, что из этого выйдет толк, никто не поверил — просто они «там» будут тянуть резину, а мы — только зря мучиться. Поэтому даже нельзя сказать, что всеобщее решение включить все станки именно сразу созрело мгновенно, оно просто висело в воздухе. Это и было проделано, причем как-то очень быстро и слаженно. Все, включая слесарей, встали у своих и «бесхозных» станков и по знаку диспетчера Задова синхронно включили их. Через пару минут все опять отключилось, и искомое было достигнуто — нам велели расходиться. Последствий это происшествие не имело. То ли никто не донес, то ли сами понимали, что эта затея с частичной мобилизацией ТЭЦ — чепуха, то ли вообще тогда слабей репрессировали: говорили не стесняясь все, а всех пересажать нельзя было — ведь власти надо было, чтобы кто-то и работал. Сажать опять стали, когда начались победы — и то не в этой среде.
И никак это не было пораженчеством. Им ведь в основном только бравировали. Помню одного рыжего токаря, который, перекуривая, всем говорил, что работать «на них» не будет ни за что. Но высказав это, возвращался к станку и опять исправно работал. Особенно это стало видно, когда начались наши наступления. В цеху это вызывало подлинное ликование, центром которого бывал, как ни странно, я — из-за своих связей с редакцией. Там записывались сводки Информбюро. По этой причине, особенно когда мы работали в ночную смену, меня отряжали туда за полчаса до обеденного перерыва, чтобы я раньше вернулся. Я заходил туда, быстро переписывал не столько сами сводки, сколько предварявшие их в таких случаях сообщения «В последний час», в которых кратко и торжественно перечислялись освобожденные за день города. Я возвращался в цех, объявлял, зачитывал записанное вслух по нескольку раз и встречал всеобщее ликование и благодарность. Лица светились. Меня готовы были на руках качать. Естественно, не за мои заслуги, у каждого из них заслуг в этом было больше, а просто как доброго вестника. Весть эта для них была более чем доброй. Какое уж тут пораженчество!
В цеху мне довелось общаться с еще одним примечательным человеком, о котором разговор особый. Для меня он несколько выбивается из общей атмосферы цеха. Хотя был он, как и все вокруг, рабочим, и как многие — квалифицированным, токарем-лекальщиком восьмого разряда. Но я не уверен, что это было подлинным его социальным статусом. Было в нем нечто, из-за чего при всей простоте цеховых нравов не только ученики, а все более молодые, чем он, рабочие звали его в глаза не Миша и не Мишка, как бы звали другого, а «дядя Миша», а за глаза — «дядя Миша Нефедов».
Заговорил он со мной первый. И поразил меня — языком и осведомленностью. После этого я часто прибегал к нему в лекальное отделение. Он приветствовал меня кивком, в своей обычной позе — согнувшись над очередной сложной деталью. Он работал и что-то мне объяснял, а я подолгу стоял над ним по другую сторону его станка и слушал. Разумеется, мне тогдашнему, кто иного замутнения, иной порчи духа, чем, говоря сегодняшним языком, осквернение коммунистической революции сталинщиной не представлявшему, мне, кто мучительно и перманентно разрешал вопрос, произошло ли оно вообще, это замутнение, а если произошло, то по инициативе или неведению самого Сталина это случилось — мне такому человек типа Михаила Нефедова понятным быть не мог. Как и я не мог быть ему близок.
Но все же кое-что я понимал, вернее, ощущал. Например, что он гораздо интеллигентней и образованней, чем я, что за ним груз передуманных мыслей. Глухо (или я понимал глухо?) он говорил о судьбе России, поминал в связи с ней и со своими мыслями Достоевского — так, как до этого я не слышал. Помню, как он вдруг расчувствовался — рассказал, что в Москве иногда под вечер выходил на Красную площадь, проходил мимо Василия Блаженного, Исторического музея, вообще гулял по остаткам старой Москвы, и на душе светлело.
Для меня тогда Красная площадь была связана только с революционными и сталинскими парадами и демонстрациями, с Мавзолеем Ленина (в котором, тем не менее, за свои 67 лет я ни разу не был — даже когда чтил «Ильича»), а такое — естественное — восприятие было в диковинку. Вроде противоречило всем представлениям. Но странно, хоть сталинский поворот к патриотизму меня раздражал, этот — вызывал симпатию. Я знаю, что есть люди, благодарные Сталину за возрождение или реабилитацию русского патриотизма. Это ошибка. Сталин так же подменял патриотизм революционностью. Эта подмененность, неподлинность и отталкивали меня. У Нефедова подмены не было, и я при всей своей дури это чувствовал и испытывал к этому патриотизму по меньшей мере уважение и интерес. Не говоря уже о том, что за этим вставало реальное чувство истории.
Почему он беседовал так именно со мной? Неужели не видел, что имеет дело с революционным лопухом, который понять его еще никак не может? Видел. Но больше не с кем было. Нет, он нисколько не относился свысока к своим товарищам: ни к их уму, ни к их чувству юмора да и самого языка. Но во мне он, видимо, разглядел наклонность к тому ракурсу рассмотрения проблем, в которой сам нуждался. Разумеется, в потенции разглядел. Остальных этот ракурс — обобщенное рассмотрение проблем — интересовал не очень. Интеллектуальность — это не наличие ума, бывают и глупые интеллектуалы, а стремление понимать характер интереса к истине. Думаю, что некоторую, пусть и неуклюжую, но подлинную потребность понимать он во мне и почувствовал. На безрыбье и я сгодился. Считаю, что мне повезло.
Я не знаю, почему этот человек связал свою судьбу со станком и лекальной пастой (этой пастой трут хорошо отшлифованную стальную поверхность, чтобы снять последние лишние микроны). Конечно, и тогда встречались начитанные и культурные рабочие (а сейчас по языку часто вообще бывает трудно быстро определить уровень образованности, а тем более социальный статус человека), но это был другой случай. Здесь образованность явно была приобретена раньше рабочей квалификации.
По-видимому, «дядя Миша» был одним из тех, кто должен был в цеху замаливать грех социального происхождения. Почему, подобно многим, он не вырвался из этого состояния потом — не захотел или почему-либо не смог — не знаю. Он мне о себе вообще никогда не рассказывал. Все это я думаю о его судьбе теперь, но, вероятно, чувствовал и тогда, хотя вряд ли додумывал. И хотя выходило, что он человек, пострадавший от революции, а это в моих глазах вроде бы не красило, все равно он мне нравился. Идеология смущенно отступала.
Но дядя Миша хотя бы избегал прямого отрицания моих верований. А ведь был у меня в Симу, пусть не в цеху, но на заводе, товарищ, который все это мое мировоззрение подавлял здравым смыслом и к которому я все же чувствовал только симпатию.
Фраза странная, почему симпатия к человеку здравого смысла должна была быть «все же»? Но я ведь цеплялся за большевистскую идеологию, а она выросла в борьбе со здравым смыслом, она различными способами прививала своим адептам иммунитет по отношению к нему нечто вроде антабуса, прививаемого алкоголикам, чтобы они боялись водки. Он (здравый смысл) был и мещанским, и мелкотравчатым, и бескрылым… И вдруг молодой, очень складный юноша спокойно проявляет этот здравый смысл, применяет его к святая святых — нашей общественной жизни, а я ничего — слушаю. И испытываю дружескую симпатию к этому юноше. И не сгораю на месте от такой беспринципности.
Но надо по порядку. Звали этого парня Валя Гребнев, приехал он с отцом из Нижнего Новгорода. Тогда, конечно, из Горького, но Валя по всей структуре личности был именно нижегородец. Самое удивительное, что обретался он в кругах близких к комитету комсомола, где изредка бывал и я, принося свои стихотворные поделки для наглядной агитации — я забыл сказать, что именно здесь меня вторично после Киева, где мне не выдали никаких бумаг, подтверждающих мое членство, приняли в комсомол.
В комитете комсомола мы с ним и встретились. Потом встречались не раз и разговаривали. Никаких моих революционных бредней Валя не принимал, отметая их с порога, как и саму идею социализма. Причем не взбираясь на теоретические высоты, а аргументируя жизнью. Тем же самым, что и мужик у заводоуправления: — «что всего теперь много». Но Валя видел проблему шире, осознанней и спокойней — темноту ему не припишешь. Что говорить, если он тогда — в 1942 и в 1943 годах — настаивал на частной собственности как на нормальном и спасительном порядке вещей. Подумать только!
В шестидесятые годы эта мысль постепенно переставала казаться дикой, но все еще поражала неожиданностью, особенно если речь шла не о деревне. Это сегодня в ней вообще нет ничего удивительного. Но услышать ее в сорок втором, да еще в кругах, близких к комитету комсомола? Это было просто немыслимо. Но вот услышал.
Как ни странно, был Валя Гребнев при этом настроен оптимистично и уповал вовсе не на приход немцев, которые к тому же уже отступали. Нет, он уповал на то, что меня больше всего огорчало — на нереволюционность сталинщины. Ему казалось, что власть взялась за ум. Он мне рассказывал, что у них в Горьком существуют частные цеха и чуть ли не заводы, которые каким-то образом работают иногда даже на оборону. Я видел его отца и думаю, что Валя знал, что говорил — деловой размах в его отце чувствовался явно. И как-то он, видимо, находил выход.
К сожалению, как понимает читатель, Валя был не меньшим, хоть и на свой салтык утопистом, чем я. Только его утопией стала вера в здравый смысл.
Мы жили во времена, когда это было утопией, когда русский крестьянин Михаил Пряслин, которому по всему надлежало бы быть Санчо Пансой, в родной деревне (к концу тетралогии Федора Абрамова) начинает выглядеть Дон Кихотом и именно потому, что обладает всеми достоинствами своего сословия.
И опять — почему мы с Валей сошлись при столь различном мировоззрении. Опять потому же — объединяла нас потребность думать и о том, что нас непосредственно не касалось. И ведь думали, говорили, не подозревали друг друга в способности донести, и все нам сходило с рук. Разговоры о том, что все вокруг доносили — преувеличение. Как и противоположные — что все все понимали: и про Сталина, и даже про Ленина. Про Сталина мало кто понимал, а про Ленина — почти никто. Кроме старших. Не понимали, но и не доносили.
Впрочем, идеологические неприятности у меня уже к тому времени были и здесь. Мелкие, правда. Связаны они были со стихотворением, написанным по поводу моей поездки в райвоенкомат в Ашу (станция Вавилово) на ступеньках поезда, поскольку не было билетов. Я его прочел на каком-то вечере. Стихотворение романтически-лирическое, наивное по сути и исполнению, но где тут крамола? А впрочем, вот оно:
ПОЕЗДКА В АШУ Ночь. Но луна не укрылась за тучами. Поезд несется, безжалостно скор… Я на ступеньках под звуки гремучие Быстро лечу меж отвесами гор. Что мне с того, что купе не со стенками: Много удобств погубила война. Мест не найти — обойдемся ступеньками. Будет что вспомнить во все времена. Ветер! Струями бодрящего холода Вялость мою прогоняешь ты прочь. Что ж! Печатлейся, голодная молодость. Ветер и горы, ступенька и ночь!Почему-то за этим, «комсомольско-молодежным» стихотворением был заподозрен некий протест. Дескать, кто-то едет в вагоне, а я мыкаюсь на холоду, на ступеньках, и молодость у меня вообще голодная — по вине тех, кто сидит в вагонах. Я тогда очень удивлялся. О том, что все живут тяжело, о скудости питания открыто писали все газеты и говорили по радио. То, что с транспортом все непросто, тоже не было секретом. Причем здесь вовсе не было жалобы на эти обстоятельства, скорее гордость.
Но, по-видимому, «голодная молодость» все перевешивала, пугала. Ведь «заподозрили» меня люди, которые ко мне плохо не относились, зла не желали и зла не сделали. Наоборот, хотели уберечь от него себя, но и меня тоже. Это были неплохие люди — как бы одиозно ни звучали названия их должностей сегодня. Мне просто запретили впредь читать эти стихи публично, и все. Да, эти люди боялись, но кто сегодня скажет, что боялись зря? Конечно, они были сбиты с панталыку, но ведь и те, кто был над ними, тоже.
Тогда я был, конечно, очень возмущен, внутренне издевался над их темнотой и глупостью, но сегодня привожу этот факт не для жалобы на них или их разоблачения. Они не были глупыми людьми, а нормальными людьми в глупом положении. А так никакой черт не заставил бы их вообще высказываться насчет стихов. Но что было делать, если они отвечали и за стихи.
Вот в такое время вели мы с Валей Гребневым свои беседы.
Я точно не помню, какое отношение имел Валя к комитету комсомола, был его членом или активистом при нем. Но какое-то имел, что было при его мировоззрении странно. Правда, при его упованиях — это объяснимо. Мы дружили с ним недолго. Когда стали набирать комсомольских работников для освобожденных областей (местные ведь доверия лишились), Валька вызвался и уехал из Сима. Мы дружески с ним простились, но больше я о нем никогда не слышал — карьеры, во всяком случае политико-административной, он, видимо, все равно не сделал. И неудивительно. Не подходил, по-моему, как личность.
С заводским комитетом комсомола, где я познакомился с ним, связан и другой удар по моим представлениям. Детским и идиллическим? Конечно. Но в том-то и суть, что невозможность идиллии есть невозможность коммунизма. Да, коммунисты берут на себя многое, переиначивают мир, совершают во имя этого преступления. Но если и впрямь только во имя этого (что я никак не считаю оправданием), то хотя бы сами перед собой они при этом должны быть чисты и бескорыстны. Иначе… Иначе было всегда, и я это уже знал, это оскорбляло меня.
Помню, как однажды, когда мы уже получили комнату, где-то рядом ночью загорелся дом. Я, как работник редакции (пропаганды!), счел долгом броситься его тушить, тушил всю ночь и был поражен тем, что почти ни один из живших рядом ответственных коммунистов не бросился на борьбу с этой общественной опасностью. О том, что раньше простые мужики — а не коммунисты, обязавшиеся жить исключительно для общества, — сбегались в таких случаях безо всяких понуканий, я вообще, наверное, не вспоминал. Но то были ответственные, их можно было считать обюрократившимися. А здесь в комитете ведь был комсомол, свои ребята, такие, как я. К тому, что я для них делал «на общественных началах» и в подражание Маяковскому считал делом нужным и полезным, я относился тогда серьезно, даже истово. И считал, что они ко всему относятся так же.
Но два эпизода вдребезги разбили эту иллюзию. Восприятие при передаче этих эпизодов я постараюсь передать тогдашнее. Когда я считал себя коммунистом и принимал его невыносимый ригоризм всерьез.
Я давно уже не считаю, что жизнь людей подчинена великой цели, не предъявляю ни людям, ни себе самому невыносимых требований и вполне терпимо отношусь к неизбежным человеческим слабостям, особенно не к своим. Правда, и теперь я терпеть не могу людей, не соответствующих требованиям, предъявляемым ими к другим. Большевики всегда этим грешили, закрывая на это глаза, а сталинские выдвиженцы и грехом это не считали.
Итак, эпизод первый. Прямо скажем, мелкий. Однажды меня попросили написать приветствие фронтовикам для посылок с подарками. Я написал и принес их в комитет. Дверь была заперта. Я постучался. Спросили, кто это, впустили меня. Шел процесс упаковки посылок и одновременно частичного поедания их. Парни и девушки — комсомольская элита — делили и весело поглощали печенье. Это происходило в голодном поселке, работавшем день и ночь на войну и о печенье даже не мечтавшем. Разумеется, собрать такие посылки в поселке было негде и не у кого, это печенье испекли из муки, полученной из каких-то фондов, значит, отнятой у рабочих централизованным порядком. А сейчас это отнималось еще и у фронтовиков. Мой ригоризм это очень оскорбило. Но меня тоже угостили — когда я уходил, дали четыре маленьких печенья — узеньких, желтеньких, длинненьких — сантиметра четыре на полтора и миллиметра три толщиной. Отказываться при таком раскладе было нелепо, и я тоже оскоромился, взял. Но что-то в душе моей лопнуло.
Помню, как я шел с этими печеньями. Два тут же заглотнул, хотел третье — и вдруг остановился. Ну вот проглочу и эти, а что дальше? вкус их я уже ощутил, а так — словно бы и не ел. И еще два печенья ничего тут не изменят. А у соседей по квартире две десятилетние девочки — они обрадуются, и это будет гораздо более разумное помещение капитала. Так и сделал. И было мне очень приятно. Но, — думал я, — лучше бы этого вообще ничего не было.
Не подумайте, что я осуждаю этих парней и девушек. От этого в тех условиях мало бы кто удержался. Хотя если и впрямь слаб человек, то не становись молодежным вожаком и не гони людей по своему разумению в рай. Но ведь ребята из комитета этого тогда и не знали, их воспитывала сталинская действительность.
Второй эпизод серьезнее. Меня вызвали в комитет и сказали: «Есть постановление обкома о мобилизации комсомольцев на уборку урожая. Мы всем комитетом уходим в деревню. Пойдешь с нами?» Запахло чем-то вроде дорогой мне тогда романтики Гражданской войны: «Райком закрыт, все ушли…» Я, конечно, согласился, хотя, скажу наперед, делать мне там было нечего. О чем я не знал, но они-то знали. Потом оказалось, что партком их не отпустил. Поехали, в основном, ребята, выделенные по разнарядке цехами. Кроме них, только одна работница редакции и от парткома — руководитель Петр Мякишев, хороший и честный человек (потом он стал редактором газеты), в сущности тогда в колхозе он работал один за всех. В колхоз я поехал, но после этого ни в какой комсомол я уже никогда не верил. И осадок был неприятный. Неприятно, когда злоупотребляют твоими верой и доверием.
Однако поездка моя в деревню достойна отдельного описания — уже почти без всякой связи с «комсомольской» темой. Прежде всего ввиду моей полной неприспособленности. То, что я не в состоянии подавать вилами снопы на молотилку, крестьянскому глазу стало ясно тут же. Меня пытались приспособить к тому, чтобы возить снопы. Но лошади меня не слушались и возили меня по кругу под хохот окружающих. Наконец, мне нашли подходящую работу — стеречь по ночам хлеб от воров. Собственно, это была не работа, а синекура, потому что на этом боевом посту уже находился один дед, который, правда, был приставлен к лошадям, но все равно находился и при хлебе. Просто не знали, куда меня девать. Я был отправлен в деревню отдыхать и с наказом вернуться к концу рабочего дня.
Когда я вернулся, я был представлен деду. Тот встретил меня строго:
— Только смотри, Наум, у меня не спать!
— Да что вы, дедушка! — взмолился я. Я был так рад, что прибился к делу, а тут — спать! Да ни при какой погоде!
— Ну, смотри! — сказал дед.
После этого все, кроме нас с дедом, с тока уехали. Тон деда тут же изменился.
— Наум, ты походи вокруг, собери сухих сучьев (на Урале поля перемежаются перелесками), затируху сготовим.
И после того, как я принес:
— Вот и хорошо. Сейчас вот затирушку сготовим, поедим, а потом спать ляжем.
Тут я опешил. Ведь это после такого строгого внушения — чтоб ни в коем случае не спать. Я не мог скрыть удивления.
— Как же спать, дедушка?
— Так и спать… А что?
— Так ведь воры могут прийти…
— Да нет… Воры не придут… Как бы начальство не пришло.
И мы действительно ночью спим. Но перед тем как уснуть, долго разговариваем у таганка. Не могу сказать, что я тогда постиг — хотя бы поверхностно — жизнь деревни, но общение с дедом мне было очень интересно. Это был новый для меня мир, новая психология, иногда совсем неожиданная, но какая-то очень реальная.
Однажды дед меня спросил:
— Наум, а большевики еще долго продержатся?
Естественно, я обалдел от такого вопроса. Нет, не от его опасности, а вообще — как же можно такое подумать…
— Конечно, долго, — пробормотал я, — всегда…
Дед со мной не согласился.
— Нет, не будет так, не клеится что-то у них (клеится он произносил с ударением на «и»)… Не клеится. Хотели, может, и чего хорошего, но не клеится… Вон и у французов когда-то так было… Тоже хотели…
Я был поражен. После вылазки в Свердловске, где я обнаружил закрытые распределители (например, на углу Ленина и Толмачева — прежних, к сожалению, названий не знаю), у меня появилось стихотворение:
Пора задуматься теперь Над будто понятой картиной. Был, как Людовик, Робеспьер Взведен под вой на гильотину. Курьезная такая вещь! Но может повториться снова. Уже ее зачатки есть У итээровской столовой. В глухом ворчании людей, И в поездах, что с фронта едут, В швейцаре грубом у дверей Для всех закрытого «распреда»… …Но хочется слова найти, Чтоб взгляды выпрямить косые, Чтоб не свернула ты с пути, Идущая вперед Россия.Но здесь, конечно, я еще более за большевиков, за их путь «вперед» (и невдомек мне, что я не знал, где этот «перед»), сочувствую Робеспьеру как трагическому герою… Впрочем, ведь и дед о том же… Хотели хорошего…
— Ты сам посмотри… Как коммунист, так он — живет. А как простой человек — так мучается… Никто и не работает… Конечно, не клеится…
Что ж, высказывается он точно, он вообще человек умный, умудренный опытом. Но понимает ли он, что в самой идее заложено нечто, из-за чего все заведомо не будет «клеиться»? Он только видит, что происходит. Но видит остро и глазам своим в отличие от многих образованных людей верит.
Через неделю мне понадобилось съездить за бельем, и в комитете комсомола мне сказали, чтобы я возвращался в цех. На призыв партии мы отреагировали своевременно, а теперь можно было и не валять дурака.
Скоро я ушел с завода. Сначала в армию. Но об этом в следующей главе.
«…Ввиду невозможности использовать…»
«Швейка»
Не знаю, как считать — пошел я в армию добровольно или нет. Вопрос чисто академический, ибо и в том и в другом случае ничего хорошего из этого не вышло, и гордиться мне нечем. Элемент добровольности, конечно, тут был, ибо сложилось так, что идти или не идти — зависело от меня, и я пошел. Но с другой стороны, как раз тогда я заявлений никаких не подавал и, как раньше, на фронт не просился. Не просился же я потому, что у меня были другие планы поступления в армию — в ту же военную газету. Планы, исполнение которых и привело меня к необходимости этого выбора — идти или не идти. Впрочем, такую возможность я тоже не исключал.
К тому времени на военном учете я уже стоял, на него ставили загодя. Числился я годным к строевой службе, что, честно говоря, не совсем соответствовало состоянию моего здоровья, но в чем в значительной степени виноват был я сам.
Конечно, во время войны медкомиссии при райвоенкоматах не отличались дотошностью, но к жалобам они прислушивались. Но если на вопрос: «Есть ли жалобы на что-нибудь?» — я патриотически ответил: «Ни на что», — то это не проверялось. И порок сердца, о котором я хорошо знал, не обнаруживался. Но как я мог жаловаться на порок? Ведь в обычной жизни он почти не сказывался. Ну не был я достаточно силен по сравнению со многими другими мальчиками, но ведь и не так уж слаб, ну задыхался при беге. Никогда я на это не жаловался, а тут бы стал? Не мог я этого. Да и в планы мои не входило.
Как уже знает читатель, на военных занятиях в симской школе обнаружился у меня еще и дефект зрения. До войны я о нем даже не подозревал, а может, и появился он только во время эвакуации.
На зрение я тоже не жаловался. Но проверка зрения входила в обязательный ритуал медкомиссии, и дефект его был обнаружен. Однако, согласно расписанию болезней Наркомата обороны, на уровне моей «годности» это не сказалось. И действительно, выучиться стрелять можно было и с одним левым глазом. Не это лимитировало меня в армии. Но об армии — по ходу рассказа.
А пока я просто рассказал, почему при своих «талантах» вообще оказался военнообязанным и годным к строевой.
Поначалу, хоть у меня было приписное свидетельство, меня в армию не брали из-за возраста. Потом я работал на заводе и имел бронь. Этой брони, несоответствия ее приносимой мной пользе, я не успел даже устыдиться. Ибо независимо от своих трудовых успехов сидеть на ней долго не собирался. Ждал случая. И наконец он представился. В газетах появились объявления нескольких институтов о приеме студентов с предоставлением брони. Институты эти — МВТУ, авиационный и прочие — все были мне не по профилю, и учиться в них, в отличие от моего одноклассника Додика Брейгина, который тут же подал заявление в МВТУ, я не собирался. Но вызов такого института давал возможность приехать в Москву. Там я надеялся найти Эренбурга, влияние которого сильно переоценивал, и с его помощью «уйти в военную газету». Ясно и просто. План, конечно, был идиотский. Особенно если к тому же знать, что Эренбург, как потом выяснилось, тогда о своей киевской встрече со мной вообще не помнил. Но такого я себе представить не мог — предполагал, что все везде только меня и ждут. У кого в юности не было идиотских планов, основанных на идиотски-преувеличенном представлении о своей значимости, — те вправе бросить в меня камень. Но думаю, ни писателями, ни поэтами, ни актерами они не стали. Все это я понимаю. Однако, вспоминая, все же поеживаюсь.
Итак, я тоже подал документы — то ли в МВТУ, то ли в авиационный — теперь не помню. Мне было все равно, и были они оба на равном удалении от моих интересов. Но, видимо, долго собирался. Вызова мне долго не присылали. А по прошествии всех сроков вызов пришел из… Московского лесотехнического института, платформа Строитель Ярославской ж. д., куда мои документы были пересланы то ли из МВТУ, то ли из авиационного. Все было то же самое, только этот институт не предоставлял брони. То ли по беззаботности, то ли по другой причине, но за бронь я совсем не держался. Да с моей стороны это было бы и нечестно — держаться. Я не мог не понимать, что моя бронь, мое пребывание в тылу не компенсировались никакой приносимой пользой войне. Смущало меня только, что отсутствие брони от института может помешать мне доехать до Москвы и исполнить свой план. Другими словами, что при попытке сняться с учета меня, скорей всего, мобилизуют. Правда, я был убежден, что тем или иным путем попаду куда мне надо. Я — да не попаду?
Нет, я отнюдь не романтизирую сегодня свою тогдашнюю зацикленность на этом «плане». Я давно уже признаю правоту Солженицына, сказавшего, что деятельность военного журналиста избавляет человека от самого тяжкого на войне, от непрерывности долгой жизни на передовой. Мне жаль, что тогда я не был таким умным. Но, с другой стороны, умудренный опытом и знанием самого себя, я с грустной покорностью сознаю, что для меня лично это единственное место, где я бы мог делать нечто полезное для войны, а не болтаться под ногами у тех, кто делал, как до сих пор все время получалось. Или без всякого смысла мучиться, как мне предстояло в близком будущем.
Предчувствовал ли я это? Не помню. Но факт остается фактом. Вызов из лесотехнического — не повестка из райвоенкомата. Он ни к чему меня не обязывал. Я мог его просто порвать. Ради чего? Чтобы сохранить бронь? Это мне не подходило. Я поехал сниматься с учета.
— Нет, — сказал работник военкомата, посмотрев мои документы. — Если вы уволитесь, я вас заберу в армию.
— Хорошо, — ответил я, — забирайте, я уже уволился.
— Ладно. Тогда подождите, — сказал работник военкомата.
Все еще вовсе не было так фатально, мое прибытие не было нигде отмечено, бронь моя была при мне, я мог уйти из военкомата, вернуться домой, восстановиться на заводе, сказав: «не снимают с учета» (и правда ведь — отказались снять), и никто бы меня не осудил. Но этого я сделать не мог. Перед самим собой было бы стыдно. И минут через двадцать я получил повестку.
Но и это не было еще фатально. Когда я пришел в цех подписывать «бегунок» (видимо, и уволился-то я не до конца), начальник цеха сказал мне:
— А ты хочешь идти в армию? А то еще не поздно — отзовем.
Не хватало только — отзывать такого незаменимого мастера! Я отказался.
Рассказывать, как прощался с друзьями, как меня снаряжали в путь-дорогу родители (а провожали, против моих ожиданий, тихо, покорно судьбе — даже мать), — не буду. Помню только, что был окрылен чем-то (самостоятельностью, что ли?). Но все это стерлось. Начался короткий, но едва ли не самый тяжелый период моей жизни — служба в армии.
Рассказ о нем я хочу предварить несколькими словами. Мне было очень плохо на военной службе, и посвящены ей будут очень горькие страницы. Но отнюдь не с целью «разоблачения» тогдашней армии они написаны. Разоблачать ее у меня нет не только желания, но и оснований. Во всех моих злоключениях виновата была главным образом моя фантастическая, неправдоподобная для многих неприспособленность к военной службе. Виноваты были пороки моего воспитания, а также, и не в последнюю очередь, мои физические возможности, лимитированные скрытым от медкомиссии пороком сердца. Не знаю, можно ли во всем этом винить меня, но уж никак нельзя армию. Но везде были люди не только достойные, во всем были порядки и логика сталинщины, ее нелепости, и я буду о них писать тоже. Но опять-таки это не жалоба на армию и не попытка свалить на нее вину за то, в чем она не виновата. Кстати, тогдашняя армия во многом отличалась от нынешней — она была пронизана дисциплиной и уважением к порядку военной жизни. Никакая «дедовщина», никакое вымогательство (как организованно в какой-то части вымогали деньги у солдат-грузин — за уменьшение меры издевательств над ними) были немыслимы. Хотя беспорядка и нелепостей хватало.
Последние начались сразу. В назначенное время я явился в военкомат. Там мне, как и всем новобранцам, дали предписание явиться в Челябинский облвоенкомат на следующее утро. Потом составили из нас команду, назначили старшего, снабдили его воинским литером на проезд — одним, общим на всех — и отправили на вокзал. Сесть мы должны были обязательно на тот же пятнадцатый, скорый, с которым у меня уже было так много связано. На следующем мы уже к сроку не поспевали.
Все было расписано по-военному точно. Но, как всегда, забыли про овраги. Перед самым приходом поезда оказалось, что мест для нас в нем нет, а значит — превратить выданный нам общий литер в общий билет — невозможно. Велено было проявить воинскую находчивость и добираться безбилетными. Мне это было не впервой, но, когда поезд подкатил к перрону станции Вавилово, выяснилось, что мой опыт тут не пригодится. У меня оказалось слишком много конкурентов — намного более крепких и ловких — почти вся наша команда. А проводники почему-то отражали атаки будущих защитников родины особенно яростно. Впрочем, они были слишком измучены и вряд ли сознавали, кто есть кто, просто отвечали на особую ярость напора этих безбилетников. Короче, вцепиться в поезд, да еще с «сидором» на спине, мне не удалось. Я остался. Не помню, остался ли кто еще. Но добирался я до Челябинска в одиночку.
На каком поезде я это проделывал — не помню. Литер, выписанный на всех один, был у старшего, но мое военкоматское предписание оставалось при мне. Это был серьезный документ. А тогда, если уж попал в поезд, документы значили больше, чем билеты. И все-таки это поразительно, что защитник родины ехать защищать родину должен был поначалу зайцем. Но тогда это не поражало. К этому все, в том числе и я, относились как к еще одной, очередной трудности на жизненном пути. Только было приятно, что все обошлось.
В облвоенкомате мне сказали, что моя команда (видимо, номер я помнил) находится на распредпункте. Впрочем, по-видимому, речь шла не о той команде, с которой я выехал из Аши (Вавилова), а о той, куда меня, как десятиклассника, направили в Челябинске. В ней, как выяснилось вскоре, когда я разыскал ее на распредпункте, вообще почти никого не было из нашего района. Армия, тем более во время войны, тасует людей, как карты, — тут ничего не поделаешь. Впрочем, тогда меня это вообще не занимало — люди в обеих командах были мне одинаково незнакомы.
Судя по художественной литературе, в германской армии — в обеих войнах — земляки служили вместе. Но при той принудительной и вынужденной миграции населения, на которую обрекло людей строительство социализма, что уже могло значить «земляк»? Впрочем, и на Западе, да и в той же Германии, это теперь тоже звучит не так однозначно, как раньше.
Однако, пора вернуться к рассказу. Я поехал на трамвае разыскивать по указанному адресу распредпункт, смутно представляя, что это такое. Но ларчик открывался просто. Распредпунктом облвоенкомата, как оказалось, назывался сборный пункт, куда собирали новобранцев и подлечившихся раненых, признанных годными для возвращения в строй, со всей области. Здесь они дожидались дальнейшего распределения по частям, согласно поступающим от них требованиям.
Этот распредпункт и сам по себе был местом, достойным описания. На воинскую часть он походил мало. Это были громадная казарма с двумя рядами нар со всех сторон и двор с проходной. Народу на нарах копошилась тьма самого разного — в основном молодые мужики, которые томились без дела и не знали, куда себя девать. И от вынужденного этого безделья острей ощущалась лежавшая тут на всем тень неизбежного фронта, прелести которого часть копошившихся здесь уже изведала, и откуда, как все понимали, можно и не вернуться. Было как-то душно и нечисто, хотя я не убежден, что была грязь, — за санитарным состоянием следили. Но ощущение такое было.
Бодрости все это не прибавляло. Многие считали — причем тогда тоже (принимая рациональность этого установления), — что порядок на такого рода пунктах, как и питание в тыловых частях, — рассчитаны на то, чтобы человек не стремился там отсиживаться, а рвался: сначала в часть, а потом на фронт. Не знаю, было ли такое намерение, но результат такой действительно достигался. И кроме того, новобранец впервые здесь отрешался сам от себя, ощущал себя щепкой в океане и рад был прибиться к любому берегу.
Впечатления от этого распредпункта потом улеглись в отдельное стихотворение, из которого сейчас — к сожалению или не к сожалению, — помню только отрывки. Вот они:
Два солдата и матрос. Завтра бросят на мороз. А тоска, как нож, остра, А в коленях медсестра — Развалилась поперек Сразу трех. Так куда приятней спать! Так красивше! Не невинной погибать, А пожившей… … … … … … … … … … … … … … … … И согнувшись, как калеки, На полу сидят узбеки, Продают кишмиш по чести, Вшей таскают в полутьме, И на все команды вместе Отвечают: «Я бельме!»Все это я видел: солдат с матросом и медсестру с ними; разве что только сексуальная сторона может быть мной по младости преувеличена. Просто, вероятно, лежали в одном госпитале и теперь вместе отправлялись — знали куда и на что. По-моему, они выпивали лихо и картинно. Но они были живописной группой, только подчеркивавшей общий неуют и потерянность.
Но с обретением команды и вроде бы места в жизни злоключения мои вовсе не кончились, а приобрели даже более зловещий оттенок. Я впервые столкнулся с открытой и жестокой подлостью.
Произошло это так. Почему-то я подумал, что «загорать» нам здесь придется долго, и решил отправиться к своей однокласснице, эвакуировавшейся в Челябинск. Сидор свой я препоручил парню из нашей команды, который показался мне культурней других (помню его фамилию — Мироничев), а сам пошел. Как я прошел проходную — не помню. Какой-то способ, видимо, солдаты придумали. Во всяком случае, препятствия в этом не усматривалось. Когда я вернулся, команда уже уехала, вместе со мной от нее отстал еще один парень. Как-то мы узнали ее маршрут. Она уехала в Свердловск через Курган. На первом возможном поезде ночью мы бросились ее догонять. Путешествие было очень тяжелым. На станции Макушино глубокой ночью меня согнали с поезда, он тронулся без меня, стал набирать скорость — это был конец. Но меня спас Бог — поезд вдруг остановился. И я вцепился в него опять. В Кургане на перроне мы увидели всю команду. Ребята встретили нас как-то уж слишком безучастно — без обычных в таких случаях шуточек-прибауточек. Я что-то смутно заподозрил и спросил Мироничева об оставленном сидоре. Он протянул мне почти пустой сидор. Все съестное — собранное родителями и выданное в качестве сухого пайка в райвоенкомате — исчезло.
Это было ударом — и моральным, и иным. Я был очень голоден, мечтал, что, догнав команду, поем, а теперь мне до самого приезда на место есть было нечего. На вопрос о том, куда все подевалось, Мироничев что-то стал говорить о «ребятах», о том, что спроси, дескать, вон у того «Малышки». «Малышка» в ответ только угрожающе огрызнулся. Дескать, с такими, как я, он на фронте еще не так поговорит. Его вообще очень привлекали слухи о том, что солдаты в атаке иногда под шумок расправляются и с вызвавшими их ненависть командирами. Судя по всему, для него стрельба по вызвавшим его раздражение личностям (а раздражаться, судя по всему, он очень любил) и есть основная цель пребывания человека на фронте. Мечта эта в нем жила, хотя он, как и мы все, еще и не служил, а следовательно, никаких командиров возненавидеть не мог. Весь он был какой-то востренький и злобный, явно уголовного склада. Я мало читал о таких типах в связи с армией, видимо, на фронте им было не так вольготно, как предполагал «Малышка», но они есть почти у каждого в детстве и юности, это есть и в литературе, и в личных рассказах. Почему-то они занимают очень большое место в пореволюционной жизни страны.
Естественно, он и был душой «операции». Но он и других в нее втянул, ребят склада совсем иного. Что они думали? Что я исчезну? То есть, что стану дезертиром? Вряд ли. Это не могло быть результатом дурного отношения ко мне, допустим, основанного на антисемитизме, — они тогда меня не знали, и мало кто представлял, что я еврей. Да я никогда и не видел, чтобы антисемитизм тогда проявлялся именно так. Он мог приплюсоваться к оправданиям, но не быть причиной. Как ни крути, она лежала не в дурном отношении ко мне (оно появилось потом и с этим не связано), а только в хорошем — к моему сидору.
Могут меня обвинить в мелкости. Дескать, все эти ребята ехали в армию, откуда, как мы теперь знаем, вернулись не все, далеко не все. А ты даже на фронт не попал, а туда же — вякаешь! Такой пустяк ставишь им в счет.
Прежде всего, это несправедливо. Я ехал тогда туда же, куда они, и никто, в том числе и я сам, еще не знал и не мог знать, что у нас разные судьбы. Обобрали они, значит, такого же, как они сами, обобрали товарища. По их милости, в отличие от них, туда же, куда они, я ехал голодным. А это тяжело — ехать голодным, когда у тебя впереди не дом, а армия. Не по вине моих спутников моя служба сложилась плохо. Но что-то надорвалось во мне уже по дороге — из-за этого.
Но это мой ответ морализаторам, которых теперь, может, и нет. На самом деле я пишу не затем, чтобы свести счеты. И естественно, я не питаю никаких дурных чувств к этим ребятам, я ведь и фамилий их не помню, кроме злосчастного Мироничева. Не думаю, что он играл в этом особую роль. Просто не мог противостоять напору «Малышки» и его единомышленников — такие всегда находятся. А у Мироничева была слабинка — я думаю, что он был евреем, но скрывал это, прячась за свою якобы русскую (русская звучала бы Миронычев — «ы», а не «и») фамилию. Видимо, вообще был духом робок. Но ведь и остальные соблазнились. Достаточно оказалось одного полууголовного «Малышки» на всех. И это грустно.
Нет, дело не в счетах, и я вовсе не думаю, что все они были дурными людьми. Вечная память и Царствие Небесное тем из них, кто погиб или уже умер, и наивозможнейшего благоденствия всем тем, кто еще жив. Но я пишу не только о себе, но и о времени. А это все-таки факт этого времени. Так сказывалась на стране ее обезбоженность и вытеснение морали, крепнувшие от поколения к поколению.
Герои повестей В. Кондратьева, правдивость которых ни у кого не вызывает сомнения, немногим старше нас, но трудно себе представить его Сашку не только проделывающим, но и допускающим в своем присутствии такое. Правда, тут все были собраны с бору да с сосенки с уральских заводов, но и это не оправдание шакальства. Я вовсе не утверждаю, что оно было повсеместным, хотя факт все равно что-то показывает. Спереть у товарища — это ведь не на складе спереть. Правда, и лопухи, оставляющие свои сидора на хранение случайным спутникам, встречались нечасто. Но хватит об этом эпизоде. Как ни странно, доверия к людям я не утратил.
Дальнейшее путешествие — если не считать того, что я был все время голоден, — прошло без затруднений. Из Кургана в Свердловск, из Свердловска в Камышлов — город примерно на полпути между Свердловском и Тюменью (нас направили в камышловские лагеря), — я доехал совершенно легально, с командой и по билету. Только сошли не в Камышлове, а несколько не доезжая до него, на разъезде Елань.
Даты своего прибытия к месту службы я не помню, но был уже октябрь (во всяком случае, свое восемнадцатилетие я встретил уже в части), а октябрь — поздняя осень для тех мест. Не знаю, действительно ли этот разъезд был видом столь пустынен, заброшен и беден, как мне теперь кажется (помнятся какие-то бедные чахлые елочки вокруг), или это аберрация, вызванная моим тогдашним состоянием. Но такое было состояние.
Как началась для меня армия — не помню. Помню, что состоял я в категории КВУ — кандидаты в военные училища. Теоретически она подбиралась из лиц, окончивших десять классов. Кажется, вся наша команда с самого начала, еще в Челябинске, была подобрана по этому признаку. Но, как я помню, таких, «с десятилеткой», и в нашей команде, и — по прибытии на место — в нашем взводе было раз-два и обчелся. Странное дело! Десятиклассников тогда в стране, как я полагал, уже было как будто довольно много. Во всяком случае, в Киеве их было вокруг полно. Но я не понимал, что много их только в больших городах, а жители городов перед войной вообще не составляли большинства населения (да и там многие ограничивались семилеткой). А значит, в целом по стране их было совсем не так много. В стране тогда не очень редко встречались еще даже и неграмотные, а малограмотные — довольно-таки часто. Человек, окончивший десять классов, в глазах многих (я уже говорил об этом на примере Сима) выглядел важной персоной: «Ого! Десять классов!» И неудивительно, что для такой огромной армии, при такой убыли офицеров, десятиклассников не хватало. Приходилось в какие-то военные училища набирать окончивших и девять, и восемь, и даже семь классов.
Не знаю, сказалось ли это на войне, но на послевоенной жизни сказалось очень. Тут нельзя обобщать. Большинство из них, если уцелели, вернулись к прерванным занятиям, к учебе, к чему угодно, и не о них речь. Но меньшинство, привыкнув командовать и принимая свое выдвижение как дань за воинские заслуги (а они у них бывали и подлинные), стали слоем, откуда номенклатура рекрутировала пополнение, и часто оказывались худшей, наиболее агрессивной частью номенклатуры, неграмотность и комплекс неполноценности которой не могли победить никакие ускоренные курсы какого угодно уровня. А о том, какую роль сыграла в нашей судьбе номенклатура, вряд ли нужно сейчас говорить.
Но это — общее рассуждение о судьбе страны, основанное на более позднем опыте и сейчас только пришедшееся к слову. К тому, что происходило со мной в армии — а сейчас я рассказываю именно об этом, — оно никакого отношения не имеет. Мне там доставалось сильно, но не думаю, чтобы от будущих номенклатурщиков.
По прибытии в часть мы сразу, или пройдя карантин, стали солдатами 384-го, если я правильно запомнил номер, запасного стрелкового полка. Номер батальона и роты я забыл. Не помню, батальон или рота считались полковой школой (в таких школах готовился младший командный состав), куда нас сначала отнесли. Не помню, весь батальон или только наша рота состояла из КВУ (т. е. кандидатов в военные училища). Похоже, что батальон, ибо только из нашего батальона не отправлялись через каждые несколько недель маршевые роты.
Естественно, все мы были рядовыми. Но один из прибывших с нами, старшина-фронтовик, был немедленно назначен старшиной батальона. По-моему, он примкнул к нам где-то в пути, во всяком случае, хорошо помню, что к афере с моим сидором он отношения иметь не мог — его тогда не было с нами. До сих пор я с удовольствием вспоминаю этого человека. Я ничем ему лично не обязан. Он ничего для меня не сделал, не мог сделать, не должен был, и не думаю, что хотел. А чего, собственно, было хотеть? Меня с ним вообще не связывали никакие личные отношения. Если я что-то в нем и вызывал, то только жалость и недоумение. Но никогда не жестокость, не желание поиздеваться.
Сам он был полной противоположностью мне — высокий, статный, какой-то очень складный, всегда уместный и очень простой в обращении. Получив назначение, он прямо сказал своим новым приятелям, что служба есть служба и что служебные отношения нельзя путать с приятельскими. И действительно не путал, не отклонялся ни в одну сторону. Во всем, что службы не касалось, вел себя, как и до своего высокого назначения. Высокого без кавычек — потому что старшина, тем более батальона, для солдата в армии — человек очень большой.
Кадровый солдат, хлебнувший войны, да и вообще превосходящий нас годами и опытом, он ненавязчиво делился с молодыми своим опытом солдатской службы, тем, как облегчить себе солдатскую лямку. В основном эти советы были ценные и несомненные, но одно его поучение вызвало мое сомнение:
— Легче всего служится, — говорил он, — если любишь своего командира. Поэтому надо стараться… Ну… я бы сказал… Ну просто влюбиться в него, что ли… Тогда и приказы легко выполнять, и служба идет легче…
Это поучение очень тогда меня смутило. Тут есть где разгуляться любителям толковать об исконном и неистребимом русском рабстве. Но не было в этом красивом и достойном человеке ничего рабского — ни в облике, ни в повадках, ни в отношении к воинской дисциплине и иерархии. Не было! К тому же обозвать его легко, а оспорить его слова — не очень. Любить командира или хотя бы абсолютно доверять ему на войне не только нужно, но и необходимо. Ведь у него есть «особое право / Жизнь дарить и на смерть посылать» (Д. Самойлов). Но что делать, если нет оснований? Такое соображение было кем-то высказано, в ответ он кивнул и развел руками. Дескать, тогда плохо, но надо использовать все возможности… Для армии, в основе существования которой лежит беспрекословное подчинение младших старшим, это действительно житейская мудрость. Кстати, никакой потребности не подчиняться кому-либо в делах, требующих подчинения, у меня за все недели службы ни разу не возникло.
Но думаю, что в этом старшине, несмотря на его нелегкий опыт (а повидал он, надо думать, к концу 1943 года немало), продолжали жить те же «вера и доверье», которые, как я уже здесь говорил, были свойственны — в разных проявлениях, на разных уровнях — всему его поколению, точней, всем, в какой бы то ни было мере «взыскующим града», его представителям. В чем-то проклятые, если вспомнить, что творилось в стране, но в чем-то все-таки чистые «вера и доверье». Конечно, чистые только субъективно, но этой субъективной своей стороной они и были, простите за дешевый каламбур, объективно обращены к людям. По-видимому, этот молодой тогда — лет двадцати пяти — человек все-таки в глубине души верил в разумность происходящего. Даже тех боев местного значения, о которых рассказывает тот же В. Кондратьев. Правда, тут виноваты были не те, кто попадал в его поле зрения.
Однако этот старшина к моей службе прямого отношения не имел. Говорю это с сожалением, но сознавая, что доставалось мне, как я предупреждал, не столько от конкретных людей, сколько от самой службы. Правда, некоторые и от себя добавляли. Он бы — не добавлял.
Началась служба. Расположение части, в которую мы попали, выглядело совсем неплохо. Аккуратные газоны, разграниченные кирпичом и камешками. Среди них аккуратные землянки — каждая на взвод, отдельные для начальства. Впрочем, начальство покрупней жило и в окрестных деревнях — иногда с семьями. Там же жил и командир нашего взвода, очень молодой, чуть старше нас, младший лейтенант. По-видимому, для офицеров это было делом свободного выбора — командир батальона, капитан, жил в расположении батальона, в отдельной землянке. Ни о ком из этих людей дурных воспоминаний у меня не осталось. Впрочем, комбат был вообще от меня слишком далеко, хотя несколько раз он обратил на меня внимание — скорее доброжелательно-удивленное, чем иное. Младший лейтенант тоже бывал неизменно дружелюбен — и ко мне, и к остальным. Он был недавно из училища, чувствовал себя человеком нашего возраста и держался по-свойски. Занимались нами в основном старшина и сержанты. Мне от них доставалось, но претензий к ним у меня нет. Все это было по службе. Тяжесть моего положения заключалась в том, что у меня ничего не получалось, а кое на что — например, на ползание по-пластунски, у меня просто не хватало сил.
Наслышанные о том, что евреи вообще уклоняются от армии, большинство солдат — в основном простые ребята, были твердо уверены, что я притворяюсь и хитрю. Это был единственный период моей жизни, когда окружающие считали меня хитрецом и притворщиком.
Надо сказать, что нас очень скоро перестали форсированно обучать, как положено в запасных частях. От нас даже нельзя было уйти добровольцем на фронт. Мы были прочно закреплены как КВУ, и нас просто содержали, как в некоем распредпункте, впредь до поступления требований из училищ. И нас через день посылали в бригадные и полковые наряды — мы несли караульную службу.
Но до этого наши наряды были иными: нас просто посылали на работы — то на кухню, то еще куда-нибудь.
И вот однажды меня вместе с другими послали в баню. Задача была простая — заменяя мотор, непрерывно качать воду. Уговорились по столько-то качков каждый, а потом сменять друг друга. Поначалу это показалось легким. Но на третий раз я уже едва дотянул свою норму. На четвертый и вовсе ее не вытянул, на пятый и разу качнуть не мог. Руки отказывали, патологическое отсутствие бицепсов, которое сохранялось у меня во всех трудностях жизни, жестко лимитировало меня. Работа эта не была легкой ни для кого. И получалось, что я свою тяжесть сваливаю на других. И некоторые крепкие крестьянские парни — не верили, что это взаправду, а я готов был провалиться сквозь землю.
В других случаях все было не так драматично, поскольку последствия моей «уникальности» не перекладывали ничего на других. Сказывалась и моя неаккуратность, которую я никак не мог преодолеть, — армия требует порядка. На мне давал осечку великий армейский принцип: «не умеешь — научим, не хочешь — заставим». А я хотел и не умел, и никто, даже я сам, не мог себя заставить уметь. И это воспринималось как притворство. Разумеется, не всеми. Там ведь были люди разные. Там, например, впервые пересеклись мои пути с Володей Немцем, будущим известным критиком Владимиром Огневым, дружеские отношения с которым сохраняются у меня всю жизнь. Но очень многие мне не верили.
А тут еще некий Иванов подпустил клеветы. Личность вполне невзрачная. Он говорил, что тоже из Сима. Наверно, так это и было, хоть я его там ни разу не встречал. Но почему-то именно его, когда мы прибыли в часть, назначили командиром нашего отделения. Почему выбор пал на него, не знаю. На символического «Иванова» он не походил нисколько — не был ни открытым, ни бескорыстным, ни даже блондином. Была в нем какая-то тяжесть, он как бы всегда мрачно и недоверчиво пребывал себе на уме. Впрочем, командирство его мне не досаждало, оно вообще мало в чем и проявлялось. Разве что в разливании похлебки, где, говоря о справедливости, он подбрасывал себе гущу.
Так вот, этот Иванов стал врать, что в Симу-то, дескать, он (то есть я) был франт франтом, первым ухажером и кавалером — следовательно, «тут он „косит“». Про меня потом всякое говорили, по-всякому меня истолковывали, но говорили как воспринимали, а это была заведомая ложь, что подтвердить мог бы любой, кто когда-либо где-либо меня знал. Если я и бывал «ухажером», то, во-первых, много позже, а во-вторых, никак не с позиций бравого франтовства, а несмотря на его отсутствие. И, может, поэтому весьма редко «ухажером» удачливым.
Ложь Иванова была не заблуждением, а прямой подлостью, подыгрыванием общему настроению. Не думаю, что ему так уж сильно верили. Зрелище я являл собой все же довольно жалкое, поверить в такое гениальное перевоплощение было трудно. Но все же — капало на весы. Хоть при этом я думаю, что постепенно у всех недоверие сменялось настороженным недоумением, но прозвища «швейка» (в женском роде) мне было не миновать.
Это тоже был парадокс. Со Швейком большинство было знакомо не по Гашеку, а по пропагандистским антинацистским кинофильмам, где человек в обличье гашековского Швейка только то и делал, что очень ловко и смешно дурачил немцев. Так что вроде человек я выходил неплохой. Но можно было истолковать это и в том смысле, что я дурачил своих. Думаю, что тут имелась в виду просто затрапезность моего внешнего вида, хотя убеждение, что я дурачу кого-то, этим не отменялось. И это — подавляло.
Реальная объективная тяжесть усугублялась отношением ближайшего начальства — в основном сверхсрочников во главе с ротным старшиной. Пронизывала его уверенность, что евреи уклоняются от фронта и я тому наглядный пример. Любой мой поступок, любое душевное движение рассматривались сквозь призму этого отношения. Фамилию старшины я не помню, помню, что она была украинская и что он вообще был украинец. Это ничего не значит, все остальные были русские, кроме помкомвзвода Нурзуллаева, узбека, который как раз мне сочувствовал («потому что мы оба нерусские», как он мне однажды объяснил). Это не могло меня утешить. Я тогда уже был очень привержен России, как-то увязывая это с верностью мировой революции.
Но думаю, что и это его объяснение не совсем точно. Он был просто добрым человеком, а я, заслуживал я этого или нет, все-таки был объектом травли. Кстати, Нурзуллаев был у нас после ранения, война его застала на западной границе. Он очень смешно рассказывал о хаосе тех дней — как он с каким-то «пельчером» (фельдшером) то пытался обороняться, то, когда их обходили немцы, наперегонки бежали, теряли и опять находили друг друга. В конце сорок третьего по этому поводу уже можно было смеяться.
Но выражением симпатии Нурзуллаеву я вовсе не хочу бросить тень на всех остальных сержантов, и, прежде всего, на старшину. Не собираюсь задним числом, как говорится, катить на него бочку. Дескать, сам отсиживался в тылу, а меня обвинял. Он не отсиживался. Он тоже был кадровым, и не его вина, что служил он не на Западе, а на Дальнем Востоке. И в том, что, когда его часть передислоцировалась на фронт, он был по дороге оставлен командованием здесь для подготовки кадров, — он тоже не виноват. Это произошло не по его воле и даже против нее. Его многочисленные рапорты с просьбой отправить в действующую армию оставались безрезультатными.
Я его тогда очень не любил. С удовольствием акцентировал ироническое внимание на языке. Он был особым образом не в ладах с грамматикой. Устав, неукоснительно им соблюдавшийся, требовал обращаться к подчиненным на «вы», он так и обращался, но насчет форм глагола устав не говорил ничего. Он и употреблял рядом с этим «вы» прошедшее время в единственном числе. Получалось: «вы пошел», «вы сказал».
Сегодня у меня нет никакой охоты над этим смеяться. И видится он мне иначе, чем тогда. И я вспоминаю, что за все время моей службы, при всем предубеждении против евреев вообще и против меня в частности, не раз выражавшемся им прямо вслух, он только один раз влепил мне наряд вне очереди.
Как ни странно, хоть я был очень плохим солдатом, взысканий у меня не было. Их давали за нарушения или халатность. А я ничего не нарушал и старался. И этого было достаточно, чтобы взысканий не получать. А ведь они в значительной степени зависели от него, от старшины. И сейчас он мне влепил наряд вовсе не ни за что, а за провинность. Какую, не помню, но пустячную. И он вовсе не использовал эту провинность как повод для преследований. Нет, и наказание, наложенное на меня, — вымыть пол в казарме после отбоя, — было пустячным, соответствовало провинности. Любой другой за тот же непорядок схлопотал бы у него такое же. Наряд был за дело, и он знал, что и я это знаю и не считаю его придиркой и преследованием. И даже поинтересовался, понимаю ли я, что он прав. И был очень доволен, когда я это искренне признал. Он уважал службу и не превращал ее, не мог ее превратить в хаос. Он был человеком на своем месте. Это я был не на своем. Другое дело, что это место, которое не выбирают, которому, по моим тогдашним (и сегодняшним) убеждениям, каждый должен научиться соответствовать. А я не мог, что и было причиной драмы. И старшина тут не виноват, хотя в создании атмосферы недоверия вокруг меня он автоматически, даже не думая об этом, играл большую роль.
Я не знаю, жив ли он, но дурных чувств к нему за прошлое никаких не питаю. И отдаю ему должное.
Я впервые отдал ему должное в пятидесятые годы. После одного, вроде бы не очень значительного, эпизода. Тогда, после войны и ссылки, я жил в Мытищах. У одного знакомого лейтенанта, родственника моих квартирных хозяев, на службе случилось такое ЧП. Одного из солдат его взвода по семейным обстоятельствам отпустили из армии. Утром он должен был отбыть из части. Но накануне вечером он напился, разбуянился, а когда старшина попытался его урезонить, послал старшину куда подальше. Налицо было грубое нарушение дисциплины, и у старшины было не только право, но и обязанность наказать провинившегося. Но старшина тут же нарушил дисциплину еще грубей. Он произнес фразу, немыслимую в мое время. Он сказал:
— Ну, теперь ты у меня уедешь!
И на следующее утро, когда солдата и впрямь задержали в части, это «у меня» сработало — весь взвод этого лейтенанта не прикоснулся к завтраку. А групповая голодовка — это серьезное нарушение порядка в армии — тем более советской.
Словцо «у меня» проявило, что старшина действует не от имени дисциплины, наблюдать за соблюдением которой он поставлен и которая, как это громко ни звучит, идет от народа, — а от собственного имени, что он не восстанавливает дисциплину, а мстит. И прямым следствием этого нарушения явилась его дальнейшая эскалация — ЧП.
У нашего старшины такого бы не было никогда — он всегда себя чувствовал представителем армии. Если бы теперь были такие старшины, не было бы в армии ни дедовщины, ни утечки оружия, ни прочего безобразия.
Причина вовсе не в том, что «при Сталине был порядок», причина в том, что сталинское разрушение порядка еще не до конца отразилось на внутренней сущности людей. Но это мои сегодняшние мысли. И отношение к старшине тоже сегодняшнее. Тогда было другое. Я видел в нем только грубое существо, антисемита. Тогда, при моих коммунистических взглядах, это качество отвращало гораздо больше, чем сейчас. Меня оскорбляло, что такие люди смеют считать себя коммунистами. По моей логике, раз так — то они обязаны строго и придерживаться логики мировоззрения. Как будто это было дело их сознательного и свободного выбора.
Антисемитизм его был вовсе не безграничен. В часть прибывали и другие евреи, и все они исправно служили, и он, да и все остальные, к ним не имел никаких претензий. Их даже ставили мне в пример. Дескать, смотри, тоже еврей, а не косит. Но они были записаны (и не только им одним) в исключения. Я один был типичным, хотя меня было гораздо меньше, чем их. Сейчас к антисемитским взглядам я отношусь спокойней — как к заблуждению и соблазну легкого решения вопросов. Это никогда не хорошо, но с людьми, которые так думают, можно и нужно разговаривать. Особенно у нас, где все так запутано. Правда, в определенных условиях эти взгляды могут стать опасными (и не только для тех, против кого направлены, а и для самих носителей), но я говорю о сравнительно нормальных условиях — когда не убивают.
Но вернемся к старшине. Что бы я о нем ни думал теперь и тогда, главным стимулятором атмосферы антисемитизма, наслаждавшимся ее созданием, был не он, а некто Шестаков, тоже долго, неизвестно на каких правах, задержавшийся на этом месте. Он говорил, что вообще-то он офицер, но куда-то подевались его документы, и он их ждет. Надо сказать, что военное дело — во всяком случае, в пределах подготовки солдата или сержанта (большего в полковой школе, при которой мы его застали, ему и негде было проявить), — он знал действительно хорошо, хотя считался рядовым. Сержантские лычки ему дали уже при нас. В то, что он действительно рвался на фронт, я не верил. Старшине и другим верил, ему — нет. Уж очень он лебезил перед всеми, от кого зависел. Этот человек был антисемитом настоящим, от душевной потребности. Я бы даже сказал, антисемитом-мечтателем и провозвестником. Впрочем, в его отношении ко мне сказывался не только антисемитизм. Я был попавшийся интеллигент, да еще еврей. А он тоже был «интеллигент» — жертва советизации вузов (кончил то ли учительский, то ли какие-то курсы) и в этом смысле мучим был комплексом неполноценности.
Его разговоры об евреях выходили за грани обычных в армии. Он не ограничивался разговорами о том, как евреи уклоняются от службы. Они примыкали к другим — о еврейском засилье. Но как примыкали! Однажды он рассказывал героическую сагу о себе как о борце с этим хитрым засильем.
По его словам, его назначили руководить отделом народного образования какой-то из сибирских областей.
— И вот ко мне попросился на работу какой-то еврей, и я взял его. А он привел второго, а тот — третьего… Смотрю — а у меня уже синагога. Кругом обсели. А он еще с одним приходит… Я взял и всех выгнал — до одного!
В принципе, большая часть его истории, за исключением самой «саги», могла соответствовать реальности. Я, правда, тогда не очень верил в то, что его могли назначить на такой пост. Он был старше нас, но все же слишком молод для такого поста. Тем более, дело происходило не прямо перед войной, а за несколько лет до нее. Да и уровень его был, как мне казалось, не тот. Но тут я, как теперь мне понятно, ошибался. И не с таким уровнем работали на любых постах. В том, что в учреждении работало много евреев, ничего особенно неправдоподобного нет. Разумеется, это был перекос, вызванный общими причинами, но люди, поступавшие на работу, сами этим греха не совершали. Кстати, и у Шестакова не выходило, что они плохо работали.
Просто действовала распределительная психология — посты распределяются не для работы, а «по справедливости» — как готовые блага. Каждому разряду столько-то (это болезнь не только наша — Клинтон по этому принципу составил правительство США). Короче — все, рассказанное выше, могло иметь место. Не могла иметь места только сама «героическая сага». Выгнать сразу столько людей, причем одних евреев, можно было только на пике «антикосмополитской» кампании 1949 года или истерии по поводу «убийц в белых халатах» 1953 года. В остальные послевоенные годы можно было евреев выживать по одному, а чаще старались не столько их выгонять, сколько не принимать на работу.
А сага Шестакова относилась к временам довоенным. Тогда она просто была немыслима. Его бы за одну такую попытку обвинили в антисемитизме и в лучшем случае лишили бы партбилета и должности, а в худшем бы просто посадили — за подрыв дружбы народов СССР. Мне такие формы защиты моего достоинства отнюдь не по нраву, но так было бы.
Шестаков врал, врал страстно, это подчеркивалось характером речи с каким-то южным придыханием, но, может, и просто мечтал — выдавал желаемое за действительное. Но желаемое это было, присутствовало каждый день, каждую минуту и отравляло мне жизнь. Он ведь и спал с нами в казарме. Конечно, его словесные эскапады я бы выдержал, но с ним соглашались. По моему поводу тоже.
Его я очень не любил, но к остальным относился хорошо. Я их не винил — я давал повод для такого отношения. Ведь и в самом деле у меня ничего не выходило. Я все больше понимал (и другие видели), что на многое просто не хватает сил и здоровья. И когда в очень тяжелую минуту я ссылался на это, все равно это выглядело хитростью. Выходило так, что если я не очень здоров, то меня не замай, а если ребята крепки, то пусть погибают. Отсутствие здоровья оказывалось высшим благом, патентом на дезертирство и противоречило моим требованиям к самому себе. Тем более, что слабость моя не была тотальной. У меня не было не только бицепсов, но и развитых икр на ногах. О том, как сказывалось отсутствие бицепсов, я уже говорил. Однако отсутствие развитых икр сказывалось меньше. Таскать тяжести, подставляя плечо, я вполне мог. Правда, когда на мучном складе на меня наваливали пятипудовый мешок, я не мог устоять на ногах. Но, в принципе, плечи мои могли кое-что вынести. Я мог, например, таскать бревна. И когда нас посылали в лес за дровами, я притаскивал оттуда никак не меньше других. Я старался как бы компенсировать то, чего делать не мог. Но это было скорей подозрительно — почему так? Все это вплеталось в атмосферу, духовно сбивало с ног, подавляло и рождало твердое убеждение, что на войне меня, такого никчемного, убьют в первый же день, и без всякой пользы. Появились у меня даже «трогательные» жалостные стихи на эту тему, не помню, тогда или чуть позже я их написал. Привожу их исключительно как факт биографии.
Что для сводки могло в этот день перестрелки случиться? Фронт был тверд, и никто из врагов не подался назад. Не писать же о том, что погибла одна единица — Рядовой, никому не известный, неловкий солдат… Просто пуля вошла, оборвала все мысли, желанья, Оборвала начатки каких-то несказанных слов, И осталась от жизни, от всех ее переживаний Фотокарточка девушки в маленьком томе стихов.Дальше не помню. Кончались стихи так:
Этот день не был в сводках отмечен особой печалью. Были дни за войну — они большей печали полны. Лишь старушка одна, затерявшись в России, считала Этот день самым черным за долгие годы войны.Стихи эти не входили ни в один из моих сборников — ни в России, ни в эмиграции. И не войдут. Конечно, в чем-то они близки к банальности тех лет. Да и рифма «печалью — считала», прямо скажем, не очевидна (хотя «ч» как-то выручает), но в основном я их не публиковал не поэтому.
Мне вскоре и навсегда стали чужды это подчеркивание интеллигентности (фотография девушки в томике стихов) и жалостливый тон задавленного человека. По моим взглядам и ощущению, это противоречит поэзии, мельчит и подменяет ее. В силу многих причин я потом воспрял. Но писал я это, когда мог и не воспрянуть. За этим вообще — в зачаточной, почти не проявившейся форме — слишком серьезное, нарушающее все пропорции отношение к самому себе, независимо от того, хорош ты или нет. От углубления во что и пострадала, на мой взгляд, существенная часть западной поэзии.
Впрочем, исключения бывают. Николай Глазков, одной из тем которого тогда было «Но решил не решаться. И как идиот / Не могу, не хочу, не пойду на войну» (при том, что жаждал победы), — все равно был тогда и оставался всегда в поэзии. О том, как и почему это ему удавалось, может быть, я еще буду говорить, но у него это не было погружением в собственную сложность и даже поэтичность. В сущности, в этом погружении нет ничего особенного — психологическая самозащита задавленной человеческой особи. Двадцатый век многих обрекает на это. Теперь уже надо писать «обрекал», но что будет делать двадцать первый?
Дело не в том, что эта погруженность — «табу» как тема. Нет, объектом художественного исследования она быть вполне может. Не может она быть только сущностью его субъекта (то есть поэта), его взгляда и восприятия. А в поэзии субъект — все. Но этот соблазн — вера в бескрайнюю значимость любого самовыражения — будет меня подстерегать позже, в мои первые московские месяцы, на заре собственно литературной жизни. Сейчас же речь не о литературе, а о биографии, о том чувстве беспомощности, которое во мне жило и стоит за этими стихами.
Дни шли один за другим, все они были тяжелы и безвыходны. Собственно, мне ведь и училище ничего хорошего не сулило. Редко что-то случалось. Например, комсомольское собрание — может, полковое, а может, даже бригадное — народу было очень много. Общей риторики я не запомнил, но в заключение выступил только что присланный к нам новый командир бригады, генерал-майор Петров — не тот знаменитый одесско-севастопольский, но тоже генерал, тоже фронтовик и тоже Петров.
Эта речь меня поразила, и ее я запомнил. Человек этот был пожилой, кажется, неплохой, старый служака, совсем не интеллектуал, но вовсе не глупый. Речь его была странной смесью здравого смысла и дикости. Начал он с ностальгического восхваления старой армии (с бунта против которой, надо думать, и началась его карьера). Возрастная ностальгия его совпала с тем, что теперь это стало, так сказать, «в струю»: боевые традиции русской армии вытаскивались из несправедливого забвения, их не только разрешалось, их полагалось чтить, и это было правильно. Но наш новый комбриг вносил в это свою интерпретацию:
— Вот, все ругают старую армию, — говорил он, — а там была дисциплина. Допустим, ефрейтор. Теперь у нас тоже ефрейторы есть. Да разве есть у него настоящий авторитет? Нет. В старой армии ефрейтор был большой человек. Он спал вместе с солдатами, но сапоги у него всегда блестели. И разве сам он себе их чистил? Никогда! Солдаты ему чистили. По очереди. Один за другим раньше вставали и чистили. И подшивали-пришивали что надо. Встанет — сапоги стоят — блестят, и все у него в порядке. А если слово скажет — закон! Я сам был ефрейтором — знаю.
Это сегодня я понимаю, что генерал просто ностальгировал по молодости. Тогда этого не понимал, и его слова меня ужасали. И своим смыслом, и тем, что говорились на комсомольском собрании! Как же так! Но генерал этим не удовлетворился.
— Или говорят: в старой армии солдат били, — продолжал он. — Да разве ж хорошего солдата били? Только нерадивого! А что вы думаете? Ничего страшного. Вот и теперь на фронте бывает — его, подлеца, расстрелять мало, а ты ничего — палочкой огреешь, поймет.
Тогда на фронте, в боевой обстановке, разрешили применять физическое воздействие и даже оружие. В боевой обстановке все бывает. Может, действительно удар способен привести растерявшегося человека в чувство. Во всяком случае, это лучше, чем расстрелять его. И я думаю, что этот генерал так и поступал — как лучше. Но ведь фронтовой обстановкой он только аргументировал, а начал с казармы. От общих его представлений о порядке мне становилось страшно. Я ведь еще стоял на страже завоеваний революции. Все остальные вроде тоже. Да и вообще, как же так — терпеть побои и сапоги чистить ефрейторам? Как же им эта речь? Генерал им понравился своей простотой и непосредственностью. Мне, честно сказать, тоже. Но ведь не бросились же все после собрания чистить сапоги своим ефрейторам! Что ж они думали?
Сегодня, много пожив, узнав и передумав, я полагаю, что генерал был неправ. В России уже и до семнадцатого нельзя было бить солдат. Кажется, даже было запрещено, но запрещение иногда нарушалось. Но я не о правилах — это вообще уже нельзя было делать безнаказанно, народ уже этого не переносил. Дед, хозяин моей сибирской квартиры, служивший перед революцией вместе с двоюродным братом в слабосильной команде, после того как фельдфебель дал этому брату зуботычину, всерьез решал с ним вопрос: будем сигать вниз головой с чердака высокого дома или погодим, — не могли снести оскорбления. Положим, это сибиряки, люди особенно самостоятельные. Они ведь и на Колчака пошли, когда их стали пороть. Но и во всей России — тому тьма свидетельств — это уже делать было нельзя. А если делали, то и аукнулось.
Но тогда мне было не до исторических рассуждений, да на такие я и не был способен. Мне было просто тошно.
Не могу умолчать об одном почти забавном приключений. Почти — потому что, само по себе забавное, оно касается самого страшного в советской жизни. Как я уже говорил, через день мы отправлялись в суточные бригадные караулы. Меня решили не брать как непригодного. Вывод этот был сделан не потому, что я где-то в этом смысле провинился (наоборот, я был очень старателен), а просто, так сказать, на основании эстетического несоответствия. Из-за этого я однажды попал в самый ответственный наряд — в бригадную контрразведку, в СМЕРШ бригады.
Дело было в том, что в этот караул наряжалась всегда одна и та же группа. Но на этот раз один из членов группы заболел. И выяснилось это очень поздно, когда все остальные наряды разошлись по постам. Это ставило формировавших наряд в затруднительное положение, ибо в этот наряд можно было назначать только коммунистов и комсомольцев, а все они были разосланы по другим точкам. Кроме меня. Сержантам очень не хотелось посылать меня, но никого больше не нашли. Наконец, с угрожающими напутствиями: дескать, смотри, не подведи, а то!.. — меня снарядили в путь-дорогу. Но я и сам относился к заданию ответственно. Шла война, СМЕРШ означало «Смерть шпионам», а шпионам я, естественно, не сочувствовал — моя оппозиционность на войну не распространялась.
Что речь в подавляющем большинстве случаев шла совсем не о шпионах, что тогда ободрившийся Сталин как раз начал очередной виток своих репрессий — и что Люсика как раз тогда посадили в этом «потоке» — я знать не мог. «Поток» этот и сейчас мало кем осознан, затерялся в океане войны между тридцать седьмым и сорок девятым.
Так что я отчасти был даже горд оказанным (хотя и нехотя) доверием. Начальником караула был старшина-казах, человек толковый и знающий службу. Остальные были ему под стать, всего нас было четверо. Ко мне относились по-товарищески. Они, как и я, не несут ответственности за то, что творилось на охраняемом ими по наряду объекте. Они были солдатами, а не чекистами, и несли только внешнюю караульную службу. В остальное их не посвящали. Во всяком случае, ответственность их за то, что там творилось, не больше, чем у всех остальных граждан тогдашнего СССР. Это вроде бы и очевидно, но я счел своим долгом это отметить, потому что под пером некоторых нынешних не очень молодых, но все равно ранних (инфантильных и ищущих себе роли) авторов я могу предстать чекистским вертухаем.
Но вернемся к службе. Нам выдали винтовки с боевыми патронами, и мы пошли в ту деревню, где размещался штаб бригады и его службы. В том числе и СМЕРШ.
Внешне в СМЕРШе все было по-домашнему. Представлял он из себя крестьянский двор. Вероятно, потеснил СМЕРШ не самого хозяина, выселенного из построенного им, судя по качеству, дома гораздо раньше, а какое-то сельское учреждение. Дом был одноэтажный, но как-то очень высоко стоящий, с большими, смотревшими на улицу окнами в наличниках. Дом этот помещался справа от ворот. А слева от них, выходя одной длинной глухой стеной на улицу, с сенями в торце — в сторону главного дома, находилось помещение для арестантов. Вдоль второй длинной стены во дворе на цепи по проволоке бегала овчарка. Провод был установлен так, чтобы собака никоим образом не могла дотянуться до сеней, где надлежало находиться часовому. Главная задача часового была простой — как-нибудь по рассеянности не сделать шага вдоль стены. Это кончилось бы трагически. Собака не была знакома с Уставом караульной службы и не знала, что часовой есть лицо священное, — а значит, что нападение на него, да еще в военное время, есть тягчайшее преступление.
Прямо от сеней вдоль сарая (который и СМЕРШу служил сараем — ему тоже нужны были дрова) вела куда-то (куда — не знаю) дорожка. Вроде куда-то за усадьбу, в бывшие огороды. Караульное помещение находилось в одной из хозяйственных построек, расположенных на другой стороне двора, как раз напротив главного дома, справа по диагонали от арестантской. Это была маленькая, но теплая бревенчатая избушка. Там должна была находиться караульная команда, вся, кроме того, кто на посту.
Туда мы и пришли. Там-то нас и встретили вполне радушно, «по-домашнему». Все, кроме меня, были знакомы между собой. Они ведь регулярно, через день, сменяли друг друга — одни и те же люди. Видимо, КВУ были не только в нашем полку. Меня представили сменщикам, объяснили, что я подменяю заболевшего Володьку или Петьку (имя не помню), после чего посидели немного, покурили, и смененные ушли. Начался один из самых удивительных дней моей жизни…
Начальства никакого не было — только мы. Кто-то заступил на дежурство сразу как пришли. На посту стояли по четыре часа два раза — раз ночью, раз днем. Я должен был заступить вторым или третьим, точно не помню. Но по совету старшины тут же завалился спать. Разбудил он меня ночью. Проверил, правильно ли я понимаю свои обязанности, прочел напутствие — но не угрожающее, а вполне дружеское, и повел меня на пост. Смена произошла без каких-либо формальностей, прежний часовой отдал мне тулуп и отправился со старшиной в караулку — греться и отдыхать, а я остался один в сенях.
Прохаживаться можно было только в сенях и вдоль сеней по двору до улицы. Мой коллега не давал о себе забыть, все время гремел цепью. Сегодня мне невдомек, что он охранял на вверенном ему участке. Единственная дверь в арестантское помещение была в сенях. Она была надежно заперта, и при ней бессменно находился вооруженный часовой. Прорваться через дверь нельзя было и думать. А это было самое слабое звено. Но для коллеги это место как раз было недоступно. Пробиваться сквозь глухую стену, подкапываться под нее? Да какой бы идиот стал вести подкоп в сторону двора? А улица моему опасному коллеге была так же недоступна, как и охраняемым. Так что пса на цепи держали не для дела, а чтобы заполнить штатное расписание. Как, впрочем, и нас. Да еще для той естественной для сталинщины потребности, чтоб в случае чего было с кого спросить.
Особо описывать ночное дежурство не буду, многие прошли через это. Ничего особо веселого и ничего особо тяжелого. Ночью я услышал шаги. К нам! В свете фонарей я увидел офицера. Вскинул винтовку.
— Стой, кто идет?
Офицер остановился, и я услышал интеллигентный голос:
— Стоите? Вот и хорошо… Я проверяющий из штаба бригады.
Офицер явно был доволен, что ни на чем меня не застукал.
— Хорошо, что не спите, — сказал он, закуривая. — Нет, не надо будить начальника караула. Пусть спит.
И проследовал дальше.
Как я мог спать? Я ведь охранял разоблаченных шпионов!
Я снова вошел в сени. Из арестантской слышались голоса и смех. Смеха было много. Когда я через четырнадцать лет сидел на Лубянке, мы там тоже много смеялись. Сталинские арестанты вообще много смеялись. Весело им не было никогда, а смешно бывало часто. Но тогда этот смех меня поразил. Я стал прислушиваться. И вдруг, после очередного взрыва смеха, услышал чистый голос:
— А ты думаешь — это смешно, что мы здесь сидим?
Я вполне и сразу понял значение этой фразы. Прежде всего, я охранял не шпионов. Человек, произнесший эту фразу, знал и про себя, и про своих товарищей по несчастью, что они ни в чем не виноваты. Для них, внутри камеры, это было совершенно очевидно. Я поверил ему, хотя в тот момент думал, что «ежовщина» кончилась, а уж на войне вообще не до того. Глупости я думал. Как всегда, когда что-нибудь в этом роде объяснял разумно.
Больше приключений не было. Утром двоих из этих арестованных я смог увидеть воочию. Чести это мне, правда, не прибавило, но из песни слов не выбросишь. Я отдыхал, когда пришел приказ выставить временно дополнительный пост — к арестованным, которые будут заняты пилкой и колкой дров. Поставили меня. Кто вывел, а потом увел заключенных, я не заметил, — но знаю, что никто из нас. К заключенным мы отношения не имели. И общаться с ними ни по какому поводу не должны были. Им же, наоборот, хотелось общаться. Но я стоял как пень, как петровский солдат, усвоивший «сено-солома», и ни на какие заговаривания не отвечал. Один из арестованных, в шинели без хлястика, уже не очень молодой, кажется, попросил закурить. Этого я сделать никак не мог, ибо никогда не курил, и ни папирос, ни спичек у меня не бывает. Надо было так и сказать. Но я просто не ответил — согласно уставу и приказу, стоял как изваяние и хранил каменное молчание. Думаю, что именно потому, что был плохим да еще затравленным солдатом. Да, боялся я не «быть замешанным» — почему-то об этом я не думал, — а опять оказаться нерадивым. И это заслонило от меня в тот момент реальный смысл происходящего. И если бы я хорошо знал службу и был больше уверен в себе, я бы вел себя иначе. Но я был таким, каким я был. Арестованный довольно быстро сообразил, с кем имеет дело.
— Солдат, ну чего ты бычишься? Не бойся, не убегу. А если б захотел бежать, — рванул бы, и хрен бы ты меня догнал. И не попадешь. Или вот топор бы тебе в лоб засадил, и конец.
Все это было чистой правдой. Стерег его не я со своей винтовкой, а то, что бежать неуголовнику в СССР все равно было некуда. А может, еще и оправдаться надеялся.
Но я соблюдал устав. Я до сих пор стыжусь этого поведения. Но загнанный, не оправдывающий своего существования на земле солдат, — как я мог противопоставить себя армии во время этой тяжелой войны? Хотя на грани крупных неприятностей я оказался не нарушая устав, а наоборот, его соблюдая.
Произошло это через некоторое время после того, как я заступил на свой настоящий пост — при арестованных. Стоя у входа в сени, я вдруг увидел, что по дорожке вдоль сарая прямо на меня идет человек в ушанке и в синей зимней куртке. Я секунду подождал, но он продолжал свое бесстрашное движение в неположенном направлении. Тогда я вскинул винтовку и стал действовать строго по уставу.
— Стой, кто идет?
Ответ был лаконичен:
— Пошел на…
Я повторил свой вопрос еще два раза и получил два аналогичных ответа. Только адреса отсылок становились все отдаленней. Движение продолжалось. Тогда я перешел к тому, что требовал от меня устав в подобных случаях.
— Стой! Стрелять буду!
Тут нападающий на пост послал меня особенно далеко, но движение не прекратил. Тогда я сделал единственное, что мне оставалось. Взвел курок и крикнул:
— Ложись!
И тогда, видимо, он тоже вспомнил устав и понял, чтó за этим последует. Лечь он не лег, но присел на корточки и завопил:
— Начальник караула! Начальник караула! Гони его к …ной матери!
Выскочил испуганный старшина, увидел эту живописную картину и не столько приказал, сколько разрешил:
— Пропусти… — После этого к «потерпевшему»: Он, товарищ старший лейтенант, новенький, не знает…
Тот еще продолжал ругаться, но успокаивался. Старшина подошел ко мне.
— Это начальник контрразведки. Пропускай его…
Потом тихо спросил:
— Ты спросил: «Стой, кто идет?»? Три раза? Потом «Стой, стрелять буду» предупредил?
Получив на все вопросы утвердительные ответы, он почти шепотом на ухо сказал:
— Правильно…
Так мы с ним шепотом уважали устав РККА.
Вполне возможно, что тогдашние уставные правила были в чем-то иными, чем теперь помнится, но это неважно — тогда я точно следовал тем, которые были.
А что только нам ни говорили о святости устава! Часовой без начальника караула никого пропускать на свой пост не должен. Даже хорошо знакомых ему собственных командиров любых уровней. Умилялись по поводу нравоучительной истории о Ленине, похвалившем часового, не пропускавшего его без пропуска в Смольный. Рассказывали даже идиотскую историю про часового, застрелившего собственную мать, приехавшую его навестить и, невзирая ни на какие окрики, бросившуюся к увиденному вдруг сыночку. По этому поводу разводили руками и говорили:
— Что делать! Устав требовал. Часовой не мог иначе.
А тут безо всякого начальника караула на часового прет здоровенный мужик, нисколько ему не знакомый, — а перед ним еще оправдываться надо. И устав молчит, ничего не требует, и Ленин — дело десятое. Это была сталинщина, патологическая привилегия карателей. Месяцев за восемь до этого моего будущего друга Гришу Чухрая (тогда еще вся моя жизнь была в будущем) один такой же под Сталинградом задержал, когда тот, офицер-десантник, возвращался с задания, набитый остро необходимыми командованию сведениями о противнике. Этот страж безопасности отказывался позвонить в штаб армии, выяснить Гришину личность — готовил из него очередного «шпиона». И только случай спас Гришу от этой участи и доставил командованию сведения. Немцы стояли в центре России, у Волги, а у этого всесильного и тупого ведомства были свои заботы. Я тогда про Гришу не знал, но эту смешную историю понял однозначно.
Во время моего дневного дежурства случилось еще одно ЧП, со мной не связанное. Стоя на посту, я вдруг услышал какой-то сухой треск. Словно скрипнула половица или обломилась веточка. Я не придал этому значения. Но минуты через три после этого из нашей караульной избушки, озираясь, вышел старшина, потом, словно прогуливаясь, подошел ко мне:
— Ты ничего не слышал?
Я сказал, что ничего. Только вроде где-то что-то слегка треснуло.
— Это Ванька винтовку разряжал и случайно выстрелил в потолок… Такое дело… Гильзу мы подобрали, надо пулю найти. А где искать? Плохо. Не найдем — затаскают…
Я не совсем понял, зачем нужна выстреленная пуля, но после этого вся караульная команда, кроме меня, долго совершала некий задумчивый моцион по двору и окрестностям СМЕРШа, словно собирала цветы или грибы среди зимы, что, тем не менее, не было замечено органом бдительности, в расположении которого это происходило. В конце концов пуля была найдена, размягчена при помощи зажигалки, отформована наново и вставлена в пустую гильзу. А потом вместе с гильзой, как исправный патрон, вставлена в обойму. Теперь по возвращении ее можно было сдать на склад вместе с остальным боезапасом — гроза миновала. А всего-то и вины было — Ванька случайно выстрелил в потолок. Написать докладную, и дело с концом. Так нет же — завели бы канитель — еще и «пришили» бы что-нибудь. Впрочем, теперешние безнаказанные хищения оружия — не лучше. Заводить канитель по каждому пустяку не стоит (чтоб не вынуждать людей тайно сдавать пустые патроны), но оружие должно быть под контролем.
Вскоре после моего дежурства в СМЕРШе нас провели через медкомиссию. Но теперь, когда молодой врач спросил, какие болезни у меня были, я намекнул и на порок сердца. Сделал то, чего раньше не делал. Видимо, пережитое меня сломало и доконало.
Он рьяно стал меня выслушивать, обрадовался, что нашел нечто, бросился к старшим, которые тоже меня по очереди выслушали, и в конце концов я был признан «годным к нестроевой службе в тылу». После этого меня перевели в нестроевую роту.
Станция Самоцветы
С переводом в нестроевую роту все мои злоключения как будто кончались. Но был еще один, заключительный, аккорд, в каком-то смысле самый тяжелый и оскорбительный. Правда, это уже было не на военной службе, а как бы в переходный период — на небольшой шахте возле станции Самоцветы. Но туда еще предстояло добраться. А пока мы расстались на том, что меня перевели в нестроевую роту.
О ней рассказывать особенно нечего. Но все же я там пробыл недели две-три, и там тоже проявлялось то время. Я чуть не сказал, что там тоже шла жизнь, но это не совсем верно. Общей жизни, какая бывает в любой воинской части, там не было.
Нестроевая рота представляла собой не регулярную часть, а род распредпункта, или — из более позднего опыта — камеры пересыльной тюрьмы, в просторечии — пересылки. Только что взаперти не держали, из казармы выйти всегда можно было. Гигантская казарма с двумя рядами широких сплошных нар вдоль всех стен. И везде люди, люди, очень много увечных воинов: хромавших, каких-то скособоченных и тому подобное. Там были представлены все народы СССР, много было жителей Средней Азии. Места на нарах были впритык, время от времени вспыхивали конфликты, кто-то кого-то стаскивал с нар — иногда наглеца, занявшего чужое место, иногда с целью отобрать чужое место, а чаще по ошибке — вышел ночью в нужник, а потом перепутал — спали ведь сплошняком, вповалку, а народ был случайный, друг другу незнакомый. Почему этих людей не отпускают домой, а заставляют их мучиться здесь — тайна военной медицины и сталинской целесообразности. Неужто кто-то наверху полагал, что они долечиваются в этой нестроевой? Трудно поверить. Видно, такие вопросы решал кто-то, кто видел перед собой только цифры и вообще не имел представления, что есть что. А внизу плохо понимали, чем занять это воинство. В основном рота использовалась в кухне и на других хозяйственных работах. На кухню отправлялись охотно. Там можно было наесться вдоволь. Иногда голодные люди, стремясь наверстать недоеденное и наесться впрок, переедали. Это приводило иногда к трагикомическим результатам. Помню такую, например, картину: юный, совсем юный узбек, вероятно, колхозник в прошлом, вообще непривычный к нашему быту и пище, стоит, страдальчески согнувшись и держась за живот — его буквально скрутило, — перед старшиной, а тот потехи ради орет: «Смирно!» А вокруг стоит народ, смеется. Беззлобно, да и старшина не злой человек, но смеется. Но и узбеки тут же стоят — не смеются. Столкнулись разные уклады, углубляется взаимонепонимание. А оно, как мы теперь знаем, — чревато…
Однажды по приказу генерала, командира бригады, нестроевую роту под командованием лейтенанта, тоже раненного, выгнали на строевые занятия. Это, может, было и смешно — видеть этот нестройный строй, но генерал как военный человек знал, что делал, приказывая это. Он понимал, что люди дурели от скученности, духоты и безделья и во избежание разложения надо их занять. Вряд ли он думал, что нас всерьез начнут муштровать.
Этим и не пахло. Лейтенант вывел свое воинство, вызывавшее иронические приветствия всех встречных и поперечных, из расположения части. Достаточно далеко, чтобы не мозолить глаза начальству, но не так далеко, чтобы переутомить свою железную гвардию. Найдя удобное место, он объявил перекур. Перекур этот был довольно длинным, к нему, собственно, и свелись «занятия». Когда подошло время, нас опять построили в колонну, и столь же живописным строем мы побрели обратно. Думаю, что, если бы нас застукал за этими «занятиями» любой начальник, кроме уж очень глупого, он, хотя сразу бы догадался, в чем дело, вполне бы удовлетворился рапортом, что с ротой проводятся строевые занятия, а в данный момент как раз перекур.
В армии часто приходится соблюдать декорум, никакого своеволия в ней проявлять нельзя, но форма приказа не всегда соответствует тому, чего от тебя на самом деле хотят. Ты должен тоже соблюдать декорум, но делать то, чего от тебя ждут и требует здравый смысл. Так и понял свою задачу лейтенант. Но в то же время надо было не ставить и начальство в неловкое положение. Поэтому он нас и отвел чуть подальше, с глаз долой. Своеобразная армейская грация тех лет.
Еще в связи с этой ротой я помню митинг. По какому он был поводу, я уже забыл. Но разговор шел о ненависти к врагу. Надо сказать, что митинг проходил почти стихийно. Политрук на сцене только слегка дирижировал, вводил его в рамки. А так он двигался сам собой. Солдаты сами стремились высказаться. С места, анонимно, вовсе не стараясь выслужиться. Да и кто мог выслужиться в тамошней текучке. Просто примеры немецких зверств, приводимые политруком, они дополняли своим, наболевшим:
— А вот у нас в деревне, товарищ старший лейтенант, немцы сделали то-то…
Тут же другой голос:
— Это что! А вот у нас…
Политруку оставалось только обобщать:
— Вот видите, товарищи…
Что бы ни говорили некоторые эмигранты, и как бы ни изгалялись некоторые молодые в стране, война — во всяком случае, в тот период — была уже войной и в самом деле народной и Отечественной. А того, что насмерть перепуганный в сорок первом Сталин расплачивался их жизнями легко и щедро, что его любимым деепричастием в приказах (не тех, которые читались по радио) было: «не считаясь с потерями» — этого они ни знать, ни представить себе не могли. Да и я не мог — при всей критичности. Если вдуматься — этого вообще нельзя себе представить. Даже зная.
Больше мне ничего особенно яркого не запомнилось. Разве то, что кому-то пришло в голову рекомендовать меня в комсорги другой, вполне строевой роты. Тогда — при всей своей оппозиционности — я не считал это зазорным. Я ведь считал, если говорить сегодняшним языком, что сталинщина оторвана (или только иногда отрывается) от настоящего «идейного» коммунизма, которым я, к стыду своему, дорожил. О том же, что сам этот коммунизм оторван от всякой человечности, я и не подозревал. Да и не дорожил я тогда по задуренности такими «мещанскими» понятиями. Что они были по сравнению с великой целью? Что же касается войны и победы, то тут у меня с официальной пропагандой расхождений не было. Короче, я ничем не поступался, соглашаясь на эту, и тогда неясную мне, роль.
Но комсоргом меня, слава Богу, не сделали — вероятно, потому, что бравого вида не было. Хотя под будущее комсоргство «нестроевой» старшина (тот самый, что кричал «Смирно!») выдал мне хорошую шинель. Тем дело и кончилось. Чем я опечален не был и о чем никогда не жалел. Не жалел о несостоявшемся комсоргстве, об отсутствии у меня бравого вида жалел — и всегда. Комсоргство это мне было бы как корове седло — при любом мировоззрении. Не вожак я широких масс.
Вскоре составили команду из солдат моей категории годности, человек восемь, не больше. Были они, в основном, люди в возрасте, самым молодым было под тридцать. Некоторые — очень даже бывалые. Тут-то и возникает в моей жизни недоброй памяти станция Самоцветы. Станция эта расположена между угольным Егоршиным и металлическим Алапаевском. Вероятно, где-то рядом добываются знаменитые уральские самоцветы, отсюда и название. Но нам дали предписание явиться не на рудники, где их добывают, а на угольную шахту, расположенную, вероятно, по другую сторону железной дороги, недалеко от этой станции. Так что сама станция тут вообще ни при чем, в моей недоброй памяти она не виновата. Но и шахта тут тоже ни при чем. Мне и здесь было плохо, но тут уже, в отличие от армии, где все было для меня неоднозначно, где я оказался «негодным погибать» — пусть не по своей вине, но все равно тошно, — тут вся правда была на моей стороне.
Шахта эта, хотя и была уральской, не относилась к числу индустриальных гигантов. Относилась она к тресту «Местоп» — местной топливной промышленности — объединяющему предприятия, добывающие уголь для местных нужд. Но какие были тогда местные нужды у Свердловской области! Все ее заводы работали на войну. И эта маленькая шахта — тоже. Поэтому ее неплохо снабжали продуктами, поэтому и нас прислали — в качестве централизованно распределяемой рабочей силы. Практически нас демобилизовали, но закрепили за этой шахтой. Тогда все были за кем-то закреплены. С тем же, а пожалуй, все-таки с большим успехом меня могли бы отправить и на родной завод. Но туда отправляли других.
На шахте в основном работали жители расположенных рядом с ней деревень. Может, кто из них добывал или обрабатывал самоцветы, но я о таких не слыхал. Поселили нас не в деревне, а в шахтном общежитии, где, кроме нас, жили люди, называвшиеся поляками. Поляками считали их все окружающие, поляками они, по-видимому, считали себя и сами. Я поначалу думал, что все это выселенные жители Западной Украины. Оказалось, ничего подобного. Они были исконно советские граждане, только жили раньше вдоль польской границы. Но и это было не самым удивительным. Я ведь знал, что поляков выселили из Киева. Самым удивительным было то, что их «польский» язык был мне абсолютно понятен и знаком с детства. Ибо говорили они по-украински, причем очень хорошо и чисто. У меня скоро среди них завелся приятель, любитель книг, но и из его разъяснений я не смог уразуметь, кто они такие и почему они поляки.
Теперь я понимаю, что это были униаты, переселенные с западных границ, — Солженицын в ГУЛАГе зафиксировал среди потоков и этот маленький (тоже из многих тысяч семей) ручеек. А здесь они были — как я сформулировал потом, — в трудармии. Я уже упоминал это образование, когда писал об отце своего товарища Рэма Штруфа. Туда «мобилизовывали», точней, загоняли для оборонных работ, всех трудоспособных представителей «ненадежных» наций. Вероятно, все они считались находящимися под наблюдением, хотя чего было за ними наблюдать. Люди были все сдержанные, солидные, вежливые и замкнутые от посторонних. Впрочем, раскрываться им предо мной и некогда было. Я там пробыл недолго.
Мы все вместе занимали отдельную большую комнату. Под землей никто из нас не работал — даже не приглашали. По-видимому, своих хватало. Работавших под землей освобождали от армии и к тому же сравнительно хорошо снабжали. Но прибывшие со мной на подземные и не рвались. Народ это в основном был тертый и дошлый. Один тут же устроился заведующим столовой, другой — мужик вполне основательный — очень скоро стал заведующим пекарней. Что и то и другое тогда значило — догадаться легко. Третий — будем его называть мастеровой, — устроился куда-то в мастерскую. Меня, моего соседа по кровати, кустанайского колхозника, и некую личность по имени Попов — определили в чернорабочие, точнее, в укладчики пути — кажется, там строилась узкоколейка, — на уральском-то морозе, под уральским снегом.
Особенно «весело» было отгребать этот снег с предполагаемой трассы. Пока отбросишь одну лопату снега — а работали мы широкими фанерными лопатами, — наваливало две или три. Однажды я не выдержал этого мартышкина труда, бросил работу и пошел к начальнику шахты. Сказал, что я не могу больше, что сил выполнять такую работу у меня нет и что я просто не знаю, что теперь делать. Видимо, бессмысленность моего пребывания была очевидна и для него. И, выслушав меня, он пожал плечами и велел секретарше напечатать приказ о моем увольнении, точнее, о направлении в райвоенкомат, за которым мы числились, с резолюцией: «ввиду невозможности использовать». Думаю, что она относилась ко всей моей службе. Меня рассчитали. Точней, отпустили — тогда, и до самой смерти Сталина, людей отпускали — как крепостных.
Но это — краткое описание моей, так сказать, трудовой деятельности на этой шахте. Особого интереса она не представляет. Я с ней, конечно, тоже намучился, но в этом никто из окружавших меня не виноват. Да и не страшно это было, только тягостно. Но тягостно было всем. А в том, что я с этим не справлялся, — опять-таки виновато мое физическое состояние. И тут все это видели, никто не говорил, что я притворяюсь. Страшное связано не с трудом и не с шахтой… Как видите, ее начальник, когда пришлось, отнесся ко мне вполне по-человечески. На шахте же я в каком-то смысле подружился с обоими ее инженерами — их и было там только двое, и оба — молодые. Это было благом. Можно было после работы зайти к ним в шахтоуправление, поговорить о литературе, о жизни, у них, затерянных в глуши после института, тоже была потребность в непрофессиональном общении. Все-таки приятно вновь ощутить, что не единым хлебом и делом живем. А уж что мне это нужно было — и говорить нечего… Нет, шахта эта не сделала мне ничего дурного.
Досталось мне вовсе не от шахты, а от моих случайных товарищей, остальных «годных к нестроевой в тылу», населявших нашу комнату. Сегодня, когда я думаю о них спокойно, я понимаю, что в большинстве они вовсе не были ни плохими, ни особо злобными людьми, но тогда атмосфера, создаваемая взаимодействием их представлений, опыта и психологического состояния, была какой-то на редкость душной и низменной. Дело не в том, что это были простые люди. Мне не раз приходилось жить среди простых людей, но с такой атмосферой я больше не сталкивался.
Вероятно, переход от армейской регламентации и регламентированной обеспеченности к относительной свободе и неизвестности действовал деморализующе. Да и то, что их, раненых-перераненых, не отпустили работать домой, где они тоже бы вполне пригодились, а заслали куда-то, где они и не так уж были нужны, тоже действовало. Особенно на уже упоминавшегося кустанайского колхозника. Он очень от этого страдал. Не говоря уже о том, что и предыдущий советский опыт отнюдь не действовал на них облагораживающе.
Это несколько противоречит тому, что я до этого здесь говорил о «советскости», — но это противоречие не мое, а жизни. К сожалению, те «вера и доверье», которые были свойственны тем, о ком я говорил раньше, способствовали их человеческим качествам, но — и я этого не скрывал, — в том и была их (и не только их) трагедия — держались ни на чем. И в принципе, эти «вера и доверье» и начинались на ином уровне бытия, которого большинство не достигало. Не обязательно этот уровень был материальным — он мог быть уровнем связей, человеческой активности, интереса к общественным вопросам.
На прочих советчина наваливалась без всякой иллюзорной «советскости» — ничем для них неокупаемой бедностью, тяготами, опасностями, эксплуатацией. И они знали свое дело туго — надо уметь выкручиваться и изворачиваться. Это было вынужденно, но духовно не обогащало. Отнюдь. Завстоловой с фиксой до армии наверняка прошел через лагерь, хотя человек был явно не преступного типа (вообще людей вороватых среди них почти не было — правда, почти). Выкручивался. Меня он считал человеком, обреченным на гибель, — ввиду моей неприспособленности. «Единственное место, где такой может жить, — это лагерь, там хоть кормят», — однажды философски высказался он. Вполне, впрочем, доброжелательно. Подводила его чрезмерная положительность, так сказать, вульгарный позитивизм.
То страшное, о чем я хочу рассказать, что разыгралось потом и что не лезет ни в какие ворота, произошло по этой же причине. Оно не объяснялось ни недоброжелательностью, ни, в какой бы то ни было мере, антисемитизмом, а только этой положительностью. Главные действующие лица тут были люди вполне честные. Главные, но не все.
Началось (для меня) с того, что я как-то ночью проснулся от чьего-то прикосновения. Надо мной в белье стоял уже упоминавшийся Попов и пытался из мешочка, висевшего на тесемочке на моей груди, вытащить все мои продовольственные карточки. Увидев, что я проснулся, он что-то пробормотал: дескать, хотел одеяло поправить, чтоб я не замерз. Я намерения его понял вполне, в такую заботливость не поверил ни на секунду, но не удивился. Ни в чем таком он замечен не был, но от него за версту несло опустившимся человеком, доходягой — кстати, термин такой бытовал не только в лагерях, но и в армии (в тылу). Конечно, до дистрофии и пеллагры тут было далеко, в армии все питались одинаково, но некоторые опускались. Мне бы крик поднять, но я почему-то этого не сделал. Вообще не отреагировал, повернулся и снова заснул. И никому не рассказал об этом. Это было ошибкой, и я за нее жестоко заплатил. Когда люди живут вместе, они должны такие вещи знать во избежание недоразумений. Но я полагал, что он больше никому не опасен: ко мне он второй раз не полезет (да и тесемку я затянул потуже), а других тронуть побоится. Но он, видимо, преодолел страх — тронул.
Однажды, когда я в коридоре беседовал со своим приятелем — «поляком», меня на минуту позвали в комнату. Все были в сборе, Попов тоже. Тот, которого я называю мастеровым, спросил:
— Ты тут на столе буханку хлеба (или пол-, или две — теперь не помню) видел?
Парень этот был мне до этого вполне симпатичен. Широкоплечий и крепкий, положительный, он внушал доверие. Поэтому, ничего еще не понимая, не задумываясь о том, почему он это именно у меня спрашивает, и уж совсем не догадываясь, к чему он ведет, я просто прямо ответил на вопрос: «Да, видел». Мне хотелось быстрей вернуться к своему «поляку» и продолжить разговор. Но последовал следующий вопрос:
— Ах, видел! А куда ж он девался?
Как ни странно, я и теперь ничего еще не понимал. И только удивился:
— Не знаю. Откуда мне было знать?
— Ах, не знаешь, мать твою так-перетак! Я тебе покажу: «не знаю»! Убью гада!
И произошло непоправимое. Он стал меня избивать. Он был намного сильней меня, тягаться мне с ним было не по силам. Тем более, на его стороне было молчаливое сочувствие остальных вершителей правосудия. Но и мне стало все равно — я наконец понял, что меня обвинили в воровстве. Он меня бил, а я, не переставая, ругался по их адресу. На угрозу добавить отвечал: «А хоть убей. Мне все равно». Мне и в самом деле было все равно. Защититься не было никакой возможности. Попутно выяснилось, что, кроме того, что я видел этот злополучный хлеб, у них было еще одно «неопровержимое» доказательство моей вины. Оно-то как раз и относится к их положительности. Я не умел растягивать свой хлеб на весь день. Съедал сразу. Следовательно, по их логике положительных людей, я и взял. Попов так на всякий случай и аргументировал свое «алиби», хоть я на него и не указывал: «У меня же свой хлеб есть».
Логика эта меня поразила. Оно, конечно, нехорошо — отсутствие воли, неорганизованность, безалаберность — качества непохвальные. И съедать свой хлеб сразу, когда впереди целый голодный день, не стоит. Но съедал-то я все-таки свой хлеб, а не чужой. Съедал не только сегодня, но и вчера, и позавчера. Неужели для них так фатально одно вытекает из другого? Ведь должен же был у них быть и другой опыт. Сколько людей по всей стране умирали от голода, но чужого не трогали. Как у Мандельштама — «Когда с Украины голодные крестьяне / Калитку стерегут, не трогая кольца». Или все это у них было вытеснено грубым материализмом выживания? Не знаю. Но все равно они люди, а людям нельзя смотреть мимо человека. Не говоря уже о том, что нельзя выносить приговор на таких шатких основаниях.
Я был одновременно смят и разъярен. Несмотря на все избиения, я «не сознался» и обещал своему обидчику, что теперь при любой встрече никак, кроме как б….ю, его называть не буду. Так я и поступал.
Потом все постепенно рассеялось. Общее впечатление через несколько дней суммировал завстоловой:
— Нет, на него зря думали. Потому что у него как ничего не было, так ничего и нет.
Обвинение отпало, но логика осталась. В том, что было проделано надо мной, не было никакой враждебности или антисемитизма — только непонимание и уровень правосознания.
Это воспоминание до сих пор наполняет меня болью и яростью. Ведь все эти люди не были ни дураками, ни, кроме Попова, подлецами. Как можно с такой легкостью, на таких основаниях, не слушая возражений, обвинять человека?
Впрочем, через несколько месяцев, уже в Москве, со мной опять случилось нечто подобное. Я был если не обвинен, то заподозрен в еще более страшном преступлении — в том, что в начале месяца унес все карточки целой семьи своей знакомой по Симу, у которой был в гостях. Другими словами, сознательно обрек целую семью на месяц жизни впроголодь. Дескать, мы не говорим на вас, но после вас у нас никого не было, а карточки пропали. Правда, все это было вежливо, не так нахально. Вечером того же дня эта знакомая встретила меня у проходной завода, где я работал, и, стесняясь, сообщила мне о пропаже. После того, как я самообыскался и версия о случайности отпала, она перешла к более серьезным версиям. Она сказала, что если я не выдержал и польстился, то чтоб опомнился. И заплакала. Конечно, это было от отчаяния. Но то, что они могли поверить в такое про меня, было слишком. Не помню, встречался ли я где-нибудь с ней после этого, но отчетливо знаю, что это могло быть только случайно, ибо видеть я ее больше не хотел. И именно потому, что исходный пункт был тот же — то, что я был очень беден и голоден.
Это вовсе не означает, что я был тогда, в начале своей московской жизни, свят. Я был молод, действительно безалаберен, действительно не умел, да и негде мне было, организовать свою жизнь, и действительно это иногда приводило к поступкам, которых я потом всю жизнь стыдился. Например, задолжал двум хорошим людям на том же заводе по сто рублей. Одолжил на то, чтобы выкупить пайковую водку и продать ее (после чего вернуть первоначальный капитал), да как-то не получилось, а деньги разошлись, и я их не отдал. Могут сказать, что деньги небольшие — тогдашние сто рублей, но раз я их одолжил, значит, они имели какое-то значение. Меня до сих пор оторопь берет при воспоминании об этом — не знаю, куда от себя деваться. Но все же это другое. В этом не было заведомости и злой воли, не было согласия оставить кого-то без чего-то. Не говоря уже о том, что не было воровства…
А тогда, в комнате общежития при шахте, было другое. Хитроумное подозрение, обвинение, приговор и его исполнение слились в одно. Слова завстоловой, кажется, связаны с тем, что обворовывали меня.
Кончилось все совсем похабно. Когда меня отпустили и я собирался в дорогу, в комнате оставались только я и кустанайский колхозник, человек вроде вполне положительный. Я оставил свои вещи и на секунду вышел из комнаты. Когда я вернулся, из сумки исчез весь мой хлеб, заготовленный на дорогу, а степенный колхозник демонстративно храпел на своей койке.
— А? Что? — продрал он глаза, когда я спросил, где хлеб. — Ничего не знаю.
И даже стал возмущаться ворами. В каком-то смысле я его понимаю. Он очень тяжело переживал, что его не пускают домой. А тут еще отпустили меня, молокососа. Возможно, в том, что он отнял мой хлеб, была еще и месть удачнику. Не знаю. Но все равно это была подлость. Мне предстояла трудная дорога. И всю дорогу я должен был голодать по его милости. И сделал он это сознательно.
Со всем этим мне предстояло жить и писать. С тем, что было со мной в армии и что случилось здесь. Что-то во мне сломалось — может, и к счастью, но сломалось. И тому, что меня безо всякого толку затолкали сюда, где я только смешон, я переставал находить оправдание. Это меня теперь уже злило. Отчасти и бывшее со мной в армии — тоже. Я стал поклоняться самодовлеющим и безграничным правам личности, чего никогда после 1944 года я не придерживался — ни во что безграничное я давно не верю. Сама форма есть отграниченность. Даже стихи рождались странные для меня прежнего. В них слышался теперь неведомый и даже противопоказанный мне раньше протест. Не протест против оскорбления Великой Идеи и Мечты, а просто протест живого существа, с жизнью которого не считаются, протест личности против того, что любая чурка ценится выше, чем она. Это бывало у меня и в армии. Вот начало одного написанного там стихотворения:
Мороз свирепствовал так, словно Мою он твердость проверял. Я часовой, приставка к бревнам — Они ведь пиломатериал.Но в армии я себе многого внутренне не позволял — война для всех война. В этой иронии больше грусти, чем протеста. Здесь я стал писать другие стихи.
Вот конец одного из них, а может, и целиком оно (сейчас не помню):
От судьбы никуда не уйти, Ты передан по списку, как прочий. И теперь ты укладчик пути, Матерящийся чернорабочий. А вокруг только посвист зимы, Только поле, где воет волчица. Что бы в жизни ни значили мы, А для Центра мы все единицы.Правда, в конце возвращается суд привычной романтики:
Видно, ты уж вовек не герой, И душа у тебя не большая, Раз не терпишь, что время тобой, Как костяшкой на счетах, играет.Тут уже есть этот протест, именно этот, личный. Признавая по-старому, что нежелание быть костяшкой на чьих-то счетах — это качество «не героя», я все-таки этого «не терплю».
Как я потом понял, эта позиция чревата соблазнами. За защитой прав собственной личности может угнездиться и примирение с собственной низменностью, с отказом от элементарного долга перед другими. В сущности, при полном погружении в себя, в сложные коллизии отказа от высокого — полная потеря себя как личности. Мне кажется, что, приехав в Москву, я даже стал ступать на этот путь, но Бог уберег (а стихи не сохранились). Однако прежняя романтика еще сидела во мне крепко.
О, нет! Меня таким не знала ты. Он вывернут войной, духовный профиль. И верь не верь, предел моей мечты — Печеный хлеб да жареный картофель. Мне снятся сны… В них часто он шипит На сковородке… И блестит от сала. Да хлеба горы. Да домашний быт. Да все, над чем смеялись мы, бывало. Но как бы я об этом ни мечтал, Но в тишине с картофелем и салом Я б, верно, скоро дико заскучал, И ты б тогда меня опять узнала.Прошу прощения у читателя за «духовный профиль», а также за столь резкий переход к антитезе. Но о моем настроении того времени это стихотворение кое-что говорит. Впрочем, в том, что мне тогда не хотелось быть щепкой или костяшкой, я не раскаиваюсь. Потом, года через два, я опять увидел в этом смысл и долг — вот в этом я действительно раскаиваюсь.
Без хлеба, в какой-то хламиде (свою «комсорговскую» шинель я выменял на хлеб у завпекарни, который давно к ней приценивался, и этот хлеб вместе с пайковым тоже был украден кустанайцем) навсегда и без всякого сожаления уехал я с этой шахты.
В Алапаевске, куда я приезжал сниматься с учета и где мне выдали предписание «явиться в Лесотехнический институт», я встретил хороших людей, которые мне помогли. В поезде на Нижний Тагил сердобольная крестьянка дала мне луковицу. Дорога действительно была тяжелой. С военной службы (на шахте мы ведь тоже были по военному предписанию) я ехал таким же обворованным и голодным, как ехал на нее. Но как-то (как — теперь уже не помню) я доехал до Сима. Хотя твердо держал путь на Москву. Так или иначе, похождения бравого солдата закончились.
Что чувствовали родители, увидев меня, — описывать не надо. Для них я вернулся с того света. Вернувшись, я четыре дня только спал и ел. Вставал, что-то ел, собирался навестить друзей и снова спал. Отдыхал от голода, усталости и, как теперь говорят, от стрессов. Потом, конечно, всех повидал. Но это мое пребывание в Симу как-то стерлось из памяти.
Стало известно, что начинается частичная реэвакуация завода. Через пару недель отправляли первые два вагона в Москву. Я попросился, и меня включили в списки. Через две недели мы и отбыли — в двух теплушках. Начиналась Москва. Начиналась, медленно и тяжело разворачиваясь, моя подлинная жизнь. Правда, пока я еще был на пути к ней.
Часть третья. Москва 40-х
В Москву и Москва 1944 года
Дорога до Москвы — в сущности, почти через всю Европейскую Россию — мне помнится не то чтобы во всех подробностях, но довольно ясно. Наши две теплушки грузились спокойно, никто не волновался, не боялся, что не попадет, как все вокруг нас во время поспешной эвакуации. Руководил всей экспедицией бывший председатель завкома, человек разумный и организованный. Фамилии его я не называю, потому что буду приводить его высказывания и рассуждать по его поводу, так сказать, в историческом смысле — он был ярким примером советского двоемыслия. Но черта это не личная, и связывать ее с фамилией одного, в сущности совсем неплохого человека — несправедливо. Хоть и начала она проявляться почти сразу. Не знаю, по его ли инициативе, но с его ведома и согласия, даже при его активном участии были собраны деньги для ускорения продвижения наших вагонов. Другими словами, для взяток. Для взяток тем, от кого на сортировочных станциях зависело, к какому составу нас прицепить — к тому, который отойдет через два часа, или к тому, который только сформируется через два дня. Мера была вполне разумная, но мало соответствующая его официальному мировоззрению — оно требовало от него упования совсем на другие стимулы. Это никак не могло укрыться от моих глаз. Я тогда был очень зорок насчет этих несоответствий, хотя уже и менее скор на осуждение за них. Стихия жизни действовала и на меня — тоже ведь вопреки ригоризму догонял родителей на ступеньках и «зайцем».
«Правильно» было бы честно уповать на советскую справедливость и «качать права» на каждой станции. Думаю, что таким способом он подорвал бы себе здоровье и голос, а мы бы добрались до Москвы недели, в лучшем случае, этак за три, вконец поистратившись и дойдя до ручки. И благодарен ему за такую принципиальность не был бы никто — ни мы, грешные, ни его начальники. Да и сам Сталин не требовал от своих особой чистоты — было бы задание выполнено, а на все, особенно нравственные, издержки при этом внимание обращалось редко. Но вольности эти были нелегальны, официальная мораль их не разрешала, и каждый даже в интересах дела нарушал ее требования на свой страх и риск — при случае его могли и привлечь за это.
Но это уже обобщения, касающиеся не только обстоятельств нашего путешествия. «Беспринципность» бывшего предзавкома привела к тому, что мы доехали дня за четыре. На всех сортировочных нам поначалу обещали несколько суток «загорания», но нигде мы не стояли больше нескольких часов. Наши ходатаи отправлялись на переговоры, и довольно скоро к нашим теплушкам подходила маневровая «кукушка» и перетаскивала их к стоящему уже под парами составу, куда нас тут же и прицепляли. И мы ехали дальше. Все это делала взятка. Впрочем, взяткой это называть было бы неточно.
Я был свидетелем одного такого «взяткодательства». Это было на станции «Рыбное», уже за Рязанью. До Москвы теперь было — рукой подать, а нам и здесь обещали долгую задержку.
На переговоры, как всегда, отправилась делегация во главе с предзавкома. По какой-то причине и я увязался за ними. Искали они не начальника станции, а сменного диспетчера, непосредственно руководившего формированием составов. Помещался он в какой-то стеклянной будке, стоящей высоко над путями. Туда мы взобрались — я сзади всех. Дальше произошел знаменательный разговор. Он начался после того, как, узнав в чем дело, диспетчер наотрез отказался что-либо предпринять. Он не видел для этого никакой возможности. Положение наше показалось мне совершенно безнадежным. Но никого больше это не обескуражило.
— Да ты погоди, не спеши! — дружелюбно, самим тоном показывая, что верит в здравый смысл собеседника, возразил на этот однозначный отказ предзавкома. — Давай сначала поговорим.
Тут же на белый свет явилась и была разлита в припасенные кружки водка, стало нарезаться на газете сало — деликатес тоже не тривиальный в те дни.
— Это что? — возмутился диспетчер. — Взятка?
Я и теперь уверен, что взятки он бы не взял. Но ведь и наши были не лыком шиты и не в Швейцарии родились.
— Нет, — уверенно сказал глава делегации. — Это не взятка, это — водка.
Силлогизм сработал. Выпили вместе за победу, поговорили о том о сем, потом вернулись к главной теме.
— А как нам все же добраться до Москвы? Пойми нас тоже… Едем издалека… Столько времени ползем… А тут уже близко, и не укусишь…
Но теперь диспетчер, заметно к нам потеплевший, возможность помочь нам увидел.
— Ничего, ребята, я вас сейчас к такому составу прицеплю — без остановки до Перова домчит…
После чего обе стороны, вполне дружественно расположенные друг к другу, вернулись к прерванным занятиям. Утром мы были в Перове.
Что же произошло? Неужто диспетчер купился или продался за доставшуюся ему часть пол-литры и шматок сала? Да нет, конечно. Ему бы с удовольствием отдали всю пол-литру целиком, только сделай. Но он бы не сделал. В том-то и соль, что ему ничего не дали, а просто с ним выпили. И тут произошло следующее. До этого мы для него были просто клиенты, проталкивающие свои два вагона, а таких перед ним прошли тысячи. Что говорить — весь рабочий день он имел дело с такими, и все грузы были срочными. Процесс совместного возлияния разрушил эту инерцию, и он увидел в нас людей, которым надо доехать до дому, и понял, что ему совсем несложно прицепить эти два вагона к чему угодно. Именно поэтому на Руси иногда за водку можно сделать то, чего не сделаешь за деньги. Речь не о пьяницах или алкоголиках, а о нормальных людях… Именно в таких она иной раз разрушает барьеры и пробуждает естественную человеческую связь с другими людьми. Думаю, что я это почувствовал и частично осознал уже тогда, когда издали наблюдал за этой трапезой (я в делегацию не входил). И мне даже — вопреки воспитанию и тогдашнему мировоззрению — это понравилось. Эта неформальная человечность, с которой я сталкивался не раз и потом — по самым разным поводам и в самых неожиданных местах, — очень меня всегда привлекала в России. Она помогла выжить и уцелеть многому. Поможет ли на этот раз (писал в июне 1993-го, перечитываю в октябре 1997-го)?
Вообще поездка была нетяжелой. Люди друг к другу относились спокойно и дружелюбно. Но запомнились мне, кроме предзавкома, которого я знал и раньше, только один «въедливый» сухощавый старик и двое ребят.
Старик этот был явно умен, всерьез начитан, общался в Москве с какими-то явно «старорежимными» профессорами (такие тогда, несмотря на все чистки и «ответы Керзону», еще встречались) и жаждал общаться, выражать свои мысли. Естественно, я был для него наилучшим объектом. Как для общения, так и для разоблачения. Детально того, что он говорил, я не помню. Говорил он осторожно, но в то же время резко, мысли его были трезвы. Сколько я помню, предъявлял он серьезные претензии к русскому человеку как к таковому. Под которым — он специально это уточнил — разумел «всех, населявших территорию бывшей Российской империи». Обвинял он его в лени и безответственности, в склонности к упрощенным решениям. Он, конечно, не упоминал революции и большевизма, но явно имел их в виду, и я это если не осознавал, то чувствовал. Вроде я защищал идейность как смысл жизни, и вроде он этой цели не отрицал, но вроде и не отрицая ее, не оставлял камня на камне от моих рассуждений. И несмотря ни на что обаяние его на меня действовало.
Однажды, осведомившись о моих планах (военная газета, литература), он отнесся к этому скептически. Такое отношение к моим гордым планам — содействовать творчеством победе коммунизма, другими словами, победе справедливости во всем мире меня поразило. Но больше всего меня поразили слова предзавкома, внимательно прислушивавшегося к спору:
— Ну, конечно… Как все, поближе к государственному пирогу…
Я опешил… Я и теперь не думаю, что эти слова в отношении меня справедливы. Но оставим на время в стороне вопрос о том, кем был тогда я сам, к чему стремился, что понимал. Этому в этой книге уделено достаточно строк, и отнюдь не всегда апологетических. Но ведь произнес эти слова функционер этой системы. Как говорится, чья бы мычала! А констатировали его слова всеобщее, а не только мое личное (я только пошел по общей дороге) стремление быть поближе к пирогу, как единственную мотивацию общественной деятельности. Что его вело? Распространенное представление о вольготной жизни писателей и артистов, которые подобрались к этому пирогу ближе и удобней, чем он сам, уставший от ежедневной текучки? Отчасти, может, и это. Но не только.
Нет, это не было брюзжанием опального боярина. Он не был опальным. Я его называю «бывшим», но это относится только к должности председателя завкома, на которой я его застал. Остальные его должности не были ниже, и место его в иерархии за ним сохранялось. И сейчас его переводили в Москву, а не понижали в должности, не удаляли от вышеназванного пирога. Так что его слова не были вызваны личной обидой, а отвечали каким-то его собственным, скрытым от самого себя представлениям о «нашей советской действительности». Он сам в ней что-то чувствовал, но, вероятно, относил к дурному поведению людей. Сам он был человеком хорошим, такая у него была репутация на заводе, но все равно ведь частью страшной машины. Но этого он не понимал, да и я ведь до конца не понимал. Это его высказывание — естественное проявление оруэлловского (кстати, выведенного из советского опыта) двоемыслия (double think), которое хуже, чем неискренность, когда человек говорит одно, а думает или делает другое. Нет, это когда у человека есть одновременно два представления о том, что его окружает: официально-идеальное для примирения с действительностью и реальное, чтоб в этой действительности существовать и действовать. Тяжесть моего положения в том как раз и была, что на двоемыслие я способен не был.
Сталинщина отнюдь не нуждалась в увязывании своих ипостасей в одну. Но извечное стремление к этому свойственно людям, что и проявилось в этой реплике предзавкома. Непосредственно и в глубине души я не начал относиться к нему хуже. — чувствовал в нем хорошего человека, а это уже вопреки всем моим взглядам имело для меня самостоятельное значение… Как видите, мой ригоризм заметно вышел — особенно после того, как я сам оказался неспособным быть таким, каким считал нужным.
Но и от старика, и от предзавкома меня отделял возрастной барьер. Ближе всех я сошелся в пути с двумя своими сверстниками — рабочим Борей и техником по фамилии Богоявленский. Люди это были совсем разные, объединяло их только отсутствие денег на дорогу. В пути я им одалживал деньги. Следует помнить, что все, кроме меня, возвращались к себе домой и на свою предвоенную работу. Я один — ехал в полную неопределенность, и какие-то небольшие деньги у меня поэтому были. Вернул мне их только Богоявленский. Через несколько дней после приезда, он пригласил меня к себе, его семья очень мило меня приняла, и все деньги были мне с благодарностью возвращены. Представитель же пролетариата не вернул мне ни копейки, встреч избегал. А когда Богоявленский, встречая его на заводе, спрашивал об этом, в ответ мрачно молчал или проезжался насчет моего еврейства. Когда одалживал, этот факт его не волновал.
Самое же пикантное это то, что из доверенного ему чемодана он спер мои единственные более ни менее приличные брюки. Чемодан же я ему доверил на уже упоминавшейся станции Перово. Было известно, что на Казанском вокзале в Москве проверяют документы (есть ли пропуск) только у пассажиров дальних поездов. Пассажиры пригородных электричек проходили в город беспрепятственно. Было также известно, что два наших вагона только через сутки перегонят к той платформе, где их должны разгружать. Поэтому те из моих спутников, у кого было мало вещей, предпочли добираться электричкой. То, что пропуск был выписан один на всех и находился у старшего, их уже не лимитировало. Я же вообще ехал не по пропуску, а по воинскому предписанию, задерживаться в теплушке мне было незачем, и я последовал их примеру. А Борю попросил захватить и мой чемодан. Почему его, а не Богоявленского — теперь уже не помню, но так казалось удобнее. Борис согласился, оставил адрес — точный, а не фиктивный — следовательно, обманывать поначалу не собирался. Аппетит пришел уже, так сказать, во время еды. Чтоб закончить с этой темой — когда я через несколько дней приехал в Бескудниково, где жил Борис, его не было, была только его мать, которая о деньгах ничего не знала, но чемодан отдала. Когда я хотел тут же надеть брюки, лежавшие в чемодане сверху, их там не оказалось. На вопрос, где же они, я получил то же «не знаю», на этот раз приправленное тем, что называется «пущать слезу». Она заплакала-запричитала, но так фальшиво, так притворно, и была при этом до того противна и жалка, что мне стало душно, и я быстрей захлопнул чемодан и выскочил из этого дома — пусть в некотором смысле и «без штанов» — только, чтоб быстрей оказаться где-нибудь подальше и не видеть этого. Если бы я выносил свое суждение о русских таким же способом, как многие об евреях — на основании этой встречи, — тоже красивая бы получалась картина. Но я никогда не был расположен к таким обобщениям. Даже в армии. А тут и подавно. Тем более, отнюдь не только с Бориной мамой столкнулся я в Москве. Но это уже относится к Москве, а не к дороге.
Но дорога уже и так кончалась. В Перове я, как и решил, пересел из теплушки в электричку и так впервые приехал в Москву. Конечно, сегодня легко сказать: «приехал». Или как в «Автобиографии» для отдела кадров: «В Москву я приехал в апреле 1944 года». Все это правда, но уж очень формализованная и ясная, введенная в рамки. Когда впервые я вышел на перрон Казанского вокзала, ясным мне не представлялось ничего. У следующего перрона остановился только что прибывший поезд дальнего следования, и все выходы с этого перрона были прочно перекрыты милицией, проверялись документы. У меня документы, вероятно, были в порядке, но было приятно, что в этом не приходится удостоверяться. Вместе со всеми я оказался на Каланчевской (тогда, естественно, Комсомольской) площади — иначе говоря, на «площади трех вокзалов».
Об этой площади я много слышал от своих симских москвичей и быстро в ней разобрался. За спиной у меня был Казанский вокзал — из него я каким-то кружным путем вышел, а передо мной рядом два других: слева — Ленинградский, чуть правее — Ярославский. Последний в отличие от всего вокруг имел ко мне некоторое отношение. Отсюда можно было ехать к платформе «Строитель», указанной в вызове как адрес Лесотехнического института. Правда, там меня теперь, в конце учебного года, тоже не ждали. Не говоря уже о том, что всерьез я не собирался в нем учиться. Планы у меня были все те же: «идти в военную газету», до этого познакомиться с поэтами, почитать и послушать стихи и т. п. Планы эти выглядели ясно и четко, особенно издалека. Но вот я приехал. Площадь… Три вокзала… Вокруг снует множество людей, все знают, куда торопятся. А мне куда было идти? Где сегодня «преклонить главу»? Мне, для которого сейчас самое родное место — Ярославский вокзал.
Насколько я помню, сразу в Лесотехнический я тем не менее не поехал. А поехал я к своему соседу по Симу (брату тех девочек, с которыми я поделился печеньем) Зиновию Ровенскому. Он к этому времени учился в каком-то институте и собирался в армию. Все это было бы ничего, но дело в том, что у него к тому времени своей квартиры не было: то ли была разбомблена, то ли занята военным ведомством, и он сам жил у подруги своих родителей — к сожалению, забыл ее имя-отчество — у Савеловского вокзала. Туда я и направился, расспросив дорогу. Женщина эта оказалась очень приятной, отличалась той строгой и естественной добротой, которая так обаятельна во многих русских интеллигентных женщинах. Занимала она одну комнату в коммунальной квартире. У нее в комнате уже жил Зиновий, и уложить меня просто было негде. Но в общей кухне (подчеркиваю: общей!) стоял какой-то старый диван. На нем меня и поселили. И соседи, в основном люди простые, это терпели. Помню одну пожилую уже женщину, которая если и ворчала по моему поводу, то только уча уму-разуму, в смысле «как дальше жить думаешь», а не по поводу доставляемого неудобства.
А неудобства я иногда доставлял большие. Однажды родители, оторвав от себя, прислали мне с оказией килограмм масла в жестяной банке. Но солнышко пригрело, и масло прогоркло. Его надо было срочно перетопить. На этом сошлись все женщины в квартире. Но они полагали, что это вполне понятное и однозначное действие. Между тем это было не так. Ибо делать это должны были мы с Зиновием Ровенским, смело взявшим на себя руководство. Сначала мы выложили масло в какую-то кастрюлю, потом эту кастрюлю поставили на огонь, почему-то оставив в ней и ложку. Видимо, мы готовились к длительной операции, ибо, проделав все это, стали беседовать о чем-то интересном. Однако, минуты через две масло густо задымило, и кастрюля почернела, ложка тоже. Тогда Зиновий чем-то ухватил эту черную ложку и рывком выбросил ее из кастрюли. Масло вспыхнуло. Но Зиновий и тут не растерялся и залил пожар кружкой воды. Произошел взрыв, и все заполнилось дымом. Сбежалась вся квартира. Каким-то образом тлеющие капли масла проникли через дымоход к верхним соседям. Те тоже прибежали. Пожар потушили, но было весело. Я не знал, куда деваться от стыда — явился в чужой дом и чуть не спалил его. За это меня (помимо стыда) и выгнать могли, даже вроде должны были — а куда пойти? Оргвыводов, однако, не последовало. Я продолжал спать на том же диване. Доброты, несмотря ни на что, тогда еще было много в России…
Так что неудивительно, что я никогда не был склонен слишком переоценивать впечатления от Бориного вероломства и жалких нечистых слез его матери — впечатления, подобные впечатлению от давшей мне первый приют в Москве коммунальной квартиры, перевешивают. А если сравнить его с впечатлением от того, с чем я столкнулся в трехэтажном американском домике, где, кроме двух его хозяев, временно жила еще и их племянница и где вследствие такой перенаселенности ну никак, хоть убей, не было места переночевать четвертому, полуслепому уже человеку, и его на ночь глядя отвезли на поезд — искать приюта в ночном Нью-Йорке, — то вообще вокруг головы каждого жильца этой московской коммуналки сам собой возникает нимб.
Благодаря им я начал постепенно осваиваться в Москве. Прежде всего я поехал в «свой» институт. Оказалось, что до трех вокзалов можно доехать на окружной электричке. После этого долгое время, откуда б я ни ехал «домой» на Савеловский, я добирался сначала на метро до «Комсомольской», оттуда доходил пешком до платформы «Каланчевская» и ехал до «Савеловской». Например, из Центра. И даже от Пушкинской площади. Топография города открылась мне быстро, но не сразу. Но такой вариант пути к Ярославскому вокзалу не противоречил здравому смыслу.
Добрался я до платформы «Строитель» довольно быстро. Теперь каждый дурак знает, что означает железнодорожный термин «платформа» и чем платформа отличается от станции, знает, что станция — хозяйство многопутное (если путей немного, это разъезд), а платформа это и есть платформа — высокий настил вдоль магистрального пути. Думаю, что платформа — порождение электрички, быстро сбавляющей и быстро набирающей скорость. У паровых поездов сам процесс остановки и отхода занимает слишком много времени, останавливать их через каждые полтора-два километра на магистрали невозможно, это застопорило бы движение. С платформами, как и с электричками, я столкнулся только в Москве: Платформа «Строитель» — первая после станции Мытищи, остановка электрички на главной магистрали. Расположена она сразу после того, как от этой магистрали отходят две местные ветки: направо — на Подлипки — Монино (через Болшево и Щелково) и налево — на Пирогово. Лесотехнический институт расположен как бы по дороге от Строителя к станции Подлипки (город Калининград, Моек, обл.) — первой остановки на Щелковско — Монинской ветке. Тогда он помещался как бы в лесу. Как теперь выглядят его окрестности — не знаю. Описываю я эту топографию потому, что с этим пятачком — Мытищи (вместе с Тайнинкой), Тарасовка (через одну остановку на север от Строителя) Подлипки — связаны существенные отрезки моей жизни. Привожу схематический план этого пятачка.
Мое появление в институте в столь неурочное время вызвало некоторое удивление. Все-таки решили меня принять. Люди, с которыми я имел там дело, были интеллигентными и доброжелательными. Поскольку все равно требовалось прописаться и для этого стать на учет в военкомате, а я хоть и к нестроевой службе в тылу, но был годен, секретарша сказала мне, чтоб я без нее в военкомат не ходил, дня через два она сходит вместе со мной и все уладит. Но я пошел тут же. И был тут же опять мобилизован. Явиться я должен был дней через семь. С этого и началась моя литературная биография. Ибо откладывать поиски литературных знакомств было уже невозможно. И я не отложил, а, несмотря на все предубеждения, отправился в Литературный институт — других доступных мне подходящих мест в Москве я тогда еще не знал, и выбирать не приходилось… Я об этом ни разу не пожалел — предубеждения редко совпадают с истиной. С этого посещения собственно и началась моя московская — пусть поначалу и юношеская, непечатная, бездомная, отчасти сиротская, но все же всегда меня окрылявшая — литературная жизнь. Хотя официально я относительно профессионализовался — был принят в Литинститут — только через полтора года. Впрочем, моя литературная жизнь началась раньше даже этой зыбкой профессионализации. Но о ней в следующей главе.
Дело в том, что некоторое время, месяцев восемь, она шла параллельно с моим прежним нелепым бытием, которое я вынужден был продолжать волей чисто бюрократических хитросплетений, и на его фоне. Эти два мои бытия мало соприкасались между собой, но люди были и там, и там, а «действительности» в этом «предыдущем» бытии было даже больше. Поэтому перед переходом к рассказу о жизни новой я чувствую необходимость закончить рассказ и об этом своем бытии. Конечно, как фон моя новая жизнь будет как-то просвечивать сквозь этот рассказ (как, вероятно, в следующей главе фон этой моей жизни сквозь рассказ о моих первых контактах в литературной среде), но тут уж ничего не поделаешь — один период одной жизни, одно время, одни боли, один невероятный город, часто тот же культурный слой.
Как помнит читатель, я уже полагал, что вырвался, что бессмысленные нефронтовые мытарства мне больше не грозят, как опять наложил на меня лапу военкомат. Тут уже чувство долга меня не угнетало. Комплекс вины мог я испытывать только по поводу моего прямого неучастия в войне — попытка же опять без всякой пользы для дела превратить меня в чернорабочего-неудачника рождала во мне одно только желание — вывернуться. Особенно когда я чувствовал рядом Москву, все расширяющийся круг друзей, какие-то туманные перспективы… Но ни извернуться, ни попасть к Эренбургу для дальнейшего следования в газету (словно это впрямь зависело от мановения его руки) у меня не было никакой возможности, и в назначенный день и час я был с вещами в военкомате. Не совсем выспавшийся — накануне я не уложился в комендантский час, и патруль, несмотря на повестку, протаскал меня часа два взад-вперед по Новослободской. Просто так — видимо, получая от такого властвования удовольствие.
Из военкомата нас — целую группу — стали отправлять на соседние заводы и авиачасти, а их было вдосталь и в Подлипках, и в Болшеве. Везде мы подолгу ждали и отовсюду нас потом отсылали обратно. В обслуживающий персонал авиачастей нас не зачисляли — пристоличные авиачасти и без нас были укомплектованы техническим персоналом, но и заводы в нас не очень нуждались. В конце концов меня зачислили на орудийный завод № 88 в Подлипках (будущее базовое ракетное предприятие Королева, Калининград, Моск. обл.) учеником контролера. На этом моя мобилизованность кончалась — я получил обычные паспорт и военный билет. Получил я и место в общежитии. Так, не совсем добровольным образом, я зацепился за Москву и легализовался в ней.
Это, конечно, было не совсем то, в чем я нуждался — даже в «организационном отношении». Полностью это решилось через восемнадцать месяцев, когда — в сентябре 1945-го — я стал полноправным студентом Литературного института и получил место в знаменитом, многократно с тех пор описанном его общежитии, тогда только что оборудованном в его подвале. Там я впервые был на своем месте, и койка в общежитии, которую я занимал, принадлежала мне по праву. До этого моя приписанность к Москве (пусть к области, но ориентировался я на Москву, да и было это Москвой) не освобождала меня от известной ложности и двойственности положения. Ведь контролер из меня был не лучше, чем фрезеровщик. С той только разницей, что стать фрезеровщиком я действительно очень хотел, а контролером — не очень. Тем более, что поездка в Москву стоила двадцать копеек и занимала, максимум, сорок минут, а там я окунался в жизнь, которую — независимо от того, как я ее сейчас оцениваю, — ощущал и считал своей. Короче, из более сложного цеха меня скоро перевели в более простой, а там чуть не отдали под суд «за прогул».
Формально прогул этот имел место: я ночевал в Москве и проспал нужную электричку. Начальник цехового ОТК, старик недобрый и самолюбивый, с самого начала меня почему-то невзлюбивший, был неумолим и велел дать делу «законный ход» — направить его в отдел кадров, чтоб тот согласно заведенному порядку передал его в суд. О том, что такой «порядок» возмутителен вообще, что он унизителен и для народа, и для страны, я тогда не думал (привык, как и все — к тому ж еще шла война), хотя ощущать себя крепостным было неприятно. Такими ценностями я еще не оперировал, но сама возможность «попасть под суд» вселяла в меня нечто вроде мистического ужаса. Впрочем, у меня были и более конкретные, совсем не мистические причины для ужаса. Разумеется, не страх лагеря — наказание в таких случаях ограничивалось только несколькими месяцами принудработ с вычетом 25 % зарплаты. Не так страшно, но для меня бы это было крушением. Я оказался бы надолго и безвыходно закрепленным за заводом, отчего бы ложность и двойственность моего положения закрепились И поскольку более уместным для завода человеком я бы от этого не стал, неизвестно, чем бы это все кончилось. Но меня спасли друзья.
Свойством быстро обрастать друзьями я обладал всегда. Друзей у меня не было только в армии (до появления там В. Огнева) и на станции Самоцветы. Тем более я успел ими обрасти здесь, на заводе, на станции Подлипки (в городе Калининграде) — под Москвой. Это было тем проще, что завод был московский и люди соответственно тоже.
Знакомые у меня появились и в цеху — два молодых интеллигентных инженера. Потом мастер Фирсов — хороший, добрый человек, в начале тридцатых студент вечернего еще Литинститута. Воспоминание о нем до сих пор обжигает меня стыдом, ибо это ему я по тогдашней своей несобранности до сих пор должен сто — тогдашних, правда — рублей. Но цеховым друзьям не под силу было меня выручить. Сделали это другие люди.
Ибо и на заводе, и в городе образовались у меня и другие знакомства — через редакцию многотиражки, куда я пришел вскоре после своего появления на заводе. Редакцию составляли два человека — редактор и литсотрудник. Литсотрудником работала милая интеллигентная женщина, человек вполне литературный. К сожалению, я не помню ни ее имени, ни фамилии. Я стал давать в эту газету поделки «на злобу дня». С этой женщиной у меня с самого начала установились доверительные и теплые отношения. Она была еще достаточно молода, но существенно старше меня (тогда это было нетрудно — мне было девятнадцать). Читатель, который хочет увидеть в этом завязку романа, разочаруется. Не было ни романа, ни даже тени завязки, хотя она была очень недурна собой. Просто она была взрослой женщиной и немного опекала меня. Она же познакомила меня с другой, тоже интеллигентной и еще более взрослой женщиной — для меня, тогдашнего, просто пожилой. Эта женщина была специалисткой по вокалу и ведала на заводе самодеятельностью. Она знала на заводе всех — и директора, и начальника отдела кадров в том числе. Но представлен я ей был не из-за ее знакомств (кто знал, что они мне понадобятся?), а просто так. Кажется, чтоб я ей что-то написал для самодеятельности. Она тоже отнеслась ко мне очень хорошо.
Когда грянул гром, обе эти женщины активно стали меня спасать. Втянули в это дело завком (расположенный в том же помещении, что и редакция), для которого я тоже до этого и отнюдь не в предвидении будущего что-то написал. И, конечно, начальника отдела кадров. Короче, вопрос о том, что со мной делать, почти сразу же потерял оттенок судебности и стал проблемой перевода на другое рабочее место — другими словами, куда меня девать.
И тут на сцене появляется Николай Петрович Тузов, заведовавший тогда заводской художественной мастерской. Может возникнуть вопрос: а кому и зачем нужна на орудийном заводе художественная мастерская? Отвечаю: завкому для правильной постановки наглядной агитации, за которую он отвечал. Говоря проще, для своевременного вывешивания всяких графиков соцсоревнования, плакатов, призывов, портретов и т. п. Возникает другой вопрос, каким образом (на мое счастье) во главе этого предприятия оказался Николай Петрович, по профессии преподаватель литературы, сроду, как мне кажется, ничего не рисовавший? А это уже надо было знать самого Николая Петровича. Для него это был не подвиг. Все-таки в этой мастерской была некоторая, пусть чисто советски-бюрократическая, но потребность. Потребность в фикции, но не фиктивная потребность — с председателя завкома за небрежение этой фикцией «стружку снимали».
Но когда, встретив меня уже через много лет, он, не моргнув глазом, сообщил мне, что теперь заведует кабинетом русской литературы на том же, теперь уже королевском, ракетном предприятии, был поражен даже я, хорошо знавший способности Николая Петровича. Что это значило, я и теперь не знаю, но ясно понимал и тогда, что никакого кабинета русской литературы ни на орудийном, ни на ракетном, ни на каком-либо другом подмосковном заводе, НИИ или КБ не требовалось. Безусловно, многим тамошним работникам интерес к литературе был присущ, но, находясь в двадцати километрах от московских книгохранилищ (а часто и живя в Москве), они вполне могли удовлетворять (и, вероятно, удовлетворяли) свой интерес без помощи Николая Петровича и его кабинета. И все-таки факт остается фактом — кабинет этот существовал и Николай Петрович им заведовал. Кого-то ему удалось убедить в необходимости такого кабинета. Я смотрел на него во все глаза, как на кудесника-чародея, а он был вполне доволен произведенным впечатлением.
Совершенно понятно, что такому человеку перевести понравившегося ему юношу (а я ему сразу понравился, как и он мне) почти из-под суда в художественную мастерскую ничего не стоило. Назначение мое состояло в том, чтоб писать подтекстовки к карикатурам — всем нам не давали покоя «Окна РОСТА» Маяковского. Как это происходило, я уже плохо помню. Побывали мы и у начальника отдела кадров капитана МГБ Ивашкина — МГБ, а не КГБ потому, что тогда ГБ было министерством, а не комитетом. Своей принадлежности к ГБ капитан не скрывал — он был в форме. Тогда нахождение представителя этого ведомства на таком посту казалось мне естественным — шла война, а завод был орудийным. Я и теперь думаю, что такие места должны — особенно во время войны — находиться под охраной спецслужб. Другое дело, насколько тогдашнее ГБ, привыкшее формировать «врагов» из фанатичных сторонников режима и мирных обывателей, было способно противостоять реальной враждебной воле. Но сам Ивашкин оказался довольно умным, живым и даже проницательным человеком. Он сразу угадал во мне «своего» — не своего сотрудника, конечно, а одного из тех, кем эти сотрудники занимаются.
Не помню, в этот раз или когда я пришел увольняться, он добродушно заметил:
— Тебя, Мандель, в спецукупорку надо. Смотри, попадешь…
Что такое «спецукупорка» я, конечно, не знал и спросил, но он ухмыльнулся и не ответил. Не помню, с чем был связан этот разговор, может, с какими-то моими стихами, конечно, не крамольными, но все же не казенными, которые я по какой-то причине или по чьей-то просьбе прочел, может, с каким-то моим замечанием такого же характера, но с чем-то, в чем он уловил самостоятельность. Нет, он вовсе мне этого не желал, это была шутка. Но шутка, основанная на ассоциации. Таких и «укупоривали».
Куда? Во что? Я и теперь неточно знаю, что это такое было — «спецукупорка». Но, видимо, что-то очень плохое. Или лагеря смертников, или баржи, которые до отказа набивали людьми, и их топили в море. А может быть, в «своей среде» так, шутейно, именовались лагеря? Непохоже. Звучало как рабочий термин.
Но шутки шутками, ведомство ведомством, а жизнь жизнью. Этому капитану я могу быть только благодарен. Ничего дурного он мне не сделал, а хорошее сделал — не дал ходу судебным поползновениям вредного старика, а потом, когда пришло время, без всяких отпустил меня на учебу (в тот же Лесотехнический) — тогда это было не мало, очень не мало. Шутки шутками, а через три с половиной года я не обнаружил в своем деле никаких следов его работы: в нем не было никаких следов моего пребывания в Калининграде. Фигурировала только Москва. Собственно только в Москве я тогда и проявлялся по-настоящему (о чем в следующей главе). И там меня в это время, вероятно, брали уже «на карандаш», но сюда это не доходило. Здесь Николай Петрович взял на меня направление у капитана Ивашкина, и меня оформили маляром в деревообделочный цех, начальник которого очень милый и простой человек был приятелем Николая Петровича (у мастерской штата не было), и я был торжественно приведен на свое реальное место службы — в художественную мастерскую. Все это оформление Николай Петрович провернул буквально за час. По дороге я прочел ему какие-то свои стихи, а он в ответ свое, весьма наказуемое по тем временам стихотворение, которое заканчивалось так:
Мне говорят, что мы иными стали… Нас давит сила букв Це-Ка, И заварил такую кашу Сталин, Что Ленину не расхлебать в века.Должен сказать, что прочел он мне это именно по дороге, между делом, а могло это стоить ему головы. Еще раз обращаю внимание читателя на содержащееся здесь, кроме всего прочего, достаточно «преступного», еще и противопоставление Сталину — Ленина, как Злу — Добра. Оно в те десятилетия висело в воздухе — сознавалось это людьми или нет. И оно же поэтому было тогда главным криминалом, против которого были в первую очередь нацелены «наши славные органы». Так что Николай Петрович сильно рисковал, читая почти незнакомому человеку эти строки. Провокация исключается: она опровергается как его дальнейшим поведением, так и тем, что ни один работник ГБ не позволил бы себе так свободно разрабатывать эту тему. Покушаться на мистику было бы и для него самого опасно.
Помещалась мастерская, которую возглавлял Тузов, в одной из комнат галереи, тянущейся вторым этажом вдоль стен по всему периметру громадного цеха или, точнее, комплекса механических цехов. В этой пропахшей красками комнате над непрерывно гудящими цехами я проработал, вернее, прожил (ибо тут же и ночевал), несколько месяцев.
Обязанности мои были неопределенными. Что касается подтекстовок, из-за которых я тут якобы стал необходим, то хорошо, если я их написал два раза за все время. И еще кое-чего писал для цеховых художников, которые тоже каким-то образом относились к нам и подчинялись Николаю Петровичу. В основном же я практически был подсобником — бегал за красками, приносил холсты, иногда их грунтовал. Говорят, последнее требует квалификации, но для нашей продукции хватало и меня.
В мои обязанности иногда входило и водружение нашей «наглядной агитации» на отведенные для нее места. Однажды я должен был водрузить громадное панно над зданием проходной. Николай Петрович и предзавкома снизу корректировали: «чуть ниже», «чуть выше», а я с кем-то еще возился наверху. Потом я — не помню почему, но это нужно было для дела, для быстроты, кажется, (что-то у нас свалилось туда) — спустился вниз с внешней стороны. Оказалось, что тем самым я создал ЧП в отделе охраны оборонного завода. Дело в том, что пропуска находились у их хозяев только на территории завода. Уходя, рабочие оставляли их на проходной, а приходя, называли то ли фамилию, то ли номер и получали свой пропуск. Порядок этот строго соблюдался и никем не нарушался. Если человек выходил и возвращался несколько раз в день (у меня тоже было такое право), то он проделывал эту операцию несколько раз. И вдруг появился я извне и с пропуском в руках.
— Откуда у тебя пропуск? Как ты вышел с завода?
— Да по крыше, — отвечал я беспечно, зная, что охрана предупреждена о нашей операции — без этого никто бы нам не дал разгуливать по крыше проходной. Но оказывается, это только означало, что нас не надо сгонять с крыши и арестовывать, а не то, что можно выходить с завода, минуя проходную. Перепуг был большой, хотя в моем «переходе границы» не было никакого недосмотра охраны, никакого ущерба военным тайнам и самому делу охраны. Все знали и понимали, чем я занимался и как оказался вовне. Но было нарушено некое мистическое «табу». А ведь это дело по тем временам и раздуть можно было. А так ничего — выругали, потребовали письменного объяснения, которое подтвердили предзавкома и Тузов, и дело закрылось. Вернее, не открылось. Вопреки убеждению многих в России не так уж много было людей, которым было бы приятно кого-либо погубить.
Коллектив у нас был дружный. Состоял он из проходивших проверку наших пленных. И двух или трех глухонемых — среди них одна милая женщина, — они-то и работали цеховыми художниками. На заводе вообще на разных работах была занята целая группа глухонемых со своим руководителем-переводчиком. Впрочем, со «своими» Николай Петрович ухитрялся объясняться без переводчика и даже успешно острил на разные — в том числе и на игривые — темы. Все смеялись.
Что касается пленных, это выглядело менее смешно. Жили они рядом с заводом, в лагере, откуда их каждый день конвоировали на работу и с работы. Считалось, что в лагере они проходят проверку. Сама идея проверки тогда, как это ни прискорбно, мне не казалась чем-то постыдным: мало ли кого могли немцы оставить, отступая. Разумеется, тех, кого я знал, я ни в чем дурном не подозревал, моя «государственная подозрительность» на них не распространялась, но кто-то где-то и вообще мог ее заслуживать.
Но если говорить с позиций сегодняшнего знания, игнорируя тогдашнюю, почти всеобщую неосведомленность хотя бы насчет обстоятельств первого дня войны, то сам собой встает вопрос: кто, как и в чем имел тогда право их проверять? Что проверять? Достаточно ли героически и самоотверженно они вели себя в том безвыходном положении, в которое загнали их те, от чьего имени и налажена эта проверка?
Да и вообще — кто был в состоянии осуществлять такую проверку? Каким образом? Собирать доносы этих пленных друг на друга, стимулировать наушничество? Это и применялось. Именно поэтому ребята, работавшие со мной, не очень-то много рассказывали о пережитом за линией фронта. Впрочем, вождь любил, чтобы люди «его» народа не доверяли друг другу.
А откуда вообще такая ярость и подозрительность к пленным?
По-моему, объяснение этому простое: во-первых, патологическая ревность Сталина — представители возлюбившего его народа (сам поддался собственной пропаганде?) должны были охотно умирать за своего кумира, но никак не сдаваться в плен. Сдаваясь, они изменяли любви, и он относился к ним, как владелец сераля к неверной жене. А, кроме того, сдаваясь, они нарушали герметичность созданного им самого счастливого общества, что было абсолютно недопустимо — исчезала заколдованность. Кое-кто мог и усомниться в этом: и в счастье общества, и в величии кумира. Вот все, чем могли быть опасны побеждающей державе эти преданные ею ребята. Все это, конечно, мои сегодняшние мысли. Тогда я во всем, что было связано с войной и нацизмом, все-таки признавал необходимой бдительность. Хотя, как я уже говорил, ребятам этим сочувствовал и верил.
В мастерскую к художникам заходило много их товарищей по судьбе. Люди они были разные. Среди них был даже один еврей. Почему-то немцы в нем еврея не узнали и зачислили во вспомогательную команду из наших пленных — такие у них были. Он был назначен подручным повара при какой-то строевой части. Естественно, все время хотел перебежать к своим, но пока работал. Повар, при котором он состоял, тоже не знал, с кем имеет дело, но откровенничал насчет того, что эта проклятая война нужна только Гитлеру и Сталину — пусть и воюют друг с другим, как хотят, а таким, как мы с тобой, Михель (он и вправду был Миша), простым людям, она ни к чему. Немецкий порядок действовал неукоснительно, и через год моему приятелю был предоставлен законный отпуск домой в какой-то донбасский городок, где его знала каждая собака. Это никак не входило в его планы. Но делать было нечего. Надо было изобразить радость и ехать. Начальник-повар его поздравил, хорошо снарядил и, тепло напутствовав, отпустил в дорогу. Беда была в том, что не доехать до городка было невозможно — надо было сделать отметку именно в тамошней комендатуре и там же закомпостировать обратный билет. В родном городке он, прячась, провел один день, может быть, самый рискованный в его жизни, и вечером отбыл обратно, стараясь ехать как можно дольше.
Перебежал он где-то на Курской дуге, когда началось наше наступление. В части, куда он перебежал, командиром и комиссаром были евреи, и это усугубило его положение. Они от возмущения просто не хотели с ним разговаривать — еврей, а в немецкой форме! Или боялись быть обвиненными в потакании преступному соплеменнику. Но все же он был перебежчик, и его отправили дальше по команде — проверять, не стал ли сочувствовать Гитлеру.
Кажется, для всех, кто работал в нашей мастерской и кто к ним заходил, эта «проверка» кончилась благополучно. Все они были освобождены еще на моей памяти. Впрочем, не знаю, все ли надолго, некоторых из таких освобожденных (из других проверочных лагерей) я потом встречал на Лубянке и пересылках.
Но одного из этих пленных, в прошлом театрального актера, так и оставшегося завкомовским «художником», я встречал в Москве и потом. У него была неприятная странность — страсть пугать меня при встрече тем, что мной якобы интересуется ГБ. Это испугать меня не могло и не пугало, ибо было неправдоподобно. Встречались мы с этим человеком редко и случайно, всегда непредвиденно: на улице, в метро или в кино, и если КГБ временами мной и впрямь интересовался, то в качестве источника информации использовал не его. Зачем он это делал, я понять не мог никогда. Стукачом он явно не был, да стукачи так себя и не ведут. Доставить себе удовольствие моим испугом он тоже не мог — я не верил ему и не пугался. И, тем не менее, каждый раз, встретив меня (с интервалом в год, два и больше), он все так же отводил меня в сторону и с неизменной театральностью сообщал новые сведения на этот счет. Дескать, не хочешь — не верь, но учти! Учитывать-то я учитывал, но не в связи с его сообщениями. Если бы не плен и не проверки, перевернувшие его жизнь, его актерские способности и потребности нашли бы, вероятно, лучшее применение.
К сожалению, многого о себе в связи с городом Калининградом Московской области я вспомнить не могу, ибо жил Москвой, а здесь только отбывал некий никому не нужный срок. Без особых трудностей я ушел со своего ответственного поста обратно в «свой» Лесотехнический институт. Это стало возможным потому, что студенты, принятые на факультет МОД (механической обработки древесины), этого института в этом последнем военном году начали обеспечиваться бронью. Я, по-прежнему, не собирался становиться инженером, но моральных мук по поводу обретения таким образом брони не испытывал. На этот раз я точно знал, что уклоняюсь не от фронта, а от новой никому не нужной мороки.
Институт освобождал меня от физической зависимости от производства. Теперь уже никто не мог отдать меня под суд за опоздание или прогул, совершенный из-за какого-либо важного для меня разговора или мероприятия. Тогда было много интересных мероприятий (вплоть до выступлений Пастернака), и все они были для меня важны. Кроме того, я там получил место в общежитии, в котором я и вправду жил. Теперь на Ярославском я садился в электрички не Щелковской ветки, а следовавшие по главной магистрали — на Пушкино, Софрино или Загорск, если те останавливались в Строителе. Почему-то — вероятно, по неизжитому детству — мне это было приятно.
Конечно, основное в моей тогдашней жизни происходило в Москве. Но не думаю, чтобы я так-таки с самого начала намеревался манкировать занятиями в Лесотехническом. Я не сомневался в общественной ценности того, что хочу делать, но не сомневался и в том, что в печать это при моей жизни не попадет и что лучше мне поискать иные средства существования. Так что я совсем был не против приобретения этой нейтральной по отношению к идеологии специальности, и учиться я пробовал. Временами я даже пытался посещать занятия. Был на нескольких лекциях по математике. На первом курсе читалась аналитическая геометрия, и мне даже вроде было интересно. Но посещения мои были нерегулярны — не сначала и не подряд, — я не очень понимал, что это такое в целом, но рассуждения лектора внутри каждой лекции до меня доходили. Получил я и некоторое представление о том, что такое начертательная геометрия. Но в целом я не мог противостоять стихии собственной жизни и рядом расположенной Москве. Меня тянуло в другую сторону, а это не способствовало прилежанию.
Впрочем, помогала мне мириться с этим отсутствием прилежания и некоторая богемность духа, которой я считал своим долгом предаваться. Иногда несколько утрируя свое соответствие традиционному еще тогда для меня представлению о необходимой бесшабашности поэтической натуры. Я даже определял себя так:
Прохожу неровной лентой, Изрыгаю рев и мат, А хорошие студенты Изучают сопромат.Бесшабашности — подлинной и приобретенной — у меня тогда хватало. Вряд ли образ, стоящий за этими строками, точно соответствовал моему внутреннему облику. О внешнем я не говорю, но он достигался не потому, что я к этому стремился. И «неровной лентой», что значит «надравшись», проходил я где-либо крайне редко, да и не по улице. У меня на это не было ни денег, ни потребности. Кроме того, вряд ли я думал всерьез, что духовно превосхожу «хороших студентов» тем, что не учу сопромат. Но вовсе от такой гордыни, от сознания исключительности своей судьбы, связанной с профессией, воспринятой как призвание, я свободен не был. Что греха таить, этому предавался. Но как-то абстрактно — пока не сталкивался с живыми людьми. Стремлением чувствовать себя обязательно выше всех встречных-поперечных я не обладал никогда. И со студентами, которые жили со мной в общежитии, я дружил на самом деле, хотя они были людьми практических планов и соображений — профиль института притягивал таких людей. Это никак не означает отвращения от всего высокого. Конечно, если не сводить это высокое к интимному постижению литературы или, скажем, философии. В их практицизме и естественности были самостоятельность и достоинство. И рядом с этим естественное уважение к высоким сферам, которыми не занимались. Говорю это не на основании их отношения ко мне — его можно было бы объяснить товариществом, — а вообще на основании многих их проявлений. У меня о них остались самые теплые воспоминания.
Почти все они были — говорю об общежитейских — из недалекой, но глубинки. Все они понимали, что жизнь — дело серьезное, что надо в ней устроиться серьезно и основательно. У некоторых и родители работали по лесному делу, были директорами лесхозов. И учились в основном на лесохозяйственном отделении, которое брони не давало — были белобилетниками. Были среди них и инвалиды войны. Заходил и партизан из соединения генерал Сабурова. Жил он в Москве, но заходил и к нам.
Мне они всегда сочувствовали — вероятно, поводов для сочувствия было много. Некоторые слышали мои стихи. Все советовали держаться за институт. И больше всех Толя Фадеев. Приехал он откуда-то из-под Тулы. Парень он был простой, крепкий и очень четкий. Одну глупость, как он считал, он уже сделал — кончил горный техникум. Теперь он, слава Богу, отработал положенное под землей, и больше таким дураком не будет, поскольку себе не враг. Короче, он решил, что отныне его жизнь должна быть связана только с работой на чистом воздухе. Вот и приехал в Строитель.
Впрочем, и его взгляды на современность были вообще более четкими и непримиримыми, чем у других. Думаю, что они были более трезвыми, чем у тогдашнего меня, хотя «теоретически» они были менее обоснованы. Но шел он не от теории, идеологии или поруганной романтики революции, а от жизни и здравого смысла. В нем прежде всего был оскорблен именно здравый смысл. Его раздражала всеобщая туфта. Помню, с каким сарказмом рассказывал он о своем зяте, начальнике райотдела МГБ. Занимался тот неуважаемой Толей деятельностью, но жил себе да поживал, охранял тыл и на фронт не рвался. Но заело дурака, что у него фамилия Дубинкин. Попросил заменить на Дубровский — показалось красиво. Заменили. И тут же забрали в Войско польское — туда как раз тогда шел набор.
Я уже не помню всего, что он рассказывал, но всегда это было о разных нелепостях нашей действительности, возмущающих разум и, тем не менее, торжествующих… И выводы делал вполне четкие. При всем своем опыте, знании и понимании жизни он это делал совершенно открыто. И, сколько я знаю, — сходило. Может быть, людей чувствовал? К сожалению, советская интеллигенция — я говорю о самых лучших и честных ее представителях (поколения Симонова и моложе) — проходила мимо таких людей с их «мещанской ограниченностью» и таким образом утратила связь со здравым смыслом, которая, на мой взгляд, до сих пор восстановилась не полностью.
Однако вернемся к прерванному рассказу. Мне Толя сочувствовал. Все же я был очень неустроен, и несло меня неизвестно куда, и в Литинститут меня не приняли. Не думаю, что он много размышлял о поэзии или о моих стихах — у него были другие интересы. Но одно он понимал ясно — что я пишу то, что хочу и как думаю. А что это дело по нашему времени абсолютно гиблое, он знал и до встречи со мной. Но он не уговаривал меня писать по-другому — наоборот. Только принимать меры предосторожности.
— Не дури, Наум!.. — увещевал он меня своим затрудненным, сдавленным голосом. — Держись за институт! Кончишь — будешь работать в лесу, далеко от всего этого, и пиши себе что хочешь… А то ведь пропадешь — убьют! Разве они правду потерпят? Это ж бандиты…
Высокий, худощавый, жилистый, крепкий, он весь при этом светился добротой и заботливостью. Он ведь и впрямь был старше и опытнее. Но в то же время говорил он это вслух, при ребятах и девушках и чувствовал себя в полной безопасности. Вряд ли многие из сидевших вокруг стола (разговор был в новогоднюю ночь) интересовались политикой, но что жизнь такая — знали все. И поэтому Толины слова воспринимались ими как дружеский совет, а не как политический выпад. Никаких политических задач не ставил перед собой и Толя, справедливо полагая, что не его это дело и что плетью обуха не перешибешь. Он просто хотел меня уберечь.
Потом оказалось, что и Толя ошибался — тоталитаризм не оставлял убежищ. Лесное хозяйство тоже не избежало пристального внимания родной партии, оказалось в центре целых двух шумных политических кампаний: лесопосадочной и общебиологической. Не знаю, насколько разумна была сама идея лесополос (с биологическими «дискуссиями», полагаю, все ясно и без меня), но оказаться под руководящим воздействием всеобъемлющей некомпетентности Толе все-таки пришлось. И хоть к тому времени я его потерял из виду, уверен, что ему это было не очень приятно. Но тогда мы этого не предвидели — ни он, ни я, — и слова его казались вполне трезвыми. Мы не могли угнаться за столь быстро развивающимся сталинским маразмом.
Что еще у меня связано с Лесотехническим институтом? Наверное, многое, но многое и забылось. Осталась только теплота воспоминаний и благодарность, что Россия открывалась мне так. Из этого не следует, что не было ничего другого. В том же институте под занавес произошла такая вот пакостная история, вызванная провокацией и мелкой, может быть, даже бескорыстной подлостью — бывает и такая.
Как я ни манкировал занятиями, я все-таки иногда их посещал. Особенно после того, как в очередной раз вставал вопрос о моем отчислении. В институтскую жизнь я все же как-то входил. У меня появились знакомые, приятели, я многих знал и многие знали меня. Везде, в комитете комсомола тоже. И кто-то — не помню кто — попросил меня то ли дать стихи в стенгазету, то ли представить их для чтения на торжественном вечере. Я выбрал подходящие и дал, но кто-то — опять-таки не помню кто — их запретил. И это меня возмутило. Прежде всего глупостью мотивации — тогда это меня еще возмущало.
Конечно, в это время в Москве, о чем многие помнят — тут я вынужден вторгнуться в темы следующей главы, — на литературных собраниях я публично читал любые, в том числе и самые крамольные, свои стихи и не удивлялся, когда натыкался на сопротивление руководителей. Но одно дело литературные объединения, где перепуганные руководители «давали мне отпор» уже после того, как стихи бывали прочитаны, и совсем другое — стенгазеты и торжественные вечера, где просмотры были предварительными. Напечатать или прочесть там крамольные стихи было физически возможно. В такие места я крамольные стихи не предлагал никогда. Представить я мог только «проходные» стихи. Поэтому причина этого запрещения могла быть и была только глупой, даже очевидно глупой. Возмущению моему не было предела, оно искало выхода. Это-то и толкнуло меня искать правды.
Реакция была естественная, но, как все естественное среди торжествующей прострации, глупая. Я этих стихов не помню, но, вероятно, были в них какие-то живые строки. А отряженных осуществлять идеологический контроль такие строки всегда настораживали, намекали им на то, что эти люди по своему уровню к доверенной им деятельности непригодны. А такая деятельность чем дальше, тем больше доверялась тов. Сталиным в основном именно таким. Оттепель последних военных и первых послевоенных месяцев на «эстетике» функционеров местного значения отражалась мало. Они свое дело туго знали. И с точки зрения глубинных интересов сталинщины были правы. И поэтому система всегда была бы на их стороне. В этом я убедился почти сразу. Я еще не знал, что основной чертой идеологических работников сталинской и послесталинской эпохи было полное идеологическое невежество, а пропагандиста — косноязычие. Поэтому нормативное мышление было единственно возможное для них мышление, а они и нужны были Сталину для нормативного контроля. Так что получалась гармония.
На каком институтском уровне меня запретили — не помню. Возможно, по линии комсомола. Точно только помню, что не по линии партбюро — поскольку это противоречит сюжету. А «сюжет» развивался так. Мои поиски правды выразились в основном в возмущении, которое я, по-видимому, выражал достаточно громко. И тут вокруг меня стал виться некий мальчик с лисьей мордочкой, который принял живое участие в моих переживаниях. Не могу сказать, что я верил его участию, я даже подозревал подвох, но мне как-то нечем было на него возразить. Он предложил мне сходить к секретарю партбюро. Я ему ответил, что уже ходил, но тот занят. Секретарем партбюро был у нас зав кафедрой марксизма-ленинизма. Тем не менее человеком он был симпатичным, серьезным и, как я и теперь думаю, честным. Чем-то он напоминал мне симского Ивана Никаноровича. Он вызывал у меня доверие. Не устану повторять, что такие на этом уровне тогда еще встречались. Тем более, что тогда еще от них не требовалось учить специалистов специальности и контролировать учебные программы. Так что неудивительно, что я захотел к нему зайти. Но и впрямь он был занят.
Да что ты — просияла лисья мордочка, — ничего он не занят. Просто у него сейчас инструктор горкома сидит (мы относились к Мытищам, а там был не райком, а горком). Тебе же лучше… Погоди, я сейчас все устрою…
И лисья мордочка на минуту скрылась за дерматиновыми дверями. Я предчувствовал недоброе. Но я ведь был прав — чего же мне было беспокоиться! Какое во мне тогда еще было причудливое сочетание ума и глупости! Что-то я видел яснее и глубже, чем многие другие, а чего-то, более простого, что, казалось бы, прямо вытекало из этого и что быстро усекла лисья мордочка, как бы не видел совсем. Правда, до этого с партийными органами я дела почти не имел и думал о них, что все-таки там работают люди, лично озабоченные неким «общим делом», что-то думающие, решающие. Люди, способные на это, еще там тогда встречались, но редко, а когда дело доходило до идеологии, то это качество почти не проявлялось — идеология была централизована больше, чем что-либо другое. Система не дремала, она все больше подбирала себе людей, которые отличались каким-то боевым непониманием подобных материй. Но это я понял и уяснил много позже события, о котором рассказываю.
Мордочка выскользнула из кабинета и плотоядно произнесла: «Зайди!» Я и теперь не знаю, из-за чего он старался. Для ГБ (если пришли указания из Москвы) или почему-то рыл яму секретарю? Или просто пакостил для удовольствия? Впрочем, ни один из вариантов удовольствия не исключал, а оно ощущалось явственно. Бывают же такие люди!
В кабинете за столом напротив нашего секретаря сидела некая мрачная личность. Обладала она и другими чертами — лысиной, морщинами, шарообразной головой, но все эти черты бывают и у других людей и жестко ни с каким характером поведения не связаны. Но настороженная мрачность этой личности была ее отличительной чертой — чертой выдвиженца, находящегося не на своем месте вообще. Судя по всему, она ведала идеологией.
Услышав в чем дело, инструктор горкома сразу оживился — почувствовал, что дело пахнет жареным, что можно разоблачить и пресечь, — не каждому выпадает такое счастье. Секретарь парткома стоически молчал, в его глазах не было упрека — видимо, понимал, что я по наивности поддался лисьей мордочке, — но было сожаление. По нему я сразу понял, что свалял дурака, подвел и себя, и его. Но ведь, действительно, в стихах ничего не было!
Для инструктора неважно было, что именно я написал, — в этом он ничего не понимал. Важно было, что запретили, а раз запретили, значит, стихи вызывали сомнение. И этого достаточно — стихи советского человека сомнения вызывать не должны. А вдобавок я вместо того, чтоб благодарно извлечь урок, протестую. Естественно, он взорвался.
Что он говорил, вернее кричал, я сейчас не помню. Ведь я не помню и о каких стихах шла речь! Помню только, что он с первой секунды, как хороший советский судья, яростно встал «на сторону обвинения» и что разоблачал меня не просто, а целя, не называя его, в партком, который такие безобразия допустил. Партком тут был, как говорится и как ясно читателю, ни сном, ни духом, но он — копал… Не помню, возражал ли я ему или нет. Скорее возражал — глупость обезоруживает, но я ведь тогда был логичен. Помню только смутное чувство неловкости перед секретарем.
Но с секретарем, слава Богу, ничего тогда не стряслось, а мое пребывание в Строителе все равно подходило к концу. Разумеется, произошло это не сразу. Я еще даже продолжал посещать институт, но дело шло к этому. Именно в это время не здесь, а в Москве со мной начало происходить нечто важное. По причинам, связанным с существом моей жизни и творчества, а не с безосновательными придирками к невинным стихам, надо мной по-настоящему сгустились тучи. А потом произошли весьма странные события, по-странному разредившие тогда эти тучи. Но это уже тема из следующей главы.
После этой «беседы с инструктором» я еще некоторое время продолжал жить в общежитии. И когда совершенно справедливо (не сдавал экзаменов) был исключен из состава студентов — тоже. Хотя события мои были по тогдашнему времени чреваты неприятностями. Когда же почему-то жить в общежитии стало невозможно (кажется, все разъехались на каникулы), я несколько раз ночевал в котельной института — приезжал ночью, приходил и ночевал, и кочегары, спасибо им, меня не прогоняли. Все это мелочи, но без таких мелочей — а их тогда было много в моей жизни — я бы погиб. Спасибо всем, из-за кого я выжил тогда.
Пора переходить к следующему этапу. Который, как я предупреждал, начался тоже с самого моего приезда в Москву и поначалу развивался параллельно с только что описанным.
«Вихри враждебные» и иные
(Литинститут в апреле сорок четвертого)
Началось мое вхождение в литературную среду, как уже знает читатель, с военкоматской повестки. Она — во всяком случае так я полагал — ограничивала мое пребывание в Москве несколькими днями и тем самым вынуждала не привередничать, а без отлагательства отправиться в Литинститут — знакомиться с кем удастся. Иначе я рисковал уехать из Москвы, с чем приехал — никому ничего не прочтя, ничьих стихов не услышав и ни с кем не поговорив, в общем — не заведя тех литературных связей и отношений, в которых я так тогда нуждался.
Впрочем, у меня уже и до этого было два соприкосновения с литературной жизнью. Первое — случайное. Связано оно было с визитом к той симской знакомой, которую, к слову, я уже упоминал в предыдущей части в связи с пропажей карточки. Литературных целей этот визит не имел. Просто я был с ней знаком, а больше знакомых в Москве у меня почти не было. Но оказалось, что она учится в Литературном институте Союза писателей на отделении критики. Меня это несколько удивило — интерес к литературе у нее был, но никакого стремления к литературной деятельности она в Симу не выказывала. Приняли ее, видимо, потому, что во время войны в институтах был недобор студентов, а критика — понятие еще более растяжимое, чем литература.
Она уже там освоилась и, как часто бывает на первых порах (у некоторых, правда, остается на всю жизнь, но это не тот случай), почувствовала себя причастной к особому, доступному лишь посвященным секрету литературности. Суть его состоит в том, что он коренным образом отличается от обычного восприятия. Поэтому к моим стихам она отнеслась весьма педагогически. Стала мне объяснять, что так теперь не пишут, что у них там это давно пройденный этап. Не знала, что эти слова мне хорошо и давно знакомы, что ради них не было нужды ехать в Москву — их можно было услышать в любом литкружке.
Хозяйка сообщила мне еще, что «у них» принято любить Пастернака и Сельвинского, а презирать — Твардовского и Симонова. Столь строгий вкус меня удивил — Пастернака я и сам любил и в отличие от этой девушки хорошо знал, Сельвинского тоже. А Симонова я, конечно, не считал гением, как Пастернака, но презрение к нему мне было непонятно — в нем я всегда ощущал что-то живое. Часто — но совсем не всегда — это живое переходило в журналистику, но у других и того не было (формулировки это сегодняшние, но ощущения тогдашние). Что же касается Твардовского, то хоть он меня тогда еще не заинтересовал, но какую-то подлинность я в нем и тогда чувствовал. Короче, потребности его отрицать и презирать у меня не было. Мне все эти изыски казались искусственными.
Как, впрочем, и все «взгляды» моей приятельницы. Такое «высшее», «профессиональное» причастие к пониманию литературы дается куда проще и легче, чем «обыкновенное», «читательское», которое не дай Бог утратить и профессионалу. От этого «высшего» отношения — чуть не сказал, понимания, но как раз пониманием тут и не пахнет — я настрадался в жизни не меньше, чем от советской власти. Причем по обе стороны «железного занавеса» и Мирового океана. Но об этом еще будут поводы здесь говорить, и отнюдь не в связи с этим визитом. Тогда же сентенции этой девушки (не думаю, чтобы и в зрелости она мыслила так же) на меня никак не повлияли. Они не поколебали ни моей веры в себя, ни даже моей самоуверенности. Наоборот, они еще больше утвердили существовавшее у меня и до этого предубеждение против Литинститута. Теперь приходилось его преодолевать.
Второе соприкосновение было уже намеренной и более серьезной попыткой выхода из первоначального одиночества, попыткой прорыва. Я говорю о своем визите в «Комсомольскую правду». Попытка была крайне неудачной, но все же полезной — что-то я все-таки из нее вынес. Я принес туда стихи. О них надо сказать несколько слов отдельно. Чтобы отречься от них.
Ибо, с одной стороны, это стихи, отвергнув которые мне нанесли оскорбление, которое я помню до сих пор, а с другой — это стихи, которых я давно уже стыжусь и насчет которых сегодня я только доволен, что они не опубликованы и которые публиковать ни в коем случае не буду никогда. Тем более, что теперь, слава Богу, я их почти не помню — только первые четыре и последние две строки.
Не дремлет бюргер… Он ослаб и сам, И все вокруг до крайности ослабли. И им уж часто снятся по ночам Казачьи гики и казачьи сабли. … … … … … … … … … … … … … … … Нет, немцев нет! Одно названье — «Фриц»! А там, где «Фриц» — там жалости не место.Такие чувства, несмотря на все, что творили нацисты, противоречили моему характеру, воспитанию и мировоззрению — даже тогдашнему. Но они были мне внушены и разрешены пропагандой, использовавшей и реальную боль, и реальное возмущение. Был еще и соблазн ощущать (в подсознании, конечно), что есть кто-то, кто мирится с еще большими гнусностями, чем даже мы. Сегодня я стыжусь этих стихов, но в «Комсомолку» с ними я пришел тогда. Ни я, ни работник редакции, ни редакция в целом против пафоса этих стихов ничего не имели. Моральных препятствий к его опубликованию не было. Не было и цензурных. Ибо происходило это еще до известной статьи в «Правде» «Товарищ Эренбург упрощает», означавшей приказ прекратить инспирированную ранее пропаганду тотальной ненависти к немцам. Так что драма, которая там развернулась (а для меня это и впрямь тогда было драмой), не имела ни политической, ни социальной подоплеки, а была чисто человеческой и профессиональной. Дело тут было не в литературных или иных взглядах, а в простом человеческом равнодушии.
Такое впечатление, что, прочитав стихи, работник «Комсомольской правды», который со мной разговаривал (фамилию его я помню, но здесь не приведу), оценил не их качество, а мой, вероятно, провинциальный тогда вид. Разговор развивался так:
— Стихи очень слабые, — объявил он, прочитав их.
Я попросил объяснить почему же.
— Ну как же, — ответил он. — Тут даже «ужи» ползают.
Он имел в виду наречие «уж» во второй строке приведенного четверостишия. Это была наглость. «Ужом» называется словечко-паразит «уж», которым неумелые авторы (наряду с частицей «то») затыкали тогда дыры в размере. Вероятно, теперь это анахронизм — теперь прогресс: все все «умеют», хотя по-прежнему далеко не все что-нибудь «могут», но тогда в стихах «ужи» еще ползали часто. Видимо, он просто не вчитывался в текст, не видел во мне оппонента. Но я воспринимал все слова буквально. Так что, хоть мотивов не подозревал, понимал, что сказана глупость.
— Здесь «ужей» нет. Здесь есть наречие «уж» — краткая форма от «уже», и оно на месте. Ибо раньше немцам это еще не снилось, а теперь уже снится.
Остальные выпады были отбиты столь же легко — ибо он их придумывал на ходу. В конце концов очередную мою попытку проникнуть в смысл его слов он парировал так:
— Я просто хочу сказать, что мы этих стихов печатать не будем.
На это обнаженное свинство я возражать не стал. Подчеркиваю: ни советская власть, ни сталинщина в этом свинстве прямо не участвовали. Это хамство личное, самостоятельное.
Конечно, редакции тогда осаждались графоманами. Сегодняшняя отписка «ни в какую переписку по поводу отклоненных рукописей редакция не вступает» тогда была невозможна, хоть она, наверное, разумна. Работникам редакций приходилось отбиваться от графоманов своими силами и методами. Но ведь умение отличать графоманов от неграфоманов — профессиональный долг любого редактора. Во всяком случае говорить: «не напечатаем, потому что не напечатаем» — да еще когда в разговоре выясняется профессиональный уровень суждений автора и профессиональная несостоятельность твоих собственных уверток — отвратительно. От встречи с таким хамством не гарантирован ни один начинающий в любую эпоху. И он должен быть готов выдержать его.
Ведь тогда, на первом выходе в московскую жизнь, такой щелчок по носу какому-нибудь более чувствительному человеку мог бы сильно затруднить его последующую жизнь. Конечно, тот, кто чувствует в себе настоящую потребность творчества, потом обязательно оправится от этого удара, но поначалу может дрогнуть и он. Однако в моем случае значение этого факта осталось в нем самом — досадно было, что не вышло, и все. Слова этого деятеля не имели смысла, и я это видел. А я за редкими, но иногда существенными исключениями, себе верил. И, кроме того, у меня уже кое-что было за плечами, что меня поддерживало: Киев, друзья, встречи с писателями. Но то, что я по-прежнему не знал, как вырваться из своего одиночества, а вокруг была огромная Москва, где жило столько нужных и дорогих мне людей, к которым я никак не мог пробиться, было заслугой этого работника…
Кстати говоря, и в самой «Комсомолке» все могло быть иначе, если бы я пришел на час позже или раньше и застал Валентину Георгиевну Дмитриеву, Валю Дмитриеву, в будущем моего многолетнего друга. Когда мы с ней через несколько месяцев встретились, она отнеслась ко мне совсем иначе. Но тогда уже прогремела упомянутая правдинская статья, и о публикации этого стихотворения у нас речь даже не заходила. А стихов, которые могли пройти в печать, да еще появиться в газете, у меня почти и не было больше. Так или иначе, может, это даже к добру, но из-за этого человека моя первая публикация, в отличие от некоторой известности, отложилась на много лет.
А еще через много лет я встретился с этим человеком в совместной многодневной писательской поездке. Отношения были самые милые. Оба делали вид, что ничего не было. И действительно: столько с тех пор было тяжелого и такие ли ошибки люди допускали — что теперь и говорить об этом мелком эпизоде было бы странно. И в самом деле я сегодня не испытываю к этому человеку дурных чувств. Но сейчас я пишу мемуары, и тут этого факта не обойти — все-таки первая попытка опубликоваться в Москве.
Но вернемся в тот день, когда, только получив повестку, я впервые направился в Литинститут. Тогда этот странный разговор с работником «Комсомолки» был еще совсем недавним, но вряд ли он влиял на мое состояние. Меня угнетало другое — что все же пришлось идти туда, куда идти я не хотел. Мое тогдашнее предубеждение против Литинститута — особенно после разговора с симской приятельницей — было сильным, и никак я не думал тогда, что с этим институтом как-то будет связана моя жизнь. Я уже знал — из ее же слов, — что все, кто меня там интересовал (и к кому я себя правильно и неправильно причислял): и Миша Кульчицкий, и Паша Коган, и Боря Слуцкий, и Сережа Наровчатов, и Дезик Кауфман (Самойловым он стал потом), и Коля Майоров, и Миша Львовский, — сейчас на фронте, а от остальных, наслушавшись ее рассказов, я ничего не ждал. Но выбора не было — за неимением гербовой пишут на простой.
Однако предубеждение мое рассыпалось при первом же соприкосновении с институтом — начать с того, что он не учил писательству, а только давал литературное образование начинающим писателям. Потом в моей жизни он занял большое, даже непомерно большое место. В моем дипломе значится: «В 1945 году поступил, а в 1959-м году закончил полный курс…» Четырнадцать лет! — куда же полнее? Впрочем, написано «в 1945-м», а сейчас на дворе еще весна 1944-го — следовательно, не четырнадцать, а все пятнадцать лет (да еще с гаком) был я с ним связан — с того дня, как пришел туда, получив повестку. А много позже — в 1990-м и отчасти в 1991-м — я вел в нем поэтический семинар.
Конечно, ничего такого я не предполагал и не думал в конце того ясного апрельского дня, когда впервые подошел к чугунной к ограде своей будущей alma mater. Вроде хорошего ждать мне здесь нечего было. Но в глубине души я надеялся, что не все же в Литинституте столь глубокомысленно глупы, как это выглядело в изложении моей приятельницы.
И вот я вошел в эту ограду, прошел мимо садика и вошел в дом, в знаменитый дом на Тверском бульваре. В дом Герцена, как его называли, потому что Герцен на самом деле в нем родился. В дом, который в уже написанном, но пока еще неизвестном почти никому романе Булгакова, назван домом Грибоедова. Но, переступая порог этого дома, я не знал ни того, ни другого названия этого дома, а также и названия булгаковского романа. И вообще того, что известный драматург Булгаков писал еще и прозу. Я знал только, что это Тверской бульвар, 25, и что здесь помещается Литературный институт Союза писателей СССР им. А. М. Горького.
Беспрепятственно поднявшись в бельэтаж, я в его коридорах никого не обнаружил. Видимо, все уже разошлись. Или был день творческих семинаров, и занятий не было вообще. Но в первом коридоре на стене справа, против больших окон я увидел громадную, чуть ли не во всю стену, стенгазету, площадь которой на три четверти была заполнена стихами студентов. Я приступил к чтению. Стихи эти манерой, конечно, отличались от газетных, чувствовалось, что их авторы знакомы с «современной» (двадцатых годов, потом Сельвинского и Пастернака) поэзией. Но в общем, как говорится, стихи были как стихи — характерные для довоенной литературной молодежи (газетные для нее характерны не были), и особого интереса у меня не вызвали.
Неожиданно из глубины коридора появился сухорукий парень примерно моих лет в солдатском обмундировании и встал рядом. Некоторое время мы оба молчали. Наконец он спросил:
— Интересуетесь?
— Да, — ответил я, продолжая читать.
— И сами, наверно, пишете? — вопрос прозвучал вполне утвердительно.
Я подтвердил эту догадку.
— Значит, поучиться пришли?
— У кого поучиться, а кого и поучить, — ответил я не слишком скромно. Хотя странное это дело — приходить куда-то, где тебя не ждут, с целью кого-то здесь поучить. Но собеседнику мой ответ понравился.
— Вы хорошо ответили, — сказал он. Потом показал фамилию в газете: В. Уран.
— Вот это мои.
Я их прочел и что-то сказал. Что прочел и что сказал — теперь не вспомнить.
После этого очень скоро прозвучало долгожданное и родное:
— Давайте почитаем друг другу.
Как давно — около трех лет — я уже не слышал этой фразы!
И пошел я с ним гулять по московским улицам, размахивая руками и читая стихи, как во время оно, три года назад с другими людьми по киевским. И это опять было самым главным и важным делом жизни не только для меня, но и для собеседника. Как будто не было всего пережитого за годы войны, на которой мой собеседник стал сухоруким. Почему-то отбивать ритм рукой это ему не мешало.
Так впервые после начала эвакуации улыбнулась мне моя собственная судьба в лице Виктора Урина, поэтически именовать себя Ураном он скоро бросил. Стихи его тогда были очень ярки, полны естественной юношеской экспрессии, производили сильное впечатление. Прочел он мне и лирическую, несколько, на мой более поздний вкус, сентиментальную поэму «Лидка» — о горькой судьбе женщины, любимой девушки героя, на фронте. Многое мне тогда понравилось. Из моих стихов ему больше всего понравилось четверостишие из одного предвоенного стихотворения:
А я люблю тебя, страна, Не как оратор на собраньи. Люблю тебя как летчик на Подстреленном аэроплане.Он сказал: «подстреленная строчка» — имелся в виду результат обрыва фразы на рифме. Я, пожалуй, тоже думаю, что в данном случае этот обрыв работает, но в принципе с этим надо обращаться осторожно. Впрочем, это соображение — обобщение опыта. В самом же творчестве руководствуются не осторожностью, а необходимостью, которую надо чувствовать. Но тогда я обо всем этом не думал, я был счастлив.
В довершение ко всему Витька (а Витькой он для меня стал почти сразу) завел меня к своим приятелям — Юре Гальперину и его жене Лиле Неменовой. Юра был студентом-медиком, Лиля — студенткой сценарного отделения Института кинематографии (ВГИКа). Жили они в Юриной довольно большой комнате, на улице Герцена (Большая Никитская) на противоположной консерватории стороне, ближе к Никитским воротам. В этом доме, недалеко от Гнездниковского переулка, и теперь, кажется, тот же магазин ПРОДУКТЫ, что и тогда. Юра к тому времени уже успел хлебнуть фронта, был ранен.
В сущности это был первый дом в Москве, где я был принят как свой. Не только по доброте, как у Савеловского, но еще и именно как свой, как желанный. Особенно после того, как я прочел стихи, что произошло почти сразу. В юности многое происходит сразу. И, совершенно естественно, я был тут же оставлен ночевать, благо, когда очухались, вступил в действие комендантский час. Но это повторялось потом не раз. Этот дом вообще притягивал к себе молодежь. Почему-то доминировали харьковчане — вероятно, благодаря Лиле, которая была харьковчанкой. Одно время она была женой Михаила Кульчицкого, тоже, как известно, харьковчанина. Тогда он ещё считался только пропавшим без вести, но его стихи «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник…», написанные во время нахождения его части еще под Москвой, уже были известны. Интересно, что при этом вопрос об их публикации почему-то даже не вставал. Они были патриотичны, что тогда поощрялось, талантливы, не содержали никакой крамолы. Все это понимали. И в то же время все понимали, что эти стихи не ко двору. Почему? Ведь «правда о войне» (что на войне тяжело и убивают) допускалась. Но тогдашняя «правда о войне» была только механическим расширением пределов дозволенного, а не свободой. Допущением же личностного начала, самостоятельной «истории души», стихией самосознания — тогда и не пахло (исключения были, но больше в прозе). Напечатаны эти стихи были только после смерти «генералиссимуса победы». Это печать времени, которое по алогичности его проявлений становится все более непонятным и начинает казаться недостоверным. Но оно было, и мы в нем жили. «…И как ни странно, мы были молоды, и жизнь была желанна»[2].
Мы были молоды. У Юры я впервые познакомился и с Владиком (Владленом) Бахновым и с его вскоре женой Нелей Морозовой, тогда студенткой ВГИКа. Был здесь своим человеком военно-авиационный инженер Марк Малков, тоже харьковчанин и тоже человек самых широких общественных, культурных и литературных интересов. Приходили милые студентки-химички Менделеевки, имена которых позабылись, у которых в общежитии бездомным мне и Владику Бахнову приходилось не раз ночевать — не с ними, а у них, в буквальном, а не игривом смысле.
Людей притягивал и объединял общий интерес к поэзии, к искусству, вообще к духовной стороне жизни. И, естественно, желание разобраться в современности. Конечно, как она тогда понималась. Разговоры на любые темы велись вокруг верности и неверности Сталина идее, сиречь той же мировой революции — напоминаю, что иных представлений об истинности и духовности у нас тогда еще не было. Это тревожило. Альтернативой этому была не другая вера, а пустота. И отчасти потому я и встречал если не везде, то часто привет и любовь, что частично отзвук этой тревоги, для одних осознанной, для других неосознанной, они находили в моих стихах. Это не хвастовство, а констатация. Хвастать мне тут особо нечем — из стихов, с которыми я приехал тогда в Москву и там всем читал, я теперь почти ничего не печатаю. Наивного в них все же было много, в этих стихах. Как и в нас самих. Но это эффект не только юности, а и закрытости общества.
Но мы были молоды, и взгляды и идеи никак не составляли всего смысла нашей жизни. Юра Гальперин был человеком широких культурных интересов и духовных потребностей. В те годы, до самого моего ареста, я регулярно с ним виделся. Когда я вернулся, то, занятый открывшимися вдруг возможностями, я временно потерял его из виду — слишком в разных сферах мы жили. А когда обнаружил, он был уже серьезным исследователем, крупным ученым-физиологом. К этому он всегда стремился — наша дружба была душевной, а не профессиональной. Обратился я к нему по медицинским причинам, он мне помог, потом надобность прошла, но отношения восстановились. К сожалению, к этому времени Юра и Лиля разошлись. У обоих уже были другие семьи, тоже хорошие, но другие.
У меня с обоими сохранялись самые теплые отношения до самой моей эмиграции, но все это грустно. Что тут можно сказать — не они первые, не они последние, и те из нас, кто без греха, могут бросить в них камень. Но, по-моему, и тем не стоит. Хотя я сильно подозреваю, что все мы взяли у Господа гораздо больше свободы, чем он нам дал. Это мысль поразила меня давно, и отнюдь не в связи с Юрой и Лилей, а в связи с другим, более близким мне опытом.
Юра умер в начале 1989 года, когда я впервые смог приехать в Москву из эмиграции. Но я об этом не знал. Узнал почти случайно. Перед моим выступлением в МГУ ко мне подошла Юрина жена Мэра и сказала, что его на днях похоронили. Следовательно, он умер и его похоронили, когда я был в Москве, а мне никто не сказал. Впрочем, в те недели до меня трудно было дозвониться. Юра был очень ценным — чистым, благородным и активно добрым человеком. Я рад, что с ним дружил. Такие люди встречаются редко, но без них жизнь на земле была бы невозможна. Царствие ему Небесное и вечная память. Но тогда, в 1944-м, никто из нас и представить бы себе не мог, что к нам может иметь отношение смерть (если не на войне) или тем более эмиграция.
Так получилось, что впервые по-настоящему Новый год я встречал тоже у Юры. Это был год от Р.Х. 1945-й, год Победы. Все мы пили за Победу. Никто не предполагал, что она принесет новый виток тоталитаризма. Еще не испарились надежды на то, что теперь будет по-другому, на демократизацию жизни и роспуск колхозов как минимум. И то, и другое как бы витало в воздухе, как бы было обещано народу за победу. Странная логика — кому тогда нужна была эта победа, если кто-то что-то за нее обещал? — но это никому не приходило в голову.
Впрочем, никто никому ничего подобного прямо не обещал, но никто до времени слухов об этом не опровергал. Они поддерживались. Скорее всего, они были инспирированы. Но я, как все, ждал этого. Это было логично.
Было бы! — если бы я при этом не продолжал считать себя большевиком, да еще подлинным. Ведь большевизм был с самого начала отрицанием демократии. Да и колхозы вроде вели к освобождению человека от «пут собственничества». А я, разделяя надежды многих, хотел демократизации жизни и склонялся если еще не к роспуску колхозов, то к чему-то подобному. И вдобавок именно от этого я ждал восстановления «настоящей коммунистической идейности». Поди меня пойми! Строго говоря, я жаждал демократизации коммунизма. Того, чего потом при всей нелогичности этого жаждали многие. Но она была общим умонастроением, общей надеждой, атмосферой времени…
Этой атмосферой была пронизана та встреча Нового, 1945 года, о которой я сейчас вспоминаю. Но со мной на этой встрече произошел неприятный, но комический конфуз, никак не связанный ни с общей атмосферой, ни с моим творчеством.
Я не знал, что ликер пьют из маленьких ликерных рюмочек, и лихо налил себе большую и широкую чайную чашку этой хоть и ароматной, но довольно-таки вязкой жидкости. И при первом же тосте, попытавшись осушить эту «чашу» залпом, захлебнулся — не столько от алкоголя, сколько от вязкости. Я просто физически не смог вытянуть ее из чашки. В довершение я почувствовал, что ликер этот тут же застрял в пищеводе и, по моим ощущениям, начал там быстро превращаться в янтарь. Больше я ни в этот вечер, ни в последующие два-три дня ничего ни пить, ни есть не мог. Зато приобрел опыт — понял, что ликер пьют не стаканами и не чашками. Век живи, век учись.
Но все это было уже потом, через несколько месяцев, когда, как знает читатель, я уже вел несколько странную, на свой салтык, но московскую жизнь, когда шел к концу мой «лесотехнический период». А пока я был человеком с повесткой, сулящей новые мытарства, и у меня оставалось всего только семь дней на общение. Надо было торопиться. Правда, первый день я использовал с толком — у меня появились друзья.
На следующий день я опять пришел в институт на Тверском, но уже не просто так, а вроде бы по конкретному адресу — к Урину. Оказалось, что здесь меня уже ждали — Урин обо мне успел что-то рассказать. Но, кроме рекомендации Урина, в этом первоначальном интересе студентов ко мне большую роль играл еще один фактор. Николай Николаевич Асеев, оказывается, не забыл о нашей с ним довоенной киевской встрече и рассказывал о ней на своих семинарах. Читал он там и стихотворение «Жуча», которое когда-то велел мне записать для него.
Правда, в этих рассказах я, как это сегодня ни странно, выглядел страстным ненавистником старых форм. Но для этого, если помнит читатель, я дал когда-то все основания — до войны я считал своим долгом быть футуристом. И я сегодня не поручусь, что к 1944 году это желание полностью выветрилось из меня. Писал я, правда, уже совсем не в этом духе (а совсем в этом я и до войны не писал), но полагал, что главные футуристические подвиги, двигающие вперед литературу, совершу чуть позже, когда отпустит то, что меня сейчас волнует. Так что какое-то — притом дружественное (эстетической левизне сочувствовали все) — представление обо мне у многих из студентов было. Кажется, накануне Виктор Урин уже «опознал» меня в этом качестве. Но теперь я это услышал от многих:
— Ах, значит, ты тот самый киевский мальчик, о котором Асеев говорил?
Это в какой-то мере сыграло роль визитной карточки. Но главным для начала было то, что их товарищ — в данном случае Виктор Урин — как бы привел меня и сказал: «Послушайте!» А потом все уже шло само собой. Действовали стихи — тем, о чем я говорил чуть раньше. Хотя они противоречили принятым в этой среде (да и среди меня самого, как я только что признался) взглядам на поэзию.
О взглядах чуть позже, сейчас — о встрече. Меня тут же где-то усадили и заставили читать. Конечно, слово «заставили» не следует понимать слишком буквально. Меня тогда (и еще очень долго) заставлять не надо было — только выказать желание слушать и тем самым слегка приоткрыть краник. Дальше само лилось. Какие-то люди меня водили в столовую, кормили, читали мне свои стихи, слушали мои… Я стал туда ходить ежедневно.
Почти сразу выяснилось, что из тех, кто меня интересовал, Павел Коган и Николай Майоров погибли, Сергей Наровчатов недавно приезжал с фронта, остальные воюют. Что от Кульчицкого нет известий, я уже знал, а имя Люмкиса здесь ничего никому не говорило. Но Семен Гудзенко, ставший к этому времени знаменитым, был сейчас в Москве. Конечно, я его захотел увидеть, (как же, Киев! — друг моих друзей), хоть был знаком пока только шапочно. Однако никто не знал, как его найти — он, как и Люмкис, был не литинститутцем, а ифлийцем.
Но его мне скоро предстояло и так увидеть — при обстоятельствах хоть и нас обоих прямо не касавшихся, но явно печальных. Впрочем, оглушенный всем, что на меня свалилось, я тогда плохо воспринимал их трагичность.
Дело в том, что я появился в Литинституте не в самый лучший момент его истории. Только что арестовали одного из его студентов — Аркадия Белинкова, впоследствии широко и громко известного критика-эссеиста. Я не знал, кто это такой, но в одно из первых моих ежедневных посещений института мне сказали, что сегодня вечером будет важное и притом открытое комсомольское собрание.
И я пришел и сел «со всей культурностью сбоку», точнее сзади, стараясь быть как можно менее заметным — боялся, что выгонят, как постороннего. Однако не выгнали. Собрание это я постараюсь описать настолько подробно, насколько позволяет память. Но чуть позже. А сейчас оно только фон. В самый разгар его экзотических прений я вдруг получил записку следующего содержания: «Мандель, а ну иди сюда» и под этим росчерк: «С. Гудзенко». В перерыве я подошел к нему, мы поговорили, на следующее утро я нанес ему визит, он очень тепло меня встретил, накормил и прочел назидание, которого я не воспринял. Уж очень мы были разные, несмотря на общее киевское происхождение.
Он подарил мне свою первую книгу. Мне в ней очень понравились стихи «Рельсы», «Забудешь все: и окружение…» Знаменитое «Перед атакой» потрясло меня своей силой, но по моим тогдашним представлениям не выходило за рамки описываемого, «натурализма чувств», как однажды о чем-то выразился Б. Слуцкий. Впрочем, чувство — субстанция личностная, оно само содержит обобщение. Здесь точнее было бы сказать: «натурализма эмоций, реакций». К большинству его других стихов я отношусь так и теперь, но к «Перед атакой» я свое отношение изменил. Первые шестнадцать строк отмечены иным волевым замыслом. Это протест живой души против неестественности войны, страх внезапной смерти, заглушающий порой иные человеческие чувства. Эти строки требуют иного, обобщенного, пусть даже и трагического выхода — катарсиса и, как всегда в поэзии, этот катарсис в себе содержат. Но последние восемь строк (может быть, за исключением первой из них: «Но мы уже не в силах ждать») завершают замысел только сюжетно, а не поэтически, снижают его до описания факта, впечатляющего, но ничего не разряжающего, никуда не выводящего. Поэтические средства, мастерство и интонация скрывали от автора и читателя прозаичность сути. Это не «проза в стихах», это нечто более сложное и «профессиональное». Это как раз то, чем опасно «мастерство».
Нас с Гудзенко многое разделяло, но при всей взаимной откровенности и резкости высказываний у нас с ним всегда были хорошие отношения. Я никогда не считал его приспособленцем, но он слишком верил в мудрость своего легкомыслия и бонвиванства, а они не очень помогали художнику выжить в нашу отнюдь не моцартианскую эпоху. Гудзенко умер «от старых ран» — когда я был в ссылке. Мне рассказывали, что он тяжело пережил мой арест, даже плакал.
Однако вернемся к тому открытому комсомольскому собранию в Литературном институте, на котором мы с ним встретились. Оно интересно отнюдь не только этим. Наверное, теперь уже оно почти всеми забыто, а зря. Тут есть что помнить, хотя и у меня от него осталось только общее впечатление.
Состоялось оно где-то в районе 10–15 апреля 1944 года. На моей памяти это было вообще единственное собрание такого рода. Истерические радения времен ежовщины я не застал, а в мое время ни на одном из литинститутских собраний, на которых я присутствовал или о которых слышал, ничьи аресты не обсуждались.
Например, меня из комсомола с формулировкой: «исключить как арестованного органами МГБ» выпихнули в две минуты без всяких обсуждений, обвинений и филиппик, почти молча.
Не обсуждали и поведения Эльштейна (теперь он печатается под псевдонимом Горчаков), арестованного буквально через несколько дней после этого собрания. (На этом собрании некоторые ораторы набрасывались с идеологической руганью и на него, но, естественно, не в связи с арестом.) А ведь он обвинялся, как я через много лет от него узнал, в попытке создания подпольной организации и действительно не прочь был бы ее создать. Уж, кажется, где бы лучше устроить такое собрание, разливанное море народного гнева? Но нет, его арест не обсуждали, о нем узнавали друг от друга. А вот арест Белинкова обсуждали. Почему — не знаю. То ли, когда речь шла о Белинкове, время еще было по-военному времени либеральным, и требовалось охмурить общественное мнение, а через несколько дней было осознано, что благодаря нашим военным победам необходимость в либеральности отпала, и пришел приказ опять не столько охмурять это мнение, сколько подавлять. Так или иначе, это собрание было уникальным. В силу специфики места тоже.
Я почти не помню выступавших (я и не всех еще знал и различал), но и тех, кого помню, не назову. Иных уж нет, иные так никогда и не возникли в литературе, иные давно уже совсем другие люди. Больше, чем им всем, удивляться я бы должен самому себе. Арестовали человека за его писания (причем не содержащие, говоря по-сегодняшнему, призывов к насилию или убийствам), а я, по ком давно уже плакала та же веревка, сидел, слушал и старался понять, что это за человек, которого арестовали за его творчество. Словно, это имеет значение, словно, если он бы мне не понравился, то ладно — пусть сидит. Чего же мне требовать с других?
Но я был только свидетелем, а не участником этого собрания, поскольку не был здешним студентом и не принадлежал к здешней комсомольской организации. А для всех остальных участие в этом ритуальном действе было обязательно — здоровый коллектив должен был выдать должную реакцию. Вот и выдавали. А ведь тут на всех курсах вместе училось всего несколько десятков человек, и все друг друга знали.
Как всегда в том спектакле без зрителей, которым вообще была советская жизнь, здесь ролей никому писать не надо было, все их и так знали. И как люди творческие вносили в свое исполнение личностное начало.
Как все советские люди, я привык к примитивному действу собраний и к казенным речам на них. Но здесь все выглядело иначе. Все выступавшие инстинктивно стремились придать действу максимум достоверности, придать ему партикулярную непринужденность, интеллектуальный уровень. Дескать, я не просто по команде «Фас!» кричу «Гав!», как собака, а у меня это выношенное убеждение.
Именно это меня — может быть, как неофита — отчасти и сбивало с толку. Казалось, тут что-то есть, ясное всем, но мне недоступное. Ведь эти же ребята слушали мои стихи и искренне на них откликались. И вроде и здесь искренни. Что же это такое? А то, вероятно, что внутренне они не порывали с Действом — тем, которое, меняя сценаристов и исполнителей, продолжалось в стране и в сознании многих с самого семнадцатого, которое к каждому гражданину обращалось, как к своему единомышленнику и соучастнику. И попробуй не окажись им. Это было не только опасно, но и вроде… как-то неудобно. Словно, ты то ли был глуп, то ли не к месту умничал, но нарушал Действо — некий общий уговор. Вот и соответствовали, как заколдованные. В заколдованности этой был не только страх (страх бывает и чувством реальности), а страх в комбинации с обессиливающей властью внушенной идеологии, вне которой духовное существование казалось немыслимым. А всего только и нужно было — произнести (хотя бы мысленно): «Чур-чур, рассыпься!» И поверить глазам, ушам, да и внутреннему чувству реальности — оно ведь у многих было. Но от этого были отучены еще верующими большевиками.
Происходившее на собрании называлось обсуждением. Обсуждалась, конечно, не правильность или справедливость этого ареста, а наоборот: «как мы дошли до жизни такой», что должны были вмешаться органы МГБ. Такая была тональность — ажно неудобно становилось перед бедными органами, которых комсомольская организация института так бессовестно затруднила, свалив на них последствия не выполненной ею работы. В большинстве выступавшие не были ни дураками, ни подлецами — однако такое произносили. Таким образом они как бы что-то сохраняли и в самих себе. Иллюзию понимания и причастности. И, вероятно, очень вреден им должен был быть их товарищ, если его нашли нужным арестовать во время такой войны — «в либеральные времена».
Правда, они могли обратить внимание и на то, что «либеральность» кончалась — в это же время газеты обругали «компрачикоса» Корнея Чуковского и «пацифиста» Николая Асеева. Видимо, «партия» (тогда один из псевдонимов Сталина), почувствовав, что пронесло, начала опять обращать внимание на «идеологию» и художественную литературу.
Но ораторы об этом не думали. Пламенея, они каким-то образом задевали и сидевшего рядом со мной в последнем ряду Эльштейна, словно, знали, что топор теперь повис над ним. То ли обвиняли его в том, что он дружил с Белинковым и не повлиял, то ли в том, что и с ним самим не все благополучно. Он огрызался. Дня через три он встретил меня в коридоре, очень неспокойный, нервный, на что-то разозленный. И заговорил со мной как-то очень резко и намеренно громко:
— Вот ты читаешь им стихи, они слушают, похваливают, но знай: чуть что, они от тебя отвернутся, предадут…
Я вспомнил о собрании, где нападали и на него, и не то что подумал, но почувствовал, что с ним что-то случилось. Теперь я думаю, что в это время его арест был уже решен и что по отношению к нему уже применялась излюбленная тактика ГБ по деморализации намеченной жертвы — создание вокруг него вакуума. Это (о чем в свое время) проделывалось потом и со мной. Возможно, Эльштейн еще не до конца знал, что его ждет, но он прекрасно понимал, что его предают, и громко демонстрировал это понимание.
Я в душе никогда особо строго не судил тех, кто тогда боялся. А теперь я и сознаю, что, когда ценой простого разговора может быть исковерканность всей твоей единственной жизни, я не имею права презирать тех, кто уклоняется от разговора — каждый сам себе вправе выбрать форму бытия и небытия. Это была наша с Эльштейном последняя встреча в Литинституте. В следующий раз я его увидел лет через сорок пять в Бостоне, где он меня навестил, когда гостил у своих поселившихся в Америке друзей.
Собрание это было для меня интересно еще и тем, что ораторы, каясь в том, что вовремя не дали должный отпор Белинкову, попутно приводили цитаты из его произведений. Были они всегда остры, но не всегда точны. Одна (долгое время мне казалось, что она поминалась как принадлежащая Эльштейну, но тот при встрече это опроверг) была о Сталине и выглядела примерно так: «Жителям горных местностей свойствен идиотизм. Сталин родился в горной местности». Конечно, его за это клеймили. Однако больше не как за антисоветчину, а как за пижонство, которое, дескать, «привело, да еще в такое время к…»
Отчасти это было искренне. Такое про товарища Сталина, по их мнению, можно было сказать только из легкомыслия и пижонства. А поскольку многие, как я понял, его не любили — он вел себя по отношению к ним надменно и при этом не всегда бывал основателен, — то пижонство казалось им и впрямь естественным объяснением. Теперь я думаю, что некоторыми это говорилось, чтобы как-то понизить температуру разоблачений: пижон все же не враг, его уничтожать необязательно. Действом даже загорались, но палачества инстинктивно избегали.
К тому, что это пижонство, смутно — поскольку мало что знал о предмете — склонялся и я. Я вообще не очень люблю такие выпады — с направлением, но без точного смысла. Сталин не был идиотом, и горные местности к его деятельности отношения не имели. Многие его противники, люди прямо противоположные ему по складу, были из той же местности. Но я, конечно, не считаю, что Белинков хотел обидеть горцев, подозреваю, что он вообще о них не думал. Ему надо было обозвать Сталина идиотом — поступок по тому времени более чем храбрый, — а горцев он просто использовал как подручное средство. Я тогда Сталина и сам не жаловал, но такое его отрицание не очень меня привлекало. А оскорблять при этом целые народы было уж совсем ни к чему.
Конечно, все эти мои соображения (а я и теперь так думаю) к делу не относились — ибо что они значили на фоне того, что человека арестовали за мысли и творчество. Но до такого «абстрактного гуманизма», до осознанной порядочности тогда в этой аудитории не дорос еще никто. Хотя вообще порядочности — только не сознательно обоснованной, а естественной, «стихийной» — в ней, да и везде, было не так уж мало. Но и обладавшие ею могли в глубине души думать, что арест несправедлив, ошибочен, нецелесообразен, но что он в принципе недопустим — вряд ли. А «в принципе недопустим» — это ведь более чем мягкое определение арестов сталинской эпохи.
Особо запомнилось мне (и что греха таить, подействовало на меня тогда) выступление на этом собрании всеми здесь почитаемого Ильи Львовича Сельвинского. Подействовало оно на меня и обаянием его имени, и тем, что он говорил.
Говорил он, естественно, о том, о чем все: о сложности момента, о тяжелой войне и о прочем, что я забыл. Отличало его выступление одно место, из-за которого оно собственно так в меня и запало. Развивая свою мысль, он вдруг как-то совершенно запросто заговорил о каком-то особом доверии партии к нам, литературной молодежи. Доверие это, по его словам, заключалось в том, что нам позволено в этот трудный момент обсуждение тех вопросов, обсуждение которых широкой публикой пока допущено быть не может. Потому что мы должны, как говорится, быть в курсе дела как люди, участвующие в формировании общественного мнения. Но нельзя злоупотреблять доверием и… дальше понятно. Разумеется, это не цитата, а только точное изложение смысла его слов.
Вероятно, выглядит это сегодня дико. От большого доверия и при непременном условии «правильного» (нужного власти) ответа на все вопросы нам в качестве высокой привилегии вроде бы предоставлялось то, что любой человек в другой стране получал просто так, читая газету за утренним кофе. И мы еще должны были быть горды доверием. Абсурд? Безусловно. Но тогда никто его слова так не воспринял. Они льстили молодому самолюбию, как всякое признание, и радовали, как все-таки право на осмысление происходящего. Впрочем, забегая вперед, скажу, что это «право» было не больше, чем принятое за реальность предположение самого Сельвинского, чем его личное самоутешение…
Теперь, после того как Сельвинский публично оскандалился, приняв участие в травле Пастернака («А вы, поэт, обласканный врагом»), многие и слышать о нем не хотят или просто считают его ничтожеством. Они могут воспринять эти его слова как очередное проявление сервилизма — дескать, другого от него и не ждем. И уж, конечно, не поймут, за что его можно было чтить и любить. Но его, действительно, чтили и любили. И как ни странно, не только за талант, но и за самостоятельность. И самостоятельность, редкая по тем временам, у него на самом деле была — всю его жизнь никак нельзя сводить к этому одному действительно постыдному эпизоду. Но это особая самостоятельность — она не выходила за рамки не только официальной идеологии или системы, но даже и конкретной политики. Тем не менее она доставляла ему много неприятностей, ибо и такое тогда казалось подозрительным, «ломало строй». Этой «самостоятельностью» определялась и природа сделанного им ошеломляющего сообщения об особом доверии к нам партии.
Не думаю, чтобы ему кто-либо поручал сообщать нам это. Вряд ли кто-либо вообще его инструктировал, а если и инструктировал, то вряд ли так. Ибо такие инструкторы подобным «доверием» и сами не пользовались. Но он не обманывал. Он просто исходил из собственных размышлений и представлений. Чисто большевистских, должен я сказать. Это большевики, будучи в коллективном заговоре против всех (пусть во имя их счастья), со «своими» могли быть откровенны. У Сталина таких «своих» не было. Ибо он этот заговор приватизировал.
Но Сельвинского и его роман с временем я хотел бы выделить в отдельный вставной очерк. Тем более, что его представления о жизни и эпохе в той или иной форме были не чужды и многим другим мыслящим людям его поколения.
Сельвинский
Илья Львович Сельвинский был личностью, безусловно, трагической. Эта односторонняя игра с воображаемым «временем» была его отличительной чертой. С этим были связаны не только его политические взгляды, но и эстетические построения. Это была общая черта «поколения революции».
Сельвинский не был членом партии, но в Гражданскую войну он воевал против белых. Правда, не столько на стороне красных, сколько разных «Марусек». Однако красную идею воспринял — вместе с марксистским историзмом и диалектикой. Задача творческой личности согласно этим постижениям состояла прежде всего в проникновении в глубину замыслов и соображений правительства СССР, «самого творческого в мире», как полагали такие люди.
Вот Сельвинский и «проникал». Бедой его было то, что Сталин вовсе не стремился к тому, чтобы его понимали, ибо главным секретом его тотально засекреченной державы был он сам — его личность и мотивы его поведения. Сельвинский выдумывал его. Из такой выдумки он вывел и свое «сообщение».
Он очень дорого заплатил за эти «игры», ибо связал с ними все свои представления о месте и роли поэта и поэзии. Это и завершилось трагедией, которой я считаю его стихи о Пастернаке. Они рождены вовсе не корыстью, как думали многие, а яростью отчаяния. Поступок Пастернака опрокинул все те представления, за которые он всю жизнь с таким мастерством цеплялся, а сил сознаться в этом у него, старого и больного, перед смертью уже не хватило. И он уступил этой ярости. Это не оправдание, а объяснение его падения.
Но это уже был конец его романа с «временем». Я же застал его в самом расцвете. Но и тогда, как всегда, роман этот был, прямо скажем, без взаимности — романом наивного юноши, влюбленного в пренебрегающую им грязную шлюху. Он слишком много вложил в этот роман и был беззащитен перед этой шлюхой. На стихах это еще отражалось не так. Помню, что книга его фронтовой лирики «Крым. Кавказ. Кубань» очень мне понравилась. В отличие от большинства печатавшихся тогда «военных» стихов она претендовала на обобщения, на то, чтобы быть хотя бы голосом его поколения. Не знаю, как эти обобщения понравились бы мне теперь — я давно не видел этой книги, — но, наверно, кое-что и уцелело.
С крупными формами ему приходилось тяжелее. Помню трагическую историю его драмы в стихах «Читая Фауста». Он читал ее то ли на своем литинститутском семинаре, то ли даже в Союзе писателей. Читал с успехом. Мне она показалась замечательной. Никакой крамолы она не содержала. Ее публикации я ждал с нетерпением, но ждать пришлось довольно долго — все время возникали какие-то неведомые мне препятствия.
Наконец, она вышла в каком-то сборнике. Я ее сразу прочел и был обескуражен. Все теперь выглядело бледно, невыразительно, искусственно и неинтересно. Можно заподозрить меня в том, что в первый раз я воспринял ее на слух и ошибся, а второй прочел глазами и все увидел. Но это не так. Во-первых, пьеса была в стихах, а тут меня, как и всякого профессионала, чтением обмануть нельзя. Во-вторых, я помнил целые куски и диалоги, которых в печатном тексте не обнаружил, и в то же время обнаружил куски и повороты, которых раньше не было. Все было смазано и обезличено. Живое произведение под воздействием редактуры стало мертвым. Исчезло все, из-за чего оно было написано, а следовательно, и из-за чего его стоило читать.
Я не знаю, но представляю, как это произошло. Достигнут этот «идеал» был не сразу, а рядом последовательных уступок давлению. Давление это осуществлялось редактором, который скорее всего относился и к пьесе, и к ее автору вполне доброжелательно и уважительно. Возможно, он даже знал толк в поэзии. Но он знал все писаные и, главное, неписаные запреты и боялся их нарушить. Его можно изругать, назвать трусом, перестраховщиком, но он боялся отнюдь не ветряных мельниц — в случае чего и ему, и автору грозили реальные неприятности.
Что было тогда запрещено? Практически все. Вся жизнь и всякое к ней индивидуальное отношение, в том числе и апологетическое. Жизнь, как таковая, была (частично и во время войны) стандартным образом, который был дан раз и навсегда. В ней ничего существенного не случалось — кроме (во время войны) героических смертей за родину и преодолеваемых трудностей. В цитированных выше стихах Гудзенко «Перед атакой» после страшных слов: «Сейчас настанет мой черед / За мной одним идет охота» вместо естественно реагирующего на это возгласа: «Будь проклят, сорок первый год / И вмерзшая в снега пехота» долгое время печаталось: «Ракеты просит небосвод / И вмерзшая в снега пехота». В общем напряжении этого стихотворения эта неуместная «просьба небосвода» как-то сходила с рук, хотя все же некоторое недоумение вызывала.
Но сорок первого года в разрешенном обиходе не должно было быть. О нем лучше было вообще не упоминать, но уж совсем нельзя было его проклинать. Ибо это был год хитрого заманивания противника в глубь родной территории с тем, чтобы тем верней там его разбить, что, как известно, под Москвой отчасти и удалось. Потом, правда, благодаря отсутствию второго фронта противник сумел уже сам заманиться до Кавказа и Волги, но тут ему настало и кончение. С этого и следует начинать размышления на эту тему. При чем же тут проклятия сорок первому году? И редактор, вполне доброжелательно относившийся к Гудзенко, желавший «пробить» его книгу и это «гвоздевое» в ней стихотворение, должен был настоять на изменении этой строки.
Тот, кто редактировал «Читая Фауста» Сельвинского, видимо, просто перестарался. Впрочем, там и дело было не в скрываемых реалиях, а в пафосе — в самостоятельной постановке и решении моральных проблем современности. Решалось все за здравие и «в духе», но этот пафос самостоятельности оскорблял. Кроме того, требовалось, чтобы все до конца было всегда понятно интеллектуально и эстетически не готовым к этому контролерам.
Конечно, бывали и исключения. Касаться реальности разрешалось Шолохову. До определенного времени допускалась хорошая военная проза: Виктор Некрасов, Вера Панова, Эммануил Казакевич.
С поэзией все было сложней. Особо поощрялась, так сказать, народная. Как уже говорилось, я думаю, что Твардовский проходил безболезненно потому, что его принимали за «национального по форме», то есть за русского Джамбула или Сулеймана Стальского, противопоставленного, так сказать, «интеллигентщине». Но это — другая тема. Сгоряча дали Сталинскую премию даже трагической поэме «Дом у дороги», но потом спохватились и обругали. Человек, железной рукой приведший страну к тому, чтобы 22 июня 1941 года было для нас внезапным нападением, не любил, чтоб война выглядела народной трагедией — цепь героических гибелей, не больше. Хотя во время войны и по поводу войны какие-то реалии допускались.
Но стихи, прямо претендующие на обобщение, власть выносила тяжело. А Сельвинского тянуло именно в эту сторону. Конечно, защитить свою вещь — хотя бы отказом ее публиковать (не демонстративным, что было смертельно, а просто как бы не справиться с переделками), он мог. Но, видимо, перед исторически прогрессивной властью, желая оставаться на уровне истории и прогресса, поэт, считавший своей обязанностью выражать дух времени, был бессилен.
Его травили давно и часто. Временами он сам ощущал свою неуместность: «И завидуешь каждой луже. / Как бы стать мне помельче… поуже…» И даже бунтовал. Но, конечно, не в политике — только в теории искусства. Вместо социалистического реализма, который только что изобрели, предложил не менее социалистический символизм — то же самое в более обобщенных и индивидуальных формах. Другими словами, внес путаницу в руководство искусством. Слава Богу, отнеслись, как к чудачеству — просто измордовали.
Из того, что я рассказываю, может возникнуть образ инфантильного худосочного романтического идеалиста. Я рассказываю правду, но таким он не был и так даже не выглядел. Он был высоким, крепким, явно спортивным, выглядел очень солидно и значительно. Да и был таким. Печать инфантильности накладывало на него, как и на многих других, само время. Общей своей атмосферой, когда неинфантильное доверие к логике и собственным глазам выглядит несолидно, как мальчишество, а инфантильные соображения, наоборот, казались единственно серьезными, манили возможностью выхода. Как-никак инфантильность требовалась от всех.
Конечно, выходом она была иллюзорным, но она позволяла жить и активничать, на ней он кое-что строил, проникал в русскую историю, размышлял об исторической драме в стихах.
Многие и поныне не видят за драмой в стихах никакой проблемы. Полагают, что пьесой в стихах может быть любая пьеса, если зарифмовать реплики действующих лиц. А проблема есть — о ней я и сам потом много размышлял. И многое из того, что я сегодня об этом знаю, я услышал от него. В общих чертах тут все определяется характером и степенью обобщения. Размышления Сельвинского, которые мне пришлось слышать на его семинаре, были основаны на собственном опыте, на материале одной из таких его драм — «Ливонская война» — которую он перед этим нам прочел, и потому производили особо глубокое впечатление, заражали и заряжали мысль. Пьеса эта мне тоже понравилась и, кажется, тоже пришлась не ко двору.
Среди многих отзывов о Сельвинском приходилось мне — правда, не в тогдашнем Литинституте — слышать, и что он просто глуп. Возможно, таким было впечатление от монументальности его поведения, а она имела место. Но то, что он говорил о литературе, могло быть неверным (как его отношение к Твардовскому) — сказывалась смесь ложных представлений Серебряного века, революции и «периода реконструкции», — но глупостью не было.
Личная встреча с ним у меня была только одна. Предшествовало ей то, что однажды на занятии литобъединения при издательстве «Молодая гвардия», руководителем которого он вскоре стал (о самом объединении — позже), он отметил меня как человека, тонко чувствующего внутреннюю организацию стихотворения. Ободренный этим, я попросил его принять меня и выслушать стихи. И тут я наткнулся на его монументальность:
— А что я буду делать, если все мои студенты будут отнимать у меня время? А? — спросил он, хитро улыбаясь.
Однако в следующий раз (кажется, после моего чтения) он все-таки согласился принять меня. И вот я пришел к нему на Лаврушинский.
Кабинет его, как мне помнится, был светлым и просторным. Все в нем было организовано функционально и без излишеств. Он вообще ведь культивировал близость к инженерству. Но это к слову. Важна беседа. Было это уже после того, как у меня изменились взгляды (об этом тоже позже), и я — к счастью, временно — «понял» правоту Сталина. Но «старые» стихи, от которых я как будто искренне отказался, все же читать продолжал — так сказать, для информации о своих поэтических возможностях и исканиях. На самом деле политически я мог о них думать что угодно, а поэтически я от многих из них отказаться не мог (как сегодня от сталинистского «16 октября»). Это чуть не привело к недоразумению. Встретил он меня приветливо. Но после первых же стихов — я прочел «Стихи о детстве и о романтике» (об «ежовщине») — произошла неожиданная заминка:
— Это антисоветские стихи, — отрезал Илья Львович, насупившись, но тут же смягчился. Из дальнейшего стало ясно, что не так уж сильно это отмеченное им качество стихов его оскорбило. Проскользнуло и то, что ему самому и не за такое доставалось, а ведь он претендовал только на обобщенность выражения…
В этом и была основная трагедия его жизни. Он прекрасно понимал, что поэтическая речь — прежде всего речь обобщенная, и от этого отказаться не мог. Конечно, обобщенность, на которую он претендовал, предполагала то, что потом назвали ангажированностью — состоянием, когда непосредственность восприятия контролируется взглядами, и наперед известно, что достойно обобщения, а что нет (как же, историческая необходимость!), — но все же она оставалась актом личного творчества и ответственности. Эта обобщенность — как раз то, что его губило. С одной стороны, она портила его отношения с «эпохой» (сиречь с властью), а с другой, в значительной степени не давала ему развернуться в полную силу его таланта, ибо игнорировала главное в обобщаемой таким образом реальности — ее безвыходную трагичность. Того, чего каким-то образом касались мои стихи и с чем еще долго не могли по-настоящему справиться ни он, ни я сам, ни все вокруг.
Нет, я не пытаюсь возвыситься над Сельвинским. И не только потому, что я тогда уже и сам на несколько лет перешел в сходную «веру», а просто потому, что этот человек в тех ужасающих условиях все-таки мыслил и тем самым заставлял мыслить других. А то, что он мыслил столь странно, то что поделаешь? — это мыслил человек двадцатых годов в сороковые.
Но ведь важно разбудить мысль, наглядно показать молодежи, что она существует, а потом она работает сама и под воздействием жизни может заработать и не в заданном направлении. Важно, чтобы она не совсем уснула, чтобы представление о ней вообще не пропало. А ведь к этому шло. И поэтому не поощрялась всякая мысль, даже верноподданная. И поэтому студенты, и я в том числе, почитали Сельвинского. Говорю я об этом объективно, ибо эстетической близости с ним у меня нет уже давно.
Полностью передать этот свой единственный разговор с Сельвинским наедине я, к сожалению, сейчас не в состоянии — в связи со своими просталинскими «прозрениями» уж слишком неточен я был тогда в своих мыслях, чтобы все запомнилось. Но помню, что разговор был дружественным, что он меня «услышал» и что вышел я от него окрыленным.
На этом очерк-эссе о Сельвинском кончается. Однако заговорив в связи с этим странным собранием о нем, я забежал вперед и вообще отвлекся от происходившего.
Как здесь уже говорилось, это памятное собрание никак особенно на меня не повлияло — дух сталинщины я не принимал и до этого (принял чуть позже), а ребят не стал презирать и после этого. Были ли среди них сексоты? Наверное, были. Они везде были. Но с речами выступали не сексоты. Конечно, если исходить из нормальных нравственных критериев, выступать на подобных собраниях более чем предосудительно. Но тогда даже самые лучшие из нас придерживались того, что потом называлось «коммунизм с человеческим лицом», что тоже неотделимо от нравственного релятивизма. Так или иначе, ребят я строго не судил. Со многими из них я быстро подружился. Впрочем, были и такие, кого судить было бы и не за что.
Например, Платон Набоков. Подружились мы с ним поначалу по очень простой причине. Все вокруг говорили о Пастернаке, а он был одним из немногих, кто его читал и понимал. И вообще — понимал. Нет, я не имею в виду никакой политической или эстетической тенденции, даже понимания истинного состояния общества и сущности Сталина (представление о нем было «лакировочным» даже у тех, кто его ненавидел), а просто понимание объемности жизни и поэзии, действительную зависимость второй от первой. Только через много лет я сформулировал это (то, что тогда сблизило меня с Платоном) как «умение слышать смысл произносимых слов». Нравились мне и его стихи, погруженные в себя, но взволнованные и серьезные.
Конечно, разговоры о литературе не обходились без попыток обобщений происходящего в обществе. Рассуждали свободно, хотя отнюдь не в духе какого-либо предполагаемого «Союза борьбы за…», в котором, как это ни парадоксально, мы, как и вся советская молодежь, были воспитаны — детскими книжками, например. Многие потом, в юности, и предпринимали наивные попытки организации таких союзов, за что садились — власть воспитывала в духе такой романтики, за следование какой сажала.
Однажды Платон познакомил меня на улице со своим приятелем — смуглым, стройным и очень приятным парнем с живым и острым умом. Некоторое время мы шли вместе. Что-то я ему прочел — это вызвало его одобрение и живейшую реакцию. Парень говорил очень интересно, судил о литературе тонко и точно. За ним ощущалась глубина мысли и образованность. Он часто поминал имя Тынянова. Выяснилось, что он с ним дружит, может, даже секретарствует у него. Я тогда уже понемногу начинал сомневаться в ценности поклонения новаторству (в сущности, термину и манере поведения), которое в неофициальных молодежных кругах с довоенных времен оставалось официальной нормой приличия, и сказал об этом. Мой новый знакомый в ответ улыбнулся:
— Да вот и Юрий Николаевич говорит: какие могут быть новые формы, раз не создано новое общество?
Теперь я давно уже не верю в прямую связь форм — литературных и общественных. И уж, конечно, не верю в принципиально новое общество, для будущих небывалых потребностей которого только и можно предварительно заготавливать художественные формы — как опоки для литья. Конечно, формы общественных отношений меняются. Меняется жизнь и восприятие жизни, и это отражается на искусстве — значит на форме, ибо произведение искусства и есть прежде всего воплощенная форма восприятия.
Я очень чтил Тынянова, хотя ничего еще не слыхал о формализме и вообще не знал, что он литературовед. Но он был автором очень важных для меня романов «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», и этого было достаточно. И то, что он тоже не без ума от новаторства и, главное, что он тоже не находит у нас «нового общества», очень меня тогда поддержало. Раз и Тынянов это видит, значит, я не вовсе спятил…
Фраза эта возвращала реальность, освобождала от гнетущей абстракции. Я мог сколько угодно верить, что такое идеальное общество возможно, это было ошибкой, но не подменяло восприятия и творчества, не требовало лжи, но вера в его наличие хотя бы в зачаточной форме была прямым отказом от самого себя, рабством. Когда наш собеседник распрощался с нами и ушел, я спросил Платона, кто это.
— Жорик Ингал, — ответил он.
Это имя я уже слышал в Литинституте — в том плане, что надо вас познакомить. Вот мы и познакомились. И должны были подружиться. Но даже не встретились больше. Никогда. Через несколько дней он был арестован. Из тех, кто его видел после меня, я знаю только А. И. Солженицына, рассказавшего о встрече с Ингал в «Архипелаге ГУЛАГ». Общался он с ним гораздо больше, чем я, ибо долго сидел с ним в одной камере в Бутырках. Как ясно из этого упоминания, Ингал произвел и на Солженицына большое впечатление. А потом пропал. С концами. Как многие. Конечно, кто-то был с ним рядом на этапе и в лагере, но их свидетельства до меня не дошли. Слышал я только, что он умер в лагерной больнице.
Думаю, что и все мы, и лично я, в нем лишились очень ценного человека, который мог бы влиять на жизнь, на продолжение неусеченной культурной традиции. Таких утрат было много, и все они невосполнимы. Все бы мы были немного другими и вели бы себя по-другому, если бы эти люди были с нами.
Как и хитроумное большевистское ЧК, механистическая сталинская Фемида инстинктивно изымала лучших и редко ошибалась. Это соответствовало ее вкусам и облегчало движение в заданном направлении. А что это движение в пропасть, она не знала, да и не по чину ей было это знать. Через много лет я понял, что сталинщиной для того и насаждалось разобщение, чтобы люди не могли сверять свои мысли и впечатления, чтобы каждый был одинок в «коллективе» и, видя, что король гол, не смел верить своим глазам.
Исчезновение Жоры Ингал созывом специального комсомольского собрания в Литинституте отмечено не было, хотя он тоже там учился. Впрочем, как я уже говорил, это больше соответствовало заведенному тогда порядку, чем его проведение.
С арестом Платона Набокова несколько повременили — спешить им было некуда. Арестовали его только в 1951 году — когда я уже не только побывал в тюрьме, а и отбыл ссылку. И кажется, как раз в те дни, когда я был проездом в Москве.
А пока на дворе апрель 1944-го, и круг моих знакомств продолжает расширяться. Одно время я был близок с Межировым. Потом наши пути разошлись.
В те дни произошло одно из основополагающих событий моей жизни — началось знакомство, а потом и дружба с невероятным — особенно в тогдашних обстоятельствах — поэтом и человеком Николаем Ивановичем Глазковым. Так он должен именоваться, если речь идет об истории литературы. Но для меня, как и для всех, кто его знал, он и тогда, и всегда был просто Коля. Первой со мной о нем заговорила студентка Литинститута Надя Рашеева — чуть ли не на «белинковском» еще комсомольском собрании. Она сказала, что есть такой поэт, Николай Глазков, с которым мне необходимо познакомиться, и очень обрадовалась, что мне знакомо его имя. О нем мне писал Люсик Шерешевский, подружившийся с Колей в Горьком, где оба жили в эвакуации. Я обрадовался, что Коля вернулся в Москву. У Нади же я узнал его адрес — тоже теперь легендарный и потом зарифмованный:
Живу в своей квартире, Пилю себе дрова… Арбат, сорок четыре, Квартира двадцать два.Коля был близок к окружению Маяковского, считал себя продолжателем футуризма и «Лефа», числился тогда секретарем Яхонтова. Через него я потом познакомился с Лилей Ефимовной Поповой, женой Яхонтова, очень милой и хорошей женщиной и, как я много лет спустя узнал, последней любовью Мандельштама. До войны Коля учился в Литинституте и был оттуда исключен. Он считал, что его положение в институте лучше всего передает анекдот, придуманный преподававшим там Осипом Бриком. Вот этот анекдот. Приезжает в Литинститут высокая комиссия, требует к себе лучшего студента. Тому задают ряд вопросов, тот ни на один не отвечает. Тогда комиссия требует представить худшего студента. Зовут Глазкова. Ему задают те же вопросы, и даже еще более трудные, Глазков на них блистательно отвечает. Комиссия в недоумении: «Почему же он худший?» Ответ администрации: «Вы его не знаете! Он притворяется!»
Когда я появился в Москве, Коля нигде не работал (секретарство у Яхонтова началось чуть позже и было фиктивным) и скоро, действительно, стал кормиться пилкой дров. Еще он пытался промышлять торговлей папиросами и хлебом. По поводу последнего он однажды поделился со мной следующим гениальным соображением:
— Эмочка, я подсчитал, что если бы я весь хлеб, полученный за все эти годы по карточкам, не съедал как дурак, а продавал — я бы давно уже был миллионером.
Разумеется, Глазков тут «валял дурака» — занятие, которое он очень любил. Но чем-то он и впрямь пытался торговать. В торговлю папиросами он однажды довольно бесцеремонно вовлек и меня. Началось с диалога:
— Эма, у вас есть двадцать пять рублей? (Мы тогда еще были на «вы».)
— Есть.
— Покажите.
Когда я показал, он мгновенно отобрал их у меня, вручил взамен пачку папирос и сказал:
— Сейчас мы с вами пойдем на Смоленскую площадь, и вы там продадите эту пачку за пятьдесят — надо вас учить жить, а то пропадете.
Но я чуть тогда же не пропал, и именно от этой учебы. Никому нельзя браться не за свое дело. Первый же покупатель сразу углядел, какой я торговец, и стал, что называется, брать меня «на горло». Дескать, я тебе покажу спекулировать, а ну отдавай по себестоимости. Я, «невольно обязанный» спекулянт, готов был с радостью и на это, только бы уйти отсюда, но за меня вступился Коля. И тут появился милиционер. Высокую Колину шапку я тут же увидел на мостовой в центре площади — он убегал. Милиционер попался добродушный, «товару» у меня больше не было, и он сразу отпустил меня. Я тут же припустил к Коле.
— Эма, вы не думайте, что я вас предал, — сказал он, открыв мне дверь. — У вас ничего не было, и я знал, что вас должны отпустить. А у меня было много товара, и нас бы обоих схватили.
Скорее всего он был прав. Но страху я натерпелся изрядно. Я был готов страдать за свое, но в качестве спекулянта — это было для меня невыносимо. Глазков смотрел на эти вещи иначе. Он был поэтом и должен был как-то жить. Он не делал никому зла, остальное его не беспокоило.
Правда, милиции он тогда вообще боялся патологически. Однажды мы шли с ним по пустынному вечернему Арбату, и вдруг он углядел издалека идущих навстречу двух милиционеров. Милиционерам не было до нас никакого дела, да мы и не представляли для них никакого интереса. Но Коля встрепенулся, схватил меня за руку (а руки у него были очень сильные), круто повернул, и мы быстро перешли на другую сторону. Если бы милиционеры обратили на нас внимание, такой маневр показался бы им подозрительным.
Милиции Коля боялся не из-за своей «спекуляции» — в сущности это были эпизоды, фанаберия, а потому, что милиция его время от времени пыталась куда-то мобилизовывать, от чего он увертывался, но что его всегда тревожило.
Однажды, еще до моего знакомства с ним, сердобольные друзья решили, что он пропадает и устроили его грузчиком на мучной склад. Человек он был сильный («я самый сильный из интеллигентов» — любил он повторять), а работа была хоть и пыльная, но позволяла подкормиться. Дальше следует Колин рассказ об этой странице его трудовой биографии:
— Проработав день, я понял, что, если так будет долго продолжаться, я умру с голоду.
Но отпустить его с этой «хлебной» работы отказались, и по условиям военного времени имели на это право. Из этого положения Коля вышел по-глазковски. На следующий день явился на мучной склад в отцовском фраке (отец его, адвокат, погиб в ежовщину) и был тут же уволен. Про свои отношения с военкоматом он говорил:
— Я им изложил свои взгляды на военную службу, и они меня отпустили (предварительно признав шизофреником. — Н. К.). Настроен был Коля очень патриотично, но при этом идти на фронт явно не хотел. Причина этому была проста, ни за что другое не выдавалась, а обнажалась им с предельной откровенностью: «Али забоялси? — Забоялси!» Но это так, «валяние дурака», о котором он сам писал:
Я сам себе корежил жизнь, Валяя дурака. От моря лжи до поля ржи Дорога далека.От армии его освобождали не какие-то его сногсшибательные хитрости, а реальное медицинское состояние. Оно никак не мешало ему творить, мыслить, читать (хотя иногда он утверждал — ссылаясь при этом на хорошо ему известных мыслителей прошлого, — что читать не надо), общаться с друзьями, но представить его в армии просто невозможно. Хотя это его состояние помогло ему выжить в страшные времена. Его невписываемость в ранжир можно было всегда объяснить болезнью — присовокупив для наглядности какие-то курьезные, но политически безобидные его высказывания или строки.
Да он и сам иногда этому подыгрывал. Однажды, например, он мне рассказал (и с самым серьезным выражением лица), что к нему приходил английский корреспондент с предложением издать его произведения на Западе.
Коля ответил решительным отказом.
— Почему? — спросил «корреспондент».
— Невыгодно, — ответил Коля.
«Корреспондент» ждал любого ответа — например, возмущенных патриотических излияний, — но только не этого.
— Почему невыгодно? — взмолился он. — Мы хорошо заплатим.
— Ну сколько вы можете мне заплатить? — рассудительно отвечал Коля. — Ну, сто тысяч рублей, — ошеломленный «корреспондент» молчал. — Я их за год пропью, а вы меня второй раз не издадите — вам это для скандала нужно… Нет, лучше я подожду, когда меня на родине начнут печатать, тогда уж не перестанут. Нет, мне у вас издаваться невыгодно.
Как этот «корреспондент» анализировал этот прагматический патриотизм у себя на Лубянке, не знаю, но Глазков прожил благополучно в Москве все страшные годы. И даже сохранил весь свой архив, всю переписку.
— Потому что я знал, что если придут — все равно, что найдут. Ибо действительные улики (в сталинское время. — Н. К.) ничего не стоили по сравнению с высосанными из пальца.
Последнее соображение свидетельствует о трезвости Колиного понимания происходящего, о независимости и силе его ума.
Но когда я впервые позвонил в его дверь, я ничего этого еще не знал. Глазков жил во флигеле большого арбатского дома. Потом, уже в мое отсутствие, его переселили, но сам флигель стоит. Только его отделили от этого двора глухой промышленной стеной, и он больше не Арбат, и не сорок четыре. Но тогда все соответствовало. Я поднялся на второй этаж и позвонил. Мне долго не открывали, а потом открыли. Соседи. Указали, как пройти.
Его апартаменты находились в конце большой, даже громадной коммунальной квартиры. Постучался. Через некоторое время послышался странный голос, произнесший нечто непонятное. И я вошел. То, что я увидел, меня поразило. Все тонуло в полумраке. Единственного окна не хватало, чтобы его рассеять. Ощущение запустения дополняло полное отсутствие потолка — он обвалился. Вместо него был какой-то грязно-коричневый конус из штукатурки перекрытий и еще чего-то. Окно было справа от двери, в которую я вошел, а слева вдоль стены занимал пространство стол, а за ним — большая кровать.
На ней лежал и смотрел на меня человек с закутанной головой. Он подтвердил, что он и есть Глазков, и я в ответ на его вопрос тоже назвал себя. Выяснилось, что он обо мне знает от Люсика. Он тут же припомнил наиболее курьезные и наивные из слышанных от Люсика строк. Я смиренно сознался, что это, действительно, мои строки. Знакомство состоялось.
Потом был целый день. Коля встал. Возвратилась откуда-то его тогдашняя жена Лида, приготовила какой-никакой завтрак. Потом пришел Колин друг Женя Введенский. Все это время мы разговаривали, читали стихи. В основном я. Оценки были весьма неласковые. Или «Плохо», или «как Симонов», или что-то еще более пренебрежительное. Подчас они поднимались до «на уровне». Причем Коля не забывал добавлять: «Вот видите, Эма, только на уровне». Женя Введенский с ним соглашался. От меня только пух летел. Два или три стихотворения Коле понравились.
— Не унывайте, Эма, обычно я все бракую, а у вас мне все же кое-что нравится, — успокаивал он меня.
Смятению моему не было границ — такому разгрому я еще не подвергался никогда. Но я думал. Многим рассказывал об этой встрече. Относились по-разному. Некоторые говорили: «Плюнь!», но не плевалось. К Коле я больше не ходил, считал, что не представляю для него интереса. Пока, встретив меня где-то, Глазков без обиняков не сказал:
— Вы почему не приходите, Эма? Думаете, если всякие девочки вас хвалят, а Глазков ругает, то они вас любят, а Глазков нет? Все обстоит как раз наоборот.
И я стал ходить к Глазкову, бывать у него часто. И мы скоро перешли на «ты», стали друзьями — хотя ему было уже целых двадцать шесть лет. О нем можно рассказывать много. И, наверное, я еще буду к нему возвращаться.
Думаю, что Колю нельзя было назвать остряком. Остроумие его было в парадоксальности суждений, а сама парадоксальность состояла в нормальном восприятии парадоксов действительности.
— Знакомься, — сказал он мне однажды, когда, придя к нему, я застал у него незнакомого парня, — это Илья, поэт-юморист, автор лучших юмористических стихов о Ленине.
Я удивился, тот запротестовал, но Глазков был неумолим:
— Ну как же! Вот смотри:
С измятой кепкою в руке Стоял он на броневике.Разве не первоклассный юмор?
В моей жизни и судьбе он занимает особое место — только его и Пастернака я считаю своими прямыми учителями. Хотя следы влияния и того, и другого в моих стихах отыскать трудно. Глазков научил меня внутренней свободе и независимости — даже от собственных взглядов.
Кстати, насчет девочек, ради которых я забываю Глазкова, — они были его «вечной темой». Они если и существовали, то больше в моих мечтах, а для Глазкова, который моих донжуанских способностей отнюдь не преувеличивал, они были не больше, чем игровым этюдом. Помню, как в середине шестидесятых, когда я впервые привел мою нынешнюю жену в Дом литераторов и мы сидели с приятелями, внезапно появившийся Глазков подошел ко мне и начал с того же:
— Эмочка, ты все со своими девочками, а старого Глазкова забываешь.
Он, конечно, понятия не имел, что я пришел с женщиной (за столом их было несколько), он просто был в своем репертуаре. Я не смог удержаться и расхохотался.
Но это все имело отношение к «валянию дурака» — он был одним из самых умных, образованных и самостоятельно мыслящих людей своего времени, дружба с которым, начавшаяся в описываемый период, подняла мою жизнь на более высокую ступень. Для провинциального киевского мальчика она была великой удачей.
Так постепенно я входил в московскую жизнь. Но в центре этой жизни для меня все время оставался Литинститут, куда, как никто не сомневался, я буду принят с началом учебного, 1944 года, и куда меня приняли только через год, о чем — в следующей главе. И о молодежных литературных объединениях, которые тоже занимали большое место в моей тогдашней жизни (да и вообще играли заметную роль в культурной жизни молодой Москвы тех лет), я буду говорить тоже там. Это уже переходит за грань первого знакомства.
Упоение у бездны-1
(В Москве сорок четвертого.
«Молодая гвардия».
«Роман» с МГБ)
Как это ни странно звучит, но тогда, в 1944 году, в военной Москве существовала и набирала силу (восстанавливалась?) молодежная литературная жизнь. Наиболее ясно это было видно по тому, что происходило со ставшим потом знаменитым литературным объединением при издательстве «Молодая гвардия». Было еще объединение при «Комсомольской правде», его я тоже исправно посещал, были и другие, где и при чем — не помню. Но тогда знал все. Человеку, соприкоснувшемуся с молодежной литературной средой, трудно было не узнать про них. Да и редакции с удовольствием к ним отсылали — взамен печатания.
Но «Молодая гвардия» — так запросто по имени издательства мы называли и литобъединение при нем — была вне конкуренции. Динамика нарастания новой литературной «волны» видна по смене помещений, где происходили ее занятия. Когда я впервые туда пришел (привел меня Межиров), они происходили в небольшой комнате. Но народ прибывал, и через несколько занятий собирались уже в просторном холле издательства. Потом и там стало не хватать места, и тогда их перенесли в просторный подвал Политехнического музея (издательство помещалось тогда на Новой площади как раз напротив него). Этот подвал и был зафиксирован многими. И неудивительно — там кипела молодежная вольница. Зафиксирован многими в этом подвале даже я — что читал крамольные стихи и отчаянно спорил. Вообще был enfant terrible, каковая роль, несмотря на сопряженную с ней опасность и несвойственность ее моей натуре, мне тогда по младости импонировала.
На первом для меня собрании, еще в комнате, стихи — это было намечено заранее — читал Межиров, читал и всех очаровал. Впрочем, этой зачарованности уже ждали — видимо, он всех тут очаровал еще в прошлый раз. Я к большинству его стихов относился прохладно — чарующая других экспрессия их не всегда для меня подтверждалась движением сути и выбором слов, что, как я теперь понимаю, одно и то же. Впрочем, тогда я этого не понимал, считал эти стихи хорошими, но почему-то не запоминал. Может быть, другие запоминали — у него много поклонников. Кроме того, он знал бездну стихов самых разных поэтов, любил их и умел заражать этой любовью. От него от первого я услышал стихи Цветаевой и Мандельштама. Это немало.
Потом я узнал, что фамилия «Мити» (я его так никогда не называл) Кедрин. Мы часто возвращались с ним вместе в электричке — он ехал до Тарасовки, а я сходил на две остановки раньше — в Строителе. А до этого, когда я жил в Подлипках, я все равно ехал с ним на его, «пушкинской» электричке, сходил в Мытищах и ждал там своей подлипковской. Разговаривать с ним было очень интересно. Я знал, что этого человека зовут Дмитрий Борисович Кедрин, что он очень хорошо понимает и чувствует поэзию и все вокруг нее, что он вообще мне симпатичен. Не знал я и даже не подозревал только одного — что он поэт. А он ни разу и словом не обмолвился об этом. Вразумил меня не он сам, а мой друг Николай Старшинов, с которым я поделился впечатлениями об этом «понимающем» человеке.
— А ты знаешь, что он и сам поэт! — сказал Коля. — И хороший! У него книжка вышла, и там есть хорошие стихи. Вот смотри! — И он прочел мне «Зодчих». Потом я сам прочел книгу Кедрина. Там были стихи, которые в позднейшие времена назвали бы «антикультовыми» (например «Алена-старица»), а ведь времена были такие, что никакого «разоблачения преступлений, связанных с культом личности», и представить было нельзя, когда некоторые из них только еще предстояли. Так что распространившиеся после его загадочной гибели слухи о том, что его вытолкнули на ходу из электрички (тогда двери в ней еще не сдвигались автоматически) не уголовники, как считалось, а гэбисты, чего я не думаю до сих пор, имели под собой основание. Этот разговор со Старшиновым произошел, вероятно, перед самой гибелью Дмитрия Михайловича, и с Кедриным как с поэтом (т. е. зная, что он поэт) я ни разу в жизни, к сожалению, не встречался. И думаю, что не я один не знал, кем был на самом деле этот понимающий «Митя».
Очень скоро он стал широко известен, и стихи его стали входить во все антологии советской поэзии. Но ведь и до этого он вовсе не был запрещен, и в Москве было достаточно людей, хорошо знавших ему цену. И тем не менее само старшиновское «А ты знаешь…» свидетельствует о том, что о нем знали только немногие. Конечно, я был мальчиком из провинции, знал не все и не всех, но все же остро интересовался всем, что появлялось в поэзии. Я должен был знать его имя. Однако не знал. Даже после выхода его книги стихов — такой книги в такое время. Почему выход его книги не сопровождался шумом, которым он должен был сопровождаться? Не знаю. Но в том, что об этом не знала молодежь, с которой он имел дело, «виноваты» его высочайшая скромность и личное достоинство — человека и поэта. Получалось так — я о вышедшей книге не заговаривал, ну и он тоже. Не хотел себя навязывать. Это недоразумение лишило меня многого, но одарило меня представлением о том, что бывают такие люди. Даже среди поэтов.
Но вернемся к литобъединению. Поначалу его вела административная (от издательства) руководительница Вера Васильевна Юровская. Не понимаю, почему Юровская была Васильевной — так не переводится ни одно еврейское имя, а она была еврейкой и своего происхождения не скрывала. Кажется, она происходила из старобольшевистской семьи. Была ли она в родстве с цареубийцей Юровским — не знаю. Тогда таких «заслуг» не скрывали, но речь об этом при мне ни разу не заходила. Юровская поначалу отнеслась ко мне хорошо, но особо душевных бесед у меня с ней не было.
Я ее считал трусихой. Скорее всего, несправедливо, хотя она и впрямь всего боялась. Так ведь не зря же. Возможно, это было связано с ее старобольшевистским родством, если оно мне не приснилось. Ибо, хотя формально оно продолжало считаться почетным, но на самом деле оно теперь скорее отягощало анкету, а по линии МГБ просто выглядело подозрительно. Так что вполне возможно, что она так всего боялась еще и по этой причине.
Конечно, к большевикам (говорю о «настоящих», «идейных» или представлявших себя таковыми), которые от всего «отдельно взятого» (ими за горло) народа требовали безграничного самопожертвования, а сами, когда пришлось, за редким исключением, не проявили и тени готовности к нему, — особый счет. Но речь сейчас не о старых большевиках, а о Юровской, которая лично вряд ли была в чем-либо виновата и вполне имела права бояться моей лихости. Я не был идиотом и тоже понимал, что за это не милуют, но, воспитанный в героических традициях Ленинского комсомола и большевистской принципиальности, какими они представлялись в книгах, а отчасти и сталинской пропагандой, я не считал это достаточным основанием для отказа от истины. Примат общественного над личным, верности Революции над личной безопасностью (причем не только своей) я понимал буквально и воистину бескомпромиссно — хотя и вразрез с властью, якобы являющейся воплощением этих «добродетелей». И я действовал в соответствии с этим, ни с чем не считаясь — другими словами, публично читал стихи, которые писал. Стихи, отчасти уже знакомые читателю этой книги, отчасти (если мною же не забракованы) опубликованные в начале моих сборников, заграничных и «худлитовского».
Что происходило! Мне «давали отпор», запрещали читать стихи, выступать, запрещали даже приходить, а я в шинели без хлястика и в буденновке со звездой на лбу (и то, и другое, правда, в «товарном» виде, мне подарил Марк Малков, упоминавшийся в предыдущей главе) все равно там появлялся, как призрак военного коммунизма, выступал и читал. А директора издательства Михаила Тюрина, собственно и велевшего меня изгнать, даже вставил в стихи, которые тогда читал везде, но давно не читаю и публиковать не собираюсь. Лишь к слову здесь приведу отрывок. Выглядел в нем он так:
О, старый мир! Ты был не прахом, А мстил сурово за себя, Когда у нас, в быту, с размаха Я натыкался на тебя. Ты шел всегда на авантюры, Чужой от головы до пят. … Какой-нибудь редактор Тюрин Работал тоже на тебя.Из этого видно, что все, чего я не любил, я относил к проявлениям старого мира (себя — к новому). И что с врагами его был беспощаден — в смысле словесных приговоров. Между тем Михаил Иванович Тюрин просто знал, что за это бывает, независимо от того, новый это мир или старый. Правда, недоброе чувство ко мне он сохранил надолго. Не за эти строки — он о них вряд ли знал, а за перенесенные страхи. Уже через много лет, когда в «Известиях», где он тогда был замом главного, он обнаружил мою подпись под напечатанной репликой, он очень сетовал, что не заметил ее раньше — такого человека, как я, по его мнению, и близко нельзя было подпускать к газете.
Я и сегодня не знаю, как относиться к своему тогдашнему поведению. Ибо, с одной стороны, оно было проявлением самоупоенного эгоизма по отношению к малым (и не очень малым) сим, к «дрожащей — и вовсе не без причин — твари». Но была и другая сторона. Не мог я в девятнадцать лет вдруг взять да и перестать проявляться, практически — существовать. Да и хорошо ли бы это было? Что вообще нравственно в годы декретированной безнравственности? И дальше — рассказывать о том, что я тогда вытворял, значит хвастать собственным «героизмом». Между тем героизма там не было. Героизм — это направленное деяние, имеющее некоторую возвышенную цель. Ничего подобного у меня не было. Такой задачи, чтобы люди, выслушав мои стихи, «встали и пошли», я, видит Бог, перед собой не ставил. Да и куда было им идти? Психологически это был совсем не героизм.
Я читал эти стихи потому, что я их написал. Я просто удержаться не мог. Меня несло. То, что я читал, было в принципе невозможно и невероятно. Это не то, чтобы было запрещено, этого по общему уговору (очень неравноправному) — не существовало, а я с легкостью нарушал это табу так, словно это так и надо. Залы взрывались аплодисментами. Ведь тяжесть всего этого «уговора-табу» (как минимум, касавшегося страха и лжи ежовщины, вообще лжи) давила на сознание и подсознание многих — вот они и откликались.
Сегодня мне вспоминать об этом иногда страшно, а тогда — ничего. Главный страх, который я испытывал по этому поводу, был страх, что мне аплодируют не за стихи, а за храбрость. Я всегда относился к поэзии серьезно и боялся допингов. Это располагало к серьезным размышлениям о ней.
Но открыто читать стихи, которые я писал, было опасно и в банальном смысле. Но что мне было делать? Писать их и никому не читать? Это противоестественно. Я не раз решал так себя вести, но из этого ничего не выходило. Радикальным решением было бы их не писать. Но тогда бы меня, такого, как я есть и должен был стать, не было бы вообще. Альтернативой тому, что некоторым кажется героизмом, было самоубийство. А хвастать тем, что не кончил самоубийством, нелепо.
Я не ставлю свой опыт никому в пример. «Эксперимент» этот не только мог, он, в общем, по всему и должен был закончиться моим исчезновением. Особенно если бы у него нашлись последователи. Тогда бы уж точно прикончили всех — и меня, и остальных. Но их, слава Богу, не было. Удивительно не то, что ответственные за мероприятия приходили в ужас от моих выступлений, удивительно то, что эти выступления некоторое время все-таки сходили мне с рук. Иногда мне кажется, что ввиду невероятности. То, в чем других надо было уличать или приписывать с помощью внушения, — а они изо всех сил упирались, отталкивались от этого, — здесь человек просто произносил публично или сам объявлял от своего имени:
Мне каждое слово Будет уликою Минимум На десять лет. Иду по Москве, Переполненной шпиками, Как настоящий поэт. Не надо слежек! К чему шатания? А папки бумаг? Дефицитные! Жаль! Я сам, Всем своим существованием — Компрометирующий материал.Стихотворение это, написанное мной в восемнадцать лет, было названо «Восемнадцать лет» задним числом. Ибо оно несет печать этого возраста. В восемнадцать лет на снисходительно-ироническое отношение к своему возрасту я, естественно, способен не был. А в сорок я уже никак не мог всерьез ощущать интонацию этого стихотворения адекватной себе. Отсюда и ироническое дистанцирование в названии. Но ирония моя относится к самоуверенности тона, к безапелляционности авторской самооценки, к вере в свою способность на равных противостоять дракону, короче, к себе, а не к ситуации, в которой это выявилось.
Эти стихи, как я потом узнал, не возмущали, а даже умиляли гэбистов. Еще бы! — впервые в стихах прозвучал их рабочий термин — «компромат» (а я, честно говоря, и не знал, что это термин). Но «компромат» обычно собирают по крупице, под него скрупулезно подгоняют обычные факты и высказывания, а тут человек сам напрашивается и даже правильно все озаглавил. Это могло и ошеломить. Особенно при непривычке иметь дело с реальными делами. Конечно, времена были военные, либеральные, но не до такой степени. Тем не менее сразу меня не арестовали. И даже почувствовать себя дали не сразу.
Я до сих пор печатаю это стихотворение, хотя оно не соответствует моему сегодняшнему вкусу. Наряду с двумя-тремя другими ранними стихами, к которым я отношусь так же, оно вошло даже в мой «худлитовский» сборник, куда я отбирал стихи строго. Вошло потому, что чем-то оно мне до сих пор по-человечески дорого. Как всякому дорога его юность. Обычно я таким своим слабостям не потакаю (во всяком случае сознательно), а тут уступил.
Но здесь я говорю о нем потому, что при всех своих слабостях оно несет на себе отпечаток моего тогдашнего состояния, времени и ситуации. При всей экспрессивности оно точно фиксирует гибельность этой ситуации для поэзии. Тогда и до самой смерти Сталина. Поэзии и потом бывало очень трудно, но петля была стянута уже не так смертельно. А тогда практически было два пути формирования поэта, и оба гибельные — идти напрямую против, отбросив мертвящее наваждение от себя открытым инфантильным жестом, как в этом стихотворении, — это означало физическую гибель. И был второй путь — стараться обойти все, что давило, как незначительный фактор. Он вел к тому, чтобы быстро заглохнуть, исчезнуть или вообще не возникнуть. Это тоже означало не состояться. Признаю, что эта дерзость юношеского противостояния не спасла бы меня, если бы не умер Сталин. Не говоря уже о том, что эстетическая ценность самого акта противостояния, тем более долгого, невелика. Но поскольку Сталин умер, это дало мне многие преимущества. Оказалось, что я человек с нормальной юностью, с естественными ее реакциями на окружающее, а значит, и с мыслями о ней (самыми разными) — другими словами, что у моего самосознания и сознания, а, значит, и у творческого развития, не было потерянных лет.
Должен сказать, что моя поглощенность литературой не только не отвращала меня от общественных и идеологических тревог, а, наоборот, еще больше приковывала меня к ним. И было бы странно, если бы это было иначе. Ибо, к несчастью, литература стала зависеть от этих материй. Давление общественной ситуации отражалось на всем. Даже многомудрые рассуждения насчет «что» и «как», о чем уже шла речь, были косвенным их последствием, приспособлением к страшным и бессмысленным обстоятельствам, попыткой придать разрешенной деятельности видимость творческой — вообще осмысленной. Чтоб как-то абстрагироваться от действия прямых обессмысливающих факторов, таких, как Лубянка.
Я многое уже знал о Лубянке. А в смысле состава заключенных даже идеализировал ее как место, где наряду с немецкими шпионами содержат и мучают настоящих революционеров (их я, в свою очередь, тоже идеализировал). Но настоящей правды о ней я не знал. Проходя мимо нее к расположенному рядом Политехническому, где кипели наши страсти, я бы все равно не мог догадаться, например, о том, что, как только кончится война, там сразу начнут «готовить материал» на… маршала Жукова как на главу организованного им антисоветского военного заговора. Для этой цели будут арестовывать офицеров и генералов, часто вполне заслуженных (например, маршала авиации Новикова и генерал-лейтенанта Крюкова), и стараться выбить из них нужные показания — и не столько о заговоре, сколько о высказываниях Жукова насчет того, что главную роль в разгроме Германии сыграл не великий генералиссимус, а он, Жуков. Делали это с упорством и пристрастием и о каждом таком «высказывании» как о важном государственном деле тут же докладывали Самому — знали, что вождь на это очень клюет.
Естественно, это была чушь — Жуков не был самоубийцей и ничего такого никому не говорил. Даже я тогда не мог бы себе представить, что у такого масштабного — к счастью, незавершенного — мероприятия, как операция против Жукова, не было никакой, даже самой свинской, политико-идеологической причины — только личный бред, личные амбиции и личные претензии спятившего от удачных преступлений Вождя? Или что карательные органы тоталитарного государства он захотел и сумел превратить в свои личные когти? Этого никто себе не представлял. Но это висело над действительностью, было ее атмосферой. А культ подлинного коммунизма с его мировой революцией и другими аксессуарами был естественной реакцией на эту атмосферу, поиском твердой духовной почвы среди хляби. Мудростью это не было. Немудрым, наверное, было и мое концентрированное внимание к 1937 году, как к трагедии революции. Но я и теперь уверен, что это была еще и трагедия страны и народа, опущение их на еще более низкую ступень состояния.
До 1937 года Сталин, хотя он уже мог многое в смысле политического разбоя, но все же таких изысканных удовольствий, как отбирание заслуг у прославленного маршала, еще себе позволить не мог. После 1937 года — мог и не это. До этих «чисток» даже о Троцком в научных статьях писали как об активном деятеле революции и Гражданской войны, после — такая мысль никому бы и в голову не пришла. Эта сомнительная заслуга у него была напрочь отнята. Его деятельность в революции стала теперь сводиться к одному — к изощренной и перманентной измене. Тогда я мало знал о Троцком, но знал, что все внушаемое мне о нем — идиотизм. И часто «наперекор всему», как это ни глупо, ему симпатизировал как антиподу Сталина. Теперь я знаю о Троцком больше и вижу в нем преступника. Но знаю также, что преступления его (как и многих других) коренятся не в измене большевизму, а в непреклонной верности ему. Тогда я так думать не умел. Именно поэтому не отягощали тогда мою совесть ни коллективизация, ни раскулачивание. Дескать, были перегибы в этом грандиозном и прогрессивном деле, но не в них суть… Этот удар по общественному сознанию и совести был настолько силен, что ушиб от него начал болеть много позже: в конце 50-х — начале 60-х. И уж подавно не страдало мое сердце из-за ограбленных нэпманов — жалеть буржуев уж было совсем не к лицу.
Но коллективизация была преступлением перед народом во имя коммунизма, а 1937 год — преступлением против самого коммунизма, против всего, во имя чего по-прежнему — и чем дальше, тем преступнее — все творилось. «Все» продолжало твориться, но не имело даже призрачного коммунистического смысла (замененного муляжом, которому попробуй не покорись). Так в сознании пытавшегося мыслить молодого человека середины сороковых коллективизация оставалась в ключе мировоззрения, а вот 1937-й из него выпадал, все ломал, заставлял равняться на романтический «военный коммунизм» и «мягкие» двадцатые годы. Отвращение к муляжу вело к миражу. Такое это было мировоззрение.
Но время не стояло на месте, и мировоззрение мое подтачивалось совсем с другой стороны — со стороны самой жизни. Не до конца, конечно, — еще долго для меня все совмещала и примиряла «диалектика», — но ригоризм, слава Богу, все же постепенно таял. Как бы преступно по отношению к своим ни велась эта война (как — тогда не знал не только я, а, скорее всего, почти никто, в том числе и большинство генералов), дело шло к победе, и это радовало. Всех. И никто не задавал себе вопрос: «А кто собственно побеждал?» Действительно, кто побеждал? Коммунизм? Но его почти не поминали, о чем скорбели все романтики и идеалисты. Значит, Россия? По видимости, выходило так. Побеждали под немарксистским лозунгом защиты отечества — Сталин понимал, что за коммунизм, в глазах народа теперь неотрывный от коллективизации, мало кто согласится рисковать головой. С одной стороны, это меня огорчало, как бы сужало горизонты, а с другой — это была правда. Вот стихотворение, которое лучше всего передает тогдашнюю путаницу моих мыслей и чувств.
ОТСТУПЛЕНИЕ Шли да шли. И шли, казалось, годы. Шли, забыв, что ночью можно спать. Матерились, не найдя подводы, На которой можно отступать. Шли да шли дорогой непривычной, Вымощенной топотом солдат. Да срывали безнадежно вишни — Все равно тем вишням пропадать. Да тащили за собой орудья По холмам и долам, вверх и вниз. Русские, вполне земные, люди Без загробной веры в коммунизм. Шли да шли, чтоб отдохнуть и драться За свое насущное, за жизнь. …И еще за то, чтоб лет чрез двадцать Вновь поверить в этот коммунизм.Это юношеское стихотворение не вошло и не войдет ни в один мой сборник, и здесь оно приводится только как документ, свидетельствующий о моем тогдашнем состоянии. Стихи эти, кроме всего прочего, явно не пророческие — через двадцать лет (в начале шестидесятых) никто особо в коммунизм не поверил, а, наоборот, многие из тех, кто верил раньше (я, например), разуверились или начали разуверяться. Но о той сумятице, которая творилась во мне, они дают некоторое представление.
Они держатся за мировоззрение. Но, по совести, с верностью ему тогда не только у власти, но и у меня самого уже не все было гладко. И прежде всего в вопросе о патриотизме. В детстве разговоры о нем оскорбляли мой революционный интернационализм, но к тому времени, о котором идет речь, я уже сознавал себя русским патриотом. Хотя при этом понимал, что это, как и патриотические лозунги, с которыми мы выиграли войну, противоречит «учению». Только лозунги эти были связаны с тактическими соображениями Сталина, а мое самоощущение — с открытием России через ее роль в войне.
Несмотря на всю мою тогдашнюю теоретичность, я все же не был слеп и видел, что воевала именно Россия. Это не значит, что из всех народов СССР воевали (или воевали хорошо) одни русские. Совсем нет. Но это значит, что все группировалось вокруг России, вокруг русских воинских традиций и навыков — война вообще имела «русский характер». Людей других национальностей не оскорбляло, что иностранцы (а иногда не только они) их считали русскими солдатами. К тому времени я уже прочно любил Россию и отнюдь не считал русский патриотизм только удобным средством для защиты иных, «более высоких» ценностей. Но старался увязывать эти «ценности» с ним и с Россией… Как у меня сказано в одной незавершенной поэме тех лет.
Россия!.. Кто не ощущал В те годы, может быть, впервые Зародыш мировых начал В просторном имени — Россия.Тут уже мировая революция оборачивалась почти славянофильством. Но, конечно, несоответствие одного другому оставалось. Сталина никакие несоответствия не беспокоили, но мне они мешали, я старался их примирить или объяснить. Но замечал их отнюдь не только я.
Всплывает в этой связи в памяти забавный эпизод, рассказанный мне В. Ивановым. Однажды — дело было в начале войны — к его отцу, известному писателю Всеволоду Иванову, зашел В. Б. Шкловский с газетой в руках. Газета была полна обычного (и естественного) для тех дней патриотического, близкого к националистическому, державного пафоса.
— Ну что, Сева? — спросил он, ухмыляясь. — Воюем под псевдонимом?
И он был прав — патриотизм для сталинщины был псевдонимом. Но псевдонимом для нее был и коммунизм. Псевдонимом для нее было любое обличье, в котором она являлась людям. Но в том-то была и чертовщина сталинщины, что псевдонимов у нее было много, а подлинного имени — такого, каким можно было вслух называться, — не было ни одного. Ее духовной реальностью была только окружавшая всех нас, никогда никого не оставляющая в покое, все и всех себе подчиняющая гремящая пустота. И промозглый мрак. В этом мраке мы и блуждали, ориентируясь по болотным огням.
Но каким бы ни было это время и эти его огни, оно было временем моей юности. Она не могла жить ни пустотой, ни даже противостоянием пустоте — занятие, может быть, и благородное, но для души опасное, грозящее остервенением и оскудением. Вот и хватался, за что мог. А мог только за фикцию подлинного коммунизма! И жил его коллизиями, путаясь в них, как в трех соснах. Конечно, он и сам был соблазном, но в тот момент соблазном оболганным и подменяемым, и потому для многих — конечно, подспудно — выглядел (а для души и был) попранной правдой. И это чувство было составной частью моего внутреннего мира.
Итак, все шло к победе, наши армии двигались по Европе. Сердце интернационалиста могло радоваться — предстоял существенный шаг по направлению к мировой революции — создание «соцлагеря» Но радость получалась жидкая, внутренне-риторическая. Непохожи были наши правящие выдвиженцы на революционных Савонарол. Победа приближалась, но я, что бы я ни думал, чувствовал, что побеждает не коммунизм. Теперь я понимаю, что и не Россия тоже. Вернее, побеждала именно она, но… Тогда я так не формулировал, но ощущал, что опять берет верх «это» — то, что меня всегда тяготило, — гремящая пустота. Нет, я не приписываю себе отчетливую прозорливость. Страна побеждала, а я не был монстром — меня, как и всех, это радовало и поднимало. Но то, что во мне сидело, ничем не опровергалось.
Я тревожился об идейности, а Россия в целом (вместе со мной, у меня это как-то совмещалось) ждала плодов победы — как минимум, послаблений, она жаждала жить, а в Кремле думали над тем, как у нее эту победу отобрать. Поскольку с точки зрения сталинщины, которую точно выразил один тыловик в повести В. Кондратьева «Сашка», она «распустилась на передке». Сталин, оказавшись победителем и имея тогда почти всеобщее признание, приходил в себя от перенесенного страха и еще больше утверждался в своей правоте, что в его понимании значило — в безнаказанности, готовился продолжать свои довоенные забавы. А покуда хотел уничтожить память о реальной войне и реальных победителях — подбирался к Жукову.
Но в 1944–1945 годах всего этого еще ясно не было видно. Это было скрыто от всех тайной и неправдоподобием. От всех. Даже от таких «оппозиционеров», как я. Эта неправдоподобие и было главным секретом режима. Можно было поверить во что угодно — только не в то, что происходящее на твоих глазах действительно происходит. Происходили события, объяснения которым приходилось придумывать самим гражданам. А потом — даже еще и при Брежневе — и иностранным государствам, которые тоже не могли взять в толк мотивы советского поведения. Так что взять с меня, мальчика, пытавшегося мыслить в обществе, оторванном от информации о мире и о самом себе, и к тому же, как и все вокруг, облучаемого направленной ложью?
И тем не менее, я «жил и мыслил». И не только я. Сам факт, что столько людей слушало мои стихи и симпатизировало мне — некоторые журили, но все равно симпатизировали, — тоже о чем-то говорит. Конечно, в причинах своего сочувствия не разбирались — советские люди умеют недодумывать, — но факт имел место. Видимо, полагали, что просто проявляют заботу о подающем надежды юноше. Но ведь потому они и воспринимали меня как подающего надежды, что откликались на то, что было близко. Что это в них жило.
Помню, как я в «Молодой гвардии» познакомился с приехавшим в отпуск старшим лейтенантом, сотрудником фронтовой газеты (как его звали, не помню), который собирался меня в эту газету увезти. Но не вышло — я ведь жил в военной Москве без документов — их у меня в очередной раз вытащили, — а без документов военкоматы не оформляли. А, может, уже и репутация работала? Но важно то, что сами мои стихи его не останавливали.
Кстати с этим старшим лейтенантом связан тоже эпизод, характеризующий время. Он на объединении читал свою поэму. Поэма была с неожиданным сюжетом — о погибшем герое, попросившем перед смертью похоронить его по христианскому обряду. Командование обещает ему выполнить его просьбу, но сталкивается с неожиданными трудностями. Невозможно найти священника, а обрядов никто из командиров хорошо не помнит. Но не выполнить слова, данного герою, спасшему всю часть ценой собственной жизни, нельзя. И под суфлерство другого верующего солдата функции священника берет на себя сам комбат. Помню только четыре строчки из поэмы:
«Во имя отца и сына!» — Глухо сказал командир. И был непохож на рясу Блестящий его мундир.Религиозной пропагандой, зароненной несмотря на то, что церковь тогда уже была разрешена, здесь и не пахло. Ни автор, ни его герои (кроме погибшего) в Бога не верили — отдавалась только дань воинскому подвигу. Тем не менее поэма вызвала жаркие споры, ибо оскорбляла атеизм неверующих. Воспитанная в богоборчестве молодежь почувствовала себя задетой за живое. Может, и потому, что допущение религии понималось этой молодежью как вынужденная военными обстоятельствами уступка косности, а подсознательно — как отступление от идейности, без которой было пусто. И то, что тут кто-то это еще вроде как воспевает, они уже вынести не могли.
Интересно, что мои стихи, содержащие настоящую крамолу (большей крамолы, чем сомнение в революционной легитимности происходящего, тогда не было), таких нападок не вызывали. Фактически это была реакция не на религию, о которой никто из нас не имел никакого представления, а на «сталинщину», хоть они об этом не знали, ибо Сталина они чтили. Все смешалось в доме Облонских.
Я тоже был атеистом и даже крайним романтиком революции, но поэму все же защищал. И даже обвинил нападавших на нее в антирелигиозном ханжестве. Ведь в нашей стране есть верующие и есть среди них герои — почему же нельзя об этом писать. Убеждение, что при любых взглядах, при любом отношении к описываемому следует писать правду, было мне присуще уже тогда. Кстати, думаю, что выражение «антирелигиозное ханжество» вообще точное, больше относится к нынешним западным интеллектуалам, чем к тогдашним спорщикам из «Молодой гвардии». Но это — другая тема.
Я должен еще раз опровергнуть распространенное представление, что все тогда боялись друг друга. Из-за моих стихов, а также общительности у меня было много знакомых, и разговоры со всеми бывали весьма откровенные. Это не значит, что все со мной обязательно соглашались, многие защищали Сталина, но обсуждали мы это — конечно, не в общественных местах — совершенно свободно. И никто из тех, с кем я разговаривал, на меня не донес. Доносили стукачи, они, конечно, посещали эти собрания — не могла же Лубянка оставить такое шумящее скопище без своего попечения. Но доносили в общих чертах (большего не знали), и только о том, что происходило на собраниях. То же, как выяснилось после ареста, было потом и в Литинституте. На меня стучали, но не те, с кем я общался, а посторонние люди, и тоже в общих чертах — не очень соображаясь с правдой. Почему я не откровенничал со стукачами — не знаю. Вряд ли из осторожности. Вероятно, такая избирательность получалась стихийно — просто я общался, в основном, с теми, с кем хотелось, кто вызывал у меня интерес и симпатию, а стукачи, видимо, ни того, ни другого не вызывали.
Руководители объединения сменялись. О Сергее Васильеве и Илье Сельвинском я уже говорил. Одно время руководил объединением монументальный Владимир Александрович Луговской. Потом он руководил одним из поэтических семинаров Литинститута. О нем подробней говорить я буду в связи с Литинститутом.
У нас в подвале выступали с чтением стихов Вера Инбер, Михаил Светлов, Леонид Мартынов. Первые два виделись мне в ореоле невероятных для моего воображения 20-х годов. О Леониде Мартынове я услышал, только приехав в Москву. Кто-то подарил мне его вышедший в Омске сборник «Лукоморье», и я узнал, что в России есть такой крупный и удивительный поэт. Я и теперь так думаю, хотя в его творчестве нравится мне не все. Но ненравящееся (на мой взгляд, слишком нарочито проявляющее его эстетическую позицию) отбрасывается, а Леонид Мартынов остается большим поэтом. У нас тогда он читал поэму, представлявшую собой исповедь дочери служащего какого-то сибирского магистрата в XVII или XVIII веке. Поэма, кажется, была очень хорошей, но мало приспособленной для публичного чтения. Не говоря уже о том, что читал он ее очень скучно. К сожалению, я никогда этой поэмы больше не слыхал и не видел — ни в одном его сборнике или собрании. Поэтому проверить это свое ощущение, доказать, что она хороша — до сих пор не могу. Но отдельные куски, которые до меня доходили, как я помню, были очень хороши.
Очень понравился Михаил Светлов, особенно его «Итальянец», — он был вполне человечен, патриотичен и интернационалистичен. Понравился он не только мне, а, как минимум, абсолютному большинству. Для большинства это тогда было глотком свежего воздуха, возвращением к истокам. Впрочем, в этом стихотворении вообще нет ничего дурного. А для меня… Кто-кто, а Светлов был для меня живой легендой, а вот теперь я сидел в зале и слушал. И пусть я не имел ничего за душой: ни одной напечатанной строчки, никаких источников существования, ни кола ни двора, только койку в общежитии чужого по профилю института — это было уже некоторое исполнение желаний, дорогой к нему. Впрочем, со Светловым я более тесно общался потом, и о нем тоже буду говорить в связи с Литинститутом — я там состоял в его семинаре.
В «Молодой гвардии» я перезнакомился с большим количеством молодых людей. Там я впервые услышал и первый раз подружился с Валентином Берестовым, ныне уже, к сожалению, покойным. Первый — потому что он вскоре вдруг исчез с горизонта, попытался уйти из литературы. Он был еще очень молод, выглядел почти мальчиком, серьезным мальчиком в очках (он был моложе меня на три года — что это теперь значит!), был тогда даже ниже меня ростом, чуть ли не по грудь мне (это потом он вымахал в «дяденьку-достань-воробушка»), и, кажется, тогда еще учился в школе. К этому времени он уже был замечен и обласкан Ахматовой, Пастернаком, Алексеем Толстым и другими легендарными для меня тогда корифеями (это произошло в Ташкенте, где и он, и они жили во время эвакуации). И действительно — стихи его были законченными, взрослыми. От этой законченности, от вундеркиндизма он тогда и сбежал. Правда, на вундеркинда он не походил нисколько.
Его суждения о поэзии были серьезными и точными, ориентированными на понимание живого организма стихотворения, а не на манипуляцию терминами. Это нас и сблизило, хотя никакой общественной тематикой он не то что не интересовался — не выделял ее. Судил о стихах как о стихах, независимо от степени крамольности — она не была для него ни плюсом, ни минусом. Мне это было очень дорого и близко в нем. Я не хотел «аплодисментов за смелость», не хотел и хулы за нее и не терпел сублимаций страха и равнодушия, высокомерно выдаваемых за эстетическую посвященность. У Берестова ничего этого не было. Он как был, так и остался для меня человеком тонкого, точного и строгого вкуса. Он был культурен.
На одно из занятий он привел своего товарища Кому Иванова, сына писателя Всеволода Иванова. Ныне он известный лингвист, литературовед и мемуарист. Его имя я здесь уже упоминал. Правда, подружился я с ним только в конце пятидесятых.
Некоторых мои стихи располагали к откровенности. Студентка, не помню какого института, Дина Вейс, по какой-то причине близкая к иностранным коммунистам, рассказывала мне о многих проделках Сталина. Каких именно, сейчас не помню — они уже давно преданы гласности. Но помню, что она мне первая сказала, что «Катынское дело», используемое гитлеровской пропагандой, ею не выдумано, — что так это и было. Сегодня это признано и официально, но в первые годы перестройки это еще отрицалось. А ведь она мне это поведала в 1944-м — максимум в начале 1945 года! Не помню, поверил ли я ей, но в глубине души заподозрил, что это правда…
Мое чудесное существование, мои открытые чтения и выступления не могли безнаказанно продолжаться слишком долго. Чудес тогда, если они шли не из Кремля, быть не могло. Да еще в центре Москвы, в двух шагах от Лубянки и ЦК ВКП(б). Специальные люди следили за тем, чтобы их не было. А неспециальные, вроде Юровской и Тюрина, зная о существовании специальных, следили еще пуще. И скоро я наткнулся на то жесткое — жесткое, конечно, по нормальным, а не по тогдашним нашим представлениям — сопротивление, о котором я писал чуть выше. Сколько помню, меня это не столько оскорбляло, сколько окрыляло. От этого я себя чувствовал не политическим борцом, а вариантом скандалиста-футуриста — образ в те годы для меня гораздо более привлекательный, чем «борец».
Стихотворение, в котором поминается Тюрин (см. чуть выше), написано позже, когда я становился уже на «путь праведный», но заканчивается оно все равно не слишком оптимистично — обещанием, что
Я буду с ними грызться, грызться, Пока меня не загрызут[3].Это яркий пример псевдонимного представления о жизненной драме. Все хорошее ассоциируется со строительством нового мира, а дурное, с противодействием ему. «Загрызть» меня должны были силы старого мира, как защитника мира нового, являющегося официальной целью политики партии и государства, которых я в этом качестве, наконец, признал!
Между тем все было не так. Я знаю, что тот же Тюрин своих товарищей-журналистов, пропавших в ежовщину, жалел. Некоторым, кому, по его мнению, грозил тогда арест, трезво советовал принять меры для спасения (на время уехать и т. п.), да я и сам вроде какие-то меры принимал — догадывался, какие надо. Это говорит и о некоторой трезвости, чувстве товарищества. И о его невовлеченности в господствующую псевдоидеологию, хоть он и был работником идеологического фронта. И если из-за меня грозили неприятности, то совершенно понятно, что он, безусловно, должен был относиться ко мне, как к бессмысленному смутьяну, мешающему людям жить. Кто из нас был прав? — эту проблему я уже здесь затрагивал, но не решил. И теперь не могу.
Конечно, относиться к такому посту, да и вообще к идеологической работе, как к кормушке, даже как к способу выживания — не очень достойно и не очень безобидно. Но и доставлять таким людям неприятности, не надеясь этим что-либо изменить, тоже не очень гуманно и осмысленно. Но так ли уж хорошо было бы, если бы никто вообще не пытался говорить своим голосом? Получается, что в сталинской мышеловке никто не должен был выглядеть достойно и быть правым — в такие отношения были поставлены люди друг к другу… Бог нам всем судия.
Но тучи постепенно сгущались, хоть я, упоенный собственной жизнью, этого не замечал. Первый гром ударил неожиданно. В 1944 году меня не приняли в Литинститут. Это было удивительно. Я уже давно там был своим человеком, никто не сомневался, что кого-кого, а меня-то примут. Но вот не приняли. Был бы я умнее и опытнее, я бы понял, что это кажет зубы СИСТЕМА. Но я этого не понимал и пошел к директору.
Должен сказать, что до сих пор с официальной и академической жизнью института я не соприкасался. Доходили до меня институтские анекдоты вроде приказа начальника военной кафедры (но не легендарного Львова-Иванова, которому это приписывается, — это было еще до него): «Мужчины, имеющие „хвосты“, а также девушки и женщины, не удовлетворившие начальника военной кафедры, к экзаменам допускаться не будут». Но в принципе интересовали меня только студенты и поэтические семинары.
Правда, директор (фамилия его была Федосеев, а отчества его я не помню, помню только, что вместе с именем Гаврила оно очень напоминало державинское Гаврила Романович) производил некоторое впечатление. Высокий, импозантный, культурный, демократичный. Его очень нахваливала одна студентка, с которой я довольно близко (но не романически) сошелся, которая потом вышла замуж за гэбиста и исчезла с горизонта. Про нее потом всякое говорили, но я не любитель повторять всякое. Ни один из арестованных тогда студентов ее в этом смысле не упоминал. Даже Белинков, большой любитель подобных «разоблачений». Так вот к этому интеллигентному по общему признанию человеку я и пошел выяснять «недоразумение» — мне ведь это казалось недоразумением. Но как только я вошел к нему в кабинет, я увидел, что недоразумения — во всяком случае на институтском уровне — нет.
— Да, мы вас не приняли, — сказал Гаврила «Романыч». — Вам надо грузить уголь.
Этого «грузить уголь» он придерживался твердо и злобно, отвечая на все мои уточняющие вопросы. Он не пытался обосновать этот свой взгляд или отказ в приеме, только мрачно повторял это утверждение. Почему он так себя вел? Антисемитское объяснение отпадает. В институте училось много евреев, с которыми у него были прекрасные отношения. Больше это походило на поведение человека, вынужденного и решившегося сделать подлость и идущего по этому пути до конца. Так я тогда это и воспринял. Не помню даже, разозлился ли я на него, ибо вообще мало думал об его поведении — был слишком ошеломлен нелепостью самого факта. Да и из института он скоро ушел, а через несколько месяцев умер — видимо, и тогда уже был серьезно болен.
Но невменяемым он не был. И теперь мне это его поведение кажется хамским и отвратным. Конечно, сегодня за всей этой сценой предельно ясно прочитывался испуг. Но если это и так, то он проявился в наиболее подлой форме. Так попытаться сбить с пути неоперившегося юношу — подлость. Более того, испуг — это только предположение, а подлость — факт. Смягчающие обстоятельства могут касаться самого отказа в приеме, а не этого разговора. Это мое воспоминание — не мстительность задним числом. Думаю, что, если бы мы с ним встретились после смерти Сталина, я не держал бы на него зла. И, безусловно, все ему прощаю, Царствие ему Небесное — в слишком страшное время мы все жили. И я вполне верю, что в принципе он не был подлецом. Но прощаю я ему подлость.
Как это ни комично, но и с точки зрения идеологии поведение директора вовсе не было безупречным — он выдавал подлинную психологию режима. Ведь официально грузить уголь было не менее, а может, даже и более почетным делом, чем писать стихи. Тем более, что процесс добывания и использования угля в значительной степени вообще состоит из погрузки и перегрузки — на транспортер, в вагонетки, в подъемники, в вагоны и т. п. Так что, ссылая меня на эту погрузку, как на каторгу, он — руководитель идеологического учреждения — можно сказать, оскорблял героический труд советских шахтеров. Правда о том, как добывается уголь, он по технической неграмотности не знал — как, впрочем, большинство моих и его знакомых, как и я сам тогда. Но психологию «слуги народа» он проявил вполне четко.
Еще одна пикантная подробность. Преподаватель марксизма Зайцев сочувствовал моим злоключениям. Не следует дальнейшее воспринимать сквозь призму нашего сегодняшнего отношения к его предмету. Тогда многие, и я в том числе, относились к нему серьезно, и преподаватели могли быть вполне честными людьми, мучающимися, обманывающими самих себя, напряженно сводящими концы с концами. Так что я вовсе не удивлялся этому участию. Но вот Федосеев ушел, и его заменил Зайцев. И я попытался опять. И наткнулся почти на то же. Разговаривал он со мной иначе, без желания унизить, без личной подлости, но все же с наглой нелогичностью отвергая мои поползновения. Что он отвечал на вопрос: «Как же так?» — не помню, но все же некоторая растерянность ощущалась. Эта наглая нелогичность — обязательная черта деятеля сталинской эпохи — жизни в обстановке, когда логически нельзя объяснить почти ничего. Способность к ней становится даже знаком солидности.
После этого абшида в Литинституте мне не оставалось ничего другого, кроме как восстановиться в Лесотехническом, о жизни в котором я уже рассказал. Но оказалось, что этот абшид был только дальним раскатом грома, канонадой на дальних подступах. По-настоящему тучи стали сгущаться надо мной к концу года, хотя очень долго я ничего этого не замечал.
Конечно, происходило это в «Молодой гвардии». Началось это («начало было так далеко») перед одним из занятий, которые тогда еще происходили в холле.
Вдруг кто-то сказал мне:
— Смотри, Крученых!
И действительно, на занятие пришел легендарный Алексей Крученых, футурист, «ничевок», «дыр-бул-щир», друг Маяковского. Это для тогдашней литературной молодежи было событие. Сам футурист выглядел ординарно. Естественно, был он уже в летах, седоват, но не сед, голос имел высокий и какой-то мягкий. Беседы с ребятами он заводил легко, в богемной обстановке был как рыба в воде. С ним вместе пришел молодой человек высокого роста и в высокой шапке. Вокруг них возникло веселое шебуршение, продолжавшееся несколько минут. И вдруг Крученых как бы невзначай, но громко спросил:
— А кто у вас Мандель?
Я с удовольствием откликнулся.
— Ты? А ну прочти стихи про Сенатскую площадь.
Как я уже неоднократно отмечал, упрашивать тогда меня не надо было. Прочел про Сенатскую. И еще. И еще. Молодой человек тоже слушал — внимательно и доброжелательно. Потом он дал мне свой телефон, чтоб приходил в гости — там поговорим… В силу некоторых причин, о которых позже, называть его подлинное имя я не хочу. Назову его Петр, Петя… Телефон я записал, но поначалу об этом забыл.
Между тем, с моей жизнью стало происходить нечто странное, с этим эпизодом не связанное, а может, и начавшееся до него. Вокруг меня стала образовываться пустота. Все, с кем я общался раньше, вдруг оказывались ужасно заняты — и раз, и еще раз, и еще много, много раз. Кроме тех, с кем я встречался редко. Правда, на «лесотехнической» стороне моей жизни это не отражалось. Но ведь я больше пропадал в Москве.
Это, как я понял через несколько лет, была обычная игра ГБ с намеченной жертвой, имевшая целью еще до ареста довести ее до отчаяния. Кстати, изобличающая опыт борьбы исключительно с невинными — любой конспиратор воспринял бы это как сигнал о необходимости замести следы. Конечно, тогда я об обычности этой игры ничего не знал, но все это было настолько однозначно, что я заметался.
Усугублялось мое состояние тем, что как раз в это время я начал «признавать советскую власть». Действовала на меня приближающаяся победа, бравые и неглупые офицеры, приезжающие с фронта и все же несмотря ни на что, верившие в Сталина, и многое другое, о чем я уже говорил и буду говорить еще. Я как-то не мог ощущать себя выше всех этих людей. И мне хотелось «быть, как все». И как раз в этот момент надо мной начинал свистеть аркан. Все это было так невыносимо, что когда я встретил на улице Крученыха и тот спросил: «Как жизнь?», я ответил, не задумываясь: «Плохая», а на вопрос: «Почему так?» ответил прямо: «Посадят!»
Надо сказать, что Крученыха мой ответ не удивил. Он только посоветовал:
— А ты, позвони Петру — помнишь, со мной к вам на объединение приходил? Скажи ему, что происходит — может, он поможет.
Терять мне было нечего, я позвонил Петру и сказал, в чем дело.
— Ну что ж, — сказал Петр, — заходи ко мне сейчас, поговорим — может, я и действительно смогу тебе помочь.
Принял он меня очень хорошо и тепло. Я читал стихи, мы разговаривали вполне дружески. И такие — искренние и доверительные — отношения были у нас всегда. Как будет ясно из дальнейшего, с ГБ он как-то был связан. Но мне он сделал не зло — добро. И о людях, которые из-за него пропали, я не слышал. Именно поэтому я сейчас опускаю его имя и вообще избегаю рассказывать о нем, о наших спорах с ним, например. Желающих не глядя разоблачать и презирать у нас всегда хватало. Не хочу бросать незаслуженную тень на его имя. Время ведь было очень сложное, очень запутанное — даже для самих запутывающих.
Дальше начала разворачиваться фантасмагория. Петя предложил мне составить маленький сборник из лучших стихов — независимо от крамольности. Те, кто будет решать мою судьбу — кто именно, он тогда не сказал, — будут решать только по степени талантливости. Странный в юридическом отношении критерий, сказал бы я теперь, но тогда он и мне, и Пете показался вполне естественным. Ведь все мы были воспитаны в духе пользы и целесообразности.
Была еще одна вставная новелла. Петя сказал: «Приведи какого-нибудь своего товарища, который тебя знает». Я сказал это одному человеку, которого тогда имел основания считать своим другом. Тот пришел и… начал убеждать Петю, что меня необходимо изолировать, потому что я, хоть сам по себе и не враг, очень плохо влияю на всяких мальчиков и девочек. Петя и его жена молчали. Я тоже был сбит с толку. На Петю эта странная истерика влияния не оказала. Он только потом подзуживал меня: «Ну и друзья у тебя».
Почему-то в конце шестидесятых и Петя, и его тогдашняя жена, с которой он в разводе, — оба говорили мне, что ничего такого не помнят. Это немного странно: так долго помнили и — забыли. Правда, был долгий перерыв, когда меня не было в Москве, но все же… Может, думали, что я собираюсь поднимать историю. Не собирался никогда. Тем более что перед необходимостью для него (ввиду его неправдоподобной трусости, о которой я до этого не знал) такого поступка поставил этого товарища я сам — тем, что привел его. Потому я и не называю и никогда не назвал бы его имени. Правда, он мог и не идти со мной. Но, может, и не идти боялся.
Сегодня этот мой бывший товарищ (разошлись мы не поэтому) начисто все отрицает, говорит, что я маньяк. Но такой мании, мании разоблачать и обвинять, у меня никогда не было. За всю жизнь я назвал стукачами только двух человек — одним был известный по процессу Синявского-Даниэля Хмельницкий (ибо об этом мне рассказал В. Берестов, абсолютно чуждый революционной романтики и психоза разоблачений), а вторым — один мой будущий сокурсник (о нем впереди). Но это я точно знал, а теперь это подтверждено многими людьми, устно и печатно. Больше никогда ни о ком, в том числе о людях, дававших на меня показания, я так не говорил. И этот мой тогдашний товарищ тоже не был стукачом — был просто истерическим трусом… К счастью для меня (и еще больше для него), этот демарш успехом не увенчался.
Дело шло своим чередом. Когда через несколько дней я опять пришел к Пете (а ходил я теперь к нему часто — мы подружились), он сказал, что мне согласны помочь.
— Я сейчас позвоню по телефону, и ты поговоришь с одним хорошим человеком. Его зовут Василий Михайлович, фамилия его Жигалов. Ты скажешь ему, что запутался.
Я, конечно, испытывал некоторую неловкость от такого представления, но, с другой стороны, как уже здесь отмечалось, я в значительной степени так и думал. И я произнес именно эту фразу.
Ясно и просто. Впрочем, и это было для меня не так просто, поскольку, если помнит читатель, у меня украли все документы. Однако Василия Михайловича это не смутило. Он сказал:
— Ничего, приходи, пройдешь по моему пропуску.
На следующее утро я сидел в бюро пропусков и ждал Василия Михайловича — кажется, сообщив ему по телефону о своем прибытии. Вид у меня был даже более живописен, чем обычно. Ко всем моим одежкам без застежек прибавился огромный фингал под глазом. Когда я этим утром спешил на электричку из Лесотехнического, где продолжал числиться и жить, на станцию Подлипки и перебегал Ярославское шоссе, меня крылом задел грузовик. Я упал и ударился об асфальт — отсюда и фингал. Но тут же вскочил и побежал дальше. Мне было очень интересно.
Интересно мне было и в бюро пропусков. Оно абсолютно не было похоже на то киевское бюро, куда я когда-то сопровождал Люсика. Там все были сдержанны и печальны, за спиной у каждого стояла «свинцовая беда» (А. Галич), а здесь это было обычное пропускное бюро центрального учреждения. Много было военных в морской и армейской форме с майорскими и подполковничьими погонами. Все вели себя свободно и деловито. То ли все это были начальники особых и первых отделов, то ли хорошо скрывали свои чувства. А может, там, в Киеве, мы были не в бюро пропусков, а в отделе справок. Но все равно общая бодрость и деловитость меня поражала.
Появился высокий, худощавый человек и по дороге к окошку бросил мне на ходу, словно давно меня хорошо знал: «Мандель, пошли!» Удивляться тому, что он мгновенно выделил меня из общей массы, не приходится. Для этого не требовалось никакой особой «чекистской» проницательности — уж больно я выделялся своей живописностью на любом, а тем более на этом фоне…
И мы подошли к окошку. Василий Михайлович выписал мне пропуск на основании своего пропуска. Это означало, что мой пропуск на вход и выход в здание МГБ на Лубянке без предъявления его пропуска был недействителен. Отмечаю это без всякой задней мысли, ибо вызвано это было только отсутствием у меня документов. Так я первый раз попал в знаменитое здание на Лубянке.
Признаюсь, к описанию того, что происходило тогда со мной на Лубянке, я приступаю с некоторой робостью. Положим, я тогда еще верил в ее прекрасное романтическое прошлое, попранное Сталиным. Сегодня я слишком много знаю об этом прошлом, да и вообще знаю цену этой романтике. Положим, тогда я не знал, что творилось в этом здании в этот момент, когда я там находился — ежовщина вроде кончилась, Ежова расстреляли. Но теперь-то я прекрасно знаю и отчасти уже здесь говорил, что организация эта была и тогда сверхпреступной, обслуживающей капризы, вожделения и комплексы Сталина. Но я имел дело с конкретными живыми людьми и не могу о них писать, подгоняя реальные впечатления под общее свое знание о Лубянке.
Люди, с которыми я имел там дело, захотели мне помочь и помогли, когда я был в безвыходном положении. Вероятно, была у них тогда — время-то было еще военное, либеральное — какая-то графа типа «профилактика», по которой они меня и провели, ограничившись «работой» со мной. Графа предоставляла им такую возможность. Но не могло быть графы, обязывающей их это сделать. Этого они — несколько человек, сидевших в одной комнате и составляющих отдел, сектор или Бог его знает что, — должны были сами захотеть. И захотели. И я им благодарен за это.
Да, потом меня все равно арестовали. Но случилось это не в конце 1944 — начале 1945 года, хотя к тому шло, а только в конце 1947-го (20 декабря), и не думаю, чтобы по их вине. Фактически они подарили мне три года нетюремной жизни. И несмотря на то, что идеологически эти годы были годами наибольшего моего падения, именно в эти годы я окреп как литератор, смог осознать себя, помериться силами, приобрести некоторую уверенность в себе. Я считаю великим счастьем, что мне не пришлось изначально формироваться в тюрьме и ссылке. Приводить мне в пример Солженицына не надо. По многим причинам. Но еще и потому, что прозаики вообще формируются обычно позже, чем поэты.
Конечно, я не могу не только ручаться, но и представить себе, что вся тогдашняя деятельность этих людей была столь же травоядной, как в моем случае, — не для травоядности существовало это учреждение. И хотя то, что произошло там тогда со мной, никак нельзя обобщать, — частное не всегда характеризует общее — но говоря о реальных людях и событиях, подменять этим общим живое частное тоже нельзя. На справедливость имеет право любой. Я пишу мемуары, а не историю ЧК — ГБ. Рассуждать я могу о чем угодно, но свидетельствовать — только о том, что со мной или при мне действительно было. О своих тогдашних мыслях, чувствах и восприятии.
В комнате этой (секторе? отделе?) все меня встретили с доброжелательным любопытством. Большое внимание привлек мой фингал. Вызвали медсестру и оказали медицинскую помощь. Пошли разговоры о том о сем. Главным образом, о том, что, смотри, мы побеждаем, а ты вон что пишешь. С тем, что действительность сложна, соглашались и они. Атмосфера была если не интеллектуальная, то близкая к тому — разумеется, соответственно уровню идеологического мышления того времени, которого ведь и я был не выше.
Попутно выяснилось мое положение — что живу без документов, в Литинститут не приняли, да и вид говорил сам за себя. Обещали помочь. Вербовать меня в осведомители не старались, об этом и речи не было. Мне вернули мой сборничек, выразили надежду, что теперь я возьмусь за ум (передаю содержание, точных выражений не помню), и отпустили. На улицу меня вывел Василий Михайлович — опять по своему пропуску. Такая вот рождественская сказка о сером волке.
На этом чудеса не кончились. Однажды, придя в свое общежитие, я обнаружил там записку (именно записку, а не повестку) из военкомата. В ней было сказано буквально следующее (думаю, что я передаю это и словесно точно, но за тональность ручаюсь): «Прошу вас в удобное для вас время зайти в военкомат для оформления военного билета». Дальше — должность, звание и подпись. Все. Между тем до сих пор это оформление казалось военкомату невозможным из-за того, что у меня не было паспорта. А паспорт я не мог получить без военного билета.
Дело усугублялось тем, что документы я потерял в момент, когда я из одного места выписался, а в другом не прописался. И я жил в военной Москве без документов и вообще не знал, когда их получу. И вдруг этот гордиев узел был разрублен так просто: «Прошу вас…» Интересно, за кого принимал меня офицер, написавший записку, особенно увидев меня во всей живописности. Документы я получил быстро. Но и до этого высокое покровительство меня выручало, когда меня при проверке документов задерживала милиция. Я давал им телефон Василия Михайловича, они звонили и меня отпускали. Раньше с этим была целая морока.
Но и с «живописностью» моей произошли изменения. Мне велели явиться в Литфонд, а там отправили со мной с ордерами и деньгами в магазины всем (но не мне тогда) известного устроителя похорон, а посему героя союзписательских острот и анекдотов Ария Давыдовича. Мне потом рассказывали, что он был высокопорядочным человеком, бесстрашно хранившим автографы и другие материалы репрессированных тогда писателей.
Любопытно начало его карьеры. Она началась с похорон Л. Н. Толстого. Когда тот умер, Арий Давыдович был студентом и большим почитателем его таланта и учения. И как только стало известно, что Толстой умер, Арий Давыдович отправился в Ясную Поляну и прибыл туда раньше многих, даже гроба с телом. Все вокруг были растеряны и не знали, что делать. И как-то само собой получилось, что распоряжаться начал Арий Давыдович, власть его всеми была признана. Это всех устраивало. И когда умер следующий писатель, кто-то в Литфонде вспомнил о студенте, который так толково всем распоряжался. Его разыскали и пригласили — уже за плату. Так и пошло. И вот он послан был в качестве любящего отца покупать мне кой-какую одежду. Знал ли он, следствием какого звонка была наша с ним поездка? И кем он меня считал, если знал? Впрочем, его начальство знало и говорило об этом вполне открыто. О сексотах открыто не звонили и не говорили. И все же…
Помимо всего этого, меня решили трудоустроить — болтаться без дела в военной Москве было нельзя — но куда? Естественно, в многотиражку. С этой целью Василий Михайлович связал меня с работником МК партии (кажется, он был тогда заведующим отдела пропаганды) Валентином Гольцевым. У него в кабинете я познакомился с будущим «безродным космополитом», но тогда заведующим кабинетом печати МК партии (ведавшим многотиражками столицы и области) Борисом Владимировичем Яковлевым-Хольцманом, который должен был это провернуть. Поговорили, я почитал стихи, отнесся он к ним хорошо, хотя и не без идеологической снисходительности, и повел меня к себе.
Оказалось, что этот кабинет печати был в то же время отделом газеты «Московский большевик». Тут нет ничего удивительного — газета тоже была органом Московского горкома и обкома. Помещалась она в Потаповском переулке у Чистых прудов (парадного выхода на бульвар еще не было). Начиналась моя новая — вполне легальная и «заодно с правопорядком» (Б. Пастернак) — жизнь.
Но прежде чем рассказать о ней (и о том, как она без малого три года спустя кончилась арестом), мне хотелось бы кончить рассказ о своих «связях с МГБ», а также высказать кое-что по этому поводу. Встречался я с ними еще раза три-четыре. Происходило это так. Петя говорил мне: «Позвони Васе», я звонил Василию Михайловичу, и тот назначал встречу. Зачем? Как я уже говорил, никаких попыток вербовки с их стороны не было. Максимум, что они могли от меня узнать не обо мне, — это к каким молодым поэтам я отношусь серьезно. Я относился серьезно к Платону Набокову. Спросили, не могу ли я принести его стихи. Я в них не видел ничего крамольного и сказал, что спрошу его. О моих «связях» знали все, и я прямо спросил Набокова, согласен ли он дать мне стихи для них. Он подумал и отказался. Больше меня ни о чем не просили. Тогда я считал, что Платон поступает глупо, сегодня в этом не уверен. Просто потому, что, кроме этих людей, там работали и играли более важную другие, которые могли увидеть крамолу в чем угодно. В этом я мог убедиться на собственном опыте довольно скоро, но понял много позже. Вызывали они меня, как я понимаю, просто потому, что перед кем-то за меня поручились и осуществляли идеологическое «курирование».
Я понимаю, что история эта неправдоподобна — особенно применительно к тем временам. Я и сам больше ни об одной такой не знаю. Но со мной было так. Я, должен сознаться, был в восторге от моих новых знакомцев и везде о них рассказывал (не мог удержаться — хоть они просили этого не делать). Не надо забывать, что я ведь не переставал считать себя коммунистом и отнюдь не отказался от «чекистской романтики». Я только сомневался в том, что она существует и теперь. И вдруг увидел ее продолжение. Вот стихи, которые родились у меня после «сердечных встреч на Лубянке»:
Я все на свете видел наизнанку И путался в московских тупиках. А между тем стояло на Лубянке Готическое здание ЧеКа. Оно стояло и на мир смотрело, Храня свои суровые черты. О, сколько в нем подписано расстрелов Во имя человеческой мечты. И в наших днях, лавирующих, веских, Петлящих днях, где вера нелегка, Оно осталось полюсом советским, Готическое здание ЧеКа. И если с ног, прошедшего останки, Меня сшибут — то на одних руках Я приползу на Красную Лубянку И отыщу там здание ЧеКа.Вот так, и не меньше. Если я читал другие свои стихи, то уж эти — сам Бог (точнее, сам черт) велел. Ведь теперь я вроде был свой. Они породили несколько эпиграмм. Одна — глазковская:
Я находился, как в консервной банке, И потому не видел ни черта. А между тем стояло на Лубянке Готическое здание ЧеКа.Другая, кажется, Якова Козловского:
Я все на свете видел наизнанку И сочинял стихи свои — пока Не вызван был за это на Лубянку — В готическое здание ЧеКа.Первая пародирует ход мыслей, вторая — ситуацию. И носит согласно тогдашнему мировоззрению ее автора теперь трудноуловимый нравоучительный характер: дескать, дурил и додурился. Илья Григорьевич Эренбург, выслушав эти стихи, сказал:
— Во-первых, здание не готическое…
— Понимаете, Илья Григорьевич, — ударился я в глубокомыслие, — может, оно и не готическое, но как-то ассоциируется…
— Это у вас ассоциируется, потому что вы не знаете, что такое готика — безжалостно парировал мои «тонкости» Эренбург. — А я знаю, и у меня не ассоциируется.
Но дело, конечно, не в том, что стихотворение плохо определяло архитектурные стили. Сегодня шибает в нос и вгоняет меня в некоторое отвращение к себе самому его система ценностей — исступленное согласие с «расстрелами во имя мечты». Но тогда это было на уровне сознания многих, хотя и тогда оно было наивным. Никто и не собирался их печатать. Оно могло бы кое-как быть допущено в эпоху большевистского «Штурм унд Дранга», но не в расцвете сталинщины.
Сами же воспетые мной были этим отчасти польщены — каждому хочется видеть смысл или хотя бы оправдание своей деятельности, — но отчасти, наверное, и смущены. Лубянка, безусловно, была местом, где подписывались расстрелы, но говорить об этом вслух было не принято. Даже принимая это как высшую романтическую необходимость. А уж говорить о наших днях как о «лавирующих, веских, петлящих днях, где вера нелегка», было и вовсе неподходяще… Хотя уж кто-кто, а они сами сталкивались с этим на службе ежедневно. Ведь к тому времени МГБ давно уже превратилось в личные когти Сталина. Не думаю, чтобы они сами так формулировали, я тоже тогда был далек от этого, но ежедневную зависимость от необъяснимых (объяснения приходилось находить самим) решений вождя они, безусловно, чувствовали. Точной их реакции на это стихотворение не помню, но помню, что она была неуверенной. Но мы об этом разговаривали. Я сегодня не помню в точности этих бесед, но это были именно беседы — они с интересом их поддерживали. Конечно, в этот период я был мыслящим сталинистом, и им это было интересно. Но главное то, что они могли беседовать. Я не зря выделяю это слово «могли». Ибо «могли» не все, и в этом я скоро убедился.
Но вот вопрос: я был тогда наивен, а они? По какой причине они стали меня спасать? Почему они захотели или сочли нужным меня сохранить? В агенты они меня явно не готовили, да я и не годился — обо всем рассказывал направо и налево. Значит, им почему-то понравились мои стихи. Чем они могли им понравиться? Наверное, искренностью того, что обычно называют гражданским темпераментом. Вот и возникла благородная идея не губить меня, а перевоспитать — чтобы искренность эта осталась, темперамент остался, а направление я обрел «правильное». Чего же проще!
Наивность их заключалась не в том, что они не разбирались в психологии художественного творчества, а в том, что они полагали, что служат направлению, причастность к которому можно выражать искренне, и что их начальство в этом заинтересовано. Хотели так думать, потому что чувствовать себя просто составной частью личных когтей одуревшего (пусть даже гениального) лидера никому не приятно. Те, кто попроще, полагались на то, что самому лидеру этот смысл ведом, а им его и знать не положено. Эти были менее просты, и вот выручали меня и разговаривали.
Кстати, того, чего они от меня хотели, я и сам от себя хотел — писать столь же искренне, но в правильном направлении. Другими словами, поверить в тогдашнюю действительность. И я — отнюдь не только благодаря им — довольно далеко прошел по этому пути, много дальше, чем мне хотелось бы сегодня чувствовать за собой в прошлом. Но как бы мне стыдно сегодня за это ни было, это было не то, что могло их удовлетворить по службе. Или принести мне что-нибудь, кроме тумаков.
Да, я согласился поверить в действительность, в то, что все, происходящее в ней, происходит не зря. Но я соглашался принять и оправдать ту действительность, которая имела место. Только для этого надо было сначала сформулировать, какая она — вот как в этом стихотворении. А это было исключено — как минимум непохвально и непечатно. Непечатно было и обнажение противоречий, которое на мой тогдашний взгляд обнажало и «нашу» правоту. Но начальство от этого ежилось и визы «в набор» ставить не торопилось. Мою железобетонность это не пробивало — просто всех, кто не печатал, я относил к тем, кого обозвал «прошедшего останки» и чье тлетворное присутствие в жизни и влияние я с горечью признавал. Получалось (конечно, только в моем бредовом сознании), что «мои» чекисты, как и я, были по одну сторону баррикады, а эти останки — по другую.
Но так или иначе эти гэбисты со мной разговаривали. И мне это казалось естественным. Ведь я видел и за ними систему взглядов. Это было преувеличением. Такое среди них не водилось. Они просто были живыми, и им было интересно. Да им и самим было приятно, что можно разговаривать о главном. Не потому, что я их чему-то учил или мог научить в свои девятнадцать. Но просто происходящее втайне и их беспокоило, а когда я начал ему находить объяснения — заинтересовывало. Они ведь тоже не воспитывались с детства в специальных питомниках, а брались оттуда же, откуда были все: с заводов, фабрик, с институтской скамьи. Брали по анкетным данным, но это ведь не все.
Потом для того, чтоб выживать, приходилось отказываться от совести, а то и просто звереть: требования были жесткие, а смысл деятельности не был ясен. Некоторые, хотя бы на первых порах, были бы не прочь представлять его более ясно — с ними я, видимо, и имел дело. Но лучше себя чувствовали те, кто в этом не нуждался. Такие люди были больше ко двору. И им отдавалась власть.
Это особенно очевидно стало для меня через год-полтора, когда я наткнулся на человека, бывшего контрастом тем, с кем я имел дело до него. Разговаривать не умевшего и не хотевшего уметь. Разницы я тогда не осознал, ибо оставался в плену своей предвзятости, но сразу ее почувствовал.
А дело было по сегодняшним меркам пустяковое. Однажды — это было уже, когда я давно учился в Литинституте — они меня вдруг вызвали (через Петю, кажется, в последний раз). Оказалось, что на этот раз им надо поговорить не вообще, а по поводу моего нового стихотворения. Стихотворение мне представлялось вполне «в духе», хотя касалось оно репараций. Вот это стихотворение, как оно было. Сомневаюсь я в точности только двух строк — девятой от начала и третьей от конца, — но и их смысл передан точно.
Гудки, и гудки, и гудки, и гудки, Плещет кругом черноземная степь… Везут из Берлина в Москву станки, Как раньше в Берлин украинский хлеб. …Я знаю, что нету святее прав. И доказательств не надо тому. Но мальчик немецкий глядит на состав, И спазмы горло сжимают ему. Ему сегодня тринадцать лет, Но он никогда уж не будет наш. Он будет солдатам советским вслед Твердить, кулаки сжимая: «Реванш». А мир вокруг прогнивает до дыр. И гной течет по страницам программ. Микадо хотел покорить мир, А нынче сдается на милость сам. Плевать мне на всякого короля! Ведь я не защитник восточных царств. Я просто хочу, чтоб была земля И чтобы на ней никаких государств. Чтоб больше не вышел на брата брат. Чтоб споры замолкли любых держав. Чтоб не был никто ни пред кем виноват, И никто никому не доказывал прав.Когда я пришел, меня стали журить за это стихотворение, а я не мог понять, в чем дело. Как поэтическое произведение, оно меня сегодня не интересует, тогда я к нему относился и в этом отношении серьезно, но речь шла не о поэзии. Они считали, что я написал нечто непозволительное. Точного содержания их обвинений я не помню, возможно, его и не было. Но, по-видимому, причиной всего было первое четверостишие — о вывозимых германских станках. Как я теперь понимаю, они были этим очень встревожены — если бы эти стихи не понравились кому-либо из начальства, я оказывался браком в их работе. Но тогда я этого не понимал. И отвечал на все претензии объяснениями. Эти стихи ведь и впрямь не ставили под сомнение справедливость репараций: «Я знаю, что нету святее прав. / И что доказательств не надо тому…», — они только говорили о трагичности ситуации, о противоречивости действительности.
Все это никак не противоречило марксизму. А мечта о жизни на земле без различных государств была мечтой о коммунизме. Переспорить меня логикой, оставаясь на почве коммунизма, хотя бы и сталинского, было невозможно. Но тут уже был наивен я — думал, что это важно. У них было указание, и им было не до логики — они стояли на своем. Но они — разговаривали. Хотя и менее свободно, чем раньше.
Потом меня показали новому начальнику отдела. Тот спросил, понял ли я, что мне было сказано. А когда я пустился в объяснения, просто и кратко объяснил, что со мной сделают, если я не пойму — арестуем, в лагерь отправим (интересно его употребление глагола «понимать»). Так что обещал он мне даже больше, чем на самом деле сделали, когда и впрямь мной занялись «как следует». Мои чекистские знакомые, которые до этого беседовали со мной, стояли навытяжку. Я чувствовал, что им самим неудобно, но новая метла хотела мести чисто. Было и нелепо, и страшно. И страшно потому, что нелепо. А что еще предстояло?
Мой роман с МГБ был широко известен. О нем знали все, кто со мной общался, и многие вокруг. Гнусных подозрений на мой счет он не вызвал — был только сигналом, что прокаженность с меня снята. За одним коротким исключением. Однажды, придя к Коле Глазкову, я обнаружил там того приятеля, которого я приводил к Пете. На этот раз он стал петь другую песню, уже не в помощь органам, а в защиту от них. Он начал убеждать Колину мать, что раз я «там» был, то просто так «оттуда» не отпускают, и, следовательно, я представляю опасность для друзей. Колина мать перепугалась и стала отказывать мне от дома. Но последствий этот демарш не имел ввиду очевидной его фантастичности. Я продолжал приходить к Коле, как и раньше, и отношения не стали менее доверительными.
На этом (во всяком случае на этой ноте) мое общение с этим (каким точно — не знаю) отделом МГБ кончились. В ноябре — декабре 1947 года, когда вокруг меня опять начала образовываться зона пустоты, я еще раз позвонил Василию Михайловичу, но на этот раз руки мне не протянули. Благодарю за это судьбу, вернее Бога. Но это имеет отношение не только к этому «роману», но и ко всему моему внутреннему развитию в эти годы.
Перед Литинститутом и Литинститут
О своем «романе» с МГБ я рассказал все, что помню. Поэтому рассказывать о своей жизни в послевоенные, для меня предарестные годы, я буду почти без всякого упоминания об нем. Должен, однако, сказать, что вообще этот «роман», произведя на меня большое впечатление, все же большого места в моем внутреннем развитии и вообще в моей жизни не занимал. Конечно, если забыть о том, что он вообще дал этой жизни состояться — освободил меня от прокаженности. А так — даже романтический «культ Чека», бывший неотъемлемой составной моего тогдашнего мироощущения, возник во мне, как знает читатель, задолго до этого «романа». «Роман» его только не опроверг. И поэтому сильно помог поверить в выдуманную мной картину современности. Культ этот не прошел и после встречи с новым начальником. Но о мировоззрении и мироощущении этих лет — чуть позже.
Могу только сказать, что за все мои «доарестные прозрения», о которых мне стыдно вспоминать, несу ответственность лично я, а отнюдь не «мои чекисты». Конечно, вины за атмосферу, в которой по вине их учреждения вынужден был жить и «воспитываться» весь народ огромной страны, — с них снять никто не может. Но в этом они виноваты, так сказать, в составе всего учреждения, да и всей системы, и перед всем народом: передо мной не больше, чем перед любым другим, в том числе и перед самими собой. Уверен, что когда потом меня опять обложили и на этот раз довели дело до конца — посадили, это было сделано не по их инициативе, хотя и при их стойке «Смирно!». Но это случилось через два с половиной — три года, в самый разгар моего форсированного причастия к духу сталинщины. А мы пока находимся в самом его начале.
Мой рассказ прерван был этим «романом» на том, как заведующий кабинетом печати МК ВКП(б) Яковлев-Хольцман, ведавший всеми многотиражками города и области, привел меня из МК в редакцию газеты «Московский большевик», где находился его кабинет. Борис Владимирович, как помнит читатель, должен был устроить меня на работу в многотиражку, что он в конце концов и сделал. Но человек страстный и увлекающийся, он почти сразу, как только мы пришли, стал меня демонстрировать своим товарищам журналистам из «Московского большевика» и «Московского комсомольца» — обе газеты помещались под одной крышей на Чистых прудах. Приняли они меня очень тепло и хорошо, стали наперебой зазывать к себе, разговаривать, просить читать стихи. И, что тоже существенно, кормить обедами — они получали какие-то спецталоны. Тогда-то я и спросил у одного из «комсомольцев» о судьбе своего симского редактора, которого я здесь назвал Зиновием Самойловичем Мильманом, и получил ответ, что он такого не помнит. Впрочем, может, этот человек стал работать в газете позже. Но это — к слову.
Моя чекистская эпопея ни для кого здесь не была секретом, и просили меня читать и «ошибочные» стихи. В качестве таковых я их и читал. Все последующие годы тоже. Не из политических соображений, а потому что не мог удержаться. Тем более, когда просили. А тут просили. В общем, я там жил и цвел. Там я познакомился с Федором Елисеевичем Медведевым, человеком чистейшей души, с которым я дружу уже больше, чем полвека. За это время он много раз выручал меня из нелепых положений, в которые я часто попадал, а однажды даже спас мне жизнь. Но это было потом. А тогда еще только начинался 1945-й, шла война, и впереди у всех нас была только победа. А за ней — свет.
И опять загадка для тех, кто тогда и у нас не жил. Откуда такой мой успех у тамошних журналистов? У того же Бориса Владимировича, например? Ведь он любил говорить о себе (картинно, но вовсе не шутя): «Я представитель правящей партии». Конечно, он не был функционером, он был интеллигентом, сыном репрессированного профессора-педиатра, но принадлежностью к правящей партии гордился всерьез.
Функционером никогда не был даже уже упоминавшийся здесь Ф. Е. Медведев, хотя потом занимал немалые должности в МК КПСС и ВЦСПС. Но и на важных должностях он всегда был помощником функционера, а не самим функционером, всегда помощником секретаря и никогда его заместителем (заместитель был функционером). Причем и по происхождению, и по биографии, и по способностям (хороший организатор, разумный человек, хорошо умеющий работать с людьми) он вполне подходил для любой карьеры. Подозревать его в чем-либо «дурном» не было оснований, да и не подозревали — иначе бы и в помощниках не держали. Как говорится, всем вышел. А вот почему-то держали в помощниках. Дорожили как помощником, стремились заполучить его в помощники, а в функционеры не выдвигали — не подходил по каким-то интуитивно ощущаемым, но все же безусловным для них критериям. А ведь он, как и большинство журналистов, с которыми я там общался, если и не произносил фразы: «Я представитель правящей партии», то только из отсутствия тяги к картинности и звучности.
Безусловно, и он, и почти все тамошние журналисты искренне чтили тогда товарища Сталина. Через них шла вся пропагандная ложь, оглупляющая страну, и они вовсе тогда не сомневались в полезности этой деятельности. И все же — в частном порядке — они были мне благодарны за стихи, так или иначе ей противоречащие. Что это такое?
Я как-то об этом не задумывался. Это был очень напряженный период моей, да и не только моей жизни. Впечатлений была тьма. Одни заслоняли другие, и на их осмысление меня не всегда хватало. Впрочем, еще и потому, что воспринимал я это как нечто вполне естественное. Ведь я считал себя коммунистом, а они тоже. Мало того — в моих глазах они-то и были настоящими носителями любезной моему сердцу коммунистической идеологии — они не блуждали, как я, а знали с самого начала то, что мне давалось с трудом — например, «сложную правоту Сталина».
Конечно, все они были оглушены тридцать седьмым годом. Более того, меня он только оскорблял эстетически, а по ним прямо прошелся своими граблями. Именно по ним и шла пальба, именно их товарищей и коллег выдергивали из рядов в первую очередь, на тех же непонятных основаниях каждую ночь могли увести любого из них. Теперь вроде все улеглось, и им тоже хотелось думать, что прострация, в которую их погрузили и которую насаждают (конечно, так откровенно они для себя не формулировали), — только кажущаяся, что все, для них имевшее смысл, продолжается, как течение реки подо льдом. И я был не то что подтверждение, но напоминание о чем-то.
Теснее всего я подружился с Хольцманом. Во-первых, я находился, так сказать, в его ведении и больше всего дела имел с ним. Во-вторых, его литературные интересы были более отчетливыми, чем у других.
Правда, разговаривали мы не только на литературные темы. Борис Владимирович был большим знатоком произведений В. И. Ленина и И. В. Сталина. К нему вся редакция, да и товарищи поважнее обращались за цитатами по любому случаю, и он их легко находил. За это его ценили, но это не было его профессией, и овладел он этим, я уверен, просто от увлеченности. Или от стремления разобраться. Сегодня это совершенно непонятно — как умный, талантливый, образованный человек мог интересоваться такой чепухой, но меня это ничуть не удивляло. Я и сам интересовался — только что никогда не доходил до таких вершин знания. Я даже думаю, что это знание отчасти должно было компрометировать его как «представителя правящей партии» — оно все-таки намекает на то, что носитель его относился к современной ему ситуации как к чему-то, в чем следует разобраться. В то время как настоящему советскому человеку (кто им был?) этого не требовалось. Но о нем так не думали — в нем нуждались.
Так или иначе, Борис Владимирович в отличие от большинства тогдашних и позднейших бойцов идеологического фронта знал первоисточники. И в наших беседах использовал это знание для доказательства того, что и нынче «все идет правильно», другими словами — по-ленински. А в том, что «по-ленински» — это и значит «правильно», не сомневались ни он, ни я.
Сегодня я вообще не знаю, что это значит — «по-ленински». Ленин настаивал на терроре, на лжи и провокации во имя интересов «дела» и «партии», а потом взял да и отступил — пошел на НЭП — и никаких социалистических выходов из него не наметил. Дора Штурман остроумно предполагает, что просто надеялся во время «передышки» — так он это называл — что-нибудь изобрести. Но таких путей не было, во всяком случае он их не изобрел. Какой же путь — применительно к нашему времени — мог считаться «ленинским»?
Над решением таких схоластических задач годами и билась пленная наша мысль. Хоть отнюдь не схоластические потребности нами руководили. Но об этом я уже говорил много.
Очень скоро Борис Владимирович объявил, что мне надо устроить вечер в редакции — настоящий, широковещательный, с объявлением в газете. С ним все согласились, я, естественно, тоже. И началась подготовка к этому вечеру. Я сидел у Хольцмана в отделе и по памяти восстанавливал стихи (у меня их никогда не было под рукой), а его помощница Катя, милая, умная и острая молодая женщина, перепечатывала их на машинке. С Катей я сразу подружился. Правда, Борис Владимирович хотел заставить меня называть ее Екатериной Николаевной. Но результатом этого была только эпиграмма:
Забуду мать и перемать И буду жить культурно, славно И даже Катю называть Екатерина Николаевна.Впрочем, потом в перепечатку стихов было втянуто редакционное машбюро. Вероятно, это делалось для составления программы — ведь нельзя было все пустить на самотек. Наконец, пришло время печатать объявление. И тут возникла еще одна проблема. Борис Владимирович мне твердо объявил:
— Нужен псевдоним. Вы русский поэт, и нечего вам быть Манделем.
Должен сказать, что хотя до этого момента, я ни о каком псевдониме не думал, это предложение меня нисколько не оскорбило. По двум противоположным причинам.
Я был интернационалистом.
Я любил Россию.
Как это у меня увязывалось, я уже говорил по другим поводам, и проблема была не в этом. Она была в неожиданности: фамилий много, но как выбрать подходящую? Я решительно не был к этому готов.
— Ну, идите, подумайте, — сказал Хольцман. — Через полчаса приходите с псевдонимом. Газету из-за вас никто задерживать не будет.
И пошел я, то ли солнцем палимый, то ли снегом осыпаемый — сейчас уже не помню. Но на свое счастье встретил жившего тогда в тех местах Елизара Мальцева. На вопрос «Как дела?» я ему быстро рассказал о всех своих метаморфозах (отношения у нас всегда были доверительные) и поделился своей заботой. Дескать, выручай, Зорька! И Елизар выручил.
— Хочешь, — сказал он, — я тебе дам хорошую сибирскую фамилию, кряжистую — как раз для тебя?
Я, естественно, хотел.
— Коржавин, — отчеканил он.
И я принес в клюве Хольцману эту фамилию. Она была одобрена и появилась в объявлении. Так я стал Коржавиным. И никогда об этом не жалел.
Правда, после ссылки (после антикосмополитской кампании с раскрытием псевдонимов), начиная всерьез печататься, я предпринял попытку освободиться от псевдонима: я за ним не прятался и не хотел, чтобы это так воспринимали — но в тот момент мне не дали. А потом пошло, и он стал неотъемлемой частью меня.
Пикантность в другом. Уже в эмиграции из обычного, издававшегося не раз массовым тиражом в Москве словаря русских фамилий я узнал, что происходит выбранный мной псевдоним от слова «коржавый» или «каржавый», означающий «маленький», «плюгавый». Вот тебе и «сибирская, кряжистая, как раз для тебя»! Теперь Бенедикт Сарнов, когда особенно со мной не согласен, кричит: «Молчи, Плюгавин!» Но я не молчу, а своим псевдонимом, по-прежнему, доволен. Ибо фамилии вообще чаще производят впечатление звучанием, а не семантикой. И я вполне могу себе представить богатыря с фамилией не то что Коржавин, а просто Плюгавин, который от своей фамилии не страдает: звучание ее подходит, а в смысл ее редко кто вдумывается. Да и зачем?
Но это все о подготовке вечера. Она была бурной. Самого же вечера я почти не помню. Был некоторый ажиотаж, было много народу. Это был первый из серии таких вечеров. Но чьи были остальные, не помню, кроме вечера Галины Николаевой, тогда еще выступавшей как поэт. Стихи ее были эклектичны, хотя она уверяла, что не читала даже Ахматову. Я в это мало верил. Но поскольку Галина Николаева скоро перешла на прозу, то много об этом и не думал. Но полагаю, что так обвинение в несамостоятельности парировать не стоит. Такой ответ не означает, что данный автор самостоятелен, а только что он, не зная оригиналов, следует их эпигонам.
Мне кажется, что ко времени моего вечера я уже был определен на работу. Местом моей новой службы стала многотиражка авиамоторного завода, расположенного в Мейеровском проезде у метро «Сталинская» (теперь «Семеновская»). Газета имела локальное название «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!» (после Девятого мая «ВПЕРЕД»). Редактор ее Владимир Федорович Кравченко поддался на уговоры Хольцмана и взял меня. Не думаю, чтобы он об этом пожалел. Отношения у нас были самые теплые. Кроме него, в редакции работал еще один мужчина — Александр Соболев, в будущем автор текста известной песни «Бухенвальдский набат». Несмотря на свою фамилию, он по происхождению был чистокровный еврей. Причем он вовсе не старался скрыть происхождение. Просто фамилия Соболев была его «родовой» фамилией — фамилия его сестры была такая же. Случалось и не такое. Шолом-Алейхем вспоминает где-то о каком-то местечковом еврее по фамилии Иваненко, а уж того в мимикрии не заподозришь — он и русского языка не знал. Просто, когда евреям при Николае I давали фамилии, писарь, от которого это в значительной мере зависело, так записал его отца или деда. И что это все значило? А ничего!
Кроме редактора и Саши, в редакции работало еще несколько человек — все женщины. Относились все друг к другу и ко мне хорошо, атмосфера в редакции была дружной. Я и теперь вспоминаю ее с теплотой. Мне отвели место в общежитии, но я жил в редакции. В общежитии я даже и не прописался, за что скоро был наказан, опять потеряв непрописанный паспорт, который опять трудно было восстановить. К счастью, военный (точнее «белый») билет — «Свидетельство о негодности к военной службе» — я на этот раз не потерял. Впрочем, с окончанием войны он уступил свое сакральное значение паспорту. Но это было и уж точно сказалось потом.
Мне очень неловко перед людьми, с которыми я работал и которым я благодарен, но писать о своем пребывании в газете мне сегодня почти нечего. Я помню всех, кто со мной работал, хоть не всегда помню их имена, помню их теплоту и заботливость, но занимало меня тогда, в мои девятнадцать лет, другое. И другое это было связано не с редакционной работой. Ее и я, и все рассматривали как промежуточную остановку перед Литинститутом. Поэтому от нее у меня, кроме общего ощущения людей и благодарности к ним, осталось очень мало воспоминаний. Только то, что мы с Сашей вместе шлялись по всяким литературным сборищам. И что он вообще опекал меня как старший.
Как ни странно (по-видимому, по той же причине), не осталось у меня никаких воспоминаний и о самом заводе, хотя во всех других случаях, как видел читатель, заводская жизнь меня очень интересовала. Вероятно, этому способствовало еще и то, что здание завкома, в котором помещалась редакция, было расположено вне завода, прямо на Мееровском проезде, другими словами, на одной из улиц города, а городом этим вдобавок была Москва. Это четырех- или пятиэтажное здание из красного кирпича было первым по этой улице, если идти от метро. Дальше, до проходных, мне надо было весьма редко. Помню только, что завод был большой, больше симского, но никак не подлипковского. Помню, как на завод привезли немцев, и тетки их жалели: «Такие молодые. Тоже небось где-то отец-мать есть». Среди немцев были люди не только в форме цвета хаки, но и в коричневой — я тогда их считал эсэсовцами. Теперь сомневаюсь. У эсэсовцев форма вроде была черной, коричневой она была у СА, но, с другой стороны, у СА не было своих фронтовых формирований. Так что не знаю, кто они были.
Поражало, что эти «эсэсовцы» вели себя очень свободно, перемигивались с девушками. Кто-то говорил Войновичу: в мире есть много кающихся коммунистов, но кающихся нацистов — нет. Почему? Мне кажется, что это понятно, В том, что ты взял на себя устройство всеобщего счастья и не считался с «издержками», принял эгоизм за альтруизм, — раскаяться можно. Ты много взял на себя и вместо Добра принес зло. А в чем каяться, если ты просто оказался способен освятить национальный эгоизм и амбиции, отнести себя к высшей расе — то есть реализовал собственную низменность? Можно только обозлиться на весь мир, как пойманный зверь, сожалеть, что ошибся в расчетах, а это другое. Это не значит, что Германия не прошла через покаяние.
Но каялись в основном те, кто примкнул по малодушию, как максимум будучи захвачен волной, кто помалкивал или поддакивал, но лично делать зло не стремился, только не мог ничего изменить — таких было большинство и такие каялись. За себя и за других. Настоящим нацистам каяться было не в чем (разве в том, что сплоховали), как не в чем бывает каяться зверю. Его животность всегда на его стороне и сомнению не подлежит.
На заводе немцы не чувствовали себя во враждебном окружении. Однажды немецкий солдат, встретив меня где-то на безлюдье, украдкой (видимо, не разрешалось) попросил у меня табачку. К сожалению, у меня этого зелья не бывает, но если бы было, я б ему отсыпал. Помню, как два здоровых, в летах солдата ехали в трамвае на какую-то работу под началом пацана, старавшегося по этому случаю говорить командным басом. Сквозь этот бас все равно проступало добродушие. Это было комично. На самом деле и он к немцам, и немцы к нему относились вполне дружественно. Пацан их уважал за мастерство, а они в нем видели ребенка, каким он и был.
Все же отдельные воспоминания, связанные с редакцией, всплывают в моей памяти. Среди них шефская поездка нескольких работников редакции в Центральный госпиталь Красной (тогда уже Советской) Армии, организованная как-то по линии райкома — госпиталь, по-видимому, тоже относившийся к нашему, тогда Сталинскому, как и станция метро, району.
Как называется теперь этот район — не знаю, а станция называется «Семеновской». Так она и должна называться. И должна была бы даже в том случае, если бы Сталин был достоин чествования. Ибо название это — историческое. Здесь находилось село Семеновское, где некогда формировался один из тех самых двух «потешных» полков Петра, которые положили начало российской гвардии и вообще регулярной армии. Второй полк формировался неподалеку — в селе Преображенском — ближе к Сокольникам. Где-то между ними и находится этот госпиталь, построенный, по-видимому, тоже очень давно.
Ехали мы туда на трамвае солнечным весенним днем — по улицам, состоящим из одноэтажных домиков с садиками, а иногда и просто мимо садов — больших, окруженных высокими дощатыми заборами. Не знаю, что это были за сады, но дощатость придавала им партикулярность, домашность — в них не было номенклатурной государственно-бетонной глухоты кремлевских дач (которых я тогда еще и не видел). Это были нечто совершенно естественное — сады и заборы вокруг садов. И они цвели. А вокруг была Москва. Такой Москвы я не знал и не представлял — видел ее впервые. Впечатление, которое произвел на меня тогда этот угол Москвы, было настолько ярким, что оно легло в основу одной моей юношеской лирико-фантастической поэмы, которую я, впрочем, публиковать не собираюсь. Такой Москвы теперь уже нет. И я понимаю, что это естественно — город расширялся, нуждался в квартирах. Но все равно жалко. Очень жалко.
Госпиталь всеми своими корпусами тоже располагался если не среди сада, то среди парка — так или иначе, среди зелени. Все: и ограда, и корпуса, и парк — было старой постройки и разбивки. «Казенной» — могут сказать. Может быть, не знаю. Все познается в сравнении. Во всяком случае все это было гораздо «теплей», удобней и просторней, чем то, что строилось при нас. Ведь при нас все строилось с расчетом «только бы перебиться до…», а тогда — «чтоб стояло». Но об этом я еще не знал и не думал.
Представлял нас замполит госпиталя. В манерах его была некоторая осторожность и вкрадчивость, но не от скользкости натуры, а от сложности положения. Не помню, в каком чине он был — старшего лейтенанта, капитана или майора, но никак не выше, а на попечении его оказывались и генералы. Причем раненые или очень больные, следовательно, часто раздражительные, капризные, но при сознании своего ранга. И со всеми надо было ладить.
Представляли нас почему-то как писателей, хотя в то мундирное время не имели на это никакого права — официально писателями считались только члены Союза писателей. Большинство из пришедших на эту честь вообще не претендовало, но и мы с Сашей не объявляли себя писателями — это значило бы предварять мнение о себе. Но не вступать же в спор в госпитальной палате. И я просто читал стихи — в солдатских и офицерских палатах. Не помню, что читал, но помню лица слушателей. Нет, не в качестве ценителей — да и что я особенного мог им тогда читать, «не подводя газету»? В этом качестве в большинстве они были просто благодарны за внимание, некоторые рады дополнительному развлечению, и все — доброжелательны. Но я вдруг вспомнил лица — открытые прямые лица людей, выполнивших свой долг, лица победителей в войне против Зла, и мне стало больно. Я ведь смотрю из своего сегодня и знаю, как у них украдут победу. Даже не украдут — просто не выдадут, скажут, что уже получили и что она в возвращенном счастье продолжать начатое перед войной строительство коммунизма. И многих обманут, собьют с толку, соблазнят карьерой и «доверием», превратят в борцов против собственной победы. Как всегда, «Во имя!..»
Во имя чего? Если хорошо подумать, то во имя создания предпосылок для сталинского мирового господства, всему народу и им самим нужного, говоря по-польски, «як дирка в глове». Но тогда они знали, что фактически победили, и были уверены в том, что способны обеспечить своей стране благоденствие — ведь через такое прошли. И они, действительно, были бы на это способны, если бы знали, кто тому враг. Но знал это один лишь великий вождь, а он вовсе не стремился превратить это знание во всенародное достояние. Наоборот, принимал все меры, чтобы это не случилось… Потом людей с такими лицами я встречал в тюрьме и на этапах — сидели за то, что делились впечатлениями о заграничной жизни. Тов. Сталин учитывал (и по-моему, не к месту) историю декабризма и принимал меры, чтобы она не повторилась. В уже и без того обезглавленной им и его предшественниками стране.
Генералы и адмиралы лежали в индивидуальных палатах — так что им, если позволяло их медицинское состояние, я читал стихи персонально. Наибольшее впечатление произвел на меня старый, явно дореволюционной выпечки, неизлечимо больной адмирал. Людей такого уровня культуры и образованности — а это проявилось, как только он заговорил — я тогда еще не видел, да и потом встречал нечасто. Казалось бы, в чем душа держится, а она не только держалась, а жила полной жизнью, была переполнена духовной и интеллектуальной энергии, жаждала общения. Услышав, что перед ним писатели, он не стал вдумываться, кто именно — ему уже было не до того, — а, как говорится, завелся с пол-оборота и начал очень горячо и интересно излагать свои мысли, относящиеся к нашей области.
Сейчас его интересовала детективная литература. Вероятно, потому, что во время своей мучительной болезни он к ней часто «прикладывался» для отвлечения. Но не такой это был человек, чтобы, столкнувшись с каким-либо явлением, не начать его осмыслять. Вот он и спешил поделиться своими мыслями. Я тогда мало интересовался этой проблемой, но был потрясен силой и богатством его мысли. Он говорил о критериях подлинности этой литературы, о ее месте и значении. Он не просто говорил, он жил в этот момент полной жизнью. Но как раз это было ему строго-настрого запрещено врачами, и сопровождавший нас замполит вынужден был мягко, но настойчиво прекратить разговор. Адмирал был очень огорчен, пытался протестовать, но тщетно — за такие пиры духа, если они продолжались долго, неизбежно наступала тяжкая расплата, и замполит был неумолим. Мы, естественно, не протестовали, но тоже были огорчены. Прежде всего тем, что этот потрясающий и очень нужный нам всем человек обречен и что наша столь содержательная беседа, прерванная на самом интересном месте, уже ни при каких обстоятельствах не может быть возобновлена и продолжена.
Встреча эта, произведшая на меня такое впечатление, была более чем случайной. Ее могло не быть. А скольких и не было — родная власть красным террором и непрерывными чистками (и не в последнюю очередь тотальной клеветой) заранее позаботилась, чтобы они не могли состояться. Традицию прерывали и подменяли, но уж слишком мощна была русская культура. Достаточно было малейшего знака, чтобы в чьих-то задуренных мозгах постепенно начала восстанавливаться вся цепь. Не сразу. Приводило это к вещам, сегодня многим непонятным, но понять которые все же следует. Я ведь тогда не перестал еще числить себя представителем некой новой культуры, а то обаяние, в поле которого я оказался в этой адмиральской палате, было обаянием культуры старой. Точнее говоря, просто культуры.
В связи с работой в этой многотиражке не могу не рассказать и о своих поездках в Главлит. Мне придется обмануть чьи-то ожидания — ничего ни особо романтического, ни страшного в ни в этих поездках, ни в самом этом учреждении тогда не было. Нам требовалось «залитовать», т. е. получить разрешение на выпуск очередного номера газеты. Выбор часто падал на меня. Ибо другим надо было специально ехать в центр, а мне это всегда было по дороге. Ведь Главлит помещался на Новой площади рядом с «Молодой гвардией», куда я и так стремился, да и типография, куда надо было сдать «залитованный» экземпляр, была тоже в центре.
Поездки эти были вполне рутинные. Конечно, без разрешения Главлита типография не могла приступать к печатанию чего бы то ни было — хоть приглашений на торжественное собрание, но понимающе перемигиваться по этому поводу нет оснований. Учреждение это вовсе не было таким грозным. Согласно вывеске оно называлось «Главное управление по охране государственной и военной тайны в печати» (кажется, там стояло еще «и на радио», но точно не помню), и собственно этим оно и занималось. Сидели там в основном вполне мирные обыкновенные, озабоченные нелегким бытом женщины и сличали тексты со списком того, о чем было запрещено упоминать. За те несколько месяцев, которые я проработал в газете, я не припомню никаких особых наших недоразумений с цензурой.
Эти благостные строки не должны быть восприняты как намек на отсутствие в то время идеологической цензуры. Цензура эта была, и еще какая, но осуществлял ее каждый редактор на своем посту, с которого в случае недосмотра мог слететь прямо в тартары, а не специальный комитет. Как Хрущеву могло прийти в голову приспособить этих теток (или таких же мужиков) к цензуре идеологической — ума не приложу. Но цензура как орган — образование более либеральных времен.
Но и наше посещение госпиталя, и мои походы в Главлит — детали. Заполняло мою жизнь то, что я описал выше, «Молодая гвардия», например. И еще страдания — в основном от неразделенной любви. Но с моей должностью в газете это почти не связано.
Именно тогда я как-то очень по-детски влюбился в только что появившуюся на литобъединениях и в Литинституте Юлию Друнину. Появилась она после демобилизации по ранению, для меня — прямо с фронта, и я влюбился. Именно по-детски, романтически — в ее чистоту, в ее подлинность. Влюбился без взаимности и без особой потребности в ней. Она любила моего друга Колю Старшинова, раненного, как и она, на фронте, и вскоре вышла за него замуж. Все эти обстоятельства нисколько не расстроили моих отношений ни с ним, ни с ней. Мы дружили.
Впрочем, романы у меня бывали не только такие идеальные. Возраст и страсть требовали своего. Был у меня роман тяжкий, беспросветный, мучительный. Были и такие, где ничего не было, но вспоминать все равно стыдно. Особенно стыдно мне вспоминать одну хорошую девушку, которой очень нравились мои стихи, которую вроде ко мне тянуло, как и меня к ней. Но когда мы стали с ней целоваться, естественно, потребовала признания в любви. А поскольку я в этом соврать не мог, она, естественно, оскорбилась и спросила, как же я так себя веду при таких-то стихах. Я растерялся и стал что-то бормотать насчет того, что, дескать, одно дело стихи, другое…
Так что ж стихи — только актерство? — спросила она. И я, ошалев от собственной подлости, подтвердил это. Она была поражена.
А ведь это была неправда. Никогда мои стихи не были актерством. Отказавшись солгать подло, я оболгал себя с ног до головы. Просто легкие романы никогда не были для меня легки. И объекты находились неподходящие, и вообще получался уж какой-то совсем несусветный срам.
А ведь тогда не только человеческое несовершенство — дух времени требовал таких романов. Тогдашнее представление о мужестве, ложное, как и все это время, того требовало. А ведь совсем недавно этого не было. И я вроде это помнил. Потом забыл, показалось, что это моя аберрация. Но оправданий нет. При любом духе времени надо все равно всегда оставаться самим собой. Каждому свое.
Разумеется, из этого не следует, что я был рожден для романов исключительно платонических. Но к Юле я относился именно так. Мне нравились и ее стихи. Вообще мне часто случалось тогда влюбляться в девушек, пишущих стихи, но их стихи, как говорится, шли по другому департаменту. Мне и тогда вовсе не надо было, чтобы моя любимая была еще и настоящим поэтом. Стихи их в лучшем случае были мне интересны только как проявление их женственности и у меня никогда не было потребности их переоценивать. Между тем нравившиеся мне тогда Юлькины стихи не разонравились мне и теперь — это не было связано с моей влюбленностью.
А влюбленность моя была связана все с той же романтикой моей юности, с романтикой «той единственной, Гражданской», в частности, с пресловутым романтическим образом «девушки в кожанке» и пр., и пр. Кожанки не было, была строго пригнанная и хорошо сидевшая на ней шинель, но что это меняло? Цену этой романтики сегодня, задним числом, все знают, тогда не знал почти никто, и я в том числе, от романтики этой давно ничего не осталось, но и в сегодняшней памяти остается неизменным — Юля была прекрасна. Хотя не только воспитывалась на той же романтике, но как бы оказалась наиболее полным ее воплощением.
Как это ни странно, именно она соответствовала «образу положительного героя наших дней». Всеми правдами и неправдами пошла на фронт, была санинструктором, по рассказам очевидцев, вела себя там героически, всегда лезла в самое пекло. И всегда была чиста. Ей некоторые ставят в вину выступление на «антикосмополитском» комсомольском собрании в Литинституте против П. Г. Антокольского в 1949-м. Это ей — пусть как то, о чем она потом глубоко сожалела — поминали даже во время последнего прощания в Центральном доме литераторов. Говорили люди, к ней относящиеся хорошо, но мне было неловко это слышать. И потому, что последнее прощание — не мероприятие для критики и самокритики. И потому, что не тем должна быть помянута ее жизнь.
Конечно, антикосмополитская кампания была грязной антисемитской кампанией. И в 1951 году, когда после ссылки я приехал на несколько дней в Москву, мне сразу же рассказали о Юлином «падении». Рассказывали люди, хорошо относившиеся к ее стихам, ее лично не знавшие и глубоко потрясенные тем, что, оказывается, и при таких стихах можно дойти до такого. Надо сказать, что я и до встречи с ней не очень поверил, что Юля до чего-то такого дошла. Все-таки я знал ее. Я позвонил им с Колей, был тут же приглашен к ним и оставлен ночевать (и, по-моему, ночевал у них еще раза два или три). Отмечаю я это специально, потому что находился я в Москве на полулегальном положении, и моя ночевка была чревата для хозяев, если не опасностями, то крупными неприятностями. Но этого для Юли с Колей как бы не существовало (как, к слову сказать, и для других моих друзей). Они не только не стремились от меня избавиться, но и сами предлагали приходить и ночевать. Это само о чем-то говорит.
Как я и предполагал, никакого «падения», никакого внезапного выявления низости не произошло. А сработала наша общая поведенческая неграмотность. Мы были порядочными людьми, но не были воспитаны на правилах порядочности. Юля полагала даже, что поступает принципиально. И уж, конечно, никакого отношения к антисемитизму она не имела. Просто она за что-то (за что, не помню) и до этого резко осуждала Антокольского, а тут представился случай это высказать публично. Что случай этот неподходящий, что нельзя «открыто» выступать против человека, когда его травят, да еще травят по причине его происхождения (впрочем, что такое у нас возможно, она не сразу уяснила), — она не знала: нас так не учили. Но ко времени нашей встречи она уже понимала — поняла на собственном горьком опыте. Тяжело ко всем нам возвращались нормальные ценности.
Мы и потом с ней встречались — не очень часто, но всегда дружески. Перестройку она приняла как возрождение. А когда дело застопорилось — не выдержала. Не выдержала жизненных неурядиц, которые иначе легко перенесла бы, и покончила с собой. Конечно, так поступать нельзя, но я ее не сужу. Даже понимаю. Она была положительным героем наших дней, цельным и чистым, при всей своей тонкости и сложности человеком, сделанным из одного куска. А «дни» таким воспитанным ими героям не соответствовали. Перестроечные — тоже.
Но когда мы встретились, этой антикосмополитской кампании никто не предвидел. И даже моего ареста — ведь я был, так сказать, прощен. Просто мы дружили, любили стихи, говорили о них. Впереди был только День Победы.
Этот день я помню несколько сумбурно, но, наверно, сумбурным он и был. Слухи о том, что акт о безоговорочной капитуляции уже подписан, будоражил Москву уже 8 мая. Мы не знали, в чем дело. Что война кончается, было ясно и без этого, но почему не сообщают, было непонятно. Только потом оказалось, что первоначально немцы капитулировали перед нашими западными союзниками (неужто думали этим обойтись?), но от них потребовали общего Акта о капитуляции. Откуда-то по секрету все знали, что об этом сообщат в два часа ночи. В эту ночь я гостил у ребят в Строителе. Устроили какое-то застолье и стали ждать. Все общежитие не спало. Ждали напряженно: скажут или не скажут. Наконец, в репродукторе раздался треск и знакомый голос: «Говорит Москва». Свершилось.
Сидели всю ночь. Утренней электричкой я прибыл в Москву, которая вся ходила ходуном. Дозвонился до Коли, встретились, ходили весь день. Больше всего радовала мысль, что больше наши ребята не будут гибнуть. Мы не знали, сколько их уже погибло, эта цифра и сегодня еще не ясна. Везде качали военных. Видел ли я в этот день Юльку, как он вообще закончился для меня — не помню.
На следующий день у нас в газете было совещание. Надо было менять название газеты. «Все для фронта» больше не годилось. Я предложил «Вперед» — приняли. Все были довольны. Настроение было торжественное. Все были счастливы.
А жизнь продолжалась, и общение мое расширялось. Подружился я со студенткой Литинститута Идой Фридлянд, дочерью репрессированного марксистского историка и сестрой будущего критика и религиозного писателя Феликса Светова (тогда он еще был школьником). Их мать тоже сидела, но к тому времени уже вернулась из лагеря.
В их доме у метро «Кировская» я встречал много поляков. Их семья какими-то родственными или дружескими нитями была связана с Польшей и с распущенной Сталиным (формально Коминтерном) польской компартией. Но как раз в те дни надо было создавать «Народную Польшу». Партию переименовали и восстановили в новом качестве. Польских коммунистов частично освобождали из лагерей и вместе с уцелевшими от «чисток» посылали в страну. По дороге некоторые из них останавливались в квартире Световых, у сестер их матери.
Как пишет в своих воспоминаниях Ф. Светов, я поражал и пугал этих поляков своими стихами. Уж им-то они были близки. Польская компартия, безусловно, тоже была преступна. Но тем не менее я до сих пор уверен в том, что она никогда не бывала похожа на нашу, сталинскую. И именно потому, что свой «37 год» она, так сказать, пережила в России и в Польше его не допустила. Это и спасло Польшу от сталинизации. Спас ее от этого Болеслав Берут, когда любыми средствами затягивал «следствие» над Гомулкой и не проводил процесса над ним. Да, Берут был сталинистом и чекистом — все правда, но процессов с бредовыми обвинениями в Польше не было. Значит, не было необходимости заставлять людей повторять бессмыслицу или хотя бы ей противостоять. И то, и другое чрезвычайно понижает духовный и интеллектуальный уровень общества. Но о поляках — к слову. Это просто еще один штрих того времени.
Ида Фридлянд свела меня со своими друзьями Рут Наглер и ее мужем Сережей Малецом. Отец Рут Григорий Львович был родом из Черновиц, когда-то относившихся к Австро-Венгрии, — потому и жил потом в Вене (пока не эмигрировал в СССР). Несмотря на то, что его загребли в ежовщину (при Берии выпустили), он оставался несокрушимым коммунистом, коминтерновцем и даже твердо верил в абсолютную правоту Сталина. Во всех вопросах, кроме одного, — человек еврейского происхождения, он никак не мог согласиться с положением «классического» сталинского труда «Марксизм и национальный вопрос», что евреи не нация. Когда разговор заходил на эту тему, он приходил в ярость и сопротивлялся, как лев. Конечно, в домашних условиях. Это не ирония — в иных говорить о какой-либо неправоте Сталина было физически невозможно. Потом он опять занимался коммунизмом в Австрии. Сначала с успехом — пока была в советская зона оккупации, а после заключения Государственного договора с Австрией — без оного.
Но подружился я, главным образом, с его дочерью и зятем. С последним я дружил практически до самой его смерти. Сережа был тогда следователем военной прокуратуры, но взгляды на нашу жизнь имел более чем трезвые. Мы подружились, и Малецы решили свозить меня к Паустовскому — тогдашняя жена которого была их приятельницей. Эту поездку я помню очень хорошо.
Константин Георгиевич Паустовский был тогда фигурой, значение которой переоценить трудно. И как человека, и как писателя. Позднейшее несколько ироническое отношение к нему несправедливо и недостойно. У него не было гигантской мощи Солженицына, но это не основание для иронии. А если бы эта мощь у него была — в те годы, когда он действовал, — то его бы не было самого. Но он был. И был, пожалуй, самым популярным писателем своего времени. Для многих он долгое время был единственным напоминанием, что мир все-таки не стал двухмерным, а, по-прежнему, трехмерен. Я думаю, что, когда уляжется пыль, не все, но многое из написанного им окажется уцелевшим и воскресшим.
Константин Георгиевич жил тогда в Переделкине, на даче Федина. Поехали мы к нему воскресным летним утром на пригородном поезде, состоящем из паровоза и небольших («дачных») зеленых вагончиков — электрички тогда ходили только по Казанской и Ярославской дорогам. Приняты мы были хорошо — сначала его женой, а потом и им самим. Между делом зашел разговор обо мне. Рут сказала, что я пишу хорошие стихи. Услышав это ничего хорошего не предвещавшее вступление, Константин Георгиевич заранее попытался уйти в глухую оборону.
— Я не люблю слушать стихи.
Но Рут мягко настаивала. Дескать, увидите, не пожалеете. В конце концов Паустовский сдался:
— Ну ладно, одно стихотворение я еще могу выдержать.
Я вовсе тогда не был слишком скромного мнения о себе, но почувствовал, что чтение становится ответственным. Одним стихотворением я могу себя погубить или утвердить в глазах человека, чьим мнением дорожу. И я пошел ва-банк — прочел «Стихи о детстве и о романтике» — практически об отрочестве и ежовщине — и победил. Паустовский несколько смутился, крякнул, сказал:
— Читайте еще…
Потом добавил что-то насчет причин своей осторожности — сводилось к тому, что одолевают стихотворцы и стремятся отнять у него время тем, что ему совсем неинтересно. Читал я тогда много. Он расспросил меня о моих делах и, узнав, что я должен поступать в Литинститут, вызвался мне помочь и написал письмо уже ставшему тогда директором Ф. В. Гладкову, в котором рекомендовал меня с наилучшей стороны. Мне это было приятно, но после всего, что со мной было, я считал это излишним — события показали, что я, видимо, ошибался.
Письмо я передал. Но, стоя за дверью, я подслушал разговор на приемной комиссии. Докладывавший рассказал всю мою историю и предложил принять меня на… заочное отделение. Фамилию этого человека я помню, но не назову, ибо сегодня не сужу людей за то, что они боялись — было чего. Но в тот момент я его ненавидел. Я был совершенно обескуражен. Все мои планы опять рушились. Я не получал ни общежития, ни легализации положения — должен был надолго остаться в газете. Но так не случилось.
— А почему на заочное? — спросил Гладков. — Вы ведь говорите, что он талантлив.
— Да, но с ним трудно, — ответил докладывавший.
— С талантливыми всегда трудно, — возразил Гладков. — Что ж нам одних бездарей принимать, чтоб нам легче было?
И я был принят.
Я бы не хотел, чтобы такое поведение Ф. В. Гладкова объясняли только письмом Паустовского. Нет, оно отвечало собственной натуре Федора Васильевича. Письмо могло только обратить на меня его внимание, но не более того. Человек он был более чем самостоятельный. И если бы слова, что он талантлив, но его при этом почему-то следует принять на заочное, были сказаны про любого другого, не имеющего никакого письма, реакция его была бы такой же. Федор Васильевич Гладков ни в какой мере не был флюгером. Доходило это и до смешного.
Например, появившись в Литинституте, он с ходу велел снять портреты Горького и Маяковского. Дело не в том, было ли справедливо его отношение к этим писателям. Но их имена венчали собой государственный литературный Олимп, и директору советского писательского института приказать снять их портреты было то же, что вновь назначенному секретарю райкома велеть снять портреты Маркса и Ленина, почти Сталина. Насилу его урезонили. Основания для таких репрессий были для нас смешны. Маяковского он хотел им подвергнуть потому, что не терпел его творчества, а Горького потому, что основателем соцреализма считал не его, а себя (как автора «Цемента»). Что ж, у двадцатых годов был свой дурман и свои счеты. Он отличался не тем, что они в нем были, а тем, что сохранил их в первоначальной ярости. Он как был членом литературной группы «Кузница», так и остался им.
Придя в институт, он привел их с собой — С. Обрадовича, В. Казина. Про Обрадовича ничего не могу сказать — не читал и не был знаком, — а Василий Васильевич Казин при всей своей скромности был крупным литературным деятелем. Причем в разные периоды советской истории он оставался доброжелательным и порядочным человеком. Вообще среди «кузнецов», может быть, не было особо крупных дарований, но они были порядочны и верны чему-то своему — может быть, мнимому, но для них важному. Что же касается самого Гладкова, то «Цемента», я правду сказать, не читал, но вот его автобиографические повести на меня впечатление произвели, и я бы остерегся говорить о даровании их автора как о малом. Но написаны они были уже потом — когда я давно уже не был студентом, а он директором.
Но то, что он писатель, чувствовалось и тогда. Повел он себя круто не только со священными портретами. Он перевел в пединститут довольно большое количество студентов с формулировкой «ввиду несоответствия творческих способностей уточненному профилю института». Некоторых, как всегда бывает, перевел сгоряча, незаслуженно, но таких быстро восстановил — его можно было убедить. Некоторые не стали восстанавливаться, но стали литераторами. Но в принципе Литинститут действительно стал более творческим. Хотя вовсе не элитарным. Все это произошло до того, как я был принят, в предшествующий учебный год.
Но эту свою линию он вел и при мне. Принимал он только тех, кого считал достойным. Ничьи, даже самые высокопоставленные, звонки не производили никакого впечатления. О том, как безрезультатно приходил к нему несколько раз хлопотать за сына генерал высокого ранга Телегин, я расскажу потом. Впрочем, не только генералы, а и другие любящие родители часто, не слушая ничьих компетентных возражений, идут на любые материальные и моральные издержки, для того, чтобы без всяких оснований определить своих чад в писатели, музыканты, певцы и актеры. Другими словами, в несчастные люди. Я лучше понимаю Юрия Андропова, который был искренне благодарен Юрию Петровичу Любимову за то, что тот не принял кого-то из его детей в актеры.
Но я сейчас говорю о Федоре Васильевиче Гладкове. Я просто хочу сказать, что при всех своих причудливых взглядах, при всей внешней свирепости, доходящей до самодурства, он был не только добрым, но и честным и даже — что уж совсем редко тогда бывало — принципиальным человеком. И писателем. Заговорил я о нем в связи с тем, что он открыл мне дорогу в Литинститут. Но хочу отметить, что тогда я не только был ему благодарен, но он мне и просто понравился.
А дорогу он мне действительно открыл. Мои литературные занятия обрели некоторую необходимую в то мундирное время легитимность. Хотя моя литературная жизнь началась раньше. Да и весь период жизни, о котором идет речь в третьей части моей книги и перед которым я каждый раз сокрушенно останавливаюсь, начался еще до моего зачисления в институт.
И вот я впервые пришел в Литинститут не в качестве гостя своих товарищей, а как законный студент. Я впервые встретился со своими однокурсниками. А было их немного — человек пятнадцать, не больше. Как ни странно, все мои новые товарищи были мне незнакомы — среди них почти не было посетителей московских литобъединений. Разве что Володя Корнилов. И то я сегодня не убежден, что познакомился с ним не в Литинституте. Такое впечатление, что все ребята, кроме меня, Расула Гамзатова и Володи Корнилова (он годами не вышел), были демобилизованными солдатами и офицерами. Демобилизованными в основном по ранению, а не из-за окончания войны. И это неудивительно. Война закончилась только в середине мая, набор шел в последующие два летних месяца, широкая демобилизация еще просто не вошла в силу (тем более что предстояла еще война с Японией) и пока не могла сказаться на составе студентов.
Фронтовиками были Андрей Турков, Костя Левин, Максим Толмачев, Гриша Куренев (тогда Хейфец), Слава Костыря, Толя Злобин, Жора Друцкой, Игорь Кобзев, Максим Джежора (он же Калиновский). С последними двумя я сразу подружился. Потом, в середине года, вернувшись с фронта, на наш курс пришел мой бывший «сослуживец» (кавычки относятся не к нему, а ко мне) Володя Немец — в будущем известный критик Владимир Огнев. Из девушек фронтовичка у нас на курсе была одна Ольга Кожухова. Она была очень красивой девушкой — настолько, что красоту ее не портил даже явный и бросающийся в глаза дефект — укороченный с одной стороны рот.
Были у нас еще девушки. Две из них — с нашей тогдашней точки зрения, пигалицы — Инна Гофф и Рита Агашина, — обе тогда писали стихи (потом Инна перешла на прозу) и сразу подружились, хотя Инна была родом откуда-то с украинского Юга (кажется, из Харькова), а Рита — с русского Севера. И дружба их продолжалась всю жизнь, до самой Инниной смерти. Умерла она в начале девяностых, когда я был в Москве. Я пришел проститься с Инной в Центральный дом литераторов. К сожалению, мне это не очень удалось. Ее долго не привозили, а времени у меня было в обрез — согласно твердой дате обратного билета я в этот день должен был возвращаться в Бостон. Но речь не обо мне. Мы долго ждали у входа. Рядом со мной стояла Рита, теперь уже совсем не пигалица, немолодая женщина с по-прежнему добрым лицом, в платке, и, всхлипывая, говорила:
— Теперь, после Инны, моей жизни наполовину уже нет.
Надеюсь, что это не так. Но дружбу они пронесли через всю жизнь.
Кроме них, с нами еще училась Лариса Левчик, которая потом стала женой Василия Федорова и известна как очеркист и прозаик Лариса Федорова — с ней мы тоже быстро подружились. И еще милая, симпатичная, женственная Нина Долгополова. Училась она хорошо, но неизвестно (мне), что писала. Потом она стала женой Максима Толмачева.
Чуть не забыл упомянуть о еще двух студентах — оба уже были намного старше большинства из нас — Юрии Грачевском и некоем Гурвиче. Как мог этот Гурвич попасть в Литинститут, я и теперь не понимаю. Можно было бы заподозрить самое худшее, но по своему культурному уровню в литинститутские стукачи он не годился. С ним никому бы не пришло в голову не только откровенничать, но и просто разговаривать о чем-либо серьезном — далеко не все «гурвичи» интеллигенты. Прожил он на нашем курсе чуть больше семестра, кое-как сдал экзамены, но камнем преткновения стало для него «Введение в языкознание».
Этот предмет читал у нас А. А. Реформатский, который был блестящим человеком, ученым и лектором, но имел одну слабость, на мой взгляд, вполне простительную, — не выносил дураков. Гурвич безуспешно сдавал ему этот предмет бесчисленное количество раз. Но когда в некий «надцатый» раз, отвечая на очень простой «трепологический» вопрос, вместо «права наций на самоопределение» произнес «право наций на самообразование», терпение Реформатского кончилось. Он не только не принял у Гурвича экзамена, но объявил: «Ставлю вам двойку и впредь экзаменовать вас больше не буду!» Гурвичу пришлось уйти из института. Но как он туда попал и зачем он ему был нужен при таком развитии — для меня тайна.
Юрий Грачевский был штучкой совсем иной. Уж его-то появление в Литинституте ни у кого удивлений вызвать не могло. Правда, он был старше большинства из нас. Но в писатели вообще не всегда идут прямо после школы, и, кроме того, после войны возраст студентов повсюду был неопределенным — некоторые и по шесть лет служили. Я знаю, что Грачевский был драматургом, но никогда ничего из написанного им не читал, (только в одной публикации эмигрантского автора нашел его юношеские стихи), но человек он был явно литературный, и это чувствовалось. Но был он и стукачом. Теперь это неопровержимо доказано несколькими людьми, пришедшими к этому выводу независимо друг от друга и даже не всегда друг с другом знакомыми. Среди них и я. Понял я это отнюдь не сразу. В институте я этого не знал и не подозревал, но во время своего следствия заподозрил. В Караганде, где я жил после ссылки, подозрение превратилось в уверенность, которая проверкой, проведенной мной по возвращении в Москву, вполне подтвердилась. И вскоре — не только моим опытом…
Однажды между делом следователь спросил меня:
— Наум, а у тебя есть какое-то стихотворение о женщине.
Я удивился: о женщинах у меня было тогда много стихов (намного больше, чем я теперь печатаю).
— Да нет, — уточнил следователь. — О женщине комиссаре…
Оно было в моих бумагах, но я прочел его. Следователь с удивлением воззрился на меня. Он тоже не знал светской хроники двадцатилетней давности. Кстати, имя Рейснер хоть тогда не рекламировалось, никогда не было внесено в список запрещенных имен. О давней прогулке по Тверскому бульвару я вспомнил только после допроса, по дороге в камеру — тогда я впервые всерьез заподозрил Грачевского в стукачестве. Кроме него, никто (в том числе следователь и я) не знал, что это стихотворение крамольно, и не стал бы на него доносить. Тем более что это имя поминалось только в заглавии, да и то лишь поначалу. Потом оно называлось «Баллада о комиссаре Балтфлота».
Окончательно утвердился я в своих подозрениях во время случайного разговора в Караганде, где я жил после ссылки. Мой тамошний товарищ, бывший журналист, как многие, сосланный туда после отбытия лагерного срока, рассказывая о каком-то лагерном событии, вдруг упомянул среди его участников и Юру Грачевского.
— Так что, — вскричал я, — Юра Грачевский сидел?
— Да. Вместе со мной. А что? — не понял моего волнения собеседник.
— Значит, он стукач, — сказал я и рассказал о своих подозрениях. Дело в том, что жить легально под своим именем в Москве в 1947 году удавалось иногда только людям малозаметным, затаившимся где-то в тени, в невидных местах, и то до того, как стали хватать «повторников». Но жить и учиться в столичном институте, да еще таком заметном, как Литинститут, отбывшему срок — врагу народа — без поддержки «органов» было тогда невозможно. Его изыскания насчет любовницы Радека (а может, и Троцкого) обретают смысл и объяснение.
После амнистии, когда в конце 1954 года я приехал в Москву, я однажды попал на праздничную встречу своих однокурсников (институт они окончили в 1950 году). Ребята были рады мне, я им — все было хорошо и сердечно. Пришел и Грачевский с женой Леной, моей давней знакомой, к которой я всегда относился и отношусь хорошо. Но она — это она, а он — это он. И тут я — каюсь — начал раскидывать свои сети. Он, конечно, не мог знать, что именно мне известно. И, кроме того, по-видимому повторяя ошибку многих, считал меня наивным человеком. Не знаю, откуда это бралось. Конечно, и мне приходилось ошибаться в людях, но не так уж часто. И сел я вовсе не потому, что кому-то неосмотрительно доверился. И уж совсем я не мог быть наивным, когда знал, в чем дело. Но тут я — каюсь — немного играл наивного.
Интерес к потустороннему — застеночному, лагерному, ссылочному — миру был тогда в обществе очень велик, от меня ждали рассказов. И я рассказывал — о себе и о других. В частности о лагере, где я, слава Богу, как все знали, не сидел, но где провели существенную часть жизни все, кто меня окружал в ссылке. Так что рассказов о лагерной жизни я тогда наслушался вдосталь и рассказать о ней мог немало. Но в процессе рассказа я применял маленькую хитрость — невзначай ссылался на Грачевского как на «понимающего человека» — свидетеля и очевидца. Дескать, помнишь, Юра, как на разводе бывает в пять утра? Но делал я это довольно невинно — посторонние не обратили внимания. Да и сам Грачевский не увидел тут подвоха. Ибо потом отвел меня в сторону и попросил:
— Знаешь, Эма, лучше не говори здесь о том, что я был в лагере… Зачем? Ребята не знают, и пусть не знают.
Я кивнул в знак понимания и, не спросив, почему это его так обеспокоило, прекратил эту игру. Вопрос для себя я вполне выяснил, а заниматься травлей меня никогда не тянуло.
Просьба эта не оставляла сомнений. Не такое тогда было время, чтобы скрывать свою «отсидку». Реабилитация, правда, еще не началась, но Рубикон был уже перейден — впервые под амнистию попали и политические. Правда, со сроками до пяти лет, но политические. И тут же в лагерях начали работать специальные комиссии по пересмотру дел, и людей выпускали пачками, подгоняя их сроки под амнистируемые пять. В Москве появились — и в заметном количестве — первые амнистированные «политики». Они были в большой чести и моде, вызывали всеобщий интерес и симпатию. И скрывать свою репрессированность — тем более в интеллигентской среде — ни у кого не было никаких резонов. Скорее стремились выпятить все, отдаленно имеющее отношение к ней. Так что стремление Грачевского скрыть от ребят, что и он «сиделец», говоря языком тогдашних следственных протоколов, «полностью его изобличало».
Через несколько дней после этой встречи мы шли с Борисом Слуцким по Тверской и на пересечении с Тверским бульваром встретили Грачевского. Когда тот распрощался с нами, я сказал Слуцкому:
— Знаешь, Боря, по-моему, этот человек — стукач. Может быть, для суда моих доказательств недостаточно, но я абсолютно уверен, что это так.
После этого я рассказал ему все, описанное выше.
— Это не доказательства, — отмахнулся Слуцкий. Хотя, честно говоря, я не понял (и до сих пор не понимаю) почему. Но еще через несколько дней вернулся из лагеря Марлен Кораллов, прямо посаженный Грачевским, и все гадательное стало явным. Прибыл он с благородной целью публично набить Грачевскому морду. Этой задачи он (что делает ему честь) в жизнь не воплотил, хотя комплекция его это позволяла, но факт стал общеизвестным. Теперь с ним согласился и Слуцкий.
Честно говоря, мне это было обидно. Мои факты говорили сами за себя. Правда, о том, что Грачевский сидел, Слуцкому, как человеку другого возраста, было известно и без меня. Но ведь это не объясняло, почему тот стремился это скрыть от тех, кто этого не знал. И того, что он имел возможность жить в Москве в 1947 году и учиться в Литинституте. Не говоря уже об истории с Ларисой Рейснер. Отмахиваться от всего этого было не больше оснований, чем от свидетельств Кораллова. Впрочем, его он прямо посадил, а меня? Конечно, не исключено, что его донос на стихотворение о Рейснер оказался топором, из которого, как в сказке, начали варить кашу, а потом выбросили за ненадобностью. Но этого я не знаю и никогда не узнаю. В моем деле прямого участия Грачевского не ощущалось — стихотворение это мне никогда не инкриминировалось. Но дело ведь не во мне, а в нем.
Как я уже говорил, в эмиграции я получил еще одно подтверждение стукачества Грачевского. В журнале, тогда еще израильском, «Время и мы» был напечатан психологический очерк эмигрировавшего в Израиль физика Кагана, человека, кстати, очень разумного, образованного и достоверного. Из этого очерка я узнал, что Грачевский посадил и Кагана. Но и без этих подтверждений все было ясно.
Чем же объяснить это неоправданное недоверие ко мне? Легкомысленным представлением о якобы моей наивной горячности? Но ведь я ее в таких делах никогда не проявлял. Никакой безответственной болтовней по этой части себя не скомпрометировал. Мне всегда было близко утверждение бывалого зэка, переводчика с французского Михаила Кудинова, что обвинение в стукачестве слишком серьезно, чтобы им легкомысленно разбрасываться, ибо сказать о нестукаче, что он стукач, все равно что самому сделаться «стукачом». Именно поэтому в этих мемуарах это единственное разоблачение такого рода. Так было и в жизни.
Впрочем, однажды я еще раз сказал такое о человеке. Причем даже о незнакомом и с чужих слов — кстати, в том же 1955 году. Это был Сергей Хмельницкий. Но это другой случай. Я просто сразу поверил рассказавшему мне это Валентину Берестову, которого самого таскали на допрос по делу студентов истфака МГУ, где он учился. А о нем я знал, что он человек не только порядочный, не любящий говорить о людях гадости, но и что чужд всякой революционной романтики и страсти разоблачать злодеев. И что поэтому раз он такое про кого-то говорит, значит, он это знает, и это правда. Как известно, справедливость его слов «блестяще» подтвердилась на процессе Синявского — Даниэля. Больше я ни о ком такого не говорил и не писал.
Не знаю, что толкнуло Грачевского на эту стезю, у стукачей в те страшные времена бывали свои трагедии, но все равно это «бережение на чужой крови» (А. Солженицын) — выход подлый. Ведь у него это было не мгновенное малодушие, а многолетняя хладнокровная деятельность. Кстати, в моем случае он не доносил даже, а просто клеветал. Он прекрасно знал и понимал, что стихи мои не о жене Раскольникова и не о любовнице Радека (или Троцкого), а просто о революционной амазонке из моей детской романтической мечты.
Не знаю, мог ли бы я противостоять гэбистскому давлению, бессовестному и беспредельному — от малодушия в подобных обстоятельствах никто гарантирован не был, — особенно при таком парализующем всякое противостояние мировоззрении, какое было тогда у меня. Но знаю, что долго безболезненно вести жизнь подлеца я бы не мог — это бы меня раздавило. Тем более сохраняя при этом монументальную солидность. В Грачевском меня именно это больше всего и поражало — что он вполне это мог. Даже в разговоре со мной, когда он просил меня молчать о том, что сидел в лагере — неужели он думал, что я не понимаю, почему это может тревожить? — сквозила эта солидность, это сознание, если не своей правоты, то права на все, что ему удобно и помогает сохранять эту солидность. И греховности, некрасоты, незаконности всего, что на это посягает. И с этих недоступных мне высот он не только ненавидел, но и чуть ли не презирал Марлена Кораллова за это разоблачение. Это качество, это несокрушимое самоуважение я часто встречал у людей поведения не очень достойного. И самое странное, что они в этом были искренни.
Но это отступление. Когда повествование дойдет до ареста, будет не до Грачевского. Вот я и отвлекся для этой истории. Отвлекся от рассказа о своем курсе, о его составе. Тут я могу быть и неточным. Кто-то (например, В. Огнев) появился среди нас потом, кто-то ушел. А кого-то я, возможно, за давностью лет перевел на наш курс (или с нашего курса на другой) самовольно. Это вполне возможно, ибо вообще в нашей alma mater мы не жили курсами — жили всем институтом, благо был он невелик. Его семинарами, его кулуарами, его открывшимся через несколько дней или недель в подвале знаменитым (то есть описанным неоднократно) общежитием. А ведь я еще вдобавок почти со всеми старшекурсниками был знаком, а с некоторыми и дружен задолго до зачисления в студенты.
Описывать институтские и даже общежитские будни я не берусь — больно их много было, да и тянет вспоминать только забавное. Например, у нас в общежитии «под руководством» рязанского поэта Анатолия Левушкина работала ерническая кафедра матерщины и порнографии, где в звании «ученого магистра» состоял и я — что это значит, никто из нас не знал, но звучало. Остальные состояли в ней без званий. Но тоже некоторое время активно работали — изгалялись перед сном. Но потом это всем надоело.
Или вот такой смешной эпизод. Я лежу в своей постели, о чем-то думаю. Вполуха и вполне безучастно слышу, как Александр Лацис, тоже перед окончанием института год живший в общежитии, стоя, рассказывает товарищам о пользе какого-то препарата, приготовленного из телячьих мозгов, для укрепления нервной системы и улучшения умственной деятельности. Я это слышу, но пропускаю мимо ушей. Но когда Саша быстро проглатывает таблетку этого препарата и запивает ее водой, реагирую именно на это — на прием лекарства. И спрашиваю очень дружески и участливо, без всякой задней мысли или намерения сострить:
— Ну как, Саша? Помогло?
Он сначала в недоумении смотрит на меня выпученными глазами, а потом, наткнувшись на мой сочувствующий взгляд, вдруг начинает дико хохотать. И только тут до меня доходит смысл ситуации и моих собственных слов.
Я жил в этом общежитии два с половиной года — с момента его открытия до ночи моего ареста. Если читатель ждет изложения каких-либо идеологических баталий, то он разочаруется. Их не было. Ведь в те времена я отнюдь не ощущал себя чуждым господствующей идеологии. Только пытался найти в муляже, в который она выродилась, живой смысл, а в этом все нуждались. Больше спорили мы о поэзии, но отнюдь не обязательно в общежитии — чаще на подоконнике в холле бельэтажа. Конечно, за три года население общежития менялось, окончившие курс уходили, приходили новые. Отношения у общежитейцев с москвичами были свойскими. Что имело и отрицательные следствия.
Однажды, заболев, я лежал в своей кровати, а все опоздавшие громко хлопая дверью, заявлялись в общежитие, входили в комнату, что-то спрашивали, а потом так же хлопали дверью, уходя. Все это каждый раз больно сотрясало все мое существо. Но что я мог делать? В довершение ввалилась ватага студентов, расселась на близлежащих кроватях, и один из них стал громко и с выражением читать товарищам свой рассказ, а затем все начали интересно и страстно его обсуждать. Каждое слово ударом молота отдавалось у меня в голове. Но никакие увещевания не помогали, все чувствовали себя, как дома. Пришлось срочно выздороветь — переносить болезнь на ногах. И болезнь не вынесла такого невнимания к себе — потерпела, плюнула и ушла.
В общежитии происходили всякого рода забавные и незабавные случаи, связанные с борьбой за дисциплину и посещаемость лекций. Нарушителей дисциплины проще всего было отлавливать в общежитии — они были всегда под рукой. Их там и находили.
Секретарем партбюро был у нас начальник военной кафедры, полковник Львов-Иванов (Сашуня Парфенов, видимо, был его замом). Был он монументален, но не очень образован. Это иногда давало комический эффект. Потом, уже в ссылке, я где-то прочел, что он легендарный герой Гражданской войны в Сибири, чуть ли не командир знаменитого партизанского полка «Красных орлов». Партизанская война в Сибири — дело не только страшное, но и сложное, и останется за пределами этой книги.
Сам Львов-Иванов о своих заслугах особо не распространялся — возможно, из осторожности (всегда от этого могла потянуться ниточка и затянуть), возможно, из скромности, возможно, по обеим причинам. У меня есть основания думать, что человеком он был неплохим. Но в качестве духовного руководителя такого учреждения (а считалось, что партбюро отвечает за идейность кадров) нелеп. Тем более в такое бурное время, когда партия властно вторглась в эстетику и творчество. Он и сам это понимал.
— Василь Семеныч! — просил он нашего умного, доброго и ироничного директора В. С. Сидорина, от которого, собственно, я и узнал об этом разговоре. — Василь Семеныч! Ты б хоть рассказал мне что-нибудь об этом проклятом Декадансе. Ну хоть, когда он родился и когда помер… А то неудобно получается… Все говорят: «Декаданс-Декаданс», а я, секретарь партбюро, и не знаю…
Думал ли он, махая шашкой впереди своих красных орлов, что на старости лет ему предстоит еще вести борьбу и с каким-то недобитым Декадансом? Умела Система превращать живых людей в бессмысленных попок!
Так вот — этот Львов-Иванов однажды после начала занятий заглянул к нам в общежитие и обнаружил меня в постели. В женском общежитии кто-то тоже манкировал занятиями. Вот что произошло в реальности. А вот как это, на радость коллективу, выглядело в его изложении на собрании:
— Товарищи! Что ж это творится у нас с дисциплиной? Давно прозвенел звонок, все должны быть на занятиях… А на деле? Захожу в мужское общежитие — там Мандель без штанов! Захожу в женское общежитие — та же картина!
Гомерический хохот, сопровождавший эти слова, оратор расценил как реакцию здорового коллектива на поведение незадачливых нарушителей дисциплины. И смеялся вместе со всеми. Об всем этом мне рассказали, давясь от хохота, ребята тут же в перерыве ввалившиеся в общежитие. Собрание было закрытым, партийно-комсомольским, и я не имел права на нем присутствовать, поскольку опять был вне рядов. Не по идейным причинам. Просто, когда у меня по приезде в Москву украли все документы, был украден и мой комсомольский билет — раньше, чем я успел встать на учет. Вот я и повис. Правда, и репутация моя, несмотря на мой оголтелый сталинизм (отчасти и благодаря ему), была такова, что не ускоряла решения о моем членстве. Приняли меня заново только в конце второго или уже на третьем курсе, и опять невпопад — за несколько месяцев до ареста.
Еще какие-то забавные штришки. До определенного момента орденоносцы получали деньги за ордена и имели право на одну бесплатную поездку по железной дороге в год. Правило это было введено до войны, когда орденоносцев было сравнительно мало, и надо было их выделить. Во время войны количество орденоносцев быстро увеличивалось, но пока они сидели в окопах, а в тылу были только раненые, которых было сравнительно мало, это никого не беспокоило. Да и глупо было бы обесценивать ордена в тылу воюющей армии. После войны начали демобилизовываться, и количество получающих эти льготы сильно возросло. Это ложилось бременем на казну, не рассчитанную на то, чтобы платить долги своим подданным. А поскольку война кончилась, с фронтовиками можно было уже не церемониться. Вот и вышел указ, отменяющий все материальные льготы для орденоносцев. Причем делался вид, что указ издан, как тогда говорилось, «идя навстречу пожеланиям трудящихся» в ответ на многочисленные просьбы самих орденоносцев.
— В нашем общежитии, где основной контингент населения были фронтовики-орденоносцы, для которых по их студенческому положению эти деньги, а особенно билеты были существенным подспорьем, указ этот был принят, прямо скажем, без восторга. Особенно раздражала ссылка на желание самих орденоносцев. Помню, как в разгар разговора на эту тему — ораторствовал в тот момент Гриша Поженян — в комнате появился Максим Толмачев, которого Поженян звал почему-то Мосей и считал прижимистым. Максим, как и еще несколько наших ребят, родом из деревни или райцентра, получал из дому продовольственные посылки. Посылки эти были не ахти какие — состояли в основном из сушеной картошки, но и она казалась роскошью, ее готовили в котелках, она распространяла невероятный аромат. Особенно когда после неурожая 1946 года отменили все дополнительные продталоны и когда продовольственное положение в тех московских домах, где нас подкармливали, тоже соответственно ухудшилось. Настроение у нас было смутное. Помню, как мы сидели — я, Поженян и Бахнов, — думали, как жить, куда ни кинь, все выходил клин, но мы сами для себя выдвинули лозунг: «Не загибаться!» В это время из кухни — где-то у нас там еще была маленькая кухонька, но я этого так не узнал за ненадобностью — с котелком вернулся Толмачев, послушал наши разговоры и дружески подбодрил:
— Ни хрена, ребята! Переживем…
Поженяна это взорвало:
— Ишь ты, Мося! Переживем! Сидит, уминает котелок картошки и — «переживем!» Так каждый переживет.
Никакого антагонизма, никакой зависти по поводу котелков у нас не было. И в данном случае это больше было подтрунивание. Максим ухмылялся в котелок.
И уж совсем подтруниванием с использованием Поженяном же созданного образа была и филиппика по поводу указа об орденоносцах.
— А, Мося, — набросился на вошедшего Толмачева Гриша, — чего тебя не было так долго? Понимаю — ты, гад, бегал в Кремль просить, чтоб орденские деньги отменили? Зачем?
Толмачев опять ухмылялся. Уж кто-кто, а он бы бегать в Кремль без крайней нужды не стал. И отнюдь не из-за прижимистости. Насчет того, чем был тогда Кремль, он отдавал себе отчет лучше большинства из нас.
Так получилось, что по-настоящему мы с ним разговорились только незадолго до моего ареста. Он очень глубоко переживал то, что сделала революция с Россией. Но главное, за что я ему благодарен, не это. Этого я все равно тогда еще понять не мог. Он открыл мне Тютчева и некоторых других поэтов XIX века. Он уже тогда хорошо знал и глубоко чувствовал эту поэзию. Ведь до этого я жил только в советской поэзии и в том, что ей предшествовало, — в поэзии XX века, за ее пределами по-настоящему ощущал только Пушкина, а до этого — Лермонтова. И то, что он заразил меня любовью к Тютчеву, было очень важно. Особенно перед арестом. Не скажу, что сразу избавился от своей «идейности» (точнее, псевдоидейности), но все же стал восприимчивей и шире. Видел я его после ссылки, он работал в какой-то редакции, мне рассказывал о Твардовском. Но потом я его из виду потерял. Жаль.
Забавного о нашей общежитской жизни можно рассказать много, но книга моя о другом. Как уже говорилось, не только общежитием мы жили, все наши интересы были вне его. Да и самые близкие мои друзья по институту Максим (Калиновский) и Игорь Кобзев — в общежитии никогда не жили. И так почти у всех. Моя жизнь и жизнь многих из нас была отнюдь не только литинститутской, тем более — общежитской. Но, конечно, и такой тоже…
Не следует, конечно, забывать и о том, что, кроме всего прочего, Литинститут был еще и просто высшим учебным заведением, и в нем надо было учиться. Учились же мы, прямо скажем, по-разному. Одни очень хорошо, а другие, вроде нас с Максимом, рассматривали учебу как неприятное дополнение к возможности заниматься творчеством. А зря — там можно было получить солидное образование. Хотя академически мы учились по программе не университета (у нас не было классических языков), а пединститута (разумеется, без сугубо педагогических предметов), но состав преподавателей у нас был так блистателен, что это компенсировало все. Только лови момент — набирайся ума и знаний. Но юность нам советует лукаво… Впрочем, кое-что перепадало и мне, и доходило до меня как раз то, что было мне необходимо.
Началось это почти сразу. Был наш институт институтом Союза писателей, но относился он еще и к Главному управлению учебными заведениями (ГУУЗу) искусства в Министерстве высшего образования. Возглавлял этот ГУУЗ профессор Михаил Степанович Григорьев, читавший у нас предмет со странным для меня тогда названием «Введение в литературоведение». Я по тогдашней, неведомой еще мне темноте не понимал, зачем это нужно — само литературоведение и тем более введение в него. Есть литература, и этого достаточно. Впрочем, активного неприятия у меня при этом не было, было даже любопытно, какую лекцию прочтет такой важный начальник.
Но все полетело, как только Михаил Степанович появился и произнес первую свою фразу. Любопытство (о том, что он начальник, мы сразу забыли) тут же сменилось захватывающим интересом, а умствования о литературоведении — свободной и напряженной работой мысли. До сих пор помню, как к аудиторию вошел немолодой уже (но и не старый еще) спокойный, сдержанный человек, поздоровался, представился и, медленно расхаживая, стал излагать свои мысли. И первое, что мы от него услышали, было: «Функция искусства коммуникативная». Это было уже мыслью, предполагало в нас мысль, вводило в круг мыслей и мысль будило.
Фраза меня поразила сразу — своей глубиной, лапидарностью и точностью. Вроде я и сам думал об этом — о том, какая функция у искусства, другими словами, зачем оно. А следовательно, о том, чем оно является, что к нему относится, а что нет.
И не по степени умения (это проблема ученическая), а по степени обобщения — обобщенного чувствования и восприятия. Я понимал, что ни пропагандистской задачей, даже при условии искреннего согласия с ней, ни самим по себе неприятием советской фантасмагории не может исчерпываться суть, цель и просто содержание произведения. И даже воплощение самих по себе военных и любовных переживаний. Я знал, что за этим должно стоять еще нечто, некое причастие к вечности. Распространенное и сегодня представление, что оно достигается просто обращением к так называемым вечным темам, мне всегда казалось глупостью. Как мне уже здесь не раз приходилось напоминать, к «вечному» мы можем выйти только преодолевая «временное», а не минуя его.
Да, я об этом думал, но как-то кустарно, в какой-то доморощенной форме, шел на ощупь. А тут я услышал это в обобщенной форме. За одной фразой вставал гигантский круг мыслей. Оказывалось, об этом и до меня, и не только в связи с нашей сложной исторической ситуацией, размышляли серьезные люди.
И поскольку для многих этот круг вопросов как бы не существовал (заслонялся «профессиональными» или «идеологическими»), то эта фраза имела для меня особое значение. Она означала, что я не мучился дурью и беспокоился не зря. Потом профессор говорил об идеале, о проблеме, которая стоит перед автором и которую он рассматривает в связи с этим идеалом, и о прочих сущностных для литературы понятиях. Все это я впитывал, как губка. Я еще не знал, что все это называется «Эстетика», но был потрясен — я впервые столкнулся с культурой мысли. Почему предмет «эстетика» надо было называть «Введение в литературоведение», я никогда понять не мог.
Так что все началось с первой же фразы. Дело не в том, точна ли эта очень емкая формула. Она — часть общего представления о предмете, предмет нащупывающая. В эстетике вообще ведь дело не в формулах, а в круге мыслей и представлений. Впрочем, и формула не такая уж простая.
Конечно, кто-то может возразить, что функция искусства не исчерпывается коммуникативностью. Мол, средствами коммуникации называются чаще печать, радио и телевидение — и даже не только тогда, когда имеют дело с произведениями искусства. Так в том ли специфика искусства? Это недоразумение и путаница.
Коммуникативность произведения искусства в том, что разные люди, даже разные эпохи — через воплощенную в нем, как живое эмоциональное проявление, коллизию опыта во взаимоотношении с идеалом и мерой вещей — ощущают общность своей жизненной драмы и присущих человечеству духовных ценностей. А в этом общность людей, народов, эпох, человечества — культура. Произведение искусства превращает индивидуальное духовно-эмоциональное постижение и достижение одного в индивидуальное же духовно-эмоциональное постижение и достижение многих современников, а иногда и потомков.
Конечно, все это — формулировки более позднего времени, но после лекций Михаила Степановича Григорьева доморощенность моих мыслей об искусстве кончилась. Мысль обрела опору. Михаил Степанович читал у нас только один семестр, только «Введение», был всегда занят, но был внимателен и даже любезен, и вряд ли он меня запомнил, хотя мы с Максимом однажды подходили к нему, пытаясь завязать беседу. Но я, которому сейчас наверняка больше лет, чем было ему в 1945-м, до сих пор вспоминаю его с благодарностью. Через таких людей к нам перетекала культура.
Не думаю, чтобы другие наши профессора были менее значительны, чем он, но он рывком поднял мою мысль на более высокую ступень, а просто расширение и углубление знаний меня еще не интересовало. А жаль!
Преподавали у нас замечательные люди — А. А. Реформатский (языковедение), С. И. Радциг (античность), С. К. Шамбинаго (фольклор, древнерусская литература и XVIII век), Галицкий (зарубежная литература) — за ними каждое слово записывать надо было, а я, дурак, на их лекциях писал стихи.
По самонадеянности, приправленной революционностью (тогда уже архаической — что ж, тем более!), приобщение к вековой культуре человечества меня тогда не очень заботило. Эпоха, в которую я жил, казалась мне настолько напряженной, наполненной и интересной, что не до античности было. Это при том, что сами по себе эти профессора внушали мне величайшее уважение и почтение. Все же в чем-то я тогда и инфантилен еще был, наверное — с психологией школьника никак не мог расстаться.
Но учиться все же иногда приходилось. И кое-что я слышал — когда на лекциях отвлекался от своих стихов. Хотя античность и Средние века — литературу и историю — я мог бы знать и лучше, чем знаю. Да и древнерусскую литературу тоже.
Сергею Константиновичу Шамбинаго было уже лет под восемьдесят. Курсы свои он помнил наизусть и читал их ровным монотонным голосом, закрыв глаза и не очень обращая внимание на слушателей и на то, чем они заняты. А они — и не в последнюю очередь я — были заняты многим, не относящимся к делу. Накатанность лекций и монотонность изложения отнюдь не снижала их ценности. Они были изложены точным и ярким языком, были глубоки и содержательны. Временами, оторвавшись от «дела», я заинтересовывался тем, что он говорил, но «мое» влекло меня сильней, и я опять отвлекался от слушания. Отнюдь не по вине престарелого, но блестящего профессора. Все же его возраст сказывался. Лекции он помнил хорошо, но в повседневности уже кое-что и забывал.
Помню такой случай. Мы тогда уже были на третьем курсе. На стене в холле у нашей аудитории висело расписание. Обычно перед лекциями Сергей Константинович заглядывал в него, чтобы узнать, что и где ему сейчас надо читать — ему самому это было более или менее безразлично. Так было и на этот раз. Но вышел конфуз. Кто-то в учебной части случайно ошибся, и в расписании, в клеточке, относящейся к нам, вместо «литературы XVIII века» стояло «древнерусская литература», курс которой мы прослушали в прошлом году. И Сергей Константинович, войдя в аудиторию и усевшись за стол, начал читать нам вступительную лекцию к этому прошлогоднему курсу — ту же лекцию и теми же словами. Все наши попытки объяснить эту ошибку на него не действовали, он отвечал, что читает, как в расписании. В конце концов он рассердился на нас и разоблачительно объявив: «Я знаю, почему вы не хотите слушать — вы уже сдали!» (что было чистой правдой. — Н. К.), — ушел. Мы много смеялись.
А сейчас мне не до смеха. И вовсе не потому, что над старостью вообще смеяться грешно. Хотя, конечно, такие штрихи нас забавляли, но ни над ним, ни над его старостью смеяться мы не были расположены — ни явно, ни в душе. Относились к нему с почтением и сочувствием. Неприятно мне другое — что для нас было естественно положение, при котором, не получая пенсий — пенсиями реальными тогда-то ведь и не пахло, — люди в столь глубокой старости должны обязательно зарабатывать себе на хлеб. А работал он много — и у нас, и в ГИТИСе, и в других местах. Я не думаю, что он бросил бы преподавание и при пенсии, но не было бы такой зависимости от работы и меньше ее было бы. Слава Богу, он был столь заслуженный ученый, что был окружен культурными людьми, которые его ценили, и этим хоть отчасти была защищена его старость.
Но это было на третьем курсе. На первом же он читал фольклор. Установка же его по поводу наших взаимоотношений с фольклором (а судя по всему, и с другими его предметами) была проста: «Женщины знать фольклор неспособны, а мужчины не хотят». На этом основании никаких других отметок, кроме четверок и пятерок, он никому не ставил. Однажды после того, как на его экзамене бывший тогда у нас заместителем по учебной части Журко вытащил у Расула Гамзатова из стола тьму чужих конспектов, и тот, разъяренный, ушел, С. К., встретив нас с Сашуней (Александром Парфеновым, бывшим у нас секретарем партбюро и моим другом — о нем позже) в столовой клуба писателей, к которой были прикреплены наши студенты, и между делом во время разговора вдруг вспомнил:
— Да… Тут на меня этот… татарин… обиделся… Но я ведь не виноват… Что теперь делать?
— А вы назначьте день, С. К., — сказал Сашуня, — он придет к вам…
— Что, экзамен сдавать?
Сашуня кивнул.
— Не надо, — завертел головой профессор. — Вы лучше мне его зачетную книжку принесите, и дело с концом.
Между тем старик вовсе не был циником. Мне кажется, что такое его отношение к отметкам было следствием его застарелого общего отрицания советской современности. Профанацией было все, так стоило ли расстраивать людей плохими отметками? Тем более он всем предлагал полноценные знания: хотите — берите. О его отрицании всего советского тоже все почему-то знали, да он и не скрывал. Сходило за стариковское чудачество. Был он человеком старомосковским, арбатским. Почему-то несколько раз мы его провожали до Никитских, он рассказывал, что когда-то у него на Арбате был свой, как бы персональный извозчик, который всегда ко времени подавал ему пролетку к дому — ехать в университет. И к университету — ехать домой. Жизнь была налаженной.
Все же коррозия нашего времени боком задела и его. В честь его юбилея (это было еще «до меня») ему выхлопотали орден «Знак Почета» за выдающиеся заслуги в научной и научно-педагогической деятельности, и это признание со стороны напрочь им отрицаемой власти его необыкновенно обрадовало. Настолько, что года через два он в той же столовой опять подсел к нам с Сашуней и сообщил моему другу, что приближается шестидесятилетие его научной деятельности. Нельзя ли отметить? Сашуня слегка поперхнулся. Но сказал:
— Хорошо-хорошо… Я поговорю с Василием Семеновичем, мы выделим средства…
Но старика такой оборот дела не устраивал.
— Это вы насчет чего? Насчет этого? — и он изобразил пальцами некую эмблему выпивки. — Не надо!.. Мне — во!
И показал на лацкан пиджака — старик был, оказывается, не против получить еще один орден. От той же власти. Безусловно, он заслуживал и второго — если творческую работу оценивать орденами. Но от кого? Могу ответить — от власти, овладевшей ходом вещей. И это очень убедительно — даже если овладев, направляет его в пропасть. Кстати, отношения к власти Сергей Константинович из-за ордена вовсе не изменил.
Однажды после обеда я шел к выходу (тогда он был только на Поварскую) и, проходя через зал (где теперь столовая), вдруг услышал:
— Голубок, можно вас на минуту?
У стены возле лестницы, ведущей на второй этаж, на стуле, опершись на палку, отдыхал Сергей Константинович. Голубок — это было его обычное обращение к студенту. Однажды на экзамене, когда я нес абсолютную ахинею, он, сидевший как бы в некой полудреме, вдруг очнулся, сперва поднял на меня глаза, потом замахал руками и в отчаянии воззвал:
— Голубок!.. Что вы говорите!
Четверку, однако, поставил. Но не думаю, чтобы он меня запомнил — он нас не очень различал. Вот и сейчас:
— Присядьте, голубок.
Я уселся рядом с ним.
— Голубок, где я вам читаю — в ГИТИСе? — осведомился он.
— Нет, в Литературном.
— Ага. А кто у вас читает XIX век?
— Александр Леонидович Слонимский — первую треть.
— И как, хорошо?
— По-моему, хорошо.
— А я не читаю, — сообщил он, — я только до XVIII, а дальше — там, знаете, надо всякие слова говорить… А я их не знаю… Еще не те скажешь… И меня, старика, на старости лет еще — извините за выражение — в тюрьму посадят.
Надо сказать, что А. Л. Слонимский никаких таких «слов» не говорил — впрочем, в отношении первой трети века они почти и не требовались, ибо классики марксизма не осчастливили этот период русской литературы своим вниманием. Но старик не дифференцировал. Впрочем, он вполне точно объяснил, что имеет в виду:
— Вот, например, изволите видеть, при императоре Николае Павловиче — которого Лев Николаевич Толстой сперва назвал Пал-ки-ным, а потом в письме к государю-цесаревичу (тут речь его стала особенно отчетлива) от этого названия от-ка-зал-ся, — говорят, был застой. А при нем, изволите видеть, состоялись Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Григорович, начался Достоевской, Толстой и вообще вся русская литература. А теперь расцвет, и ничего нет. Только Алешка Толстой…
Надо сказать, что «Алешка Толстой» был навязчивой ненавистью С. К., эмблемой всего, что он терпеть не мог, его он поминал и во время лекций, и в частных разговорах. Причем дело было не в произведениях А. Н. Толстого («Я их не читал и читать не стану»), а в самой личности писателя.
В процессе этого разговора выяснилась первопричина этой ненависти, она была в непростительном хамстве колоритного прозаика.
— Однажды я читал во Всероссийском театральном обществе (профессор произносил по-старомосковски: «обще-стви») лекцию об Островском. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Алешка Толстой, пьяный, изволите видеть, подсаживается к сидевшей в первом ряду актрисе Малого театра Яблочкиной — есть такая — и говорит: «Этого старика нужно головой в нужник и спустить воду»… Ну что это за разговор!
Последняя фраза этого монолога может прозвучать и комично. Но ничего комичного в ней нет — просто растерянность перед хамством непривычного к нему человека. Раньше в интеллигентном обществе так себя не вели — ни либералы, ни консерваторы. Надо сказать, что хамство это ничем не спровоцировано. Профессор Шамбинаго никогда не читал лекций, могущих вызвать такую реакцию, да и не слушал ведь «Алешка» никакой лекции. Просто с пьяных глаз порядок раздражил, да и общее внимание не к нему, а к какому-то солидному профессору — в общем, матросскими комплексами заразился этот сомнительный представитель российской аристократии. До революции он бы все же сдержался, а тут, хотя вроде ощущал себя и объявлял хранителем именно русского, российского, традиционного начала, воспользовался общим падением нравов и разгулялся… Дух века вон куда зашел!
Александр Александрович Реформатский был полной противоположностью профессора Шамбинаго. Свой предмет легким он тоже никак не считал, но к снисходительности это его отнюдь не располагало. Нет, он вовсе не был жесток или мизантропичен. Наоборот, всегда был расположен к шутке, улыбке, к общению. Но у него был один пунктик, о котором уже шла речь: он не терпел дураков и невежд. Историю о том, как он изгнал некоего Гурвича, я уже рассказывал. Но это был крайний случай. Да ведь и глупость была проявлена крайняя. Обычно его нелюбовь к дуракам проявлялась в более умеренных формах.
По курсу «Введение в языкознание» учебника у нас не было. А может быть, были написанные учениками Н. Я. Марра, которые тогда еще, до того как Сталин их раскассировал, царили и которых Александр Александрович на дух не выносил. Написанный им учебник еще не был издан и раздавался нам в виде литографического оттиска, скромно называвшегося «конспект». Так вот, этим «конспектом» — единственным нашим учебным пособием он разрешал открыто пользоваться на экзамене. То есть можно было прийти, взять билет, открыть «конспект», переписать ответы на все вопросы билета и… получить любую отметку — от двойки до пятерки. Ибо просто декламировать ответ он никому не давал, а начинал «испытывать на понимание». «А если так?», «А вот если так?»…
Он с удовольствием рассказывал историю, приключившуюся с ним на экзамене года два назад, когда в Москве еще действовало военное положение. Экзамен затянулся до позднего вечера, все уже разошлись, оставалась только одна студентка, которая судорожно готовилась к ответу. Между тем неумолимо подходил комендантский час, надо было срочно отправляться домой, иначе было не успеть. Тогда Александр Александрович сказал девушке:
— Нам пора расходиться по домам. Возьмите с собой билет и приходите завтра.
Назавтра девушка по этому же билету получила двойку.
— Так что, — добавлял он, — если вы ничего знать не будете, вам ничто не поможет. А конспектами пользуйтесь. Мне все равно. Но учтите: администрация этого моего отношения не разделяет. Так что, если вас за этим застукает учебная часть, на меня не ссылайтесь — я буду изображать благородное негодование…
Я не помню и не знаю случая, когда бы ему пришлось это делать. И к экзаменам мы готовились серьезно — не хотелось выглядеть перед ним дураками. Но аристократическая эта практика в наше плебейское время давала иногда сбои. Более или менее образованный и сообразительный человек, иногда и не имея представления о предмете, мог у него заработать четверку — вообще-то у него легко не достававшуюся. Так у него на моих глазах заработал четверку талантливый прозаик Дмитрий Поляновский, к сожалению, рано умерший.
Мой родной город Киев он называл фабрикой порчи русского языка. К Одессе он так не относился — ценил ее особый колорит. Это его пристрастие к Киеву, отчасти заслуженное, отразилось однажды на мне весьма забавно. Как-то он решил проверить нашу грамотность и дал нам всем диктант — признаться, довольно трудный. На пятерку его не написал никто, двое — на четверку и столько же — на тройку. Остальные оказались двоечниками. Среди написавших на тройку был и я. Отметил он это так:
— Как ни странно, Мандель оказался грамотен.
Я опешил. Но оказалось, что странность была в том, что я оказался грамотен, будучи родом из Киева, — этой пресловутой фабрики порчи языка. Тут Александр Александрович был не очень логичен. Тогдашние киевские языковые аномалии, для чуткого языкового вкуса и впрямь неприятные, касались больше фразеологии и фонетики, а правописанию в школе нас учили не менее строго, чем в Москве.
Ко мне он при этом относился очень дружелюбно, но экзамены принимал по всей строгости. За «Введение» поставил мне четверку, но похвалил. За фонетику поставил тройку.
Хорошую тройку ближе к четверке, но все же тройку… «Фонетика — не твое дело — тут надо задницей брать. Вот в следующем году будет грамматика — тогда покажешь себя».
И как в воду глядел. Впрочем, и этой злополучной тройки, по поводу которой я вовсе не переживал, потом в ведомостях не оказалось. Как я на этом ни настаивал, обнаружить ее не удалось — там стояла четверка. И она же поэтому значится в дипломном вкладыше. Бог его знает — может, профессор потом передумал — возможно, решил, что такая точность оценки знаний в наше время может обернуться несправедливостью? Не знаю. В моем случае это ни на что не влияло — ни на мою судьбу, ни на мое отношение к Александру Александровичу, ни на светлую память о нем.
Отношения в институте вообще редко бывали формальными, а А. А. это и вовсе было противопоказано. Однажды он меня встретил на лестничной площадке верхнего этажа (особняк состоит из подвала, бельэтажа и этого верхнего — то ли второго, то ли третьего — этажа), у двери комнаты, которую с семьей занимал наш директор В. С. Сидорин, у которого он был в гостях. Был он в среднем подпитии, но весел и сердечен.
— Эмка! — вскричал он вместо приветствия, завидя меня. — Тебя надо тяжелым предметом, и по кумполу!
— За что, Александр Александрович? — взмолился я в тон ему. — Не надо меня предметом, я хороший!
— А чтоб учился, так твою мать! — несколько нецензурно, но, как я теперь понимаю, совершенно справедливо выразился он. Потом он стал нам (рядом со мной стоял Миша Годенко) жаловаться на постигшее его горе.
— Ребята!.. Миша!.. Эма… У меня ведь сын в химики пошел!.. Я так на него рассчитывал!.. Думал, работать будем вместе, охотиться, умненько так разговаривать… А он — в химики пошел!
Конечно, Александр Александрович и в среднем подпитии понимал, что «уход» сына в химики не может помешать им дружить, охотиться и «умненько так разговаривать». Но ему сейчас нравилось огорчаться, да и некоторая досада по этому поводу у него, вероятно, действительно была… Но не представляю, чтобы он вздумал ее выражать студентам другого учебного заведения, где преподавал. Да и нигде они и не жили в учебном корпусе, да еще в таком небольшом и уютном.
Чем бы это ни объяснялось, какие бы цели ни ставило начальство, создавая его, уникальным местом во Вселенной был тогда наш институт. Уникальным, но не отъединенным. Ни от Вселенной, ни от сталинской действительности. Впрочем, от Вселенной больше, чем от сталинской действительности, ибо был он неотъемлемой частью последней, а она стремилась отгородиться от всего на свете, от прошлого (пока не стала его подменять) и от окружающего. Он был ее частью, и развернувшаяся уже после моего ареста грязная антикосмополитская кампания, свидетелем которой я, слава Богу, уже не был, но в которой оскоромился и наш институт, показала это.
Но те профессора, которые там тогда преподавали, ни от остального культурного мира, ни от собственной культуры, ни от здравого смысла, ни от традиций простой порядочности отъединены не были и не стремились быть. А значит, все-таки тянули и передавали эстафету. В академической области это тоже скоро оказалось трудно — «партия» занялась и ею. Но кто это знал наперед? И все равно нас, как людей пишущих, больше всего занимала современность.
Она, как мне тогда казалось (теперь я давно знаю, что культура — единое целое), имела более непосредственное отношение к творчеству. И к творческим семинарам, руководимым известными писателями и поэтами — хотя они тоже считались входящими в академическую программу, — я никогда не относился легкомысленно.
Я должен был сам себе выбрать семинар и поначалу оказался в трудном положении. Сельвинский в институте работать перестал, с Луговским у меня отношения складывались негармоничные (о чем позже), к приведенным Гладковым поэтам «Кузницы» С. Обрадовичу и В. Казину, несмотря на все мои сегодняшние слова о Казине, тогда не тянуло. Чего было желать, я не знал. Но вдруг стало известно, что одним из семинаров будет руководить Михаил Аркадьевич Светлов. И, естественно, все мы — я, Максим Джежора и Игорь Кобзев — записались в его семинар.
Что значило для нас это имя, я уже говорил, когда упомянул об его выступлении в «Молодой гвардии», где я увидел его впервые — он тогда только вернулся из армии. О том, как мы все любили этого поэта, особенно его знаменитую тогда «Гренаду», ставшую символом отшумевших «романтических» двадцатых с их культом Гражданской войны и мировой революции, о том, как он там же подтвердил эту репутацию своим «Итальянцем» — тоже уже говорилось. Но на этом стихотворении и обстановке, в которой оно появилось, стоит задержаться чуть дольше…
Да, «Итальянец» тогда, в «Молодой гвардии», не обманул наших ожиданий. Стихотворение это хорошее, нравится мне и теперь, хотя в сущности оно не выходило за грань пропагандистски дозволенного. Правда, в нем звучало сочувствие лирического героя убитому им в бою под Моздоком итальянцу. Это было, с одной стороны, неожиданно, выбивалось из ряда, но с другой — антиитальянской истерии наша пропаганда и не нагнетала — только антинемецкую. Кроме того, стихотворение нигде не сетует, что сын небогатого итальянского семейства, посланный в СССР, вынужден был изменить международной пролетарской солидарности — нет, только на то, что он пришел завоевывать чужую землю. И сочувствие ему тоже объясняется не этой солидарностью, а простой человечностью.
Поэтому стихотворение, с одной стороны, укладывалось в тогдашние каноны, а с другой — живо и сегодня. Но тогда оно воспринималось еще и как сохраняющее чистоту идеологических риз — в обстановке, так сказать, вынужденного духовного отступления, вызванного войной под национальными лозунгами. Это как бы напоминало о том, кто мы есть и для чего живем.
А кем мы были, для чего жили? Ведь мы полагали, что для мирового братства, но нам не дают. Кто? Одни надеялись, что исторические обстоятельства, другие прямо считали, что Сталин. Но этой «целью» как основой духовной жизни дорожили и те и другие. Прошу прощения за неоднократные уточнения того факта, что я не верблюд, то есть давно не романтик большевизма и революции — это слабые попытки спастись от недобросовестного цитирования. И еще — пусть никто не утешается и не врет себе и другим: этим болели не только инородцы, а все те люди определенных возрастов, кто вообще в каком-либо осмыслении нуждался.
А сам Светлов? При всей свободе поведения и остроумии он не очень раскрывался перед людьми. На своих семинарах в том числе. Да и вообще. Однажды он так и сказал, что на его лице маска — стеклянная, тонкая, прозрачная, но маска. И это естественно, если вспомнить, что он был участником одной из оппозиций — комсомольской. Вряд ли он там играл активную роль, да и оппозиция эта — незнаменитая, затерялась в истории среди более громких. Но товарищем многих репрессированных, да и человеком, в иные периоды боявшимся оказаться одним из них, он, безусловно, был. И это, вероятно, наложило печать на весь его облик, творчество и поведение.
Считалось, что он участник комсомольского подполья в тылу у белых, но полагаю, что, как и большинство таких слухов, это преувеличение. Сам он ни мне, ни при мне никогда ничего подобного о себе не рассказывал. Но через подлинное «комсомольство двадцатых годов» он, безусловно, прошел, и это сказывалось. Думаю, что это сильно сузило его горизонты. И, наверное, именно потому Н. И. Бухарин еще в 1934 году, на Первом съезде советских писателей, назвал его поэзию провинциальной.
Но распространяться сейчас на тему о светловской ограниченности мне бы не хотелось. Потому, что на нынешнем сломе эпох легко впасть, а тем более втянуть других в несправедливый разоблачительно-ниспровергательский пафос. Несправедливый потому, что то, от чего сегодня свободна моя мысль, тогда владело умом и душой не только Светлова, а и всех вокруг, включая и меня…
К сожалению, этого разоблачительного пафоса не избежал Владимир Солоухин в своей книге «При свете дня». В этой книге это не единственное, с чем я не согласен (хотя во всем, что касается непосредственно Ленина, она не только точна, но и содержит открытия). Но я говорю сейчас не о книге, а о Светлове. Конечно, его стихотворение «Пирушка», которого коснулся в своей книге Солоухин (с какой задачей, здесь не важно), дает все основания для нападок. Достаточно, что лирический герой вполне сочувственно и даже восхищенно просит своего дорогого и застенчивого друга «товарища Орлова», в прошлом председателя ЧК, чья подпись была беспощадна, вспомнить-рассказать о том,
Как пылала Полтава, как трясся Джанкой, Как Саратов крестился последним крестом.Для поэтического и человеческого гнева материалу вроде вполне достаточно (хотя реалии эти не отчетливо застеночные, скорее, фронтовые). Однако завершающее этот разбор с пристрастием ироническое восклицание: «Так-то, Михаил Аркадьевич!», на мой взгляд, несправедливо. Оно еще было бы как-то оправданно, если бы и я, и Солоухин познакомились с этим стихотворением недавно, так сказать, были бы ни при чем. А то ведь познакомились давно, а к такому мироощущению, которое давало нам возможность воспринять эти стихи так, мы пришли по нашему возрасту сравнительно поздно. Нет, не когда и не потому что это стало модно, а самостоятельно, раньше большинства других, — про Солоухина и самого себя я это точно знаю. Но все же далеко не сразу. А до этого знали эти стихи, могли их даже любить, а ужасного в них — не замечали. По той же причине, по которой эти стихи были написаны.
Мы сами жили внутри этого противоестественного мира, и его система ценностей была для нас естественной. А уж в этой системе эти стихи не возмущали, а пленяли. И не только своей романтичностью, сколько — как ни странно — правдой о революции. Пусть эта правда была правдой романтики. Хотя бы это. Принимать революцию без этой правды, без сомнительной веры, что она окупится, значит лгать. Или, привыкнув к лжи, погрузиться в прострацию. Собственно, в ней мы и начинали свою жизнь.
А в этой прострации правда романтики (по существу отвратительной и бесчеловечной — не спорю) радовала светом истины. Только если мы воспринимали эти стихи как антитезу прострации, уже наступившей, то для молодежи второй половины двадцатых годов, к которой принадлежал М. А. Светлов, эта романтика была антитезой прострации наступающей, грозящей, но уже ощущающейся. Дескать, «чур-чур!» — ничего такого нет, все продолжается и имеет смысл!
Тогда у этой романтики ужасного — а свойственна она была не одному Светлову, а всей попутнической революционной литературе — была другая функция. Это был единственный способ принять ужасное, неприемлемое. Ведь до самого последнего времени существовала изобретенная попутчиками «чекистская легенда», согласно которой чекисты — это герои, люди, бескорыстно бравшие на себя грязную работу во имя высшей чистоты. Это только году в семидесятом я написал в одной из поэм:
Где мне знать, что смешно честно верить в свое бескорыстье, Если сам на коне, а кому-то — в лицо копыта.А революционные палачи были другими людьми, совсем не такими, какими их когда-то любовно представлял я или сегодня язвительно — мысленно подставив внешность еврея-интеллигента — Солоухин. Разве что только некоторые сотрудники центрального аппарата — в основном бывшие левые эсэры — подходят под этот стереотип. А так — интеллигентами, независимо от их этнического происхождения, бывали только теоретики террора, ну и, конечно, его воспеватели, но не те, кто сам убивал или приговаривал к смерти. Говорю со знанием дела, ибо с одним из тех, кто когда-то отдавал приказы о расстрелах, я встретился. Правда, не на свободной дружеской пирушке, а — на пересылке и потом в Караганде. О чем расскажу в свое время.
Повторяю, я вовсе не защищаю ни этого стихотворения, ни нашей симпатии к этим стихам, ни тем более атмосферы, все это породившей. Я давно уже всему этому враждебен. Я просто хочу сказать, что то, с чем мы имели дело, было всемирно-историческим заблуждением, вернее, трагическим результатом спекуляции на нем или даже на его инерции, а не мелкой интригой. И ходили мы на занятия к человеку, вовсе не отличавшемуся любовью к палачеству.
Семинары первое время проходили у него на квартире — жил он тогда на углу улицы Горького и проезда МХАТа (или Тверской и Камергерского), в том же доме, напротив Телеграфа, что Асеев (и Булгаков). На самих семинарах ничего особенного не происходило, порядок был тот же, что и на литобъединениях. Студенты читали стихи, потом начиналось их обсуждение, товарищи высказывали мнения, последним говорил руководитель. Только в отличие от литобъединений, где уровень разговора тоже был достаточно серьезен, сюда не могли забрести случайные люди и отнять время на ликвидацию своей литературной неграмотности. И, кроме того, порядок из-за интимности обстановки столь строго не соблюдался — Светлов мог вставить реплику или вступить в спор, не дожидаясь своей очереди в конце, как приличествовало мэтру. Он был поэтом, и вкус у него был точным. И это было очень нам полезно. Фальшь, неловкость и стремление идти «напрямик» (в поэзии прямая — не всегда наиболее рентабельная связь между двумя точками) он отмечал мгновенно и остроумно высмеивал, учил тому, как непросты иной раз простые вещи:
— Что больше? — спрашивал он. — Три года или три дня?
И сам отвечал:
— А это как когда. Сравните: «Я вас целых три года не видел!» И — «Я вас целых три дня не видел…»
Положение наставника было ему тогда по новости непривычно, и очень его забавляло. «Значит, вы, мои дети, а я, ваш учитель», — не раз говаривал он. Или просто: «Вы мои ученики, а я среди вас Песталоцци».
О философско-эстетической сути поэзии он в отличие от многих других русских поэтов — допустим, Ахматовой и Мандельштама — никогда (во всяком случае при мне) не говорил. А, по-видимому, и думал не очень много. Подозреваю, что его критерии в отношении поэзии (но не собственного творчества — он был поэтом) к тому и сводились — к присутствию лирической стихии и к знанию секретов мастерства, несколько более сложных, нежели те, которые Твардовский назвал малыми.
Вижу в этом печать времени, его формировавшего, когда с духовной стороной вроде было все ясно, а «секреты» и тайны были только в исполнении, несколько тогда абсолютизируемом не только «формалистами» или «эстетами». Я и тогда считал, что этого недостаточно, но понимал, что это необходимо. А на первых порах — и важно. Тем более когда за этим — не схема, а живой вкус настоящего поэта.
А стихии в наших отношениях было тоже достаточно. После одного из первых занятий Светлов сказал:
— Вот что, дети! Приглашаю вас в коктейль-холл.
И мы совершили поход в коктейль-холл, благо он помещался рядом, чуть выше по Тверской. Мы еще никогда там не были, но слово это было для нас всех, не только для таких провинциалов, как я и Максим, экзотическим — загадочным и манящим. Не из нашей жизни. Может, заведение это и было открыто, чтоб не ударить в грязь лицом перед нашими англосаксонскими союзниками, часто приезжавшими тогда в Москву. Кстати, я вообще не убежден, что видел где-либо специальное коктейлевое заведение — в лучшем случае, коктейль-бары при гостиницах и ресторанах. В годы борьбы с космополитизмом и иностранщиной Коктейль-холл закрыли, а в его помещении открыли кафе-мороженое, существующее, кажется, и поныне. Но тогда, в 1945—1946-м никто еще этого не предвидел, и коктейль-холл был очень популярен.
Едва выйдя из ворот светловского дома, мы увидели, что у искомого входа толпится очередь, и заметно приуныли. Но Михаил Аркадьевич шага не убавил. Дальше произошло следующее. Он спокойно подошел прямо к двери, которая, естественно, была заперта и постучал в ее стекло. Выглянувший швейцар тут же ее открыл.
— Я не один, — сказал М. А. — Вот мои ученики. Я среди них — Песталоцци.
После чего каждый его ученик персонально за шиворот был втащен в эти тесные врата, и мы оказались в месте не только небывалом, но и непредставимом. Можно было бы сказать — «на Западе», и в каком-то смысле это было бы правдой: круглые сиденья вдоль бара (у нас он назывался «стойкой»), столики, напитки, которые тянут из бокалов через соломинку. Все это есть везде, и связано, кстати, не только с коктейлями, но тогда это меня поразило — такого я никогда еще не видел. Да и представьте послевоенную голодную Москву вокруг этой роскоши! И вы сразу получите формулу: «разложение». И ошибетесь. Разложения не было. А если и было, так не то, представление о коем связывается с ресторанной жизнью.
Все было чинно, пристойно и в то же время свободно. Люди сидели за столиками, разговаривали, некоторые переходили от столика к столику, тут многие многих знали. И уж, конечно, многие знали Светлова. Было тут много актеров, режиссеров, журналистов, театральных завлитов, всякой другой подобной публики. И все его звали «Миша», «Мишенька», а я вообще не помню, чтобы он в ответ кого-то звал по имени. Но всем, кто подходил к нему, он не забывал сообщить, что мы его ученики и что благодаря нам он теперь Песталоцци. Были разговоры об искусстве, вовсе не крамольные, но серьезные — странная обстановка раскрепощения в центре суперзакрепощенной страны.
Какое ощущение создавалось? Конечно, я говорю не об этом первом визите, (он вовсе не был последним), а вообще. Почему туда так тянуло? Кроме того, что там вообще было приятно, там создавалось ощущение, что существует некая элита, очень нужная (для чего?), которая вполне допускается и до такой раскрепощенности. И заслуженно к ней принадлежать — хорошо и достойно. А творческому человеку даже необходимо. Потом бы благодаря деятельности таких людей доступ к этой раскрепощенности получили и другие. Получалось нечто от благородной роли дворянства. В каком-то смысле некое подобие дворянства стремился создать и Сталин. Только без всякой раскрепощенности — безразлично, впрямь ли присутствовала она тогда в коктейль-холле или только мне примерещилась… В коктейль-холле мы бывали потом почти после каждого семинара. Сначала приглашал Светлов, а однажды мы его пригласили сами. Сделали мы это в начале занятия.
— У меня сегодня денег нет, — ответил он.
— Так мы же приглашаем!
— На ваши деньги? — ужаснулся наш Песталоцци. — Ни за что!
Но когда после семинара мы засобирались, он начал мяться:
— Так вы что, вы в котельную? — спросил он как-то мечтательно и перестал сопротивляться нашей настойчивости. Может, с точки зрения академической это и был непорядок, но это было естественно. Блюсти профессорское достоинство с его стороны, по-моему, было бы нелепо, а достоинству поэта это не вредило. Да ведь и не стремился он нас «выставить», только сам нас всегда угощал, а тут — мы сами навязались. Впрочем, угощать нам его пришлось недолго — стоило ему только показаться в коктейль-холле с нами и объявить знакомым, что сегодня его ученики угощают своего дорогого Песталоцци, как тут же объявились желающие нас заменить. Конечно, он немного посидел с нами, а потом пошло. Когда мы уходили, он еще оставался. Не могу сказать, чтоб он настырно стремился учить нас жить, но одно поучение из его уст я слышал часто. И касалось оно выпивки.
— Знаете, дети, чем я отличаюсь от вас? — И сам же отвечал: — Когда мне уже хорошо, я не стремлюсь, чтобы мне было еще лучше.
К сожалению, этой добродетелью скорее отличался не он от нас, а мы от него, что, наверное, значительно сократило его жизнь. Но тогда до этого было еще далеко.
Но и тогда слухи о наших вольностях в конце концов дошли до Гладкова, и он велел семинары проводить в помещении института.
— Жаль, — ответил Михаил Аркадьевич. — А дома было так удобно. И коктейль-холл рядом — зайти отдохнуть после занятий…
— То-то! — сказал Гладков, улыбаясь. Светлова он любил, но порядок — тоже.
Шутки Светлова расходились по Москве. Очень любил он приперчивать их еврейским колоритом (он был по происхождению евреем, Светлов — его псевдоним), обращаясь к своим собеседникам, особенно если иронизировал, называл их «кецэлэ» (кисанька). Он принадлежал к тому поколению, которое находило это забавным. Это и впрямь забавно — в нормальной обстановке. Но время было нешуточное. И мне рассказывали о неординарной светловской шутке периода «дела врачей». Как известно, в целом это «дело» по обвинению врачей в фантастическом злодействе и особенно его освещение носили четко выраженную антисемитскую направленность (хотя к «делу» был привлечен и ряд, как говорят в эмиграции, «этнически русских» врачей). Согласно сценарию, большинство врачей занималось своими гнусностями по поручению еврейской благотворительной организации Джойнт, «на самом деле» являющейся филиалом ЦРУ. Считалось, что они продались за деньги Джойнту, а через него — ЦРУ. Джойнт для советской пропаганды стал именем дьявола и в этом качестве заполнял эфир и прессу.
И вот среди этой искусственно нагнетаемой истерии однажды в буфете Дома литераторов сидел мрачный неопохмелившийся Светлов и жевал бутерброд.
— Как жизнь, Мишенька? — спросил кто-то, подойдя.
— Да какая жизнь! — мрачно ответствовал «Мишенька». — Денег никаких никто не платит… И Джойнт что-то давно ничего не присылает… Выпить не на что.
Тогда мало кому было до острот. Тем более таких опасных. Однако Михаил Аркадьевич находил в себе силы, острил.
Неисповедимы пути Господни. В устах Светлова деньги Джойнта могли фигурировать только как ирония, как насмешка над бредом. Он и представить себе не мог (впрочем, как и я тогда), что мог бы на них жить. Но для меня потом они стали реальностью. Несколько первых месяцев эмиграции — в конце 1973 — начале 1974 годов, в Вене и Риме — я с семьей жил на средства этой организации, за что ей спасибо. Занималась она только своим делом — благотворительностью. Причем помогала она только тем евреям, кто в Израиль НЕ ехал — так что вопреки сталинским обвинениям не была даже сионистской. Не говоря уже о том, что и сам сионизм — только стремление создать для евреев национальный очаг, а не некая мистическая гнусность, за что его с послевоенных времен злонамеренно выдавала официозная советская пропаганда. И сегодня ее преемники. Но это — другая тема.
В семинаре Светлова я был и после ссылки. Они тоже были интересны, но всерьез считать те свои годы студенческими я не могу.
Но прежде, чем перейти к другим лицам и событиям, мне хотелось бы рассказать об одном дне моей тогдашней жизни, каким-то образом тоже связанном с коктейль-холлом.
Однажды у нас с моим другом Максимом вдруг появились какие-то деньги, по нашим тогдашним представлениям крупные: мелкие гонорары, помощь из дома, стипендии слились в одно, и мы решили навестить любимое заведение. С собой мы пригласили нашего студента Виктора Ревунова. Особой близости между нами не было, просто мы оба ему симпатизировали. Витька был высоким, крепким парнем, внешне напоминавшим молодого Горького, и, говорили, талантливым прозаиком. Дальнейшая судьба его мне, к сожалению, неизвестна, хотя после ссылки я справлялся о нем. Вечер мы провели приятно, о чем говорили, не помню — наверное, как всегда о литературе и женщинах. Витька на прощание сказал:
— Ну, смотри, Мандель… Я скоро получу гонорар и тебе отомщу.
В заявлении этом не было ничего экстраординарного (кроме формы) — все вокруг так время от времени «мстили» друг другу. Ни на какую особенную «месть» я не рассчитывал и ее не ждал. Но она последовала, и то, что в результате получилось, было уже и впрямь настолько экстраординарно, что умолчать об этом грех. Хотя это уже никак не связано с коктейль-холлом и только страдательно с самим Ревуновым.
Впрочем, и Витька начал необычно. Однажды утром, часов в восемь, кто-то дернул меня за ногу. Не слишком нежно, так что я сразу проснулся. Надо мной возвышался Витька.
— Мандель, вставай! — произнес он повелительно. Я молча повиновался.
— Пошли, — отрубил Витька. И мы пошли. Почему с нами не было Максима — не помню. То ли его вообще не было в Москве, то ли он был, мы ему звонили, но почему-то не мог — причем причина наверняка должна была быть уважительной, по неуважительной он бы от такого приключения не отказался. Но факт — его с нами не было. По Тверскому бульвару к Пушкинской площади мы поплелись без него. Город выглядел еще полусонно. Все, что могло нас интересовать, было еще закрыто.
Даже родной «прилитинститутский» бар № 4 (остряки утверждали, что наоборот, Литинститут существует при баре). Потом такие заведения переименовали в пивные залы. Сделано это было в порядке «борьбы с иностранщиной» — и отчасти это более точно: «бар» — это нечто другое. Но точнее — говорю без всякой иронии — просто пивная. Было бы пиво хорошо да заведение пристойным. Впрочем бар № 4 навеки остался баром № 4, ибо он был не переименован, а просто был закрыт. Его помещение было передано «кафе-молочной», а потом и вовсе снесено вместе со всем кварталом. А с ним связано многое — и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е… Но тогда еще этот бар вполне функционировал — только не в столь ранние часы. Но Витька углядел на другой стороне Тверской, в доме, которого теперь нет, еще одну пивную типа «забегаловка», и мы свои стопы направили туда. Забегаловка и впрямь, несмотря на ранний час, оказалась открытой. И к тому же набитой народом. Все были в верхней одежде. Витька велел мне подождать где-то в углу, а сам отправился к стойке добывать пиво с водкой. И тут все началось.
Я огляделся. Народ вокруг наспех пил и закусывал — перед работой. Ничего примечательного в этом не было. И вдруг мое внимание привлекло происходящее за столиком рядом. А происходило следующее. Окруженный жаждущими прихлебателями, гоголем сидел уже в некотором подпитии невысокий плотный молодой мужчина, пил, закусывал и куражился. Прихлебатели, которым он время от времени щедро отливал пива и особенно водки, с готовностью сносили это. Я тогда это видел впервые.
Но на самом деле это было явлением обычным. Не могущие без выпивки, другими словами алкоголики, в России всегда существовали (хоть никогда их не было так много, как нынче), никуда они не делись и во время войны, когда водка большинству из них стала не по карману. Я забыл напомнить, что вся торговля спиртным — исключение составляло, кажется, только пиво — была только «коммерческой», значит, по очень дорогим ценам (по карточкам, за нормальную цену получали только пол-литра или литр). Рестораны и коктейль-холл были коммерческими заведениями изначально. Впрочем, алкоголики ими не интересовались. Они «обживали» пивные и бары, где и пробавлялись таким образом — крутились вокруг таких тароватых «тузов» и, если удавалось (их гнали), допивали остатки из кружек.
Так что неудивительно, что «шикование» этого человека бросалось в глаза. Он вообще выглядел состоятельно и картинно. И всем напоминал подгулявшего купчика из тогдашних фильмов и спектаклей по Островскому. На нем было черное, зимнее, по тем временам роскошное пальто, отороченное мехом, а сверху черная же меховая шапка-пирожок. На рукаве этого роскошного черного пальто, у самого локтя, странно повисала, двигалась и подрагивала вслед движениям руки обычная серо-зеленая авоська с батоном, бутылкой кефира и еще с чем-то. Все это тоже было явно коммерческим — в такой обычной бытовой упаковке это тогда больше нигде не продавалось.
Вдруг он стал внимательно разглядывать меня, и круглое лицо его расплылось в улыбке.
— А я тебя знаю… Ты Мандель! — И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил: — А помнишь, мы были у Петра на именинах (он назвал подлинное имя человека, которого я называю «Петр» и который в начале 1945-го спас меня от ареста). Я с женой был, она его двоюродная сестра. Ты еще стихи читал.
И, действительно, я вспомнил эту странную пару, по поводу которой потом Петр сильно потешался. Ибо она работала в милиции, а он был крупнейшим московским спекулянтом. У Петра он вел себя очень скромно, как на чужой территории, а здесь он был в своей стихии.
— Помнишь мою жену? Родила. Вот, — он кивнул на авоську, — передачу несу.
Авоська то поднималась из-за стола, то исчезала за ним.
— Давай садись. Я угощаю.
Место для меня было тут же расчищено.
— Так я ведь не один, я с товарищем.
Против товарища он тоже ничего не имел. Но когда Виктор появился с пивом, довольный тем, что я нашел место, он поначалу был встречен недоброжелательно. Но все уладилось. Прихлебатели испарились до лучших времен. Однако за столиком были не только они. Зашел с утра подзарядиться и заведующий издательством «Известий» — во всяком случае он так отрекомендовался. Узнав о нашей профессии, он в приступе кабацкого великодушия и хвастовства обещал нам с Виктором золотые горы, что, естественно, на нас с Виктором большого впечатления не произвело — мы знали, что они не зависят от директора издательства (тогда это было нечто вроде завхоза). И когда я через несколько дней откликнулся на его предложение и пришел к нему, он поначалу растерялся. Но узнав, что я не за золотыми горами, а за писчей бумагой, обрадовался и, наказав заходить еще, когда понадобится, отвалил мне просимое в большом количестве.
В конце концов мы остались за столиком втроем. «Хозяин стола» был здесь, судя по всему, своим человеком, влиятельным клиентом, и отказа ему ни в чем не было. Но пора было и честь знать — все же жена ждала в роддоме. И он потащил нас себя сопровождать — чтоб потом «продолжить». Но до «потом» было еще далеко. «Для порядка» ткнулись сначала, как в свою alma mater, в свой четвертый бар — уже было время. Но на этот раз он почему-то был еще закрыт — до часа, кажется. Роддом был расположен где-то на Миусах, не так, кстати, и далеко, но путь наш к нему — по улице Горького от площади Пушкина до Маяковского и квартала два еще — был наполнен препятствиями, оборудованными укрепленными «точками», где торговали спиртным. А торговали им в розницу, где угодно. Во всех магазинах «пиво-воды», «фрукты-овощи» и многих других. И в каждую из них он нас затаскивал. И везде были Нины, Веры, Маруси, которые его встречали как родного, и везде мы задерживались и добавляли. Только к часу дня (а начали мы в восемь утра!) мы, наконец, доплелись до роддома. Доплелись — оказалось, что к роженице не пускают, что было открытием не только для таких охламонов, как мы с Виктором, но и для самого счастливого папаши. Он начал бурно протестовать, но строгая нянечка его мигом успокоила. Однако хотя час был неурочный, передать записку и передачу она согласилась. И мы стали ждать ответа. Надо сказать, что приключение нам с Виктором начинало надоедать. Несмотря на обилие выпитого, мы были ни в одном глазу. Сказывались необычность обстановки и некоторое напряжение.
И тут он нас опять поразил — сначала сник, а потом буквально начал ловить чертей. До той поры я думал, что это выражение метафорическое, но он их начал ловить всерьез — примерно, как ловят мотыльков: «Вон смотри, на ботинке присел!» И, как бы подкрадываясь, захлопывал «его» в ладоши или захватывал в кулак. Но «он» оказывался и на рукаве, и на коленях, и на полу. Дурачил нас наш собутыльник или ему впрямь мерещилось, не знаю. Честно говоря, я сначала просто не понимал, что происходит. Пока не услышал испуганный шепот Ревунова:
— Смотри! Он ведь чертей ловит…
Потом принесли ответную записку от жены. На морозе наш чертогон малость оклемался, и мы пошли назад тем же опостылевшим уже маршрутом — по тем же «точкам». Очень хотелось от него отделаться. Виктор несколько раз это предлагал.
— На хрена он нам нужен! Давай удерем от него, потом зайдем в редакцию, я получу деньги и посидим спокойно.
Я и сам был не прочь. Особенно после такого его, вполне, впрочем, трезвого предложения:
— Вот что, Мандель. Я тебе дам адрес, ты сходи и возьми там шесть пар часов и принеси мне. (Или «отнеси туда часы, а мне принеси деньги» — теперь уж не помню, да это и неважно.)
На это я ему ответил просто:
— Вот что, милый! Сидеть мы с тобой будем оба. Но я за свое, а ты за свое. И путать не надо.
Как ни странно, с этой логикой он согласился. Но хоть вопрос был исчерпан, наша неожиданная и затянувшаяся «творческая командировка» стала после этого совсем невмоготу, перестала забавлять.
Однако избавиться от него было не так просто. Несколько попыток он пресек в зародыше. Но в момент, когда он, встретив приятеля, на миг отвлекся, Виктор шепнул: «Мандель, давай!», и мы юркнули в какой-то проходной двор или закоулок. И тем спаслись.
Но история имела завершение. Он исчез из нашей жизни, даже из этого загульного дня еще не окончательно. Мы выполнили ревуновский план. Пошли в бухгалтерию издательства — то ли «Совинформбюро» (потом АПН), то ли «Правды», получили гонорар, потом, подхватив кого-то еще (не Максима ли?), заявились в уже открывшийся бар № 4. И когда мы уже там уселись, заказали пиво с водкой и раками и когда уже потекла веселая и интересная застольная беседа, Виктор вдруг толкнул меня локтем в бок: «Смотри!» Столика через два от нас уже, слава Богу, в другой компании сидел и сообщнически улыбался нам наш давешний собутыльник. Но к нам он уже не подходил — видимо, тоже чувствовал сюжет завершенным.
Потом я узнал, что была такая афера — продавать золоченые часы как золотые. Может, он имел отношение именно к ней? А может быть, он предлагал мне зайти за нормальными часами, только собранными из деталей, вынесенных с часового завода? Может, был занят какой-либо иной коммерцией, вполне нормальной, но у нас запрещенной? Все могло быть.
Зачем мне понадобился здесь этот эпизод, весьма для моей жизни нехарактерный? Так ли уж интересен и значителен описанный в нем человек? Тем более что больше я никогда не пил и не оказывался рядом ни с этим человеком, ни с кем-либо подобным. Не знаю так ли, но что-то все-таки было и за ним, за нашим чертогоном.
Я думаю, что по природе это был человек совсем не уголовного, а коммерческого склада. Просто было в нем очень много энергии и размаха, которые он мог бы в нормальных условиях превратить в дело, достигнуть в нем чего-то, и тоже одаривать, и тратить деньги — знай наших! — но только уже необязательно на прихлебателей, а и на серьезные, приносящие реальное, а не сиюминутное удовлетворение и благодарность, общественно нужные дела. Но река жизни была перекрыта, а в тесной запруде таким, как он, свою энергию и сметку некуда было девать, кроме как в темные, во всяком случае в запретные, опасные дела, которые — сколько веревочке ни виться — хорошо кончиться не могли. И поэтому давай гуляй и куражься, пока на свободе и при деньгах — однова живем! Особенно, если в душе и сам не представляешь другой системы ценностей, кроме официозной, кроме запруды, в которой задыхаешься и нормы общежития которой беспрестанно преступаешь.
Но что-то в этом эпизоде есть и вообще от того смутного, взбаламученного, с пляшущими ценностями времени послевоенной «оттепели»! И в нашей наспех не к месту примеряемой на себя богемности — тоже: все-таки партикулярность! Конечно, несравнимо с сегодняшним крушением ценностей, но как уже все качалось, Господи! Как все советское, шедшее поперек жизни, держалось на соплях! Но ведь держалось. Я уже несколько лет назад сказал, что все мы — товарищи по несчастью.
Эта сентенция облегчает мне возвращение к прерванному повествованию о руководителях наших семинаров и дает возможность плавно перейти от Михаила Аркадьевича Светлова к Владимиру Александровичу Луговскому. После того как Светлов ушел из института (причин не помню), мы перешли в его семинар. С этим незаурядным человеком отношения у меня были весьма сложными, иногда чуть ли не враждебными. Вплоть до возможности такого диалога у него на квартире за рюмкой водки после одного из семинаров:
— Владимир Александрович, вы ведь меня не очень любите?
— Не очень, — согласился сильно подвыпивший Луговской.
— И я вас тоже. Давайте выпьем за это, Владимир Александрович!
Выпили.
Конечно, все в этом пьяном диалоге — преувеличение. Но даже если так, то преувеличение того, что было в реальности. Конечно, никаких пакостей он мне не делал, если «шерстил» за стихи, то по делу (в этом смысле мы все были неласковы), а не стараясь представить меня бездарью. Нет, все было порядочно. То, что послужило причиной моего странного тоста, происходило на чисто эмоциональном уровне.
Впрочем, к помощи Бахуса он прибегал не только для таких «ответственных» разговоров. Мог появиться в институте, где его в полном составе ждали все участники его семинара, в состоянии, определяемом словами «и лыка не вяжет» — бессмысленно улыбаясь, но держась неестественно прямо. «Прохладился» по дороге. Выпивали мы и у него дома. Однажды принесли две «пол-литры». Жена, естественно, оберегавшая его от этой страсти, хоть и не знала, с чем мы пришли, уходя, на всякий случай заперла в доме все, что могло бы сойти на закуску. А тогда, при карточной системе, это была мера весьма эффективная. Почти во всех случаях, но только не в случае с Луговским. Он и до этого был слегка подшофе (чем и объяснялась репрессия), но, как говорится, проявил здесь высокую профессиональную выдержку и находчивость. Другими словами, он нисколько не растерялся, а великолепным жестом достал из ящика письменного стола две карамели «раковая шейка» (нас было человека четыре) и царственным жестом положил их на стол. После того как вино было разлито, он изрек:
— Первый тост — по старинному русскому обычаю — без закуски!
Где он такой обычай выкопал, неизвестно, но получилось красиво. Следующие тосты мы уже заедали, слегка откусывая от «раковых шеек». Как ни странно, никто не опьянел. Да и Луговской остался в исходном состоянии. Может, потому, что мы разговаривали. Не тогда ли произошел и приведенный выше диалог?
Потом жена В. А. кому-то говорила, что он ко мне всегда относился очень хорошо. Может быть. Но тогда он это хорошо скрывал — это не ирония, это могло быть. Во всяком случае, моя «нелюбовь» была чувством ответным. Ибо расположен я был к нему относиться хорошо — его стихи с легкой руки нашей Адочки я любил с отроческих лет. А появившись в «Молодой гвардии», он тоже прочел нечто хорошее — все тянет сказать, что «Курсантскую венгерку», но боюсь, что это анахронизм и аберрация. Скорее — «Девочке медведя подарили…». Некоторые его стихи мне потом разонравились — в них, на мой взгляд, много рисовки. Но отнюдь не все. Его положение было тоже непростым. Все понравившиеся мне на «Молодой гвардии» стихи Луговского входили в ту его книгу, выходу которой помешала война. Потом времена переменились, и они, видимо, стали не к месту — их долго не печатали. Вышли они только во время «оттепели». Его поэмы, входящие в книгу «Середина века», неравноценны. В целом поэт пытается дать ответ на трагедию времени. Эта книга — итог многолетней серьезной внутренней работы.
Почему-то мне кажется, что последние годы Луговской был довольно одинок. Сейчас он полузабыт в чаду событий, но это несправедливо — он не только обладал незаурядным талантом, но и был и существовал, что вообще случается не со всеми, а в годы, когда он жил, тем более. И может быть, именно этим объяснялся его вошедший в союз-писательские легенды (наряду с его алкогольными подвигами) патологический страх. Потешались над тем, что вид он имел при этом очень мужественный, был высок, строен, красив, сросшиеся брови его были густы и черны («Бровеносец» — как его кто-то назвал задолго до Брежнева).
Впрочем, легенда об его страхе была связана, в основном, с поездками союз-писательских делегаций на фронт, где он свиста снарядов и бомбежек боялся больше, чем другие. Бросить в него за это камень я не собираюсь и не собирался. Во-первых, потому, что не имею права — вообще не был на фронте. Во-вторых, это больше говорит о состоянии его нервной системы, чем об его человеческих качествах. Да и лет ему было уже сколько! За это я никогда его не осуждал. Осуждал я его тогда за другой страх, и этот другой его страх был в значительной степени причиной некоторой его неприязни ко мне. Хотя и он тоже, как я теперь понимаю, мог быть вызван состоянием его нервной системы. Теперь я уже давно его за это не осуждаю. Ибо лучше понимаю, что могло отразиться на состоянии его нервной системы, другими словами, что выпало ему пережить. Об этом я сейчас и думаю.
Владимир Александрович по происхождению был дворянином — так он о себе говорил. Конечно, в те годы, когда я с ним познакомился, дворянское происхождение уже перестало быть опасным, а раз так, то оно сразу сделалось престижным. А В. А. любил покрасоваться и приписать себе дворянство без всяких оснований тоже вполне бы мог. Приврать для интересу он вовсе не стеснялся, но носило это невинный характер.
— В. А., я вам целый час звоню, все время занято было…
— А это я с индийским посольством разговаривал.
Особенно любил он хвастать экзотическими знакомствами. Что однажды дало мне возможность сострить:
Друг Хемингуэя и Джамбула, Дворянин Владимир Луговской.Впрочем, я думаю, что дворянином он был на самом деле. Во всяком случае я никогда в этом не сомневался. Но что был он потомственным интеллигентом — это было бесспорно для всех, кто с ним общался, это ощущалось. И то, что отец его был директором гимназии, — тоже сомнений не вызывало. Об этом он очень достоверно рассказал в одной из поэм «Середины века». Но это уже было в мое время. А в 1918—1922-м, да и позже, оба происхождения — и дворянское, и интеллигентское — были обстоятельством, сильно затруднявшим человеку вступление в «новую жизнь». И поскольку в то время другой не было, то просто в жизнь. Другими словами, мешало выживанию и даже было чревато внесением в расстрельные списки во время «красного террора».
Не знаю, по этой или по другим причинам Луговской во время Гражданской войны служил в Красной Армии. Да не увидит никто иронического высокомерия в этих словах. Считаю любую из возможных причин — уважительной. И заблуждение, и страх, и даже, что наиболее вероятно, заблуждение, вызванное страхом. Не знаю, участвовал ли он в боях. Знаю, что на одних краскомовских курсах — в Москве — учился, на других — кажется, в Брянске — что-то преподавал. Так или иначе — «сотрудничал». Но вряд ли это было для него просто. В то время, как среда, к которой он принадлежал, от такого «сотрудничества» отказывалась и к «штрейкбрехерам» относилась плохо. И Луговскому, вероятно, пришлось пережить немало неприятных минут и частично переменить среду.
С. Я. Маршак называл перебежчиков типа Леонида Соболева «Швабриными». Я не очень склонен осуждать людей, оказавшихся в безвыходном положении, но к Соболеву, судя по его последним годам, это определение подходит вполне.
Однако Луговской — другой случай. Он никакой особой карьеры не делал и не сделал. Просто стал известным поэтом. Но это ведь своими силами. Судя по стихам, чем-то он все-таки в революции увлекся. Но не до самозабвения. Его всегда волновала тема России. Хотя звучала она у него горько. Вот переживание глядящего из теплушки воинского эшелона:
Направо — поля, налево — поля. Деревни как чертовы очи. И русская, мерзкая, злая земля Отчаяньем сердце точит.Ретроспективный взгляд на историю страны в другом стихотворении — «Дорога ведет от широких мечей… от Малютиных палачей» — тоже не ласковей. Особенно при таком конце:
Мне страшно назвать даже имя ее — Свирепое имя родины.Конечно, тогда, в двадцатые годы, цензура в таких стихах подвоха не видела, идеи России, родины и т. п., как «белогвардейские», была не в чести. И то, что русская земля обзывалась злой и мерзкой, ее не оскорбляло. Да, мерзкая. Вот мы, большевики, и избавляем ее теперь от «мерзости». В принципе изображение вышедшей из берегов стихии вообще большевиками допускалось. В годы НЭПа это и в их собственных глазах, и в глазах измученного обывателя представляло их в выгодном свете: вот какова была стихия, которую мы одни смогли укротить, ввести в русло. Словно не они сами ее распустили и использовали. Нет, с точки зрения цензуры и власти все было в порядке.
Правда, цензоры могли бы обратить больше внимания на отчаяние, которым эта земля «сердце точит». С чего бы, в самом деле? Казалось бы, возвысился над ее «мерзостью», и плюй с высоты передового мировоззрения, наслаждайся своей ролью во всемирной истории, помогай преодолевать вековую отсталость. И торжествуй. Ан нет — «точит». За Россию больно? Неужто за то, что с ней сталось во время революции? А за что еще? Причем, если в прозе это можно завуалировать красочностью деталей («появились рассказчики» — свидетельствует Н. Я. Мандельштам), то в поэзии эмоциональное отношение скрыть невозможно.
Стихотворение действительно пронизано болью за Россию. Но к счастью, большевики в поэзии понимали мало (а если понимавшие и были, то, к их чести сказать, помалкивали) и этой неувязки не замечали. Тем более, что автор ведь и впрямь не имел в виду ничего контрреволюционного. Видимо, в каком-то смысле и он приник к революции — всеми своими связями, дружбами и тому подобным. Он был для своих друзей и сверстников «Володя», как Светлов — «Миша» (чего до революции в литературной среде не водилось), в каком-то смысле и образовывался вместе с ними. Хотя полученное в детстве воспитание осталось при нем, что усложняло его психологическую ситуацию и в двадцатые — более прямые годы.
Это определило и всякие его покаяния, вроде стихотворения «Письмо республике от моего друга», содержащее странную на нынешний взгляд просьбу к адресату: «Возьми меня в переделку / И двинь, грохоча, вперед!» Сегодняшний неискушенный читатель может удивиться не только просьбе человека взять его в переделку, но и тому, что это сделать надо непременно «грохоча». Но таков был психоз времени — противоестественный пафос непременной правоты «коллектива» и святости «романтически» связанной с грохотом и скрежетом пятилетки. Психоз этот превращал грохот и скрежет в элементы Прекрасного…
Я привел эти строки не для высмеивания. И до, и после войны я воспринимал их всерьез. И не было в них никакого личного приспособленчества. Ибо приспособление к «республике» казалось — не только Луговскому, но и его товарищам и читателям, — приспособлением не только к духу времени, но и — хоть они так не выражались — к Духу и Истине вообще. А отпадение от «республики» — отпадением от Духа. Если это был конформизм, то неосознанный. А в те годы из-за частой смены «правящих идеологизмов» он не всегда был приспособленчеством — с ним можно было и срок огрести.
Психологически картина была вполне запутана. Смесь интеллигентности с большевизмом и боязнь оступиться, проявить «не ту» сущность. Приводило это иногда и к комическим результатам. Он вступил в РАПП аккурат накануне его разгона. До этого не поддавался.
И не знаю уж, этот ли, другой ли свой «грех» этим замаливая, для участия в жизни и борьбе, но он выехал с бригадой писателей в Среднюю Азию. Думаю, что ему повезло. Поскольку коллективизацию — во всяком случае поэтически — пережил там, а не в более понятной и близкой ему Центральной России. Впрочем, и в двух частях написанной им там книги «Большевикам пустыни и весны» есть не одна экзотика, хоть ее там немало. Есть, например, и стихотворение «Басмач», где, хотя идеологическая выдержанность вполне соблюдена, за басмачом Иган-Берды ощущается своя правота и сила.
Внутренне Луговской к большевистской революционности — в чем-то по традиционной интеллигентности, в чем-то уступая обстоятельствам — вполне приспособился. А куда денешься? И тут грянуло убийство Кирова, а за ним разгром старой партии. Судя по его стихам, написанным в последние годы жизни, стихам, для самого себя переосмысляющим прошлое, Луговской, как и многие интеллигенты, Троцкого и до его падения недолюбливал. Так что надругательство над ним Сталина его особенно оскорблять не могло. К тому же при Сталине русскую историю, вроде восстановили в правах — пусть в каком-то обезображенном виде, но все же. И понемногу о российской государственности заговорили — не в малограмотно-оскорбительном тоне, как с начала революции и года до 1935-го — а всерьез.
Луговской никогда не был русским националистом, он был скорее русским европейцем, отчего, естественно, не переставал быть русским человеком и человеком русской культуры. И прекращение малограмотного поношения всего русского (а оно может быть только малограмотным) должно было располагать его к Сталину. А с другой стороны, он и сам несколько в революции погряз, и верить, что Троцкий — организатор нацистского шпионажа против СССР, при любом отталкивании от последнего — не мог. Это было все же и унизительно, и неуютно. Да и многих приятелей по Гражданской наверняка задели репрессии и подобная клевета, в которую все остальные обязаны были искренне верить — не дай Бог заподозрят в неискренности! Да и сам был от такой судьбы — от исчезновения под гром клеветы — не застрахован. Во-первых, как любой другой, во-вторых — из-за своего участия в революции, точнее, в Гражданской войне.
Как люди, подобные ему, справлялись с этой напастью, как объясняли ее себе — человек моего поколения представить может, сам временами недалеко уходил. Но должно было это вызывать и безотчетный страх — особенно при той спутанности истоков, которые определяли мироощущение Луговского. Думаю, что страх этот сказывался и на его отношении ко мне, поскольку я на эти темы писал и говорил. И когда был и в своих глазах крамольным, и когда быть им в своих глазах перестал. Не знаю, в какой из этих ипостасей я раздражал его больше…
Перепалки у нас бывали, но смысла их я не помню, ибо бывали они больше за выпивкой и сводились к каким-то незначащим колкостям. Только однажды он мне что-то колкое отпустил насчет того, что он очень хорошо (и выходило, что неприятно) помнит «еврейских мальчиков 20-х годов». Говорил он это в связи со мной. Выходило, что я ему их напоминаю, и это не должно было мне льстить.
Я удивился и задумался. Нет, я не заподозрил его в антисемитизме. Я слишком хорошо знал, что это не так, и понимал, что не любит он не евреев вообще, а меня лично. Но в то же время я почувствовал, что слова эти были только применены ко мне, а существовали в нем и имели смысл независимо от меня. И то, что он не был антисемитом, а слова эти имели смысл, меня поразило. Я не обиделся и даже не стал пикироваться по этому поводу, а — задумался. Возможно, это слишком сильно сказано — «задумался». Я еще не был готов и не обладал достаточным количеством материала, чтобы всерьез задуматься. То, что я говорю об этих мальчиках, упоминания о которых читатель мог найти в предыдущей книге, — плод размышлений иного времени. Но эти его слова, безусловно, сыграли в них свою роль. Да и сам термин придумал не я. И хотя втайне этими «идейными мальчиками» я тогда еще гордился, я почувствовал уже тогда, что здесь что-то не так.
Можно ли судить этих «мальчиков» (разумеется, речь идет об историческом типе, а не обо всех выходивших в жизнь евреях определенного возраста)? Можно ли судить тех, кого они раздражали? Например, порядочнейшего человека академика Вернадского, за которым непорядочных поступков не числится — ни вообще, ни по отношению к евреям, — но которого в начале тридцатых ужасал напор и засилье «Бердичева» в науке, культуре и политике. Это воспринималось им, а также, наверное, и Луговским, как нечто вроде нашествия варваров. Отчасти оно так и было. Только могу повторить, что это было первым, но отнюдь не последним таким нашествием в нашей послереволюционной истории. И все они были агрессивны. И каждая из этих «волн» оставляла осадок — какая-то ее часть потом, конечно, далеко не сразу, становилась подлинной интеллигенцией.
В этой связи я вспоминаю известного биолога, фамилию которого, к сожалению, забыл (о нем рассказывалось в одном из доперестроечных выпусков «Минувшего»). Будучи в 1949-м, во время антикосмополитской кампании, жестоко травим людьми, которые ему в подметки не годились, он вдруг в ужасе вспомнил, что ведь в начале тридцатых он сам столь же изощренно травил других ученых, которым в подметки не годился уже он сам. И тоже подверстывая обвинения к «нехорошему» происхождению — только тогда не к национальному, как теперь, а к социальному.
Это было покаяние, тем более ценное, что произошло в момент, когда он сам был жертвой, а психологически жертвы склонны ощущать себя невинными. И оно, это покаяние, а не научные заслуги, проявило, что за эти годы этот человек стал личностью и интеллигентом. Такое произошло не со всеми — даже из тех, кому никогда не пришлось никого травить. Некоторые были от природы порядочны и способны, но интеллигентными не стали. Но некоторые — стали.
Тут встает ехидный вопрос — а пока не стали, каково было их переносить? Даже если они не делали подлостей — большинство и не делало, — а просто не «тянули», просто агрессивно судили о том, до чего не доросли? В этом-то они виноваты не были. Это сказывалась история, стоявшая за ними, — историю судить трудно. Кто спорит? Но ведь и переносить ее порой очень не легко. Впрочем, в связи со мной ему приходили на ум не все «еврейские мальчики», а самые завзятые из них — тоже не шибко приобщенные к культуре неофиты, горячие схоласты, потом честно сломавшие себе шеи в разных оппозициях, которым Луговской не симпатизировал. Ехидство его интонации явно относилось к этому. Впрочем, этот разговор был и прошел.
Вряд ли Луговской так уж зацикливался на этих «мальчиках», он и вспомнил о них только затем, чтобы уколоть меня. Я это понимал. Но понимал, что он их именно припомнил, а не просто выдумал. Видимо, я уже тогда, если не понял, то почувствовал, что такая проблема существовала для многих — причем для таких людей, которые антисемитизмом никогда не грешили. То есть существовала в «нашей жизни». И хотя внутренне я потом довольно долго относился к Луговскому достаточно плохо (о чем теперь сожалею), эту его фразу никогда не ставил ему в счет. К ней я отнесся просто, как к информации.
Думаю, что его страх, а от этого и раздражение, вызывало не ко времени размашистое мое поведение. Особенно после того, как я почувствовал себя не враждебным ходу вещей, а своим в доску. Конечно, «прозрев», я ничего крамольного вроде не говорил, ибо не думал. Но сам интерес к этим темам и их обсуждение (хотя бы в связи со стихами) был опасен. Дело было не в том, что я «неправильно» отвечал на вопросы современности, а в том, что вообще возникали эти вопросы. Видимо, считалось, что настоящий советский человек не объясняет действительность, а не видит в ней проблем, требующих объяснения, — разве что в рамках порученного ему дела. А тот, кто что-то себе и другим объясняет, уже по одному этому подозрителен. Безусловно, Луговского пугало то, что я вижу проблемы, о которых не принято говорить (точнее, отказываюсь их не видеть), но, вполне возможно, раздражало и мое приятие их — во всех тогда было намешано много всякого. Тем не менее Владимир Александрович Луговской был поэтом — пусть со многими отклонениями, отказами от себя и т. д. — в нашу страшную, запутывающую людей, сбивающую с ног и с толку эпоху не потерявшим себя до конца. И еще в конце жизни — создававшим подлинные произведения. Мне повезло, что я с ним общался. Я не знаю, чему именно я у него (или у Светлова, или у кого угодно) учился и научился. Но просто эти люди были рядом, писали, думали, разговаривали — и эстафета передавалась.
Из этого, конечно, не следует, что эта передача эстафеты была осознанной и плавной. Эпоха была мутной, все реальности и реалии спутанными. Не все передающие точно знали, что хотят передать, а перенимающие — что из перенимаемого действительно ценно, что в нем суть, а что — упаковка. Но в конце концов что-то оседало и ценное — что осозналось потом. Для меня очень часто через понимание поэзии, которое опережало общее мое развитие. Это понимание выковывалось тоже не только наедине, но и в разговорах со старшими и с друзьями.
Конечно, жил я не одиноко. Об общих отношениях с товарищами я уже писал. Но были у меня и более тесные. На курсе я с первых дней подружился с Игорем Кобзевым и Максимом Калиновским (Джежорой). Потом я более тесно дружил со вторым, но никогда не прерывал своих отношений и с первым. Многим сегодня моя дружба с Кобзевым — даже тогдашняя — кажется странной. Для них он — воплощение бездарности. Чуть ли не антисемит. Но ни антисемитом, ни бездарью он не был, стихи его в юности были талантливы и многое обещали. Конечно, он был «предан без лести», но кто тогда не был таким? Он хорошо учился, живо воспринимал то, что говорили на лекциях наши замечательные профессора. В отличие от меня. От чего я в своих собственных глазах отнюдь не выигрываю.
Мы часто бывали у Игоря дома. Жил он у тети с дядей военным, вскоре военным пенсионером, в большом угловом доме в самом начале Яузского бульвара, короче, на Воронцовом поле. Дядя его, по-видимому, был военным еще во время Первой мировой, а в РККА служил чуть не с ее основания. Почему он сделал именно такой выбор, не знаю — тогда этого вопроса я не задавал не только ему или Игорю, но и самому себе. Мне этот выбор казался для порядочного человека само собой разумеющимся и вполне достойным. Сегодня он мне не столь ясен — ведь пришлось воевать против вчерашних товарищей по оружию. Как решился? Или просто плыл по воле волн? Мобилизовали, а дальше работали аккуратность, добросовестность и исполнительность? Не знаю.
Так или иначе, а его дядю, как и тетю, я и в воспоминаниях воспринимаю людьми добрыми, порядочными и вообще достойными. Удивляла нас всех, заинтриговывала и забавляла только дядина пенсия. До того времени пенсии в стране (кроме, может быть, персональных) были чисто символические — существовать на них было невозможно. А эти, которые вдруг стали положены военным в отставке, были настоящими, даже крупными. Кроме того, отставники получали право на земельные участки площадью до двух гектаров.
Видимо, Сталин хотел создать новую точку опоры — нечто вроде своего военно-служилого сословия. Попытка была нелепая, ибо пирамиду не создают ни с вершины, ни даже с середины. Да и анахронизмом это было, как раздельное обучение в школе — сословность переставала работать и мешала развитию страны еще задолго до революции. Теперь же на поверку она была только декорацией, как «музейный палаш на бедре» самого вождя (В. Боков). Понимал ли я это тогда? Понимал. Но полагал, что раз это делается, значит, без этого никак не обойтись. Хотя сословность во имя революции, солдаты революции, превращаемые в сословие, — все это немного и смущало.
Но нас развлекало не это несоответствие (и не такие принимали), а экзотика — то, что взрослый мужик может оставаться дома, не ходить на работу. Игорь рассказывал, что и самого дядю это не то что смущало, но по новости положения он не знал, куда себя деть. Гулял, встречался с такими, как он сам, отставниками, обсуждали свои дела, завидовали тем, кто нашел себе занятие. И не приходило нам — а может и им самим — в голову, что удивительно не то, что пожилые военные получают пенсии, на которые можно жить — это как раз естественно, — а что мы этому удивляемся. И что это — привилегия, что все остальные старики (в том числе наш С. К. Шамбинаго) ее лишены. Привыкли мы к тому, что вся страна работает на износ, и принимали это за норму. Впрочем, «свои» старики — люди, постаревшие на ее службе, появились у советской власти тогда впервые. До этого все старики у нее были «старорежимные», и за них (таких, как наша симская «немка» или даже профессор Шамбинаго) ответственности она, как мы видели, вообще не чувствовала.
Отец Игоря, тоже участник Гражданской войны, всю жизнь проработал в политотделах железных дорог. В ежовщину арестовывался, прошел через все, через что все там проходили. Но при Берии его выпустили. Он оставался столь же верным, как был до этого. Суммировал он свои чувства к советской власти, связанные с этим печальным фактом своей биографии так: «Целую руку твою, бьющую меня…».
И тогда — особенно тогда — я его понимал. Все мы относились к этому с пониманием и уважением, как к выражению духовной силы, твердости и правильной реакции на «исторические недоразумения». Может быть, у кого-то возникнет желание воспринять его, да и нас вместе с ним, иронически — пусть наслаждаются, — я к этому человеку и к его трагедии иронически не относился, не отношусь и сегодня. Отец Игоря, как мне кажется, был более простым человеком, чем его дядя и тетя, но вполне честным. А то, что его честность и энергия — лучшие его качества, ушли не на то — не его вина. Это часть исторической трагедии его страны.
В этой обстановке Игорь жил и воспитывался. И вырос он человеком вполне честным и преданным, но слишком советским, не терпящим отклонений. Помню, как после того как мы выслушали текст «секретного» доклада Хрущева на XX съезде, он сказал: «Чем же теперь жить?» Рушились для него не только политические иллюзии, рушился мир. Но это было в 1956-м, когда я вернулся из ссылки, а он давно закончил институт. А в институте по нашему тогдашнему (особенно Максима) представлению он был просто слишком правильным. Недостаток этот понимался нами отнюдь не в политическом, а только в поведенческом смысле. У нас с дисциплиной (посещение занятий и пр.) отношения были весьма неформальные, а он этого не терпел. В принципе он был даже прав, но нас это не волновало.
В конце концов Игорь стал секретарем комитета комсомола. Не думаю, чтобы он был карьеристом. Но раз его выбрали, он выполнял свои обязанности как следует и в этом качестве тоже чего-то строго от нас требовал, в связи с чем Максим напоминал: «Видишь! Я ж тебе говорил!» Что это была служба мертвечине, а обязанности в целом мертвящие, не понимали тогда и мы. Но, вероятно, мы что-то и тогда чувствовали, хотя предпочитали этому не иную систему взглядов, а просто некоторую богемность, весьма поверхностную, но все же. Так что конкретно он и не всегда был неправ — требуя посещения лекций и более честного отношения к занятиям. И только из-за этого, а отнюдь не по политическим причинам, близость наша разладилась. Но хорошие отношения с ним у меня сохранялись всегда, хотя и прошли через нетривиальные испытания. Впрочем, о них — в свое время. Сейчас речь о самом начале нашего знакомства.
В то время отец Игоря работал в Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ). Чуть ли не его начальником. Благодаря ему мы попали на один из первых концертов только что вернувшегося в СССР легендарного Вертинского. Концерт этот произвел на меня неизгладимое впечатление — прежде всего полным внешним несоответствием артиста и аудитории. Помимо тех, кто помнил его с молодости, — а их тогда еще было много — зал наполнила послевоенная публика: юные лейтенанты, стосковавшиеся по нормальной жизни, молодые женщины и девушки с их трудными судьбами — прибавить к этому общую несытость, неустройство быта, привычное отсутствие нарядов. А на сцене на высоких каблуках стоял изящный, роскошно по нашим тогдашним представлениям одетый, пресыщенный всеми радостями бытия человек и томным голосом выводил:
— Как хорошо без женщин!..
И тем не менее его поняли, успех был оглушительный — видимо, культурная связь эпох все равно никогда не прерывалась.
Странным городом была в это первое послевоенное время Москва, столица страны-победительницы. Думаю, что строчки Бродского из очень хорошего стихотворения о похоронах маршала Жукова:
Храбро врывались в чужие столицы И возвращались в страхе в свою.— относятся не только к генералам, как буквально в стихотворении, а и к солдатам всех чинов и должностей. Да и не только к солдатам — хоть остальные никуда не врывались и ниоткуда не возвращались. Была некоторая полетность в радости победы, ощущении правоты (да, да, правоты — отчасти ложной, согласен — но ведь перед Гитлером мы и были правы) и в то же время в самом этом полете неосознанная робость — боязнь перейти за необъявленные, нечеткие, но обязательные и вроде бы даже по общему пониманию освященные пределы. Страх был еще и духовный. Но не только. Одно набегало на другое и смешивалось с ним, превращаясь в нечто мутное, нелегальное. Страх, в котором опасно было признаться незнакомым (ибо что ты утаиваешь, раз чего-то боишься?), а подчас и самому себе — словно впрямь ты в чем-то нечист перед чем-то высоким. Последнее относилось ко всем молодым «советским» поколениям, которые, действительно, шли «в гуманисты в сорок пятом» (Д. Самойлов), но которые еще не осознали, что с коммунизмом, а тем более со сталинщиной, несовместима никакая гуманность — а только с ней и ассоциировалось в нашем сознании понятие «гуманизм».
Впрочем, все это было подспудно. В повседневной жизни нашей тогдашней компании страх заметной роли не играл, мы о нем не думали — ни Игорь, ни Максим, ни даже я. Во всяком случае на поверхность сознания он не всплывал. Да и время еще было такое — либеральное, — когда могло казаться, что, если ты предан строю, то тебе ничего не угрожает. Все они знали мои стихи, от которых я, правда, тогда отказался, но им читал. В качестве наследия «проклятого прошлого», но читал. И никто особой беды (той, что последовала) от этого не ждал.
Это была наивность — реально такого «либерализма» при Сталине никогда не было. Именно в это время, когда мы с друзьями были по-юному счастливы, переживали период становления, в нескольких кварталах от нас по наущению Сталина пытали генерала Крюкова (жену его, знаменитую певицу Русланову, тоже прихватили) с целью добыть компромат на маршала Жукова (генералиссимус не хотел делить с ним лавры победителя) — вообще существовала потусторонняя лубянская повседневность. Мы не знали.
Конечно, несколько удивляло, что Жукова убрали из Берлина в Одессу, сообщив об этом между делом таким тоном, словно никаких объяснений здесь и не требуется. Это было странно. Волнующий теперь многих вопрос, стоит ли чтить Жукова (думаю, что все-таки стоит), тогда никому в голову не приходил. Ни у кого из нас, и в первую очередь у наших фронтовиков, репутация Жукова сомнений не вызывала. Да ведь и не за безжалостность к солдатам пинал его Сталин! Такое обращение с самим Жуковым — пусть неосознанно и часто против воли — царапало. Подавлялось, но царапало.
Царапины эти как бы забывались, но все равно оставались, напоминали о бессилии, оседали на дне души несознаваемой тяжестью. Эта тяжесть и стала для многих нормой жизни, определившей их поведение. На это работала и армейская привычка не обсуждать приказы и действия командования. Правило это, для войны и армии необходимое, сильно тогда помогало генералиссимусу и мешало жизни. Это была обстановка, в которой жил народ-победитель. Она была чревата многим, что потом случилось. Но мы ее старались не замечать или «объяснять» (оправдывать). Нам было по восемнадцать — двадцать, мы (в том числе и такие, как я, не нюхавшие пороха) прошли через невероятную войну и хотели жить. И дружили.
Дружил я, как уже говорилось, не только с Игорем, а и с Максимом Калиновским. В институте он существовал под именем Максим Джежора, а печатался потом под именем Геннадий Калиновский — причем как будто ни то, ни другое не было псевдонимом. О сложности своей фамилии, а также происхождении и национальности он рассказывал часто и очень интересно, но за много лет я так и не смог это усвоить. М. А. Светлов, однажды выслушав его родословную, где были пленный француз, поляки, белорусы, чехи и кто угодно, произвел в уме некое электронное вычисление и выдал результат: «Значит, ты серб!» Сербская кровь — едва ли не единственная, которой не было в перечне моего друга, — была получена Светловым аналитически, как среднеарифметическое. Родом он был из какого-то маленького приднепровского городка в Белоруссии. Кажется, Кобрина. Помню, что городок этот был на самой границе с Украиной, и я его легко находил на карте. А вот сейчас не нахожу — ни на одной карте его нет. То ли переназвали, то ли затоплен каким-то северным отрогом пресноводного «Киевского моря», то ли я путаю название. Есть в Белоруссии и другой Кобрин, но тот не на Днепре, а между Минском и Брестом. Ума не приложу, куда этот девался. Во время войны Максим партизанил, потом был в армии, был ранен. Ходил он поначалу в какой-то куртке с башлыком, был очень красив, даже эффектен, пользовался успехом у женщин.
Вот, кажется, и все неважное о Максиме, что я помню.
Максима я всегда любил, моя дружба с ним прошла через многие, в том числе, как и в случае с Игорем, и через не совсем тривиальные испытания (о чем тоже — в свое время). Я очень виноват перед ним. Когда началось мое предотъездное сумасшествие и я начал вращаться среди людей, пусть часто вполне достойных, но почти всегда не очень мне близких (лишь бы как-то связанных с эпопеей отъезда), он был уже очень болен и просил навестить его. Я, конечно, собирался это сделать, но слишком завертелся в этой изменчивой эфемерности. Теперь и не поймешь, с чего это я так? Ведь отъезд в эмиграцию (в котором я вовсе не раскаиваюсь — тогда я не мог иначе) не только никогда не был, но даже и тогда не казался мне моим звездным часом. Но так или иначе — я так и не собрался к нему зайти — даже попрощаться. Уехал я не простившись, и этого уже не поправишь — он вскоре умер.
В институтские годы Максим писал стихи. По-моему, хорошие. Хорошими стихами он был представлен и в литинститутском сборнике, вышедшем, когда я был в тюрьме или уже в ссылке. Но когда я вернулся после смерти Сталина, он уже был прозаиком. В самом этом факте нет ничего удивительного — многие прозаики начинали со стихов. Но в данном случае мне жаль, что это вышло именно так. Как поэт, он гораздо больше обещал — не только мне, но всем, кто его слышал. А проза… Что ж, проза его была вполне добротна. Чуточку романтична, к чему он имел естественную склонность (вероятно, от поэзии), он выжимал максимум возможного в пределах навязанных норм «бесконфликтности», вне которых существование в литературе в последние годы жизни Сталина было невозможно, не лгал. Но выше добротного среднего (для тех времен высокого) уровня эта проза не поднималась. А стихи — и те, что уже были при мне, и те, которых, судя по ним, можно было от него ждать, — поднимались. По-моему, они были более соприродны ему, проза их только заменяла.
Почему он перешел на прозу, я могу только предполагать — почему-то мы об этом ни разу не говорили. Думаю, что в какой-то момент его соблазнили некоторые возможности, с ней связанные. Можно было ездить по экзотическим местам, встречаться с интересными людьми, писать их на фоне этой экзотики. Получалось интересно, нелживо и искренне — к таким людям его и без того всегда тянуло. Исчез только — и то частично — тот обобщенный взгляд, который был в его стихах и без которого поэзия невозможна. Но сейчас я пишу о Максиме не 1953 года, когда он уже давно писал прозу, а 1945-го, когда он о прозе еще и не думал, когда мы все на прозу смотрели несколько свысока: в духе строк из пастернаковского «Спекторского»:
За что же пьют? За четырех хозяек, За из глаза. За встречи в мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик И полубогом сделался поэт.Восприятие часто — особенно в юности — зависит от состояния. Я тогда не замечал (думаю, что и другие тоже) в последних двух строках этого четверостишия той иронии, которой они явно пронизаны и которую предыдущие две его строки вполне подготовляют и определяют. И именно потому, что у нас в юности была приблизительно та же нетрезвая шкала ценностей, что и у подвыпивших гостей из пастернаковской поэмы.
С Максимом мы проводили вместе много времени, вместе заводили знакомства — часто очень интересные. Пили, как уже видел читатель, вино и водку («для славы — не потому, что хороша» — по Твардовскому), готовились к экзаменам и пр., и пр. Думаю, что он не раз появится на этих страницах.
Упоение у бездны-2
(Дружбы, взлеты и падения послевоенных сороковых)
Наиболее яростные из нынешних (середины девяностых) хулителей поколения шестидесятых относят и меня к этой хулимой ими группе. Ничуть не стремясь отвести от себя «причитающуюся» мне часть этой пропагандной хулы и вовсе не отмежевываясь от других шельмуемых «по этой статье», среди которых много весьма достойных и любимых мной людей, я тем не менее в интересах истины (а иначе нет смысла писать такие мемуары) — должен сказать, что всегда ощущал себя человеком не шестидесятых, а сороковых годов.
Мое становление и мое неприятие сталинщины связаны не с «оттепелью» 1955–1965 годов, не с разоблачениями XX съезда КПСС, а с временами более ранними. И происходило в менее инфантильной форме, чем потом давались объяснения. Я знал, что Сталин не только нарушал «ленинские нормы» и отходил от «нашего великого мировоззрения», как признал съезд, а и вообще растоптал всякое подобие мировоззрения. И то, что через год после съезда я отверг и само это мировоззрение (в «истинном» и «чистом» виде, в рамках коего я до той поры существовал), не имеет никакого отношения к тому, что говорилось на съезде. Это не значит, что этот съезд не имел никакого значения для моей судьбы. Имел, и колоссальное — хотя общество не было освобождено от принудительной инфантильности, все же часть того, что я думал (еще веря в коммунизм), стало возможно произносить громко, я стал полулегален.
Но это было в середине пятидесятых, а сейчас речь идет о середине сороковых. Десять лет вообще большой срок, а эти — и говорить нечего. До выхода к какой бы то ни было ясности мне при всей моей относительной трезвости было еще очень далеко. Вспоминать мне этот период своей жизни во многих отношениях неприятно. Хотя речь пойдет о проблемах творчества, а при всей моей общественной заряженности мои представления о поэзии всегда сохраняли некоторую автономность от моих иных взглядов, как бы горячо я их ни исповедовал. Нельзя сказать, что они вовсе не действовали на меня, но в целом в этом смысле я развивался свободно. Но только очень — «в целом». Ненужных (не только по теме) — скажем так — стихов я написал тогда много.
Рассказывая в предыдущей главе о своем друге Максиме в связи с тем, что он из поэта превратился в прозаика, я мимоходом заговорил и про необходимость для поэта обобщенного восприятия — этого требует любое искусство, а уж поэзия наиболее прямо и непосредственно.
То, что люди этой проблемы не замечали, что о ней приходится напоминать, всегда меня удивляло. Ибо голос поэта, который в процессе чтения становится голосом читателя, при всей субъективности содержит и некую объективацию, обуславливающую и оправдывающую такую возможность. Это частное переживание должно быть таким, чтобы в нем попутно раскрывалось то, что задевает ценности, важные для всех, то, чем эмоционально дорожат все — даже те, кто именно того чувства, которое вызвало к жизни стихотворение, сам никогда еще не испытывал и в такую ситуацию не попадал. Если же стихотворение нас заставляет чувствовать то, что нашей душе ничего не открывает и приобщение к чему не приносит никакой радости (скажем по-старинному — не возвышает) — такое «самовыражение» при любом мастерстве и выразительности не «окупается», даже если нечто подобное в жизни читателя было. Впрочем, напоминание о пережитом тоже трогает, но переживание это замкнуто в себе, связано не со стихами, а с самим фактом, и не имеет ничего общего с эстетическим наслаждением.
Голос поэта — голос личности. Значит, человека, осознавшего себя самим собой по отношению к другим людям, к миру, к жизни. Естественно, к современным людям жизни и миру — с другими он дела не имеет. Личности свойственно свое личное представление о них. Личное! Независимое! И эта независимость ощущается в стихах, даже тематически абсолютно нейтральных к будоражащим острым проблемам современности. Она проявляется во всем, в самой тональности голоса, в звучании стиха.
И как ни странно, начальством, ни уха ни рыла в искусстве не смыслившим, это тонко воспринималось. Независимость и самостоятельность, звучавшие в голосе, оскорбляли его почти иррационально при любом приятии действительности и не допускались. И вычеркивались. Вычеркивающие чаще всего мало что понимали, но интуитивно со своей ублюдочной точки зрения были правы (впрочем, иногда это делали и те, кто понимал, но вынужден был служить, а значит, и чутко улавливать иррациональную логику подобных «веяний»). Как?! Кто-то на глазах у людей «берется» определять что бы то ни было самостоятельно, а что бы это ни было, это вопросы взаимоотношения его с мирозданием, а опосредованно — и с современностью, и все это — самостоятельно! То есть с тем, о чем сам запрещающий и помыслить не посмел бы! И поэтому как бы вдохновенно автор ни принимал политику партии, за ним все равно ощущалась и возможность иного решения — в то время как на это, как и на все вопросы бытия, уже существовал обязательный ответ, который должен был приходить в голову раньше вопроса. Подтверждать этот ответ самостоятельно была такая же дерзость, как и отрицать его, что, конечно, тоже было немыслимо для запрещающего.
Ответ этот был примитивный и фальшивый, требовавший для своего принятия добровольного согласия на инфантильность. Чаще это согласие бывало подсознательным, ибо в своих частных делах и соображениях человек инфантильным не становился. Подсознательное это согласие было не инфантильностью, а вполне взрослой психической самозащитой. И тем более опасным для духа это было. По-настоящему инфантильным (и трагическим) здесь было только то, что многие при этом всерьез ощущали себя поэтами, философами, историками и т. п. Да ведь и бывали — когда творческая стихия выносила их за пределы этой клетки.
На это многое навертывалось. Ведь об особенности поэтической речи говорили тогда, как и теперь, почти все. Это как бы связывало тогдашнюю литературную молодежь с традицией Серебряного века и «легендарных двадцатых». И в конце концов сводилось к известному речению: важно не «что», а «как», и к «тропам», именуемым «образами» (а умение все это употреблять — «мастерством» или даже «владением формой». Это всегда многих соблазняет. Тогда — локально в первую очередь — многих фронтовиков. Это помогало фиксировать впечатляющую и без того страшную и героическую «правду о войне», конкретные и замкнутые на самих себе переживания на грани жизни и смерти. И при этом обходиться без общей «правды о жизни», то есть без свойственного каждому настоящему художнику, хотя и проявляющемуся часто только исподволь общего взгляда, общего «образа» жизни, образа всей жизни в целом. Но без этого обходились.
К переживанию, реальному, острому, но чаще неличностному (с отсечением всего, чем жил автор — или, как тогда говорили, «лирический герой» — до ситуации, вызвавшей это переживание), применялось «мастерство» «художественной» обработки, и все как бы было в ажуре. И стихи получались вроде искренние — и на жизненном материале. Но скоро я заметил, что в этом не всегда есть «еще что-то», без чего нет поэзии. Причем касалось это не только самого момента творчества, а и того, что было до этого — полноты правды жизни, над усечением восприятия которой подсознательно работали до этого. А ведь поэзия только и может проявляться, как ответ на эту правду. Разумеется, поэзия к этому (к осознанию правды жизни) не сводится, но без этого не обходится. Конечно, этому самообольщению всемерно способствовало и распространенное в литературных кругах более кардинальное заблуждение — то, что средства выражения мыслились как средства охудожествления или поэтизации.
Ясно, что до требования обобщенности речи эта, не слышащая саму себя «мысль» не доходила, словно и без нее мышление о творчестве остается естественным и содержательным, и все это закономерно. Конечно, люди взрослели и умнели — даже тогда, но далеко не все, и с этим заблуждением я вел отчаянную борьбу, даже стоя на «правоверных» позициях. Необходимость обобщенного отношения к бытию неотменима при любых общественных взглядах художника.
Но это ведь проявление прямых взаимоотношений поэта и бытия — что не столько было запрещено, сколько вообще было немыслимо. И потому вычеркивалось. О необходимости самостоятельно оценивать современность не могло быть и речи, требовалась, а фактически декретировалась инфантильность. Как же тут могла не раздражать естественность самостоятельного (а значит, и независимого) голоса настоящей поэзии?
Проза, особенно военная (Панова, Некрасов, Казакевич и др.), и тогда еще могла кое-как выкручиваться, а в поэзии состоялся только Симонов (явление яркое, но второго порядка, приблизительное) и (поскольку, как уже сказано, по ошибке был поначалу принят за русского Джамбула) Твардовский. Впрочем, замечательную и трагическую его поэму «Дом у дороги», дав ей сгоряча Сталинскую премию (правда, и сгоряча — только второй или третьей степени), потом и вовсе «раскритиковали». Хотя никакой крамолы она не содержала. Почувствовали чужое, взрослое.
Проблема эта, как видите, шире перехода Максима на прозу, чем бы этот переход ни объяснялся — тем более, что во время нашей совместной учебы в Литинституте, когда наша дружба была наиболее тесной, он еще писал стихи и был одним из наиболее талантливых и обещающих поэтов нашей alma mater.
Впрочем, все мы блуждали в потемках. Я, к примеру, очень рано стал понимать сущность поэзии и невозможность ее полного подчинения любой доктрине — даже если автор в ее истинности не сомневается. Но от понимания какой-либо (не говоря уже о полной) несовместимости сталинщины с поэзией (по существу, с жизнью) был тогда, как помнит читатель, еще весьма далек. Хотя на практике, в творчестве, я все время на эту несовместимость напарывался.
Положение мое в этом отношении психологически было трудно. Я жил в окружении людей, писавших стихи, относился к ним по-товарищески, в основном это были люди талантливые, но их стихи чаще всего мне не нравились. Что же мне не нравилось? Написаны они бывали обычно хорошо, отсутствие в них крамольности тоже не могло меня тогда от них отталкивать, свои тогдашние стихи я тоже никак не относил к крамольным. А вот не нравились.
Конечно, не сплошь. Помню, мне нравились стихи Михаила Годенко (потом тоже стал больше известен как прозаик) — крамолы в них и близко не было, но просвечивала лирическая интонация. Отсутствие «лирической интонации» вовсе не означает отсутствия у пишущего или даже в его стихотворении всякого чувства. Такое предположение, как бы отрицающее в ком-либо самое способность сильно чувствовать, не имеет отношения к делу. За большинством писавшихся и читавшихся вокруг меня стихов, в которых я не находил «лирической интонации», чувство стояло, а часто стоял и существенный жизненный опыт — война.
Но лирическая интонация по существу объемна, она не просто несет в себе чувство, а выражает его как проявление «жизни души», и таким образом связана со всем миром ее представлений, упований и надежд. И — с личностью, в каком бы зачаточном состоянии она ни находилась, — с ее внутренними требованиями к бытию вообще.
Мне в стихах моих товарищей не хватало воздуха. Почти у всех были сильные впечатляющие строки, но почти всегда замкнутые на том впечатлении, о котором повествовали. Не следует забывать, что еще недавно (года четыре назад) писать и о том, что на войне убивают, было признаком «смелости» и «правдивости», что само по себе производило впечатление поэзии. Между тем как средствами поэзии выполнялась прозаическая задача — рассказать, в лучшем случае дать почувствовать конкретную обстановку.
Нет, речь не о рифмованной прозе, против которой бывает нацелено все ученичество — иногда до седых волос. Тут тоже многие запутываются, ибо поэзия может проявляться по-всякому, иногда она принимает вид прозаического изложения сюжета или мысли. «Рассудочности» — обязательно скажут по поводу последней такие «ценители», — а это необязательно: мысль тоже может быть выражением чувства. И вообще определение принадлежности к поэзии по признакам — дело гиблое. Но разобраться с рифмованной прозой сравнительно просто. Такая простодушная имитация творчества была чаще всего, по выражению Бориса Слуцкого, «оборотной стороной ликвидации неграмотности» — другими словами, объяснялась низким уровнем литературной (а иногда и общей) грамотности тех, кто этим грешил.
То же, что я имею в виду — применение средств поэтического выражения (а не только стихотворного размера и рифмы) для решения прозаической задачи, — явление, весьма далекое от неграмотности. Оно связано с непониманием и инстинктивной подменой иерархии ценностей и представления о высокой сути поэзии. Часто с имитацией: все есть, но все не по делу — не поется, в лучшем случае только читается, а эмоциональные толчки не выходят за границы темы. Конечно, подмена эта бывала чаще неосознанной, но воинственной, все эти «правила» «высокого» вкуса декретирующей. И не попасть в эту струю, противостоять ей было трудно.
И ребята, возвратившиеся с фронта, становились легкой добычей этого облегченного вкуса. Они были переполнены впечатлениями, но все равно границы бытия воспринимались большинством из них как границы интерьера — чаще сталинского, ограниченного представлениями сталинщины. Поэтому, как бы сильно порой ни передавались окопные впечатления, они оставались прозаическим сообщением — поэзия не ощущать потребности в небе, не рваться к небу не может. А какого тебе еще неба нужно, если ты живешь под солнцем Сталина и всех побеждаешь?
Однако вернемся к самому сильному из таких стихов, к гудзенковскому «Перед атакой».
Когда на смерть идут — поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — Час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг И почернел от пыли минной. Разрыв! И умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота. Будь проклят сорок первый год И вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, Что я притягиваю мины. Разрыв! И лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, И нас ведет через траншеи Окоченевшая вражда…Эти первые девятнадцать строчек — сильные и точные. Только самая первая неточна — в таких случаях обычно не поют. Тут поэт отдал дань предвоенной романтической традиции. Стихотворение продолжается, но оно уже перевалило за кульминацию, ему нужен завершающий выход. Этот выход требует общего отношения к жизни, общего ее образа, а этого нет.
Советский человек был по крайней государственной необходимости отпущен в реальность только на время войны, и не так далеко, чтобы воскресить какое-либо отношение к «бытию вообще».
Некоторые гудзенковские товарищи по ИФЛИ все-таки старались выработать это общее отношение, отнюдь не крамольное, но свое. Но они заходили в этом отношении дальше принятого тогда, а это не поощрялось. Гудзенко не заходил. И, как я помню, совершенно искренне — у него и потребности такой не было.
Иногда ссылаются на то, что поэтам необязательно (а то и противопоказано) быть мыслителями, бывают они и чисто чувственными. Кто спорит, бывают. Но личное отношение к бытию тоже необязательно мысль, оно просвечивает и сквозь чувственность, оно есть, например, за каждым стихотворением не только Тютчева, но и Фета.
В это последнее до большевиков, и особенно до сталинщины, никто не вторгался, ибо никто не стремился подменить картину мира в мозгах людей. Впрочем, поэтому до сталинщины выработка или отстаивание этого общего отношения к бытию никогда и не требовали от человека такого интеллектуального и духовного напряжения. Даже в случае полного (и самообманного — иного быть не могло) согласия с властью. Гудзенко таких напряжений не любил, такого отношения не выработал, завершить это стихотворение ему было нечем. И инстинктивно схватился за суррогат — дальше стихотворение движется путем прозы и натуралистической фантастики:
Штыком дырявящая шеи. Бой был коротким. А потом Глушили водку ледяную. И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь чужую.Я вовсе не пытаюсь выдать эти пять строк за рифмованную прозу. Нет, это стихи. Все элементы стиха не просто присутствуют, а работают, само звучание стиха (фонетика), интонация, рифмы. Рифмы стоят не просто так, а выделяют и отделяют — в соответствии с интонацией. Весь вопрос — на что они работают. А работают они только на то сообщение, которое несут, сообщение совершенно прозаическое — вот, дескать, что было после такого ожидания атаки — истомились и сами озверели.
Теоретически эти строки должны даже усиливать то ощущение противоестественности войны, которым движется стихотворение, но на самом деле оно топчется на месте — эти строки дополняют сказанное прозаическими деталями. Это, конечно, впечатляет. Но впечатляет, как в прозе. Когда нормальный человек выковыривает из-под ногтей чужую кровь — это страшно в прозе. Если подумать, такая деталь может сказать о многом. Но — «если подумать», а стихи вроде совершенно чувственные. Да и сама мысль в поэзии, если она в стихах выказывается прямо (другими словами, органично «выдыхается» стихотворением), действует не через «если подумать». Но здесь эта впечатляющая деталь только замыкает стихотворение на том, что уже сказано, замыкает его на прозе. И как бы сводит все стихотворение к более плоскому звучанию, чем задано его волевым замыслом, началом и течением.
Многие читатели, покоренные всем остальным, конец как бы домысливают или доигрывают. Но мне, наоборот, из-за этого конца оно, как уже говорилось, долгое время и казалось целиком плоским — сильным, но плоским. В этом я был неправ.
Возможно, такие несоответствия я воспринимаю слишком нетерпимо. Но речь сейчас не об оценке этого стихотворения, а о проблеме. Ведь далеко не все стихи о войне имели такие начала или были столь сильными, но почти все, отнюдь не будучи рифмованной прозой, сводились к тому же. Тогдашние, 1944–1945 годов — фронтовые стихи в массе своей не были, не относились к тому, что потом стало называться «поэзией военного поколения».
Некоторые оспаривают это название, называют даже отнесенных к нему узурпаторами. Чаще всего это делается из «патриотических» соображений, поскольку видное место в поэзии этого поколения занимают Борис Слуцкий и Давид Самойлов, а до войны занимал Павел Коган. Но оснований для «патриотической» тревоги нет — к нему относились еще погибшие Михаил Кульчицкий, Николай Майоров и Николай Отрада, а из выживших — теперь их уже тоже никого нет — Сергей Наровчатов. Из непричастных к этой ифлийской группе (в которой не все и были ифлийцами) я вполне бестрепетно могу отнести к этой формации Михаила Львова и Юлию Друнину. Более опосредованно Евгения Винокурова и Николая Старшинова, хотя по духу оба далеки от «ифлийства».
Но в этот список входят не все хорошие поэты того периода. Например, нет в этом списке Валентина Берестова (он, правда, тогда временно исчез из виду), очень хорошего поэта, с которым я дружил всю жизнь, нет и самого Николая Глазкова. Оставлены только те, для кого эта страшная война была еще и шагом к осмыслению духовной и общественной коллизии, возникшей в нашей стране до войны. Глазков развивался иначе. Он внутри этой коллизии не находился никогда. Грустно отмечаю, что никого из них уже нет.
Конечно, я назвал не всех, кого надо назвать. Не упомянул я, например, Солоухина, который, правда, потом больше прославился как прозаик, — у него до конца жизни бывали пронзительные стихи, не упомянул и многих других. Но я ведь здесь пишу не обзор и не претендую на полноту списка. Кстати, писать этот тогдашний обзор сегодня было бы мучительно. Ведь все это были талантливые люди, в каждом «что-то было» и в то же время далеко не от каждого, в ком «что-то было», что-то и осталось. И отнюдь не всегда это связано с естественным возрастным «отсевом».
Время было более чем «трудновато для пера», оно слишком затрудняло самосознание, превращало его в сложный путь человека к самому себе. И вместе с этим слишком облегчало отказ от этого пути, который выглядел гораздо респектабельней, чем сам путь. Тем более что выход к себе к тому же — только возможность творчества, а не свершение, только старт, но никак еще не победа. А тут ты начинаешь свершать сразу, и читатель благодарен — ты ведь не врешь, рассказывая о войне, — и начальство к тебе терпимо. Впрочем, последнее до времени. Очень скоро было объявлено: поменьше надо о войне, побольше о наших трудовых буднях, о современности. Такое декретирование застало молодых писателей и поэтов, считавших, что идут в ногу, врасплох, попытались и тут идти в ногу, но успехов на этом пути, на мой взгляд, достигнуто не было. Многих раздавило. Принялись писать лирические, (эмоционально-мастеровитые) стихи на производственные темы. Но за этим превращением я уже мог следить только издалека, из ссылки, и как оно происходило в деталях, не знаю. Потом это испарилось.
Перипетии времени, которые потом забывались, смысл которых теперь трудно доступен, запутывали людей и ломали судьбы. Не исключено, что в широком смысле это судьба всех нас — переживания, связанные с перипетиями времени, из которого мы вырывались к вечности и гармонии, могут оказаться слишком специфическими и загубить для потомков наши стихи и наши блуждания. Но альтернатива этому — отказ от себя, инфантильная игра в гения, работающего непосредственно на вечность. Это еще дальше от долговечности. Но это уже о другом. А что касается моих сверстников, о которых я пишу, то жизнь богаче и непредсказуемей любых схем. И как их ни ломало время, как они ни поддавались этой ломке (а я пишу сейчас именно о таких), все равно у многих из них были стихи, в которых они стихийно выражались полностью и из которых я бы сегодня с удовольствием составил антологию поэтов моего и близких ему поколения — антологию стихов, которые эмоционально, читательски существуют и сегодня. Это долг справедливости по отношению не только к стихам, но и к судьбам их авторов, доказательство, что они существовали. Мал выход? Что ж, такие были условия — с малым выходом работала вся страна.
Но пишу я сейчас о своей жизни. Не обходилось без курьезов. О поэтах-ифлийцах я слышал еще до войны в Киеве. А вот о Михаиле Львове получил самое превратное представление в эвакуации. До того как он пошел добровольцем в уральский танковый корпус, он работал в челябинской областной газете (кажется «Челябинский рабочий»), где печатал «дежурные» стихи на случай. По этим стихам я и составил о нем представление. И поэтому, когда он однажды появился на литобъединении в «Комсомолке» (его, кажется, привел Иван Бауков), я, осведомившись, не тот ли он Львов, который печатался в «Челябинском рабочем», и получив утвердительный ответ, без обиняков разоблачительно объявил (тогда разоблачительный пафос был еще мне свойственен):
— Так вы халтурщик!
Началась идиотская перепалка (в основном на тему: «А ты кто такой?»), которая, естественно, ничем завершиться не могла. Но в конце занятий Михаил Львов прочел свои настоящие стихи, нисколько не похожие на его газетные, и я был сражен. На следующее занятие — так получилось — мы с ним пришли первыми. И заговорили как ни в чем не бывало. Но все же я сказал:
— Я должен перед вами извиниться… Мне очень понравились ваши стихи. А эти челябинские — ничего не значат. У меня у самого такие были в Симу.
Поразительно, что об этом последнем обстоятельстве в порыве разоблачительного пафоса я почему-то не вспомнил. Так или иначе, но в тот вечер мы последний раз были друг с другом на «Вы». У нас тогда сразу установились дружеские отношения. На всю жизнь. Отношения не очень тесные, но прочные — сблизило нас общее понимание поэзии. Да и жизни. Мы оба тогда не были бунтовщиками, оба тогда принимали свое время, но оба же считали его трудным, сложным и трагическим, требующим от человека силы и мужества — для сохранения личности. Это очень утяжелило мое состояние после ареста — я все равно старался держаться за это декретируемое «мужество», не изменяя вере из-за «неурядиц». И все-таки это что-то мне дало. Что-то за этим стояло и такое, что помогало и потом, когда я вернулся в мир реальных человеческих ценностей.
Конечно, тем, кто издавна помнит Михаила Львова и его стихи, объяснять ничего не надо. Но сегодня, когда приходится специально доказывать молодым людям, что Твардовский не просто знаменитый редактор «Нового мира» (впрочем, для иных и это не заслуга), а прежде всего большой поэт (мне самому приходилось это делать — правда, его стихи убеждали), принимать в расчет Михаила Львова мало кому теперь вообще придет в голову. А зря. Те стихи, которые я услышал тогда в «Комсомолке», живы и поныне. Они тоже были о войне. И о любви к родине. Как и многие. Но — не как многие…
СТЕПЬ (1941) Березок тоненькая цепь Вдали растаяла и стерлась. Подкатывает к горлу степь… Попробуй, отними от горла. Идет машина в море, в хлеб, Солдат открыл в кабине дверцу… И подступает к сердцу степь… Попробуй, убери от сердца.Конечно, это стихи о любви к родине, о тревоге за нее. Чувство извечное, обостряющееся в момент опасности. Но острота этой любви придает им еще терпкий привкус современности. И не только потому, что в других местах такие хлеба уже горели, подожженные войной, а потому, что в нем есть и открытие в себе этой любви. Ведь долгие годы она почиталась чуть ли не низменной, а потом была заслонена казенным патриотизмом. И вот сквозь это все она вдруг открылась в своей простоте, остроте и высокости. И именно это придает голосу достоверность. Стали ли бы Пушкин или Некрасов фиксировать внимание на том, что в такой момент к горлу подступает степь? Каждый к вечной теме выходит с того места, где стоит, из своей современности, из своего состояния. А стихи потом существуют вне повода, их породившего.
Надо сказать, что к своей современности Михаил Львов относился весьма пристально.
Есть мужество, доступное немногим: Все понимать и обо всем молчать. И даже в дружбе оставаться строгим, И если боль, о боли не кричать.Автором тогда, безусловно, владели чувства отнюдь не оппозиционные, хотя стихи эти могут читаться и так. Просто потому, что в них есть дыхание жизни, обобщенный ее образ, потому что они реакция на жизнь. «Мужество, доступное немногим» — «мужество» самоотречения, мужество понявших правильность «выбранного нами» пути и согласных переносить все с ним сопряженное: мытарства, несправедливости — все «нетипичное и исторически несущественное» на фоне этих великих и неизбежных свершений.
Конечно, есть в этом пафосе наивная (свойственная тогда и мне) и, объективно говоря, свинская уверенность, что «нас» лично, понимающих «важность целого», жестокие «нетипичные», «не выражающие сути случайные частности» не заденут (из уважения к нашей внутренней силе и сознательности, что ли). Кто был бы (бы!) тогда умнее — пусть наслаждается своим предполагаемым превосходством, а мы — барахтались. В этой связи вспоминается отрывок из какой-то длинной, написанной в эпоху декретируемой «бесконфликтности» и отчасти по ее канонам поэмы об Урале (я ее уже в ссылке читал). Отрывок, для такой поэмы неожиданно пронзительный. Хотя внешне тоже совсем официозный.
Ты помнишь, домну новую пускали? Друг друга обнимали, поздравляли. Идет чугун! Дорогу чугуну! Дорогу в жизнь, в строительство, в страну. Идет чугун из домны молодежной. Идет чугун, весомый и надежный, Дорогою единственно возможной… …И скоро в жизнь отправились мы сами Единственно возможными путями…Не Львова и не моя вина, что и эти единственно возможные пути оказались вообще не путями. Но само это ощущение необходимости пути и трудности его нахождения в атмосфере сталинской прострации было ощущением реальности, было жизнью духа. И как ни иронизируй, все же те, кто барахтался, были живее и выше тех, кто просто тонул в обступавшей его прострации и с ней сливался. Львов не тонул, не сливался, а барахтался. И потому кое-что написал и был поэтом. А интеллектуальные ошибки при нормальном восприятии реальности на истинности поэзии сказываются не всегда.
Кстати, пафос такого «мужества» поддерживался и свежей памятью о тяжелых, но победных свершениях Великой Отечественной войны, когда тоже с «частностями» не считались (напоминаю: как, почему и насколько не считались — никто из нас тогда не знал и не представлял). Военные образы пронизывают и стихотворение Львова о мужестве, доступном немногим, цитирование которого я на время прервал. Теперь продолжу.
И как снаряд, лететь в сражений гущу, Чтоб в дальность цели, как в мишень, войти. Металлу, как известно, не присущи Лирические отступы в пути. … … … … … … … … … … … … … … … Так ты пройдешь немедленно и гордо, Как полководец сквозь железо лет. И станешь безошибочным и твердым…Но при всех своих военных ассоциациях эти стихи — не о войне. Они так же пронизаны мужеством самоотречения, но по иному поводу. Дальность цели, куда, как в мишень, должен в конце концов войти снаряд-поэт, ради достижения которой нужно пренебречь всем на своем пути — в том числе собственными эмоциональными и нравственными проявлениями. Это не скопления или укрепления противника, а нечто гораздо менее опасное, но более космическое, что ли. И это так — хотя, если нынче вспомнить о тогдашней реальности, можно и поразиться: о чем речь? Кто и в какую дальность цели запускал тогда такие снаряды? Кто тогда вообще интересовался этой дальностью, чтобы чего-то в нее запускать? Это сами мы себя запускали — и не себя, а свое воображение, так истолковывая имеющие иной, низменный ублюдочный смысл команды и свое исполнение их. Это ли не инфантильность? Спросить могут, но это не «вопросы на засыпку». Неверная оценка политического положения в стране или даже исторического смысла событий, инфантилизмом, о котором шла речь, не являются. Тем более в поэзии.
Если реально воспринята подлинная атмосфера времени и подлинен поэтический поиск выхода из нее — для поэзии этого достаточно. Инфантилизм, в который нас вгоняли, — это именно игнорирование реальной атмосферы времени, а не необходимость искать выход из нее. Но Михаил Львов при любом своем «созвучии эпохе» почему-то этим не удовлетворялся и искал — он был поэтом. И апогей этого целеустремленного самоотречения, разрядка его, появляющаяся только в последней строке и неожиданная тогда даже для меня (хотя мне и понравилась), странным образом, «от противного», подтверждает это:
Но тут уже кончается поэт.С точки зрения тогдашнего «духа», это было более чем странно. Даже для мысли оппозиционной. Почему ж поэту кончаться, если выполнен замысел? А уж с точки зрения официозной и говорить нечего: как же так «кончается поэт», когда под солнцем сталинской Конституции все только начинается и расцветает! Думаю, что напечатаны эти стихи тогда были по ошибке — обманул (хотя сам автор никого тут обмануть не стремился) военный колорит: металл, снаряд, мужество — начальство мыслило «фонетически» — его успокаивало привычное звучание должных слов. Мои стихи той же направленности, но лишенные этого колорита, тогда не печатались. Но факт остается фактом — Михаил Львов сумел тогда опубликовать ряд хороших и вполне взрослых стихов. И это одно из них.
Дружественные отношения с Мишей Львовым у меня сохранялись всю жизнь. Менялись эпохи, и взгляды наши менялись — и его и мои, — впрочем, не очень отдаляясь друг от друга. А отношения оставались, и оставалось взаимопонимание.
После ссылки мы с ним встретились, как не расставались. Он сильно «продвигал» мою первую книгу в издательстве «Советский писатель», где он тогда заведовал отделом русской поэзии. А это при обилии сочувствующих было все равно совсем непросто. Чтобы усыпить бдительность тогдашней дирекции, договор по моему предложению был составлен так, чтобы показалось, что речь идет не о «сенсационном» авторе, а о каком-то начинающем, которого следует поддержать — гонорар мне был выписан не по рублю сорок, как обычно, а только по рублю двадцать за строку. Видимо, директор издательства небезызвестный Лесючевский моего имени, к счастью, тогда не знал, оно было для него заслонено другими именами, которых тогда ругали. Как и от американских русистов, но это уже не было к счастью.
Впрочем, последнее происходило уже лет через десять-двенадцать после выхода «совписовской» книги, а сама она вышла только лет через двадцать после времени, до которого я пока добрался.
И вспоминаю я сейчас о взглядах Львова и моих, какими они выглядели в середине сороковых, а не потом. Хотелось бы, конечно, выглядеть и тогда чуть умней, но — не выглядели. Однако мне не кажется, что те, кто совсем не думал или старался не думать, выглядели достойней.
Примерно в то же время установились у меня дружеские отношения и с Сергеем Наровчатовым. Тоже не слишком тесные, но дружеские и тоже продолжавшиеся всю жизнь — до моей эмиграции.
У многих представление о Сергее Наровчатове установилось стойко отрицательное. Оно вроде не лишено оснований, ибо связано с постами, которые он занимал в 1960–1980 годы, — не самые кровавые, но все же тоже не слишком почтенные годы советской иерархии. С этим связаны некоторые его действительно прискорбные выступления и высказывания, которые многим памятны и его не красят. Да и что греха таить — и многие стихи «правильного» направления, мастеровитые, но мертворожденные, за которыми не ощущается никакой внутренней потребности их появления на свет. Поэтому иногда некоторые недостаточно компетентные, но вполне тенденциозные критики даже поминают его имя, перечисляя бездарных стихотворцев, существовавших только благодаря поддержке власти. Но это аберрация. Скорее, все было наоборот. Он был ярко, празднично талантлив, и все кто жил рядом — от Глазкова до Евтушенко — прекрасно это знали, и его роман с властью ему только мешал. И когда будут изданы по-настоящему избранные (значит, строго отобранные) его стихи, в этом убедятся все.
Но прежде, чем перейти к более конкретному разговору об этом поэте, я хотел бы здесь поговорить об одном его стихотворении, написанном в 1946 году и никак не являющемся для него шедевром. По виду, а отчасти по сути это вполне официозное стихотворение. Однако только по виду, а по сути только отчасти. Ибо внутренняя потребность, толкнувшая к его созданию, сквозь него просвечивает — во всяком случае, просвечивала в момент написания, а это не черта официоза. Вернее, я постараюсь отчасти пересказать, отчасти процитировать свою статью об этом стихотворении, напечатанную года три назад в журнале «Литературное обозрение». Ибо в этом стихотворении наиболее ярко выразились соблазны и блуждания, свойственные не одному Наровчатову. Пересказ этой статьи (конечно, и с уточнениями — два года тоже срок) тут тем более уместен, что она уже хотя бы в связи с отмеченным выше носит и автобиографический характер. Главная трудность — избежать повторений.
Обратимся к тексту. Привожу его в том виде, как услышал и в каком оно — в чистом виде — никогда не публиковалось. Вот так оно звучало.
МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ Наш стаж еще не вымерян годами, Пять лет от силы — вот он, кровный, наш! Но он шагал такими большаками, Где день за год засчитывался в стаж. Нам партия дала свои начала И вехи, по которым нас вела, Рукой отдела кадров записала Навечно в наши личные дела. Не раз мы были пулями отпеты, Но исходив все смертные пути, Мы с семизначной цифрой партбилеты Сквозь семь смертей сумели пронести. И правильность законов диамата Проверили с гранатами в руках На улицах Орла и Сталинграда, На венских и берлинских площадях. Чужую старь сличая с нашей новью, Мы, повидав полдюжины столиц, Узнали цену каждому присловью Изрядно обветшавших заграниц. Испытанные партией на деле, Мы с ней пришли к черте большого дня, Когда нам приказали снять шинели, Не оставляя линии огня. Ну что ж, нам эта формула знакома. И мы живем уже недель полста Во власти предписания райкома И свежего газетного листа. Но как на фронте, заново и снова, Мы веруем в свой путь через века, Как веруем мы в сталинское слово И в наше — большевистское — ЦК! Октябрь 1946Каким бы официозным ни казалось сегодня это стихотворение, оно не воспринималось тогда ни как дежурное, ни как «газетное» — другими словами, оно не было поделкой. Говорю это уверенно. Писать и те, и другие тогда не считалось зазорным. Это оправдывалось следованием Маяковскому и не противоречило представлению о «работе поэта». Но — вот тонкость — своих поделок поэты обычно друг другу не читали. А Наровчатов мне эти стихи прочел, и, более того, я их одобрил, еще и запомнил; могу добавить, что поделкой, тем более бездарной, они и теперь не выглядят.
Для проверки недавно прочел я их своим более молодым приятелям, людям иных поколений, не имеющим моего опыта. Спросил о впечатлении. Они стали в тупик. Все в этих стихах им было чуждо, и все-таки они признались, что они отмечены какой-то странной для них искренностью, иными словами, что рождены они некой внутренней потребностью, которой они сами не испытывали, даже не понимали, но все же чувствовали ее присутствие. Такая странная искренность в этих стихах, безусловно, есть.
Так что неудивительно, что в 1946 году, за год или меньше до моего ареста, когда Сережа Наровчатов мне его прочел, оно понравилось мне. Правда, как уже сказано, нравились мне и другие его стихи. Но эти другие нравятся мне и теперь, а это умерло вместе с тем временным заблуждением, которое выражают. И сейчас они меня интересуют только в историко-культурном плане — как фиксация момента психологического и идеологического состояния тогдашней молодежи. Ибо об этом моменте я теперь и пишу.
Понять, почему мне эти стихи стали неблизки, — несложно. Как ни рассуждай о полной независимости поэзии от злобы дня, я сегодня просто не в состоянии идентифицировать себя с их пафосом. Конечно, эта потеря близости — свидетельство и художественной недостаточности произведения. Ибо способность произведения становиться близким и не терять эту способность под действием времени — серьезный критерий его художественной подлинности. Так что объяснить мое нынешнее к нему отношение — нетрудно. Труднее объяснить, почему они мне нравились тогда. И почему мне его тогдашнее приятие давалось так легко и просто, даже радостно. Хоть я и тогда уже был читателем искушенным. Но это стихотворение тем для меня сейчас и интересно, что помогает воскресить дух невыносимо тяжелого, душного, неправдоподобного, но при всем этом как бы промелькнувшего времени, дает почувствовать его изнутри. Ведь написано оно тогда, когда и в голову никому не могло прийти, что оно — промелькнет.
Почему так обрадовали меня тогда эти стихи? Причин на это было две. Первая, что в отличие от тогдашних военных стихов большинства его и моих сверстников (разница в шесть лет в таком возрасте существенна, но тут она сглаживалась) это стихотворение имело под собой не только эмпирическую основу, что меня тогда, как я не раз писал, никак не устраивало, а и некое общее отношение к жизни. Это аспект эстетический. Во-вторых, мне был важен сам характер этого отношения к жизни — это уже критерий не чисто эстетический, а историко-культурный, что ли… Но о нем чуть позже…
Мое неприятие военной эмпирики справедливо только в отношении поэзии. Против «окопной правды» в прозе я ничего не имею. В прозе «окопная правда» — это правда о человеке на войне и о самой войне, а часто и о более широких пластах нашей жизни. Наша «военная проза» — яркое тому доказательство, она проникала в частности окопной жизни, и они привели ее к самым большим обобщениям и откровениям. Но в поэзии путь к откровению короче и прямей, ей нельзя увязнуть в подробностях, если эти подробности не работают непосредственно (в прозе они вполне это могут делать и опосредованно) на главный замысел, на выход к откровению. Это никак не запрещение темы. Правдивые поэтические строки, посвященные «бою в болоте», есть у Твардовского в «Теркине», но это стихи, написанные талантливым, совестливым, проникновенным, но никак не «окопным» человеком, взгляд — не из окопа. Употребив термин «окопный человек», я отнюдь не имею в виду биографические обстоятельства — не того, кто вытерпел окопную страду, а того, кто и в поэзии ограничил ею свой мир. Так же я отношусь и к лагерной поэзии. Поэзия — даже трагическая — требует большего простора, какого-то общего ощущения жизни и ценностей, общего «требования от бытия смысла и красоты».
А стихотворение Наровчатова по-своему (а тогда и по-моему) прямо отвечало этому требованию. Только, к сожалению, этим общим «небом» для него, как и для меня, как и почти для всей интеллигентной молодежи того времени была верность коммунизму и традициям революции (в нашем, конечно, тогдашнем представлении о них). Вероятно, с точки зрения «современного» человека — прельститься клятвой верности коммунизму совершенно невозможно. Ведь о нем теперь «все знают», что это чушь собачья! Даже разговаривать неудобно. Все так. Но тогда была другая «современность» и такие же «все» так же точно «знали» совершенно противоположное. От такого «знания» и приходится мне себя отстаивать всю жизнь на всех материках. И везде это не сахар.
Более искушенный может заметить, что в этом стихотворении коммунизм сильно попахивает сталинщиной. И, действительно, — «как веруем мы в сталинское слово» — выглядит казенной клятвой сталинщины. Однако не торопитесь судить. Я, например, таких клятв не помню. Помню, как клялись именем вождя, в преданности вождю, но вопрос о вере в его слово как-то не возникал. Ибо это не то, что само собой разумелось, да и не требовалось — требовалось поклонение. Впрочем, «сталинщина» эта сохраняется только в моем цитировании. Это слово здесь дано курсивом, как восстановленное. После XX съезда автор заменил его на «ленинское».
Отчего стихотворение, как это ни парадоксально, уже не только выглядело, а и впрямь становилось казенным. Ибо слово это тут не несет никакой эмоциональной нагрузки. Чего вдруг молодому коммунисту, пройдя войну, говорить о вере в ленинское слово — она давно формально входила в идеологический комплекс и неформально в легенду. В это слово и так тогда верили (плохо, правда, зная, в чем оно состоит). Оно не было проблемой (стало ею много позже), и его не с чего было утверждать. Правда, Сталин ревниво следил за тем, чтобы с «ленинским» не перебарщивали, но «ленинское» появилось после смерти Сталина, и смысла утверждать «ленинское» уже не было.
Между тем стихотворение всем своим строем — утверждает. Утверждает — с тем и было создано — веру. Точнее, наличие, осознанность, свободный выбор именно этой веры — «в свой путь через века» и не в ленинское — пусть великое, но ставшее реликвией, — а именно в сталинское слово, которое существует рядом и может прозвучать в любой момент. Это вера не в предмет веры, а в самый факт ее существования, в то, что ее носитель знает, что она имеет основания существовать и что руководит его поступками и жизнью именно она, а не только оглушенность тупой пропагандой и страхом. Что он живет в атмосфере собственной веры, а не тотально насаждаемой прострации, как было на деле. Ведь она, как не раз здесь говорилось, не была даже коммунизмом.
Увидеть в навязанной прострации, от которой все равно никуда не деться, смысл — хотя бы коммунистический — хотелось многим. Наровчатов и удовлетворил этим потребность этих многих, и свою собственную. И сделал это искренне. Только подсознание сопротивлялось, точило. Но стихи как раз и сопротивлялись подсознанию — интуитивному знанию. Из этого и рождался тот пафос, искренность которого почувствовали мои молодые друзья. Как это ни странно, смысл — ограниченно-поэтический тогда и, главным образом, историко-психологический сегодня — это стихотворение имело и имеет только в том случае, если слово, в которое «мы веруем», было сталинским. Трагическая судьба этого стихотворения определяется тем, что оно отчасти остается эмоционально-понятным — все-таки написано всерьез талантливым поэтом, — но потребности в его понимании у непричастных нет, а сопереживание радости не приносит. Приносил только в историческом микроинтерьере. Чем вообще была (а может, и поныне остается?) чревата наша судьба.
Но поскольку я коснулся «исправлений», надо довести дело до конца. То, о коем только что говорилось, — главное. Отмечу уже и все остальные. Их немного. Было почему-то выброшено предпоследнее четверостишие и усечена последняя строчка. Смысл выброса мне непонятен. Может, с точки зрения начальства романтичность жизни «во власти предписания райкома и свежего газетного листа» выглядела излишней — оно привыкло к воспеванию своей мудрости, а не романтичности (но тогда почему осталось «когда нам приказали снять шинели» — хватило б и «разрешили»). Усеченность последней строки может быть объяснена и грамматически — «и в наш ЦК» грамматически более правильно, чем «и в наше, большевистское ЦК». ЦК — Центральный Комитет — мужского, а не среднего рода. Но средний род был употребительней и тут звучит естественней, ибо имелось в виду важное государственное учреждение, а не какой-то там комитет.
Но думаю, что причина не в грамматике. Просто слово «большевистское», как оно здесь поставлено и выделено, должно было коробить начальственный слух. Напоминать об иных, не сталинских временах или даже об уничтоженных предшественниках нынешнего руководства… Конечно, это — догадки, хоть и основанные на ощущении атмосферы. А для раскрытия замысла этого стихотворения определение «большевистское» было необходимо. Оно как бы невзначай, но форсированно подчеркивало — для себя и других, — что это сталинское Це-Ка и есть «большевистское». Не знаю, что тут осознал бдительный редактор, но, что здесь что-то не так, он учуял и предложил незначительное исправление-усечение — благо и грамматика была на его стороне. Наровчатов, возможно, и подвоха тут не заметил.
Современному читателю поведение и соображения всех этих людей может показаться бездарной фантасмагорической выдумкой, но это было реальностью. Это было трезвым поведением в условиях той самой сталинской прострации, которую сегодняшним молодым людям столь трудно представить. Все знают, что тогда свирепствовали террор и цензура (хотя не все знают, что, несмотря на существование Главлита, главным цензором был редактор). Но редактора тогда, как мы видели, еще боролись не только с протаскиванием реальной «чужой» идеологии или антисталинских тенденций (такого им никто не приносил, за это полагалась «секир-башка») и даже не с самостоятельно осмысленным приятием ортодоксальности, а просто со звучанием, намекающим на возможность самостоятельности. А это уже укладывается далеко не во всякой голове. Эта правда и впрямь неправдоподобна.
Но все это суперприятие сталинщины и на самом деле было попыткой преодоления ее прострации, отстаиванием себя от нее. Нет, не политически, даже не нравственно, а просто как отстаивают физическое существование. Сталинщина была не ложью соблазна или мировоззрения, а именно прострацией, только внушенной. Я сейчас говорю только о духовно-идеологическом ее оформлении, которым она занималась весьма усердно. Для нее, например, ничего не стоило сочетать интернационализм с выселением целых народов и национализм с коллективизацией, напавшей на большинство нации и разрушившей основы национального существования, призывы к инициативе с уничтожением организованных до коллективизации «самочинных» колхозов. Противоречий для нее не существовало.
Чрезвычайно укрепили атмосферу прострации фантастические процессы середины тридцатых. Дело даже не в том, что Сталин грязным способом расправлялся с реальными и мнимыми конкурентами, а в том, что при этом всей стране навязывались примитивно-ублюдочные представления о жизни. Практически каждому было вменено в обязанность быть круглым дураком (или изображать себя таковым).
Из этого положения в рамках коммунистических, конечно, представлений было два выхода. Первый — полное отрицание сталинщины как узурпации ленинизма (страшно подумать, что в иные годы я мог за верность этой идее загреметь в лагерь и там погибнуть, так и не поняв, что это отнюдь не истина). И второй — попытка объяснения и приятия сталинщины со всеми ее преступлениями и гнусностями как необходимого этапа развития революции и диалектического продолжения ленинской идейности. Считаю только нужным напомнить, что — тогда — из представителей новых поколений за рамки этих представлений практически не выходил почти никто.
Перед войной и особенно после победы мыслящая молодежь склонялась ко второму выходу. Конечно, это похоже на конформизм. Впрочем, когда перед тобой глухая стена и выхода вообще нет (а его не было), то можно иногда и стать в тупик, подумать, что она — естественная граница вселенной. Хотя такого «приятия» лучше было не высказывать вслух — все-таки оно было хоть какой-то реакцией на реальность. Но душа чего-то хотела. И вдруг такое стихотворение — из него явствовало, оно пело о том, что мы не просто так плетемся, куда нас гонят, а сами выбрали этот путь, ибо «веруем мы в сталинское слово» и, по-прежнему, «большевистское Це-Ка»! Кстати, это фрейдистская оговорка (что, впрочем, я заметил только сейчас) — кому бы в начале двадцатых пришло в голову с пафосом возглашать, что ЦК РКП(б) — большевистское?
Но Наровчатов здесь на этом стоит. Как и многие другие, он и войну воспринимает в этом ключе. Вроде бы дело ясное. Война — она и есть война. На ней всем год за три зачитывался, и, как известно, было за что. Но здесь у Наровчатова счет особый — «день за год засчитывался в стаж». Речь о стаже именно партийном. Наровчатов и многие его друзья прошли войну настоящую, прошли достойно.
Но после нее многие из них превратили ее как бы в духовное прикрытие, камуфлировали под то, чем она не была, чем — тоже непросто и непрямо — жили до войны. У Наровчатова здесь она — высший всплеск романтизированной коммунистической идейности и партийности. Партия романтизируется так, что такие вещи, как «отделы кадров» и «личные дела», которые обычно добрым словом никто не поминает, выглядят романтично… Но это — как отчасти и «сталинское слово» — делается намеренно, полемично, напоказ. Дескать, это «в наших нынешних сложных условиях» атрибуты того же великого «штурма небес», они поддерживают необходимый строгий порядок продолжающегося движения к цели. Эта дорога вела не просто на войну, но через войну, сквозь «семь смертей», по которой смогли пронести «с семизначной цифрой партбилеты» те, о ком пишет автор — в направлении главного дела их жизни.
«Молодым коммунистам» хотелось верить, что на войне они не только воевали с врагом, но и проверяли «правильность законов диамата», ценность своего мировоззрения. И, уж конечно, при сравнении «чужой стари» с «нашей новью» в полдюжине столиц они в отличие от многих простых людей, пораженных разницей жизненного уровня «у нас и у них», легко и, главное, охотно убеждались, что изрядно обветшавшие заграницы нам ничего нового сказать не могут. Я не хочу сейчас оценивать этот духовный и интеллектуальный феномен.
С «заграницами» ведь тоже все было не так просто. Про себя я думаю, что если нового нам заграницы тогда сказать и впрямь не могли (мы куда-то вырвались, что-то обрели, что-то узнали, хотя еще не осознали), то скорректировать наше «новое», вернуть нас к нормальным нормам человеческого общежития они все же могли. Но мы, были воспитаны так, что нам нужен был «градус». Не зря ведь мы утешаемся тем, что, хотя «нам приказали снять шинели», но «не покидая линии огня», и таким образом мы можем сохранять привычную высокую напряженность в новых условиях (словно просто жизнь и ее прелесть для нас звук пустой). И даже в тех же когортах. Это с одной стороны. А с другой — то, что уже не раз говорилось — и тут мы втайне жаждем хотя бы того, чтобы этот наш путь был и выглядел нашим свободным и страстным выбором. И все это стоит за стихотворением.
Короче, получается, что на войне у «нас» всегда было другое, еще более высокое дело, чем сама война, чем даже защита родины. Хотя, должен отметить, что при этом «открытие России», ставшее потом и официальной идеологией власти, и подлинной сутью многих живых душ, Сергей Наровчатов совершил раньше всех и по сердечному влечению. В силу большей образованности и семейных традиций он продвинулся тогда по этой дороге дальше многих, и меня в частности.
Это высокая ценность. Но тогда полностью этим удовлетвориться не мог и он. И это неудивительно. За родину отдают жизнь и живут исключительно ее интересами только в экстремальных обстоятельствах, но в принципе любовь к ней не экстремальное явление. Родина ведь не цель жизни, родина — сама жизнь, место и среда жизни. На родине живут, с разным успехом ищут и находят все — от благосостояния до смысла. Но жизни-то как раз и не было, искать смысла жизни или благосостояния индивидуально у нас было запрещено, да и непривычно, чуть ли не стыдно — мы были ориентированы на цель. Только в служении ей мы себя чувствовали духовно уместными. Российское это в нас было или советское, или все перемешалось — кто скажет?
Как ни странно, как ни нелепо это звучит, но такое стихотворение могло появиться только после известного и страшного постановления ЦК о литературе. Стыдно признаться, но я его воспринял почти радостно, оно как бы — наконец-то! — реабилитировало идейность. Мешало только то, что говорилось об Ахматовой — в поэзии я уже кое-что понимал. У меня было свое, довольно широкое представление об идейности в ней, и Ахматова в него вполне укладывалась — согласиться с тем, что ее стихи «безыдейны», я никак не мог.
К тому же, что вытворяли с Зощенко, я тогда остался вполне равнодушным — особой ценности в нем я по темноте своей еще не видел. О прозе я тогда размышлял меньше, чем о поэзии. Удивляло меня только, что такой шум поднят из-за незначительного, как мне казалось, рассказа. Вспоминать об этом стыдно. Не только потому, что я давно (в день его смерти) понял, что Зощенко — великий русский писатель, а и потому, что я был варваром и относился ко всему диалектически — не понимал, что эта травля гнусна независимо от ценности ее жертв.
Все это меркло в моих глазах перед тем, что, наконец, восстановлено требование «идейности». Как ни относись к самой «идейности» или конкретной «идее» (я, как знает читатель, отношусь плохо), тогда это не имело значения. Реально термин «безыдейность» был удобным жупелом, облегчавшим ужесточение контроля над мыслями. Но в первый момент показалось, что в этой прострации блеснул старый и к тому же романтический смысл.
Именно поэтому эти стихи — фиксированная веха времени, психологического состояния общества. И именно поэтому я и говорю теперь о них, хотя они отличаются от всего творчества Наровчатова — от большинства его стихов, о которых я здесь говорить вообще не буду, ибо, к сожалению, говорить о них неинтересно; и от меньшинства, которые собственно и делают его поэтом. Хотя и рассматриваю их отдельно от остального его творчества.
Итак, перед нами еще одна, хоть и обманная попытка сохранить самоуважение и подобие самосознания без, как он сам выражался, «сумы и тюрьмы». Это тоже часть нашей трагедии. Все это по-разному в разной мере относится и к М. Львову, и к Д. Самойлову, и к Б. Слуцкому, и ко мне, и ко многим другим представителям «военного поколения».
Кстати, насчет самого термина. Некоторые объявляют, что, так сказать, ифлийцы узурпировали этот термин, ибо на войне побывали и вынесли из него фронтовой опыт отнюдь не только они. Но «поколением» в истории культуры называются не все люди одного возраста и биографии, а те, которые вобрали в свою внутреннюю биографию, то, что внесло их время, в данном случае коррективы, которые внесла война, опыт общения с народом. Пусть до конца это сказалось не сразу. Кстати, в XX веке «людьми сороковых», «шестидесятниками» и т. п. мы называем людей определенной формации, а не возраста. В этом смысле ярким представителем военного поколения были В. Тендряков, начавший писать о войне только в конце жизни, и вообще заговоривший через десятилетия после войны замечательный прозаик В. Кондратьев.
Конечно, в наше время все так перепуталось, что такая стратиграфия вообще условна. Такие замечательные писатели, как В. Некрасов и даже А. Солженицын, прошедшие войну, — нечто другое. Нечто другое и А. Твардовский. Все они — как бы представители разных поколений. Но между этими поколениями часто нет никакого водораздела. Духовно они близки.
Но я пишу сейчас о сороковых годах и о поэте Сергее Наровчатове, память о котором дорога мне отнюдь не в связи со стихотворением, о котором шла речь чуть выше, и которое отнюдь не относится к вершинам его творчества. Между тем с этими вершинами я столкнулся довольно рано, раньше, чем было написано это стихотворение. Но не сразу.
Его стихи я услышал, еще когда он был на фронте. Мне понравились и тогда его «Пропавшие без вести» с их обнадеживающими строками:
Я знаю: невозможное случится. Я чарку подниму еще за то, Что объявился лейтенант Кульчицкий В поручиках у маршала Тито.Тогда мы вce ставили ударение на последнем слоге этого романтического для нас в то время имени.
Но в целом те стихи, которые мне тогда (подчеркиваю: тогда) читали, мне понравились не очень. Показались талантливыми, но внешними. Знакомство мое с ним состоялось чуть позже, когда он приехал с фронта. Где мы познакомились, не помню. Помню только впечатление, которое он на меня произвел — более красивого мужчины я, по-моему, никогда и потом не видел. Голубоглазый блондин, хорошего роста, стройный, складный, при этом насквозь интеллигентный, по виду (чуть им культивируемому) русский офицер былых времен. Каких времен? Двенадцатого года? Декабристских? — непонятно. Всех сразу. Соответствие общему романтическому образу русского офицера — тогда впервые после революции он стал импонировать общественному сознанию — производило впечатление. Наровчатов вызывал естественную симпатию. Признал я его поэтом довольно скоро.
Произошло это в холле какого-то издательства — кажется, «Советского писателя» на Гнездниковском, — где мы случайно встретились. Он принес туда рукопись и ждал приема, а как там оказался я, не помню. Издательских дел у меня быть не могло, о моей книге речи еще не было, а переводами я стал заниматься только после ссылки. Вероятно, просто сопровождал кого-нибудь из друзей и ждал его, чтобы продолжить беседу. Разговорились. Потом Сережа молча вынул из папки стихотворение и протянул мне: «Вот, посмотри». Это было «Письмо из Мариенбурга». Оно очень мне понравилось — романтическое, ироническое, какое-то тоже красивое, как он, и чуть позирующее, но настолько откровенно, что и позой эту игру назвать было бы невозможно. Показал он мне тогда и другие свои стихи, и они мне тоже понравились. С тех пор я и люблю его стихи.
Наровчатов вообще не был похож на того человека, за которого его принимают или выдают те, кто его не знает — особенно агрессивные представители литераторов более позднего поколения. Хранившие чистоту своего отношения к искусству и вырабатывавшие свое «боевое» отношение к предшественникам в котельных и сторожках, превращенных в их сознании в башни из слоновой кости. Основания для отрицательного отношения есть, за многое из того, что он делал, мне стыдно и больно (не за то, что писал — при наличии хороших стихов плохие роли не играют — они отмирают), но… Но надо знать, о ком говоришь.
Был ли в Сергее конформизм? Некоторый был. Ему очень не хотелось трагизма и конфронтации с «эпохой». Хотя кавычки здесь и точны, и не точны — он жил в том времени, в котором жил. И это вовсе не факт, что поэты должны любить конфронтацию. Она сужает. Я ее тоже не любил и тоже, где мог, старался избегать. Да и очень не соответствовала она складу его таланта — какого-то благородно-красивого и праздничного.
Да, его взаимоотношения с властью, по внешности вполне гармоничные, действительно, помешали ему реализоваться полностью. Но все же не уничтожили его совсем. Да и не были они столь гармоничны, как ему бы хотелось. Цитируемое ниже стихотворение, кажется, единственное, не напечатанное им при жизни. Но оно было. И то, что за ним встает, тоже было.
Много злата получив в дорогу, Я бесценный разменял металл. Мало дал я дьяволу и Богу, Слишком много кесарю отдал. Потому что зло и окаянно Я сумы боялся и тюрьмы. Откровенья помня Иоанна, Жил я по Евангелью Фомы. Ты ли нагадала и напела, Ведьма древней русской маеты, Чтоб любой уездный Кампанелла Метил во вселенские Христы. И каких судеб во измененье Присудил мне дьявол или Бог Поиски четвертых измерений В мире, умещающемся в трех! Нет, не ради славы и награды — Для великой боли и красы — Никогда Взыскующие Града Не переведутся на Руси!Привел же я здесь это стихотворение полностью только для того, чтобы не знающие Наровчатова понимали, что не весь он покрывается такими стихами, как «Молодые коммунисты», которые современному читателю безразличны, что все-таки есть о ком говорить. Впервые эти стихи, точнее последние три строфы, я услышал в 1951–1952 году. Тогда они не были крамольными, но явно были «не в жилу». Первые же восемь строк, как мне кажется, добавлены к нему уже после XX съезда, но легли они сюда совершенно естественно и свободно, видно как-то присутствовали в замысле и свидетельствуют о том, что автор носил в себе все эти годы. А носить ему было что. Хотя мне он об этом никогда не говорил.
Я знал, что он долго жил и даже окончил десятилетку в Магадане, но выходило так, что просто его семья там работала — мало ли кто работал по найму на Крайнем Севере. Правда, однажды, зайдя зачем-то к Сергею и не застав его дома, я минут десять поговорил с его отцом и мог бы кое-что заподозрить, но я, признаться, просто об этом не думал. Между тем этот краткий разговор с его отцом произвел на меня тогда грандиозное впечатление.
Странное дело, ни общего содержания, ни деталей этого разговора я не запомнил. Я не запомнил даже, что говорил этот человек, а он до сих пор стоит передо мной — высокий, ладный, в простецком ватнике — похоже, только что принес дрова из сарая (тогда еще во многих московских домах, даже в центре, было печное отопление) и задает вопросы. Я потому, наверное, ничего не запомнил, что он почти ничего не говорил, а только задавал вопросы. И скромно выражал некоторое сомнение в моих ответах — это уже почти без слов. При этом говорил он со мной вполне дружественно и доброжелательно. За всем этим чувствовался не только сильный интеллект, но и высокая культура, добротная и вошедшая в состав крови образованность.
Разговора я не помню. Помню только, что сводился он к «древнерусскому» «како веруеши?» И еще — что я (пусть не удивляется читатель) радостно чувствовал полное интеллектуальное и культурное превосходство этого человека над собой. Чувствовал, как я тогда выражался, что я дурак. И почему-то это меня радовало. Причем я вовсе еще не собирался отказываться от того бреда, который исповедовал, а этот человек, если что и делал, то просто осторожно и доброжелательно обнажал бредовую сущность всего, на чем я собирался строить жизнь. Тем более поразительна моя реакция. Неужто я интуитивно чувствовал, что все равно вернусь к этому?
Я знаю, что Сережа очень любил и уважал своего отца, гордился им. Как соотносилось то, что стояло за отцом, с тем, за что хватался Сережа (и мы все) — это загадка нашего времени, когда жизнь теоретически была отменена и все же шла.
Только году в восьмидесятом Сергей глухо обмолвился в краткой автобиографии, что в 1934 году жизнь его семьи круто переменилась, и они должны были покинуть Москву и поселиться в Магадане. Совершенно ясно, это было сделано недобровольно — видимо, их захватило чем-то вроде «кировского потока». Он об этом со мной никогда не говорил, и даже в восьмидесятом году говорит об этом очень осторожно. Что ж, слова «зло и окаянно я сумы боялся и тюрьмы» так просто не выплескиваются. Вероятно, этот страх, эта страшная тайна влияла на его поведение, мысли и поступки.
Хотя с чего он вдруг стал делать карьеру литературного начальника, я понять не могу. Кстати, карьера его вовсе не была гонораром за стихи типа «Молодые коммунисты» — они прошли в этом смысле незамеченными. И много лет Сергей никакой карьеры не делал. Правда, когда-то какое-то время он был заведующим отделом молодежной литературы ЦК ВЛКСМ. Но именно в это время он стал сильно пить (что отражено каскадом поэм Николая Глазкова на эту тему) и из пирамиды власти вылетел. Разумеется, это не было опалой — пьянство лиц, причастных к власти, не поощрялось, но в то же время оно считалось пороком социально близких и идеологически выдержанных, — но положение его было не ахти какое. Помню, я как-то в конце пятидесятых хотел напечатать в «Литературной газете» большую статью под названием «Поэт Сергей Наровчатов». Статью велели сильно сократить, а название изменить. «А то, — говорил тогдашний редактор газеты В. А. Косолапов, — ко мне явятся все поэты и будут требовать очерков о себе».
Карьера его началась, когда он пить бросил и написал ряд блистательных статей, в которых, — в общем не греша против собственного вкуса, ругал тех, кого хотело начальство. Но все же при всей блистательности это были не критические статьи, а разгромные выступления. Свои вкусы защищать надо, в этом я вообще непримирим, но делать это надо не в союзе с государством. (Впрочем, ни одно государство, кроме тоталитарных, в такие дела и не вмешивается — ибо не занято реализацией комплексов своих руководителей.) А дальше — коготок увяз, всей птичке пропасть. И на Солженицына — куда денешься? — подлаивать приходилось, и многое другое.
Но говорили мы с ним, когда встречались, вполне откровенно — при всем несогласии. Даже когда я был вызван к нему как к секретарю Московской писательской организации для того, чтоб выслушать порицание по поводу своего «подписантства». Последнее было сведено к минимуму, к формальности. Мне всегда больно, когда о нем говорят, как о каком-то бонзе, бездари, чуть ли не ровне Софронова — и говорят часто люди, которым по уровню не только таланта (тут вообще ему мало равных), но и по общему уровню весьма далеко до него. Да, во многом он не выдержал давления времени. Но никто еще не доказал, что поэты рождены переносить именно такое давление, и что те, кто его выдержал, выше талантом. Тут я иногда думаю и о себе самом. Эти слова я произношу со страхом. Желающих быть «выше» теперь пруд пруди. Но Наровчатов другое, да и говорю о самой его одаренности, а не об ее реализации. Почему-то именно в связи с Наровчатовым мне сегодня вспоминаются сочиненные мной примерно в описываемое время случайные строчки, так и не вошедшие ни в одно стихотворение и вовсе не имевшие в виду лично его:
…как ломались мои товарищи На углах и противоречиях.Характерная деталь времени, вернее, моего романа с ним. Строчки эти вовсе не воспринимались мной как крамольные и оппозиционные. Имелась в виду все та же тяжесть времени, его «углы и противоречия», на которых ломались отнюдь не худшие, но на которых, если хочешь быть личностью и сознанием оставаться на уровне «эпохи», следует уметь не ломаться. Но все, что я сейчас вспоминаю в связи с этими строчками, — это воспоминания о побочных мыслях, имеющих отношение не к их буквальному смыслу, из-за которого я их вспомнил, а только к моему тогдашнему состоянию. А сами по себе эти строчки только честно говорят о трагедии людей, которых я любил. Вышеописанное тогдашнее «осмысление» в них не прочитывается. Вероятно, меня — пусть не все мои тогдашние стихи, но хотя бы меня самого — то и спасло (кроме ареста!), что при любых своих завихрениях я писал правду — правду собственного состояния и обстоятельств, которыми она вызвана. У Наровчатова судьба сложилась более благополучно. К сожалению? К счастью? Кто скажет? Жили мы в непредставимо страшное время. Так ломались мои товарищи. Те, в ком было чему ломаться. Да и я сам. Думаю, что тем моим товарищам, в ком и ломаться было нечему, все-таки гордиться перед ними нечем.
О Наровчатове я услыхал, как понял читатель, только в конце войны. Но о Кульчицком, Слуцком, Кауфмане (своего будущего псевдонима Самойлов тогда еще и сам не знал), Когане и Майорове я слышал еще до войны. Кульчицкого запомнил по публикации «Стихи московских студентов» в «Октябре». Там были и другие авторы, но Кульчицкий тогда был мне ближе своей обнаженной революционной романтикой и как бы следованием Маяковскому. Сегодня в такие мои «критерии» поверить трудно. Правда, стихи Кульчицкого были еще очень талантливы.
Кстати, из воспоминаний его сестры Олеси я узнал, что обожаемая им революция (правда, уже на стадии начальной сталинщины, на подступах к ежовщине) проехалась по его семье довольно жестко — его отец был арестован и сослан на Беломорканал, куда сын с матерью и сестрой однажды ездили его навещать.
А в результате — при всей любви к отцу (семья была дружной) — романтическая любовь к революции и вера в Сталина как в современного выразителя и хранителя ее пути и духа. Печать времени.
Реальность начала возвращаться к нему, как и ко всем его товарищам, на войне. Как видно из единственного сохранившегося его армейского (но еще не фронтового) стихотворения «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник…»
К сожалению, Кульчицкого я никогда не видел. Когда я появился в молодежной литературной среде, его недавнее присутствие в ней еще ощущалось явственно, но его самого давно уже в ней не было. Так что к моим мемуарам он может иметь только косвенное отношение. Как и Николай Майоров, самый взрослый и в смысле самосознания наиболее «продвинутый» участник этой группы, кучки, генерации — называйте как хотите. Для меня эта «продвинутость» выразилась только в одном стихотворении — «Тогда была война…» После героического, даже несколько исступленного «Мы», оно выглядит особенно значимо. Впрочем, и в «Мы» сквозь саму исступленность приятия, пронизывавшую его, просвечивало нечто реальное — невозможность естественного, даже открыто романтического приятия.
Придавленное неимоверной тяжестью, развитие все же происходило. Прервала его только немецкая пуля. Когда я вспоминаю о том, что он, как и Михаил Кульчицкий, Павел Коган и многие другие погибшие, так никогда не узнал и не понял того, что потом легко понимали и те, кто им в подметки не годится в интеллектуальном, духовном и творческом отношении, — мне становится обидно и больно. До сих пор. Уж очень это несправедливо.
Но, естественно, встречался я тогда только с теми участниками этой группы, кто уцелел — впрочем, они были для меня не менее легендарными, чем погибшие. Встречался по мере их появления или возвращения.
Если мне не изменяет память, с первым я встретился со Слуцким — когда он приехал в отпуск. По-видимому, это произошло в конце 1945-го или в 1946 году, уже после победы, когда я уже был студентом Литинститута и жил в общежитии. Как это организовалось — не помню. Безусловно, я жаждал этой встречи. И если я знал, что он в Москве, то сделал все, чтобы она состоялась. Но кажется, я не знал, и инициатива исходила от него. Видимо, кто-то рассказал ему обо мне, и он просто пришел в общежитие. Возможно, его приходу все же предшествовала какая-то договоренность — теперь уж не вспомнить. Но удивительного в его интересе ко мне нет ничего — ему, как вспоминает Самойлов, и до войны было свойственно носиться по Москве и обзирать молодых поэтов, вести, так сказать, учет поэтического хозяйства. А кроме того, я, действительно, во многом стоял к нему и его товарищам ближе, чем кто-либо другой из стихотворцев следующего суб-поколения — тогда казалось, просто поколения.
Так или иначе, он зашел за мной, и мы с ним отправились в один из «коммерческих» ресторанов. Тогда как раз открылась сеть таких торговых точек — магазинов и ресторанов, где торговля и обслуживание осуществлялись без карточек, но по «коммерческим» (значит, весьма повышенным) ценам. Я тогда и не мечтал о такой фешенебельности. Впрочем, следует признать, что это было первым, но отнюдь не последним моим посещением подобного заведения. Все рестораны и пивные моей юности — а их было хоть и не так много, как хотелось, но все же немало — были коммерческими. Их прекращение совпало с моим арестом. И описанное мной выше «путешествие по пивным со счастливым отцом» было тоже путешествием по заведениям коммерческим.
Но в первый раз в такое заведение привел меня Слуцкий, который отнюдь не был прожигателем жизни. Ему, фронтовому майору, находящемуся в Москве в отпуске или командировке, было в тот момент это доступно, он чуточку даже бравировал этим. Впрочем, это, как и все его последующие бравирования, руководящие роли и т. п., было, как я потом понял, наивной и невинной игрой перед самим собой. Главным его желанием было накормить меня. Эта его игра иногда проникала в его стихи — чаще вместе с идеологией — и портила их. Но далеко не во все. Часто побеждало присущее всякому художнику чувство правды и естественная доброта, сочувствие людям, которыми он был наделен в высшей степени.
Его уже упомянутый интерес к тому, что представляет собой мое, как мы тогда оба считали, поколение, объяснялся не только естественным любопытством, а был содержателен. Один его вопрос кажется мне в этой связи особенно показательным. Он спросил, считаем ли мы нашу эпоху просто дежурной эпохой, доставшейся дежурному поколению, или эпохой исторически особой, отличной от всех остальных. Передаю я за давностью лет только суть, а не прямую речь. Хотя определение «дежурной» врезалось мне в память и принадлежит ему — я бы сказал «очередной». Что эпоха наша особая — в этом усомниться трудно. Сама Ахматова говорила, что жила во времена, «которым не было равных».
Но Слуцкий хотел знать другое — согласны ли мы, что именно на наше время и наши поколения легла задача — сознательно, ценой невероятных жертв, усилий и насилий решить главные проблемы человечества. Вопрос этот был отнюдь не безосновательный. Именно этим жили он и его товарищи перед войной, именно это жило в его тогдашних стихах, в подхваченных интеллектуальным студенчеством поэме Майорова «Мы» и лирических отступлениях из романа в стихах Павла Когана — во всем тогдашнем странном суперортодоксальном «самиздате» — тогда этого слова не знал еще и сам его изобретатель, Николай Глазков.
Вопрос был в самую точку. Большинство ребят, вернувшихся с фронта, были, о чем уже шла речь, вообще далеки от каких-либо обобщений. А я, стоявший наиболее близко к таким, как Слуцкий и его товарищи, и даже оценивавший ситуацию так же, как они, — тоже не мог обрадовать его полным согласием. Подспудно такое отношение к ситуации поломалось. Восстановилась историческая связь.
Разумеется, несогласие (точнее, неполная идентичность) это было подсознательным. Как ни странно, оно совсем не касалась идеологии. Тем более не было в этом сомнения в привлекательности Конечной Цели. Это сегодня я рад, что она утопична. Это сегодня мне страшно представить, что было бы, если бы она оказалась достижимой. Поневоле страшно становится за потомков — что им, бедным, оставалось бы делать в жизни, если бы все вопросы бытия были бы задолго до их рождения кардинально и окончательно решены за них нами? Этот простой, но едкий вопрос мне тогда в голову не приходил. Кстати, и поныне многие, искренне отказываясь от утопии, исходят только из ее недостижимости. В ее благости, если бы она была достигнута, до сих пор мало кто сомневается. Но тогда я еще вообще полностью жил в этой системе координат.
Тем не менее идентичности не было. Война, общение с людьми самых разных слоев все это внесло свои изменения. И, видимо, в связи с этим гораздо больше стала значить и живее выглядеть для меня история — уже не история революционных движений, а вообще, особенно история России. Война заставила ощутить ее реальность и ценность — несмотря на официозную пропаганду, а не благодаря ей. И это как-то вплеталось в мое тогдашнее мировоззрение, о котором здесь говорено более чем достаточно…
Помню, как, несмотря на весь пиетет, с которым я к нему относился, я даже возражал ему. А ведь помимо всего, он тогда еще казался мне неизмеримо старше меня. Хотя тоже был еще очень молод. Потом возрастная разница потеряла значение. Но это — потом. Впрочем, литературные мальчики в двадцать лет, в предвкушении неминуемых побед и славы, относятся к уважаемым ими старшим поэтам в лучшем случае, как к равным. И я не был исключением. Я спорил со Слуцким. И тогда, и не раз потом. И чаще бывал, наверное, более прав, чем он. Чаще, но не всегда и не во всем.
У меня ведь — и как раз тогда — бывали завихрения, которых я теперь стыжусь, и порой заходил я в них дальше, чем он. О них я не раз тут рассказывал. Впрочем, часто я был к нему и близок. Мне было тогда понятно, почему он «недемократически» делил военную, да и всякую иную молодую поэзию на офицерскую и солдатскую. Себя он, конечно, относил к офицерской, но дело тут было совсем не в кастовости. Давида Самойлова, вернувшегося с войны сержантом, он тоже не колеблясь отнес бы к поэзии офицерской. Когда один не шибко умный поэт стал выдавать по поводу этого деления солдатские комплексы, Слуцкий, улыбнувшись, заметил:
— А ты не кипятись. Пока солдатские стихи печатают, а офицерские не очень…
Речь шла о воображаемом кругозоре, о диалектическом и идейном осмыслении пережитого, опять-таки о «сложном» приятии действительности. Но и с этим мужественным приятием было у него не все просто. Однажды я прочел ему стихи, представлявшие пик моих завихрений, моего интеллектуального этатизма. Стихи эти, как я полагал, идеологически должны были быть ему близки. Но услышав их, он помрачнел:
— Да… Это стихи о моральном превосходстве литерной карточки над рабочей.
Разумеется, речь в стихах шла не о карточках, а о том, что людям большой работы свойственен кругозор и глубинное понимание событий, недоступное тем, кто видит их изнанку. Смысл сказанного Слуцким был ясен. Я от этих слов ошалел. Нет, не от того, к стыду моему, что они были справедливы. Я ведь и раньше знал, что это так, что вроде сознательно отказываюсь от обычной, «мещанской», единственно возможной справедливости ради «высшей», мифической, нечеловеческой, несуществующей. Но я поразился, что эти слова произнес именно Слуцкий. Но именно он их и произнес. Прорвалась его естественная доброта.
И как эта его щемящая доброта и жалость к людям, пронизывающая многие его стихи (и в чем ему практически нет равных), уживалась с долго сохранявшимся железным, даже безжалостным мировоззрением и представлением о должном — я до сих пор не пойму. Видимо, натура и поэзия пересиливали самые горячие догмы. А догмы, если их искренне придерживаться, всегда горячи — иначе не держатся. Слуцкий, вероятно, еще не раз появится на этих страницах. Дружеские, хоть не слишком тесные, доброжелательные, но вечно полемические, со взаимными «подкалываниями», иногда довольно острыми, — отношения продолжались у нас всю жизнь, до моей эмиграции. Примером тому может служить моя эпиграмма, напечатанная впервые в «посевском» сборнике «Времена» под заглавием «На друга-поэта»:
Он комиссаром быть рожден. И облечен разумной властью, Людские толпы гнал бы он К непонятому ими счастью. Но получилось все не так — Иная жизнь, иные нормы. И комиссарит он в стихах Над содержанием и формой.Слуцкий — это было уже в пятидесятых годах — стоически выслушал эти строки и сказал:
— Ну что ж… Про Симонова ты обидней написал.
Про Симонова я действительно написал обидней:
Вам навеки остаться хочется Либералом среди черносотенцев. Ваше место на белом свете Образ точный определит: Вы — лучина. Во тьме она — светит. А при свете она — коптит.Но тут был повод. Это был отклик на возмутившее меня участие Симонова в травле Пастернака, развязанной начальством после выхода «Знамени» с подборкой стихов из «Живаго». Эпиграмма же на Слуцкого — результат многолетней, хотя и ожесточенной, но дружеской полемики, и обидной быть она не могла. Правда, вскоре после этого, когда так же проштрафился Слуцкий, никаких моих эпиграмм не последовало. Я нисколько ни на одну минуту не усомнился в честности и порядочности Слуцкого и поэтому отнесся к его проступку не с возмущением, а иронически — понимал, что к этому его привел не расчет, а честно и буквально исповедуемый принцип партийности, от следования которому никаких благ он никогда не получал. Выгранности в систему, какая была у Симонова, у Слуцкого не было и в помине. Может быть, это противоречило его убеждениям, но ничего не поделаешь — он всегда оставался не партийным, а свободным художником.
Но Слуцкий, как уже сказано, еще не раз появится на этих страницах. А я сейчас, хотя и заскакивая вперед, вспоминаю первые послевоенные годы. Как-то утром мне кто-то сообщил, что, наконец, вернулся Дезик Кауфман и хочет меня видеть. То ли мне был передан его телефон, то ли (если телефона не было) просто приглашение и адрес. Так или иначе, я уже через час после этого сообщения стоял у дверей его квартиры и неуверенно крутил ручку дореволюционного дверного звонка. Квартира эта на шестом, кажется, этаже большого углового дома на площади Борьбы — что настоящее ее название Александровская, я узнал много позже — была коммунальной, и родители Дезика занимали в ней, как мне кажется, две комнаты. Остальные, к счастью, занимали их родственники. Родители его были милыми, добрыми, интеллигентными, по-старинному порядочными людьми. Сейчас обстановка в доме, естественно, была праздничной. Мать тут же усадила меня за стол и стала угощать.
Сошлись мы сразу. Характер в этом смысле у Дезика был легкий, и у меня, видимо, тоже. Так что разговаривать стали мы тут же. Он был переполнен впечатлениями войны. А войны он хлебнул вдоволь, и самой настоящей. В отличие от большинства своих товарищей, он так и остался сержантом. И хотя последние месяцы войны он был комсоргом батальона, но батальон-то этот был разведбатом. Напоминаю нынешним ригористам, что комсоргство тогда не противоречило ни его, ни моим взглядам — мы только потом и трудно стали такими умными, какими они легко вслед за нами.
Читали мы друг другу и стихи. Говорили о них. Откровенно. В нашей среде вообще обижаться на критику было не принято. Впрочем, его стихи я принимал с пиететом. К моим он отнесся с доброжелательной снисходительностью, что я, как младший, воспринял, как должное. Но, конечно, потому, что в общем он их тоже принял (если бы это было не так, никакой близости у нас бы не установилось — какая может быть близость, если в тебе не признают главного, чем ты живешь?). Но и без пиетета — непосредственно — его тогдашние стихи мне понравились. Сейчас мне трудно вспомнить, какие именно он мне читал. Ибо многие помнящиеся мне стихи он написал в первые недели после возвращения, когда находился в состоянии творческого запоя. Конечно, стихи эти были разного достоинства — как всегда и у всех, но думаю, что они все были живыми и интересными и что в своих «Памятных заметках» он к ним в целом несправедлив.
Но занимались мы не только поэзией и серьезными разговорами. В Дезьке внезапно прорвался запас неистраченного мальчишества. Вдруг среди обеда раздался его клич, обращенный ко мне:
— Эмка, давай гонять кота!
Имелся в виду любимец и баловень не только всей семьи, но и всей квартиры толстый кот Васька, который привычно исполненный высокого достоинства, в это время свернувшись клубком и ничего не подозревая, подремывал рядом на стуле. К покушениям на свое достоинство он не привык и такой подлости от людей не ждал. А мы, к ужасу всей семьи («Не обижайте Васеньку!»), согнали его превосходительство со стула и стали его гонять. Он не мог от нас спрятаться ни в одной комнате квартиры — ни под одним столом, ни под одним шкафом, ни под одной кроватью или даже диваном. Везде мы его так или иначе доставали. Пока нам это не надоело, что произошло довольно скоро. На вопрос домочадцев о причинах такого плохого отношения к коту Дезька отвечал:
— А я к нему хорошо отношусь. Но как коту, а не как к человеку. Как вы!
Вряд ли кот Васька оценил бы его отношение так же. Что же касается меня, кошки редко вызывают мою симпатию, я люблю собак, но во взрослом своем состоянии ни до, ни после этого случая мне ни разу не приходило в голову их гонять. А тут в такой интеллектуальной компании — оскоромился.
Кончился мой первый визит к Самойлову знаменательно. В прихожей зазвенел звонок, потом появилась смущенная Дезькина мать, а за ней молодой парень, почти подросток, в гимнастерке, несколько нагловатый от смущения. Дезька бросился ему навстречу. Оказалось, фронтовой товарищ. Мы вместе сходили в угловой магазин за водкой, может, еще за чем-нибудь. Пока Дезька возился с деньгами или карточками (возможно, он покупал это по отцовскому литеру), неожиданно обнаружился еще один товарищ — невысокий мужичонка в ушанке. Видимо, они оба вернулись с фронта вместе с Дезькой, думали тут же проследовать дальше, но не получилось, и пришли по оставленному им адресу. Может, даже вместе пришли, но старший постеснялся войти, — Бог его знает, как примут эти москвичи, — и младший пошел один, как бы на разведку. Так или иначе, назад мы вернулись вместе. Естественно, и новый фронтовой товарищ сына был встречен матерью вполне радушно. Гости уселись за стол. Начались «А помнишь?», и я, не имея с ними общих воспоминаний, захватив остававшееся здесь во время похода в магазин свое имущество (кажется, тетради со стихами), поспешил ретироваться.
Потом я бывал у него часто — особенно первое время. Стоял он на тех же фантастических революционно-государственных позициях, что и я, что и многие вокруг. Тем не менее мы ухитрялись с ним спорить об оттенках. Как-то такое «исповедание» уживалось в нем, как и во всех, с фронтовыми впечатлениями, с рассказами о симпатичных ему солдатах и офицерах, которые его там окружали и которым все эти наши идеологические заботы были, по позднейшему выражению, «до лампочки».
Рассказывал он мне, как справлялся в армии с «еврейским вопросом». Поскольку он был еврей, да еще «московский студент», то по существовавшему предубеждению должен был чураться и бояться всякой физической работы. Поэтому, попадая в новую часть, где его не знали (в тылу или на формировании), он принимал меры для того, чтобы исключить такое представление о себе. Обычно перед тем, как на такую работу назначать людей на вечернем или утреннем построении, для начала перед строем спрашивали, есть ли на нее охотники. Дезька, понимая, что потом все равно пошлют его, и, главное, стремясь на будущее вообще исключить всякие подозрения на свой счет, объявлял себя таковым. И несмотря на усталость (допустим, после тяжелого марша в зной, в метель или под дождем), после отбоя мыл пол в казарме. В дальнейшем его, конечно, все равно могли назначать в любой наряд, но без подначки — как всякого другого. «Еврейского вопроса» в отношении него уже не возникало. Все знали, что он этого не боится.
Отношения у нас всегда были дружественными, а поначалу вообще были довольно тесными. Его снисходительно-покровительственное отношение я сносил легко, хотя однажды оно чуть не подвело его самого.
Он восстановился в МГУ, ставшем, как уже знает читатель, правопреемником ИФЛИ, и через некоторое время там, в одной из аудиторий на Моховой, был устроен его авторский вечер: сначала чтение, а потом обсуждение его стихов. Было известно, что будут там и противники, причем отнюдь не официозные. По иронии судьбы к официозной точке зрения внешне были ближе мы. Противниками были те самые эмпирики, которым во всякой обобщенности чувства чудилась рассудочность.
Друзья его, естественно, приготовились к контратакам. Меня, как наименее ценный кадр, несмотря на мои протесты, решено было использовать для затравки. Я должен был выступить первым, а уж потом должна была заговорить тяжелая артиллерия. Это было глупо хотя бы потому, что я не знал, что говорить. Не от отсутствия мысли, в от отсутствия повода их выражать. Мне, безусловно, нравились стихи Дезика, но пока эту безусловность не ставили под вопрос, мне не о чем было говорить — выступать с академическими докладами я тогда не умел. И представлять аудитории поэта я тогда тоже не умел. Да и странно это было бы.
Но ничего не поделаешь, я выступил первым — с вымученной и бледной речью. Постепенно перешли в атаку противники — доказывали, что ничего особенного. Вступила в бой наша «тяжелая артиллерия», но оказалась неподготовленной и растерялась — стала стрелять неточно, а снаряды на ее вооружении оказались холостыми. Может, потому, что ифлийская логика не доходила до новой аудитории, может быть, по другой причине. Вечер проваливался — вопреки иерархии ценностей и здравому смыслу. Я чувствовал себя прескверно, как человек, который всех подвел. Но пока я слушал выступления, мысленно находя точные возражения оппонентам и отмечая промахи единомышленников, во мне, как ни странно, рождалось новое выступление. Говорят, лучшие слова приходят на лестнице, а я все-таки был еще не на лестнице, а в аудитории, на том же обсуждении.
И я попросил слова вторично. И мне его грустно предоставили (руководил кто-то из поклонников поэта). Как бы говоря: если хочешь — теперь уже все равно. Но я, хоть и очень волновался, теперь знал, о чем разговор, и, по-видимому, сказал нужные слова, ибо настроение в аудитории переломилось. А то уже и те, кто пришел восхищаться, дрогнули. Мое выступление вернуло им реальность. Конечно, заслуга эта перед русской литературой не столь уж велика. Главное было в стихах Самойлова. В конце концов они бы все равно за себя постояли. А до времени, пока был жив Сталин, никакие выступления не смогли бы помочь Самойлову легализовать свое положение в литературе.
Успех моего выступления объяснялся том, что аудитория чувствовала, что стихи хорошие, но была смущена господствующим мнением, чуть было не сложившейся атмосферой. А я сыграл роль андерсеновского мальчика, не поддавшегося внушению. Только на этот раз люди вопреки очевидности начинали верить, что король гол, когда он вовсе не был гол, а не наоборот, как в сказке. Но это ничего не меняет.
Эта роль enfant terrible, говорящего очевидное вопреки принятому (точнее, внушенному — как видит читатель, оно бывает не только государственным), закрепилась за мной навсегда и доставила мне в жизни массу неприятностей. Впрочем, и признательности. Такому мальчику обычно благодарны только по прошествии времени — а в момент, когда он восклицает, признавать его правоту многим, даже когда это неопасно, все равно неприятно.
Но к данному случаю это отношения не имеет. Цену прочитанным стихам многие понимали. И поэтому, когда после вечера мы пошли в ресторан, меня все хвалили. Я был польщен. Все-таки в этой компании я был самым младшим, а кроме того, людей этих, меня хваливших, я любил — это были хорошие и ценные люди.
Дружеские, хотя и отнюдь не идиллические отношения с Самойловым, как и со Слуцким, установившиеся у меня до этого вечера, продолжались всю жизнь. Разделяло нас то, что и сближало, — поэзия.
В целом мы друг друга признавали — иначе и отношений бы быть не могло — но и подкалывали мы друг друга тоже изрядно. Впрочем, это было в порядке вещей — во взаимных оценках стихов все вокруг были жестки. При общей близости позиций, у нас были некоторые теоретические расхождения во взглядах на поэзию. И, как всегда бывает, расхождения близости позиций выглядят остро.
Думаю, что оба они несли на себе печать студенческой эстетики конца тридцатых, когда напору официозной пустоты молодежь, находившаяся в плену идеологии, не могла противопоставить ничего кроме «формального мастерства» и «формальных достижений». С этим как-то сочеталась (причем тогда — в мировом масштабе) и подлинная, неказенная «идейность» — коммунизм. И действительно, если можно по планам сотворить нового человека, почему нельзя по чертежам «делать» поэзию?
К большевизму Дезик, конечно, давно относился иронически, но до конца отрясти его прах со своих ног не мог и не хотел — ни в дневнике, ни в «Памятных записках». Нет-нет, а что-то проскользнет. Это естественно. Мне, пришедшему чуть позже, ясность давалась тоже совсем непросто (сила сталинщины в ее неправдоподобности), но все же легче. Но у нас сейчас речь о поэзии, а в эстетической сфере, в теоретическом понимании формы и техники он сохранил от прошлого очень много — прежде всего гипертрофическое представление о месте исполнительства. Не столько в творчестве, сколько в спорах.
В годы моей эмиграции большинство из того, что он писал, было талантливо, но не первично. Он подражал не чьим-либо приемам, а образу Пушкина. К этому не относятся его замечательные стихи, написанные прямо о Пушкине («Пестель, поэт и Анна», «Болдинская осень»), а многие его гармонические, примиренные с трагедией бытия стихи в пушкинском духе, очень тонко написанные, и этой тонкостью смягчающие тот факт, что примирение возникает в них чуть ли не раньше «расстройства», волнения. Но такими были далеко не все его стихи и в этот период.
Естественно, когда нас разделял «железный занавес», мы не могли ни встречаться, ни выяснять творческие позиции. Но он меня все-таки «достал» в дневнике. И «достал», на мой субъективный взгляд, очень странно. Делясь впечатлениями о Бродском, он отметил неудобочитаемость стихов последнего (качество, видимо, вдруг ставшее нейтральным при оценке достижений изящной словесности и, кстати, присущее Бродскому совсем не всегда), а также и душевно-психологическую напряженность — пишу по памяти. Все это — дело его. Но дальше он добавил что-то вроде того, что это нечто отнимает у Коржавина.
Странно тут все. Прежде всего то, что в интимном дневнике он называет меня по псевдониму, а не по имени, как называл всегда. Но дело не в этом. Он мог ко мне начать относиться как угодно плохо. Но почему мне должен был «угрожать» именно Бродский? Не могу я взять в толк, что общего он мог увидеть у меня с ним? Ко мне имеют отношение и теоретически могут что-то у меня «отнять» (если такая постановка вопроса вообще существует) многие — сам Самойлов, Слуцкий, Глазков, Корнилов, Чухонцев, Окуджава — ни к кому из коих, кстати, конкурентных эмоций я никогда не испытывал. Список можно продолжить, но никогда бы в нем не было Бродского, каким бы гениальным кто б его ни считал. Да будь он и впрямь гением, а я впрямь бездарью — это все равно было бы так. Уж больно мы чужды друг другу по существу… Объединяет меня с ним только одно — факт эмиграции. Неужели такое глубокое впечатление производил на Самойлова этот случайный факт? Отнять у меня Бродский мог только часть случайной публики — часть той публики, которая гамузом приветствовала эмигрантов за то, что они эмигранты (а потом за то же гамузом их поносила). Реальные аудитории у нас с ним разные. Правда, есть и совместные — это при не очень выраженных вкусах. Но и в этом случае откликающиеся по-разному на разное.
Но Бог с ней, с этой дневниковой записью. Когда я впервые за пятнадцать лет появился в Москве, Дезик позвонил мне из Пярну (Эстония), где тогда жил, и разговор был старый, дружеский. Договорились о встрече, когда он приедет. Но он не приехал — умер. Хорошо, что я хоть мог с ним проститься в актовом зале Дома литераторов, где на сцене был установлен гроб с его телом. Конечно, у жизни всегда летальный исход, но когда Дезик только вернулся с фронта и мы с ним гоняли по квартире обиженного кота, кто бы мог представить, что я буду стоять в почетном карауле у его гроба. Как тогда еще невозможно было представить, а, может, и пожелать, что он построит себе домик в Пярну и что потом — уже, слава Богу, после его смерти — его вдова под напором пафоса освобождения вынуждена будет покинуть этот оплот гармонического мироощущения его последних лет.
Гармония создавалась на вулкане и разлетелась в пух и прах, как всякий анахронизм, но иронизировать над его стремлением создать себе гармоническое мироощущение (этакое убежище от тяжелой и опасной реальности) я не собираюсь. Он не лгал, не обманывал, не предавал, а просто искал выхода в безвыходной ситуации. Кто это делал лучше, кто хуже — знает только Бог.
И никто до конца не знает, что из того, на что мы ставили или ставим сегодня, в наступающие неясные годы окажется анахронизмом, а что нет. Может быть, им окажутся все представления многовековой европейской культуры — впрочем, уже и теперь в отношении нравственных императивов, часто олибераленных до омерзения. А значит, и обессиленных до последней степени. Но как это ни странно, в те годы, сильно путаясь в нравственных ориентирах, необходимость самой этой шкалы ценностей мы под вопрос не ставили. И как минимум, в частных отношениях люди оставались порядочны. Среди широкого круга моих друзей не было ни одного доносчика, предателя, ненадежного человека. Хотя мировоззрение требовало обратного.
Друзья старшие и иные
1. Отступление: Москва — Киев
Вся жизнь моя тогда уже и навсегда безраздельно была связана с Москвой, но повествование мое будет неполным, если я не отвлекусь от нее ради Киева, в основном ради первого моего послевоенного посещения родного города во время летних каникул 1946 года. Впрочем, все за давностью лет настолько перепуталось с впечатлениями от других моих тогдашних — послевоенных, но доарестных — поездок, что за то, что с какой связано, я ручаться не могу. Да это и неважно. Тем более, что съездить мне тогда удалось еще только раза три — через полтора года меня арестовали.
Предыстория первой моей поездки такова. Родители мои вернулись на Украину еще в конце 1944 года, вскоре после моего отъезда. Сначала в Днепропетровск, куда отца организованным порядком перевели из Сима тоже на авиазавод. Еще шла война, и мать в первых письмах писала мне, что в городе по ночам иногда бывают воздушные тревоги (в Москве к этому времени и думать о них забыли). Но Днепропетровск для них был промежуточным пунктом — душа их рвалась в Киев. И мать поехала в Киев отвоевывать жилплощадь. Дело это было непростое — хотя казалось бы все просто: они возвращались к себе домой. Но жилищный кризис в городе в связи с возвращением эвакуированных и демобилизованных был более острым, чем когда-либо. Ибо часть жилого фонда была разрушена, а во время оккупации в квартиры, «освобожденные» эвакуированными, мобилизованными или убитыми, въехали другие люди, которым теперь тоже некуда было деваться. Между тем прежние «квартиросъемщики» — все, кроме, конечно, убитых — возвращались и требовали своего. Но и убитые не смягчали кризиса, ибо возвращались их родственники, до войны жившие с ними вместе и имеющие право на их жилплощадь. В общем, жилищный кризис был жесток.
Конечно, существовал закон, но он, как всегда, действовал выборочно. В принципе квартиры, пусть со скрипом, но возвращали. Но вот, например, моей тете Шифре квартиру не вернули — ее занимал фронтовик с семьей. Однако для моих родителей все разрешилось сравнительно благополучно и легко — в нашей квартире жила не семья фронтовика, а «бывшие в оккупации», — по тогдашней шкале люди второго, а может, и третьего сорта. Мамины хлопоты быстро увенчались успехом. Но, поскольку они теперь были без меня, вернули им не нашу большую комнату в 24 квадратных метра, а соседнюю, двенадцатиметровую, в которой до войны жили мои убитые в Бабьем Яру тетя с дядей, бывшие хозяева всего нашего дома. К чести родителей, это уменьшение жилплощади они не восприняли как несправедливость — нашу комнату занимала семья с детьми. По-человечески это правильно, но справедливо это только в нашем бездомном обществе. Думаю, что постороннему здравому человеку разобраться в этих советских вывороченных (идущих от вывороченной ненормальной жизни) справедливостях невозможно.
И, действительно, — почему расплачиваться с заслуженным ветераном нужно было за счет моей тети, больной пожилой женщины, вернувшейся из эвакуации, потерявшей там мужа? Она ведь очень долго потом не имела своего угла, жила у моих родителей, у моей двоюродной сестры. И, наоборот, почему людей можно было ущемлять в их правах на жилье за то, что они по вине Сталина оказались в оккупации? Об общей несправедливости отношения к этим людям я здесь не говорю, но жилье — вещь элементарная. И где вообще может быть справедливость, если надо или кого-то не впускать в его недобровольно покинутое им жилище, или кого-то из этого жилища неизвестно куда выгонять — при том, что обоим деваться больше некуда.
В нашем случае все решено было справедливо. Но это была справедливость внутри советской системы распределения, когда все заботы взяло на себя государство, на самом деле озабоченное, главным образом, не этим. Разумеется, страшные последствия войны и оккупации играли в этом громадную роль (они оправдывали обстановку бивака), но и эти привходящие, «системные» обстоятельства нельзя сбрасывать со счета. Конечно, восстановительные работы велись, но новых жилищ до самых «хрущоб» не строили — в основном распределяли.
Но это общие обстоятельства, да и осмысленные позже. А тогда для меня самым важным было то, что родители мои так или иначе опять живут в Киеве, и я могу вновь посетить свой город. Ехал я с Ритиком, Риталием Заславским, — нижегородским другом Люсика Шерешевского и Коли Глазкова, теперь опять киевлянином. С ним я недавно познакомился и быстро подружился (и вот дружу — полвека). В Горьком Ритик был в эвакуации, теперь он уже опять жил в Киеве и, в очередной раз побывав в Москве, возвращался домой. Его дядя, завхоз какого-то крупного строительства, достал нам плацкартные билеты, и в нарядном скором поезде, в роскошных по моим тогдашним понятиям условиях, мы отбыли в родной, ныне заграничный, город нашего детства.
А поезд был действительно нарядным, все вагоны были выкрашены в синий цвет, вдоль стены каждого белыми выпуклыми буквами было широко выложено: МОСКВА — КИЕВ, а над каждой дверью светилась электрическая надпись: «Скорый поезд № 15 Москва — Киев. Вагон 10». Большой был порядок в сталинском государстве! В пути, когда поезд проносился мимо обнищавших брянских деревень, надпись, кажется, не светилась. Состояние путей и тяги тоже мало соответствовало нарядности поезда — путь меньше чем в 900 километров скорый поезд преодолевал за 30 часов. Потом — за двадцать два. Но тут и впрямь сказывались последствия войны.
Дорожных впечатлений именно эта поездка оставила мало. Помню только одного странного для меня тогдашнего на вид человека, учителя из Закарпатья — он ездил в Москву хлопотать о чем-то и жаловался на непонимание. Я краем уха слышал его жалобы и тоже, к стыду своему, его не понимал. И тоже высокомерно — возвышаясь над его духовной провинциальностью, а по существу (но как я был далек тогда от существа) — над здравым смыслом. И еще помню демобилизованного майора, который не успел закомпостировать билет и, торопясь домой, ехал на площадке между вагонами. Я сказал кондуктору, что это как-то нехорошо, заслуженный человек, и на площадке.
— Где? — уточнил тот. Я показал.
Появился кондуктор на площадке сухо-официально.
— Попрошу документы.
Майор показал. Естественно, военный литер у него был. Кондуктор углубился в чтение. И только после этого столь же сухо сказал, как приказал:
— Пройдите в вагон.
Оба они были украинцами, но официальную беседу вели по-русски. Впрочем, русско-украинские отношения если в вагоне кто-либо из демобилизованных и затрагивал (а их тогда на всех поездах было много), то шутливо. Вот разговор, в эту или следующую поездку — демобилизованные возвращались еще долго.
— А зараз (сейчас) так, — философски отметит один, — сюды идуть (едут) украинци, а туды — кацапы…
Но в людях, только что прошедших военную страду бок о бок с этими «кацапами», такое словоупотребление оскорбляло нравственное чувство.
— Ни, так нэ трэба казаты.
— А як трэба?
— А можэ так, — выдвигал примирительную версию другой — сюды украинци, а туды — руський народ.
— Та ни, — подводил итоги дискуссии веселый голос, — трэба так: туды кацапы, а сюды — хохлы.
Тем и удовлетворились — обрадовавшись шутке.
В массовую ненависть украинцев к русским и в крайнюю необходимость для них жить отдельно я не верю. Для большей части Украины это больше «идея» — вещь сугубо романтически-интеллигентская. И как всякая такая идея, если проводится последовательно, она к добру не ведет. А в значительной степени просто «западыньска», точнее, «галычанська», а не своя кровная. Галиция и впрямь исторически больше обособлена от России, чем остальная Украина. Может ли вся Украина стать «Вэлыкою Галычыною»? Может ли Галиция ее повести? Куда? Впрочем, и пути России немногим более ясны. В Беловежской пуще охотились на Мишку, а подстрелили все государство. Но тогда до этого было далеко.
Хочу вспомнить еще одну свою студенческую поездку в Киев, ибо она очень колоритна. Решение ехать пришло внезапно, я взял в институте отпуск и отправился на Киевский. Билетов, естественно, не было и в помине, но какой-то железнодорожник продал мне свой литер, который я легко закомпостировал в кассе для железнодорожников. Ехал я в общем вагоне среди демобилизованных киевлян. Народ был веселый, дружественный. Поездка затянулась — поскольку где-то в Сухиничах перекладывали пути, поезд повернули в Калугу, оттуда он пошел на север, в Вязьму, на Белорусскую дорогу, и лишь оттуда — на Брянск. Литер у меня отобрал первый же контролер, поскольку у меня не было эмпээсовского удостоверения личности. А билет — по квитанции о штрафе — мне удалось взять в Фаянсовой — между Вязьмой и Брянском.
Ребята корили меня:
— Дурак, сказал бы, мы бы тебя прикрыли, да и билет у нас общий, и на большее количество людей, чем едет. Провезли бы.
Оно бы, конечно, да кабы знать, что билет отберут! Но самым примечательным в этой поездке был разговор о поэзии.
Узнав, где я учусь и чем занимаюсь, ребята попросили меня что-то прочесть. И я прочел им забытые мной теперь начисто хмурые стихи о солдатах, которых везут в Сталинград. Солдаты понимают, что это значит, но понимают и то, что кому-то все же надо там сейчас быть. Стихи были вполне патриотические и о патриотизме, но их пафоса, как я его запомнил, я и сейчас не стыжусь. Крамолой они и не пахли.
Однако реакция слушателей была неожиданной и единодушной. По их мнению, я все написал неправильно. В это «неправильно» стоит вдуматься. В него вовсе не входило несоответствие тона и сути этих стихов пережитой ими реальности или несогласие с моим отношением к описываемому. Правда жизни и опыт в формировании этого суждения не участвовали — сами они и до и после этого разговора рассказывали о войне и не такое. Но им и в голову не приходило, что это имеет отношение к оценке стихов.
И не с тем они говорили, чтобы не ударить лицом в грязь или «поставить меня на место». И уж, конечно, не вставали грудью на защиту идеологии, поскольку ею не интересовались. И не опасение за меня ими руководило. А бывало и это — мне не раз приходилось это слыхать: «дескать, знаешь, что за это бывает». Но мысли их были далеко от этого, да тут и повода не было. Движимы они были исключительно доброжелательным отношением старших к младшему. Стихи, прочитанные мной, были грустными и о трудном.
А краем уха и глаза из газет, а больше из радиопередач, они усвоили, что стихи должны быть бодрыми и звать. И воспринимали это как условие профессии. Сапоги не должны быть дырявыми, а стихи небодрыми. Сами они в этой бодрой продукции не нуждались и подобным делом заниматься бы никогда не стали, но раз выбрал профессию, делай, что она требует. С их точки зрения я просто по молодости и неопытности не знал этого. Вот и вразумляли. Это были простые, хорошие и совсем неглупые парни, сами по себе вовсе не расположенные «знать» то, что им и интересно никогда не было. И именно поэтому из их «неправильно» ясней видно, что такое «промывание мозгов» — другими словами, как умели задурять людям головы несуществующими знаниями и фантастическими представлениями советские печать и радио.
Но вернемся к первой поездке. Поезд пришел в Киев днем. На подходе поразило меня то, что купола Святой Софии и Лавры были не золотыми, а коричневыми — их так выкрасили, видимо, при немцах для светомаскировки. Поезд медленно полз по какому-то временному, с виду деревянному мосту, мелькнул Киев-второй (Демиевка — Сталинка), стрела Большой Васильковской с костелом вдали, увидел я даже Жилянскую — она на некотором отдалении тянулась вдоль полотна — отметил даже товарную станцию, но нашего угла и нашей улицы в тот раз не увидел. И наконец вокзал. Киевский вокзал. Не прошло и пяти лет (по тогдашнему моему возрасту, не говоря уже о пережитом, — серьезный срок), как я опять ступил на киевскую землю. Правда, ступил я на нее со ступенек вагона, а сходил по сходням баржи, но это мелочь.
Вокзал — одно из самых значительных сооружений довоенного Киева — показался мне теперь обшарпанным и бедным. Впрочем, удивительного тут не было ничего — пострадал от войны и еще не был до конца восстановлен. Как, впрочем, и весь Киев, в чем я вскоре убедился. На всех его центральных улицах торчали пустые коробки зданий. По некоторым, например по Прорезной, трудно было пройти из-за гор разбитого кирпича и щебня. Крещатика почти просто не было. Но восстановительные работы шли очень интенсивно. Через несколько лет почти все было восстановлено. Только Крещатик был не восстановлен, а построен заново — получилась совсем другая улица в сталинском духе и стиле.
Домой я поехал на трамвае № 10, который теперь шел по Владимирской, мимо нашего дома, обратная остановка была как раз под нашими окнами. Когда-то поездка на вокзал и с вокзала воспринималась как серьезное путешествие, а теперь расстояние это почему-то очень сократилось — трамвай на Владимирскую с Саксаганской свернул почти сразу, и доехал я как-то очень быстро. Так было почти во всем. Оказалось, что до Оперы, которая раньше помещалась для меня вообще в другом мире — меньше чем десять минут ходьбы, а до университета — просто рукой подать. Сказывалось, наверное, и то, что я стал взрослым, был молод, да и привычка к московским расстояниям тоже сказывалась.
Но все это открывалось и в общении со старыми и новыми друзьями.
К этому времени вернулся в Киев не только Ритик. Вернулись из армии и упоминавшиеся в первой части этих мемуаров фронтовики — Гриша Шурман и Марк Розенблат, вернулся и Марк Бердичевский, ставший не по своей вине инвалидом войны еще на подступах к ней. Многие вернулись из эвакуации. Едва ли не первой из моих друзей появилась в Киеве Женя Бирфирер (Жуча), потом ряд других ребят и девушек, а уже при мне — Тамара Стояновская.
Тогда же Гриша познакомил меня с семьей Тамарченко, с которыми я тоже быстро подружился и с тех пор, как и с Ритиком, дружу вот уже целых полвека (с 1946 года). Собственно, это была тогда не семья, а целый клан, состоящий из двух семей. Одну составляли профессор Давид Евсеевич Тамарченко и его тогдашняя жена Броня, на которой он только что женился, другую — Гриша и Анка, брат Давида Евсеевича Григорий и его жена Анна Владимировна. Все они были филологи-литераторы. Давид Евсеевич преподавал в университете теорию и историю литературы, Анка — литературу в пединституте. Гриша воевал, только что вернулся из армии, писал диссертацию. Была еще там мать обоих братьев, но с ней у меня отношений практически не было.
Все они были выпускниками Ленинградского университета. Анка вообще коренная уроженка Питера. Жили Тамарченки в известном тогда еще всем киевлянам «доме Мороза», на углу Владимирской и Льва Толстого (до революции Караваевской), наискосок от университета и против знаменитого Николаевского парка (тогда, а теперь и подавно — парка Шевченко) — практически в центре города (Крещатика-то почти не было) и минутах в пяти-шести моего тогдашнего ходу от дома, где я рос. Я уже писал, что мой микрорайон, физически, конечно, оставаясь на месте, психологически как-то переместился в центр. Впрочем, как и в Москве район каких-либо Ямских или Мещанских.
Давид был человеком больным, парализованным, но чрезвычайно живым и живого ума, и при всей своей иммобильности пользовался успехом у женщин (как и они у него). Сошлись мы с ним быстро (о чем чуть ниже), и теплые, дружеские отношения у меня с ним сохранялись до самой его смерти. Ему тоже доставалось немало. Как и многим, ему пришлось выдержать все унижения, все выплеснутые на него ушаты грязи, связанные в антикосмополитскую кампанию, которые были положены по штату всем выбранным в ее объекты. А ведь тяжело человеку в возрасте, да еще больному, в единый миг превратиться из уважаемого человека в парию, в предмет тотального заушательства. Но он все же сумел себя отстоять — правда, переместившись из Киева в Москву — чудны дела твои, сталинщина! Умер он сравнительно молодым, в Ленинграде, в конце 1959 года, будучи старшим научным сотрудником Пушкинского дома.
Моя дружба с младшими Тамарченками, Анкой и Гришей, никогда не прерывалась. Позже они, как и я, уехали в Америку. Уехали по естественной причине — чтобы соединиться с уехавшими раньше дочерьми. Когда они уезжали, иного способа увидеть своих уехавших детей у родителей не было. Отцу моих друзей, живущих в Америке, которые выехали из страны по официальному разрешению и политикой не занимались, отказались разрешить поездку к сестре в Париж на том основании, что ведь туда к нему могут приехать его сыновья-эмигранты из США. Так что уехали мои друзья не от жажды быть иностранцами. Но тогда само предположение даже и о такой возможности показалось бы нам не только немыслимым, но и оскорбительным. Хотя времена были стократ хуже и страшней, нежели те, когда мы уезжали.
Обстановка в доме была духовной и интеллектуальной, очень близкой мне по духу. К сожалению, все мы были людьми того неправдоподобного, одновременно и героического и раздавленного времени, и интеллектуальность наша была тогдашней, по позднейшему выражению, «ангажированной» и часто самоослепляющей. Напоминаю, что в этот период и я признавал Сталина. А уж в том, что мировая революция — высшая ценность, которой должна служить и служит, несмотря ни на что, вся страна, я, как уже здесь говорилось, еще и долго после того не сомневался. Все они относились к этому примерно так же. И Сталина ведь признавали как продолжателя этого Дела в особо сложных условиях.
Обо всем этом я уже не раз писал, и на этих страницах тоже — иного духовного наполнения жизни мы себе не представляли. Вся беда была для нас (тогда!) в том, что и в соответствие Сталина этой идее тоже верилось трудно. Как-то мало соответствовали выдвиженцы своей официальной (да и любой другой) идеологии. Верить было трудно, но мы старались. Анка страстно при полном моем согласии утверждала, что идея мировой революции сохраняется в чистоте, но в «консервированном» виде. И при этом сама рассказывала, как одна пожилая интеллигентная женщина грустно ответила ей на это:
— А может быть, консервированная материя меняет свою биологическую сущность?
Показательно, что фраза эта нам очень понравилась, даже поразила, но… на тогдашнее наше мировоззрение не повлияла.
Конечно, ни о какой духовной консервации Сталин не помышлял. Да она и невозможна. Все это были только наши упования. А если при этом вспомнить, что это была за материя даже без «консервации» — а до понимания этого, минимум, еще лет десять — одиннадцать — то видно, в каком призрачном мире билась живая мысль и как тяжело она пробивалась к реальности и реальным ценностям — к свободе. А свобода — еще и неуют личной ответственности.
И все-таки, несмотря ни на что, это была живая мысль, питавшаяся естественной потребностью живой души в «смысле и красоте»[4]. Что же касается тамарченковского дома (который, как и все в XX веке, тоже оказался временным пристанищем), то жизнь его вертелась в основном вокруг литературы и поэзии. Последнему особенно была привержена Анка. Как и я, она признала Постановления ЦК о литературе, но считала долгом прежде, чем ругать то, что положено было ругать (всех акмеистов и чуть ли не Блока), познакомить студентов с тем, что это такое, и сама увлекалась стихами, которые любила. Да она ведь и не считала их плохими. Претензии были только теоретически-идеологическими, вымученными для сохранения цельности. Потом, в период космополитизма, она, несмотря на свое дворянское происхождение, была главным объектом кампании в Черновцах, где тогда работала.
Общение с Тамарченками было для меня благотворным еще и потому, что я расширил свое впервые сформированное на лекциях М. С. Григорьева представление об эстетике.
Да и вообще впервые узнал, что это так называется. Ведь предмет, который он читал (и который вообще значился в вузовских программах изучения литературы) именовался «Введение в литературоведение» и слова «эстетика» профессор не произносил. Почему? Неужели оно было тогда отменено? Хорошо помню, что потом термин «эстетика», правда, с определением «марксистско-ленинская» бытовал, но это потом. А тогда — не знаю. Хотя и потом предмет назывался по-старому (или по-новому — как все в нашей жизни — откуда считать) «Введение в литературоведение». Так или иначе, что это называется «эстетика», я впервые услышал от Анки.
Я останавливаюсь на этом так подробно потому, что в моем становлении эстетика сыграла громадную роль. Может возникнуть досужий вопрос — а нужна ли вообще людям, посвятившим себя столь интенсивному и импульсивному делу, как поэзия и вообще художественное творчество, столь абстрактная дисциплина (не наука же!)? Безусловно, никакое погружение в премудрости эстетики не сделает человека художником, если он не художник, не гарантируют даже верной оценки художественного произведения.
И все же я думаю, что скорее нужна — особенно в век столь многих революций в искусстве, — иногда после всех забот о тонкостях выразительности не худо вспомнить, о чем собственно вообще речь, что и почему вообще стоит (адекватно) выражать средствами искусства. И, кроме того, именно в связи с эстетикой я впервые соприкоснулся с проблемой личности.
До сих пор мне (в теории, конечно) было известно только «личное» (сиречь мещанское, эгоистическое, мелкотравчатое), которое и существует практически только для примата над ним общего. А тут, хоть и в марксистском освещении, оно оказалось центральной проблемой — ну хотя бы в литературе. Помню вступительную фразу из лекции Давида в Москве: «История литературы есть история развития человеческого характера». Разумеется, все это, как и то, что чуть раньше открыл мне М. С. Григорьев, шло навстречу моему самоощущению (интуиции), поэтому я это и воспринял, но услышать это сформулированным было тем не менее очень важно. Ведь культура потому и культура, что передается и развивается, а не начинается каждый раз с нуля. Сталин не зря боролся против всякого общения и всякого самосознания.
Я уже упоминал, что все это приобщение к культуре проходило в марксистском оформлении. Я давно уже не марксист, ибо не материалист, не социалист, не поклоняюсь классовой борьбе и знаю, что классовое сознание есть не истинное, а искаженное представление о реальности. Но это не отменяет того факта, что учился я мыслить на марксизме и что он же меня научил отрицать марксизм. Ибо культурный марксизм (не «марксизьм-ленинизьм») был все-таки европейской системой мысли — к тому же единственной мне тогда известной.
Кстати, я и теперь не присоединяюсь к тем, кто, обжегшись на молоке, дует на воду, и хотя отрицаю марксизм, его ответственность за ленинскую партию и Октябрь Семнадцатого считаю весьма косвенной (большинство марксистов в мире все это тогда отвергло), а за сталинскую коллективизацию и индустриализацию — вообще никакой — да, к огорчению «национально-мыслящих», Маркс и Энгельс к организации колхозов отношения не имеют. Так же, как не имеют они никакого отношения к многочисленным сегодняшним террористическим группам в Южной Америке и других веселых местах планеты, хотя те прямо объявляют себя «марксистскими».
Конечно, марксизм в целом тут не безгрешен — видимо, он создал ауру, которая оказалась очень удобной для любых «активистов». Но я здесь не пропагандирую марксизм, даже не определяю меру его вины в целом, а просто пишу о том, что такое культурный марксизм и что роль, которую он в тогдашних условиях сыграл в моем (да только ли в моем?) развитии, была благотворной.
Хочу напомнить, что из отрицания марксизма вышло такое серьезное культурное явление, как русская религиозная философия. Из отрицания сталинской и послесталинской эклектики получилась только другая эклектика — пусть интеллигентская, но не менее капризная. Подчеркиваю — в то трудное время именно марксизм возвращал к культуре и мысли.
Должен сказать, что если сталинщину и ленинщину я с гневом и стыдом отверг, то от марксизма просто отказался как от неверной теории. Но при этом я и теперь не забываю, что Маркс все равно был мыслителем. И что хоть насчет вредоносности капитализма и частной собственности он явно был неправ, а с их отпеванием явно поторопился, но еще в «Экономически-философских рукописях 1844 года» сумел предугадать, описать и оценить массовую уравнительную психологию нынешнего времени, назвав ее «грубый коммунизм». Правда, это я прочел много позже…
От Тамарченок я впервые узнал о разгромленной в конце тридцатых группе «Литературный критик», с которой они были и интеллектуально, и лично связаны. От них я впервые услышал имена ее лидеров — венгерского эмигранта-коммуниста Георга (Дьердя) Лукача и Михаила Александровича Лифшица. Имена этих людей были известны уже во многих странах. М. А. Лифшиц был, кроме всего прочего, составителем известной тогда хрестоматии «Маркс и Энгельс об искусстве».
Вижу ироническую улыбку непосвященных и нелюбопытных. Дескать, знаем мы все эти «Ленин об искусстве», «Сталин об искусстве»… Нет, не знаете. Это вовсе не было официозной компиляцией, это было впрямь предпринято с просветительной целью. Конечно, Маркс и Энгельс специально искусством не занимались, и в этой области были и есть более крупные авторитеты. Но уровень культуры и понимания, который они проявляли, обмениваясь друг с другом в письмах мнениями на этот счет или задевая эту тему мимоходом в статьях, посвященным другим вопросам, имел для нас колоссальное значение, а в начале тридцатых освобождал от тоскливой жвачки Пролеткульта…
Впрочем, я до Тамарченок ни об этой хрестоматии, ни об ее составителе, ни об его круге, ни о дискуссии ничего не знал. Наверное, если и встречал в довоенной «Литературке» упоминание о дискуссии, о том, зависит ли талантливость произведения от мировоззрения автора, то пропускал из-за отсутствия интереса.
Между тем за этой схоластикой стояло многое — это был бесплодный спор культуры с бескультурьем, когда вдобавок на стороне бескультурья стояли партия и государство.
Но, как все «сознательные» сторонники строя, «теченцы» (так их по свидетельству Д. Самойлова называли в ИФЛИ) при всей мощи своего интеллекта этого не понимали. А они теоретически были тогда сторонники не просто строя, но и лично Сталина, поскольку тот разгромил «вульгарный социологизм». Кстати, не без их помощи — они были ударной силой и теоретическим обеспечением этого разгрома. От крамолы, как видите, они были весьма далеки. И если говорили о независимости качеств произведения от идеологии автора (речь шла о прошлом), то не столько из либеральности, сколько из идеологической уверенности. Они имели в виду, что талант все равно заставит автора писать правду, а значит, объективно его творение будет на стороне передового класса и прогресса. А в том, что правда на «нашей» стороне, они и сомнения не допускали.
Короче, они на первых порах видели в Сталине культуртрегера и не учли, что отменил он вульгарный социологизм, а не саму вульгарность. Ее он только укрепил и умножил. И — в еще большей концентрации — применил в своей особой, сталинской «народности» (после того, как он подорвал все основы и связи народной жизни). Именем этой «народности» и были разгромлены «теченцы».
Горькая ирония этих моих слов не должна быть никем воспринята, как взгляд свысока. Ведь речь идет о замечательно умных, очень талантливых и ярких людях. Просто обстановка закрытого общества и тотальной дезинформации действует на всех. Я не думаю, что при всем своем уме они понимали, почему потерпели поражение. Среди них было много евреев, но это не могло быть актом антисемитизма. Во-первых, тогда он был запрещен, а, во-вторых, «по поручению партии» возглавлял этих сталинских «народников» бездарный профессор еврейского происхождения В. Кирпотин.
Преследовались не евреи, а культурный разум, по природе чуждый сталинской бессмыслице, даже когда думает о себе иначе. Я потом острил, что социализм это такой строй, при котором В. Кирпотин может в открытой дискуссии победить М. Лифшица. Получилось так, что я потом однажды соприкоснулся с Кирпотиным (тот принимал у меня какой-то экзамен в Литинституте, ничего дурного мне не сделал, но производил крайне неприятное впечатление) и был в добрых отношениях с Лифшицем. Так что, как говорится, могу оценить если не остроумие, то справедливость своей остроты. Однако социализм сработал — Кирпотин победил!
Антимодернистские взгляды М. А. Лифшица были всегда мне близки. Это вовсе не значит, что я разделяю все его оценки — например, его отрицание импрессионизма. Но никакая верность общей позиции не гарантирует правильность оценки конкретных произведений. Как не гарантирует она творческих откровений. Но эта общая позиция облегчает и то, и другое, создает культурную атмосферу. В 1950—1960-е годы некоторые воспринимали этот пафос М. А. как конформизм — ибо с модернизмом вздумало бороться и государство. Но это они были неправы, это была обычная советская путаница. Ибо впервые он выразил эти взгляды в тридцатые годы, когда «антимещанский» пафос модернизма не только официально не осуждался, а отчасти даже приветствовался.
Лифшиц считал себя ленинцем (во времена моего знакомства с ним уже не сталинцем), но всегда в нем жила здоровая консервативность. Не зря он когда-то дружил с Твардовским и Платоновым, которые, впрочем, тоже считали себя коммунистами. Я с ним знакомился два раза. Еще в юности до ареста, на квартире его дочери Веты, где он меня одарил великолепным презрением и — попутно, к слову — не менее великолепным анализом «Евгения Онегина». А вторично — уже в зрелости, когда меня привела к нему Ольга Чайковская. И хотя он вроде ко мне уже хорошо относился — я к тому времени тоже написал ряд серьезных статей против модернизма, — наши отношения тут же чуть не кончились.
Ибо я мало того, что покусился на Ленина (сказал, что у того было господство темперамента над логикой), но еще с радостью первооткрывателя высказал тонкое предположение насчет ленинизма самого М. А. — сказал, что когда-то в юности он совершил насилие над собственной логикой, а дальше все пошло правильно. Что тут началось, передать трудно. Фраза, что первоначальное его (М. А.) низкое мнение о моих умственных способностях, поколебленное недавно в нем его друзьями, как теперь он убедился, было правильным — не казалась самой резкой.
Я оказался в щекотливом положении. В истинности моих слов я не сомневаюсь и теперь, но я ведь пришел к нему разговаривать и слушать, а не учить его или ругаться с ним — так сказать, выяснять отношения. И до этого, и в тот момент я считал его одним из самых умных и интересных людей своего времени. Теоретически надо было расплеваться и уйти, но это было глупо. И я стал отрабатывать задний ход, о чем и теперь не жалею. В общем, «вечер прошел в теплой дружеской обстановке». О Ленине и ленинизме мы больше не говорили.
Такое насилие над логикой — для того времени «многих торный путь», хотя от этого множества М. А. отличался невероятной силой и глубиной интеллекта.
После этой встречи мы всегда дружески встречались, переговаривались, и это всегда было интересно. Как я слыхал, в конце жизни он признал «абстрактные» (в противовес относительным, классовым), то есть нормальные человеческие ценности. Но я думаю, что он всегда из них исходил, только оформлял их в духе «двадцатых годов», к которым в культурном отношении тоже вряд ли относился с особым пиететом. К его антимодернизму никак не следовало относиться легкомысленно. Он никогда не был у него «мещанским» неприятием непривычного, он был плодом глубоких размышлений о жизни и культуре — был шире просто отношения к искусству.
Я всегда считал его учеников своими учителями — не в поэзии, а в мысли. Не стоит острить, что дескать мысль была марксистская. Я учился у них (и у марксизма) не столько мыслям, сколько культуре мысли. А через что еще, если не через этот культурный, попираемый «марксистской» властью марксизм она могла до нас дойти? И знакомство с этим началось у меня в Киеве и через Тамарченок.
А вообще Киев я воспринял тогда мрачно. Раздражало многое. Очень агрессивен был, например, (или только мне казался?) украинский национализм. Прежде всего в своем яростном желании не столько утвердить свое, сколько искоренять все русское. Я это стремление воспринимал как антикультурное. В какой-то степени оно таким и было (и есть сейчас), но именно в какой-то степени.
Поймите меня правильно. Я с детства человек русского языка, но никакой украинофобией не страдал. Как уже рассказано в первой части, я вырос в Киеве и с детства привык к украинской речи вокруг себя, привык даже к украинским вывескам повсюду. Более того, в эвакуации мне всего этого не хватало, и я бывал всегда рад, если вдруг слышал рядом украинскую речь, живо на нее откликался. Это и сейчас так.
Но в первый мой послевоенный приезд в Киев это было не так — напор украинизма рождал во мне какое-то глухое, иррациональное сопротивление. Разумеется, и тогда это не относилось к простым людям, для которых эта речь была естественна, а в какой-то нарочитости, ощущавшейся во всем. Может быть, отчасти дело было и во мне, в моей тогда еще неофитской, а потому бескомпромиссной приверженности к России и всему русскому. Вероятно, в какой-то мере я не избег и великодержавного шовинизма. Но все же дело было не только в этом. Ибо «шовинизм» этот подпитывался многим, на что я натыкался — и реальностью, и химерами, возникавшими из нее.
Оккупация по понятным причинам вообще сильно накладывалась на мое восприятие. Это все-таки ведь особое ощущение — оказаться в родном городе, где еще три года назад ты официально и легально подлежал уничтожению. О том, что ситуация эта для нашей страны в XX веке не уникальная, что многие подлежали этому раньше (хоть не по расовому, так по классовому признаку), что с высылаемых в 1922 году российских интеллектуалов брали специальную расписку, что они предупреждены о том, что в случае их появления на территории РСФСР будут тут же расстреляны, — я еще не думал, а отчасти и не знал.
Но зато прекрасно «знал», что украинские националисты сотрудничали с оккупантами. Я уже писал в первой части, что дело обстояло куда сложней. Именно украинские националисты долго спасали моего друга, талантливого поэта Якова Гальперина. К тому же немцы очень быстро и кроваво расплевались со своими «союзниками», решив, что обойдутся без них. Правда, скоро жестоко поплатились за свое «арийское» самомнение — в ответ получили партизанское движение «бандеровцев», которое ведь только после изгнания немцев стало воевать против нас. Все, что тут было — дворник Кудрицкий, мои родные и одноклассницы, погибшие в Бабьем Яре, — угнетало. А в городе я встречал людей, которые в это время тут жили, а часто, как я полагал, и участвовали. Даже не служа. Вот как один возчик, подрядившийся перевести бабушку и дедушку Ритика до сборного пункта. Немецкий приказ объявлял только о переселении «жидов города Киева», а не об их уничтожении. Так что ответственность за предприимчивость, которую проявил возчик (их сосед снизу) по отношению к ним, лежит целиком на нем.
А состояла она в том, что, доставив семью к месту назначения, он вместо того чтобы дать сгрузить пожитки, нужные для того чтобы начать жить на новом месте, стал отгонять их хозяев от телеги кнутом, приговаривая разные нехорошие, но теперь разрешенные слова. Его пассажиры были убиты не им и не по его инициативе, вещи у них бы все равно отобрали, и служил он в данном случае не немцам, а самому себе. И встречал Ритик в Киеве этого субъекта (фамилия которого вполне литературная — Белинский) и после войны. Как раз тогда. Это конкретная история, касавшаяся моего друга. Но таких историй мне приходилось слышать много. Они будоражили подозрительность.
Конечно, подозревал я и тогда не всех подряд. Не подозревал же нашу Адочку Давиденко. И нашу милую соседку со второго этажа Анну Семеновну Колесникову тоже. Но обе они были русские (Адочка несмотря на украинскую фамилию), а русские при оккупантах по моим тогдашним представлениям в отличие от украинцев были в городе Киеве людьми второго сорта. Кроме того, я знал, что много украинцев служило в нацистских лагерях уничтожения. И слыхал, что в эсэсовском батальоне «Нахтигаль» («Соловей»), «работавшем» в Бабьем Яре, служили тоже соловьи отнюдь не курские. Недавно один их духовный наследник из Ровно объявил, что он гордится этим фактом.
Я не прощаю ни одного человека, согласившегося на слепое палачество — независимо от того, сделал он это из холопства или из мести кому попало. И тут неважно, что этот палач испытал до того — его жертва могла испытать не меньше. Но и о том, что многое на Украине было следствием «Голодомора» — после которого полностью здоровым не может быть ни один народ, — тоже забывать не надо. Обвинительной прыти будет меньше. Во всяком случае чем у меня в сорок шестом. Но и сегодня я думаю, что тех, кто шел в лагерные палачи и соглашался убивать и истязать невинных, а тем более проявлял при этом прыть, не оправдывает даже «Голодомор».
Но судить огульно о целом народе все равно нельзя — об украинцах, как и о евреях. Ведь я и тогда знал, что фронтовиков среди украинцев было намного больше, чем коллаборантов. Знал и о тех, кто, рискуя жизнью, прятал евреев и спасал еврейских детей. Я собственно и не судил — речь тут вообще идет не о мыслях, а о настроении. Не говоря уже о том, что в каком-то смысле, да еще по сталинским меркам «сотрудничали» все, независимо от происхождения, ибо — раз уж люди оказались «под немцем» — им, если бы они не «сотрудничали», то есть не работали где-нибудь, просто не на что было бы жить. Но это сегодняшнее понимание — советское воспитание к такому отношению не располагало.
Но и сегодня тогдашняя обстановка в Киеве все равно вспоминается как тяжелая. Тем более что взаимные подозрения и взаимонепонимание катализировал уже упоминавшийся мной квартирный кризис. И поскольку возвращались в основном евреи, это создавало какой-то каменный непроходимый антисемитизм, какого в такой концентрации и абсолютности я больше потом никогда и нигде не встречал.
На это откликнулся украинский писатель-юморист Остап Вышня, которому разрешили после лагеря вернуться в Киев — такое редко случалось. Он разразился фельетоном против тех, кто просидел войну в Ташкенте, а теперь требует свои квартиры. Антисемитизм тогда уже допускался, но, видимо, он нарушил какие-то нормы, и его одернула сама «Правда». Директивный орган дал понять, что никто не позволит противопоставлять одних граждан другим — все советские люди. Я и теперь считаю этот фельетон низким и постыдным. Не дело писателя подливать масла в огонь таких страстей.
Незадолго до моего приезда этот огонь едва не обернулся еврейским погромом. Вечером на Демиевке некие личности встретили офицера-еврея при многих орденах и звезде Героя Советского Союза. Стали его оскорблять и, кстати, осведомляться, за сколько денег он в Ташкенте купил эти награды. Офицер почему-то обиделся и вместо того чтобы подробно рассказать под смех публики, за что он какую награду получил, поступил с ними так, как на фронте привык поступать с их единомышленниками — выхватил пистолет и убил обидчика. Неизвестно, перешли ли вопрошавшие к оскорблению действием, но такой способ разрешения конфликтов незаконен везде. И то, что офицера арестовали — естественно. Но все равно наутро стали собираться возмущенные толпы. Назревал погром. Власти растерялись. Положение спас митрополит. Он позвонил в Москву, и оттуда последовало распоряжение принять меры. Меры были приняты, до погрома в Киеве не дошло. Но обстановка была противная. И Остап Вышня наравне с Андрием Малышко и его (по выражению В. Некрасова) «малышкинюгенд» создавали ложное, как я теперь думаю, представление об украинской интеллигенции.
Такое отношение к ней прошло у меня без следа после появления на сцене молодых украинских «националистов» — другими словами, культурной творческой молодежи.
Речь идет о В. Коротиче, И. Драче, И. Дзюбе, Д. Павлычко, Л. Костенко и незабвенном моем В. Пидпалом — всех не перечислишь. То, что я здесь называю только поэтов (исключение И. Дзюба), неудивительно — я их лучше знаю. Люди это разные, далеко не во всем я с каждым из них согласен, особенно сегодня. Но все это люди, понятные мне — в то время как Малышко и его окружение (по классификации «националистов» «хуторяне») по-человечески мне понятны не были никогда. Или — что то же самое были мне слишком понятны всегда. Но тогда в киевской атмосфере царили они.
В Киеве я тогда же или в следующий приезд познакомился и с Людмилой Титовой. Кто-то, не помню кто, рассказал мне о ней и прочел ее стихи об оккупации. И я к ней пришел — просто так. Жила она в самом центре, у самых Золотых ворот, на углу Большой Подвальной и Владимирской (тогда Ворошилова и Короленко). Окна и балкон ее комнаты (жила она, как и большинство горожан в те годы, в коммуналке) выходили на Золотоворотский садик.
История ее такова. Отец ее, Виталий Платонович Титов, был дворянином и командиром Красной Армии. В 1937-м или в 1938 году (даты наводят на мысли), когда он уже жил с другой семьей далеко от Киева, он неожиданно кончил самоубийством. Люда до войны жила с матерью и отчимом, евреем по национальности, который раньше был даже прокурором, но потом читал лекции на юридическом факультете Киевского университета. Весной 1941 года Люда кончила школу и поехала в Москву поступать в институт. Когда началась война, она не сразу добралась до Киева и мать с отчимом уже там не застала. Соседи ей сказали, что они эвакуировались с университетом. И Люда застряла в Киеве. Пытались ее произвести в еврейки (по отчиму), даже череп мерили, но отчество у нее было другое, а кроме того, она показала дворянские грамоты отца и матери. Отступили. И она прожила в Киеве всю оккупацию. Стихи ее были талантливы и подлинны. Но всерьез литературой при всей яркости своей личности и дарования она не занималась — в Литинституте, куда я ее без труда устроил (показав ее стихи), она не осталась и уехала домой. Стихи ее теперь стараниями Ритика почти все изданы — в Москве и Киеве. В Москве в ЦДЛ даже состоялся и прошел с успехом вечер ее памяти.
Отношения с Людой и с ее вскорости мужем Яшей Данцкером я тоже поддерживал и поддерживаю всю жизнь. После ссылки при жизни Сталина, в 1951-м и в 1952-м, я, приезжая полулегально, останавливался по их приглашению у них. Они вели себя так же, как и мои московские друзья. Та часть моего поколения, к которой относились мои друзья, шла к истине трудными путями, но друзей в беде не покидала. А ведь за одну такую ночевку неположенного человека можно было нажить крупные, а то и роковые неприятности. Тем, кто склонен относиться иронически к слабостям предыдущих поколений, стоит задуматься, было ли легко это делать и примириться, смогли ли бы они сами вести себя так же в столь грозных обстоятельствах.
Яша и Люда, как многие в наше время, потом разошлись. Последний раз Люду я видел в 1992 году в Киеве, когда она была уже смертельно больна, но оставалась все такой же — яркой и всегда неожиданной. Думаю, что она была рождена для большего, чем сделала. Она умерла. Яша теперь, как и я, живет в Америке, в Вашингтоне, мы перезваниваемся. Ритик и теперь живет в Киеве.
А моей книге настает уже пора возвращаться из Киева в Москву.
2. Круги и кружение
А в Москве круг наших с Максимом знакомств расширялся. При всей перекрученности ее судьбы Москва и тогда была в высшей степени интересным городом. Во всяком случае для нас с Максимом. Уверен, что это и объективно было так, но сейчас речь не об этом. Мы оба были провинциалами, и нас она влекла прежде всего интересными и значительными знакомствами. И мы с ним заводили эти знакомства (отнюдь не «связи»), так сказать, проникали в круги московской художественной и гуманитарной интеллигенции. Где-то в гостях (а может, на какой-нибудь, как теперь говорят, «тусовке») мы познакомились с Майей Рошаль, тогда студенткой режиссерского факультета ВГИКа (Института кинематографии), и она пригласила нас в гости.
Она жила с родителями — известными режиссерами Григорием Львовичем Рошалем и Верой Павловной Строевой. Приняты всей семьей мы были радушно, тепло, ободряюще, нас, как говорится, внутренне поддержали. Дружба с этой семьей продолжалась у меня вею жизнь, выдержала все испытания, которым щедро подвергало ее жестокое сочетание последующей истории с моей биографией. И ни на каком отрезке пути она не подводила.
Конечно, и Григорий Львович, и Вера Павловна, как и все известные режиссеры тех лет, диссидентами в позднейшем смысле этого слова не были. Я имею в виду не поведение — об этом тогда и речи быть не могло, — а внутреннее отношение к происходящему. Адекватного ему абсолютного и жесткого отрицания «эпохи» (и в диссидентство оно, кстати, не уложилось бы) у них и в помине не было. А у кого оно было, кто умом и духом уже тогда — не задним числом, а уже тогда — полностью соответствовал создавшейся ситуации?
К тому же все вокруг были в эйфории недавней победы над фашизмом, добытой в союзе с демократиями, — это радовало, как десятилетие назад ту же среду радовал разгром «Пролеткульта» и РАППа. Тогда эту наживку творческая интеллигенция проглотила с крючком, с которого ее отцепили только при Горбачеве. Теперь, когда она уже давно была на крючке, никто и не тратился на наживку — этим союзом с цивилизацией она утешалась сама.
Но тут я уже соскользнул на разговор о среде, так сказать, стал рассматривать вопрос «в общем виде», говорить об одном из предшествующих мне поколении творческой интеллигенции. К тому, что я помню о старших Рошалях, он отношения не имеет. С ними ни о «Пролеткульте», ни о союзных демократиях я разговоров никогда не вел. Я только хочу сказать, что приятие сталинской действительности у старшего поколения этой семьи было далеко не безусловным. Свидетельство тому — их безусловная и традиционная интеллигентская порядочность, выразившаяся хотя бы в том же их отношении ко мне в трудные годы. Но и в творчестве тоже.
Я здесь не собираюсь оценивать фильмы Рошалей по гамбургскому счету (даже если он применим к кинематографу) и погружаться по этому поводу в киноведческие проблемы. К тому же я эти фильмы смотрел очень давно и не знаю, как бы я их воспринял сегодня. Но чем они были в тогдашних условиях, я помню хорошо. Мне скажут, что нельзя судить о произведении искусства применительно к условиям. Это правда. Но и жить в сталинщину, тем более вести в ее условиях интеллектуальную и духовную жизнь — тоже нельзя. Однако жили и вели. И кому-то за что-то были благодарны. За намек на правду или на реальную ценность.
Поколения меняются. Те, кому все это понятно, вымирают. И все большему количеству людей надо объяснять, что я пишу не вообще о годах советской власти, а об апофеозе сталинщины. Ибо к советчине относятся и годы «оттепели», и годы застоя. Я не идеализирую эти периоды, застой просто остановил порывы страны к спасению, но и в эти годы наше кино при всех помехах старалось говорить полным голосом, не мытьем, так катаньем протаскивать свое — и иногда это ему, хоть с потерями, удавалось. Но сталинщина — другая эпоха. Тогда об этом и вопрос не стоял — убивали за одно только подозрение в «протаскивании».
А фильмы Григория Рошаля («Петербургская ночь», «Зори Парижа», «Мусоргский», «Павлов» и другие) и «Поколение победителей» Веры Строевой «протаскивали» интеллигентность, идейность (как личное независимое убеждение), погружение в творчество, порядочность. Напоминали, что они, так сказать, таятся в «наших истоках» (во что тогда многие искренне верили), следовательно, что они вообще существуют. Все это подавалось в упаковке отнюдь не крамольной (такая и не замышлялась), в обрамлении «правильного» истолкования[5], но все-таки напоминало. И благодаря таким людям и такой деятельности это в нас заронялось.
Этот дом сыграл, как я полагаю, огромную роль в моей жизни — я встретил в нем много интересных людей, в том числе представителей небывалого, исключительно тогдашнего, советско-сталинского сословия сановной художественной интеллигенции. Об этом своем впечатлении — это ведь особое явление в истории культуры — мне бы хотелось поговорить отдельно, прежде чем опять вернуться к этому дому. Хотя все происходило в его стенах.
Конечно, художники и до этого бывали иногда сановниками (например, Гете или Державин), но не по художественной же части. Это сословие было сформировано Сталиным лет за десять — двенадцать до этого, и во времена, о которых я пишу, еще соблюдалась какая-то видимость соответствия между некоторым — не скажу, художественным, но все же профессиональным — уровнем и саном. Пошатнулось это после идеологических постановлений 1946 года, а полностью соблюдаться перестало в эпоху «борьбы с космополитизмом». Новые задачи потребовали новых людей — тогда в сановные вышел и Анатолий Софронов.
Могут сказать: какая разница? Но все-таки разница между Анатолием Софроновым и даже Григорием Александровым, не говоря уже о, допустим, Всеволоде Вишневском, была и есть. Первые — это те, кто по страху или по идейному умопомрачению предавали то, что умели и знали, софроновы же, пользуясь моментом, активно отхватывали то, с чем обращаться не умели, чего не знали, не понимали и не собирались знать или понимать. Кто больше виновен, вопрос непростой, но вторые мне более отвратительны. Однако это уже коллизия расцвета поздней сталинщины, а сейчас мы еще только в ее преддверье.
И однажды в этом доме я вижу Всеволода Вишневского, личность для меня тогда легендарную. За ним стояла романтика Гражданской войны, красный Балтфлот, фильм «Мы из Кронштадта», а кроме того «Знамя» — лучший журнал короткой, негромкой, а потому почти неразличимой для потомков военной и послевоенной «оттепели», главным редактором которого он тогда был. Оттепель, конечно, была бледной, но все-таки первый роман Некрасова, повести Казакевича, воспоминания Вершигоры, вообще ряд ярких произведений о войне, в том числе и признанных потом «ошибочными», — напечатать он за это время успел. Напечатал он также и стихи Юлии Друниной и других моих друзей, вовсе не тривиальные.
И вот со своей женой, художницей Софьей Вишневецкой, он пришел слушать пьесу Григория Львовича, и я сидел с ним за одним столом. Пьесу эту я не помню, она, не будучи крамольной, все же была далека от тогдашней ортодоксальности и тем задела Вишневского. Судя по всему, он яростно держался за ортодоксальность цельности ради (видимо, та же проклятая советская «искренность»), но литературу и все с ней связанное чувствовал. Он стал ходить по комнате и взволнованно говорить:
— Понимаешь, Гриша, до сих пор мне все было ясно… А теперь я буду думать… думать…
Тут я и ввернулся:
— Слава Богу! Наконец-то…
Естественно, он взглянул на меня весьма зверски, но, видимо, не рассердился. Ибо потом, когда его попросили выслушать мои стихи (пусть читатель не забывает, что я тоже был тогда сталинистом), согласился, благосклонно выслушал и пригласил прийти в журнал.
Сегодня я отношусь к этому своему выпаду не столь однозначно, как долгое время относился. Безусловно, то, что я позволил себе это хамство (а это было хамство — разница в возрасте и в заслугах не допускала таких выпадов, тем более публичных), объяснялось литературщиной, как бы следованием Маяковскому в его богемности, тем, что мещанские нормы приличия я презираю, а других не бывает. Но мой выпад не объяснялся дурным отношением к Вишневскому вообще.
Много позже я узнал о том, что С. Я. Маршак называет таких, как он, Швабриными, но для меня тогда переход гардемарина на сторону революции казался поступком естественным, благородным и только придавал ему обаяния. Не объяснялся мой выпад и молодым желанием «высунуться». Он был естественной реакцией на странные для меня слова известного писателя. Думать, конечно, тогда было о чем — тем более писателю. Так что вроде я выхожу кругом прав. Но воспоминание о том, что в тех патологических, бессмысленных обстоятельствах он все-таки что-то делал, кого-то печатал, как-то, видимо, пытался сводить концы с концами (роскошь, которую мало кто себе позволял), кое-что все-таки у моей правоты отнимает.
У меня нет никаких оснований писать воспоминания о Вишневском, ибо я никогда с ним не общался. Я не знаю душевной формулы его перехода на сторону большевиков. Знаю только по творчеству, что он был истовым. Эту истовость он потом, как Павленко и Фадеев, перенес на Сталина, что было непросто — ведь надо было не только внутренне отказаться от многих товарищей, но и примириться с идиотскими обвинениями против них. Обошлось это всем недешево. Павленко, который вовсе не был бездарью, это привело к преступлению — он написал ту «честную и искреннюю», но пренебрежительно-отрицательную характеристику творчества Мандельштама, которая и решила участь поэта. Я не знаю, как Павленко на самом деле ценил талант Мандельштама (в «записке» для «объективности» в качестве хороших стихов, которые, дескать, у Мандельштама, особенно в последнее время, тоже встречаются, он приводил плохие, сталинистские стихи), но знаю, что он ведал, куда писал и что из этого проистечет. Может быть, тоже берег цельность?
Фадеева, личной активности в чьей-либо гибели, если не обязывала должность, не проявлявшего, эта любовь к Сталину привела к пьянству и самоубийству. О чем-либо подобном в отношении Вишневского мне слышать не приходилось. После моей выходки он не только не мстил, а даже пригласил меня прийти в редакцию.
В «Знамени», однако, меня тогда не напечатали, но не по его вине. Милые интеллигентные дамы приняли меня хорошо, отнеслись ко мне с доброжелательным интересом, но снисходительно. Говорили обычные окололитературные благоглупости, выходило, что все бы хорошо, и талантливо, и содержание их не пугает, но вот художественно я пока, к сожалению, не вышел. О художественности — о том, что художественно, а что нет — я тогда думал много, и, естественно, я эти их слова долго помнил и высказывался об этих дамах неласково. Потом, после смерти Сталина, когда я вернулся из ссылки, они укоряли меня в том, что я к ним несправедлив — не печатали меня потому, что мои стихи по тогдашним условиям были непечатны, а я их за это ругаю. Но я их ругал не за это, а за буквальный смысл их слов. Ведь они не просто меня не печатали, а говорили при этом то, что могло подорвать во мне веру в свои силы, то есть с другой, с неначальственной стороны добавляли кое-что к тому, что мне приходилось преодолевать. Им так было удобней говорить. А может, и думать?
Впрочем, сейчас и к этому я отношусь спокойней. Ибо объяснить мне, в чем дело, им вовсе не было просто, это требовало высокой степени доверительности, а я все-таки был еще слишком юн и наивен, и это могло казаться им опасным. Тем более что стихи, которые я им приносил, я считал не крамольными, а идеологически безупречными и сверхуместными. По существу они, к сожалению, такими и были, но сталинщину не интересовало существо, если тематически стихи выходили за пределы того, что положено.
Все больше теперь моя ярость переключается с людей на наши уникальные обстоятельства — страной правил сумасшедший негодяй (оба эти слова следует понимать не как ругательства, а как определения), и в централизованном порядке распространял сумасшествие. И приспособление к этому сумасшествию, к его логике считалось и в какой-то мере даже было здравым смыслом.
С домом Рошалей связано еще одно, на этот раз феерическое знакомство — Сергей Михайлович Эйзенштейн. С ним в отличие от Вишневского мы с Максимом некоторое время и впрямь водили знакомство. Познакомились мы с ним на именинах у Майи, его ученицы по ВГИКу. Представлять его нет необходимости. Нет такой киноведческой кафедры в мире, где бы его не изучали. К его творчеству и творческим установкам у любого компетентного читателя давно сложилось свое отношение, положительное или отрицательное, и я не берусь его пересилить несколькими строчками мемуаров. Я буду просто рассказывать то, что помню. И кое-что, как всегда, в связи с этим. Прежде всего о впечатлении, которое он произвел в первый раз. Оно было громадным.
Большой артист, мастер, запросто сидел в кресле, окруженный влюбленной в него молодежью, шутил и отвечал на все вопросы. Кроме того, иронически освещал положение в искусстве:
— В Большом театре готовят «Ромео и Джульетту». Джульетту танцует Уланова, она и танцует, как Джульетта. А Ромео — секретарь партбюро, он и танцует, как секретарь партбюро.
— Называть человека, интересующегося формой, формалистом, столь же последовательно, как называть человека, изучающего сифилис, сифилитиком.
— Закон диалектики для учреждений искусства: «Все течет, но ничего не меняется».
Естественно, мы с Максимом упустить такого случая не могли, завели легкий разговор, почитали стихи и кончили тем, что напросились в гости. Он согласился, но сказал, что имен наших все равно не запомнит и чтобы мы по телефону назвались кличками — «пол-испанцы» (Максим читал незаконченное стихотворение об Испании) и еще какой-то кличкой, связанной с каким-то впечатлением обо мне, кажется, с названием стихотворения (ни впечатления, ни клички не помню).
Долго мы себя ждать не заставили. «Опознав» нас по кличкам, он тут же пригласил нас в гости, и мы явились. Жил он где-то в районе «Мосфильма», кажется, на улице Пудовкина, которая еще не выглядела столь благоустроенной как потом (боюсь сказать: «сейчас»), жил один в большой квартире, увешанной фотографиями, выхватывающими моменты съемок в разных странах, где приходилось работать хозяину квартиры. В углу стоял небольшой столик, где под стеклянным колпаком сохранялся скелет ребенка. Потом я слышал, что это скелет его сына, умершего в трехлетнем возрасте.
Во время разговора произошел неприятный для меня эпизод — я вертел в руках какую-то гладкую палочку и в конце концов сломал ее — к его великому огорчению. Оказалось, это была дирижерская палочка, причем, по-видимому, чем-то ему особенно дорогая. Не то, чтобы он стал ко мне из-за этого плохо относиться, но не мог этого забыть и каждый раз поминал ее мне. А я — хоть мне, конечно, было неприятно его огорчить, — все же настоящую неловкость по этому поводу стал испытывать только теперь, а тогда, вполне признавая в искусстве «табель о рангах», я соглашался с тем, что, конечно, и с причудами такого мастера надо считаться, но вообще — подумаешь, палочка! А что именно эта «палочка» могла быть для него связана с каким-то важным переживанием, встречей, победой, не приходило мне в голову. Варварства во мне было еще много.
Но вот что странно. Помню общее впечатление от общения с ним — его облик, обаяние, ум, высокую культуру, а конкретных разговоров почти не помню. Были они больше полушутливым художественно-интеллектуальным проведением времени, чем серьезным разговором мэтра с неофитами. Но, может, мне мало запомнилось еще и потому, что уж очень неблизко мне было его отношение к искусству. Он был на мой взгляд слишком профессионал — не только в деле, что необходимо, но и в какой-то общей позиции.
О каких-то моих стихах он сказал мне, что воспринимает их смысловой и образный ряд, но не воспринимает музыкального (или, наоборот, воспринимает смысловой и музыкальный, но не воспринимает образного — сейчас не помню). Разговор был откровенный, тогда вообще о деле говорили откровенно, и он вполне мог сказать, что стихи ему не нравятся. В этом смысле я и попытался уточнить его слова. Но он не соглашался и настаивал на своем: два ряда воспринимаю, а третий нет. Но я уже и тогда знал, что поэзия — искусство словесное и стихи нельзя воспринимать по «рядам» — если один «ряд» не соответствует, пропадают и все остальные.
Его установки были иные — может быть, потому, что были выработаны в кинематографе. Кино — искусство синтетическое, и эти ряды до какого-то момента существуют раздельно. Режиссер, который их синтезирует, ощущает, вероятно, их раздельность острей и дольше других. Но и в кино, как мне кажется, не стоит это абсолютизировать — в синтезе, в котором воплощается замысел, все эти «ряды» растворяются.
Вот еще о гиперпрофессионализме. Максим спросил его, что случилось с его фильмом «Бежин луг», почему его запретили. Я ничего об этом не знал, потом слышал, что сюжет этого фильма связан с историей Павлика Морозова, а почему запретили — и теперь не знаю. Ответ Эйзенштейна был ошеломляющ:
— Ах, это? Да… это все из-за секретаря партбюро.
— ???
— Да, из-за него. Он знал, что фильм идеологически невыдержан, а мне специально не сказал.
Я вполне допускаю, что секретарь партбюро хотел подвести режиссера, но в то, что он «знал», — не верю. «Знать», что может прийти в голову изначально перепуганному и вечно старающемуся угадать верховную волю начальству, не мог бы и самый интриганский секретарь парткома. Но слова Эйзенштейна поразили меня не этим, а авторской позицией.
Сергей Михайлович, как человек исключительно умный, конечно, понимал, в каком царстве-государстве живет, но конформистом он не был. И трусом тоже. Да и если бы был трусом и не хотел бы раскрываться перед случайными гостями, этот вопрос вовсе не вынуждал его к опасной откровенности — он вполне мог безучастно повторить официальные обвинения. Но делать ему это было неинтересно. И он как раз был откровенен — говорил о том, что его задевало.
А задевало его то, что из-за каких-то неважных для него сюжетных подробностей пропала настоящая работа. И если бы его предупредили, он бы легко эти подробности изменил. Важна только профессиональная работа — построение кадра, монтаж и все тому подобное — через это все и выражается.
Спорить с этим непросто, ибо все это действительно очень важно. Но все же не только это. Мне кажется, что как левый художник (а художником он уж точно был левым) он слишком буквально рассматривал кино как изобразительное искусство и слишком подходил под то, что под словом «мастер», несмотря на полную противопоставленность сталинщины всякой левизне, понимал Сталин. (Помните его: «Но он мастер? мастер?»[6] в телефонном разговоре с Пастернаком о Мандельштаме.)
Примитив сошелся с изыском. Поэтому Сталин столь долго и «возился» с Эйзенштейном. Но альянса не получилось. Сталинщине была противопоказана любая самостоятельность, а Эйзенштейн отказаться от самостоятельности в своем главном, сойтись с примитивом не мог — масштаб личности не позволял.
В этом была драматичность положения и других честных левых художников. Например, Бертольта Брехта и Назыма Хикмета, стремившихся к «пролетаризации», а приходивших к крайней аристократизации искусства, духа, а иногда и быта. Но к реальной примитивизации (не путать с интересом к наивному, народному примитиву) они испытывали естественное отвращение.
Тем более это относится к Эйзенштейну, который был более уязвим и зависим от этого господствующего примитивизма, чем Брехт и даже Хикмет — он не был иностранцем. На всем его облике лежала печать левого интеллигента, не политически, а духовно и эстетически левого, и изменить себе в этом он не мог. Все это было не ко двору. И мастерские его фильмы приказывали смывать. В них все равно был или грезился второй план.
Я отнюдь не поклонник этого типа культуры. И помню, что именно она, взрывая мещанские миры, поддержала «октябрьскую очистительную грозу». Помню, что именно Эйзенштейн в фильме «Октябрь» придумал штурм Зимнего — чутьем профессионала почувствовал, что большевистскому путчу, чтоб выглядеть революцией, не хватает сюжетной кульминации, и добавил ее. И мне отнюдь не чужды претензии к нему старого зэка из солженицынского «Одного дня». Но все-таки я думаю, что очень хорошо, что судьба меня ненадолго свела с этим очень незаурядным человеком. Особенно в те времена декретируемой серости. Все-таки за ним стоял колоссальный масштаб исканий, самостоятельность и определенность. И это поддерживало само по себе. Правда, не в том, чем жил он.
Я понимаю, что он внес большой вклад в развитие кино, но это меня меньше интересует. Фильмы я ценю «по-глупому», то есть по доставленной мне эстетической (она же человеческая) радости, а не «по-умному» — по вкладу их в развитие кино. Но это уже не относится к квартире и семье Рошалей-Строевых, в связи с которыми я собственно и рассказываю все это.
Григорию Львовичу я многим обязан — он мне часто помогал, не говоря уже о том, что в трудный момент добился для меня московской прописки. С Рошалями и с их квартирой на Большой Полянке мы на этих страницах, наверное, встретимся еще не раз, но я не могу продолжать свой рассказ, не вернувшись снова к первому своему посещению этого дома, не заговорив об еще одном человеке, с которым я тогда познакомился и которого Майя представила мне как своего жениха.
Речь идет о человеке, которого в Москве знали и помнят многие — о Георгии Борисовиче Федорове, — тогда, а для меня навсегда, — Жоре Федорове, с которым меня связывали тесные отношения с тех пор всю жизнь, до самой его смерти — всего полвека. В тот вечер Жора пришел к Рошалям не один, а с кем-то из своих друзей. Потом я их знал почти всех, но с кем он был именно тогда, я никогда не помнил, не зафиксировалось, смылось другими впечатлениями этого важного для меня вечера. А Жору помню. Очень большие его глаза смотрели на меня дружески, доброжелательно, подбадривающе (хоть я и не смущался). Он уже откуда-то что-то знал обо мне и попросил прочесть какие-то конкретные стихи — кажется, «Зависть». Потом еще что-то. Был очень доволен. Но он в тот раз куда-то торопился и скоро, тепло попрощавшись, ушел. Вместе с товарищем.
В тот вечер я еще не знал, что дружба наша уже началась. В следующее мое посещение они с Майей уже были мужем и женой, и Жора стал неотъемлемой, примечательной и естественной частью этого уникального дома. Встретил он меня уже как старый друг. И это уже соответствовало реальности.
Конечно, он был мне тогда другом старшим — мне было двадцать, а ему двадцать шесть или даже двадцать семь, а в таком возрасте разница в шесть-семь лет — существенна. Но, вероятно, именно в таком друге я нуждался. Он был историком. Теперь специализировался в археологии. В момент нашего знакомства он стоял на рубеже двух свершений своей жизни: кардинального — женитьбы и просто важного — защиты кандидатской диссертации.
Тогда еще кандидатское звание не было таким ширпотребом, как сейчас, и ценилось. К тому же это было серьезным жизненным успехом. Сталин после Хиросимы существенно улучшил материальное положение ученых: ощутимо повысил им зарплату и — что тогда, при еще действующей карточной системе, было еще важнее — категорию снабжения продовольствием и промтоварами. Довольствие выдавалось соответственно ученой степени. Так что получение степени означало иной общественный и имущественный статус. В тюрьме я слышал, что для ареста доктора наук требовалось больше «компромата», чем для ареста кандидата, на кандидата больше, чем на «простого» инженера и т. д. Вот как высоко ценилась наука.
Я был очень рад за Жору. И вообще это нововведение укрепляло, как казалось, положение интеллигенции, облегчило многим хорошим и ценным людям жизнь. И помогло России стать мощной научной державой. Такое положение ученых мне всегда казалось естественным.
Но есть и оборотная сторона медали — именно это породило приток в науку людей, о которых американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман сказал, что «они не интеллектуалы, а активисты». Он говорил, что во время Вьетнамской войны эти «активисты» вместо того чтобы открывать бизнесы, банки — в общем, работать по призванию, — бросились в науку (чтобы избежать мобилизации) и, как люди энергичные, быстро захватили в ней ключевые позиции. Последствия этих нескольких лет ученый воспринимает как бедствие.
Это в Америке «как бедствие»! Где такие кадры накапливались всего несколько лет. А что говорить о нас, где ни о каких банках и бизнесах и думать нельзя было, где из путей к благосостоянию существовала только партийно-государственная карьера, а теперь вдруг открылся еще один — более широкий и вроде бы независимый путь — через науку. Или — через литературу. И такое удобство, как «поддержка» партийных органов, сталинской партократии, по природе видящей своих в основном в таких «активистах», которые ни к каким банкам или бизнесам тоже способны не были, и проталкивавшей их на ключевые посты. Постоянно, а не в течение нескольких лет. Только в тех областях, которые «стреляют», иногда делались исключения. Правда, полностью подменить науку, как партию, было невозможно — там была смена фикций, а такая наука вещь реальная, она и под этим панцирем развивалась. На Западе ее достижения очень ценят. И часто используют. Ибо весь этот расцвет науки, к сожалению, покоился (что сказывается только теперь) на наследии сокрушительного начала тридцатых — на внеэкономической индустрии и ущербном сельском хозяйстве.
Как ни странно, в этом возвышении ученых, может быть, есть еще одна сторона. Разумеется, ученые в ней не виноваты. В нем стихийно или направленно сказалось сталинское стремление вогнать общество в единый ранжир, в систему сословий. Потом, как известно, работники почти всех государственных ведомств носили форму, аналогичную военной, с теми же знаками различия. Все может быть. Но это сегодняшние мои предположения. А тогда я был просто рад за Жору и потом за многих других хороших людей. Должен сказать, что серьезная интеллигенция на сословность не купилась, относилась к ней иронически, а ее особое положение помогло ей сохраниться. Привилегированные часто собирали деньги для уничижаемых. Старались помогать не только Галичу, когда он стал гонимым (это все-таки были другие времена), но и Зощенко в те самые.
У нашей интеллигенции было много грехов, но все-таки не надо забывать, что не одни грехи у нее были. И та борьба, которую она во всех условиях и при любых взглядах вела за свое духовное самосохранение, за здравый смысл, выражающиеся иногда даже в вызывающих сегодня иронию попытках свести концы с концами там, где они замыкались на кромешное по бесчеловечности безумие Сталина, — она при всей своей крайней недостаточности должна вызывать сочувствие. Страшно подумать, что было бы, если бы не было и ее. Одним из воплощений этого негромкого, но абсолютного противостояния был Жора Федоров. И широкий круг людей, который всегда бывал вовлечен в его орбиту.
Однако вернемся к диссертации. Интересовался Жора современной историей, а занялся археологией. А диссертацию защищал по еще более узкой и идеологически еще более чистой отрасли — древнерусской нумизматике. Дескать, не укусишь, не поймаешь. Речь, как я помню, шла об изменении вида и веса древнерусских монет в связи с меняющимся экономическим состоянием Московского государства. Точно, в чем было дело, я не помню, помню только антураж. Я впервые присутствовал на защите. Научным руководителем Жоры был Б. А. Рыбаков, личность сложная, но крупный ученый, впоследствии академик. Однако нисколько не нумизмат. Нумизматов, по-моему, ни тогда, ни позже в Институте археологии (до «дискуссии по вопросам языкознания», Институте истории материальной культуры им. Н. Я. Марра) не было. Да и Жора занялся потом чистой археологией — раскапывал славянские городища в Бессарабии. Но кандидатская его работа была именно о нумизматике.
Вокруг были хоть и не нумизматы, но все-таки настоящие ученые, историки, археологи (тогда шантрапа еще в археологи не перлась), и кое-что, связанное с темой, они знали, и спор возник. Кто-то на что-то возражал, Жора на это отвечал, кто-то его поддерживал, кто-то их опровергал. Как потом говорил брат Г. Л. Рошаля Моисей Львович, для полноты картины не хватало только пьяного в последнем ряду, который бы время от времени мрачно повторял: «А монеты все равно фальшивые…» Но в принципе обстановка была научной, мирной и дружественной.
После всех баталий Жоре почти единогласно присвоили ученое звание кандидата исторических наук. Но пьяного не было, хотя пьянка могла и быть — поскольку потом, как водится, был дан банкет. Таков обычай — в Средние века подмастерью, чтобы стать мастером, мало было сотворить шедевр — надо было устроить пир, где роскошно накормить и напоить весь цех, если не всю гильдию. Банкет прошел торжественно, но ни на пьянку, ни на средневековый пир не походил. Потом мне не раз случалось бывать на защитах, и кандидатских, и докторских, но эта была первой. На моих глазах мой друг был возведен в ранг ученого. И к тому же я никогда до тех пор не видел столько ученых мужей в естественной для них обстановке. Она мне понравилась, хотя желания стать ученым у меня от этого не возникло.
Через Жору я познакомился со многими интересными людьми, тогда в основном гуманитариями — в том числе с коллегой Жоры Шурой Монгайтом и его прелестной женой Валей, впоследствии прогремевшим в качестве диссидента (за книгу, изданную в официальном издательстве) Сашей Некричем, только что вернувшимся с фронта, с химиком Пашей Бутягиным и другими (а потом, после ссылки, и с физиками). Все это была интеллигенция.
И конечно, настоящим интеллигентом был сам Жора. Взгляды? Не думаю, что они тогда были радикальнее моих, то есть, что он тогда четко отрицал всю систему. Конечно, он был сыном старого большевика. Напоминаю (не в связи с Федоровым): культ старых большевиков и вообще революционной интеллигенции в обстановке сталинской прострации был не столько культом их идей и взглядов, сколько культом людей, у которых, как предполагалось, эти идеи и взгляды были своими, культом людей, ведших, как нам казалось, духовную жизнь. Возможно, что Жора уже тогда полностью отрицал Сталина — тогда он о нем знал больше, чем я, но точно я в этом не уверен. Знаю только, что дух сталинщины ему претил больше, чем многим. Именно это и привлекло его к моим стихам и ко мне. Отрицал он Сталина или нет, но к сталинщине, то есть к обстановке, созданной Сталиным (словом «сталинщина» тогда еще это явление никем не обозначалось), относился как к тому, что надо уметь обходить, чтобы делать свое дело.
Тогда вообще многие утешались негласным правилом: «во имя советской власти обманываем советскую власть». Как видно из этой формулы, ореол некой абстрактной советской власти тогда еще не совсем поблек, с ней связывалось все высокое и разумное, а обманывать следовало только «бюрократов», препятствующих этому высокому и разумному проявиться. Как правило, Сталина к этим бюрократам не относили, все происходило как бы помимо его воли. В эту чушь собачью верили не идиоты — идиотам она была ни к чему, — а исключительно честные и совсем неглупые люди. Сказывалось непрерывное многолетнее нахождение в закрытом обществе, сказывалась безвыходность. Но те, кто играл в такие игры, не выигрывал — обычно проигрывал или заигрывался.
Вариантом такого отношения к жизни (в основном среди части литературной молодежи) был: «сначала надо любой ценой завоевать положение, а потом уже делать что надо». Надо ли доказывать, что этот «вариант» был не только наиболее опасен для души, но и наиболее бесперспективным: в процессе достижения промежуточной цели главная испарялась.
Впрочем, последнее вообще к Жоре отношения не имеет и упомянуто здесь только к слову — для завершения мысли. Не знаю даже, занимался ли он обманом советской власти, но он умел себя вести с ее представителями и, пользуясь своим умом и обаянием, добиваться многого отнюдь не только для себя, многим он помогал, многих выручал из беды. Сострадание было ему свойственно в высшей степени.
Помню голодную осень после страшной засухи сорок шестого. В общежитии мы, в одночасье лишившиеся всех дополнительных талонов на питание (в основном каши) и всех видов подкормки в гостях, выдвинули общий лозунг: «Не загибаться!» — и держались за него. Но помню, с какой болью Жора рассказывал о крестьянском мальчике, которого они с друзьями пытались оставить в Москве и тем спасти от голодной смерти. Страдание крестьянского мальчика ему было не менее близко, чем страдания людей своего круга. Демократизм был как бы соприроден Жоре — ему были интересны и важны люди самых разных уровней, не говоря уже об их жизнях, это был естественный демократизм русского интеллигента — качество, у многих нынешних борцов за демократию напрочь отсутствующее.
Им свалить расплату за нерентабельность индустриализации и непропорционально огромной «оборонки» — в сущности общенациональной катастрофы, — только на тех, кто там работал (как будто они сами всю эту противоестественность выдумали), — ничего не стоит: «Зарплаты не получают? Конечно, тяжело. А что делать? Продолжать платить за ненужную работу? Когда-то же надо с этим кончить и стать нормальным обществом!»
Логика вполне старосоветская. Раньше мирились со страданиями крестьян ради исторической необходимости, теперь со страданиями рабочих ради избавления от ее последствий. Так вот — такого «мужественного» отношения к людским несчастьям Г. Б. Федоров был абсолютно лишен. О нем еще, естественно, будет идти речь не раз на этих страницах.
Близко я тогда сошелся и с еще одной семьей, с Федоровыми и Рошалями никак не связанной, но тоже занявшей громадное место в моей жизни. Я говорю о замечательной женщине — Ольге Игоревне Ильинской (Ляле) и ее муже — Борисе Сергеевиче Емельянове. Познакомился я с ними осенью 1946 года после моей первой поездки в Киев и вследствие этой поездки. Ляля была другом Тамарченок, и к ней меня послала Анка. Ляля читала во ВГИКе теорию стилей и западную литературу. Где тогда работал Борис Сергеевич (потом он работал в Министерстве культуры) — я не помню.
Знакомство мое с Лялей произошло просто. Я позвонил, представился, передал привет от Анки, договорился о встрече и пришел — благо было недалеко. Ляля жила в Мерзляковском переулке, почти на углу Поварской (тогда Воровского), район этот был нельзя центральней, у самой Арбатской площади. Но жили они вместе с Лялиной матерью Софьей Григорьевной и двоюродной сестрой Ляли, Мариной, в маленькой двенадцатиметровой комнатке, помещавшейся в самом конце многолюдной коммунальной квартиры. К тому же и комната эта принадлежала не им, а Марине, — их квартиру разбомбили, и им после эвакуации больше некуда было возвращаться. Марина была милой и обаятельной девушкой, потом (если смотреть с нынешних моих «позиций», то скоро) она вышла замуж за молодого актера Петю Глебова, тогда еще не столь знаменитого и, как у нас говорят, «выехала». Впрочем, по младости она и раньше редко бывала дома. Так что от того, что Ляля с матерью и мужем остались в ее двенадцатиметровке «только» втроем, в их жизни мало что переменилось.
Конечно, жизнь их была совсем не легкой. Ибо их дом всегда был центром притяжения интеллигенции — их старых друзей и все увеличивавшегося количества настоящих и бывших Лялиных студентов, прибившихся к дому. Все эти люди любили «забегать к ним на огонек», посидеть у них, поговорить и поспорить. Разговоры и споры бывали очень интересными, но Софья Григорьевна, несмотря на преклонный возраст, как почти все тогда, работавшая (пенсии ведь были условными), быстро уставала, а деваться ей было некуда. И иногда в самом интересном месте вдруг раздавался ее голос, с очаровательной старомосковской интонацией строго произносивший:
— Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева?
Или:
— Дорогие гости, а где ваши шапочки?
Приходилось обрывать разговор на интересном месте и расходиться. Это был не каприз и не самодурство — ведь ей с утра надо было опять колесить по городу: она работала санитарным врачом. Потом она была даже удостоена ордена Ленина за беспорочную службу. Впрочем, суматоха, с этим связанная — необходимость шить платье, вообще суета, — очень ее утомляли. Тогда, упоминая о каких-то событиях, происходивших до этого, она говорила:
— Это было еще до этого несчастья (то есть до награждения).
Старость, как об этом уже шла речь, сталинским социализмом во внимание не принималась. Людям полагалось не стареть, а служить — а потом уходить и не обременять собой общество. Только вот для военных пришлось сделать исключение — о военных пенсионерах я уже здесь писал. И то сказать — Сталин готовился воевать, строил военное государство, и надо было, чтобы офицеры не беспокоились о своем будущем. Ведь офицер не может быть слишком старым. А санитарные врачи, да и все прочие граждане — по логике сталинской системы, — могли. Как могли они жить при любой скученности.
Могли? Не знаю. Но жили. И редко у кого из гостей этого «дома» квартирные условия были лучше, чем у его хозяев. И, однако, чувствуя трудности, испытывая неудобства, несчастными себя ни хозяева, ни их гости не считали и не чувствовали. И не были. Как все вокруг, принимали их за естественные условия бытия.
Чем это было? Энтузиазмом? Но годы на дворе были не двадцатые, никто из нас не думал, что чуточку перетерпеть, — и начнется небывало прекрасная жизнь, по сравнению с которой все это мелочи. Но все же это были для нас мелочи. Конечно, энтузиазма не было, но гордые пастернаковские строки:
Мечтателю и полуночнику Москва милей всего на свете. Он дома у первоисточника Всего, чем будет цвесть столетье,— все-таки опирались на определенное общественное настроение, которому тогда не был чужд ни я, ни большинство моих друзей. Строки эти и впрямь оказались точными, но в смысле, прямо противоположном тому, который вкладывал в них автор. Ошибались в характере того, чем предстояло «цвесть столетью», и мы. И в своем настроении мы все, хоть отдавали себе отчет о многом, все-таки несли эту странную гордыню.
А чего мы могли не знать? Про себя я уже многое рассказал. Лялин отец, адвокат Игорь Владимирович Ильинский, ни с того ни с сего исчез в 1937-м, хотя — в опровержение историософии национально-мыслящих — не был ни старым большевиком, ни евреем, а наоборот — толстовцем (о нем несколько раз упоминает в мемуарах Александра Львовна Толстая), к тому же дворянином (происходил из мелкопоместных дворян Тульской губернии) и видным адвокатом. Его однажды уже арестовывали при Дзержинском. Но этот эпизод его жизни казался трагическим только вначале, когда он полагал, что арестован в общем порядке — за социальное происхождение. Но его доставили, к его удивлению, прямо в кабинет Дзержинского. Он, по-видимому, покорно ждал неизбежного конца (а куда денешься?), как вдруг после нескольких вопросов уразумел, что его обвиняют в каких-то денежных махинациях. То есть в мошенничестве. Это его до того оскорбило, что мгновенно вывело из апатии. Он рассвирепел:
— Да как вы смеете?! — Заорал он на всесильного главу террористического ведомства. Он уже не думал, чем это может кончиться. Но кончилось благополучно. Дзержинский прослезился и обнял Лялиного отца. За то, что он оскорбился, за честность. Бывшему шляхтичу это что-то напомнило. В его нынешнем окружении элементарно честных людей, видимо, было немного. Арестованный был тут же отпущен.
Вот из такой среды происходила Ляля. Из среды, как теперь выяснилось, гораздо более аристократической, чем она показывала. Не знаю, относился ли Игорь Владимирович к этой среде по своей родословной (мне она неизвестна), но знаю, что он принадлежал к ней по своим связям. Ляля этого никогда не скрывала, но и не демонстрировала. И именно потому, что была проникнута этим «аристократизмом». Отнюдь не идеологически. Идеологически она, как и Анка, была марксисткой — из того же гнезда. Говорила о себе, о всех предметах, которые преподавала, что читает марксизм (добавляя, что это теперь подпольное мировоззрение). Мне жаль тех, кто иронически улыбнется по поводу этих ее слов — жаль, что они не слушали этих ее «марксистских» лекций. Дворянство ее проявлялось в ином — в глубине личной и личностной культуры, в неотрывном, ненавязчивом — естественном — чувстве собственного достоинства. Ей было вполне свойственно то, что Пастернак определил как «дворянское чувство равенства со всем живущим». Представить ее в каком-либо из сегодняшних «Союзов бывших дворян» невозможно. Уж слишком это дело показное и безвкусное — в общем, недворянское.
Впрочем, дворян и без нее теперь в Москве, по чьему-то ехидному замечанию, намного больше, чем было в 1916 году (как диссидентов в Вену прилетало гораздо больше, чем вылетало из Шереметьева).
Не ищите во мне антидворянского пафоса. Роль, прямо сыгранную многими дворянами (и дворянством в целом) в русской культуре и истории, переоценить трудно — слишком она очевидна и значительна. И я до сих пор считаю дворянское происхождение, конечно, при прочих равных, реальным преимуществом. Но именно при прочих равных. В Лялином случае это было именно так. Ее преимущество я ощущал всегда даже с некоторой радостью. И многому у нее научился, многое перенял.
А вся эта суета с «Союзами» имеет отношение к московской суете, к «тусовкам», а не к истории дворянства. Кстати, дворяне и даже аристократы — и до революции, и после нее, и в эмиграции — бывали разными. Рядом с князем Андреем Болконским кружился, плел низкие интриги и чувствовал себя вполне комфортабельно князь (тоже князь!) Василий (Basil) Курагин.
Но это уже имеет отношение не к истории русского дворянства, а к истории цивилизации. По-видимому, в ее порах при любом ее развитии на всех уровнях сохраняются не захваченные ее духом индивиды и группы. Они по-своему осваивают цивилизацию, принимают любые требуемые ею формы, остаются ей чужды и ассимилируют ее к себе. Думаю, что вся хула на цивилизацию, которую приходится слышать, происходит из-за этой ассимиляции. Возможно, неизбежной — так глубоко не заглядывал. Но это иная тема.
Что же касается дворянской культуры в России, то она, несмотря ни на каких курагиных, была очень высокой и по духу, и по мыслям, и по представлениям о должном, о чести и достоинстве. И это потом вошло в представление об интеллигентности и, таким образом, легло в основы общенациональной культуры.
Свою причастность к этой среде, осведомленность о ней Ляля проявляла только изредка и всегда между делом, в разговоре на другие темы. Помню ее ироническое упоминание о том, что Оленины до сих пор гордятся тем, что они (то есть их предки) не выдали дочь за Пушкина, по их мнению, менее родовитого, чем они. Но это когда я завел разговор об «альтернативных» возможностях устроения пушкинской жизни (так сказать, лучше, чем он сам устроил) — тогда я еще не понимал всей недопустимости таких разговоров, такого вмешательства в чужую, тем более пушкинскую жизнь.
Расплата
Крайнее упоение у бездны, возвышение близостью к ее «зияющим высотам» и падение в нее на «общих основаниях».
Предарестная петля, моральная и фактическая.
Арест и Лубянка.
Сталинист в сталинской тюрьме.
Допросы и абсурды.
Камера самоубийц.
Лубянка вместо МУРа.
Институт Сербского.
К стыду своему должен начать завершение своего рассказа о моем студенчестве с признания, что несчастные для страны первые послевоенные годы — 1945-й, 1946-й, 1947-й (до декабря) — я прожил счастливо. Они были единственными по-настоящему студенческими годами моей жизни. Конечно, они были трудными, голодными, но счастью это не мешало — на то и студенчество. В этом была традиция и студенчества, и — подспудно — романтизируемого еще тогда военного коммунизма.
Правда, в моем случае счастье это было слегка подпорчено большим количеством любовных неудач, перманентно сваливавшихся на мою бедную голову. Сегодня, конечно, я могу шутить над этим, но тогда я воспринимал их очень серьезно, страдал и размышлял в связи с ними о любви и о женщинах вообще не менее глубокомысленно, чем Печорин в «Княжне Мери». И писал стихи, много стихов. Разных и по-разному разоблачающих тех, кто дерзал меня не любить. Большую часть этих стихов и теперь не печатаю, существенная часть их забыта даже мной, о чем я нисколько не жалею. Кстати, столь популярное среди подростков всех времен лермонтовское «Я не унижусь пред тобою…» сам автор при жизни не печатал. Претензии к предмету любви мне и теперь не кажутся ни мудрыми, ни поэтичными.
Тем более не подходят эти филиппики к тогдашним обстоятельствам. Женщин нельзя осуждать за стремление к надежности бытия, за инстинктивный поиск точки опоры. Это не корысть, речь не о богатстве, а о надежности. Она может быть на любом имущественном уровне или даже в преддверии его. Но тогда я не только не был такой точкой, но и не очень понимал, что к этому нужно стремиться. Точнее, понимал только головой, а занят был другим.
Впрочем, я думаю, что причина большинства моих «неудач» была еще в общей незавершенности моей как личности. Отсюда и ненадежность моя как точки опоры.
У меня даже теория была, что я с завершенностью своей личности несколько запаздываю неслучайно. Ибо она происходит у всех по-разному — в зависимости от величины этой личности. Как окружность завершается тем труднее и дольше, чем больше ее радиус — скромностью представлений о себе, несмотря на неудачи, как лишний раз может убедиться читатель, я тогда не отличался. Но и теперь, пройдя через жизнь и не имея потребности возвышаться над кем бы то ни было, я все равно думаю так же. «Средний» обыватель замыкался в мире своих частных забот, его задача достигнуть соответствия им — допустим, стать хорошим слесарем, портным, инженером или бухгалтером. На этом круг его обязательных отношений с жизнью в смысле определения своего места в ней — завершается. Это — он, а остальное — внешний мир, которым он тоже может интересоваться, переживать за него и т. д. Но это относится к его личным пристрастиям, а не к его месту в жизни. Конечно, и его в условиях сталинщины ущемляли, обманывали, оглупляли, он просто мог пострадать, но прямо из его деятельности, из его утверждения в жизни это не вытекало. Вернее, вытекало, но на общих основаниях — например, его или его сына могли запросто забрить в Афганистан.
Интеллектуалу же по самому роду его деятельности, чтобы чувствовать себя прочным, необходимо было прямо определить свои отношения со временем, с тем, что тогда происходило и что вело жизнь. А в годы сталинщины для искреннего ее приятия (неискреннее противней, но оно полбеды, пустяк, правило игры) представителям поколений, облученных коммунистическим мировоззрением, приходилось внутренне лавировать между правдой и бессмысленной ложью — приходилось для себя самих оправдывать не только ложность коммунизма, но и грубую бессмысленную ложь о нем. Какая уж тут прочность и завершенность при такой основе личного бытия? Когда ты чувствуешь себя «опорой трона», а «трон» к тебе относится все равно подозрительно и неодобрительно — печатают кого угодно, только не тебя. Вероятно, женщины — во всяком случае некоторые — если не понимали, то чувствовали это несоответствие и, хотя им было со мной интересно, все равно воспринимали меня как ребенка, как маленького.
В чем-то они были правы. Но в чем были взрослее меня их избранники? В способности принимать любую данность как действительность? Качество это нормальное, большинство людей в мире, особенно чиновники, им обладает, иначе бы жить было нельзя. Искреннее стремление соответствовать власти как гаранту порядка иногда может выглядеть косностью, но отнюдь не обязательно свидетельствует о карьеризме или непорядочности.
Но данности, с которыми имели дело мы, затмевали, а не проявляли действительность. Ибо не было в них и в наших днях вообще ничего нормального. И такое сотрудничество даже у тех, кому удавалось исхитриться и сделать что-нибудь разумное и полезное (тем и земля жила), все равно отнимало нечто от достоинства, а также от способности видеть и понимать. В конце концов и от мужского самоуважения. Но слава Богу, женщины этого не знали и не чувствовали, а то бы жизнь прекратилась.
Как ни странно, уверенно исполнен чувства достоинства, в том числе и мужского, был тогда именно я. Беда в том, что женщины, которых я любил, этого не видели. Конечно, я говорю о «серьезных отношениях» — к более легким я вообще, видимо, не был способен. В своей «лопуховости» я всегда наивно боялся оскорбить прекрасное существо попыткой перевести отношения на сугубо личный уровень — а когда, следуя стандарту, попытался это сделать, получилось гадко: каждому свое. Впрочем, прочитав повесть незабвенного В. Кондратьева «Отпуск по ранению», я понял, что такая «непростота» в той или иной мере была вообще свойственна многим людям еще и моего поколения. Просто в цене была бравада опытностью. Все это я говорил о существах «прекрасных» — с «непрекрасными» же, то есть совсем неблизкими, я и общаться не умел.
И все же я был счастлив. Интимность моего «понимания» наполняла меня счастьем и гордостью. Почему-то запомнил я себя на Тверской (тогда для меня улице Горького) вдруг остановившимся где-то чуть ниже Моссовета, оглянувшимся на высокие внушительные здания, на потоки машин, троллейбусов и автобусов, на всю эту кипящую, красивую, спешащую к великой цели жизнь (причастность к которой я так остро ощущал) и задохнувшимся от осознания полного счастья.
Это был апофеоз моего восторга и моей глупости. Пушкин не зря противопоставлял восторгу вдохновение. И я совершенно серьезно благодарен «нашим славным органам», что они внесли в это восторженное состояние диссонанс. Хотя полностью победить во мне это состояние им удалось совсем не сразу.
Так или иначе, в ту минуту, когда я так восторженно задыхался, где-то «в верхах» неспешно решался или был уже решен вопрос о моем аресте.
А год 1947-й как будто ничего такого не предвещал. Я закончил второй курс и впервые в жизни оказался отличником (серьезно готовился к экзаменам). Что, конечно, двойственности моего положения не отменило. В том году Союз писателей рассылал нас, малыми студенческими бригадами, в командировки по разным важным объектам — типа Запорожстроя, Днепровского пароходства и т. д. — «для изучения жизни» и работы в многотиражках. Очень хотел поехать в такую бригаду и я. Этого мне не доверили, но для утешения дали путевку в Ялтинский Дом творчества.
Это отдельная история. Месяц был июль, для Ялты не самый прекрасный — слишком жаркий. Я впервые купался в море. Правда, в первый же день кругом обгорел. Помню, как приехавший из Симферополя Александр Лесин, с которым я познакомился еще в Москве, водил меня знакомиться с местным философом, по совместительству швейцаром гостиницы. Философия его заключалась в единственной фразе: «Я это отрыцаю», относимой к чему угодно. Это было забавно. Но обязанностей своих он все же не «отрыцал» и посторонних гонял нещадно. В Ялте мне было очень приятно, но к характеру моих воспоминаний это относится мало. И я бы об этом вообще не упоминал, если бы не странный сон, который вдруг ни с того ни сего мне приснился там однажды ночью.
А приснилось мне, что меня арестовывают. Какая-то лестничная клетка, все говорят, что идут за мной, и я ощущаю безвыходную тоску, сродни той, какую потом испытал на самом деле. Весь клубок сложных чувств. Я, конечно, принимал и прощал несправедливые жертвы, но уж больно нелепо и безвыходно это распространилось на меня. И с чего вдруг такой сон, ведь ничто его не предвещало, ни намеков, ни предчувствий не было. В то же время я увидел, как между делом, в одном из кабинетов (на той же лестничной клетке) этот вопрос решается и, как я сказал бы сегодня, интеллектуально обосновывается. Кажется, моими же словами.
Впрочем, неправда — один намек уже был. Чтобы рассказать о нем, мне придется напомнить то, о чем я уже здесь рассказывал — что завершающая строфа моего сталинистского стихотворения «16 октября» в искаженном виде пошла гулять по Москве. Стихотворение это я и теперь печатаю, но такой «успех» мне отнюдь не льстил, ибо переделка эта не только НЕ соответствовала моему тогдашнему умонастроению и была опасной, но и выглядела, хоть и радикальнее, но грубее, бездарнее, чем подлинник. Для сравнения привожу оба варианта.
У меня было:
Там, но открытый всем, однако, Встал воплотивший трезвый век Суровый, жесткий человек, Не понимавший Пастернака.Гуляло:
А там, в Кремле, в пучине мрака, Хотел понять двадцатый век Сухой и жесткий человек, Не понимавший Пастернака.Мое «там» по ходу стихотворения означало: в Кремле, на который «заграница, замирая», «молилась», когда немцы подошли к Москве. «Гуляющий» текст со стихотворением никак не состыковывался. Кстати, этот конец мной потом был вообще переделан — я счел, что Пастернак тут не может быть мерилом вещей. Получилось (теперь я это отбросил):
Там, за текущею работой Встал воплотивший трезвый век Суровый, жесткий человек В величье точного расчета.Был еще вариант последней строки: «Апостол точного расчета», но он еще дальше от того, что мне приписывалось. А все остальное?
Короче, так я написать не мог. Я, например, никогда не воспринимал Сталина — при любом к нему отношении — как человека, способного мучиться желанием что-нибудь понять. Но сколько я ни опровергал этот текст и свое авторство, это не помогало. Меня «с пониманием» выслушивали и сообщнически просили не беспокоиться. Очень любили у нас фиги в кармане. «Догуляло» это четверостишие до конца пятидесятых, что зафиксировано «Автобиографией» Е. Евтушенко, где оно было воспроизведено с одобрением. Оно, как говорится, «вошло в легенду», и это меня огорчает до сих пор. И отнюдь не тем, что «обижает» Сталина. Этим я занимался и занимаюсь достаточно. Но мне неприятно, что такое глупое и плоское — при всей «смелости» — четверостишие приписывается мне.
«Намек», о котором я упомянул, тоже был связан с этим «гулявшим» четверостишием. Однажды в столовой ЦДЛ, к которой мы были прикреплены, проходил какой-то торжественный вечер Литинститута, точнее, его неофициальное завершение, которым Союз решил побаловать студентов. Ребята были оживлены, не только сидели за столиками, но и ходили между ними, выпивали, в том числе и за свой счет (у кого он был). Словом, обстановка была непринужденной, ведь институт был маленький, все были свои. Вдруг, проходя мимо одного из столиков, я был остановлен предложением выпить. В этом не было бы ничего необычного, если бы оно исходило от кого-нибудь другого. Но исходило оно от двух человек, с которыми я не общался и о которых знал, что они ко мне относятся враждебно.
Это была странная пара. Одним из двух был Костя Телегин. О нем я знал, что он подавал заявление в Литинститут, но не прошел «творческого конкурса» (так это называлось, хотя самого конкурса не было, был просто отбор). Но он оказался сыном крупного военного (сам тоже был во время войны летчиком), и на нашу дирекцию стали нажимать. Отец несколько раз являлся к Ф. В. Гладкову в блеске орденов и погонов, но каждый раз натыкался на железную бескомпромиссность Федора Васильевича.
— Ничем не могу помочь! — разводил он руками. — Если бы мы инженеров готовили, тогда — другое дело. Из уважения к заслугам! Из уважения к заслугам писателя сделать нельзя… Нельзя-с!
Гладков говорил чистую правду. Но человек, на глазах которого «делали» и генералов (на него самого грешить не буду — не знаю), в это поверить не мог и продолжал портить жизнь сыну. В конце концов, когда Гладков был в отпуску, его тихо приняли на заочное отделение — ни в общежитии, ни в стипендии он не нуждался. Из его произведений я читал только показания на себя (о чем позже), но тут не поймешь, где его рука, где — оперативника. Что с ним было дальше, не знаю. Отец его потом попал из фавора в опалу, а сын после моего возвращения из ссылки на горизонте не возникал.
Меня же он невзлюбил за то, что хоть я, как он слышал, махровый антисоветчик, все же являюсь полноправным студентом, между тем как он при всей его кристальности никак не выбьется из заочников. Таким было его представление о писательстве. Но речь сейчас не об этом.
Вторым был Малов (кажется, его звали Василием). Он был тоже фронтовиком. Настоящим. О ратном терпении Телегина я слышал разное. Но насчет Малова, многажды раненного и контуженного и, соответственно многажды награжденного, в этом смысле не могло быть никаких сомнений. По крайней мере одно из его ранений было очень тяжелым — в голову, что и было причиной его неуравновешенности. О творчестве его я ничего не знаю, сам не читал, а в общежитии о нем не говорили. Он потом стал душой антикосмополитской кампании в институте — во всяком случае так это выглядело в тогдашней печати и в замечательной повести Владимира Тендрякова «Охота», написанной гораздо позже, в 70-е годы. Мне очень неудобно называть эту повесть замечательной, поскольку в ней с теплотой и симпатией выведен аз многогрешный. Но повесть, действительно, замечательна, и она была бы такой, даже если бы в ней не было не только меня, но и всего литинститутского фона.
Но это — другая тема. Я касаюсь сейчас этой повести не как рецензент, а как мемуарист. Мои уточнения, важные для мемуаров, никак не являются критическими замечаниями к повести. Впрочем, и с мемуарной точки зрения в повести много ценного. Несмотря на живость и свободу изложения, обстановка в нашем подвальном общежитии и его насельники описаны точно. Точно описана и сцена моего ареста. Но она смещена во времени — меня арестовали до, а не во время «борьбы с космополитами». Для повести это неважно, а для этой моей работы важно. И только образ Василия Малова, по-моему, не совсем соответствует прототипу. Например, в повести он действует как секретарь партбюро — при мне он такой должности не занимал. Не припомню я и его тайной любви ко мне и к моему творчеству — в повести он даже плачет, узнав о моем аресте. Мне кажется, что реальный Малов был не столь сложен и противоречив. Впрочем, может быть, я ошибаюсь — Тендряков мог знать его дольше и лучше, чем я. Но подозреваю, что у созданного под этим именем образа было два прототипа — реальный Малов и еще один человек.
И опять это не критические замечания — художественное произведение оценивается не по степени соответствия его героев своим прототипам, а образ, созданный Тендряковым, точен, выразителен и значим. Да и многие черты реального Малова чувствуются в этом образе. Почему-то мы в наших разговорах с Тендряковым — а их было немало — никогда не упоминали этого имени. Может быть, и зря — ведь кончил этот человек как-то страшно — сказалось ранение. Череп Малова частично или полностью был заменен стальной пластиной, в которой была предусмотрена щель для доступа воздуха. Ему ни в коем случае нельзя было погружать голову в воду. Но, принимая ванну, он ударился или поскользнулся и не избежал этого погружения. Нашли его, когда труп начал разлагаться. Царствие Небесное этому увечному воину — видит Бог, я ему никогда зла не желал. Впрочем, я ведь и не знал его почти. Как и он меня.
Но вот именно он и Телегин неожиданно предложили мне с ними выпить. Обстановка была вполне к тому располагающей, реальных причин, да и желания отказываться у меня не было. Между нами ничего худого (как и хорошего) не происходило — а слухи не основание отказываться говорить с теми, кто желает с тобой поговорить. Я согласился. За столом сидело еще два человека. Кто-то из студентов (кажется, Сорин) и один очень невзрачный и маловыразительный молодой человек, весь в сером, на которого я сначала не обратил особого внимания. Меня попросили прочесть какое-то свое стихотворение, кажется вовсе не крамольное, но какое именно, теперь уже не помню. По своему тогдашнему обыкновению я эту просьбу тут же удовлетворил. Завязался оживленный разговор или, скорее, подобие его. И тут вдруг вступил в беседу невзрачный, с ходу заговорив как-то одновременно обиженно и агрессивно:
— А вот это, — он прочел «гулявшее» четверостишие, — ты написал?
«Ты», в данном случае, не было хамством. Мы, как это часто бывает в России и особенно бывало тогда, сразу после войны, «по-свойски» быстро перешли на «ты». Но невзрачный не спрашивал, он утверждал, как бы требуя моего согласия, практически признания. Но я возражал, даже прочел стихотворение полностью, но на невзрачного это не действовало.
И мне впервые стало страшно. Нет, я вовсе не «все понял», я даже не догадался, из какого учреждения мой собеседник (а он был именно из «того», я «там» потом с ним встретился), но в этом напористом стремлении выдать искаженное четверостишие за подлинное я почувствовал чью-то жестокую и подлую волю, безжалостную интригу, стремящуюся все и всех запутать — угрозу.
— Ребята, это кто-то копает против меня! — воскликнул я, услышав эту злосчастную переделку.
«Кто-то» копал. Забегая вперед, скажу, что в моем деле это четверостишие не сыграло никакой роли. Но как повод для ареста, может, и сыграло. Как повод. А что было причиной и была ли она вообще? Этого я до сих пор не знаю. В те времена причинно-следственная связь если не совсем отсутствовала (как в середине тридцатых), то с легкостью и не без некоторой государственной респектабельности (состоящей в улавливании логики сумасшедшего властелина) нарушалась и игнорировалась.
Короче, «серый и невзрачный» явился на этот вечер специально познакомиться со мной. Зачем это понадобилось МГБ, не знаю. Видимо, соответствующему подразделению нужна была для отчета соответствующая деятельность — в этом МГБ не отличалось от других советских учреждений.
Но какую все же роль сыграли эти двое, Телегин и Малов? Роль, конечно, неблаговидную — наводили на меня этого «серого», прикрывали его. Вряд ли по собственной инициативе. Но как он вышел на них, как узнал, что может рассчитывать на их помощь? Похоже, действовал отбор по принципу бездарности — тогда бездарность начинала становиться критерием социальной стратиграфии. Певцом этой «страты бездарных», выразителем ее чаяний и претензий потом сделался Всеволод Кочетов («Братья Ершовы», «Секретарь обкома»). Были ли Телегин и Малов сексотами? Не думаю. В моем деле есть показания Телегина — а донесения сексотов оставались только в агентурном деле, и подследственным они не предъявлялись. Показания Малова мне, правда, не предъявлялись, но думаю, что не было и донесений. Он был слишком неуправляем, чтобы ему могли доверить сексотство. Показаний же против меня он дать не мог — мы с ним ни разу не разговаривали. Он мог бы разразиться какой угодно филиппикой на мой счет, но выдумывать не мог.
Так или иначе этот разговор и опять возникшая искаженная строфа меня взволновали. Ялтинский сон всколыхнул притихшую было смуту. Но и это отошло. Из Ялты я через Харьков поехал в Киев. В Харькове ночевал у Поженяна, он показывал мне город. В Киеве тоже мне было не до снов и предчувствий, но вот я вернулся в Москву. И тут со мной скоро стало твориться неладное. Начались странности с друзьями. Чем дальше, тем чаще они как раз, когда я к ним обращался, оказывались невероятно заняты, любой разговор пресекали в самом начале.
— Прости, старик, но времени совсем нет! Потом… Потом… Бегу!.
И человек убегал. И второй так же. И третий. Все эти сцены происходили во дворе или в районе Литинститута. Вызывали в основном тех моих друзей, чья жизнь вертелась вокруг нашей alma mater. Остальных, видимо, не тревожили. Круг сужался, меня это подавляло, но серьезности своего положения я все-таки до конца не сознавал. Ведь я же был свой, даже самый свой. Настолько свой, что «диалектика» приводила меня к тому, что честно верящие, неспособные подняться над мелкой правдой (сиречь, над естественными человеческими чувствами, в том числе над элементарной справедливостью), более вредны и менее полезны, чем жулики и карьеристы. Но себя я, правда, относил к способным подняться «над». Возможность моего ареста опрокидывало и это «буйволиное» (от «причастия буйволу» по Генриху Беллю) представление о себе. Оно, конечно, диалектика — но стреноженный буйвол — это явно не то… Через несколько лет я был счастлив, что все это мироощущение полетело, и не устану повторять, что благодарен нашим славным органам за арест, в конце концов вернувший меня к самому себе и к живущим рядом людям (от коих я «уходил» больше теоретически).
Но все это пришло ко мне не в одночасье, а постепенно и много позже. Но сейчас я пишу о том, что было тогда. А тогда я чувствовал за спиной чью-то планомерную враждебную работу, одновременно грубую и хитрую. Позвонил Жигалову. Василий Михайлович, когда я рассказал о своих переживаниях, не стал меня обманывать, а высказался в том смысле, что думать надо было раньше. Говорил он со мной таким же тоном, как всегда, скорее дружественным, чем отчужденным, но встретиться отказался. Конечно, можно тут распустить хвост и разразиться каскадом филиппик. Тем более, о каком «раньше» могла идти речь, если я был суперверноподданным? Но арест явно был инспирирован не им. И сделал он единственное, что мог сделать — не соврал. Разговор этот был за пару дней до ареста. Разговор достаточно ясный. Но мне все равно было трудно поверить в его страшный смысл.
Впрочем, многое отвлекало. Прежде всего случившаяся в те же дни отмена карточной системы и денежная реформа. Многие люди от нее пострадали. В том числе и вполне честные — допустим, получившие гонорар за многолетнюю научную работу или техническую разработку (я таких встречал). Но в нашем общежитии таких не было. Для нас открывался рай — нормальная жизнь, когда можно будет купить, что захочешь — по собственному выбору, лимитированному только количеством наличных. Мы от реформы явно выигрывали и в общем ликовали.
Помню, что реформа официально начала действовать с 16 декабря, но первые два — три дня магазины (кроме кажется, хлебных) были закрыты на переучет. И только числа 19-го, а то и 20-го я смог реализовать свою «мечту идиота» — купил стеклянную банку баклажанной икры. Когда-то где-то я ее откушал из такой же банки, она мне очень понравилась, но была недоступна. И вот теперь она была у меня в руках! Я принес ее в общежитие и тут же споловинил ее содержимое, причем — с достаточным количеством хлеба. В общем, насладился. Вторую половину я оставил на позже, чтоб продлить блаженство, а банку с ней бережно поставил на высокий подоконник рядом с моей кроватью. Там она и осталась, когда меня увели. В камере я потом не раз вспоминал об этой оставшейся полбанке с огорчением и досадой — очень мне было жалко, что не доел. Кстати, то, что мой арест совпал с отменой карточной системы, ложилось на мою душу дополнительной тяжестью — усиливало впечатление, что уводят меня непосредственно от ворот рая, до которых все мы с таким трудом добрались.
Но это было в тюрьме, а пока я еще на воле. Я еще хожу по улицам, сижу на лекциях. И даже участвую в «общественной жизни». Недавно меня очередной (и последний) раз приняли в комсомол. Как, может быть, помнит читатель, в Киеве я получить билет не успел, а билет, полученный в Симу, я потерял, когда не состоял нигде на учете. Меня сразу же ввели в агитколлектив при нашем избирательном участке. Только потом я понял, что это Саша Парфенов, зам секретаря парткома, и другие ребята таким путем пытались меня спасти, прикрыть. Были и более прямые предупреждения. На каком-то институтском вечере Гриша Поженян и Миша Годенко отвели меня в сторону и стали мне внушать, что их вызывали, беседовали обо мне и что поэтому мне следует быть осторожней. Мол, сам я ничего такого не думаю, но там истолковывают… Более того сам полковник Львов-Иванов, секретарь парткома, встретив меня у памятника Пушкину (на старом месте, в начале Тверского бульвара), остановил и ни с того, ни с сего стал ободрять. Словно речь шла о чем-то всем — и уж во всяком случае мне — хорошо известном.
— Ничего, товарищ Мандель, мы за вас боремся. Только вам надо ошибки осознать.
Да, тот самый, Львов-Иванов, о котором я уже писал, в Гражданскую командир легендарного партизанского «Полка Красных Орлов» в Сибири (соединения отнюдь не благостного), волей судьбы (заблудившейся судьбы России) ставший секретарем партбюро, идеологическим руководителем идеологического учреждения, да еще на пике псевдоидеологического бума, и одновременно герой многих литинститутских анекдотов. Помните: «Василь Семеныч, ты б хоть сказал мне, кто такой этот Декаданс. А то неудобно — кругом только о нем и речь, а я, секретарь партбюро, даже не знаю, когда он родился и когда помер». И вот этот человек явно не хотел, чтоб меня арестовали, и готов был сделать все от него зависящее, чтобы этого не произошло. Так кому надо было, чтоб меня арестовали?
Впрочем, я и тут еще не до конца понял, что обречен. Тем более что все как бы сводилось к каким-то моим ошибкам. А раз речь шла об ошибках, то тут я был во всеоружии. Какие ошибки? Я готов был защищать любые свои стихи и взгляды, и с самых ортодоксальных позиций. На них ведь и стоял. И я защищал свою правоту, когда меня вызвали на партбюро — обсуждать эти ошибки. Конечно, обвинения были невнятны — обвиняющие сами не знали, в чем меня обвинять, и я никак не мог с ними согласиться, защищался.
И никак не мог взять в толк, что позиции тут ни при чем, что ребята и полковник делают все от них зависящее, чтобы меня спасти, используя для этого универсальный для советского обихода метод — товарищеская критика и признание ошибок. А я по дурости портил им всю игру.
Но ни я, ни они не понимали главного в этой ситуации — что, если в дело замешано МГБ, никакая игра, никакие методы и никакая логика — даже больная советская — не действуют, что зверская эта машина, если уж наметила жертву, то — так уже было устроено автоматическое взаимодействие ее частей — выпустить ее она просто не в состоянии. Независимо от личных качеств и желания людей, которые в ней были задействованы. Это отнюдь не отменяет «заслуг» ее «первых учеников» (по Шварцу), но они ведь были во всех сферах той противоестественной жизни. Я и говорю, что всей глубины этой противоестественности не знали ни я, ни ребята, ни полковник Львов-Иванов. Да и работники тогдашнего МГБ тоже плохо понимали, что и зачем они делали. Считалось, что знает Сталин. Но знала только его болезнь, которая по определению знать ничего не могла. Царила дьявольщина. И как видел читатель, нечистый ее дух проникал и в меня.
О том, каким я был агитатором, рассказывать нечего. При всей моей истовости агитировать мне было некого: контингент агитируемых (жители Большой Бронной) были народом грамотным и сами все знали, за кого, когда и где надо голосовать. Все обещали прийти вовремя, утром. К этому собственно и сводилась задача агитатора. Как я ее выполнил, мне неизвестно, ибо утро 21 декабря, дня «всенародных выборов» (куда выбирали, не помню), я уже проходил «предследственную подготовку» на Лубянке, о чем чуть ниже…
Последний день моей свободы, 20 декабря, мало чем отличался от всех остальных. Помню, что днем мы с моим приятелем Юрием Уваровым, тогда студентом-филологом МГУ и его приятелем (о котором он потом говорил, что это был Андрей Синявский, но тот это отрицал, и у меня нет ощущения, что я был с ним знаком до эмиграции) забрели в какую-то забегаловку на Тверской, рядом с бывшим «Националем» (ее теперь нет).
Через некоторое время туда забрел (тоже в компании с кем-то) мой товарищ по институту поэт и скульптор Виктор Гончаров, человек талантливый, болезненно и остро — пусть без потребности в теоретическом обобщении — реагирующий на всякое проявление бесчеловечности. Как известно, советскому человеку это жить никак не помогало. Поэтому творчески Виктор Гончаров смог сделать гораздо меньше, чем позволял его несомненный талант. При всем его богатом жизненном опыте (он был на фронте, едва не умер от ран и контузий, перенес много операций и вообще — «видел жизнь») он в чем-то был очень наивен. Например, однажды — уже после смерти Сталина — из какой-то творческой командировки он вернулся с очерком о забастовке в Витебске (названной «коллективным простоем станков») и о том, как потом местные власти превратили одну из ткачих в символ этого прегрешения и стали тотально травить эту женщину. «Символ ведь не жалко», объяснял Витя их психологию, принеся этот очерк в либеральную тогда «Литературку». И простодушно надеялся его напечатать. В конце пятидесятых, во времена, когда «все знали», что забастовок у нас не бывает, потому что для них нет почвы.
В этот раз, в забегаловке, Виктор был почему-то очень грустен и повел странные речи:
— С человеком все можно сделать. Вот, например, возьми волка. Или другого зверя. Если его запереть в клетку, он будет на стены бросаться, ходить целыми днями из угла в угол, искать выхода. Не успокоится. А человек! Загони в любой грязный, сырой подвал, в сарай, в яму, где темно, скользко, воняет — что он будет делать? Он как только осмотрится и придет в себя, подойдет к кому-нибудь, начнет расспрашивать, как тут что, когда жрать дают, — начнет обживаться…
В этих словах чувствовалось не осуждение этого человека и его поведения, а болезненное сочувствие его безвыходному положению. Подозреваю, что он что-то слышал о тучах надо мной (ведь достаточно для нашего маленького заведения людей знало про это — кто-то мог поделиться и с Витей), и слова эти — реакция на это, усиленная встречей. Но не исключено, что трагическое самоощущение, проявившееся в этих его словах, было связано с другими, более давними, переживаниями — все-таки он был с многострадальной Кубани.
Вечером этого дня (потом я узнал, что это был еще и «День чекиста») я вместе с упоминавшимся уже Максимом Толмачевым читал стихи в каком-то клубе. Вернулись домой. Помню, когда я уже ложился спать, явился откуда-то спавший рядом со мной Расул Гамзатов, сильно подшофе, и завалился спать. Я тоже заснул. И очень скоро, как мне показалось, был разбужен. Надо мной стоял «лазоревый» (выражение А. К. Толстого) подполковник и требовал документы. После того как я предъявил паспорт, он сунул мне в глаза какую-то бумагу: «ОРДЕР» запрыгали у меня перед глазами буквы. Я вгляделся внимательней, несмотря ни на что не в силах поверить в реальность происходящего. Но это действительно был ордер на мой арест, подписанный каким-то замминистра ГБ и, кажется, заместителем генпрокурора СССР. А, может, и самим генеральным — мне было не до подробностей.
Начиная описывать сцену своего ареста, я не собираюсь вступать в какое бы то ни было соревнование с другими, часто очень талантливыми писателями, в том числе с Тендряковым, описавшими это событие задолго до меня. И описавшими его в общем верно. Некоторые из них увидели эту сцену раньше, чем я — я был не первый, кого разбудил лазоревый подполковник. Как мне потом рассказали, для того, чтоб найти меня, будили всех подряд и спрашивали документы, даже другое, недавно заселенное помещение разбудили. Но я буду строго придерживаться мемуарного жанра — буду говорить лишь о том, что видел, слышал, чувствовал и запомнил лично. Как всегда, не отказываясь и от сегодняшнего осмысления, но отделяя его от тогдашнего.
Могу обрадовать современных умников. Я и тут, особенно спросонок, не сразу до конца мог понять, что происходит — уж слишком невероятно это было. Но мне предложили одеться, и тут же прозвучал идиотский вопрос:
— Оружие есть?
И спросонок, реагируя не столько на ситуацию, которую все еще только осознавал, сколько на буквальный идиотизм вопроса, я буркнул:
— Пулемет под кроватью.
И тут же услышал в ответ резкое:
— Не острите. Отвечайте на вопрос.
Лазоревый как будто даже несколько обиделся. Ведь он и сам понимал, что вопрос этот нелеп: какое оружие может быть в общежитии, где рядом, друг у друга на глазах, живут десять человек, в основном фронтовиков, знающих в этом толк. Да и вообще зачем задавать его человеку, привлекаемому по делу, весьма далекому от всякого оружия. Но по инструкции он обязан был его задать и требовал уважения к своей роли.
Моя реплика не была ни сознательной дерзостью, ни потугой на героизм. Мне было не до героизма. Не потому, что я был трусом, и даже не из-за состояния потрясенности, в котором находился, а потому, что какой же героизм против своих? А «свои» демонстрировали высокий класс отчужденности. И этот идиотский вопрос воочию был первым наглядным ее проявлением — со мной разговаривали так, словно я уже был не я, а некто абстрактный, изначально находящийся по ту сторону баррикады, тогда для меня — добра и зла. Чьим-то решением я становился чужим. В том числе и самому себе. Я не рисуюсь — тяжесть реальных перспектив меня угнетала страшно, я был убежден, что лагеря мне не пережить. Но эта навалившаяся на меня в тот момент и давившая меня тяжесть отчуждения — превосходила тяжесть реальных обстоятельств и перспектив.
Именно поэтому поведение мое (как и внутреннее состояние) было глупым и жалким. Я все пытался объяснить арестовывавшим, кто я такой и как это несправедливо. А они ведь вообще не знали и не обязаны были знать (скорее обязаны были не знать), в чем дело и зачем они меня арестовывают. Только однажды (и, по-моему, когда мы уже были на улице, лазоревый в ответ на мои сетования «резонно» (и интеллектуально) заметил:
— Может, вы и не виноваты, но ведь есть еще и репрессии.
Он не был злодеем, он был франтом (насколько позволяла униформа) и бонвиваном, этот подполковник, обязанность которого состояла в том, чтобы рыскать по ночам по городу и вносить в дома несчастье. И очень его успокаивало это иностранное слово.
Кроме него, орудовало в комнате еще два его товарища. Один, в офицерской форме, был такого же типа, как его начальник, только менее вальяжным, и один, какой-то весь ночной, бледный, молчаливый, какая-то смесь канцеляриста с бандитом. Это описывая его прообраз в «Тишине», Ю. Бондарев употребил выражение, похожее на «закашлялся, совсем как человек» — этот ведал бумагами и книгами. Судя по всему, подполковник его еле терпел — как историческую необходимость.
Конечно, все общежитие проснулось. Впрочем, кроме Расула, по пьяни проспавшего всю «историческую» сцену. Остальные, лежа и полулежа в своих постелях, молча наблюдали за происходящим. У двери стоял понятой — наш дворник Василий Тарасович, многажды описанный многими, не имевшими отношения к делу мемуаристами в качестве Андрея Платонова — худощавый, стройный, с красивой, уже седоватой бородой. Андреем Платоновым он не был, но был хорошим, добрым, порядочным, православным человеком. Могу поручиться, что в этот момент в его душе никакой сумятицы, подобно моей, не было — он просто и недвусмысленно сочувствовал мне, ставшему жертвой душегубства. Я разговаривал с ним и после возвращения из ссылки. Теперь его уже наверняка нет в живых. На таких людях, Царствие ему Небесное, и держалась Россия…
Кроме того, понятой была еще комендантша нашего общежития, имя-отчество которой я забыл, тоже простая добрая женщина. В отношениях с ней у меня были некоторые мелкие сложности. Дело в том, что Мишка Ларин, покидая институт навсегда, пропил мое (казенное) одеяло. В бытовом смысле это обошлось — у меня было еще ватное одеяло из дому, которым я и укрывался. Но комендантша считала пропитое Мишкой одеяло числящимся на мне. Это было не совсем справедливо, ведь не я его пропил, но если бы одеяло это числилось на ней, это не было бы справедливей. Впрочем, ни меня, ни ее эта проблема особенно не тревожила. Я полагал, что в крайнем случае потом вычтут из стипендии — как-нибудь перебьюсь. Наверное, нечто подобное думала и она. Но тут случился мой неожиданный отъезд.
Судя по тому, как она выглядела, ей тоже меня было жалко, но при этом она, видимо, запрограммировала себя на то, чтоб не забыть про одеяло. И когда я стал собирать свои вещи, запрограммированность сработала — она стала поспешно заявлять свои права на мое ватное. С нами, с людьми, такое бывает.
И тут я на минуту вышел из оцепенения. Может быть, потому, что одеяло было ватное и напомнило мне о том, что я скоро окажусь там, где холодно, а теплых вещей у меня почти нет. Не знаю. Но не вступая в спор об ответственности за Мишкин пропой, я просто напомнил ей о том, о чем сам только что вспомнил — что там, где я могу оказаться, мне без этого одеяла может быть очень плохо. И всю ее запрограммированность как рукой сняло.
— Да-да, конечно, — смущенно запричитала она, махнув рукой на материальную ценность. — Конечно, — и сама стала запихивать это одеяло в плетеную корзину, служившую мне чемоданом. Для нее, как и для меня, вдруг абсолютная ценность теплого одеяла затмила все остальное — в данном случае меновую.
Когда ночные визитеры решили, что они свое дело здесь уже сделали и можно дальше не мешать ребятам спать, они вызвали машину. Разрешили проститься. И я стал обходить кровати своих товарищей, со всеми обнимаясь. Из ряда вон были три прощания. С Володей Солоухиным (Господи, теперь уже и он покойный), который обнял меня как-то очень независимо и сказал:
— Эмка, возвращайся скорее.
С Расулом Гамзатовым, которого я с трудом разбудил, обнял и который, осоловевшими и заспанными глазами увидев меня среди ночи одетого и в пальто, задал свой вошедший в анналы тогдашнего Литинститута вопрос с ясно оттененным гортанным «к»:
— Эмка, ты куда?
Наиболее проницательные умы в годы перестройки «просекали», что он только притворился пьяным, ибо все знал наперед. Но помимо того, что это вообще чушь и никак не вяжется с его обликом (он потом всегда справлялся обо мне у моего киевского друга Ритика Заславского, когда тот приезжал сдавать экзамены), запах коньяка, выходивший из каждой поры его тела, был вполне непритворен. Пахло отнюдь не слегка.
И третье исключение связано было с Владимиром Тендряковым. Потом, когда я вернулся, мы были друзьями, я всегда его любил и как человека, и как писателя (о чем здесь уже говорилось), но тогда мы были весьма далеки друг от друга, может быть, он был от меня дальше, чем все остальные насельники нашего общежития. Я просто не знал, что он пишет и думает. Но, прощаясь со всеми, я попытался обнять и его. Однако он, в отличие от всех остальных, стал меня от себя отталкивать.
Тогда мне вообще было не до обид. Но у меня не было по отношению к нему никаких дурных чувств ни в тюрьме, ни в ссылке, когда вспоминал Литинститут. Подсознательно я не видел в этом никакой подлости. Кажется, он написал где-то, что он так поступил от страха. Но это был тот же знакомый мне особый страх — страх потери идеологической причастности и цельности. Его кержацкая одержимость (тогда) не терпела противоречий и была мне в чем-то сродни. Оба мы с ним заблуждались, когда поддавались общей патологии, и оба мы с ним, перестав ей поддаваться, постепенно (это ведь никогда и никому легко не дается) стали свободными ответственными людьми.
Кстати, из-за этой боязни отпасть мое поведение в ту страшную ночь для нескольких человек могло обернуться бедой много более страшной, чем для меня отказ Тендрякова проститься.
Дело в том, что свои стихи я в основном хранил у знакомых. Отнюдь не из соображений конспирации, а ввиду того, что мне негде было их держать. Более упорядоченные товарищи с этим как-то справлялись, а у меня бумаги и тетради валялись по всему общежитию, мялись на кровати, терялись, приходили в негодность. Из этих соображений я и разнес их по друзьям и знакомым. Об этом все знали, все, кто со мной жил и кто меня знал. Я их не прятал — зачем было что-то прятать «своему в доску»? — а только хранил.
И вот представьте мое положение — приходят меня арестовывать за стихи, а стихов нет. Возникает естественное предположение, что я их прячу. Я и сказал, что не прячу, просто храню у знакомых. Вот меня и стали возить по этим знакомым — собирать мои сочинения. А «ночной книголюб» уже при этом рыскал и по их библиотекам, хотя никаких ордеров на обыск не имел. Права у него не было, но кто тогда думал о праве. Однако речь не о нем, а обо мне. Для меня это была возможность избежать путаницы, доказать, что я ничего не скрываю (а то получалось, что я лгун), что действительно после ранее описанных встреч у меня крамольных стихов не было. Старые мне хранить разрешалось, но чтоб больше не читал их публично.
Я не считал, что подвожу людей. И, действительно, не подвел. Но сегодня меня оторопь берет, когда думаю об этом — ибо, как я скоро понял, подвести их или не подвести уже от меня не зависело. Моя открытость в данном случае почему-то сработала, но могла и не сработать. Ведь служба в МГБ располагала сотрудников интересоваться не существом дела, а возможностью его оформления. И многие из них не преминули бы возможностью это сделать, если бы набрели на это.
Вывод отсюда один — не надо входить в психологические коллизии с тираниями. Если бы я относился к этой сумасшедшей организации как к враждебному или просто неприятному, но внешнему для меня обстоятельству, я бы никогда этого не сделал. Впрочем, я тогда бы иначе думал и иначе жил. Но я жил там, где я жил, и думал то, что тогда думал, пытался связать концы с концами и чуть не связал их в удавку. Никогда не устану благодарить Господа за то, что из-за моей дурости не произошло душегубства. Как и вообще за арест, приведший меня к свободе.
К Лубянке мы подъехали только утром, часов примерно в восемь, когда люди шли уже на работу. Остановились мы в устье улицы Дзержинского (Лубянки), напротив главного входа в здание, бывшее «целью нашего путешествия». Помню, когда меня с корзиной выводили из машины, случайно проходили рядом по тротуару двое мужчин интеллигентного вида — глаза их и головы устремились прямо вперед, чтобы не выказать интереса или даже любопытства, чтобы не видеть того, что они уже увидели. Я их отнюдь не осуждаю, но как мы привыкли к тому, что нас кушали — сами обставляли сервировку согласно усвоенному, хоть и неписаному этикету.
Но граждан мной смущали недолго, перевели через улицу и ввели в здание, где я уже несколько раз бывал. Дежурный тут же преградил мне дорогу и повернул куда-то влево — «Сюда, сюда!». Лазоревый с компанией постепенно, но довольно быстро исчезли, и я оказался в другом мире. Меня принялись обрабатывать приемные механизмы Лубянки.
Как они действуют и как воздействуют, во всех подробностях, со скрупулезной точностью рассказал Солженицын в «Круге первом». Конкурировать с ним в памяти на детали и в мастерстве изложения я не в состоянии, да и нет нужды. Вся эта обработка рассчитана на то, чтоб ошарашить человека, и в основном человека ни в чем неповинного, горящего жаждой поскорее все выяснить и объясниться. Ему ничего не объясняют, он вообще плохо понимает, на каком этапе что происходит. Первого же офицера, заполняющего какие-то карточки, он принимает за искомый объект и пытается что-то объяснить, а тот вообще ни при чем. Кончает выяснять что ему нужно и, опять-таки ничего не объясняя, передает следующему, к которому тебя уводят, а ты опять не знаешь, куда и зачем.
В промежутках тебя помещают в «боксы» — небольшие безоконные камеры разной величины — и без всяких причин перемещают из одного в другой. В одних есть то ли скамейка, то ли лежанка в виде приступочки у стены, в других — ничего, напоминающего лежанку. В одних есть подобие стола или столика, в других — ничего, кроме табуретки на крашеном полу. Но делать нечего — в каждом ты начинаешь мысленно обживаться, привыкать к мысли, что здесь ты останешься на некий продолжительный срок. И тут тебя опять переводят. В промежутках водили фотографироваться, а также в парикмахерскую и в баню. В бане излил переполнявшую меня боль двум служившим при ней надзирателям. Слушали молча, но сочувственно. Ведь они и впрямь были ни при чем. Живые души на Руси можно было и тогда встретить и в самом неожиданном месте.
Были и другие осмотры — на предмет обнаружения конспирации — с заглядыванием в рот и в задницу — при команде: «Раздвиньте ягодицы!» У моего друга Люсика Шерешевского во время этого последнего заглядывания непроизвольно вырвался вопрос: «Сколько вам за это платят?», за что он получил хорошего тумака. У меня никакие вопросы не возникали, ибо фантасмагорией было не только это, а все, что происходило, — реакции были притуплены.
А в это время за стенами Лубянки проходили очередные самые демократические на свете выборы, от активного участия в которых меня насильно оторвали. Впрочем, я смутно представлял, сколько сейчас времени. Но думаю, что часа в два пополудни меня из бокса взяли на первый допрос.
Но «взяли на допрос» — для Лубянки это слишком просто сказано. Получается, что вас просто взяли из бокса, повели и привели. Не тут-то было! Лубянка не терпела примитива. Дорога на допрос и вообще передвижение арестантов в ее пределах — дело гораздо более усложненное, чтоб не сказать — театральное. По всему пути всех возможных следований понастроены маленькие боксы-закутки, куда препровождаемого запихивают, чтобы он ненароком не увидел арестанта, препровождаемого навстречу. В случае отсутствия бокса одного из арестантов ставят лицом к стенке, а встречного проводят за его спиной. Но поскольку, чтобы принять такие меры, о ведомом надо знать заранее, налажена особая сигнализация. Каждый надзиратель (слова «вертухай» я употреблять почему-то не хочу) при приближении к любому повороту или «колену» коридора (а их там почему-то было много) сигнализирует о себе постукиванием ключа о пряжку (что еще куда ни шло) или цоканьем, при помощи языка, неба и зубов. Так и договариваются, кому своего вести, а кому в бокс заталкивать.
Вот и получается — идет здоровый мужик, ведет тебя за локоть, чтоб ты не вырвался и не убежал (куда?), и цокает, как дите или с дитем. А что бы ему по-человечески не сказать: «веду» и не договориться со встречным надзирателем по-человечески — ни они, ни их голоса от арестантов ведь не засекречены. Но так таинственней. Любил баловаться товарищ Сталин!
Так это выглядит, если принимать смысл этой игры всерьез — допускать, что сидящие в камерах организованные, связанные между собой опасные враги, которые, случайно встретившись, могут передать друг другу важнейшую информацию. Но ведь этого не было. Ведь и это игрушки. Ведь реальных групповых дел (кроме компаний, где трепались, или романтических юношеских «заговоров») не существовало. Только липовые — кто бы кому что мог передать? Разве что отматерить невыдержавшего и «заложившего».
Против кого же были разработаны столь хитроумные мероприятия? Считалось, что против врагов. Но ведь против врагов сталинская мышеловка была вообще бессильна. Вспомним хотя бы случай с Г. С. Околовичем. В наиболее «бдительном» 1938 году он вместе с товарищем перешел границу под Негорелым, бывшим символом «нерушимости наших границ». И потом, хотя славные органы знали, что он в стране (он допустил оплошность — в Ленинграде позвонил по автомату сестре, а та в ужасе донесла), пересек с тем же товарищем всю страну с севера на юг, после чего они прожили в ней сколько сочли нужным и свободно ушли обратно тем же путем. И представить, чтоб такого человека можно было каким-то цоканьем-чоканьем деморализовать — невозможно. Он ведь знал, на что шел.
А мы ни на что вообще не шли и идти не собирались, и скрывать нам было нечего, и именно поэтому бывали деморализованы. Но не цоканьем, а самим фактом ареста. Конечно, излишества вносили свою лепту, помогали подавлять, но и без их помощи вполне бы обошлось. Просто товарищ Сталин вел борьбу, а борьба требовала аксессуаров. Лубянка, как я потом понял, была довольно слаженной и четкой системой, но меньше всего она была приспособлена для борьбы с теми, кто ей противостоит. Короче — вся лубянская система была рассчитана не на раскрытие чьих-то козней, а на добывание ложных показаний, оговоров и самооговоров.
И я сейчас с этим столкнусь прямо. Ибо меня уже под щелк и свист — отнюдь не соловьиные — ведут на первый допрос. Правда, по пути вдобавок ко всему меня еще старательно запутывают — поднимают на лифте вверх, опускают вниз, ведут вперед, ведут назад. Видимо, действуют по специально разработанной каким-то дармоедом методе. Но в конце концов надзиратель стучится в одну из многочисленных дверей на одном из этажей и, получив разрешение, вводит меня в просторное помещение с большими окнами — кабинет следователя.
В нем перпендикулярно друг к другу два стола. Один против входа перед окнами, другой у стены по диагонали от входа. За этим столом сидит офицер, это, как почти сразу выясняется, мой следователь капитан Николай Бритцов. Стул за вторым столом пока пуст. Но вскоре появится и его хозяин, начальник одной из следственных групп подполковник Братьяков.
Все это в моем изложении выглядит как диспозиция перед схваткой, описание позиции противников. Но противников не будет и схватки тоже. Даже драма не начнется. Будет продолжаться фарс.
Итак, участники этого фарса эти два офицера — Братьяков и Бритцов. Они, безусловно, сталинские гэбисты, оформители фальшивых дел, многим людям они испортили жизнь. Но, забегая вперед, предупреждаю, что, несмотря на это, обоих этих офицеров я вспоминаю без всякой враждебности. И еще — что фарс начинается не с них, а с меня. С того, что я всю дорогу жаждал этого момента, чтобы объясниться.
Надзиратель получил расписку и ушел. Я сделал шаг к столу следователя, у которого с другой, с моей стороны, тоже стояли стулья. Естественно, раз тебя вызвали разговаривать, то ты садишься к столу вызвавшего. Оказалось, что здесь это неестественно. Мне было указано на другой стул, стоящий у противоположной столу стены, неподалеку от входа. Странно, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Потом я узнал, что так учли опыт тех следователей, которые получили от своих подследственных графином по голове — во избежание, значит, подобных инцидентов. Кстати, такой инцидент — результат возмущения. И возможен он только при вымогательстве ложных показаний или при попытке оформить обычное высказывание как целенаправленную политическую деятельность. Околович, если бы даже его, сохрани Господь, поймали и обвинили в антисоветской деятельности, графинами головы бы не разбивал. Сожалел бы, что попался, и винил бы себя. Но не обиделся бы. А вот какой-нибудь красный партизан, которому бы объявили, что он был белым офицером (и такое бывало), — вполне бы мог. Это я опять о том же — о том, от реакции на что защищало своих работников это учреждение и, следовательно, об его подлинном назначении.
Но это мысли более поздние, a тогда мне было не до таких размышлений — я просто сел на указанный мне стул. Допрос начался с фиксации (который раз за этот страшный день!) установочных данных: имени, фамилии, года рождения и т. д. На мое возражение, что на эти вопросы я уже сегодня ответил, мне было сказано, что это не мое дело. И довольно скоро мне без всяких обиняков и подготовки был задан сакраментальный и стандартный для этих стен вопрос, точнее, сделано предложение: «Расскажите о вашей преступной антисоветской деятельности». Вот так, за здорово живешь, как бы между делом — мне! — такое приглашение. Приглашение, конечно, по тем временам суперопасное. Сама эта деятельность выглядит установленным фактом, остается только «честно» о ней рассказать. Кстати, это метод, которым работало не только МГБ, но и вся советская пропаганда. И даже дипломатия — на международных форумах. И даже успешно работала — демонстрировала, что СССР в мире хозяин. Правда, когда пришел Рейган и пару раз рыкнул Хейг, все это рассыпалось, как всякая эфемерность.
Однако вернемся к сделанному стандартному и все же дикому предложению. Прежде всего я ощутил не его опасность, а другую его сторону, которую следователь отнюдь не имел в виду — оскорбление. Он спокойно и официально отторгал меня от всего, чем я жил, от меня самого, и выдавал за кого-то другого. И я взвыл от обиды. И взволнованно стал возражать.
Все это было смешно. Сегодня я бы тоже это отрицал, но совершенно иначе — не как позор, а как незаслуженную честь. Жаль, что я не вел тогда такую — антипреступную — деятельность, но чего не было, того не было — не вел. И мало сказать «не вел», само предположение о подобном меня оскорбляло. И я стал не оправдываться, а что-то очень горячо доказывать следователю, развивать свои мысли, разговаривать с ним как с человеком и товарищем. Он несколько ошалел от неожиданности.
К этому времени в комнате появился подполковник Братьяков и стал прислушиваться к разговору. И вдруг в ответ на сложные мои сентенции неожиданно изрек:
— У тебя голова полна говна!
Он, как и я, не знал, как он тогда был близок к истине (не меньше, чем ко мне, относившейся и к нему), но отнюдь не истину он имел в виду. Фраза его была чисто профессиональной — она стремилась не определить ценность содержимого моей головы, а подавить меня, сбить с привычного хода мыслей и представления о себе, чтоб сделать податливей для оформления дела. Это был рабочий прием.
Но я этого еще не понимал и отнесся к его словам со всей серьезностью. А поскольку я очень хотел понять, что произошло (вдруг я и впрямь в чем-то ошибся, и этот человек знает, в чем), то я вовсе не смешался, а попытался понять смысл его слов, попытался вступить с ним в беседу на эту тему. Сказал, что, возможно, он и прав, и стал ждать, что он сейчас выложит мне все свои мысли, обоснования и аргументы. Тогда смешался он сам. Так я выиграл это состязание идиотизмов. Выработанный мной искренний идиотизм пересилил идиотизм его профессиональной выучки.
Разумеется, это мое сегодняшнее осмысление — тогда я ничего этого не понимал, только увидел удивление в глазах подполковника, на которое, впрочем, не обратил внимания. Мне хотелось, чтобы он знал, в чем дело, и я действительно ждал ответа — сцена осталась для меня незаконченной.
Конечно, значение этого замешательства не стоит преувеличивать — я просто рассказываю о возникшей психологической коллизии, как я теперь ее вспоминаю. Тогда она зафиксировалась, не будучи осознанной, как часто бывает в юности и детстве, особенно в эпохи принудительной инфантилизации сознания. На течение и исход дела это мгновенное замешательство никак бы не повлияло. Давление на меня не ослабло бы, меня бы все равно запузырили, куда бы велели. Но поражены оба моих следователя были. Кстати, теперь, начав писать об этом, я осознал, что, получив мое дело, следствие не получило достаточной информации обо мне. В частности, о моем «романе с МГБ» мои следователи никакого представления не имели. Эта тема возникла только из-за моего утверждения, что после этих встреч ничего крамольного я не писал. Пришлось им делать вид, что они понимают, о чем речь, и искать выхода из этого, отнюдь не великого для них, затруднения. Встает вопрос: почему их не информировали полностью? Отчасти, наверное, потому, что МГБ тоже было советским учреждением и общее представление о необыкновенной, хотя и зловещей, слаженности его работы несколько преувеличено. А во-вторых, потому, что оформлению ложного дела эти сведения только мешали бы. Ведь стихи были, компромат, значит, какой-никакой был (у большинства его ведь вообще не было, и то ничего), зачем же уменьшать его убойную силу? Я тогда этого не понимал, видимо, и в жизни следователей этот случай был нетривиальным. Нормой для них было иметь возможность обвинять и не давать возможности оправдываться.
Это проявлялось и в том, что собственноручные показания подследственных исключались — записывать все с моих слов должен был следователь. А он любым показаниям придавал форму признания в антисоветской деятельности, что в первый же день вызвало мое возмущение и сопротивление. И почти сразу это превратилось в «мелочную торговлю» по каждому пункту, что очень меня смущало (это ли не доказательство установки МГБ на ложные показания?), эта «торговля» продолжалась до самого конца допроса. И продолжалась еще на нескольких. О первом своем допросе могу сказать одно — что он прошел в обстановке острого взаимонепонимания. В конце концов следователь вызвал конвой, и меня увели.
Опять посадили в какой-то бокс. Не помню, таскали ли меня по другим, но вскоре после допроса за одной из дверей (а там везде запертые двери, открываемые, а потом запираемые надзирателями по мере следования) оказались люди. Люди эти встали при нашем появлении — тюремные правила требовали, чтоб арестованные вставали при появлении надзорсостава.
Началась моя тюремная жизнь.
В таких случаях пишут: «Я огляделся, и…» Но тут оглядываться не надо было. Камера была похожа на гостиничный номер, только окно было зарешечено и с «намордником» да в углу при входе стоял бак с крышкой — знаменитая «параша». Стены были покрашены масляной краской — голубой снизу и белой сверху. У стен стояли кровати — у каждой по три, в середине — стол со стульями. Впрочем, как мне скоро объяснили сокамерники, это и был в прошлом номер гостиницы. Гостиница эта принадлежала тому же страховому обществу «Россия», что и само здание, облюбованное ЧК для своего функционирования (и переходившее по наследству к ГПУ, НКВД, МГБ и т. д.). В самом здании разместились его официальные службы, а в гостинице — внутренняя тюрьма. Потом здание тюрьмы надстроили, добавили два или три этажа, но чертеж остался прежним.
Мне пришлось сидеть в камерах, расположенных на разных — как первоначальных, так и надстроенных этажах этого здания, различия я не заметил. Еще одна деталь — тюрьма эта в мое время была внутренней во всех смыслах. Она была со всех сторон окружена разросшимся главным зданием. Так что «намордники» на окна были надвинуты не для того, чтоб скрыть нас или что-то от нас, а также не для предупреждения тайной переписки или сигнализации (при отсутствии организаций, кому и о чем было сигнализировать?), а чтоб изолировать нас от неба. То есть опять-таки для пущего угнетения и подавления духа с целью более легкого получения показаний, в основном таких, которые выжимают — ложных. Понятно, что и это не тогдашние мои мысли.
А тогда, уже привыкнув к мысли, что буду сидеть только в одиночках (боксах), и неожиданно для себя оказавшись опять среди людей, я во все глаза, хоть и не без некоторого отчуждения, смотрел на своих новых товарищей. Мне очень не хотелось переводить себя в их категорию, становиться «таким, как они» — пусть не врагом, а просто неизбежной издержкой прогресса. Я фиксирую только некое мимолетное психологическое движение, практически оно ни в чем не проявилось — не в чем было, да и на отчуждение от реальных людей я никогда не был способен. Но задним числом должен сказать, что именно по отношению к этой камере некоторое отчуждение мне бы вовсе не помешало. Ибо камера эта (единственная из трех, в которых я сидел) была инспирированным сумасшедшим домом.
Клинических сумасшедших в ней не было ни одного, но всем (или почти всем — допускаю, что некоторые притворялись) находившимся в ней здоровым людям был привит микроб или вирус настоящего безумия, превосходящего мое. Выслушав, в чем меня обвиняют и как я к этому отношусь, один из них (кажется, математик из МАИ Минухин) вдруг трагическим голосом обратился к сокамерникам:
— Вот увидите, он сильно затруднит работу следователю.
Я не уверен, что фраза эта принадлежала именно Минухину, но отражала она настроение всей камеры. Я опешил. «Издержки истории» оказывались, говоря сегодняшним моим языком, еще более самоотверженными мазохистами, чем я.
Заботиться о том, чтобы облегчать работу следователю и тем самым повышать производительность его труда, — такое даже и мне в голову не приходило! Сокамерники поддержали высказавшего это опасение. Помощь следователю в его трудной работе выглядела в их устах высшей гражданской и человеческой добродетелью. Сознаваться надо было не только в том, что было (допустим, в реальном разговоре с приятелем), но и в том, что приписывают. Парадокс заключался еще и в том, что в этой камере, уверяю вас, не было ни одного фанатика, подобного мне. Это болезненное состояние было вызвано чем-то другим.
Кто в ней сидел? Фамилий я почти не запомнил, помню по «делам». Сидел сын какого-то меньшевика (за то и сидел), человек, видимо, не очень интеллигентный. Он очень сердился на меня за непонятливость, (или из-за склонность рассуждать — точно не понял), из-за которой люди страдают. Какой-то бухгалтер из давно обрусевших немцев, человек одновременно и трезво мысливший, и законопослушный. Трезвость своего мышления он выражал в дневнике, который он при всей своей законопослушности вел и куда записывал свои сокровенные трезвые мысли. Много лет он этот дневник никому не показывал, но вечно жить в скорлупе тошно. Сокровенным хочется поделиться. Недавно он прочел выдержки из него своему лучшему приятелю. И… оказался здесь. Ненавидел он сейчас не приятеля, а свой дневник и себя — за такое несоответствие порядку. На все попытки успокоить его, что, мол, дневник есть дневник, что в нем может быть страшного, отвечал:
— Не говорите… Там ужасные вещи…
Потом вспоминал какое-нибудь особо страшное место, хватался за голову и вскрикивал:
— Ой!
Ему, конечно, сочувствовали (я тоже, хоть считал его мещанином), но все происшедшее после доноса считали естественным. А ведь речь шла не о прокламации, не о публичном выступлении даже, а о личном дневнике. У меня тогда никакого понятия о святости частной жизни не было, но все же я понимал, что мучить такого человека не было необходимости. Но у меня создалось впечатление, что этого человека грызло нечто вроде раскаяния. В чем? И он искренне осуждал меня за непонимание мной моей вины (какой? что он обо мне знал?).
Сидел еще крупный инженер-путеец, видимо, большой начальник, очень обрусевший армянин. Он тоже придерживался общей линии в камере, но о своем деле рассказывал так.
— Я уволил двух жуликов, а они оказались коммунистами, и партком их восстановил. Тогда я сказал: «Что ж это получается? — я жуликов увольняю, а партия их восстанавливает!» Вот и посадили. — Покаяния в этой фразе не чувствуется, но и он подался общей волне.
Трудно такое высказывание, выдать за антисоветское, но партком, защищая себя, все мог. Он обратился куда надо, и там защитили «авторитет партии». Тогда ведь и служебные интриги могли кончаться усекновением головы.
Но причин эти пожилые люди не доискивались, правды не искали, им примитивно и естественно хотелось домой.
— Я бы предложил такое, — сказал этот инженер-путеец, — чтобы нас всех выпороли на Красной площади за сказанные глупости и отпустили по домам.
Чувствовалось, что слова его пришлись по вкусу всем, но в целом в камере при разговорах о «делах» господствовал высокий штиль. И люди проникались этим чуждым для них штилем. Минухин (теперь уже наверняка Минухин) клюнул на эту удочку больше всех.
Что это была за «удочка»? В сущности она была очень незамысловата, не уходила даже под воду и вообще имела имя, отчество и фамилию (или кличку), часто уважительно поминавшиеся в этой камере. Но из моей памяти они начисто стерлись — я ведь никогда не видел этого человека (незадолго перед моим появлением в камере его куда-то перевели), да и пробыл я в этой камере сравнительно недолго, дней десять. Скорее всего, он был тем, что называется «наседкой», подсаженным в камеру агентом, обычно, стукачом. Но в данном случае это была наседка особого рода — так сказать, агент влияния. Обычно эти функции совмещались, но здесь вторая явно затмевала первую. И вообще случай был из ряда вон выходящий, хотя в принципе Лубянка создавала благоприятную почву для такой деятельности.
Ведь лубянская камера — не только замкнутое, как во всякой тюрьме, но и герметически изолированное от всего мира пространство: ни газет, ни радио, ни свиданий с родными и близкими, ни, пардон, телефонов не полагалось — никакой информации о внешнем мире, никакой связи с ним. В это пространство затолканы совершенно разные, совершенно непричастные ни к чему, что могло их сюда привести, люди. Факты, которые им инкриминируют, если даже имели место, никогда не воспринимались ими как деятельность, чреватая тюрьмой и такими страшными обвинениями. Попав ни с того ни с сего в тюрьму и услышав такие (фантастические) обвинения, они теряются и становятся легкой добычей внушения. Они с готовностью верят во все, что хотя бы внешне кажется осмысленным порядком. Если есть порядок, все не так страшно.
Им можно легко внушить, что их политическая индифферентность была вредна обществу и что их теперешняя растерянность есть просветление, превратившееся в горячую преданность «партии, правительству и лично товарищу Сталину». Это не имеет никакого значения при решении участи этих людей, но психологически как бы облегчает им защиту и вселяет надежду — надо только поверить, что смысл тут есть. А раз он есть, надо к нему приспособиться, начать — лучше поздно, чем никогда — как все «пребывать в рядах» и даже «понимать» заботы и треволнения начальства и — будучи отверженными и отторгнутыми — жить. Их искуситель талантливо использовал их иррациональное положение и парализовал всякое сопротивление. Внешне это похоже на то, что переживал я, но я это умонастроение приобрел не в тюрьме, а с ним, как знает читатель, туда пришел, оно определялось общим пониманием жизни, а не внушением или истерикой.
Впрочем, не следует думать, что такая атмосфера была всеобщей. Больше я нигде — ни в других камерах, ни на пересылках, ни в ссылке — с ней не встречался, о ней не слышал. Это ведь только одна из нот в гамме переживаний насельника внутренней тюрьмы, и до такого абсурда она доводится редко. Если громадной стране, отделив ее от мира и информации, можно было внушить перевернутое сознание, то что говорить о маленькой камере, населенной людьми, потерявшими голову? В ней такая «наседка», единственно знающая, чего ей надо, вполне способна стать очагом кристаллизации этой растерянности, даже эйфории растерянности. И стала. Ведь она одна говорит уверенно. Она действует не на всех, в этой камере тоже (о чем чуть ниже), но в такой атмосфере те, на кого она не действует, обычно помалкивают.
Кем был этот страшный человек? Я сказал уже, что, скорее всего, подсаженным агентом, «наседкой». Конечно, не исключено, что эту эйфорию самопредательства он изобрел самостоятельно и добровольно, то есть честно сошел с ума. Но вряд ли. Уж больно она прагматически нужна была «следствию» (то есть оформителям дел). И уж больно целеустремленно он действовал. И, главное, действовал на других, занимался другими. Обычно в случаях такой «чистоты» спасают только свою душу, от других в таких случаях хоть и неявно, но внутренне отчуждаются — как от «нечистых», а не работают над ними.
Конечно, он не был кадровым работником МГБ, не такие птицы здесь сидели (да и не годились его ловушки для «птиц», только для кроликов). Скорее всего он был арестантом, которому обещали спасение, может быть, бывший партработник, нагрешивший в плену и теперь таким образом отодвигавший «вышку». Что с ним стало потом, не знаю. Может быть, его «бросили» на обработку другой камеры. Может, выполнили обещание и совсем отпустили за заслуги или заменили «вышку» лагерем — с тем, чтоб он и дальше губил людей на воле или в лагере. А может, обещания не выполнили и обманули — отправили в лагерь или расстреляли — они могли сделать все, а уж нарушить обещание тем более. Но я сейчас говорю не о нем, которого не знал и не видел, а об атмосфере этой гибельной эйфории, которую он создал и в которую я попал. Кем бы ни был этот «наседка», был он человеком явно умным и знавшим свою перепуганную паству.
Должен сказать, что я лично этой эйфории поддавался туго. Прежде всего из-за слишком серьезного отношения к этим материям и к сталинщине. Кроме того, я человек словесный, и добровольно говорить о себе неправду было против моего существа, выше моих сил. Для этого надо было, чтоб разорвалась та мнимая внутренняя связь, которая в моем воображении существовала между мной и следствием. А когда она развалилась (о чем чуть ниже), основания для суперправдивости вообще отпали. Хотя это не значит, что я стал врать. Совсем нет, да и причин у меня не было. Я просто больше не видел причин терзаться тем, что не хочу участвовать в их кознях против меня же.
Но речь пока не обо мне, а о камере. Конечно, я не знаю, как все эти люди вели себя в кабинете следователя. При мне впечатлениями делился только математик Минухин, тот, кто, как мне кажется, ужаснулся по поводу трудностей, которые я могу доставить следователю. Судя по всему, программу помощи следователю он выполнил и перевыполнил. Кстати, следователь у нас с ним был общий — капитан Бритцов.
Какое именно некондиционное высказывание Минухина в частном разговоре (больше он ничем не занимался) послужило причиной его ареста, я не знаю. И судя по всему, он тоже не знал. Но следователь стал прохаживаться по его биографии — естественно, с целью выудить из нее что-нибудь «ценное». Советской власти было всего тридцать лет, с окончания Гражданской войны прошло еще меньше, а со времени разгрома оппозиций — всего ничего (хотя мне казалось, что все это «дела давно минувших дней»). Так что биография почти каждого сорокапяти — пятидесятилетнего советского человека представляла большие возможности для оформления дела. Набрели на период от Февраля до Октября 1917-го. В этот период подследственный кончил гимназию и готовился в университет. Поживы вроде для «следствия» никакой. Но это если смотреть на вещи обывательски. А если твоя профессия состоит в том, что ты обязан состряпать из чего угодно обвинение, все-таки, хотя бы на первый взгляд, не лишенное правдоподобия, то эта простая картина становится не столь простой, и у тебя «возникает» догадливый вопрос:
— На каких позициях вы стояли в период между Февралем и Октябрем?
Вопрос почти беспроигрышный. Если кролик тогда склонялся к большевикам, то наверняка завел связи с ныне разоблаченными «врагами народа», и тут уж «есть разгуляться где на воле». Если же нет — следователь из «Краткого курса» знает, что во время Февральской революции в России было всего двадцать тысяч большевиков (на самом деле всего несколько сот, а в Петрограде всего человек сто пятьдесят), так что у большей части интеллигенции и даже всего населения рыльце в пушку — про любого можно написать, что «стоял на небольшевистских позициях». Большевики 17-го «оказались» к тому времени почти поголовно «врагами народа», но по законам господствующей шизофрении это обвинение все равно звучало грозно.
Минухин ответил, что ни на каких позициях не стоял, ибо политикой не занимался, а готовился к университету.
— Но неужели вы ни с кем не встречались, не бывали в молодежных компаниях, — тянет свое, задает невинный вопрос Бритцов.
— Как же, бывал… Но мы там танцевали, ухаживали за девушками.
— Но неужели совсем, да еще в такое время, не разговаривали о политике? — гнет свое следователь, пардон, оформитель дела. И Минухин теряется. «Совсем» — это выглядит неправдоподобно.
— Почему совсем… иногда разговаривали… Но редко… Мы не этим интересовались, — правдиво исповедуется неизвестно в чем Минухин.
— А к какой партии вы в этих разговорах склонялись? — дожимает Бритцов.
— Да ни к какой…
— Ну а все-таки — чаще все-таки к какой? — не удовлетворяется Бритцов. И верный заветам «наседки», Минухин предается излишним уточнениям.
— Чаще, как мне теперь помнится, к меньшевикам… Но мы вообще редко говорили об этом… Я хотел быть математиком.
Но все это уже неважно. Ответ Минухина записан Бритцовым четко и ясно: «В период между Февралем и Октябрем я стоял на меньшевистских позициях и посещал молодежные меньшевистские собрания». Это соответствует советскому мифу. Сам Бритцов и все, кого он встречал и встречает, ни на каких «позициях» сроду не стояли. Стандартная фраза из характеристики «Делу партии Ленина — Сталина предан» определяет все их мировоззрение и представление о том, что это такое. Но согласно мифу раньше какую-либо «позицию» занимал каждый, а Бритцов был поставлен охранять этот миф. И, конечно, работать на него. И — негласно, но явно — подгонять под него. Думаю, он мог не понимать, что смешно и патологично привлекать человека к ответственности за то, что он думал тридцать лет назад (понимания того, что человека вообще нельзя привлекать за мысли, я у него, тогдашнего, не требую), но что Минухин действительно в 1917-м не стоял ни на каких позициях, он наверное, понимал. Но понимал он и то, что ему необходимо закончить дело, поместить Минухина в миф на надлежащее место. И соответственно действовал. А верный духу своей камеры, Минухин подписал и этот вариант своих воспоминаний. И уж конечно, признался во всех реальных и приписанных высказываниях, а также согласился с их фантастическим истолкованием. Но следователь на этом не останавливается, он развивает успех: «А кроме того, я лелеял террористические замыслы против наших вождей», — вносит он в протокол уж совсем от себя. Тут в оглушенном сознании подследственного просыпается слабое ощущение реальности, и он начинает протестовать:
— Но я ведь я этого не говорил…
— Да это чепуха… Для проформы…
И Минухин, чтоб не доставлять затруднений следствию, подписывает и эту глупую и опасную клевету на себя.
На следующем допросе Бритцов как бы между делом роняет:
— Да ты ведь, гад, еще и террорист!
— Как террорист?
— Ты ведь сам подписал.
— Вы ведь говорили, что неважно.
— Я тебе покажу «неважно», вражина! Террорист! — и «неважно».
Вот так и получился у Бритцова «трудовой успех» — обезвредил меньшевика и террориста. Правда, это несовместимо — меньшевики никогда не были террористами, но кого это интересовало? По советской мифологии оба эти слова — знаки дьявола, доказательство преступности индивидуума. Да и мелочь это по сравнению с тем, что Минухин вообще не имел отношения ни к тем, ни к другим, но сознался. Как он грустно и все же не без некоторой гордости говорил в камере: «Я сознался на 180 процентов».
Капитан Бритцов не производил впечатление ни подлеца, ни злодея, но ведь совершал преступление — намеренно и обдуманно совершил подлог, заставил себя оболгать ни в чем не повинного человека. Я уже говорил, что вспоминаю обоих следователей без всякой антипатии, хотя деятельность их была преступной и страшной. Многим людям, путем угроз и обманов выжав из них показания, они — в том и состояла их профессия — «оформили», как Минухину и как собирались мне, внушительные сроки. А ведь оба эти офицера были людьми неглупыми, с высшим образованием (Братьяков — с педагогическим, Бритцов — с юридическим) и должны были понимать, что делали. Но я думаю, что не понимали. Им поручались «дела», и они их оформляли. Может, в их кулуарах «по-умному» между собой говорили (как «лазоревый» о репрессиях) о том, что ничего не поделаешь, фиктивные дела необходимы.
Я помню происшедший при мне разговор Братьякова с приятелями о возможном перемещении Братьякова в Свердловск на должность начальника облуправления (или только следственного отдела — не помню).
— Это интересный город, — творчески произнес Братьяков.
Что могло в любом городе быть «интересного» или творческого — в плане их фиктивной и вредной деятельности? Однако находили, различали, воображали. Возможно, как интересно будет вылавливать настоящих шпионов, которых должно быть навалом в этом промышленном центре. Не то, что здесь «репрессиями» заниматься. Советский человек всегда мечтал дорасти бюрократическим путем до творческого уровня. А они и были обычными советскими людьми. Конечно, не каждый выдержал бы их работу, но многим просто повезло на нее не попасть. Все мы ухитрялись мириться с созданной при участии МГБ обстановкой и даже успешно в ней работать, в том числе и на секретных работах. Им просто не повезло.
Они, конечно, не были нравственными гигантами и не были подготовлены к духовной самостоятельности и ответственности, достаточной, чтобы самостоятельно вырваться из той проруби, куда их затянуло. Может, не могли и осознать, что из нее надо вырываться. Но одни ли они были такие?
Но они не сознавали, что аппарат, особенно аппарат подавления, стал функциональным выразителем сталинской хвори, а они сами — являются кистенем и удавкой в руках преступника.
Но до таких обобщений и мне было еще далеко. Да мне тогда вообще было не до обобщений — прежде всего в камере мне ясно объяснили, что в любом случае сразу объясниться и очиститься мне не удастся — следствие как минимум длится четыре месяца, вызывают, в основном, не так уж часто. Это показалось мне невыносимым и было для меня тогда страшным ударом. Ведь я так хотел объясниться со «своими» — я ведь считал следователей своими. А весь этот обрушившийся на меня кошмар, отчасти уже описанный мной, усиленный патологической эйфорией этой камеры, — я признать ни заслуженным, ни соприродным себе не мог.
Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. Правда, спать можно было только от отбоя до побудки — с десяти вечера до пяти утра. Если кто-то засыпал днем, надзиратели его будили — иногда встряхивая за плечи, чаще щелкая замком, очень там громким. Все это описано многими. Этот режим использовался и как пытка: человека всю ночь держали на допросе, иногда и не допрашивая, просто не давая спать, а утром его возвращали в камеру, где не давали спать на общих основаниях. Ко мне это не применяли. Ночью меня вызвали только один раз, а потом дали отоспаться — это было во власти следователя. Так что в принципе я от недосыпа потом не страдал. Но в первые дни меня все время тянуло в сон, точнее, к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью. Часто сны были многослойными. Из камеры я попадал в общежитие, а оттуда опять в камеру. Но и это оказывалось сном, я вздыхал с облегчением, но в конце концов, естественно, опять просыпался в камере. Иногда меня будил надзиратель — вышеобозначенным способом, но скоро я опять засыпал. Потом прошло. Сны утешали, но не помогали — уводили меня оттуда, откуда увести не могли, манили невозможным.
Иную роль играли книги. Слава Богу, на Лубянке была большая библиотека из конфискованных книг. Библиотеки этой мы никогда в глаза не видели, но оттуда нам приносили книги — иногда хаотично, но часто и по нашим просьбам. Давали нам все, кроме, как ни странно, произведений классиков марксизма-ленинизма, в том числе и самого Сталина — во избежание, как мне объяснил капитан Бритцов, провокационных толкований. Там я прочел много из Достоевского, полностью «Дневник писателя», «Жан Кристофа» и многое другое. Когда я пришел в эту камеру, я застал там тома «Войны и мира». Меня по понятным причинам читать не тянуло. Но однажды я совершенно машинально взял в руки один из томов и открыл его на случайной странице. И тут же полностью погрузился в мир этого романа. И дело даже не в том, что я не мог уже от него оторваться — просто я опять начал жить. Следуя за Львом Толстым и героями романа, понимая их и сочувствуя их переживаниям, я постепенно тоже стал чувствовать себя и — если не мыслительно, то чувственно — осознавать себя таким же человеком, а не бессмысленной щепкой, издержкой истории. Нечто подобное пережила и Ольга Львовна Адамова-Слиозберг, с которой — теперь она уже, к сожалению, умерла — меня связывала многолетняя дружба. Она описала это в одном из своих стихотворений. Слава Богу, что наши мучители не понимали этого исцеляющего воздействия хороших книг.
Но сны были снами, книги книгами, а жизнь текла своим чередом — повторять бессмыслицу, брать на себя несуществующие вины я все равно не хотел и не мог. Тем более что в моем отношении к следствию произошел переворот. Случилось это на одном из ближайших допросов.
Я уже писал, что следователей ставил в тупик мой «роман с МГБ» — ведь я утверждал, что после этого не писал ничего крамольного. Запугивания на меня не действовали. Не потому, что я был храбр, а потому, что глуп. Я всерьез старался выяснить, что произошло, а этого, во-первых, они сами не знали, а во-вторых, это не имело отношения к их задаче. Но все же разговоры со мной о моей антисоветской деятельности не получались, а вести спор по существу им было не по силам и ни к чему. Конечно, иногда они (а может, не они, а только сотрудники отдела по особо важным делам) испрашивали и получали разрешения на применение «специальных мер воздействия» (избиения и пытки). Но ни к какому сенсационному процессу или просто громкому «делу» (вроде дела Еврейского антифашистского комитета) меня не готовили, и мой случай был для этого слишком мелким и маловажным, рутинным. По их иерархии ценностей, которая в этом застенке, как ни странно, соблюдалась, мне вряд ли такое тогда грозило. Мне вообще кажется, что я был арестован до второй волны массовых репрессий, в пору, когда абсолютное беззаконие придерживалось определенных, ничуть его не стеснявших рамок. Короче, «стали люди искать выхода из безвыходной ситуации» (А. Галич). Был собран целый консилиум из следователей группы. Отличался он от врачебного только одним — решали не как лучше спасти «пациента», а как верней его погубить. Но все было зря — убедить меня так истолковывать свою деятельность, как им хотелось, было невозможно. Но и возражая им, я думал, что они в самом деле хотят разобраться. И вдруг один из них, кстати еврей (это я для тех, кто верит в тотальную еврейскую солидарность), спросил меня:
— А старые, неправильные стихи ты после этих встреч когда-нибудь кому-нибудь читал?
Поскольку я иногда их читал (допустим, для демонстрации пройденного пути), я и сказал, что да, иногда кой-кому читал, но с соответствующими объяснениями. И тут этот шибко находчивый живчик как-то особенно самодовольно подмигнул Бритцову: дескать, что же ты смотришь — разрабатывай жилу, и этим открыл гораздо больше мне, чем кому бы то ни было.
После этого нужные им «признания» из меня можно было бы вытащить только пытками. Вопреки всем своим взглядам я ясно увидел, где нахожусь. Увидел, что они хотят не разобраться, а найти зацепку для обвинения, для порученного им «оформления дела». Увидел то, что большинство людей страны при любых взглядах понимало изначально. Я еще не осознал, но почувствовал, что ни я сам, ни мои взгляды, ни польза от меня, ни вред их не интересуют — только возможность оформить дело, дабы не допустить брака в работе. Не эти люди организовали мой арест, но они приняли эстафету и теперь должны были любой ценой запутать меня и довести до кондиции. Так что на этом этапе речь шла не о государстве, коммунизме или даже о товарище Сталине (то, что он запустил всю эту дьявольскую машину — другая тема), а только о них и обо мне. Им надо погубить меня только для себя самих, а меня это никак не устраивало. Я понял, что, сказав им, что иногда читал знакомым и старые стихи, я совершил оплошность, и это был первый шаг к просветлению — я решил себя от них защищать.
Я не хочу поносить сегодня этих людей. Кстати, у некоторых из них я замечал не только интерес ко мне, но даже и симпатию. Как я теперь думаю, объяснялось это еще и тем, что я видел в них людей, собеседников, и так с ними разговаривал — всерьез спорил, доказывал, — а они к этому не привыкли. Конечно, это объяснялось и моим мировоззрением, но и характером тоже. Это, с одной стороны, и создавало для них те затруднения, о которых только что шла речь, но, с другой, располагало их ко мне. Конечно, симпатиями они руководствоваться не могли и делали что положено, но, ничуть их не оправдывая, ненавижу я все-таки не их, а тот ад, в обслугу которого их взяли.
Итак, протокол о том, что иногда читал старые стихи, я по инерции подписал (слово не воробей), о чем тут же пожалел. Но потом я взял это признание назад — дескать, вспомнил, что такого никогда не было. Правда, я вообще заявил, что отказываюсь от показаний. Бритцов сказал, что я собственно ничего и не показал, насчет чтения старых стихов как-то странно добавил, что мне этого никто и не предъявляет. Видимо, он тогда уже знал, что лагеря я избежал.
Но произошло это не благодаря его симпатии ко мне или правильности моего поведения, а пришло сверху, благодаря заступничеству Ф. Е. Медведева, о котором я уже писал и которое удалось только из-за редкого стечения обстоятельств. Поэтому я сейчас рассказываю не о своей героической борьбе со следствием, которой не было, а о своих психологических реакциях на дичайшие обстоятельства.
Я уже говорил, что большинство встреченных мной следователей, творивших подлости по долгу службы, природными подлецами не были. Но однажды я видел и настоящего подлеца. Правда, он не был следователем.
Прежде чем рассказать о нем, я считаю, что надо, наконец, рассказать о спасительном для меня демарше Медведева. Я узнал о нем только в 1989 году, когда впервые приехал из эмиграции в Москву. На одном из своих вечеров я сказал между прочим, что благодарен следователям, которые устроили так, что я попал не в лагерь, а в ссылку. Кому-нибудь это покажется смешной малостью, а мне это спасло жизнь. Эти слова были приведены в репортаже, на следующее утро напечатанном в «Советской России», а днем, прочтя этот репортаж, меня разыскал Федор и по телефону сказал, что я ошибаюсь, что спас меня он и что надо встретиться. Я был рад его звонку, поскольку он за пятнадцать лет моего отсутствия сменил и квартиру, и телефон, и мне теперь никак не удавалось его найти. И, кроме того, я был заинтригован. Вот эта история.
Моя мать приехала в Москву хлопотать обо мне. Кто-то из моих друзей сказал ей, что у меня есть в МК такой влиятельный приятель, и она к нему пошла. У меня с Федором, действительно, были хорошие, дружеские отношения. Он меня выручал из нелепых ситуаций, в которые я часто попадал. Я его любил, но всегда относился как к старшему. Мы любили встречаться на его службе и дома и разговаривать, но это случалось хоть и регулярно, но не слишком часто — ведь он был человек занятой, да и меня многое увлекало. Иногда я ему звонил, но если ничего не случалось, это тоже бывало не каждый день. Так что отсутствие звонков в течение некоторого времени не могло его насторожить — он долго ничего не знал о моем аресте. И когда моя мать позвонила ему снизу, из бюро пропусков, он удивился. Дальше его рассказ:
— Я спустился к ней, поздоровался. Она сказала: «Я мать Наума». Я сразу понял, в чем дело, потому что — зачем бы она ко мне пришла? Но спрашиваю: «Что с ним?» Она говорит: «Плохо». И рассказывает, что случилось. Я ей сказал: «Поймите меня правильно. Я тут ничем, ну совсем ничем не могу помочь. Я его знаю, люблю его, ему верю, но ничего не могу сделать».
От себя добавлю, что он говорил чистую правду. К Сталину вхож он не был, а любой другой тут был бессилен. Но вмешалось Провидение.
— Ты будешь, Наум, смеяться, но я не знал, что за нами (работниками МК КПСС. — Н. К) тоже следят. Однако следили и засекли. На следующий день прихожу я на работу, звонит мне Олимпиада Васильевна Козлова, секретарь МК по пропаганде, у которой я работал помощником. Женщина она была хорошая, образованная и умная, потом она была ректором Инженерно-экономического института им. Орджоникидзе. Так вот звонит она мне и говорит:
— Федор Елисеевич, зайди ко мне, пожалуйста.
Захожу, а она:
— Вот, Федор Елисеевич, товарищ хочет с тобой поговорить.
А товарищ этот — начальник Управления МГБ по Москве и Московской области генерал Горгонов — спрашивает:
— Вы знаете такого — Манделя?
Я отвечаю:
— Да.
— Что вы можете о нем сказать?
— Что он честный, идейный, преданный нашему делу, талантливый человек. В общем, только хорошее.
— Вот как! — говорит Горгонов. — А что вы можете сказать об этом? — и сует мне листок с твоим стихотворением, забыл каким. Я прочел и спрашиваю:
— А конец где?
— Какой конец? — он даже опешил.
— А тут еще конец есть. Не знаете? Сейчас принесу. У меня есть папка с его стихами.
Пошел, принес папку, достаю эти стихи, показываю: «Вот эти стихи полностью, а не урезанные!» Видите! Тот прочел, молчит. Ну, тут я разошелся:
— Что ж это вы делаете! — кричу. — Клеветникам, завистникам всяким, подлецам верите, а талантливого честного человека в тюрьму сажаете. Если так пойдет, кого вы тогда охранять будете? И пошел — возмутило меня это.
— Ну ладно, ладно… Посмотрим… Папочку вашу я заберу с собой…
А я ему:
— Расписку давайте!
— Расписку? Зачем?
— Ну как же. Раз у вас там концы у стихов пропадают.
Тут уж и Козлова вмешалась:
— Ну что ты, Федор Елисеевич, какие расписки.
В общем, расписки он мне, конечно, не дал, а папку унес. Остались мы вдвоем с Олимпиадой Васильевной.
— Никогда не знала, что ты такой, Федор Елисеевич! Здорово ты ему выдал! Но разве можно с ними так разговаривать? Ну, ладно, теперь иди в свой кабинет и самообыщись! Чтоб у тебя ни бумажки сомнительной не осталось.
Дня через два меня встретил в коридоре Горгонов И сказал:
— Ну уж не такой твой Мандель ангел, как ты рисуешь, но в лагерь он не поедет — поедет в ссылку.
Вот и все, что рассказал Ф. Е. Медведев, в прошлом партийный работник и всегда замечательный и достойный человек. Те, кто думает, что в тех условиях они сами легко вели бы себя так же или даже лучше, не понимают, что произошло с нашей страной и, следовательно, в каком мире они живут. А история эта говорит о многом. В частности о том, что все в России, даже исполнявшие роль угнетателей, были угнетенными.
Ведь разговор о необходимости самообыскаться происходил, между прочим, не на диссидентской квартире, а МК КПСС, в идеологическом центре. Между людьми, всецело преданными строю и лично товарищу Сталину. Чего им было бояться? Однако боялись. Ведь и я тогда был таким же или почти таким же.
Этот разговор Федора с Горгоновым имел колоссальное значение для моего дела. Но перед своей встречей с упомянутым выше настоящим подлецом я о нем (о разговоре) ничего не знал. Произошла эта встреча так. Во время одного из допросов открылась дверь, и появился он — ни его имени, ни звания я так и не узнал. Появился он в сопровождении еще одного человека, показавшегося мне знакомым. Тем не менее этот моего внимания к себе не привлек. Оба прошли и уселись с внешней стороны приоконного стола, как раз против входа. Главный был одет с иголочки: дорогой черный костюм, белая рубашка с расстегнутым воротом, был он широкоплечим, крепким. Лицо его тоже было красивым, портило его только какое-то порочно-жестокое выражение наглости. Он с ходу и сразу напористо потребовал, чтобы я ему назвал всех своих друзей. Когда их оказалось слишком много, перестал записывать и потребовал, чтоб я назвал наиболее близких. На что я ответил, что они все мне близки, что их у меня гораздо больше и что все они настоящие советские люди. Как и я сам. Это его взорвало. Но он стал не столько опровергать меня, сколько уверенно обещать мне лагерь. Ему это было приятно.
Он только упорно не вдавался в рассмотрение вопроса «За что?». А его, как я понял, ведавшего агентурным отделом, это касалось больше, чем всех — это именно через него кто-то, до сих пор мне неизвестный, устроил мне это приключение. Он явно злился, что с этим его делом не все клеится. По-видимому, эта встреча имела место уже после заступничества Медведева. И поведение его было реакцией на то, что он получил втык из-за Горгонова, попавшего из-за него в глупое положение. Предоставление начальству стихотворения с отрезанным окончанием в этом случае становилось браком в работе. И теперь он брал реванш. Он желал мне зла, но не из личной ненависти, а как-то безлично, холодно, самолюбиво, мстительно. Я почему-то (а, может, и поэтому) совсем его не боялся и разговаривал тоже резко. Конечно, я теперь зависел только от следствия, а он свое дело в отношении меня уже сделал и теперь был как бы мне не опасен. Но вряд ли я четко тогда это понимал. Просто я не мог согласиться с тем, что он говорил обо мне. Да и глупо было бы соглашаться.
И вдруг в эту перепалку вмешался второй, стал меня обличать — что-то промямлил про то же «гулявшее» четверостишие, теперь уже и вовсе опровергнутое многими копиями стихотворения «16 октября». И я сразу узнал эту обиженно-агрессивную интонацию. Да, это был тот самый серый невзрачный из ЦДЛ. Он и здесь оставался невзрачным. И глупым — при случае он еще уличал меня стихами, написанными во славу Лубянки во время моего «романа с МГБ» (я их приводил раньше, рассказывая об этом «романе»). Я этих стихов до сих пор стыжусь, а этот дурак усмотрел в них крамолу. Впрочем, он только иногда подавал голос, беседу вел его начальник. Надо сказать, что во время этих препирательств следователи молчаливо сочувствовали мне. И когда после его ухода я выразился о нем вполне откровенно, мне, конечно, возражали (положение обязывает), но очень вяло. Наверное, не только в их кругу, но и среди прямых уголовников есть люди, воспринимаемые остальными как подлецы и подонки. Это был подлец, упивавшийся своей подлостью и ее могуществом. Такими и при Сталине бывали не все функционеры, но именно такие чувствовали себя в созданной им обстановке наиболее вольготно, именно от таких в конечном счете все зависели.
Но следствие следствием, подлец подлецом, а сумасшедший дом в камере продолжался. Все твердили: «надо сознаваться». Это означало: «соглашаться со следователем». Особенно приставали с этим ко мне. При этом они мало что обо мне знали, но дело для них было не во мне, а в принципе. Голова у меня шла кругом.
И однажды я подсел на кровать к одному из сокамерников, который мне казался спокойней и доброжелательней других, и тихо спросил его, что же мне делать? Я вполне предан строю, но как же мне сознаваться в том, чего нет и не было? И он мне так же тихо и осторожно (а как еще ему было разговаривать с таким идиотом, каким был тогда я, да еще в такой камере?) ответил: «Конечно, скрывать ничего не надо, но если не было, то, конечно, говорить неправды тоже не надо». Эта не только банальная, эта самоочевидная сентенция тогда много для меня значила. Как минимум, сберегла мне много душевных сил.
Но какова была обстановка вокруг, в которой этот разговор надо было вести тихо! Ведь сами следователи никогда открыто не призывали клепать на себя — они, так сказать, требовали правды. Конечно, это означало требование признавать правдой все, что ими навязывается, но камерные мудрецы обходились и без этого камуфляжа — требовали признать и ложь. Думаю, что к этим мудрецам относились не все, кто жил в этой камере. И, конечно, человек, вызвавший мое доверие и возвративший мне тогда чувство реальности, к ним не относился. Правда, с ними он не спорил — нельзя спорить с эйфорией. Но этот человек вообще выделялся из общего фона.
Фамилия его была Богданов, имя и отчество его я, к сожалению, забыл. Он был братом знаменитого марксистского философа, обруганного Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме», и — что было еще опасней для его брата — в «Кратком курсе истории ВКП(б)», который следователи читали наверняка (впрочем, второй источник ссылался на первый). Сам философ не считался преступником. Он, правда, после революции отошел от партии (поскольку был несогласен с ее политикой), но не боролся с ней, а ушел от политики вообще — жил до смерти в СССР и работал врачом. Так что вроде быть его братом хоть не считалось честью, но все же не было и преступлением. Тем более что этот второй брат вообще был не философом, а ученым-виноделом.
Но это принималось во внимание только до сталинщины. А потом его положение стало весьма тяжелым — по чисто ритуальным причинам прежде всего. Любой, кого ругал Ленин или Сталин, а тем более кто еще дерзал с ними не соглашаться, попахивал нечистой силой и подлежал искоренению вместе со всей родней. Так что о виноделе, брате философа-врача, в 1937 году не вспомнили только случайно. Теперь ошибку исправили.
Но были трудности с оформлением. Философ отошел от партии до внутрипартийных драк. Поэтому троцкистом, бухаринцем и т. п. он быть не мог, и гениальную статью «ЧСИР» (член семьи изменника родины) к его брату применить нельзя было. Был он к тому же беспартийным, следовательно, в оппозициях не участвовал. К моему появлению от всего, в чем его обвиняли, осталось только «хранение антисоветской литературы». Никакой литературы он не «хранил», просто плохо самообыскался в середине тридцатых, из-за чего у него где-то завалялся один-единственный экземпляр газеты «Правды» за двадцать седьмой, кажется, год, где были имена, а может, и статьи тех тогдашних вождей, чьи имена теперь были непроизносимы. Его и нашли при обыске, на нем теперь строилось все обвинение.
Он, естественно, этого не отрицал (что тут будешь отрицать?), только спросил у следователя:
— Неужели из-за этого случайно сохранившегося номера газеты вы стали бы меня арестовывать?
— Нет, — ответил следователь. — Из-за одного этого мы бы к вам не пришли. Но раз пришли и нашли…
Но пришли не из-за этого, а потому, что — ТАКИХ не надо…
Вот один забавный (для чтения) эпизод следствия. Откуда-то (может, сам сказал) им стало известно, что он в каком-то году присутствовал на дне рождения А. И. Рыкова у него на даче. А как было «точно установлено» на одном из московских процессов (от начала до конца фиктивных, но этого следователь и в самом деле мог не знать), именно на этом дне рождения состоялось окончательное оформление право-троцкистского блока.
— Что вы можете об этом рассказать?
— Я ничего такого не заметил.
— Как так, не заметили?
— Видимо, от меня скрывали… Я ведь не был в оппозиции.
— Да, но ведь они должны были куда-то удаляться для совещаний. Вы должны были это заметить.
— Но я не заметил… Видимо, очень хорошо конспирировались. А таких, как я, использовали для камуфляжа…
Несмотря на мое положение и состояние, мне было смешно. Да, я принимал Сталина и, как это ни противно, соглашался с необходимостью его лжи. Но, веря в эту необходимость, я всегда знал, что это ложь. И сам ни в какие сложные заговоры, сотрудничества левых с гестапо и прочее не верил. Поэтому я прекрасно понимал, что на именинах ничего, кроме именин, не было. И очень сочувствовал положению Богданова, вынужденного валять дурака. Ведь и в этой камере «политиков» только мы вдвоем и знали, что это чушь.
Но ведь и положение следователя было нелепым. Богданов хотя бы знал, что там ничего не было, а ведь следователь искренне не знал. Установленный факт, а этот фрукт там был, но не заметил. И ведь не привлекли его по этому делу. Вряд ли этот следователь имел полномочия ревизовать канонические тексты нашумевших процессов, эту библию сталинщины. Так что обвинение в «хранении антисоветчины» для следователя было спасительным выходом — и никуда не вторгался, и изъял нежелательного человека, у которого не то родство и не те связи.
Мне очень жаль, что после тюрьмы я нигде и никогда не встречал этого хорошего человека. Я помню его, высокого и стройного, красивого, всегда спокойного, уравновешенного и доброжелательного, с добрым интеллигентным лицом, окруженным мягкой бородой, сильно уже тронутой сединой. Вряд ли на воле он носил бороду, но на Лубянке иметь бритвы не полагалось, а стригли — голову и бороду одинаково машинкой — не то раз, не то два в месяц. Поневоле все обрастали. Помню и такой разговор. Как после бурного спора с другими сижу я, расстроенный, рядом с ним на кровати и изливаю свою, внезапно оставшуюся одинокой душу, а он временами подбодряет меня своим теплым понимающим взглядом.
А было мне худо. Патология моих взглядов наткнулась на патологию действительности и стирала меня в порошок. Несчастные люди, мои сокамерники, мечтали только об одном — вернуться домой. Инженер-путеец предлагал всех нас выпороть на Красной площади и отпустить по домам. Если бы это зависело от населения нашей камеры, предложение прошло бы.
Не помню, в этой ли камере или в той, куда меня скоро перевели, я впервые столкнулся с мифом о подготовляющейся амнистии. О ней говорили не предположительно, а уверенно — она готовится. Это тоже была форма эйфории.
Как я уже сказал, в этой камере я пробыл недолго. Однажды меня вызвали. Кстати, на Лубянке вызывали как-то по-чудному. Надзиратель никого не выкликал по фамилии — видимо, чтобы в соседней камере не догадались, кто сидит в этой. Детская игра в войну, пардон, в борьбу, обставлялась вполне серьезно, надзиратель заходил в камеру и спрашивал: «Кто на „М“»? Все, чьи фамилии начинались произнесенной буквой, по очереди отзывались. Пока не называлась нужная фамилия. Ее носителя уводили. Чаще объявляли куда. Допустим, на допрос. Тут не объявили, вывели, посадили в бокс, куда скоро принесли и собранные сокамерниками мои вещи. Потом меня опять повели сложными путями и ввели в другую камеру.
Об этой камере тоже можно рассказывать много. Хотя и она не была главной в моей эпопее. Колорита в ней хватало. Здесь, кроме меня, сидело четыре абсолютно непохожих друг на друга человека. Был в ней потомственный и рафинированный интеллигент, искусствовед, специалист по народному орнаменту, доцент МГУ Василенко (к сожалению, я забыл его имя и отчество), арестованный за слушание «террористической» повести Даниила Андреева (по этому делу схватили многих), а рядом — сионист из Западной Украины, во время войны капитан Советской Армии, командир батареи. Сидел он за то, что занимался переправкой евреев, в основном, как и он сам, из западных, бывших польских областей нашей страны, через границу — в Польшу, тогда еще не совсем «народную», откуда они могли ехать в Палестину (Израиля еще не было). Можно, конечно, спорить, что более преступно — не пускать людей или их переправлять, — но это был единственный из встреченных мной людей, которому инкриминировали то, что он действительно делал, (если не считать «лиц, сотрудничавших с оккупантами» (впрочем, и о них сочиняли много).
Сидел в этой камере еще московский инженер Алексей Яковлевич Иванов — «за язык», о нем после. Но самой колоритной фигурой был управдом (как его звали, я не помню), арестованный за «дачу взятки милиции». Дело было чисто уголовным, но поскольку милиция тогда была подчинена МГБ, а МГБ делами своих работников занималось всегда само, он и был арестован органами МГБ по всем их правилам. Захватили письма, фотографии и прочий материал для компромата и доставили его со всем этим на Лубянку.
Но дело-то было не лубянское, совсем другое. И возникали комические ситуации.
— Это кто? — грозно вопрошал следователь, предъявляя подследственному «обнаруженную» на его квартире фотографию женщины.
— Это? — притворно напрягал зрение управдом. — Это б…дь.
— А это кто? — следователь предлагал следующую.
— А это вторая, — следовал спокойный ответ.
Сотрудник МГБ вести нормального следствия не умели и просто не знали, что с ним делать. Пробовали запугивать, но обвиняемые по таким делам были менее бесправны, чем мы, и управдом грозил написать жалобу прокурору. Конечно, просто было бы доказать, что он враг народа, и дело с концом, а уж к этому они бы его вынудили. Но, во-первых, тут надо было не вынудить, а узнать, а во-вторых, кто бы им дал раскрывать антисоветчину в самом МГБ?
Если бы сегодня еще нужны были доказательства того, что МГБ было учреждением, никак не руководствовавшимся законом, то выявившаяся на этом деле полное незнакомство его работников даже с советской, ограниченно-юридической практикой могло бы быть достаточным доказательством.
Но вернемся к сокамерникам. Душой камеры был Алексей Яковлевич Иванов, московский инженер. Человек уже лет пятидесяти, невысокий, коренастый, он умел совершенно естественно создавать вокруг себя ощущение уюта и прочности. Даже здесь, в камере.
Сел он за разговоры. Он тоже считал, что надо в чем-то сознаваться, но не из истерической верности, а просто потому, что иначе не отделаешься. Только делать это надо по-умному — чтоб признаться добровольно, но как можно меньше на себя наговорить и других не затянуть. Так он и вел себя. Кстати, это не так просто: раз сознаешься, что говорил, то — кому? Теперь его дело было уже закончено. От многих приписываемых ему высказываний он сумел отбиться. «Чистосердечно сознался» он только в том, что сказал в разговоре: «Черчилль умный человек» и что он «восхвалял зарубежную технику». Тем не менее статья 58, пункт 10 (антисоветская агитация) осталась и при закрытии дела. Но он был доволен, считал, что все свел к минимуму, и радовался, что никого не погубил. Алексей Яковлевич добровольно назвал и тех, с кем он вел свои недозволенные разговоры — двух стукачей (которых определил по ходу допроса) и двух покойников.
Политикой он, естественно, никогда не занимался, но при всех властях трепался. При всех властях сходило, при Сталине — не сошло. Но «трепаться» он продолжал и в камере:
— У них на знамени написано: «Борьба!» — вот и борются с ветряными мельницами, — сказал он мне однажды (фраза эта «весила» гораздо больше, чем то, в чем он «чистосердечно сознался»). Вообще обстановка в этой камере была прозаичней и легче, чем в предыдущей.
А зять его служил в МГБ.
— Что ж это вы, Алексей Яковлевич, зятя подвели? — спросила его секретарша какого-то начальника, к которому его водили.
— А я к зятю не имею никакого отношения, — отвечал Алексей Яковлевич. — Мы с ним и не видимся почти.
Вряд ли это помогло зятю.
Насчет меня он был убежден, что я посажен потому, что я еврей и при этом занимаюсь литературой. Ибо теперь «они» этого не хотят.
— Вы напишите им, что поэтом быть больше не хотите, вас и отпустят.
Конечно, насчет «отпустят» — это он в любом случае хватил, даже если бы меня и впрямь посадили из-за этого. Но не думаю, чтобы он был прав и насчет причин ареста. Хотя в книге Костырченко «Под пятой красного фараона», посвященной преследованию евреев в СССР, автор мимоходом включает и мой арест в список антиеврейских преследований. Скорее всего, это просто совпадение во времени — в моем деле мое этническое происхождение никак не фигурировало. Но не думаю, что Алексей Яковлевич все это просто выдумал. Видимо, нет дыма без огня, и нечто подобное (не обо мне, конечно) он и впрямь слышал и от зятя, с которым «почти не встречался». Во всяком случае, когда я после смерти Сталина вернулся, я узнал, что существовал подпольный государственный термин «активный еврей» — в смысле категории, представителей которой следовало устранять. Но повторяю, в моем деле этого не было и в мемуарах тоже не будет. А насчет посадки — гораздо удивительней, что меня не посадили в 1944-м, чем то, что посадили в 1947-м (при всех моих просталинских взглядах).
Но вернемся к Алексею Яковлевичу. Человек он был не только складный и уютный, но и вообще жизнелюб. И, кроме того, любил дурака валять — оттого и трепался при всех режимах. Любопытен, например, такой его рассказ, относящийся к временам Первой мировой, когда он был вольноопределяющимся в Москве. Однажды, находясь в увольнительной, он не отдал чести шедшему навстречу жандармскому генералу. Сделал он это вовсе не из принципа (лишних приключений он никогда не искал), а потому, что одет был не по форме. Вечер был дождливый, и он — была не была — натянул на сапоги галоши. А тут генерал. Он вовсе не бунтовал — просто хотел прошмыгнуть незамеченным. Не вышло. Генерал его заметил, и именно из-за неотданной чести.
— Господин вольноопределяющийся! Попрошу вас подойти ко мне.
Тот повиновался, по пути, кажется, незаметно сбросив галоши.
— Почему не отдаете чести?
— А я, — рассказывал Алексей Яковлевич, — возьми да и бухни: «А вам не полагается».
— То есть как не полагается? — опешил генерал. — Да вы устав знаете?
— Так точно! — глядя честными глупыми глазами, доложил вольноопределяющийся. — В уставе сказано, что нижние чины при встрече обязаны отдавать честь всем офицерам и генералам армии и флота Его Императорского Величества. А вы ни к армии, ни к флоту не относитесь.
— Ах вот как! По возвращении в часть доложите вашему фельдфебелю, что я вам дал трое суток гауптвахты.
— Есть! — отрапортовал наказанный. И по возвращении в часть доложил. Но как?
— У нас был порядок, — рассказывает Алексей Яковлевич, — всех, кто был в увольнении, на другое утро выстраивали, и фельдфебель (а он меня любил) выяснял, не было ли у кого каких происшествий и нет ли вопросов. И тут я полез с вопросом.
— Господин фельдфебель, мы обязаны отдавать честь только офицерам и генералам армии и флота, а не, допустим, полиции?
— Полиции? — возмутился фельдфебель. — Ни в коем случае.
— А мне вчера встретился жандармский генерал… Я ему натурально чести не отдаю. Спрашивает: почему? Я объясняю: мол, вам не полагается. А он рассвирепел. Скажите фельдфебелю, что я дал вам трое суток. А за что, господин фельдфебель! Я ж не могу против устава…
Фельдфебель задумался, сказал, что вообще-то я прав, но случай сложный. Потом все вместе обсудили этот казус, пришли к мудрому решению, что хоть я и прав, но лучше на всякий случай в такой ситуации честь отдавать. А вопрос о том, чтоб мне сидеть на гауптвахте, даже не возник. Хоть я обо всем доложил.
Однажды ночью его вызвали. Он понимал, что для зачтения приговора и отправки.
— Прощайте, ребята, мучиться поехал — были последние его слова. Таков был Алексей Яковлевич Иванов. Он был нормальным человеком, сохранявшим свою нормальность в любых обстоятельствах. В нашем веке это редко кому удавалось.
Полной противоположностью ему, а тем более управдому, был доцент Василенко — мягкий, интеллигентный, тонкий, добрый, деликатный, беззащитный человек. Следователи быстро нащупали эту его слабость и на ней играли.
— Ты кто такой? — спрашивали они его. От одного этого «ты» он терялся.
— Я доцент… — начинал он лепетать очевидное, но его грубо обрывали:
— Ты говно, а не доцент! — и хохотали.
Он совсем терялся. И подписывал все, что ему совали. В конце концов он понаподписывал на себя черт-те что. Спас его от этого (от чего, не знаю, но от более страшного, чем случилось) тот же Алексей Яковлевич Иванов:
— Что ж это вы! Умный, образованный человек, а что делаете? Немедленно пишите заявление следователю и откажитесь от всех этих показаний. Скажите, что были не в себе. Ну посадят вас в карцер (за отказ от показаний сажали в карцер. — Н. К.), надо вынести. А то ведь всю жизнь погубите.
Это внушалось ему не раз, не два, и Василенко в конце концов решился. Он вернулся с допроса, уже зная, что его скоро заберут в карцер. Сокамерники старались его подбодрить и подкормить. Как могли. И его забрали. Мы все очень беспокоились за него. Но, слава Богу, на следующий день он вернулся — следствие сдалось.
Советский карцер — это откровенно и подло задуманное мучительство. Холодные мокрые стены, капает с потолка. С человека, которого туда вводят, снимают пиджак и сажают на стул. Ходить там негде. Горячее дают раз в два дня. Он рассказывал, что, когда ему совсем становилось невмоготу, он начинал молить Бога:
— Боженька милый, дорогой, спаси меня, возьми меня отсюда.
И его взяли. Возможно, кто-то, прочитав, от чего он отказался, понял, что они хватили лишку — не знаю. Но допросы его стали проходить иначе, и обвинять его тоже стали умеренней.
Мне, дураку, конечно, было смешно, что такой образованный и разумный человек может всерьез верить в Бога. И вообще он мне казался слабаком, буржуазным интеллигентом (чего-чего, а буржуазного в нем не было ничего), не понимающим эпохи. На это представление работали и его воспоминания о романтических для меня тогда годах военного коммунизма. Тогда ему пришлось перейти из Императорского университета (МГУ) в университет Шанявского, потому что там топили. «И это все, что он запомнил!» — саркастически думал я.
Как он относился ко мне? Не знаю. Может, немного побаивался — ведь я своих идиотских взглядов не скрывал, — но очень немного. Раз поддакнул какой-то моей глупости. А в общем всегда был откровенен. Однажды это стало причиной забавного диалога.
— Всегда, когда я проходил мимо Лубянки, — сказал он, — у меня сердце екало от страха.
— А у меня совсем нет, — удивлялся управдом, — с чего вдруг? Я понимаю, мимо МУРа.
Мне сегодня не только стыдно той чуши, которую я думал и говорил, но и жаль, что я упустил возможность сблизиться со столь образованным и столько пережившим, несомненно, очень интересным человеком. Ведь знал он бездну, и бездну именно того, что мне было потом так необходимо.
Безусловно, он относился к той интеллигенции, которую советская власть преследовала всегда. Наверняка мартиролог жертв среди его родных и близких велик неимоверно. И восклицание, которое вырвалось у кого-то из его компании во время немецких бомбежек Москвы в 1941-м: «Ах, хоть бы одна бомба попала в Кремль!» — восклицание, на мой взгляд, для той ситуации совершенно неуместное, в устах людей его судьбы эмоционально понятно. Я ведь и сам потом написал: «К позору всех людей \ Вождь умер собственною смертью». Но это потом. А то, что он боялся следователей и прочее — так ведь он и не готовил себя в борцы, что — как теперь понимает читатель и не умел тогда понимать я — вовсе не доказательство человеческой никчемности. Да он ведь не был и политиком — просто порядочным интеллигентным человеком.
Думаю, что в этой камере стукачей не было. Ибо советскую власть в ней никто, кроме меня, не любил и, в общем, выражал это довольно открыто. Но при всей трезвости камера эта пребывала в уверенности, что ведется колоссальная работа по подготовке амнистии. На мои уверения, что Москва вовсе не переполнена слухами об этой работе, не обращали внимания. Старались обнаружить намеки на эту работу в продуктовых передачах, которые получали некоторые из нас. Вспоминается такой, например, эпизод. Василенко получил передачу. Его жена среди прочего прислала мужу половину копченого языка. И никто другой, как сам Алексеи Яковлевич, отличавшийся спокойной трезвостью, истолковал это как тайное сообщение: «Скоро будет амнистия — укороти язык и дождись ее». И все заулыбались. Дескать, а что, вполне может быть.
Так сегодня, в 1997 году многие демократы реагируют на непрерывный рост влияния «левых» сил (коммунистов и нацистов). Дескать, все это не имеет значения. А это в любом случае имеет разрушительное значение. За долгую жизнь я убедился, что люди, если не хотят чего-нибудь понимать, то не понимают, причем интеллектуалы (кроме немногих) делают это очень респектабельно. А что взять с моих сокамерников — у них ведь действительно не было никакой другой надежды.
Мне кажется, что меня перевели в эту камеру уже после нового года. Обвинение, которое согласно закону полагается предъявлять через две недели после ареста, мне предъявили в срок, уже в 1948 году — статья 58 пункт 10 — антисоветская агитация («писал и читал среди знакомых стихи антисоветского содержания»). Сообщаю это для порядка, ибо в том же обвиняли меня с первого дня. Я себя, естественно, виновным не признал, что тоже ясно из всего, что я рассказал уже о себе. К жизни камеры, к ее атмосфере, это отношения не имеет. Рутина.
После того, как увели Алексея Яковлевича, в камере стало тусклее. Жизнь в ней протекала вполне мирно, но атмосфера округленности и уюта, которой веяло от него, исчезла. Впрочем, жил я в этой атмосфере недолго — через пару дней вызвали и меня.
Естественно, я подумал, что на допрос — время было вполне подходящее, дневное. Но отвели меня не на допрос, а в бокс. В боксе повели себя как-то странно. Туда ко мне принесли все мои вещи — и то, что было со мной в камере, и мою корзину со склада. Кажется, даже вернули под расписку отобранные у меня при аресте деньги. Я боялся поверить в это, но, судя по всему, меня выписывали из тюрьмы. Тем более работник тюрьмы, отвечая на мой вопрос, сказал мне улыбаясь: «Поедете в институт». Никакого другого связанного со мной института, кроме нашего Литинститута, просто не было, и у меня отлегло от сердца. Наконец, этот кошмар кончился! Сейчас меня повезут к своим, назад! Что-то такое я, видимо, и высказал, кажется: «Слава Богу… Кончилось!» Тогда человек, сообщивший мне об этом, уточнил мои перспективы: «Да нет, это в другой институт, на экспертизу».
Оказалось, что речь идет об Институте Сербского — сработала статья из военного билета. Я не знал, что это за институт, но понял, что везут не на свободу. Он огорчился. Он ведь и впрямь был за меня рад — молодому парню, почти мальчику, немного пофартило. Все-таки Институт Сербского — это и возможность освободиться по болезни. И в любом случае это отдых, перерыв. Тогда ведь еще не было «казнимых сумасшествием», и с этим институтом не было связано ничего дурного. Потому он и улыбался. Ему было приятно это мне сообщить. И неприятно возвращать меня к реальности. Но что делать, если я вон что возомнил!
И, действительно, тяжесть, которая не спадала с моей души со дня ареста, после минутного перерыва навалилась на меня с новой силой и остротой. Потом эта тяжесть привычно, тупо и незаметно лежала на моей душе до самого конца моей ссылки. Я мог шутить, смеяться, по временам даже чувствовать себя счастливым. Но все это как бы пробивалось, как ростки через асфальт, сквозь эту тяжесть, которая все равно неотступным соглядатаем присутствовала при этом. И — в несколько разбавленном виде все это продолжалось до самой смерти Сталина. Да и с ней дело не кончилось.
Эту тяжесть — особую тяжесть несвободы — несло на своих плечах (пусть в еще более разбавленном виде, но во все еще достаточной концентрации) население не только всего СССР, но и всего соцлагеря.
В этом я убедился в один из июньских дней 1977 года, когда я стоял на высокой смотровой башне в конце Бернауэрштрассе в Западном Берлине и смотрел за стену на жителей Восточного Берлина. Рядом со мной молодые немцы что-то кричали своим соотечественникам за стену, а те проходили, сворачивали за угол и… не обращали на нас никакого внимания. Все бы ничего, но они были заняты этим — тем, что не обращали на нас внимания. И каждый думал, что он ответит, если спросят. И это отражалось во всем их облике, в посадке головы, в фигурах, в походке — во всем. И я, увидев их, вспомнил себя, еще недавнего, и физически ощутил эту тяжесть — тяжесть несвободы, лежавшую на всех нас.
Впрочем, тогда в боксе, как и вообще на Лубянке, в следственной тюрьме сталинского МГБ я не размышлял о свободе и несвободе. Здесь было открытое и демонстративное царство несвободы. Просто мне на секунду показалось, что я из него вырвался, недоразумение тут же рассеялось, и я еще острей почувствовал несвободу. С этим чувством я и сел в «воронок» (в Питере это называлось «черная Маруся», в старину — «тюремная карета»).
Я не помню, что было написано на этом «воронке» — «Мясо», «Молоко», «Мебель» или «Хлеб», — так расцвечивало МГБ свои фургоны. Помню, мазнуло по глазам чем-то неподходящим к случаю и как-то не зафиксировалось, не связалось с его содержимым. И так все три раза, когда мне пришлось быть его пассажиром. Не до того было. Да и заводили с торца — и надпись не очень бросалась в глаза.
Внутри «воронок» (так трансформировалось первоначальное прозвище этого фургона) был устроен так. При входе по обеим сторонам двери две маленькие кабинки-бокса — для особо секретных пассажиров (в одну из них посадили меня), а дальше общее помещение с тремя скамейками вдоль стен — для менее секретных. Фургон долго колесил по Москве, по разным учреждениям тюремного ведомства — кого-то забирал, кого-то высаживал, — пока не оказался в центре какого-то большого двора, по виду больничного, у одноэтажного строения с крыльцом. По этому крыльцу меня ввели в помещение, напоминающее приемную районной поликлиники (помещение, где больные ждут приема). С той только разницей, что там обычно народу много, а тут я был один — если не считать еще двух конвойных солдат, по-моему, срочной службы. Может быть, там была еще одна или две такие же живописные группы (меня вызвали не сразу, значит, занимались кем-то другим), но память моя этого не зафиксировала. Кажется, рядом с крыльцом была вывеска с названием института. Во всяком случае я вполне понимал, где нахожусь и зачем меня привезли.
Я к тому времени неплохо знал Москву, но никак не мог понять, где, в какой ее части мы находимся. Потом я узнал адрес этого учреждения (никто его от меня не скрывал) — Кропоткинский пер, 23 — и понял, что переулок этот находится в районе Кропоткинской улицы (Пречистенки). Но все равно плохо представлял его местоположение. Только в феврале 1951-го, полулегально приехав после ссылки в Москву, где я не имел права жить, я разыскал его на Пречистенке, что было нетрудно, а там с трудом нашел дом 23. Как ни странно, в этом переулке я никогда до этого (да и после этого) не бывал. Он вливается в Пречистенку с арбатской стороны почти у самого Садового и расположен как бы у него в тылу. Дом 23 разыскать было труднее, потому что ни номера, ни вывески института на нем не было, во всяком случае, я не обнаружил. Впрочем, может, я просто их не разглядел — останавливаться или пристально вглядываться там было для меня небезопасно — могли проверить документы, и тогда могло случиться что угодно. Но кое-что я увидел: массивные ворота с сигнализацией, проходную… — все атрибуты тюрьмы. Я думаю, что так это выглядело и в 1948-м. Но тогда я не мог знать, как это выглядит извне.
Меня усадили на скамейку. Я стал ждать. Казалось, просто я записался на прием к врачу и жду своей очереди. Мимо сновали люди в белых халатах. Правда, быстро прошмыгнул, не поздоровавшись, мой следователь капитан Бритцов, прошел мимо нас и свернул направо в коридор. Я его увидел, узнал, но все же не успел осознать, что это действительно он.
Ждал я сравнительно долго. Наконец меня вызвали, и конвоиры ввели меня в коридор, где скрылся Бритцов, и в нем уже — в первую дверь направо. Мы оказались в небольшом кабинете, где, тем не менее, было полно врачей, много интеллигентных лиц — из тех, какие составляли публику на вечерах «Молодой гвардии». И среди них — мой следователь, в форме он как-то плохо монтировался с окружающим. Впрочем, в возникшем там разговоре (допросе? сборе анамнеза?) он никакого участия не принимал.
Мне стали задавать вопросы. Последовательности их я не помню. Но помню, что мне был задан «профессиональный» вопрос: не замечал ли я, чтобы со мной или вокруг меня творилось что-либо странное? На это я с готовностью отвечал, что да, конечно, замечал, что в последнее время со мной стало твориться много странного. Лица присутствующих оживились профессиональным интересом. Ждали то ли симптомов болезни, то ли того, что я начну «косить», а они (были ведь, наверное, и такие) меня разоблачат. Но не дождались ни того, ни другого. Я стал просто рассказывать, что со мной произошло.
— Конечно, много странного, — начал я. — В одну прекрасную ночь, пришли люди, предъявили ордер и арестовали. После этого я сижу в тюрьме, меня таскают на допросы, задают странные вопросы о моей антисоветской деятельности, которой я не занимался, ибо всей душой уже давно стою за товарища Сталина. Все это очень странно.
Какие вопросы мне задавали еще, я не помню, но отвечал я на них очень охотно — я чувствовал себя опять среди нормальных интеллигентных людей и был рад высказаться. Они тоже ко мне расположились. Я их, видимо, заинтересовал (и боюсь, отнюдь не с профессиональной точки зрения), да и просто расположил к себе. Но долго проявлять свой интерес они не могли, и конвоиры вывели меня в приемную. Через некоторое время опять прошмыгнул, не прощаясь, Бритцов, потом вроде и конвоиры исчезли.
Ко мне подошла женщина в халате, медсестра или нянечка. Я узнал, что решено было меня оставить на стационарное обследование, но льщу себя надеждой (сужу по людям, с которыми я имел дело), просто, чтобы дать мне возможность прийти в себя. Женщина повела меня в палату. Мы вышли во двор, большой, на вид обыкновенный больничный двор, и направились к четырех- или пятиэтажному, тоже обыкновенному больничному корпусу. Все было как-то радостно-обыденно. Так же эта женщина вела бы меня по двору самой обыкновенной больницы. И сама она тоже была обыкновенной, больничной, совсем не тюремной. И душа моя как-то воспряла от всего этого. И хотя, оказавшись на нашем этаже, она отперла, а когда мы прошли, совсем по-тюремному заперла дверь отделения (не то четвертого, не то пятого), настроение мое не переменилось. Это было больничное отделение, а не тюремная камера.
Этот институт и это отделение теперь известны всему миру как одно из самых страшных мест на земле. Таким оно и стало при Хрущеве — после того как было объявлено, что у нас нет политических заключенных. Поскольку психически больные у нас все же были, решено было всех особо неугодных объявлять больными. При Брежневе эта практика расцвела еще больше, хотя Брежнев об отсутствии политзаключенных и не заикался. Видимо, это просто было включено в систему подавления. Тогда Институт им. Сербского стал головным научно-практическим учреждением этого мероприятия.
Здесь здоровых людей признавали сумасшедшими и отправляли «лечить» — отнимали душу. Отсюда и его дурная слава. Но она не должна распространяться на всю историю этого Института. Я пробыл в этом отделении (в основном для политических) около двух месяцев и считаю долгом засвидетельствовать, что люди, которые там тогда работали — врачи, сестры и санитарки, — не только не имеют к этому никакого отношения, но и просто были честны, гуманны и добры, как и надлежит медицинским работникам, вполне соответствовали духу и традициям русской медицины.
За одним, но, правда, громким исключением. Им был доктор Даниил Романович Лунц — тот самый, что потом прославился на весь мир своей выдающейся ролью в осуществлении психиатрического террора. Теперь его уже давно нет в живых — подлецы тоже умирают, — а тогда все его подвиги были еще впереди. Но впечатление он и тогда производил такое, что, когда имя Лунц всплыло в связи с преступной деятельностью Института им. Сербского, я сразу спросил: «А не зовут ли его Даниил Романович?» Я не знал его фамилии, только имя-отчество, но безошибочно догадался, что это он. С тем, кого я знал в 1948 году, это вполне вязалось.
Как он вел себя? По отношению к нам, обследуемым, он был неизменно агрессивен и враждебен и всем своим видом демонстрировал начальственную отчужденность. А вообще он был похож на загнанную, злобную крысу, готовую в любой момент огрызнуться. Так он и разговаривал — как бы огрызаясь. Я слышал, что на пике своей преступной карьеры он был в частной жизни бонвиваном и душой общества. Мне трудно в это поверить — не могу представить, что злая крыса способна быть душой общества. Но все бывает.
Говорят еще, что он уже при мне был штатным сотрудником ГБ, имел чин и форму. Если это так, то, может, он и появился здесь (чуть ли не одновременно со мной), будучи прислан «на укрепление» — «исправить ошибки» и «возглавить». Может, это произошло после ревизии, проведенной под руководством уцелевшей революционерки Р. С. Землячки, обвинившей институт в том, что в нем для обследуемых созданы курортные условия.
Впрочем, это только предположение. Эти факты могли и не быть связаны друг с другом, но Лунц жил в отделении особняком, и коллеги то ли его побаивались, то ли брезговали им. Впрочем, касаюсь я его только как в некотором роде исторической личности. Никаких отношений с ним у меня не было — раза два он на меня огрызнулся по каким-то незначащим поводам из глубины своей крысиной настороженности, и все. Но его не любили все — и «пациенты», и врачи. Он тогда был исключением.
Двух врачей этого отделения я вспоминаю с большой теплотой как людей особенно благородных: главу отделения профессора Хаецкого и врача, кажется, его заместителя, Пашу Ильиничну. Фамилия ее, кажется, была Борецкая. Именно в разговоре с ней я однажды коснулся Даниила Романовича. Она сказала, что врачи отделения стараются быть гуманными. Я согласился, но отметил, что не все — вот Даниил Романыч выглядит иначе.
— А… Лунц.
Фамилию эту я тут же забыл, а теперь реконструирую по контексту.
Она произнесла ее и не стала возражать. Правда, она ничего и не добавила. Но чувствовалось, что она не ощущала его своим коллегой. Этот разговор был случайным, тема была задета мимоходом. Больше я о нем ни с кем из персонала не говорил. Не было ни нужды, ни интереса. Мне вообще кажется, что он тогда еще только присматривался ко всему. У товарищей по палате отношение к нему было иронически-настороженным — он был неприятен, и чувствовалось, что он опасен. Но непосредственно меня он не касался и сильно наше внимание не занимал, хотя к врачам, сестрам и санитаркам все мы относились вполне дружелюбно. Особенно мне запомнилась медсестра Сашенька, добрая и строгая, да и весь остальной персонал был вполне человечен. Тогда еще сталинский разврат до медицины не дошел.
А что касается меня, то светлые образы профессора Хаецкого и Паши Ильиничны, сколько я буду жив (теперь уже, наверное, недолго, но все же…), всегда будут стоять передо мной. И никогда не иссякнет во мне живое чувство благодарности к ним. Они были настоящими врачами, докторами в традиционном смысле этого слова. Я думаю, что благодаря им и таким, как они, меня и оставили в институте, дали прийти в себя и оглядеться. Мне даже кажется (хоть они мне об этом не говорили), что они пытались спасти меня от Лубянки и ее последствий, но им это не удалось.
Помню свой разговор с Пашей Ильиничной сразу после того, как было принято судьбоносное решение считать меня вменяемым, то есть вернуть на Лубянку. Она вызвала меня в свой кабинет, сообщила мне о нем (что тоже вроде не полагалось) и начала меня утешать — убеждать, что это, если и не к лучшему, то и не к худшему. Она говорила, что в психбольнице, рядом с подлинно больными, при отношении ко мне как к одному из них (что так или иначе отразилось бы на отношении к моим мыслям, стихам и высказываниям) мне было бы совсем не так легко. И этот хвост тянулся бы за мной повсюду, ибо «наш приговор неотменимей судебного, он — навсегда». Держалась она очень хорошо, но чувствовалось, что она тоже подавлена. Естественно, это была не первая, а последняя беседа с ней.
Конечно, и с Хаецким, и с ней я разговаривал не раз и до этого. Это входило в круг их обязанностей — она была моим лечащим врачом, а он главврачом отделения. Но для меня было важно, что я опять говорю с интеллигентными, умными людьми, которые меня понимают, которым со мной интересно — как было бы интересно, если бы мы встретились где-нибудь в гостях. И значит, все остается.
Я не был тогда антисоветчиком, да ведь и они не были. Но они понимали ценность моих исканий, ощущали меня человеком, личностью. И это мне тогда нужно было больше всего. Без этого трудно было выполнять свое решение — решиться, плюнув на историческую необходимость (отложив выяснение своих отношений с ней на потом), противостоять ухищрениям следствия. Ведь для меня это было и духовно-психологическое решение.
Однако я уже заговорил о том, что было в конце и после моего пребывания в институте, а изложение событий только в его начале. Мы прервались на том, что милая женщина (сестра или санитарка) впервые привела меня в отделение.
Мне здесь сразу понравилось. В отличие от тюремных камер двери палат были всегда открыты, и можно было свободно передвигаться по всему отделению, разговаривать с кем угодно. В палате, где меня поселили, кроме меня, жило еще три человека. Как ни странно, я не запомнил почти никого из них по имени. Я вообще многое помню смутно. Об одном из них не могу сейчас сказать почти ничего конкретного, хоть вижу его перед глазами. Он худощав, лицо у него умное, доброе, простое, вызывающее доверие. Мы сидим с ним на его кровати и разговариваем о чем-то серьезном. Помню, что он был чуть старше меня, что был мне приятен. Но как звали, за что арестовали, о чем мы с ним говорили — испарилось.
Вторым моим соседом был почти мальчик по имени Казимир. Жил он в литовской деревне на границе с Польшей. Пас коров, одна перешла границу, погнался за ней, и… «незаконный переход государственной границы СССР». Мальчик учился в школе, хотел учиться дальше. Что его ждало — не знаю.
Третий запомнился лучше — уж больно был колоритен. Прибыл он не из Лубянки, а из Бутырок, и не из политического корпуса (там был такой корпус — филиал Внутренней), а из общей камеры. О нем я помню все, кроме имени. Разумеется, все, что он рассказывал о себе сам. Было ему уже лет 35–40. Фронтовик, человек энергичный, веселый, «шебутной», на воле он, по его словам, работал директором ресторана. Обвинялся он в чем-то вроде растраты. Сюда его привезли — так он утверждал, — чтобы проверить, действительно ли он способен выпить столь неимоверное количество водки, как утверждает. Почему-то следствию это было важно знать. С этой целью над ним производили болезненные эксперименты — вводили что-то в позвоночник. Он выдерживал. Из Бутырок он вывез бездну диковинных историй о похождениях разных ловких людей. Сюжеты его были всякие: головокружительные, романтические, плутовские, но конец был всегда одинаково эпичен:
— А потом его за жопу, и в Бутырку.
Морально-идеологическая сторона деятельности его героев его не занимала совсем. Каждый вертится, как может. А попал в Бутырку — пеняй на себя. При всей моей ригористичности мне этот бесшабашный человек был симпатичен.
В одной из палат обитал бородатый человек, на счет которого все обитатели отделения были уверены, что он «косит». Почему они так решили, я не знаю. Просто он один в этой психбольнице вел себя как сумасшедший. Все звали его «Тонечка» — по имени жены. Потому что, когда ему приносили передачу, он бежал по коридору к двери, откуда выносили передачи, и кричал: Тонечка! Тонечка!
Полагали так же, что он чует стукачей. В общих местах, в курилке например, он вел себя вполне спокойно, но вдруг появлялся кто-то, кого он начинал гнать: «Пошел! Пошел!»
Бывали и такие сцены. Среди ночи «Тонечка» сидит на своей постели. Появляется нянечка:
— Тонечка, ты что не спишь?
— Суп жду.
— Так суп ведь будет в час дня, а теперь час ночи, — вразумляет няня.
— Ничего, я подожду, — успокаивает ее «Тонечка».
Даже если этот «Тонечка» и впрямь «косил», то есть симулировал сумасшествие, все равно он мне был симпатичен. Это тоже противоречило моему мировоззрению, но так было. Больше никого в симуляции не подозревали и как будто относились к ней отрицательно, почти как к попытке уклониться от фронта. Но при этом ни один «пациент» отделения не скрывал, что и сам был бы не прочь оказаться по документам невменяемым, хотя «тронутым» никто себя не считал. То есть «косить» не хотели, но были бы рады, если б оно как-то само «закосилось». И это понятно: сидели же все в основном ни за что, и любое освобождение любого из них было бы актом справедливости, избавлением от неправедной кары. А невменяемость была бы тут тоже выходом, не худшим, чем любой другой.
Потом я узнал, что это было иллюзией. От лагеря невменяемость могла и избавить, но вернуть утраченную свободу — не могла. Во-первых, «невменяемых» направляли на лечение не в открытые «минздравовские» психбольницы (как мы думали), а в специальные тюремные изоляторы закрытого типа. Оттуда их со временем действительно отпускали, но не на свободу, а в ссылку. Так что не все и тут было столь радужно. Тем более, что в самой психушке можно было проторчать (пролечиться) несколько лет. Конечно, тогда эти учреждения были не столь страшными, как стали потом, но — на этом настаивала и Паша Ильинична — радости в них и тогда было мало.
Но закончим с институтом. О своей жизни в нем я помню очень мало конкретного, внешне это была обыкновенная больничная жизнь — с отчужденностью от всего, тоже почти больничной. Но отчужденность эта была обострена тяжелой неизвестностью, напряженным ожиданием решения своей судьбы.
Желающих водили на трудотерапию, в мастерскую, которая помещалась двумя, кажется, этажами ниже. Это вносило некоторое разнообразие в больничный быт. Там под руководством мастера мы занимались переплетным рукоделием — делали блокноты, тетради и тому подобное. Оттуда мы приносили чистую бумагу, которая нам очень была нужна и которой здесь разрешали пользоваться. У всех открылась страсть к календарям, мы их расчерчивали, вставляли дни недели и месяцы — отмечали течение времени, чего-то ждали.
Я там все время писал стихи — это тоже здесь не возбранялось. Просто потом все бумаги поступали к следователю. И все-таки тогдашний Институт имени Сербского я воспринимаю как оазис нормальности в безумной пустыне ГУЛАГа.
Там я продолжил и закончил юношескую поэму «Утверждение», если можно сказать «закончил» о внутренне незавершенном произведении. Поэму эту я писал все годы студенчества и вот, наконец, «нашел время и место» ее закончить. Потом, уже в ссылке, я в целом ее восстановил по памяти, но кое-что и пропало. Огорчает ли это меня? Не знаю. Печатать ее я все равно не собираюсь, а для того чтобы вспомнить о себе тогдашнем — от близости к нему автор не отрекается и теперь, — сохранилось достаточно. В моей внутренней истории поэма занимает значительное место.
Героем, прототипом или поводом этой поэмы был погибший на фронте ифлийский поэт Павел Коган. Но на жизнеописание и даже на воспевание его поэма не претендовала. О чем автор с наивной прямотой и самоуверенностью сообщал в первой же строфе вступления.
Я не искал ни разу тем, Всегда во мне рождалась тема. Он просто оказался тем, Кого ждала моя поэма.Дальше он прямо говорит о своем сходстве с героем:
Был беспощадный, трудный век, И века этого моложе, Жил беспокойный человек, Во многом на меня похожий.Но суть замысла проявляется в конце вступления. Говоря о продолжающейся духовной близости его к этому образу, автор отмечает, что это происходит в условиях, когда
………………с грохотом зловещим Прут в дверь по-новому теперь Переосмысленные вещи.Вот именно с высоты этого переосмысления и рассматривается все в поэме: по-новому — это в сторону приятия еще более неуклонного идеократического этатизма.
Страна идет сквозь мрак и дым И быть должна непобедимой. И значит, мало быть своим, А надо быть необходимым.Такое вот, значит, отношение к вещам, такое вот, значит, переосмысление по-новому. Если разобраться в смысле этих строк, то я вполне был достоин того места, где они писаны — палаты Института имени Сербского и всех «точек», куда оттуда направляли.
Ведь это значит, что если в человеке нет крайней государственной необходимости, то в наших исторически важных обстоятельствах им (например, мной) можно вполне спокойно пренебречь. Я и сам старался думать про себя, что раз со мной такое произошло, то значит, я просто не сумел или не успел стать необходимым, другими словами — пусть как-то навыворот — сам виноват (хоть и без вины).
Как это сосуществовало с тем изменением отношения к следствию, о котором я говорил выше? А никак. Я ведь отложил разрешение всех обрушивавшихся на меня противоречий до лучших времен, когда буду на свободе. Наверное, так бессознательно угадывалось мной и из жажды «устоять в истине и духе» оправдывалось отношение Сталина к людям. Но эта фанатическая, изуверская экзальтация была наивной и ложной даже в самом примитивном смысле — необходимых товарищ Сталин часто только терпел поневоле и с удовольствием расставался с ними, как только ему казалось, что можно без них обойтись (вспомним Г. К. Жукова). Но этого я еще о нем не знал. Слишком это было страшно и слишком прямо вытекало из фактов, чтобы в это поверить. Нет, я не был сумасшедшим, а был человеком сумасшедшего времени, но пытавшимся все домыслить до конца. А большинство тех, кто ощущал себя мыслящим, но не пытались это сделать, изменяли своему назначению и теряли себя — как бы респектабельно при этом ни выглядели.
Все мы жили внутри бреда. И уж, конечно, не был я конформистом. Я пытался отыскать в основе этого бреда зерно истины, но не пытался приспособиться к самому бреду как к чему-то естественному, само собой разумеющемуся. Я пытался примириться с противоречиями, но не отказывался их видеть, видеть правду жизни, которая всегда противоречива. Но как раз обнаружения этой правды Сталин не терпел. Он лучше знал, а если не знал, то чувствовал, какова она и какое должна производить впечатление. Он ее душил при любом согласии с ним.
Он явно нас переоценивал — думал, что мы тоже это понимали. Как, зная, что он вполне заслуживает теракта, полагал, что мы тоже это знали. А мы не понимали и не знали. Потому гэбисты и превращали в террористов Минухиных. Именно поэтому я все равно остался в глазах тех сверстников, которые знали меня, мои стихи и мои мысли, человеком, противостоящим сталинщине. И, действительно, ее атмосфере я, сам того не желая — противостоял. Даже в этой поэме о приятии. Но сумасшедшим меня все равно не признали.
И когда в один прекрасный день меня вызвали в ординаторскую, я уже знал, для чего. Там меня приветствовал веселый и вполне доброжелательно настроенный сержант, начальник «воронка» (нормальный русский служивый), и мы поехали. Опять мы колесили по Москве, и часа через два я опять оказался на Лубянке. На этот раз мое воображение не поражали сменой «боксов», и довольно скоро я оказался в новой для меня тюремной камере № 60, которую я собственно и считаю «своей», ибо просидел в ней около полугода — до объявления мне приговора, точнее, вполне заменявшего его Постановления Особого совещания при министре госбезопасности.
Камера № 60
Камера № 60 встретила меня приветливо и дружественно. Может быть, это отчасти и скрасило сам факт моего возвращения в тюрьму. Второе мое водворение в нее вообще травмировало меня не так сильно, как первое. Тогда меня с кровью выдрали из самой жизни, моей и общей, теперь оторвали только от вспыхнувшей надежды вернуться в эту жизнь. Конечно, по-прежнему нависало будущее, которое абсолютно от меня не зависело и, судя по всему, обещало быть беспросветным и гибельным. Но этот камень неподвижно лежал на моей душе со дня ареста, под его тяжестью происходило теперь все в моей жизни, в том числе и любые частные изменения к лучшему. Но тем не менее спокойная обстановка этой камеры помогла мне пережить шок возвращения и несколько долгих месяцев жить относительно спокойно. Насколько можно быть спокойным, зная, что с тобой в любой момент могут сделать все, что угодно. И я, хоть ни с кем не советовался, укрепился в своем решении обвинению противостоять.
Я не помню, когда меня впервые после возвращения вызвали к следователю. Но помню, что эпизод с моим заявлением о «старых стихах» (что я их никому не читал) и об отказе от показаний, а также объяснение по этому поводу с Бритцовым (обо всем этом я уже рассказывал) произошли на этом допросе. В результате этого тогда, как помнит читатель, ничего драматического не случилось. Кстати, вызвали меня отнюдь не сразу по прибытии и после этого тоже вызывали уже не очень часто. А потом более двух месяцев и вовсе не вызывали.
Отношения со следствием у меня после этого эпизода не испортились, но на допросах я стал вести себя осторожней. По существу мне по-прежнему нечего было скрывать, но я понял, что существо не имеет значения, что любая зацепка может перевесить любое существо. Как чуть не случилось с чтением старых стихов. Следователь-еврей из «консилиума» своим подмигиванием открыл мне на это глаза. Так подмигнуть можно только в кругу, где все к этому привыкли, где все ищут зацепок. Причем это не зависело от личного отношения и желания следователя. Ему всегда могли ткнуть в нос эту пропущенную зацепку и сказать, что он тормозит дело, а то и просто покрывает врагов. Они и консилиум собрали потому, что как бы лишились зацепок, и этот — выручил!
Все это я понял. Это открытие — отнюдь не интеллектуальное достижение. Но оно было этапом на пути к моему освобождению от задуренности и самозадуренности.
Это освобождение тогда было важным прежде всего прагматически — помогало не топить себя и других. Собственно насчет других у меня ничего не вымогали. Ситуация с другими была чисто внутренней. Я ведь дружил со многими людьми, они вели разные разговоры, да и у меня иной раз могло сорваться нечто вроде шутки, приведенной Тендряковым:
А страна моя родная Вот уже который год Расцветает, расцветает И никак не расцветет.Я ее воспринимал как издевательство над халтурной пропагандой, особенно в стихах, и все ребята воспринимали так же, смеялись. А как бы это выглядело на столе у следователя? Могли быть случайные разговоры, где мог мимоходом что-то сказать или сострить, и неслучайные споры, где — того хуже — недозволенное говорили другие. И в самый неподходящий момент, на допросе, это возникало в памяти. И я боялся выдать себя, выдать то, что вертится сейчас у меня в голове. Боялся за себя. И особенно за других. Когда я представлял, как их вырывают из дому и проводят по тем кругам ада, по которым провели уже меня, и все из-за моей оплошности, я покрывался холодным потом — лучше было умереть. Иногда следователь случайно касался связанных с этим людей и событий. Он и в виду того не имел, о чем я думал, но у меня перехватывало дыхание. И при этом надо было себя не выдать, чтобы следователь не понял, что той или другой темы я боюсь. Такая ситуация возникала неожиданно, и я чувствовал, как мое лицо начинает жить отдельной от меня жизнью. Звучит вопрос, все во мне опускается, чуть ли не останавливается сердце, а на лице не отражается ничего, оно сохраняет то выражение, на котором его застал неприятный вопрос. А я ведь не притворщик. Обычно на моем лице все прочитывается — во всяком случае все, что меня волнует. А тут — ничего.
А мне ведь всерьез и скрывать нечего. Я искренне чту товарища Сталина. И даже к следователю отношусь неплохо.
К счастью, все мои тревоги были ложными. Допросы ничего страшного мне не приносили, а друзей, слава Богу, они обошли вообще. Шли они вяло, а потом и совсем прекратились. Видимо, «в верхах» что-то происходило. Но я об этом не знал и каждый день напряженно ждал допроса. Иногда то, что меня не вызывали, казалось мне признаком перемены к лучшему, а иногда — что просто руки до меня не доходят, а потом дойдут — и конец. И часто, отрываясь от книг и разговоров, я подолгу оставался один на один с леденящей душу неизбежностью. Впрочем, я упрямо не хотел в нее верить. И сидя на кровати, в тюремной камере я разыгрывал в мечтах разнообразные варианты своего спасения, реально представлял и смаковал детали — то своего предстоящего возвращения, то какой-то сладостной ссылки. И — был счастлив. Но вдруг это состояние ликующего счастья пронзало, как стрела, сознание реальности. Ведь пока что неуклонно и буднично дело шло не к этим сценам, а к тому, что их исключало, — к страшному и, как я считал, к гибельному для меня лагерю — и иного выхода мне ведь никто не обещал. Но я запретил себе считаться с этой реальной перспективой и твердо решил про себя, что такого не может случиться. И держался этого решения, ибо остальное было неприемлемо, не было жизнью.
В лагерь я, действительно, не попал, но не благодаря моим заклинаниям или твердости, а, как знает читатель, из-за сочетания счастливых для меня случайностей и мужеству моего друга Ф. Е. Медведева. Но так — фантастически — я боролся за свою жизнь с обступавшим меня ужасом. И атмосфера этой камеры помогала мне в этой борьбе. С камерой мне повезло.
А неутомимым творцом этой атмосферы и вообще душой этой камеры был человек, фамилию которого я не запомнил, но зато помню целых два его имени-отчества, русское — Алексей Михайлович и татарское — Амир Шакирович. Был он военным не очень малого, по-видимому, ранга, но, как и миллионы других, в начале войны попал в плен и на родину, кажется, вернулся недобровольно — тоже как миллионы других… Нежелание вернуться совсем не обязательно означало «страх расплаты за совершенные преступления», как писали в наших тогдашних газетах. Оно могло быть вызвано и страхом, что эти преступления припишут, то есть что сначала отрежут голову, а потом будут разбираться. Не возвращались часто родственники репрессированных, уверенные в том, что их «преступное родство» будет обязательно поставлено в связь с тем, что они во время войны оказались в Германии — пусть даже на положении военнопленного или «остарбайтера». Но советские невозвращенцы Второй мировой — особая тема, и речь о них, вероятно, еще пойдет особо. С ними я соприкасался на Лубянке, на пересылках и особенно в эмиграции. Но Алексей Михайлович был первым из таких, кого я встретил.
Для меня это было испытанием. К кому, к кому, а к тем, кто сотрудничал с врагом, я, как и все мои товарищи, в основном фронтовики, относился непримиримо. И вот передо мной человек, который все-таки как-то, по-видимому, ладил с врагом (таким врагом) и после такой войны не кается, не хочет возвращаться к нашей «сплошной лихорадке буден», а мне он вполне симпатичен и даже вызывает доверие. Оказалось, что одно дело — ригористическое отрицание «изменника», а другое — когда ты видишь его глаза, слышишь его голос, чувствуешь его жизнь и судьбу. Особенно, когда эта судьба находится в причудливой ситуации, в которую ее поставила сталинщина.
Я не хотел этого понимать, более того, хотел не понимать, но когда это касалось живых людей, это было слишком очевидно. И обобщения отступали, тем более что приведение их в порядок, как и разбирательство во всех остальных идеологических несоответствиях, я решил отложить на позже. В чем обвинялся Алексей Михайлович и что делал за границей, я не знаю — он об этом не распространялся. Но сидел он давно, все здесь знал, и одно время я даже подозревал в нем «наседку», о чем, слава Богу, никому не говорил. Но это чушь. В обстановку он вносил спокойствие и успокоение, в чем «фирма» отнюдь не была заинтересована. В дела сокамерников, как человек более опытный, вникал, но именно в «дела», в ход следствия, а не стремился что-нибудь выведать дополнительно. Давал иногда дельные советы, но никогда и никого не уговаривал клеветать на себя, а именно в этом нуждалась «фирма». Кроме того, среди его сокамерников не было людей, которым надо было что-то скрывать: или за ними вообще ничего не было, или о них все было известно. Вреда он никому не принес и не стремился принести. И если он даже взял на себя такое обязательство (это даже не предположение, на которое у меня нет оснований, а допущение при рассуждении), то все время как-то увиливал от его выполнения. Полагаю, что каково бы ни было его политическое поведение на той стороне (может, оно и не было безупречным), человеческих подлостей он избегал, а если избегал, то избег — достаточно был дипломатичен для этого. В нем были качества подлинного вожака, руководителя, хотя никого он никуда не вел и никем не руководил. Просто чувствовал и понимал людей, находил к каждому свой уважительный подход, и это как-то успокаивало людей, создавало условия для общежития. Это была ежедневная и трудная работа.
Изредка его вызывали на допросы, возвращался он с них взволнованный и возмущенно рассказывал о них, и тут минуя реальный смысл того, в чем его обвиняли, и доводя до нас лишь формальную коллизию своих взаимоотношений со следователем — так сказать, «в чистом виде». Раздражало его то, что его доводы не принимались во внимание. Особенно запомнилась мне одна его фраза:
— А я ему говорю: «Все это так, гражданин следователь, но примите во внимание и истину…»
Иногда мне казалось, что отвечал он так, когда добивались от него сведений не о нем самом, а о нас.
Но фраза эта, по форме наивная и смешная, в любом варианте знаменательна. Сколько людей во всех внутренних тюрьмах МГБ могли бы тогда повторить за ним с мольбой и безнадежностью: «…примите во внимание и истину». Хотя бы «и»! Но как раз этого следователи не делали и не могли делать — от них требовалось другое, и они не могли не только преступить это требование, но даже признаться, что оно есть. Так или иначе, я до сих пор благодарен этому человеку за непрерывно создававшуюся им атмосферу, в которой я успокоился и пришел в себя.
Эта камера необычайно расширила мое представление о мире. Поначалу в ней, по-моему, не было ни одного перманентно советского гражданина. Кроме наиболее близкого к этой категории Алексея Михайловича, в ней сидели только несоветские: два старых эмигранта — адвокат из Будапешта (как его звали, не помню) и Константин Иосифович Коновалов, инженер-пищевик из Болгарии, и итальянец Филиппо Нери, облицовщик мрамора из Сицилии. Общее у этих людей (впрочем, как почти у всех, кого я там встречал) было одно: ни один из них не должен был сидеть в тюрьме, а следовательно, вызываться на допросы, выслушивать идиотские обвинения, находить на них наиболее безопасные ответы, говорить и думать об этом.
Обвинения у них были самые нелепые. Эмигранты — Константин Иосифович Коновалов и будапештский адвокат — обвинялись в «связи с мировой буржуазией». Похоже, в этом обвинялись все насильно репатриированные эмигранты «первой волны» (тогда еще такого термина не было). Формула эта, извлеченная из «юридического» обихода двадцатых годов, когда она тоже не имела смысла, но отвечала барабанному стилю эпохи, теперь была чистым анахронизмом. Притянута она была за уши, но не лишена людоедского остроумия — под эту формулу подходил любой тогдашний эмигрант. Как мог быть не связан с этим мистическим чудовищем юрисконсульт, работавший в крупных фирмах или главный инженер пивзавода? Или даже рабочий, трудившийся на капиталистическом предприятии (других не было)?
Кстати, строго говоря, будапештский юрисконсульт к «белой» эмиграции не относился. Он не воевал против красных и даже не бежал от них. Он вообще выехал до революции, в 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны. Просто потом, когда «все перевернулось», он счел за благо не возвращаться. Цель поездки была деловая, он сопровождал своего шефа, купца первой гильдии Сергея Ивановича Р-ва. Правда, маршрут этой поездки — из Петербурга, через Швецию в Германию — выглядит несколько странно на фоне военного времени, когда Германия все же была военным врагом России. Но неблаговидность этой поездки не смущала его и теперь — поездка было деловой. Кажется, ему ее и не инкриминировали. А ведь могли бы — Лев Копелев рассказывает, как одному солдату, дезертировавшему году в девятьсот десятом в Германию и осевшему там, впаяли за это в 1945-м измену родине.
Впрочем, не церемонились и с ним. Еще недавно он работал юрисконсультом Союзной контрольной комиссии по Венгрии, осуществлявшей союзный (на самом деле наш) контроль над побежденной Венгрией. Кажется, он даже знал ее председателя, К. Е. Ворошилова. Однако, Венгрия стала «страной народной демократии», комиссия закрылась, приобретенные знакомые уехали в Союз. И в один из ближайших дней после прекращения работы этой комиссии он, выходя из какого-то банка, не обнаружил машины, которая должна была его ждать. Сидевшие в другой машине сказали ему, что его шофера куда-то срочно вызвали, а им поручено его заменить. Он сел в эту машину и тут же почувствовал во рту кляп. Его связали, и машина на большой скорости устремилась к Ужгороду, где по прибытии его развязали и предъявили ордер на арест.
Всей тяжести своего положения при всей своей приземленности он, несмотря на приключение с кляпом, не сознавал. Он уже понимал, что теперь вернуться обратно в Будапешт ему не удастся, но наивно примерялся к жизни в Москве, соглашался на то, что придется с женой (которая к нему, конечно, приедет) жить в двухкомнатной квартире. Тесновато, но — что поделаешь? — придется. Это в Москве 1948 года, где и снять комнату при наличии прописки и советской полноценности было непросто. Не говоря уже о том, что не видать ему было Москвы как своих ушей. Он и после кляпа никак не мог отрешиться от представления о торжестве логики и каких-то нормах. После кляпа осознать тотальное отсутствие всего этого, вероятно, было еще страшнее.
Но в наивности его иногда сказывался и отпечаток иного воспитания. Помню, одну на вид забавную, а по существу знаменательную психологическую деталь. Однажды он поделился с нами тем, что на следствии попал в трудное положение. Состояло оно вот в чем. Почему-то у всех недобровольных (а часто и у добровольных) реэмигрантов следователи подробно выспрашивали, так сказать, географию их биографии — где, когда и почему был и жил. Не обошла эта судьба и нашего юрисконсульта. Ответы на эти вопросы обычно ни ему, ни другим не доставляли затруднений. Но он никак не мог объяснить следователю, почему он в таком-то году проторчал три месяца в каком-то европейском городе, допустим в Вене. Это доставляло ему много неприятных минут, стимулировало «прозорливость» следователя: вот где настоящие конспиративные связи. А этот более чем земной человек, отнюдь не стремившийся к осложнениям, упорно запирался, что его самого очень расстраивало.
— Но понимаете, — говорил он мне, — в это время у меня был роман с женой Р-ва. Не могу же я компрометировать женщину.
Подумать только. Столько лет прошло (впрочем, по нынешнему моему ощущению, не так уж много — года двадцать три), столько событий прогремело, какие метаморфозы претерпели его жизнь и все жизни вокруг него, а он в трудную для себя минуту, по-прежнему, думает о том, чтобы не скомпрометировать доверившуюся ему женщину (где? перед кем?). Из уважения к этой его озабоченности я и не назвал полностью фамилию его патрона, хотя какое это сегодня имело бы значение!
Но другой «нахально репатриированный» эмигрант, Константин Иосифович Коновалов, относился к своему товарищу по несчастью без всякого умиления:
— Я таких знаю, — говорил он, — у них на нуждающихся русских копейки было не выпросить. Только о себе заботились.
Думаю, что впечатление Константина Иосифовича было верным, оно не расходилось с моим. Ему, хлебнувшему лагеря (об этом чуть ниже), были, как и мне, смешны все «трезвые» расчеты юрисконсульта на устройство в московской жизни. Но все же мне было жаль этого юрисконсульта. Человек он был, конечно, грешный, но в элементарном смысле порядочный и упорядоченный, нормальный. И неминуемое для него еще более тесное (в обстановке лагеря) соприкосновение с миром, где нормы играли только декоративную роль, было гораздо страшней, чем для многих. Да он еще и старше был, чем все мы.
Сам Константин Иосифович, безусловно, от помощи собратьям не уворачивался никогда. Но при этом говорил о себе, что всегда сторонился русских колоний.
— Там сколько людей, столько и партий, и все грызутся между собой.
Мне он очень нравился, Константин Иосифович, и я всегда вспоминаю о нем с удовольствием. Учился он в Льеже, в колледже, на средства и под руководством отцов-иезуитов, которые требовали дисциплины, но вовсе не пытались перетянуть его в католичество. Кстати, там же с ним учился и мой бостонский друг, выдающийся физик-оптик Олег Борисович Померанцев, один из самых благородных людей в моей жизни, богатой хорошими людьми. Он помнил «Костю» и даже показывал мне фотографию студенческой компании, на которой они были оба запечатлены. Потом Константин Иосифович стал «инженером-агрономом» — по-нашему инженером-пищевиком — и специализировался как инженер-пивовар.
Был он, как и Олег Померанцев, человеком глубоко русским — в эмиграции это ходячее определение обретает смысл. Он мне рассказывал, как присутствовал на лекции выдающегося специалиста в их области, носившего русскую фамилию. После лекции К. И. подошел к нему и заговорил. Лицо докладчика выразило крайнее недоумение, лоб наморщился. И вдруг оно осветилось улыбкой — догадался:
— Фи русски? — спросил он и еще шире заулыбался. — Я тоше русски…
Ирония и чувство превосходства тут неуместны. Кто знает, через какие испытания пришлось пройти этому человеку, какими обстоятельствами его отрывало от своих, от своего языка.
Правда, и самому К. И. пришлось пережить достаточно. Я очень любил слушать его рассказы о себе, о Гражданской войне, о жизни на Западе — всего этого я ведь тогда не знал.
По происхождению донской казак, он во время Гражданской войны учился в кадетском корпусе где-то в Крыму, куда корпус эвакуировался вместе с Белой армией. О корпусе помню только, что там был очень хороший преподаватель Закона Божия. Иноверцы на его занятия не приглашались. Но один кадет, калмык по национальности, очень любил эти занятия. Он неизменно приходил на каждое из них и докладывал:
— Батюшка, разрешите присутствовать.
— Что ж, давай присутствуй — так же неизменно соглашался батюшка, и занятия начинались. Это для меня было ново. Гимназические преподаватели Закона Божия в советских книгах изображались тупыми реакционерами, мишенью ученических проделок и шалостей. Что это может быть интересно, мне тогда и в голову не приходило.
Потом была знаменитая врангелевская эвакуация, о которой я знал только по сатирическому описанию Маяковского из поэмы «Хорошо!», мало соответствовавшему реальности. Корпус в полном строевом порядке погрузился на указанный ему корабль, и вскоре вся эскадра двинулась к анатолийским берегам. Утром подошли к Босфору, где их ждала эскадра союзной Англии, ради выполнения союзнического долга перед которой многие эвакуирующиеся и вступили в Гражданскую войну. И сразу началась для них драма эмиграции. На английском флагмане был поднят приказ: «Спустить русские флаги». Положение казалось унизительным и безвыходным: выходило, что боевой эскадре противостояла эскадра транспортов. Но это было не так. Вперед вышел хорошо вооруженный модернизированный русский крейсер (название которого я забыл) и направил свои дула на англичан. Русская эскадра не сбавляла ходу. Драматизм нарастал. И тогда на английском флагмане был поднят другой сигнал: «Поздравляю с благополучным прибытием», и англичане расступились, давая проход. Инцидент был исчерпан, но солидарность с теми, кто и в несчастье оставался до конца верен своим обязательствам, — обнаружена.
Потом корпус был дислоцирован в разных местах. Какая-то часть кадетов окончила его потом в Марокко или Алжире. Но до этого корпус одно время разместили под Хайфой, в Палестине, бывшей тогда подмандатным владением Англии. Там однажды вместе с горячо любимым «батей» (полковником, начальником корпуса) перед строем кадетов появился английский генерал.
— Good morning, cadets! — приветствовал он строй. По-видимому, из кадетов собирались готовить офицеров британских колониальных войск. Ведь у бездомных не было выхода, а этот выход был почти почетным. Но кадеты — основательно или нет — думали о себе иначе. Ледяное молчание было ответом на это приветствие. Генерал два раза повторил его, результат был тот же.
— Что они у вас, глухие? — спросил он полковника.
— Да нет, — ответил тот и в свою очередь обратился к строю:
— Здорово, кадеты!
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — дружно гаркнул строй.
Англичанин удалился. Корпус стали расформировывать. Как и всю русскую армию, дислоцированную на полуострове Галлиполи в Дарданеллах. Какая-то часть кадетов, как уже говорилось, уцелела до его окончания в Северной Африке (это я знаю из других источников, но как это происходило, не знаю), но К. И. пошел ковать свою судьбу самостоятельно. Через Софию и, кажется, Белград он как-то — собственным трудом и с помощью благотворительных организаций — добрался до колледжа. Потом работал много в Бельгии. Рассказывал о валлонско-фламандской распре. Во Фландрии на почте с ним не хотели говорить по-французски, заговорили — и очень хорошо — только, когда узнали, что он не из принципа, а иностранец. Культура не освобождала от националистического бреда. Нечто подобное переживает сегодня Квебек, но тогда для меня это было первое впечатление об этой болезни.
Интересны были рассказы К. И. о русской политической жизни в эмиграции, об ее многоликости. Политикой он не занимался, не верил в перспективность этих занятий, но политическими движениями и политической мыслью эмиграции интересовался очень. Оказалось, что существует великое разнообразие групп и партий. Одна, вполне монархическая, называлась даже Вторая Советская — советская власть под эгидой дома Романовых. В эмиграции я узнал, что у этой партии было еще одно название — младороссы… Вождем этого движения был Кязим-бек. Был «Союз возвращенцев», рядом «Союз невозвращенцев». За этим кипением умов и страстей К. И. предпочитал наблюдать издали.
Во время войны он переехал на родину жены — в Болгарию. Рассказывал он о Болгарии не так много, но между делом упомянул о странном для меня факте. Оказывается, во время войны фирмы, выпускавшие молочные и некоторые иные продукты, выпускали свои товары и специально для детей, которые продавались по более низким ценам. Они продавались в обыкновенных магазинах, но в специальных упаковках и — в чем собственно и странность — они и покупались только для детей. Большая часть нации разделяла эту заботу о подрастающем поколении и не раскупала их на другие, тоже насущные нужды. Меня это до сих пор восхищает.
В Болгарии К. И. тоже работал по специальности — варил пиво. Боюсь, что это его и погубило. Когда в Болгарию пришли его соотечественники, многие из них проявили глубокий интерес к его продукции, и он из-за этого стал для них в своем городке заметной фигурой. Сначала для солдат и офицеров, которых он охотно потчевал, а потом и для органов бдительного СМЕРШа. И когда (я так думаю) пришла разнарядка на эмигрантов, его и искать не надо было — он был на виду. Во всяком случае через несколько месяцев после «освобождения» его схватили и привезли в Москву. Здесь он получил свои восемь лет и уехал в лагерь. Теперь он был привезен из лагеря на переследствие — вряд ли для того, чтоб смягчить его участь, скорее всего, появилась зацепка и забрезжила возможность добавить срок.
Чувствовать себя во власти бесчеловечной и бессмысленной силы, так исказившей и продолжающей искажать всю его сугубо частную жизнь, — тяжело. У него ведь не было упований на диалектику и других возможностей обманывать себя — патологичность этой силы он видел ясно. В свете этого его дальнейшая судьба выглядела для него безотрадно, а возможность вернуться к своей семье, к своей частной жизни — фантастикой. И он не мог об этом не думать. Но я помню его всегда сдержанным, спокойным, доброжелательным, умным, и — благородным. Какое-то доброе достоинство исходило от всей его личности. Надеюсь, что он дожил до времен, о которых А. Галич сказал: «грянули впоследствии всякие хренации», и все-таки увидел свою семью. И мне очень жалко, что мне так и не привелось больше встретиться с ним — ни в неволе, ни на воле, ни в России, ни за границей.
Четвертым и последним, кого я застал в камере, был живой и смуглый человек, очень активно и заботливо помогавший мне устраиваться. И только когда принесли ужин, и мы уселись за столом, я увидел, что он плохо говорит по-русски. Встал вопрос: кто он? За него словоохотливо ответил юрисконсульт:
— Филиппо — итальянец. У итальянцев свой способ ведения войны — они сдаются в плен. Когда они были союзниками немцев, они сдавались их врагам, когда они перешли на другую сторону, они стали сдаваться немцам. Филиппо относится ко второй категории, он сдался немцам, а русские его освободили.
В этом смысле ему очень не повезло. Ибо, будучи человеком естественным, он попал в мир, где естественного оставалось мало. И понять этого по неграмотности он не мог. А неграмотен он был чудовищно. Он не знал ни одного языка, даже итальянского, только dialetto ciciliano (диалетто чичильяно) — сицилийский диалект. А волей судьбы ему приходилось говорить на всех европейских. Иногда сразу. Например, обычно после обеда он объявлял:
— Сейчас я буду немного spatsiren (шпацирен, нем. — гулять), а потом я буду немного dormir (дормир, фр. — спать).
О смысле и взаимодействии этого объявления с Лубянским распорядком я еще буду говорить, а сейчас я говорил только о языке Филиппо и расскажу об его истории. История весьма удивительная. У себя дома он был облицовщиком мрамора. Потом его взяли на войну, и, действительно, он попал в плен к немцам и был освобожден нашими. Была создана целая итальянская часть, дожидавшаяся отправки на родину, ее разместили в Черновцах. И все должно было быть хорошо. Но Филиппо нашел себе в Черновцах «девочка-абреечка» и, когда часть отправили на родину, остался с этой девочкой в Черновцах, естественно, не поставив в известность никакие власти. При чем тут власти, если есть «девочка-абреечка», и она согласна. Я его за это назвал «Romeo di cento vente» (Ромео двадцатого века), и он был польщен — все-таки знал, кто такой Ромео. Но потом то ли девочка ему надоела, то ли он ей, то ли ностальгия заела, но он решил возвращаться домой. Решение в его глазах совершенно естественное, личное, никого, кроме него, не касающееся. Как человек бывалый, он знал, что для въезда в Италию нужна виза, виза дается в посольстве, а посольство находится в Москве. Он и отправился в Москву, узнал откуда-то, что ambasado italiano (итальянский посол) с посольством временно размещается в Гранд-отеле. Приехав в Москву, он каким-то образом разыскал и отель, и посла! А тот, будучи осведомлен об СССР немногим лучше, чем сам Филиппо, выдал ему визу, объяснил, что ехать надо через Одессу (там сесть на пароход) и счел вопрос о возвращении Филиппо на родину исчерпанным.
Что кто-то может задержать этого сицилийца в СССР, ни одному здравому человеку не могло прийти в голову. Но здравости вокруг ни у кого не было (а у кого была — скрывал ее). Ведь товарищ Сталин нацелил партию, страну и, уж конечно, органы на борьбу.
И органы не дремали. Тревога, вызванная Филиппо, как я понимаю, началась еще в Москве. Как же! — неизвестный зашел в капиталистическое посольство! Практически пересек государственную границу. Что это, если не ЧП. После этого его из поля зрения уже не выпускали. Работали. Обнаружили, что он отправился на Киевский вокзал. Дело становилось все более серьезным — вокзалы ведь и существуют для заметания следов. Но «нас» он не обманет. «Мы» знали о нем все: он сел в одесский поезд, по дороге встреч ни с кем не имел — конспирировал, скотина! — а в Одессе он отправился в Морской порт и попытался покинуть пределы нашей страны, — причем не имея советских документов! Тут «мы» и пресекли его подозрительную деятельность. Арестовали. И наткнулись на другое ЧП. Оказалось, что при попытке незаконно покинуть территорию СССР арестовали человека, которого на этой территории официально не было. То есть что органы его проморгали. И тут уж хочешь не хочешь пришлось делать из Филиппо шпиона. Тогда все начинало выглядеть достойно — «проморгали» превращалось в «раскрыли», упущение — в апофеоз бдения. Работа большого количества работников и затраченные средства (о средствах, правда, никто не думал) не пропали даром. Не знаю, правильно ли я излагаю подробности психологии сталинских чекистов, но сюжет излагаю точно.
Когда я появился в этой камере, из Филиппо уже несколько месяцев раскручивали шпиона, чему он яростно и обиженно сопротивлялся. И почти первое, что я услышал от него при знакомстве, было: «Я не шпион». Видимо, ему казалось, что все в этой стране воспринимают его присутствие здесь как шпионаж. Он немножко даже тронулся на этой почве — из того сицилийского городка, где он жил, может, выходили иногда крупные мафиози, но международные шпионы очень не часто.
Я не верю, что те следователи, которые вели его дело, — при любом своем умственном уровне — хотя бы на минуту могли поверить в реальность своего обвинения. Думаю, что надзорсостав, имевший дело с «Филиппом», долго бы смеялся надрывным, хотя и подавленным смехом, услышав, что он — шпион. Да и кому угодно трудно представить, что существует разведка, которая может послать человека такого интеллектуального уровня в чужую и непонятную ему страну и ждать от него квалифицированных сведений. Это если вообще представить, что Италия в 1947 году нуждалась в секретных сведениях об СССР (для классовой борьбы, что ли?) — у нее в эти послевоенные годы и своих забот хватало. Но страшный механизм крутился, и Филиппо, попавший в его жернова, перемалывался в шпиона. Сталинское государство продолжало нуждаться в шпионах (разоблаченных, конечно) и производило их из любого подручного материала.
А пока Филиппо жил в камере № 60. Был очень доброжелателен и услужлив. Вызывали его редко, и время от времени он писал обращения к следователю (Signore excelence komissare! — Ваше превосходительство, господин комиссар!) или прокурору (Signore excelence procurore! — Ваше превосходительство, господин прокурор!), естественно, безрезультатные.
Были у него и странности. Почему-то он ни за что не хотел ходить на прогулки — думаю, что так проявлялась его депрессия. Также не желал он бриться и стричься (процесс, производимый, если помнит читатель, одной и той же машинкой). Но если прогулка считалась делом добровольным, то стрижка головы и бритье относились к гигиене и были обязательными. Однако Филиппо на стрижку ни за что не соглашался. Почему он это делал, я и теперь не понимаю — он вовсе не стремился завести себе бороду. Но он на этом стоял. Необычность этого сопротивления ставила в тупик надзирателей и администрацию. Только один начальник смены однажды нашелся. После очередной стрижки, когда все мы, кроме Филиппо, уже прошли эту процедуру, появился этот начальник и объявил:
— Филипп, к комиссару!
Филиппо быстро собрался, он любил ходить на допросы, ему казалось, что там что-то выясняется. Минут через пять его вызвали, а еще минут через двадцать упирающегося Филиппо втолкнули обратно в камеру и поспешно заперли за ним дверь. Предосторожность была не лишняя. Ибо, как только его перестали держать, он с яростным возмущением, потрясая кулаками и крича:
— Satana!.. Diabolo!. — бросился и на запертую дверь. И только тут мы осознали, что он кругом побрит-острижен. Насильно, конечно. Безусловно, налицо было кричащее нарушение прав человека, но, честно говоря, нас оно не возмутило, а скорее развеселило. На фоне того, что с нами, включая того же Филиппо, здесь каждый день происходило, это нарушение прав не могло произвести сильного впечатления. Да и так ли уж худо время от времени бриться? Над его несчастьем все мы подшучивали, хотя относились к нему хорошо. Да и сами надзиратели не желали ему зла и относились к нему скорее иронически-добродушно и не считали, что приносят ему зло. Для любого другого его эскапады закончились бы карцером.
Впрочем, за ним числилось и хроническое нарушение тюремного распорядка. Касалось оно послеобеденного сна. По этому поводу он и говорил, что будет «немного dormir». Но дело в том, что это dormir тюремным распорядком строго запрещалось. От подъема до отбоя арестанты не имели права находиться в лежачем положении. Порядок был строг. Для всех, кроме Филиппо. Он после обеда произносил уже приведенную мной фразу и, хотя dormir было строго запрещено, походив по камере, аккуратно стелил себе постель и ложился. Что тут поднималось!
Но пока смены чередовались по утрам, все как-то образовывалось. Надзиратели как-то с этим мирились. В конце концов никто ему не подражал, сам «Филипп» был несколько не в себе. Но потом смены стали передаваться после обеда, когда как раз Филиппо положил себе почивать. А сдать смену, когда у тебя непресеченное нарушение порядка, никому не улыбалось. Филиппо будили и приказывали встать. На это он отвечал:
— Начальник тюрьма знает.
Начальник тюрьмы, действительно, знал, но велел ни в коем случае этого не допускать. А Филиппо не вставал. И никто не мог ничего с ним поделать. Но когда должен быть сдать смену тот начальник, который его обманул со стрижкой, он опять нашелся. Так же, как в первый раз, громогласно объявив:
— Филипп, к комиссару.
Филиппо быстро оделся. Так он и остался сидеть, как дурак с мытой шеей, никто за ним не пришел. Но при сдаче смены все было в ажуре — в камере лежащих не было. Этот обман Филиппо вынес молча — никаких эскапад с его стороны не последовало.
А вообще был он трогателен. Поскольку по средам и пятницам он, как добрый католик, мяса не ел, он все волокна мяса, встречавшиеся в супе (какое на Лубянке мясо?), использовал на бутерброды, чтоб съесть их в более скоромные дни. Так вот этими бутербродами (а ведь и порции хлеба были отмерены!) он угощал других. Например, меня, когда я появился в камере. Но зато, когда я получил очередную передачу от матери (а она их передавала сколько могла), он, после того как я угостил всех сокамерников, попросил лишний мандарин. Этот грузинский мандарин был для него живым воплощением Италии. Вообще при всей его малограмотности была в нем какая-то европейская, точнее, романская грация, и вот такое изящное благородство — особенно ощутимые на фоне нашего другого малограмотного сокамерника — каракалпака (о нем ниже).
Когда поняли, кто он по профессии (облицовщик мрамора, облицовывал ступени в домах и дворцах), кто-то сострил, что ведь и Лубянка — дворец (палаццо), стало быть, здесь тебе и в карты в руки, он грустно произнес:
— Да, палаццо… Палаццо!.. Палаццо дель Лубьянка.
— Филиппо, поедешь в Италию? — спрашивали у него.
— Ой, не скажи такой слово! — отвечал он грустно.
Есть много оснований надеяться, что Италию он все-таки увидел. Вскоре после смерти Сталина, уже в 1953-м, кажется, году, я узнал из газет, что группа итальянцев, содержавшихся в советских местах лишения свободы, освобождена и отбыла на родину. Надеюсь, что Филиппо Нери дожил до этого дня. Какую память унес он о нас и нашей стране? Надеюсь, не только черную.
Правда, дома его ждало еще одно испытание. Ему наверняка очень трудно было убедить жителей своего городка, что то, что он рассказывает им о себе, с ним действительно было. Уж слишком неправдоподобно это выглядело. Люди гораздо более искушенные не верили в подобное.
Помню, как гораздо позже другой итальянец, умный и образованный, возмущенно не поверил мне, когда я рассказал ему историю моего товарища по ссылке, корабельного механика Володи Вильневшица. Тот был арестован во владивостокском порту, когда его судно пришло из Японии, и препровожден в НКВД. На допросе выяснили только анкетные данные (имя, фамилию и прочее). Поскольку он был поляком и имел родственников в Польше, спросили еще, не переписывается ли он с ними, и выяснили, что уже лет семь не переписывается, ибо вообще не любит писать письма. И это все, о чем шла речь. Почему его арестовали и в чем обвиняют, он так на этом допросе не узнал. А больше допросов не было. Вызвали его только через несколько месяцев, но уже не на допрос, а для зачтения приговора. Он получил десять лет за контрреволюционную деятельность (КРД) и отсидел их «от звонка до звонка». А потом ему за это же еще и вечную ссылку добавили. В ссылке он и умер, так и не узнав, в чем дело.
— Нет! — вскричал мой итальянский приятель уже в 1973 году, после всей «критики культа личности». — Нет! Никогда не поверю! Чтобы государство само просто так создавало себе врагов! Не верю! Этого и при Муссолини не было.
И он был прав. Этого не было даже при Гитлере. А при Сталине бывало. И совсем не редко. Я бы и сам не поверил такому рассказу, если б не знал Вильневшица и не слышал сотни похожих. Если б не знал, что это так. Сила построенного Сталиным государства — в его неправдоподобности.
Если мне не изменяет память, я рассказал обо всех, кого застал в камере № 60 при своем появлении там. Может, был там еще кто-то, кого я забыл, но тут ничего не поделаешь. Помню этих четырех. Четыре человека — четыре трагедии. Они стали бытовой нормой для всех, кроме юрисконсульта, который никак не мог привыкнуть к тому, о чем сам говорил как о «теории невероятностей», господствующей в лубянском праве. Остальные привыкли.
Я отнюдь не был тогда приверженцем правовых норм, а токмо «революционной целесообразности». Но, хотя в своем мировоззрении я оставался «стойким, несмотря ни на что», сочувствие людям, жившее во мне, все равно незаметно подтачивало эту стойкость и само мировоззрение. Я явно начал «сближаться с классовым врагом» и с «мещанской стихией».
А Лубянка продолжала разворачивать передо мной картину нашей истории во всей ее запутанности и полноте. Скоро я увидел первого власовца. Мы ведь тогда почти ничего не знали о Власове и власовцах: изменники, предатели, пособники нацистов — и весь разговор. И вот сидел передо мной такой изменник, по типу добряк, какими часто бывают умелые, крупные и сильные мужчины, смотрел добрыми глазами и рассказывал о себе удивительные вещи. И хотелось его слушать, а ненавидеть не хотелось. Имя, отчество и фамилию этого человека я, к сожалению, тоже начисто забыл — назовем его для удобства придуманным именем Иван Михайлович (я и впредь в таких случаях буду давать реальным людям выдуманные имена).
Иван Михайлович был высококвалифицированным человеком — паровозным машинистом. До войны машинистом депо станции Конотоп, а после войны — работал на Воркутинской железной дороге, принадлежащей тогда НКВД. Оказывается, не всех власовцев сразу посадили в лагеря, многих (какую часть, я не знаю) просто загнали в ссылку — на Воркуту, в Кузбасс, возможно, куда-нибудь еще.
Поразившая меня деталь — и до войны, и после нее Иван Михайлович работал очень хорошо, был стахановцем и передовиком производства. Меня это поначалу шокировало. Как же так — прямо от сидения в президиумах во власовцы, а потом опять в передовики производства (только без президиумов). Но что делать, если хорошая работа была стихией его жизни. А президиумы — зола.
На Лубянку из ссылки Ивана Михайловича привезли не потому, что он был власовцем (власовцев вокруг было много), а по «открывшимся обстоятельствам». Открывшимся обстоятельством было его пребывание во власовской школе пропагандистов в Дабендорфе под Берлином. Так что виток оказывался еще круче — от чествований под красными знаменами до враждебной этим знаменам пропаганды. Все так. Но ведь жил до войны этот стахановец на Украине, пережил «голодомор», и все, что он знал и видел, но что было задавлено страхом и пропагандой, легализовалось в сознании, когда он оказался в плену. Да и могла ли сталинская бесстержневая пропаганда создать прочное мировоззрение, устойчивое по отношению к другой, тоже социалистической и тоже тоталитарной? Он рассказывал, что ведь и у немцев сельское хозяйство было в значительной степени социализировано, только более разумно. «Бауеры» хозяйничали сами, а молоко, например, по утрам выставляли за ограду, где бидоны подбирались специальными грузовиками. Они не имели права самостоятельно распоряжаться плодами своего труда (у них тоже была плановая экономика), но все у них скупается государством, и они довольны. В общем (этого вывода он вслух не делал), все это разумнее, чем у нас.
Конечно, этому поддавались не все. Та же Галя Якубская, о которой я рассказывал в первой части (оказалось, что она была женой не венгерского, как кто-то мне сказал, а советского офицера), рассказывала, как с ней вместе (она была вывезена в Германию как «остарбайтер») ушли из лагеря на Восток, на родину, двадцать молодых советских офицеров. Правда, при прибытии на родину они все были расстреляны, но это другая тема. Для нас тут важно, что такие офицеры и солдаты были и что их было немало. Из того, что офицерам этим я сочувствую больше, нельзя делать вывод, что я в чем-то осуждаю Ивана Михайловича. В той круговерти, в которой он (да и вся страна) оказались, трудно определить, какая дорога правильная. Ставка на Гитлера и даже на то, чтоб в удобный момент перехватить у него инициативу, была самообманом. Но хотеть избавиться от тех, кто способен был на деяния аналогичные убийству этих офицеров, — не преступно.
Но вернемся к Ивану Михайловичу и к его следствию. Курсантство свое в Дабендорфе он поначалу полностью отрицал, говорил, что служил только в охране. Потом как-то плавно признал, что да, конечно, преподаватели школы иногда читали лекции и им, охране, но это только в порядке, так сказать, политпросвещения масс — пропагандистов из охранников не готовили. На этом он, по-моему, и стоял до конца, до того, как его забрали из нашей камеры. Не знаю, удалось ли ему удержаться на этой версии. О ней самой я тогда не думал, но сейчас, на расстоянии, задним числом, я в нее не шибко верю, но искренне хотел бы, чтобы ему на своей версии удалось тогда настоять.
Хотел бы потому, что в глазах советской власти быть пропагандистом враждебной стороны было страшнее, чем быть палачом. Проявление другого восприятия событий нарушало заколдованность общественного сознания, на которой все держалось. Тем более что власовская пропаганда, о чем я узнал потом, была совсем не то, что немецкая. Да немецкой практически и не было — не та заинтересованность, да и как она могла быть серьезной, если Гитлер приказал прекратить в своей среде всякие разговоры об освободительной миссии германской армии в России. Солдаты должны были знать, что шли захватывать, а не освобождать. Идею «освободительной миссии» полагалось использовать только для пропаганды по ту (по нашу) сторону фронта для локальной цели — обмана и разложения противостоящих войск. Как при такой презумпции немецкие пропагандисты могли быть убедительными — зная, что врут от начала до конца? Это ведь сказывалось. Поэтому германские листовки были столь механистичны, топорны и недейственны. В германских военных успехах начала войны роль пропаганды среди войск и населения противника была мизерна. Победы достигались без них и помимо них.
Те, кто учил власовских пропагандистов, были искренни. И не собирались обманывать соотечественников (разве что и сами в чем-то обманывались). Далеко не все из их курсантов были антисоветчиками до войны. Но то, что на них обрушилось, то, что легализовалось в их сознании, требовало ответа. Я не считаю их выбор хорошим, но не могу за него судить.
Иван Михайлович много рассказывал о преподавателях этой школы, о людях, с которыми я лет через двадцать пять познакомился, а кое с кем и подружился. Хорошо помню, что он употреблял имена Околовича, Поремского. Тогда эти имена для меня ничего не значили, теперь значат. Рассказывал он и о каком-то Роковиче, поджигавшем в начале тридцатых колхозные амбары и ловко уходившем от погони. Действия эти мне и теперь не представляются разумными. Но от Ивана Михайловича от первого я услышал, что Вторая дивизия РОА генерала Буйначенко, в которой он служил, в последние дни войны поддержала народное восстание в Праге, выбила из города немцев и тем спасла его от запланированного уничтожения. Сотрудничество власовцев с врагом было не слишком сердечным.
Все, что рассказывал этот человек, было удивительным, сногсшибательным, расходившимся со всем, что я знал и чувствовал до сих пор, но я почему-то сразу ему поверил — в смысле реальности сообщаемых им фактов. И сложность фигуры и положения Власова я тоже тогда впервые, конечно, еще не понял, но почувствовал благодаря Ивану Михайловичу. Так и вижу перед собой этого высокого, мощного, добродушного украинца, который, как бы и сам удивляясь, но и наслаждаясь воспоминаниями, между делом рассказывает такие удивительные для меня тогдашнего вещи.
Я еще не знал, насколько в страданиях таких, как он, в самом их пленении, которое официально считалось темным пятном на биографиях многих и многих, не только власовцев, был персонально виноват Сталин, его невежество и дурная воля. 22 июня 1941 года вся приграничная армия была организованно подставлена им под удар, практически выдана противнику, из-за чего население полстраны оказалось под оккупантами, а спрашивать за это после войны стали с подставленных и оккупированных. Даже если они были оставлены на свободе, они обязаны были утвердительно отвечать на вопросы всех анкет: «Были ли вы в плену?» Или того интересней: «Находились ли вы во время Великой Отечественной войны на территории, временно оккупированной противником?» И этот ответ превращал их в граждан второго сорта.
Я был тогда еще глуп, и дух мой, выражаясь языком Чеслава Милоша, был плененным, но все-таки человеческую невиновность всех этих людей я чувствовал. Чувствовал, что их подхватило поднятой не ими злой волной и понесло… Лубянка учила.
Тема пленных была тогда на Лубянке «модной». Они были почти во всех камерах, о плене и возвращении были почти все рассказы. У нас к этой теме имели отношение еще три человека, в разное время сидевшие в нашей камере. Два — ближе к концу моего пребывания в ней и один — примерно с середины. Рассказ об этом третьем я отложу на позже. А сейчас буду говорить о первых двух. Запомнил я только имя одного из них, а другого опять не помню ни имени, ни отчества, ни фамилии. Начну все-таки с него. Справедливо или нет, к нему одному из всех встреченных мной «пленяг» (словечко более позднего происхождения) я относился с глухим недоверием. Был он из Нижнего Новгорода, тогда Горького, там был вроде партийным работником (в то время это в моих глазах человека не компрометировало), говорил, что в немецком лагере состоял в подпольной антифашистской организации военнопленных.
Неправдоподобного в этой ситуации — антигитлеровский подпольщик в советской тюрьме — не было ничего. Великий вождь не терпел и такой самодеятельности: не поручили — не бунтуй, хоть и против врага. От человека, способного к самодеятельности «там», неизвестно чего ожидать здесь. Так были воспитаны его органы: хватай, не думая зачем, всех, кто высовывается. Да и вообще не притворство ли все это было, чтоб завоевать доверие, а потом вредить? Короче, по всем параметрам сталинщины — такого надежнее посадить. Недоверие мое вызывала не ситуация, а он сам. Его любимые речения: немецкое — «Ауфштейн — нихт ферштейн, абер эссэн нихт фергессен» («Встать (с постели)! — не понимаю, но есть — не забываю») или русское — «При советской власти неплохо жили, и при всякой не пропадем», которые он довольно часто с удовольствием повторял, как мне казалось и кажется, гораздо больше говорили о среде его лагерного обитания, чем его рассказы. Я не утверждаю, что на нем лежат тяжелые вины или что он на Лубянке сидел не зря. Я этого не знаю. Кроме того, и его не надо было подвергать испытаниям — сдавать в плен и не защищать Красным Крестом. Я вообще не знаю той меры страданий, которые довелось испытать этому человеку (а она в любом случае не мала). Я просто говорю, что исходило от него какое-то ощущение нечистоты и что был этот нижегородец мне неприятен. Допускаю, что это впечатление ложно, но оно было именно таким. Ничего особо интересного или существенного он о себе не рассказывал. И мне не запомнилось.
Второго «пленягу» звали Сережей. Когда я думаю о нем, сердце мое наполняется теплом и болью. Хотя по взглядам он был антисемит. Теоретический, не определяющий общим своим убеждением отношение к живым конкретным людям. Причем антисемитизм этот возник в плену и под воздействием гитлеровской пропаганды, хотя идеологии гитлеризма он остался чужд. Но он поверил пропагандистской фальшивке.
Ему показали советскую газету со статьей Эренбурга. Газета выглядела подлинной и статья была подлинной. Но в этой статье был подменен один абзац. Вместо подлинного, вырезанного, был вмонтирован другой. Статья в целом в духе всей нашей военной пропаганды призывала советских воинов прийти в Германию и отомстить. И поэтому вставленный абзац, где о пленных говорилось, что они предали родину и теперь объедаются в плену шоколадом и другими изысканными яствами, а советский воин призывался, придя в Германию, отомстить и им — выглядел почти естественно. И никакими доводами нельзя было убедить Сережу, что это подделка, что это противоречит всей советской военной пропаганде, неустанно расписывавшей именно ужасы плена и страдания пленных, что Эренбург такого не писал, а если б сошел с ума и написал, то никто бы этого не напечатал, ибо это описание блаженства в плену политорганы сочли бы пропагандой сдачи в плен (раз там так хорошо, то все и побегут). Ничто не действовало — он сам видел эту газету, а полиграфические фокусы были ему неведомы. Он был глубоко оскорблен этой статьей и ненавидел Эренбурга, а с ним всех таких евреев. Но при этом был он человеком абсолютно светлым и обаятельным: широкое веснушчатое, почти мальчишечье лицо, спокойное доброжелательное выражение больших серых глаз, общее ощущение разумности. По профессии он был шофер-механик, и в плен в 1941-м завела его профессия — выполняя задание командования, заехал на своем грузовике туда, куда его послали, а там уже были немцы.
Это был не первый удар судьбы. Вот уж по ком история его страны проехала всеми своими гусеницами. В начале тридцатых его мать раскулачили. Именно мать, ибо отец, который в середине двадцатых считался зажиточным, давно умер. «Кулачка» эта четвертый год была вдовой и еле сводила концы с концами. Это было нелепо, но против разнарядки не попрешь. Нелепость этого раскулачивания была настолько очевидна, что ее даже не выслали, она просто ушла жить в соседнюю деревню, потом стала работать в колхозе, а Сережа, выучившись на шофера, стал работать в Москве. Оттуда и ушел на фронт, фактически в плен.
В плену он работал на заводе, обтачивал детали. Его сменщиком был пожилой немец, квалифицированный мастер. Сережа ему понравился с самого начала. Он часто даже приносил ему из дому что-нибудь поесть. Но главное, в первый же день он объяснил Сереже правила игры: Сережа должен за смену обтачивать восемь деталей, а сам он, как немец, будет обрабатывать десять. И генуг. Немец этот явно не питал теплых чувств к Гитлеру. Так они и жили довольно долго. Но потом на их горе прибыл с Украины какой-то стахановец-доброволец и в первый же день обработал двадцать деталей. Немцу был большой втык, и потом он говорил Сереже, ругая нового коллегу:
— Плохой человек. Никакой солидарности.
А где мог получить представление о солидарности советский стахановец?
Но это еще не было бедой. Беда пришла примерно в марте 1945 года, когда война шла уже к концу. Сережа случайно сломал станок. Ему грозил трибунал за саботаж и расстрел. Чтобы избежать этой судьбы, он подал заявление в разведшколу. И тогда — в марте 1945-го! — был в нее зачислен. Естественно, он понимал, что закончить эту школу он уже не успеет. Думаю, что и немцы это понимали, но тоталитарная машина продолжала работать — такое понимание называлось пораженчеством. В конце концов вся разведшкола — она в основном состояла из русских — поднялась и в полном боевом порядке вместе с командованием ушла в Швейцарию, где была интернирована. Сережа стал работать у бауера. Бауер не мог нахвалиться на своего нового работника и хотел даже выдать за него свою дочь. Но Сережу манило домой. Его уговаривали не губить себя, но он подал заявление и вернулся. При проверках рассказал обо всем, кроме как о разведшколе. Вернувшись, стал работать в гараже возле Парка культуры. Все шло хорошо. Но через год-полтора вдруг пришел некто и попытался договориться с ним о ремонте швейцарской машины, привезенной им, дескать, из Германии. Сережа ответил:
— Да бросьте вы… Я ведь знаю, откуда вы.
Тот запротестовал: «Что ты, что ты…»
Но скоро, конечно, Сережу арестовали. Когда его спросили, почему он скрыл от репатриационных властей, что учился в разведшколе, он ответил прямо:
— А хотел немного дома на свободе пожить.
И вот официальный советский портрет Сережи: кулацкий недобиток, из ненависти к советской власти добровольно сдавшийся в плен к немцам вместе с доверенным ему Родиной грузовиком, укреплявший германскую военную мощь работой на заводе, за два месяца до крушения Германии, когда ее гибель была неминуема, добровольно пошедший в их разведшколу — чтоб и дальше как можно больше вредить советской власти.
Разумеется, я не читал этой характеристики. Но вряд ли та, которая была приложена к делу, пошедшему в трибунал или ОСО, сильно отличалась от придуманной мной. Все это как бы основано на фактах, но при этом, как видит читатель, все это от начала до конца наглая ложь и просто чушь собачья. Но логика бреда была растворена в самой атмосфере Лубянки (одной ли Лубянки?). И вот вам результат — хороший, честный, работящий человек, не виновный ни перед кем (это перед ним почти все виноваты!) — сидит в тюрьме и ждет жестокого приговора. И можете не сомневаться — не знаю, когда и какой (меня увели раньше), но приговор, и жестокий, последовал. Шутка ли — измена родине! При всей своей самозадуренности я и тогда не думал, что Сережа хоть в какой-то мере виноват и должен сидеть.
Но кроме историй, которые стояли за каждым, был еще общий быт камеры. Камера хронически страдала от отсутствия папирос и особенно спичек. Все это поступало только с приходящими с воли и из передач. Каждый получающий передачи выделял кое-что и для товарищей. Но передачи в этом смысле были источником ненадежным — некурящим, в том числе мне, родные таких вещей не передавали, а у курящих не всегда были родственники — тем более в Москве и в пределах досягаемости. Но внезапно курильщикам повезло. Продуктовые передачи отменили, передавать стало возможно только деньги, до ста рублей в месяц — для ларька. Раз в месяц или в две недели появлялся «ларешник», раздавал типографски отпечатанные бланки заказов со списком предлагаемых продуктов. Против каждого наименования стояла цена. Те, у кого на счету были деньги, могли выписать их, но в строго лимитированном количестве. Можно было выписать и несколько пачек папирос «Беломор» со спичками. Их выписывали и некурящие — для товарищей. Полагалось ли курящим «табачное довольствие» не помню, но помню, что всегда не хватало спичек. Наша камера от этого не страдала: выручал Алексей Михайлович. Голь на выдумки хитра — все спичечные коробки поступали к нему, а он с ювелирной аккуратностью раскалывал каждую спичку на неимоверное количество (чуть ли не на восемь, а может, даже больше) тонких — иначе не скажешь — лепестков. Помню, когда появился Сережа, он, еще не зная наших правил, между делом, о чем-то рассказывая, попытался прикурить ЦЕЛОЙ спичкой из захваченного из дому коробка. Он тут же был остановлен в этом своем расточительстве Алексеем Михайловичем:
— Вы что? — так нам закуривать скоро будет нечем! А ну-ка давайте сюда ваши спички!
Сережа подчинился, а Алексей Михайлович тут же у него на глазах приступил к их раскалыванию. Сережа отнесся к этому скептически и высказался в том смысле, что, по его мнению, все равно «шилом моря не нагреешь».
— Не нагреешь, говорите? — проговорил как-то себе под нос Алексей Михайлович. — Посмотрим.
И, естественно, Сереже пришлось убедиться в своей неопытности. Правда, у этой пиротехнически-экономической системы был существенный недостаток — зажигать такие «спички» умел тоже только ее создатель, сам Алексей Михайлович. Но недостаток этот не ощущался, ибо он всегда был рад помочь любому желающему закурить — зажигал свои «спички» в любое время по первому требованию. На Лубянке времени у всех хватало.
В эту камеру приходили разные люди и быстро обживались в ней, осваивались, успокаивались (если с воли). К сожалению, как уже неоднократно убеждался читатель, меня с годами стала подводить память на имена. И неудобно мне серьезных и уважаемых мной людей вспоминать без имени-отчества. Без фамилий куда ни шло, а без имени-отчества — тяжело. Придется придумывать им для удобства условные имена-отчества.
Так я не помню имени-отчества своего коллеги, литератора Сименса, с которым в камере подружился. Фигура эта в высшей степени любопытная. По происхождению он был швейцарцем, предки которого в незапамятные времена поселились в Одессе. Это сбивало многих с толку. В ордере на арест у этого спонтанного остроумца (потому и сел) в графе «национальность», как по заказу, значилось: «швейцарец (или еврей)». Вот как получается: это я помню, а имя-отчество забыл. Что ж, назову его для удобства Артуром Петровичем. Главной его бедой — на что он мне часто со смехом жаловался — было его спонтанное, а следовательно, неконтролируемое остроумие. Конечно, бедой это было только в специфических условиях сталинщины. Он и в камере острил, и иногда весьма рискованно, но не намеренно, а по ходу разговора. Каждый раз сокрушенно отмечая: «Вот видите!», но продолжая в том же духе. Было ли это опасно? Не знаю. Стукачей как будто в нашей камере не было, но ручаться за это я бы все равно не стал. Слишком велик был риск. И слишком велики возможности следствия — кто-то мог это делать за обещание сохранить жизнь. Да и такой открытый сталинист, как я, тоже мог внушать опасения. На стукача я, конечно, и тогда не был похож, но диалектическая идейность иногда заводила людей очень далеко от морали, совести и их собственной сущности. Я этого избежал, но кто мог знать это наперед? Но, допустим, меня он мог чувствовать лучше, чем других, как более знакомого ему по типу, но ведь в камере были и люди, менее понятные ему, чем я. Все равно он обреченно острил. Он говорил, что самим складом ума в такое трудное время (права «времени», искренне или нет, не ставились под вопрос) осужден на посадку.
Мои взгляды, мое отношение к «времени» он, похоже, искренне разделял, как почти вся искавшая объяснений тогдашняя интеллигенция (смейтесь, нынешние смельчаки, но тогда признавать, что Дважды два четыре было не только опасней, но и духовно трудней, чем вам сегодня смело показывать задницу публике), вместе со мной он «с глубиной» и вряд ли притворно ругал троцкистов.
Кроме того, он принес в камеру информацию о первой (не 1949-го, а еще только 1948 года) волне антикосмополитской кампании. Мы оба пытались что-то в ней понять и как-то ее осмыслить (сиречь оправдать). Я высказал предположение, что существует тонкая грань между интернационализмом, якобы не исключающем патриотизма, и космополитизмом (откуда я мог это знать?), его исключающим, и те, кого обвиняют, эту грань нарушили. Артур Петрович сказал, что я прав, что так это истолковывается и официально. Рассказал Артур Петрович, что во время этой кампании прозвучали и антисемитские нотки, но мы оба сочли, что кто-то под шумок использовал эту нужную (кому и зачем?) кампанию для проявления своих низких инстинктов. Вопрос, почему им раньше не давали, а теперь дали это делать, нам старательно в голову не приходил. Тем более, что кампания тогда вроде бы заглохла.
Артур Петрович был до мозга костей интеллигентом и литератором. Через жену он был прикосновенен к окружению Пастернака. Впрочем, Пастернак тогда и сам был недалек от этих взглядов и чувств. Это был период сборников «На ранних поездах» и «Земной простор», о коих Глазков не совсем справедливо писал:
Нынче души всех людей в ушибах, Не хватает хлеба и вина… …Пастернак отрекся от ошибок! — Вот какие нынче времена.Особых отречений сборники эти не содержали, в них было много очень хороших стихов (Глазков воспринял как отречение «измену» Пастернака своей старой поэтике), но атмосфера признания происходящего все-таки ощущалась и у него. Что-то же Пастернак имел в виду, когда годы спустя писал:
Но я испортился с тех пор, Как времени коснулась порча, И горе возвела в позор Мещан и оптимистов корча. Всем тем, кому я доверял, Я с той поры уже не верен. …Я человека потерял С тех пор, как всеми он потерян.Вряд ли Пастернак был в этом грешнее кого-либо другого, но такой глубины покаяния я не встречал ни у кого. Но все же грех был — признание сталинщины невозможно без возведения горя (чаще чужого, но бывало и собственного), если не в позор, то в нечто бесконечно малое, чем мыслящий индивид обязан пренебречь. А что, как не согласие «пренебречь» — выраженное в известном разговоре желание запросто и на равных поговорить с вождем о жизни и смерти? Это ведь не с кем-то на равных, а с творцом «великого перелома», и не когда-то, а в начале массовых репрессий конца тридцатых.
Так что наши с Артур Петровичем беседы в камере № 60 были вполне типичны и для многих на воле. И конечно, я тоже «горе возводил в позор», принимая сталинщину. И даже теперь боялся «невозведения в позор» больше, чем самого горя. Но, принимая и пренебрегая, я все-таки об этом «горе» писал — хотя бы о том, что им надо пренебречь, это меня беспокоило, сверлило, требовало ответа. Видимо, нечто подобное происходило и с Сименсом — но он острил. Наш новый тогда сокамерник профессор Ромашов, выслушав эти мои рассуждения, заметил, что так и в математике — согласно «теории больших чисел», чем большими числами мы оперируем, тем ничтожнее ошибка. Я думаю (теперь, тогда этого не понял), что его замечание содержало большую долю иронии по отношению ко мне — он, конечно, понимал, что относить эту теорию к человеческим судьбам неуместно. Да разве на Лубянке скажешь! Но ирония, содержавшаяся в его словах и (тогда) неосознанная, осталась во мне и делала свою работу. Спасибо и на том.
Профессор-ихтиолог, доктор биологических наук (докторскую ему присвоили без защиты за исследование и описание зеркального карпа) Арсений Викентьевич (назовем его так) Ромашов был вообще личностью замечательной. Он относился к той же кондовой русской интеллигенции, что и доцент Василенко, да и сел по тому же делу — за слушание в чьем-то доме «террористической» повести Даниила Андреева. Поскольку он был биологом и «вейсманистом-морганистом», он по тогдашнему времени мог сесть и за это, что мы сразу и подумали, когда он сказал нам, кто он есть, но советская действительность оказалась богаче и сложнее: слушание повести затмило его научные прегрешения. В отличие от Василенко он сохранял все время присутствие духа и ироничность.
Хоть я был тогда самоуверенным варваром и старую интеллигенцию считал (в отличие от «нас»!) слабаками, не знающими чего-то главного (чего именно?), присутствие рядом сильного и культурного интеллекта я всегда ощущал и откликался на него. Так было и сейчас. Впервые имя Достоевского, употребленное не просто как имя писателя, а как предмет ежедневного интеллектуально-духовного обихода, я услышал от Арсения Викентьевича. И почувствовал за этим традицию десятилетий, целую среду, ее высокий уровень. Еще только почувствовал, а не осознал, но все же…
Кто-то предложил, чтоб Арсений Викентьевич прочел нам несколько лекций о вейсманизме-морганизме, о котором трубили все газеты, а мы ничего не знали. Весь «коллектив камеры» это предложение поддержал. Арсений Викентьевич охотно согласился. И довольно долго каждый день после обеда, оставив чтение, домино и шахматы (все это допускалось), мы торжественно усаживались вокруг стола и слушали его. Как я теперь понимаю, задача его была непростой. Конечно, в том, о чем он читал, все мы были неосведомлены одинаково, но все же немногочисленную его, но благодарную аудиторию составляли люди разных уровней образования и развития, а надо было быть доступным всем присутствующим. С этой задачей он справлялся блестяще, и лекции его были интересны всем. Я, например, узнал очень много нового.
Оказалось, что известный по школе давний спор дарвинистов с ламаркистами о том, что влияет на наследственность — естественный отбор или условия и образ жизни животного, — никогда не кончался и продолжается до сих пор. До недавнего времени у нас официально поддерживался дарвинизм, что совпадало и с марксизмом, и с традицией российской науки. Но Лысенко (о котором наш лектор отзывался вполне толерантно) объявил войну «буржуазной» науке, которой оказался дарвинизм, и открыто признал себя ламаркистом. Ламаркисты в науке были и без него, но беда в том, что Лысенко был только талантливым селекционером, а вовсе не ученым, способным к широким обобщениям и имеющим для них основания. Его обобщения не считаются с экспериментальными фактами, добытыми наукой. Лысенковской демагогии и его «дискуссионных» приемов Арсений Викентьевич не касался — это было проблемой не научной. Он рассказывал про опыты Менделя с наследственностью, о хромосомах, о признаках, при передаче наследственности подавляющих и подавляемых (термины другие, но я их забыл). У меня возник вопрос: а не может ли быть, что среда и образ жизни животного влияют на хромосомы, а через это на мутацию. На это Арсений Викентьевич ответил, что возможно это и так, но такой связи никто пока не обнаружил и не доказал. То есть он не отрицал априори такой возможности, но утверждал только то, что ему и науке было уже известно.
Лекции профессора Ромашова были для меня еще и школой доказательного мышления. Это опять-таки не значит, что я его навыки усвоил уже тогда, но они остались в моей памяти и «работали». Я рад, что встретился с этим человеком. Тюрьма, хоть и в недобрый час, расширяла мой кругозор, она сводила меня с людьми, с которыми я вряд ли бы встретился иначе.
Я могу еще представить, что где-нибудь как-нибудь мог пересечься с Арсением Викентьевичем, но с Николаем Сергеевичем (дадим ему это имя-отчество) Соколовым, инженером, ответственным работником одного из промышленных министерств, мне больше встретиться было бы негде. А тут встретились.
Он появился в камере молчаливый и мрачный, в общем подавленный. Арест его ошеломил. Несколько дней он продолжал мрачно молчать — приходил в себя. Потом стал разговаривать. Но словоохотливостью он, видимо, и до ареста не отличался. В чем состояло его дело, я так никогда и не узнал, он об этом не говорил, у него не возникало потребности советоваться с кем-нибудь об этом. Думаю, что сказывалась в этом больше министерская выучка, чем непосредственное недоверие. О себе рассказывал больше. Я узнал, что он участник Гражданской войны — это тогда в моих глазах стояло очень высоко. Но посадили его, видимо, не в связи с этим — не в таких чинах воевал. Не похоже, чтоб была здесь 58/10 — вряд ли он где-либо допустил рискованное высказывание. Но человек честный и добросовестный, он мог слишком настаивать на решении, которое считал правильным, или критиковать с его точки зрения неправильное. А неправильное могло оказаться изначально Высочайшим или потом Высочайше одобренным. И тогда — «Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» А мог он и просто стать жертвой самума, вроде того, что налетел однажды на шахуринское министерство авиации.
Он очень хорошо разбирался во всей современной ему элите: в повышениях, понижениях, в назначениях и отставках — всегда знал, о ком речь. Суждения его в других делах часто бывали ограниченны. Но мое восторженное приятие действительности его явно раздражало. Не потому, что он был против. Похоже, сначала не совсем мне верил. Но в принципе потому, что считал лишним видеть здесь какие-то вопросы и отвечать на них — все и так должно быть ясно. Потом он ко мне потеплел. И однажды, когда, видимо, я развивал перед ним нечто в духе «И значит мало быть своим, / А надо быть необходимым», — он вдруг сказал, что все это правильно, но жизнь сложней.
— Ведь мы с тобой преданны, а доносить ни я, ни ты не пойдем, потому что отвратительно злоупотреблять доверием.
Я не ручаюсь за текстуальную точность, может, выразился он не совсем так, но сказал он именно это. И я потом был очень ему благодарен. С этой минуты я — смейтесь, нынешние мудрецы — перестал стыдиться того, что не могу рассказывать следователям о тех, с чьими «неверными» и даже «вредными» взглядами я спорил до ареста. Это ведь тоже феномен: стыдиться, что НЕ предаешь. Правда, феномен это, скорее, двадцатых годов, из тогдашних революционно-антиинтеллигентских писаний — я был тут анахронизмом. Но так было. Николай Сергеевич был тем, кто, вовсе не имея этого в виду, от такого противоестественного стыда меня избавил. Все-таки и под прессом развращающей власти и противоестественной идеологии традиции нормального поведения передавались. Как и культура вообще.
Как сложились судьбы хотя бы москвичей из нашей камеры? Про Ромашова я знаю, что он потом вернулся и работал, как, впрочем, и Василенко. Сименса я однажды встретил во дворе дома Ростовых на Поварской (Союза писателей), когда он бежал куда-то по делу. Поприветствовали друг друга как ни в чем не бывало, словно видимся хотя бы два раза в год, и он заспешил дальше. Было это в районе шестидесятых, и больше я его никогда не видел. Об остальных ничего не знаю. Ни о Соколове, ни об еще двух весьма примечательных людях, о которых еще не говорил. Один из них, имя, отчество и фамилию которого я опять-таки забыл начисто, но назову здесь Алексей Алексеевич, обладал редкостной для человека того времени ясностью понимания происходящего. В отличие от всех, сидевших в камере, был этот человек открытым и законченным антисоветчиком, чего не скрывал и от следствия. И был он таким всегда. И до тех пор, несмотря на бдительность органов, был им совершенно безнаказанно.
«Работники органов», как я уже говорил, были специалистами больше по потенциальным противникам, чем по реальным. Правда, в 1934 году ГПУ как-то вышло на него и посадило, но соседи показали, что он возмущался гитлеровскими погромами и делом о поджоге рейхстага, и это в те «идиллические» времена (до убийства Кирова) было сочтено доказательством его лояльности. Его выпустили. С тех пор он буквально не закрывал рта, разоблачая советскую реальность, говорил правду, и все сходило с рук. Да и на этот раз погубила его не правда, которую он говорил, а какое-то мечтательное хвастовство. Ну и, как говорится, — шерше ла фамм (ищи женщину. — фр.). Впрочем, искать особенно и не надо было, она сама нашлась. Однажды, просвещая свою любовницу, он не удержался в границах реальности и выдал желаемое за действительное — «признался» ей, что является резидентом британской разведки «Интеллеженс сервис». Выносить просто антисоветские высказывания эта женщина (да еще в период острого дефицита мужиков), видно, еще соглашалась — мало ли что мужики болтают. Но это признание оказалось чрезмерным, оно превышало все мыслимые представления и нормы — с этим на душе она жить не могла, испугалась и донесла. Его арестовали. Но, насколько я помню по его рассказам, в деле упоминания о шпионаже не было. Видно, после такого серьезного доноса за дело взялась контрразведка. Не каждый же день встречается человек, который сам о себе говорит такое — надо было выявить его шпионские связи.
За Алексеем Алексеевичем установилась слежка, и быстро выяснилось, что таких связей у него нет и шпионажем тут не пахнет. Однако попутно та же контрразведка, выяснив, что он не резидент, вероятно, столь же неопровержимо установила, что он ярый антисоветчик, и передала его дело в другой отдел — «по принадлежности». Так он попал в нашу камеру, где сидели преступники не столь важные. Поскольку шпионаж исключался, а Алексей Алексеевич и от следствия не скрывал своих антисоветских и антисталинских взглядов, попытались это использовать и под шумок пришить ему и террор. Дескать, вы ведь ненавидите товарища Сталина, так, наверно, лелеяли… Но эти уловки Алексей Алексеевич гневно отмел:
— Нет, я против террора — одного убьешь, другого поставят… Нет, надо всю систему с корнем выдрать.
И хотя он, действительно, не занимался и не собирался заниматься террором, в этой позиции была и хитрость. Как он говорил: «Террор мне все-таки удалось с себя сбросить». Статью 58/8 (террор) ему заменили на ширпотреб МГБ — статью 58/10, (антисоветская агитация) — на статью, которую давали анекдотчикам и тем, кто случайно не при тех, при ком можно, пытался «обобщать недостатки».
Как я уже говорил, МГБ (не путать с КГБ) было репрессивным органом, способным подавлять предполагаемое или потенциальное сопротивление, но терявшимся от неожиданности при соприкосновении с реальными противниками режима. Оно в таких случаях не видело для себя другого выхода (во всяком случае, если не было открытого силового сопротивления, а его не было) кроме как подверстывание их под мнимые, с которыми оно в основном и имело дело. Репрессии КГБ тоже были преступными и незаконными, но тут хотя бы сами гэбисты понимали, кого и почему они сажают.
Как с ним вести себя, следствие не знало. Человек во всем сознавался, а использовать это нельзя. Попытались разработать силлогизм: «Раз вы против Сталина, значит, вы за Гитлера», но тщетно.
— Нет, я против всякого вождизма, — парировал эти попытки Алексей Алексеевич. И следователи опять терялись. Добыча сама шла в руки, человек добровольно сознавался в том, от чего все другие руками и ногами отбивались, а больше, чем на агитацию, не натягивалось.
Разумеется, я отнюдь не жалею, что сталинская фемида так и не смогла подобрать адекватного юридического ключика к таким, как Алексей Алексеевич. Но и не радуюсь — ибо что этой фемиде ключики! Она могла работать и отмычкой, и просто кувалдой. Расстрел по этой статье был тогдашними правилами исключен, но «впаяли» ему, скорее всего, все-таки немало — игра сталинской фемиды в юридические формы была более чем эфемерной. Но эта юридическая (да и идеологическая) беспомощность больше всего говорит о сути сталинского псевдоидеократического государства.
Так что ирония моя относится к ситуации, но никак не к Алексею Алексеевичу. Он к иронии не располагал. Ни внешностью — был он широкоплечий, крепкий человек, хорошего роста, в моем восприятии пожилой (лет сорока-пятидесяти), по виду — мастеровой.
Работал он контролером Министерства финансов на Гознаке, что тоже давало ему материал для критики системы.
— Вот, представьте себе, на Гознаке прокатывается золотая фольга. Вдоль линии идет вальцовщик. Он работает, и тяжело. Получает семьсот рублей (дореформенных. — Н. К.). Рядом с ним идет бездельник, контролер Гознака, смотрит, чтоб он чего не украл, — получает тысячу. А рядом с ними, следя, чтоб они оба чего не украли, иду я, главный бездельник — контролер Минфина, получаю тысячу четыреста. Так и все.
От него я впервые услышал, что дотация государства к продажной цене автомашины «Москвич», которая продавалась очередникам за пять тысяч рублей, составляет тысяч пятнадцать-двадцать, и в той же пропорции присутствовала дотация и в продажной цене автомобиля «Победа». Дотации были секретны и делались из пропагандно-политических соображений. Нельзя было допустить, чтобы в передовой индустриальной и вдобавок социалистической стране совсем не было частного автомобилевладения.
Все это неудивительно сегодня, но тогда, в 1948 году, когда передовое мышление не шло дальше, чем «Сталин предал революцию», что было не только крайне опасно, но требовало и немало духовной смелости, слова этого «контролера Минфина» поражали своей простотой и неопровержимостью. Цифры, приводимые им, больше совпадали с общим интуитивным ощущением нашей повседневности, чем официальные, были достоверней. Объясняли, например, почему так все-таки непросто приобрести автомобиль.
Короче, отрицание Алексеем Алексеевичем советского строя отнюдь не объяснялось эмоциональными всплесками, общей неуравновешенностью, неуемным самоутверждением или честолюбивым желанием отличиться. Его мысли выглядели экстравагантно, но были экстравагантностью не они, а привычная нам советская повседневность — особенно тогда. Его отрицание строя было основано на знании и понимании окружающей его жизни и трезвой оценке ее противоестественной экономики. Он видел то, что видели все, но он в отличие от большинства верил своим глазам. Я и тогда верил каждому его слову и не сомневался в его честности, хотя, конечно, не мог согласиться с его выводами.
Как можно было сочетать сохранение верности мировоззрению с доверием к его словам? Это равносильно ответу на вопрос, как можно было жить в России, да еще пытаться мыслить при Сталине? Жили люди как-то. Мы ведь были рождены в этом искаженном мире. Хватались за что угодно. Как я за «теорию больших чисел» (математика за нее ответственности не несет), которая все на свете могла свести к малостям, которыми можно и следует пренебречь.
Но однажды на пороге нашей камеры возник высокий седой и крепкий человек, рожденный явно «не в этом мире». Он встал на пороге, несколько выгнув вперед голову, исподлобья оглядел все и всех и спокойно произнес:
— Здравствуйте. Эта камера все-таки больше той, в которой я сидел до этого.
Стало ясно, что его только сегодня арестовали и он имеет в виду бокс.
Человек уселся на пододвинутый ему стул и стал подробно рассказывать газетные новости. Рассказал все. От него мы узнали об Израиле и о войне в Палестине. Причем он выказал одинаковое презрение к обеим борющимся сторонам. Короче, обстоятельно рассказал все, что знал. И только выполнив этот свой долг, он упомянул о том, что камнем лежало у него на душе — он оставил дома больных жену и дочь, для которых был единственным кормильцем и защитой — он работал мастером в «Мосгазе». Так появился в нашей камере Михаил Петрович Уралов (за имя-отчество опять-таки не ручаюсь), несгибаемый анархист и террорист дореволюционных времен — это тоже выяснилось почти сразу. Это он нам сообщил, чтобы объяснить, что в тюрьме он отнюдь не в первый раз. Но сидел он, как выяснилось, больше при царе, а в советские времена только раз — году в двадцать четвертом — за попытку подкопа под Бутырскую тюрьму. Но в тюрьме тогда пробыл недолго, его выручили старые дружки, товарищи по подполью и тюрьмам, работавшие теперь в ЧК.
В этом нет ничего удивительного. В ЧК работало много бывших анархистов и левых эсэров, желавших его выручить как старого товарища. Да и среди большевиков такие нашлись бы. Ведь до революции только в эмиграции среди революционеров существовало строгое разделение на партии, а на территории России это мало проявлялось — явки были общими, враг тоже общий, а тюрьмы, каторга и ссылки — и говорить нечего. Они могли сожалеть, что он не понимал их абсолютной правоты, но держать его в тюрьме за то, что он хотел освободить товарищей, им все-таки было как-то неловко. Все-таки свой, а не сторонник капитализма.
Но вот незадача — когда он сидел при царе и за подкоп, ему было все понятно. А теперь…
— Но почему меня арестовали сейчас, — удивлялся он, — ума не приложу. Политикой я ведь давно не занимаюсь.
— А может, вы где-нибудь не то сказали? — попытался вопросом развеять его непонимание Алексей Михайлович. И напрасно.
— Нет, — отрезал новичок, — я был осторожен. — И добавил, помолчав: — А те, с кем я разговаривал, не донесли, это исключено. Ну ничего, — заверил он нас, — мне не впервые за свою жизнь разговаривать со следователем.
И он был прав: на него никто не донес. Но он не понимал, что его арестовали за биографию. И еще — что со следователями, привыкшими вести такие дела, ему предстояло встретиться впервые. При «проклятом царизме», с которым он вел борьбу не на жизнь, а на смерть, такие не водились. Не говоря уже о том, что при царе и сам он никогда не гадал, за что вдруг его арестовали (это-то он всегда знал!), а только старался понять, что им известно и что можно еще скрыть. Правда, и тогда следователи и тюремщики к таким, как он, относились совсем не столь толерантно, как к социал-демократам. От последних исходила угроза потенциальная, а от таких, как он, — непосредственная: они стреляли и швыряли бомбы. И награждали за них охотнее — как за избавление от непосредственной опасности. Но и законы в отношении таких нарушались безнаказаннее: Михаил Петрович однажды в Орловском централе больше года просидел в холодном карцере, что воспрещалось, но сошло. Все же это была война. Товарищи Михаила Петровича при случае и начальника централа могли хлопнуть — за своего товарища, которого так долго мучили карцером, или по какому-нибудь другому поводу.
Грехов перед большевиками у Михаила Петровича, кроме упомянутого подкопа, за который он уже вроде отчасти отсидел, тоже не было. Он был анархистом, но анархистом правым — русская политическая жизнь была чрезвычайно разветвлена. Всю Гражданскую войну он так или иначе провоевал на стороне красных — отчасти, правда, в отрядах Махно, где был комиссаром от анархистов. Однажды он в этом качестве даже спас целый вагон комиссаров-большевиков, которых братва хотела пустить в расход. Так что перед большевиками у него были даже заслуги. А перед Сталиным у него и грехов быть не могло — Михаил Петрович ушел в частную жизнь еще до воцарения этого Вождя. Несмотря на весь свой опыт, он никак не мог понять, в чем дело, зачем он понадобился чекистам? Он о большевиках знал все, но, закапсулировавшись, проглядел изменения, внесенные сталинщиной.
На следующий день Михаила Петровича вызвали на допрос, и впервые в жизни он отправился «разговаривать со следователем» не для того, чтобы скрывать, а чтобы выяснять. Судя по его молчанию после допроса, выяснить ему ничего не удалось.
Арестовали Михаила Петровича, безусловно, только за биографию, но аппетит приходит во время еды. Скорее всего, следствию захотелось эту красочную биографию использовать и, так сказать, пустить его «по специальности» — заставить признать себя террористом сегодняшним. Но старик он был крепкий, на нем где сядешь, там и слезешь. Тогда (это уже не предположение) стали его «допрашивать» каждую ночь, а днем не давать спать на общих основаниях. Много дней подряд не давали спать пожилому человеку (а было ему уже за пятьдесят), чтобы он себя оболгал. Надзиратели строго следили, чтоб он не спал. Мы старались его прикрыть от «кормушки», чтобы его не было видно и он мог хоть немного поспать, сидя. Удавалось редко. Все это должно было его сломить, чтобы он признал за собой терроризм или другую чушь. Но не на того напали.
За этой заботой не забывали прогонять и через биографию. Спустя несколько дней после начала допросов он как бы удивленно сказал следователю:
— Из вопросов, которые вы мне уже несколько дней задаете, у меня сложилось впечатление, что вы мне не можете простить того, что я в Гражданскую войну воевал на стороне красных.
Думаю, что следователь немного опешил. МГБ действительно давно преследовало «героев Гражданской войны» (как и старых большевиков), но приказов, прямо это формулирующих, не поступало. Следовательно, так говорить и думать воспрещалось — это означало распространять злостную клевету на советскую действительность. Но этот железный старик говорил ведь не о политике государства, а о том, что следует из вопросов самого следователя. А следовало именно это. Клеветы не пришьешь. А у них не отдел по особо важным делам — разрешения на специальные меры не получишь. Да и специальными такого невиданного старика не сразу возьмешь. А случись скандал, и самого следователя обвинят, что своим неумением (а то и намеренно) «создавал ложное представление о политике партии». Ничего не создавал, делал что приказано, но кого это будет интересовать? Лучше бы поскорее избавиться от такого пережитка.
Так, я переставляю себе, мыслил следователь. А избавиться он мог запросто — надо было только отказаться от лишних вожделений и свести дело к статье, не требующей признания.
Несмотря ни на что, Михаил Петрович противостоял художественному творчеству следователя. И вот однажды он вернулся с допроса и начал расспрашивать меня о случившейся уже к тому времени перемене инкриминируемых мне статей с 58/10 (антисоветская агитация) на 7/35 (социально-опасный элемент) и сказал:
— Видимо, это же будет и у меня.
И, действительно, форсированные допросы прекратились. Следствие отступило. Приписать ему ничего не удалось, и пришлось отказаться от излишеств.
Необходимое примечание: навязывание именно террора, а также все, происходившее в связи с ним в кабинете следователя, — это не установленный факт, а мое предположение. Навязывать ему могли и какую-нибудь другую несообразность. Хотя террор мне кажется наиболее вероятным сюжетом выбиваемого из него самооговора. Но само навязывание самооговора и все остальное — сомнений вызывать не должно… Так и было.
Статья же 7/35, поскольку она ни в чем не обвиняла, не нуждалась в признании арестантом своей вины. Что это за статья такая? Поскольку ее инкриминировали и мне, расскажу о ней подробно. До той поры она не имела номера и была буквенной — СОЭ, что означало социально опасный элемент, как и уже упоминавшаяся КРД (контрреволюционная деятельность) или ПШ (подозрение в шпионаже). Эти статьи не имели конкретного содержания и не требовали доказательств, чем в годы «чисток» были очень удобны для всяких «операций по репрессированию». Под СОЭ легко подпадал кто угодно — от проституток до арестованных ни за что, каких тогда бывало много. При всей неопределенности статья эта была чревата очень серьезными санкциями. За нее можно было запросто получить и десять лет лагерей. Теперь же звание «социально опасный элемент» решено было использовать не для ужесточения, а для смягчения наказаний, ибо было сочтено целесообразным возрождение ссылки (последние годы она как мера наказания совсем сошла на нет, предпочитались лагеря). Этим «смягчением» очищали наши города от отсидевших (повторников), от детей репрессированных и всех, кто о чем-либо мог напомнить и нарушить атмосферу прострации, но кого почему-то считали удобнее сослать, чем посадить. А может быть, существующие лагеря были уж слишком перенаселены.
Для этих надобностей переиначили и статью: буквы, ведшие в лагерь, заменили цифрами, ведущими в ссылку (пока в этом была потребность, потом можно было бы все и перетолковать). И статье дали номер — 7/35… Однако такой статьи в Уголовном кодексе нет. Есть целых две статьи — 7-я и 35-я. Обе они относятся к «Общей части» Уголовного кодекса, представляющей как бы предисловие к нему. В ней толкуются принципы применения кодекса, его статей и санкций. Первой статьей, содержащей формулировку конкретных преступлений и санкции за них, была печально знаменитая 58-я. Статья 7-я сообщала, что к лицам, не совершившим преступления, но по своим связям, прошлой деятельности, медицинскому состоянию и «каким-либо другим причинам» могущим представлять опасность для социалистического государства, могут быть применены все санкции, перечисленные в статье 35-й. А статья 35-я просто перечисляла все возможные санкции, которые могут применяться судами по всем статьям. Значит, и я, и многие другие были осуждены на основании предисловия к кодексу. Просто и мило. Однако спасибо и на том, ибо норм у нас все равно не было, а в данном случае это означало, что кому-то (например, мне) вместо лагеря, начинала светить ссылка. Она была рассчитана и на таких, как Уралов. Конечно, приятнее было бы и ему добавить терроризм, но если не вышло, можно ограничиться ею. Впрочем, я не знаю, что они ему по ней накрутили. Но все же надеюсь, что он попал не в лагерь, а в ссылку.
Суждения и восприятие этого человека были четкими и ясными. «Записки террориста» Савинкова его раздражали своей сложностью и рефлексией.
— Чепуха это. Когда я сел в вагон дачного поезда и должен был убить жандармского полковника X (фамилию я не запомнил. — Н. К.), я думал только о том, придет ли он вовремя, сядет ли, как обычно, в этот вагон, и не помешает ли мне что-нибудь в последний момент. А это все — выдумки.
Много он рассказывал о Гражданской войне. О том, как пресекал еврейские погромы (Махно вопреки выдумкам за это наказывал).
— Однажды ребята повеселились, много награбили. Я собрал их на митинг и устроил хорошую взбучку, обещал всех, у кого найдут награбленное, расстрелять (хотя как бы я мог это сделать — принимали участие в погроме они все). Но ребята меня любили и стали сами «незаметно от меня» сносить вещи куда-то в конец зала, где шло это собрание. И я прилежно их не замечал. А потом я предложил евреям в случае опасности кричать «Караул!», но часто с перепугу они кричали зря.
Евреи, в основном евреи местечковые, вообще, чего он не скрывал, его раздражали. Раздражали по памяти Гражданской войны своей, как он полагал, немужественностью — зачем, например, кричали зря «Караул!»? Понять, что, безоружным и пуганым, им было опасно опоздать с этим криком, он не умел, хотя знал, что поведение его ребят отнюдь не всегда было предсказуемым. Он и в Израиль не верил — считал, что победы там одерживают посланные Сталиным советские солдаты. Я несколько удивлялся подобным чувствам в старом революционере, но никакого злостного характера они не носили. Это не было антисемитизмом. Среди анархистов, как известно, их было достаточно, и среди его друзей тоже. Да и вообще ущемлять он никого не собирался.
Конечно, тогда я был весьма далек от моего нынешнего неприятия революций и революционеров, но и сегодня я с уважением вспоминаю Михаила Петровича, его стойкость и надежность, верность себе. Лучше бы все эти качества нашли иное применение и не связались столь крепко с исторической бедой России, но все же жаль, что такие люди, как Михаил Петрович, давно уже не родятся на Руси. Плохо, когда они начинают доминировать в общественном сознании, но все же как один из необходимых факторов, присутствующих в жизни, они — их строгость, неподкупность и неуступчивость — необходимы. Сегодня людей, обладающих этими качествами, очень России не хватает.
МГБ занималось не одной Россией и даже не одним Союзом. Людей привозили из всех стран, где побывали наши войска. Привозили их, как видел читатель, и в нашу камеру. И не только русских эмигрантов или невозращенцев. В нашей камере сидело два человека, вывезенных из Ирана: армянин Гаспарян и перс Али Хекмат.
Все это наверняка было связано с пребыванием наших войск в Северном Иране, куда они были введены временно для лучшего контакта с союзниками, войска которых были с этой же целью введены в Южный Иран (через Иран шла существенная часть военной помощи нашей стране). После войны союзники свои войска вывели, а Сталин, как я узнал много позже (у нас об этом не писали), задержался. Как я теперь понимаю, Сталин пытался объявить эту часть Ирана Южным Азербайджаном (справедливо или нет, мне неведомо) и воссоединить его с Северным, то есть с СССР. Думаю, что Гаспарян, который сидел уже давно, был увезен давно, когда область готовили к этой операции. Он был скорее всего крупным коммерсантом, а таких лучше было «обезвредить» загодя.
Положение его было более чем трагическим — в чужой стране, при относительном понимании ее языка, он вдобавок ко всему был еще почти глух. Был он глух давно или оглох от «нежного» обращения уже в каком-нибудь СМЕРШе, я так никогда не узнал. Как никогда не узнал, в чем собственно он обвиняется. Разговаривать с ним по причине глухоты было трудно. Но по карте, нарисованной на пачке «Беломора», он показал, где жил и где бывал. Побывал он почти во всех странах Европы и Ближнего Востока. Да и вообще был он человеком вполне просвещенным. Однако верующим, что тогда многим из нас казалось странным. Но каждый вечер, когда он подходил к голландской печке, выступавшей из стены (к окну запрещалось) и шептал молитвы, вся камера относилась к этому не только с уважением, но и с завистью.
— Вот что значит верить! — говорил Алексей Михайлович. — Подойдет человек к печке, пошепчет что-то, и ему легче… А тут сидишь, ни в Бога, ни в черта не веришь и все в себе несешь — обратиться не к кому…
Но зависть эта все-таки нас к вере не поворачивала…
Хотя именно в это время я много читал Достоевского, «Соборян» Лескова и вполне сочувствовал тому, что они говорили. Просто полагал, что это разновидность человеческой веры, более наивная, чем моя…
Однажды Гаспаряна вызвали, а нам велели собрать его вещи. Я недавно получил передачу и положил ему что-то — несколько конфет, кажется. Ведь он в этой стране был одинок, прислать ему что бы то ни было никто не мог.
Мы считали, что его увели навсегда. Но через месяц однажды открылась дверь, и в ней появился сияющий Гаспарян. Оказалось, что его увозили в Институт Сербского. Он сиял от счастья — рад был, что вернулся в «свою» камеру. Благодарил меня за ничтожное мое вложение в его вещи. Омрачало ему радость возвращения только одно — боязнь, что его там признали сумасшедшим. Глухота, плохое знание языка мешали ему понять реальность.
— Я здоров! — агрессивно заявлял он, когда ему казалось, что мы этого не понимаем. Но пока это было недоразумениями с благожелательными к нему сокамерниками, они быстро улаживались. Но на следующий день это чуть не привело к несчастью, от которого — говорю это с гордостью — спас его я.
За время отсутствия он позабыл тюремный распорядок и сразу после обеда лег отдохнуть. Нарушение это было не Бог весть какое страшное, надзиратель стучал ключом, и человек спохватывался. Но Гаспарян по глухоте на это не отреагировал. Надзиратель вошел в камеру и выразил свою волю словесно. Реакция была той же. Тогда надзиратель стал трясти его за плечи и стаскивать с кровати, и Гаспарян, всего, что было до сих пор, не заметивший, озверел. Он решил, что вот оно, началось — с ним уже обращаются как с сумасшедшим. И он стал вырываться. Это уже было ЧП — сопротивление администрации. Набежало много надзирателей и старший лейтенант, наверное, дежурный по тюрьме. Гаспарян ничего не понимал и оказывал сопротивление. Мы наблюдали эту картину стоя, как было положено по правилам. И молчали. Я попытался что-то объяснить, но мне приказали не вмешиваться. Говорить не о себе, защищать не себя — запрещалось. Между тем тучи сгущались, нависала беда. Еще немного, и его посадят в карцер, а там он, не понимая, что с ним происходит, и впрямь может повредиться рассудком. И тогда я заговорил второй раз:
— Гражданин начальник. Тут недоразумение. Разрешите объяснить.
Видимо, старший лейтенант не был злым человеком и почувствовал некоторую неадекватность в этой ситуации.
— Ну, объясняйте.
— Гражданин начальник, тут недоразумение. Он не собирается сопротивляться.
— Как не собирается! А что он делает?
— Он только вчера вернулся из Института Сербского.
— Ну и что?
— И подозревает, что его признали сумасшедшим. Он глухой и плохо понимает, что ему говорят. А когда его дергают, он думает, что с ним обращаются как с сумасшедшим.
Я торопился объяснить ситуацию, боялся, что опять остановят.
— А! Да нет, — успокоенно сказал старший лейтенант, — раз его вернули сюда, значит, он здоров.
— Разрешите, я ему объясню.
И я повернулся к Гаспаряну. Приходилось кричать ему в ухо, отчетливо отделяя слово от слова:
— Ты — мне — веришь?
Он кивнул. Я продолжал:
— Ты, — ткнул я его в грудь, — здоров.
— Я здоров, — запальчиво заявил он.
— Да, — ты — здоров. Они, — показал я на надзирателей, — знают — ты здоров.
Надзиратели закивали: «Да, да, здоров». После этого втолковать ему, что днем лежать запрещается, было сравнительно просто. Поняв это, он сказал: «Хорошо», был рад, что дело только в этом. Надзиратели тоже были довольны — обошлось без скандала: зло ведь было не в них… И инцидент был исчерпан. Мирнейший человек не погиб как необузданный бунтовщик.
Исход идиллический. Но будь прокляты те, кто его сюда притащил и кто обязал нормальных парней мешать спать пожилому, измученному человеку. Я и теперь рад, что мне тогда удалось распутать это такое простое, но в тех условиях почти неразрешимое дело.
У Али Хекмата, соотечественника Гаспаряна, отношения с новой для него средой складывались иначе. Он был молод, красив, образован, принадлежал к высшим кругам своей страны, его дядя был тогда министром иностранных дел Ирана. По профессии он был физиком, теоретиком. Мне он был очень приятен и близок, ибо, несмотря на все перечисленные качества, был верующим коммунистом. Я не знаю, в какой Сорбонне приобрел он эти свои убеждения. Он, видимо, слишком далеко зашел в своем сотрудничестве с первым в мире государством социализма, и когда тому пришлось спешно убираться из Ирана, его увезли тоже — из тех соображений, что много знал. Господи, сколько таких тонких, благородных и разумных людей было захвачено этой наукообразной утопией, «идеей» и служило примитивным и грязным расчетам человека, чуждого во всем и их идее, и им самим! Но так было. И так же, как я, он не изменил своим идеям и здесь. Только рассчитывал, что его пошлют работать по специальности в «шарашку». Вместе мы сидели недолго, меня скоро забрали, но мы подружились. И он бросился мне на шею, когда мы потом случайно встретились с ним на пересылке, От него я узнал, что мечта его сбылась — его везли на «шарашку». Больше я его, к сожалению, не встречал. А жаль: его судьба — тоже штрих нашего времени, кирпич обвалившейся Вавилонской башни.
Наш «интернационал», да и вообще жизнь камеры № 60 в период моего пребывания в ней были бы неполны без упоминания о Джумагали Аликееве, каракалпаке. Каракалпаки — немногочисленный тюркский народ, родственный, как я потом узнал, казахам, но занимающий (не знаю, в какой пропорции с узбеками) существенную часть Узбекистана, практически весь его северо-запад, включающий западный и южный берега Аральского моря. Все это я знал (в основном из довоенного учебника географии СССР для восьмого класса), но не предполагал, что когда-нибудь встречу живого каракалпака. Однако встретил. И какого! Но об этом и пойдет речь. Об этом я рассказывал много и с успехом, это был мой любимый устный рассказ, коронный номер, но я никогда не пробовал изложить на бумаге. Может, это и невозможно. Не знаю. Попробую.
Однажды ночью я был разбужен специфически громким (приспособленным для того, чтобы днем будить прикемаривших) поворотом ключа в замке. Два надзирателя внесли кровать и постельное белье. Это был верный знак, что кого-то сейчас приведут. И, действительно, через пару минут в камере появился крепкий молодой человек азиатского типа. Он стал стелить свою постель, уже собираясь ложиться, окинул взглядом камеру (а в ней всегда горел свет) и, обнаружив меня (не спал я один), дружелюбно промолвил:
— Здрасити! — его карие необыкновенно живые глаза смотрели на меня с любопытством.
Поначалу, гадая, кто он есть, я подумал даже: не Его ли это Величество, маньчжурский император Пу-И, о котором я слышал, что он тоже сидит где-то здесь, на Лубянке. Но после этого приветствия такая версия отпала. Я поздоровался тоже. И тогда он ткнул пальцем в мою сторону и спросил:
— Какой нас?
Вопроса я сразу не понял. Мозги-то мои были сонные.
— Что вас? — спросил я.
— Не «вас» — нас! Какой нас? — и видя, что я не понимаю, уточнил: — Ну, нас! — Русски? Немис?
Но я и уточнения не понял. Я решил, что он просто интересуется, русский я или немец — аспект для послевоенной Лубянки, где тогда сидело много немцев, вполне уместный. Новый сокамерник явно не был новичком в тюрьме и с этим сталкивался. Я решил, что при такой постановке вопроса я уж точно русский. Не немец же я. Так я ему и ответил. Он удовлетворенно накрылся одеялом и уснул.
Утром я понял, что ошибся. Просто это был человек, пораженный обилием наций на земле, он буквально коллекционировал их в своем сознании. Эту работу он продолжил и утром. Про Сименса я сказал ему, что тот по нации одессит. Сименс ухмыльнулся и подтвердил. Новичок очень удивился — о такой нации даже он не слыхивал. А он этих наций перевидел много. В этот же день он рассказал свою историю. Привожу ее в его изложении и своем пересказе — что и как запомнил. Итак…
История Каракалпака Джумагали
Среди бурь и невзгод Второй мировой войны.
Сам он каракалпак. Жил он тоже Каракалпак (в Каракалпакии). Жил неплохо. У брата было три жены, он, видимо, собирался последовать его примеру, но пока женат не был и был членом бюро райкома комсомола. Был даже однажды командирован в республиканский центр город Нукус на курсы повышения квалификации комсомольских работников. Курсы благополучно кончил, квалификацию комсомольского работника повысил, но заболел и пошел лечиться к мулле. Несмотря на это, выздоровел и обогащенный знаниями вернулся к себе домой.
Но теперь, как человек образованный, он стал искать работу по призванию и по рангу. И нашел — начальником пожарной охраны хлопкоочистительного завода. Работа была хорошая: пожары для него были абстракцией, а командовать пожарными постами и следить, чтоб в нужных местах находились в ассортименте багры, шланги и прочее, было нетрудно. Жизнь была хорошая. Но ничто на земле не вечно — грянул, как вскоре стали выражаться, грозный час Отечественной войны. И комсомольскому активисту, лицу почти номенклатурному, предложили добровольно пойти на фронт. Он, не зная, что это значит, согласился.
И поначалу все было хорошо. Провожали с музыкой. Угощали бесплатно конфетами, осыпали цветами. Потом посадили в вагоны и «побезли» — тоже бесплатно. Везли долго и далеко. Впечатлений было полно. Но как ни далеко от родимой Каракалпакии до города Сталино на Донбассе (Украина), а в самое неподходящее время, а именно в октябре 1941 года, Джумагали туда прибыл. Прибыл и понял, что здесь не шутят, а того и гляди голову оторвут. В общем, война ему не понравилась. Но тут кто-то то ли от безвыходности, то ли по глупости послал взвод таких каракалпаков в разведку или просто в передовое охранение. Вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон появились немцы, наставили автоматы и сказали: «Руки вверх или стрелять будем». Раз такая альтернатива, естественно, следует поднять руки вверх (иначе ведь без головы останешься), что Джумагали и сделал. Сначала он думал, что все, отвоевался, но не тут-то было. Немцы загнали их в лагерь, в Запорожскую область, заставили убирать свеклу и кормили этой же свеклой. А Джумагали не любил свеклу, он любил мясо. И начал доходить, завшивел, совсем стал пропадать. И тут опять появились немцы и спросили:
— Кушать хочешь?
— Хочу, — сказал Джумагали.
— Поступи в нашу армию, будешь кушать, — сказали немцы.
— Хорошо, — сказал Джумагали. Как же отказаться, если обещают накормить. И немцы действительно не обманули — не только накормили, но также повели в баню и переодели в немецкую форму. И после этого опять «побезли». И опять, конечно, бесплатно. И все дальше на Запад.
— Два ден безли… Украина — пся… Польша! Город… город… Могилев-польска.
Конечно, он был тогда не в Польше, а все еще на Украине, и Могилев не польский (в Польше Могилева нет), а подольский. Но не будем придираться к его познаниям в географии — он ее изучал на практике. В Могилеве их некоторое время тренировали немцы — айн! цвай! драй! Нах линкс! Нах рехтс! — а потом посадили в вагоны и опять «побезли». На Запад.
— Польша — пся! Германия — пся! Пранция! Город… Город (он напрягает память и произносит каждый слог отдельно и отчетливо) Ша-та-льон! Есть такой?
Получив заверение, что да, есть, он расслабляется и лицо его принимает мечтательное выражение. Во французском городе Шатильоне (а не в Шатальоне) Джумагали было хорошо. Климат — лучше, чем в Каракалпакии. Войны — никакой. Служил он во вспомогательной части при военном аэродроме. Получал какое-то жалованье. Кормили вполне достаточно — по немецкой солдатской норме. Кроме того, шатильонские продавщицы иногда отпускали ему как экзотическому мужчине хлеб без карточек. Вдобавок он регулярно получал талоны в солдатский публичный дом (через что приобщился и к этой стороне западной цивилизации). В свободное время обыгрывал немецких солдат в карты. У них, правда, согласно Гитлеру, должна была быть особая, «нордическая» хитрость, но он вполне обходился своей доморощенной, азиатской. Не жизнь — малина, мусульманский рай.
Но ничто не вечно. Как ни поздно для нас, но слишком рано для него союзники открыли Второй фронт, высадились на юге, а потом в Нормандии, стали быстро продвигаться вглубь Франции. Джумагали предложили умирать за великого фюрера и не менее великую Германию, на что у него не было ни малейшего желания. Он был согласен ради кого угодно жить, а умирать за кого бы то ни было ему казалось делом неприятным и ненужным. И овладело им разумное желание сдаться в плен — тем более теперь он уже знал, как это делается и что люди с умом на этом не проигрывают.
Но как это сделать — союзники вокруг с таким предложением не появлялись, давили на весь фронт сразу. Рутина не годилась, надо было искать другие пути. Раз или два после приказа об отступлении он попытался притвориться павшим смертью храбрых, но немцы знали этот контингент и стреляли по убитым. Пришлось воскресать, вскакивать и отступать с ними. Дело затягивалось и грозило непоправимыми последствиями. Но он, какой-то калмык, еще кто-то сообща нашли выход — решили просто дезертировать. Убежали в лес, нашли в сторожке какую-то бабку, связанную с партизанами, и сдались ей, а через нее — партизанам. Очень скоро подошли американцы и перебежчиков передали им. Не знаю, какие мытарства Джумагали пережил, попав к партизанам (то есть как у них было с кормежкой), но после того как он был передан в руки американцев, они, если и были, кончились — начали кормить американским солдатским рационом. А что это такое, знаю даже я — они несколько послевоенных месяцев входили в американскую продовольственную помощь Украине, и мои родители в счет карточек получали их. Один дневной рацион — большой картонный ящик — давался примерно на неделю. Короче, Джумагали его второй, противоположный плен с самого начала не был в тягость. О свиной тушенке он вспоминал с удовольствием. Возможно, она не ассоциировалась у него с запретной для мусульман и иудеев свининой.
Во Франции Джумагали после второго пленения пробыл недолго — его вместе с другими пленными, в основном немцами, быстро переправили через Ла-Манш в Англию. Об Англии у него не осталось никаких воспоминаний: был туман, кормили хорошо. Но очень скоро его опять посадили на корабль, опять — «побезли», и опять — на Запад.
— Сем ден… бода… бода. И — псе. Сем ден только бода… И каш!.. каш!.. (качка, лицо его искривляется)… Плохо… Ой! Но американ доктор придет, дает порошка. Луше! — он с явным облегчением поглаживает себя по груди и горлу, чувствуется, что он и сейчас наслаждается тогдашним избавлением от тошноты. — Луше… Сем ден приехат Америка…
— А куда вас привезли?
— Америка.
— Ну вот, заладил: «Америка, Америка»! А в какой город вас привезли?
— Не знаю.
— Может, в Нью-Йорк?
— Не знаю.
— Ну, баба там с факелом стояла?
— Не знаю.
В общем, ни по приметам, ни по названию определить ничего нельзя было. Не зафиксировалось. Может, он просто был заворожен урбанистическим пейзажем, может, просто гадал, где здесь среди этого нагромождения может помещаться продпункт — не знаю. Но разговоров и восклицаний, которые всегда бывают в таких случаях, он явно не слышал и порта, через который был ввезен в Америку, не знает.
Не знал он, видимо, и где помещался лагерь военнопленных, в котором он находился. И я не уяснил. Знаю только, что все пленные — и немцы, и наши — там использовались на уборке яблок. Каждое яблоко нужно было сорвать и аккуратно уложить в ящик. Немцы, вероятно, так и делали. Немцы, а не наш герой и его приятели.
— А мы — жестом показывал Джумагали, как трясет дерево, — так.
— Прибегат американ, плячет: «Так низя. Надо так!» Он уйдет, а мы — (и тот же жест).
Между прочим, американцы как противники рабского труда пленным за работу платили. Долларами. И доллары Джумагали очень понравились:
— Пять сент, — вспоминал он с удовольствием, — плитка шоколад стоит.
Потом от сидевших с ним в других камерах (до нашей) я слышал, что тогда, в лагере, его завербовала американская разведка, но мало в это верю. Впрочем, людей, по своему уровню способных на такую услугу отечеству, в правительственных учреждениях я встречал и видел по телевизору. Но тогда, как я слышал, еще все было иначе. Что же касается самого Джумагали, то, если б ему за определенную мзду преложили подписать такое обязательство, он подписал бы его без раздумий, просто как обычную расписку в получении денег.
Так или иначе, жизнь свою в яблоневом саду он тоже вспоминает как безоблачную. А когда он вдруг заболел и попал в местную больницу, она вообще превратилась в райскую. Ибо условия содержания в ней воспринимались им как роскошь. Вдобавок, работал в ней русский доктор, который относился к нему как к земляку — хорошо было! Но когда он начал выздоравливать, однажды открылась дверь палаты, где он лежал, и:
— Придет русска полковник. Посмотрет кругом и пойдет прямо ко мне.
— А как он догадался? — пошутил кто-то из сокамерников: дескать, трудно было найти каракалпака среди американцев. Но Джумагали остался невозмутим.
— Не знаю, — подумав, сказал он. И продолжал: — Полковник спросит: «Родная поедем?» «Поедем! — я ему сказал. — А что мне там будет?»
Обычно в таких случаях офицеры репатриантских групп отвечали восторженно: «Да не беспокойся. Что б там ни было, Родина — мать, Родина простит». Этот ответил честно:
— Я ведь не знаю, что ты натворил, в зависимости от этого и будет.
— Хорошо, — сказал Джумагали и решил, что обманет.
И вот через несколько дней после этого:
— Придет американ солдат, посмотрет час. И сказат «О-кей», и мы пошли.
Пошли они на вокзал. По дороге все встречные, завидя этот эскорт, кричали: «Джапон! Джапон!», а Джумагали безуспешно вразумлял их: «Я не джапон, я — каракалпак!» — но они его плохо понимали — они ведь воевали с Японией, а не с Каракалпакией. На вокзале он впервые заволновался. Как бы то ни было, он до сих пор всегда путешествовал организованным порядком — при кухне, а тут один солдат с винтовкой и часами — кто кормить будет? И он стал объяснять солдату — словами и жестами — «Кушать хочу! Ку-шать!»
— О, О-кей! — засмеялся солдат и завел Джумагали в привокзальный ресторан, где и накормил. Проблемы не оказалось.
Потом была пересадка, и они перешли на другой вокзал. И на этом вокзале произошло нечто, поразившее его на всю жизнь. На вокзале этом он был сразу окружен толпой невероятных людей. Рассказывал он об этом так:
— Смотрю — муж… жена… Девичка… Много-много — шорный-шорный… Рук шорный, ног шорный, лисо шорный — только зуб белый… Ей-Богу!
— Ну врешь, таких не бывает, — подначивает его кто-то.
— Нет! Бывает! — восклицает он страстно. — Я сам думал: не бывает. — Бывает! Я видел! А говорят: я шорный! Нет! (с удовлетворением) Я не шорный — он шорный!
Видимо, это было где-то на Юге, где тогда еще была сегрегация, и солдат привел его в отделение для цветных. Они окружили его плотной толпой и тоже кричали: «Джапон! Джапон!», и Джумагали так же отвечал им: «Я не джапон, я — каракалпак!» Кто-то сунул ему под нос ученическую тетрадь с контурами карты мира на обложке, чтоб он показал, где живут каракалпаки, и он ткнул куда-то пальцем. Возможно, в Тихий океан, возможно, в Атлантический — он их не различал.
Наконец, прибыли они в город Девис на Тихоокеанском побережье, и здесь солдат сдал Джумагали в советскую репатриантскую роту. Джумагали, пересекший до этого Европу и Атлантику, двигаясь все так же «вперед на Запад!», пересек теперь и американский континент. И вышел к Тихому океану, как некогда русские землепроходцы — только с другой стороны и в другом месте.
Порядки в советской роте были самые либеральные: как бы и не советские. Репатрианты в ожидании отправки работали грузчиками в порту, зарабатывали доллары, и никто их валютные заработки не контролировал. И вообще — когда хочешь, уходи, когда хочешь, приходи, с кем хочешь встречайся… Держали фасон перед американцами.
И показания с репатриантов снимали либерально: мели, Емеля, твоя неделя. И Джумагали поведал властям предержащим свою нехитрую биографию, согласно которой он, Джумагали Аликеев, попав в плен и оказавшись в лагере военнопленных, вступил в антифашистскую организацию.
За что потом сидел в концлагере, откуда был освобожден и вывезен американцами. Теперь он рвется на родину. Он эту биографию не выдумал, просто это была биография другого человека, с которым он где-то случайно пересекся, а память у него была острой, девственной, незамутненной. Не знаю, поверили ли ему, но — не возражали.
Наконец, настал день — по роте разнесся слух (передаю его в изложении Джумагали):
— Ребята, трать все деньга — едем родная.
Джумагали накупил на всю свою валюту шоколаду и сигарет. Для торговли. И на следующий день на пароходе «Петропавловск» (кажется, я точно запомнил название) отбыл на родину — держа курс опять-таки на Запад.
Опять «был бода, бода», опять — «каш-каш», но на этот раз не было американского доктора и порошков ему никаких никто не дал: «свои» точно знали, что он не барин — и так доедет. И Джумагали благополучно протошнило от порта Девиса в Орегоне до порта Александровск-на-Сахалине.
На Сахалине в его девственную душу вкрались первые подозрения — не выпускали на берег. Но все равно у него остались какие-то впечатления о сахалинской жизни:
— На Сакалин мужик на собак как на ишак дрова возит.
Или:
— На Сакалин мужик, когда дождь нет, плячет.
На Сахалине же он встретил земляка и приятеля, который всю войну прослужил здесь и этого пути не проделал. Тот дал домой лаконичную телеграмму почти эпической тональности: «Джумагали едет». Но Джумагали еще месяц проторчал на пароходе в порту Александровск. Но прошло и это. И вот он прибыл во Владивосток. Когда он рассказывает об этом, глаза его округляются. Встреча была и впрямь приготовлена торжественная:
— Смотрю — собак, пулемет, энкавэдэ — много-много. Плохо!
Как только пароход пристал, все это сразу же ринулось: «Давай-давай! Скорей, скорей! Быстро!» По-видимому, и без просвещающих подзатыльников тоже не обошлось, чтоб быстрей акклиматизировались, кто родину забыл. Но он не был обескуражен.
Потом репатриантов посадили в пассажирский — правда, местный — поезд и опять повезли в неизвестном направлении. Но он сунул проводнице плитку американского (в 1945–1946 годах) шоколада, и она выдала ему государственную тайну — их везут в город Сучан, на угольные шахты, в проверочные лагеря.
В Сучане его сначала определили на подземные работы, и одну упряжку Джумагали отработал под землей. Там ему очень не понравилось, но он быстро разобрался в обстановке и, сунув кому надо сколько надо, стал трудиться на поверхности. Не думаю, чтоб слишком прилежно. Прилежно он занялся коммерческими операциями. Привезенные им шоколад и сигареты были неплохим начальным капиталом, он обернулся много раз. Джумагали богател. А на допросах он держался той же концлагерной версии. В конце концов его освободили из лагеря, но без права выезда из города Сучана. А он хотел выехать — домой. И каким-то образом (каким, не знаю) он купил в военкомате «у русска майор Федотов» демобилизационные документы на чужое имя и все же отбыл на родину — по Великому сибирскому пути продолжил свое начатое в 1941-м движение на Запад.
Ехал он правильно, вышел в Новосибирске, где осмотрел вокзал и остался им доволен («хороший вокзал»), закомпостировал литер и отправился по Турксибу в Ташкент, оттуда в Чарджоу и наконец прибыл домой. Недобровольное кругосветное путешествие было завершено. На Запад он уезжал из дома и теперь с Востока возвращался домой. Впрочем, сам Джумагали, конечно, слышал не раз такое определение своих странствий, но это было для него абстракцией, он-то двигался только вперед.
И вот, наконец, он дома, и дома радость. Демобилизованный воин, доблестный защитник родины вернулся под сень родных пенатов. Его чествуют, зовут работать в райком комсомола, в райком партии, а он сидит и не знает, что делать. Документы на чужое имя дома не покажешь, он их и сжег, а своих у него нет. Впрочем, в тех местах можно было подолгу жить и без документов, и без должности. Но тут его стали тягать в город Нукус, на допросы. Оказалось, что МГБ вышло на его шатильонских соратников, а уж через них на него. Некоторое время его вызывали, допрашивали и отпускали. Но однажды вызвали, допросили и спросили:
— У тебя есть, где переночевать в Нукусе?
— Есть, — ответил Джумагали.
— Тогда переночуй и приходи в девять утра.
Он пришел, его, в машину, на аэродром и в самолет. Так каракалпакский Магеллан узнал еще одну стихию — воздух. В Ташкент прилетели к вечеру, рабочий день в МГБ кончался, нужные люди ушли, и сопровождающие опять спросили:
— У тебя есть, где переночевать в Ташкенте? — Он опять ответил: «Есть». — Ну тогда приходи к этому входу завтра в девять утра.
И он пришел. И тут же был препровожден в кабинет министра госбезопасности Узбекистана — кажется им был тогда генерал майор Цанава — где его встретили как родного. Разговаривали ласково, официантки с кружевами на рукавах приносили ему котлеты с жареной картошкой, и за отеческой беседой он подписывал все, что ему давали. Три ночи он спал на диване в кабинете министра, но потом, когда он подписал на себя достаточно, его перевели во внутреннюю тюрьму. Но и там просидел он недолго, ибо этим важным политическим преступником интересовалась Москва (потому здесь им занимался сам министр). И в один прекрасный день он в отдельном купе вагонзака выехал в Москву. Вагонзак, как всегда, был переполнен, а этот собеседник министра прохлаждался один в целом купе. Так он и прибыл в Москву, (где я и имел удовольствие с ним общаться). Безусловно, теперь Джумагали предстоял путь на Восток, но сидел он уже года полтора, а конца делу не было видно. Похоже, все его соратники, как и он, подписывали в разных городах все, что им давали, но все не сходилось — не было централизованного сценария. Видимо, в Москве пытались теперь все свести в одно, но работа, несмотря на податливость материала, затягивалась. Закончить эту историю я хочу кратким диалогом, которым собственно и завершилась «исповедь» Джумагали в камере.
— Слушай, Джумагали, — спросил Николай Сергеевич Соколов, — как ты думаешь — сколько тебе дадут за все твои художества?
— Пять, — не колеблясь, ответил Джумагали, но, видя полную неудовлетворенность аудитории, пошел на уступки. — Ну, босемь!
— Дурак, — сказал Соколов, — дадут тебе десять, так беги не оглядывайся. Чтоб не добавили.
— А что я сдэлил?!
— Как! Ты же против Родины воевал! (Это я тогдашний, с тогдашним пылом.)
— Нет, я родная не боебал! Я боебал мерикано-глийски перализм — произносит он, победно на нас глядя.
Но Соколова это не берет:
— Это ты брось! — говорит он. — Они империалисты, но тогда они были нашими союзниками, а ты надел форму врага.
— А что дэлить? Ты жить хочу, я — жить хочу…
Последний довод буквально взрывает Михаила Петровича Уралова. Такого кощунства старый революционер вынести не может:
— Не разговаривайте с ним. Он на всех донесет. Он жить хочет!
Но Джумагали о кодексе чести революционера или даже просто интеллигента понятия не имеет. И он завершает свою мысль:
— Ты говоришь, Соколов, что я присяг нарушение сделил?
Соколов кивает. И Джумагали уверенно продолжает:
— Да, сделил! А почему? — и он обводит всех взглядом человека, которому известна невероятная мудрость, и вдруг сообщает как отрубает:
— Бойна!!!
А потом поясняет, почти скандирует, дескать, запомни на всю жизнь:
— А если не бойна, никому присяг нарушение не сде-лил!
Вот и вся его история — история человека, принудительно впутанного в мировые события, о сути которых он имел очень смутное представление. От него все время разные власти под страхом смерти требовали одного и того же — верности и самоотверженности. И еще — каждая на свой салтык — употребления определенных словесных штампов, которые не приведи Господь перепутать. Все это и выработанная этой ситуацией примитивная система ценностей, венец которой — самосохранение, придает непереборимый комический фон его рассказу. Смеялись все в камере, слушая его рассказ, смеялись все, кому я в разные годы его рассказ пересказывал. И это естественно. Не знаю, удалось ли мне этот фон передать на бумаге (я не прозаик), но в самой истории он присутствует. С годами (кстати, позже части моих слушателей) я все больше сознавал и трагическую суть этой истории. Нет, я отнюдь не забыл, с кем воевала страна и не пересматриваю необходимость воевать, но для Джумагали это было вмешательством непонятных, чуждых и опасных сил в его жизнь. Он надел немецкий мундир так же просто, как получал комсомольский билет и путевку в комсомольскую школу, как слушал там лекции. А потом оказалось, что за это надо и голову подставлять — это уж было для него слишком: мимикрией стоит платить за жизнь, а не за смерть. Думаю, что его история очень существенна для понимания многих трагедий XX века.
Однако от слишком долгого погружения в судьбу Джумагали (тем более, что ее завершение мне неведомо) и от воспаряющих обобщений пора возвращаться на землю — к окончанию рассказа о жизни шестидесятой камеры.
Непременным участником ее стал Джумагали. И поначалу не нарушал ее общей атмосферы. Легко проникался всякими тюремными «парашами», но в его устах они получали какую-то жесткую определенность: — Сорок восьмом году тридцать первый декабря никому тюрьме не будет, — объявлял он в ответ на чьи-либо планы и опасения.
— Почему? — удивленно спрашивал тот.
— Амнист будет, — безапелляционно заявлял Джумагали. Как я уже говорил, слухи об амнистии всегда бродили по тюрьмам. В его «литобработке» они выглядели именно так.
При этом он внимательно, как все мы, слушал лекции профессора Ромашова. И однажды даже задал интригующий его вопрос:
— Скажи Романчеев, пошему он бывает шорны-шорны? Как так?
Арсений Викентьевич сказал, что вопрос интересный, но в науке пока точного ответа на него нет, существуют гипотезы, предположения, которые он кратко изложил. Джумагали остался очень доволен ученой беседой.
А больше всего он любил домино — «забивать козла». Играл страстно и нечестно — заглядывал в чужие костяшки. Делал он это откровенно и, когда его ловили на этом, неизменно извинялся:
— Зминяюсь.
Свои костяшки при этом он старательно оберегал от постороннего глаза, держа ладони с ними на максимальном приближении к лицу. Но однажды Алексей Михайлович, обдумывая очередной ход, вдруг схватил его за оба запястья и приблизил к себе обе его ладони со столь тщательно оберегаемыми костяшками. Джумагали обомлел: от всех других он ждал только честной игры.
— Ты это… почему такой? — вскричал он. На что Алексей Михайлович, сделав свой ход, ответствовал:
— Змини!
Джумагали был поражен в самое сердце.
Но недели шли. Меня долго не вызывали. В голову лезли страшные мысли, а в душе крепла не имевшая никаких видимых оснований уверенность, что все обойдется. И чем больше крепла уверенность, тем страшнее мне становилось. Ведь на ней держалась сама моя возможность выжить, я погружался в нее, ликовал, а потом вспоминал, что вся она держится на соплях, и словно просыпался в холодном поту. Подкреплял ее только тот факт, что меня долго не вызывают. За несколько месяцев меня вызвали только один раз ночью (потом, как я уже упоминал, дали отоспаться), но не по моему поводу — интересовал их двоюродный брат моей приятельницы Киры Майоровой, школьник. Когда меня о нем спросили, не знал, о ком речь. Конечно, приходя к Кире (она жила вместе с двоюродной сестрой), я видел там ее двоюродного брата, но, по-моему, никогда с ним не разговаривал и не знал его фамилии. Так и записали. Особо ничего не добивались — явно делали работу не для себя.
Но однажды, наконец, меня вызвали всерьез, днем. И оказалось, что на переквалификацию обвинения. Как я уже писал, статью 58/10 мне заменили на 7/35.
В тексте обвинения заменили один термин. Теперь я писал и читал среди знакомых стихи не антисоветского, а только идеологически невыдержанного содержания. Схоластика? Да. Но из-за этой схоластики мне намекнули, что все может кончиться и ссылкой, то есть что я могу и выжить.
Не помню, в тот раз или раньше мне предъявили акт литературной экспертизы по моему творчеству. В экспертную комиссию входило три человека. Одним из них был критик, будущий (середины пятидесятых) редактор журнала «Молодая гвардия» Александр Николаевич Макаров. О двух других, мужчине и женщине, я никогда больше не слышал. Фамилия мужчины была Хотеев, фамилию же женщины с годами забыл. Создали они (подозреваю, что один Макаров, остальные согласились) прелюбопытнейший документ. Частично он содержал все, что требовалось следствию (но в смягченных тонах), частично же представлял собой очень серьезный критический разбор всего моего творчества, всех его внутренних сомнений и противоречий, каких в тогдашней печати быть не могло ни о ком. Думаю, что этот акт очень содействовал переквалификации обвинения, а скорее всего был и заказан с этой целью.
Так или иначе, это способствовало моему спасению. Чувствовалось, что и сами следователи довольны таким исходом. Теперь оставалось ждать только подписания статьи 206 — окончания дела. С облегченным сердцем я вернулся в камеру. Все меня поздравляли, и я с удовольствием принимал поздравления. В сущности, с чем? С тем, что меня ни за что ни про что отправляют не в лагерь, а в ссылку. Нелепость, с нормальной точки зрения. Но мы родились внутри этой нелепости, вне ее себя не мыслили, и возможность не стать бессмысленной щепкой при рубке леса радовала.
И вот вызвали меня подписывать двести шестую.
Процедура эта состояла в том, что обвиняемому предъявляются все материалы его дела (без, конечно, агентурных данных) и он, просмотрев их, скрепляет все своей подписью. И тут я заартачился — в деле оставались все лживые показания, и я требовал их убрать. Убрать почему-то нельзя было.
Меня уверяли, что для дела это неважно, что мне этих показаний и так никто не инкриминирует. Я и сам знал, что не инкриминируют, но скрепить своей подписью такие показания все равно не мог. Даже идиотские показания Телегина, показавшего, что отношения у меня с ним были хорошие — настолько, что иногда мы даже с ним здоровались на лестнице, но что при этом я ему известен как опасный и скрытный враг, хотя конкретно он ничего сказать не может, и именно ввиду моей чрезвычайной вражеской скрытности. Конечно, неизвестно, что тут от Телегина, что от того порочного красавчика, который во время одного из допросов приходил ко мне «знакомиться» и о котором с ужасом рассказывал мне потом Игорь Кобзев. Но как бы то ни было, подписывать дело, содержащее показания, где так нахально утверждалось, что я враг, я все же не хотел. А ведь там были еще показания одной дамы, которая утверждала, что я обманом увернулся от фронта и еще этим хвастал (так интерпретировала она рассказанную уже здесь мою историю с военкоматом), — так что ж, и это скреплять своей подписью? Остальные были не лучше. Все мои стихи называли вражескими, что-то плели. Подписать дело, содержащее их (или их руками записанную) клевету, я не мог. Это, как ни смешно мне теперь, ставило меня в ложное положение перед самим собой и другими — что ж я, последние годы всем врал, что ли?
Исключение составляли только Максим, о котором я уже здесь говорил, и Сашуня (Александр Парфенов). Они отделывались только легкой и неопасной критикой в мой адрес, но делали все, чтобы отвести от меня удар. Трудней всего приходилось Сашуне, который был зам секретаря партбюро. Ему при этом надо было показать и что партбюро было на страже, и что я был вполне лоялен. Доходило до смешного. Однажды он нашел (а красавчик записал), среди моих ошибок, с которыми боролось партбюро, и такую «Мандель воспевал реакционное прошлое нашей родины». Это было неопасно. В тот момент прошлое нашей родины не подлежало сомнению и требовало воспевания. И уж никак не могло быть реакционным. Но форма требовала. Нужны были мои ошибки, которые партбюро вскрыло, а я, как честный советский человек, осознал и исправился. Он раньше не раз выручал таким приемом многих, и меня в том числе. Он не знал, что здесь это не работает, что все уже решено. Сейчас его давно нет. Помяни, Господи, в Царствии Своем душу этого хорошего, доброго, естественно порядочного человека.
Но вернемся к подписанию двести шестой. Процедуре этой положено было проходить в присутствии прокурора, — конечно, специального, из отдела по наблюдению за органами (кто за кем наблюдал?), но прокурора — липа требовала строгого соблюдения формальностей. И этот прокурор Александр Петрович Дарон явился. Веселый, сияющий бонвиван. Конечно, быть столь радостным и сияющим на таком месте смог бы не всякий — этот смог. Потом, в период гонений на евреев, он и сам загремел. Без вины, конечно. Тогда на его месте засиял другой. А может, наоборот, он не сиял, а мрачно исполнял свой привилегированный долг — кто знает? Но только и он, заверяя бумажки, корежащие чужие судьбы, чувствовал себя невиноватым. Мы ведь вообще страна невиноватых — может, поэтому и никак не выберемся из ямы, в которую все без вины попали.
Но мысли эти — нынешние. Тогда я был от них весьма далек, Александр Петрович сиял, а будущего никто из нас не предвидел.
Предупреждаю: никакого раздражения против Александра Петровича у меня не было и нет. Мне лично он ничего дурного не сделал — более того, сделал даже хорошее. Я говорю не о нем, а о нашем общем падении.
Однако вернемся к «делу». Сначала Александр Петрович непринужденно произвел формальный допрос по всем пунктам. Это было легко — по смыслу статьи 7/35 сознаваться ни в чем не надо было. Но опять возник спор о лживых показаниях — я требовал их изъятия, а следователи не соглашались. И тут он нашел мудрое решение, которое устраивало всех.
— Составь еще один протокол, по поводу этих показаний, — посоветовал он Бритцову, — пусть ответит по поводу каждого из них, что он в нем признает верным, а что — отрицает.
Такой протокол был составлен, после чего я подписал двести шестую, и следствие было закончено. Итак, я настоял на своем. Сделал я это из глупых, чисто идеологических соображений. Но теперь думаю, что это принесло мне и практическую пользу. Наверно, именно из-за этого я, в отличие от, например, Юрия Айхенвальда, избежал повторного ареста в ссылке. Ему тоже заменили статью, но лживые показания формально опровергнуты не были. Это, вероятно, и обнаружил очередной ревизор или интриган — проявил бдительность и подкузьмил коллег. А у меня в этом смысле все оказалось в порядке. Так, вероятно, оказалось лучше и для моих следователей — а то бы им приписали брак в работе. Глупая принципиальность обернулась предусмотрительностью. Конечно, все это мои предположения, но у меня есть основания так думать.
Кончая с темой следствия, я хочу уточнить мое отношение к следователям. Ибо из того, что я часто говорю о них мягко и с сочувствием, а также из того, что я по тогдашнему времени легко отделался, может создаться неверное представление о той страшной организации, где они работали. Ко мне они, действительно, относились неплохо. Очень долго, до 1989 года, когда Ф. Е. Медведев рассказал мне, как было дело, я даже полагал, что они сами подвели меня под переквалификацию статей. Этого они не могли, но были явно рады, что это произошло. Но я ведь был не просто невиновен — невиновны были все, с кем они имели дело, — а был, к сожалению и стыду моему, горячим сторонником строя, его оправдателем, даже оправдателем их все-таки непопулярной в народе деятельности. Это от удивления могло рождать и благодарность. И это же не помешало бы им добиваться от меня ложных показаний (чего без пыток было бы им не добиться — я не умею повторять бессмыслицу) и затолкать меня лет на десять в лагерь. Ничто ведь не помешало тому же Бритцову превратить Минухина в меньшевика и террориста, а это не исключительный случай. Наоборот, исключением было то, что произошло со мной. Они творили злодейства, но по природе были не злодеями, а обыкновенными советскими людьми, просто им доверили некое важное дело, суть которого по не менее важным причинам не раскрыли.
Так или иначе дело было закончено. Через несколько дней меня опять вызвали, завели в бокс и официально уведомили, что мое дело передано в ОСО, в Особое совещание при министре госбезопасности. Оставалось только дожидаться его решения.
Уже перед самым объявлением этого решения, в конце августа, в нашей дружной камере произошло неприятное событие. По вине все того же Джумагали. Все произошло из-за щетки. Каждое утро нам на несколько минут давалась щетка для уборки камеры. Люди, лишенные возможности нормально трудиться, с жадностью хватались за эту работу. Соблюдалась очередность. Никто не в свою очередь за щетку не брался. В то утро была очередь Алексея Михайловича, но Джумагали, получив щетку из рук надзирателя, вцепился в нее и не захотел ее передавать дальше. Это была наглость, рассчитанная на безнаказанность. Алексей Михайлович рассердился и силой вырвал щетку из рук наглеца. Тогда Джумагали совершил непозволительное — стал стучать в дверь и вызывать надзирателей.
Есть люди, которым, на каком бы уровне развития они ни находились, от Бога дано ощущение границы между нормальным поведением и подлостью. Джумагали, видимо, к таким не относился. Приструнить руками надзирателей того самого «Амир Шакира», к которому он до этой минуты испытывал только почтение, ему казалось делом естественным. Он не нарушал эту границу, он ее не видел.
Когда набежали надзиратели, тоже еще было не все потеряно, и даже когда Джумагали стал жаловаться, что его избивают, Алексей Михайлович пытался его ласково урезонивать: «Что ты, дурачок…», но тот не унимался. И тогда Алексей Михайлович вдруг не выдержал, обычная сдержанность его покинула, возмущение и ярость вырвались наружу, и он бросился на обидчика и доносчика. И сразу же его увели, он получил карцер. А вся камера перестала разговаривать с Джумагали — кажется, по инициативе Уралова. Правы ли мы были? Не слишком ли многого от него требовали? Не знаю, все же он был человеком и понимал, чем грозил товарищу его демарш. А с другой стороны — как можно было теперь ему доверять? Это ведь была и самозащита.
Через два дня при утреннем обходе он попросил перевести его в другую камеру. Надзиратель спросил почему.
— Тут никому со мной не говорит, — ответил он.
— Учитесь жить с людьми, уважать надо людей, — высказал надзиратель то обыкновенное российское житейское правило, которое было усвоено им отнюдь не на Лубянке.
Когда меня вызвали и ясно было, что насовсем, я со всеми сердечно простился, но не с ним — с ним по-прежнему никто не разговаривал. И Алексей Михайлович по-прежнему сидел в карцере — я так с ним и не простился. И этого тоже я не могу простить каракалпакскому Магеллану.
Меня опять привели в бокс и следом за мной принесли мои вещи из камеры. Так же, как раньше, когда меня отправляли в Институт Сербского. Но на этом сходство кончилось. Теперь меня повели не во двор к «воронку», а еще ниже — по-видимому, в подвал. Туда, где помещались камеры осужденных. В той, где я оказался, кроме меня было уже три человека (может, их было больше, но мне запомнилось, что три). Своих приговоров никто еще не знал — объявлять их должны были начать с минуты на минуту. Естественно, все мысли были только об этом. Но, несмотря на всю напряженность обстановки, мы знакомились и разговаривали. А что мы еще могли делать?
Кто были эти люди? Точно я помню фамилию только одного из них. Это был старый большевик Рузер — но и его имени-отчества я не запомнил. Потом я о нем читал, что он был одним из организаторов большевистского переворота в Одессе. Теперь он был художником. За что он был арестован — при его биографии спрашивать не надо, а осужден он был за то, что однажды в 1910 году, где-то за границей проголосовал за резолюцию центристов — черт его дернул об этом упомянуть. Впрочем, не упомянул бы — прицепились бы к чему-нибудь другому.
Вторым был фронтовой офицер, а до и после войны — футболист команды «Крылья Советов», — человек приятный, скромный и по ощущению естественно-порядочный. Как его звали, к сожалению, не помню. Вред, нанесенный им социализму, был более ощутимым — сам того не зная, он нарушил закрытость общества. Ибо, пройдя с боями несколько стран, он имел наглость делиться с товарищами впечатлениями о тамошней технике и благоустроенности жизни. Его никто не предупреждал, что это — то что видела вся армия, весь народ — секрет, не подлежащий разглашению. Естественно, обвинение по статье 58/10 — антисоветская агитация, состоящая в восхвалении заграничного образа жизни — было «как на него пошито».
Был там еще парень, моего примерно возраста, страстный радиолюбитель — это его и погубило. Саша — так его, кажется, звали — ехал то ли с Урала, то ли из Сибири к брату-офицеру, служившему в Ужгороде. Остановился на пару дней в гостинице «Москва», и там в номере ему на его горе попался оставленный кем-то экземпляр журнала «Британский союзник». И в этом журнале он обнаружил заинтересовавшую его радиосхему. Вернее, ее половину. Вторая была обещана в следующем номере, за которым желающие, если они не смогут его купить в киосках «Союзпечати», приглашались зайти в редакцию по следующему адресу. Кажется, это был адрес британского посольства. Ничего странного Саша в этом предложении не увидел. Англичане были нашими союзниками, журнал распространялся вполне легально, нашел он этот журнал чуть ли не в главном московском отеле, где останавливались ответственные работники, — почему не зайти? И зашел.
Англичанин дал ему журнал, пристально на него посмотрел и спросил:
— А вы не боитесь, что вас схватят, когда вы выйдете отсюда? Может быть, лучше я вас вывезу на машине?
Саша удивился: кто его будет хватать? Зачем? Провокационные разговоры. И — вышел. И вот теперь ждал приговора.
Потом этот «политик», видимо, наслушавшись, как надо жить в лагере, быстро ссучился. Уже в Свердловске, вызвавшись с приятелем помочь Рузеру поднести вещи — тот был уже в летах, — он воспользовался тем, что на пересылке попал с ним в разные камеры, и вещи эти не вернул, присвоил. Еще весело подвел под это идеологическую базу — прокричал что-то антисемитское. Словно бы русского в этих обстоятельствах он бы не ограбил. Но всего этого он пока не знал — как все, ждал приговора. Кстати, как юридически ему оформили обвинение, я не помню — неужто шпионаж присобачили?
Первым для зачтения приговора вызвали меня. Вызывали уже без всяких предосторожностей и даже не по фамилии. А просто так: «Давайте вы». Отвели меня в какой-то кабинет неподалеку, там за столом сидел высокий, широкоплечий, но не ухарского, а канцелярского вида человек в очках. Спросил фамилию и, получив ответ, велел надзирателям меня увести назад:
— Этого потом.
И меня вернули в камеру без приговора. Потом по одному стали брать остальных. Футболиста приговорили к восьми годам лагерей. Остальных — тоже к лагерю, но сроков я не помню. Хлопали двери других камер — людей водили за приговорами и возвращали уже с ними. Последним повели меня.
И я узнал, что постановлением Особого совещания при министре Госбезопасности СССР от 14 августа 1948 года я приговорен к высылке из города Москвы сроком на три года.
Приговор по тогдашнему времени более, чем мягкий. Ведь даже не ссылка в определенное место, а только высылка из определенного места. По точному смыслу постановления я мог жить, где угодно, только не в Москве. Из-за этого меня и вызвали последним — чтоб я имел возможность выбрать себе место поселения. Я выбрал какую-то из ближних областей. Человек в очках — видимо, из-за необычности приговора — согласился. Но на следующий день он вызвал меня опять и сказал, что ближние области исключаются, что я могу выбирать только вот из этого списка областей. И показал мне список, куда не входила ни одна область Европейской части. Я выбрал Новосибирскую область, имея в виду поселиться в Новосибирске. Но не вышло. Забегая вперед, скажу что Новосибирское управление это мое право выбора проигнорировало — видимо, был такой приговор, но не было института высылки — и включило в общий поток ссыльных — отправило туда, куда в данный момент отправляло очередной этап — и я попал в деревню Чумаково Михайловского района. Сегодня я об этом нисколько не жалею.
Но все это было месяца через полтора. А пока мы сидели в камере и ждали этапа — готовились к более чем «нежеланному путешествию в Сибирь». Разговоров особых не помню — каждый рассказывал свою историю, о которых здесь уже шла речь. Только однажды Рузер в ответ на мои сложные разглагольствования о ситуации, оправдывающей Сталина (разговор был как бы наедине — других он не интересовал), процитировал мне что-то из Маркса, напрочь опрокидывающее все мои построения. Фразу эту я долго помнил, но и забыл давно — такие ли фразы мне пришлось потом слышать, читать, произносить и писать. Но впечатление помню. Оно было разительным. Вероятно, с высоты сегодняшнего понимания к самому этому факту можно отнестись с отнюдь не безосновательным ехидством — дескать, теперь говорите такое, а кто этого Сталина допустил? — но все равно тогда эта фраза многого стоила. Во всяком случае была ближе к истине, чем то, что нес я.
Но долго нас держать на лубянских хлебах никто не собирался — страна (в лице ГУЛАГа) нуждалась в «рабсиле», и дня через два, а именно 2 сентября 1948 года (я запомнил дату), каждому выдали из кладовой его вещи (мне мою многострадальную корзину), из канцелярии деньги, остававшиеся на его счету (у меня оставалось копеек шестьдесят), и вывели нас во двор. Здесь нас уже поджидали «воронки» (кажется, два). Приводили и из других камер. Постепенно собралась маленькая толпа зэков. Было несколько «вояк», власовцев и просто пленных. Садясь в «воронки», они затеяли перепалку с надзирателями, стали их на прощание оскорблять, понося их вместе с Лубянкой. Надзиратели не оставались в долгу. А за Лубянку один из них вступился так:
— Дурак! Еще в лагере вспомнишь Лубянку добрым словом.
Отчасти он не ошибался — в лагерном беспределе строгая регламентированность тюремного обихода (а ведь именно о ней говорил и в основном к ней имел отношение надзиратель) могла иногда показаться и оазисом порядка. Если, конечно, вас там не пытали «следователи по особо важным делам». Но вокруг меня — ни в следственных камерах, ни в предэтапных — лиц, отнесенных к важным, не было. К счастью (для них), все такая же мелюзга, как и я сам.
Фото Ed Ziberman
Эма Мандель (стоит второй слева). Киевская школа. С одноклассниками
Подготовка к экзаменам. 1952 год
1951 год
50-е годы. Караганда
Тюремные фотографии
Справка об отмене дела
Надпись на обороте этой фотографии
Наум Коржавин и Саня Авербух. Одесса, 1965
Н. Мандель и Р. Ридель, 1952
Люба, когда мы познакомились
Мы поженились 30 июня 1965 года
Отец, Леночка и я. Киев
С киевскими друзьями Р. Заславским и Я. Данцкером
С родителями
Первое выступление перед русскими читателями в Бостоне, 1977, слева — Люба
С дочерью Леной, 1983
С внучкой Наташей, 1987
С внуком Гришей
Слева направо: я, зять Михаил Рубинштейн, дочь Леночка, внучка Наташа и жена Люба
С Любой
Примечания
1
В книге моего хорошего товарища Виктора Рутминского, ныне, к сожалению, уже покойного (В. Рутминский. Поэты постсеребряного века. Екатеринбург «СВ-96», 2000) допущена ошибка, которую я не могу не отметить. Там в главе, посвященной мне, на стр. 242 говорится: «Ничего не знал я и об его родителях… Как-то вскользь поэт сказал, что его отец был участником революции и Гражданской войны. Это многое объясняет в молодом Коржавине». К сожалению, здесь этого хорошего и порядочного человека подвела память. Никому ни вскользь, ни не вскользь я ничего такого о своем отце не говорил и сказать не мог. Ибо это не так. С чего бы я стал это теперь скрывать? Мой отец был именно таким, как я его описываю, — ничего «революционерского» в нем не было и в помине. Я отмечаю это для защиты не чистоты моего происхождения, а достоверности этой книги.
(обратно)2
Строка из стихотворения Е. Бунимовича.
(обратно)3
Пока меня не загрызут… — те, кто работает на старый мир. — Н. К.
(обратно)4
Это ссылка на важное для меня определение академика Ухтомского: «Жизнь есть требование от бытия смысла и красоты».
(обратно)5
Такое истолкование отнюдь не всегда было осознанной хитростью, но о характере такой искренности — о сознании, формируемом террором, я уже писал неоднократно. Тут важно то, что сквозь это небытие что-то пробивалось.
(обратно)6
Первым аналитически взглянул на этот общеизвестный факт Б. Сарнов.
(обратно)


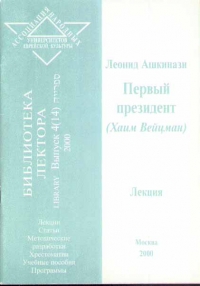
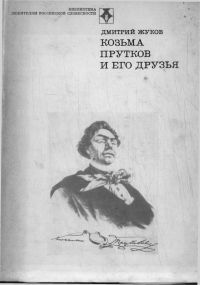


Комментарии к книге «В соблазнах кровавой эпохи. Книга первая», Наум Моисеевич Коржавин
Всего 0 комментариев